Чернов Юрий Михайлович
Судьба высокая "Авроры"
{1}Так обозначены ссылки на примечания. Примечания в конце текста книги.
Аннотация издательства: Поэт и прозаик Юрий Чернов знаком читателям по сборникам стихов и историческим повестям "Верное сердце Фрама", "Любимый цвет - красный", "Земля и звезды". Не ставя перед собой задачу осветить всю историю легендарного корабля в предлагаемой вниманию читателей книге, автор художественно отобразил важнейшие этапы героической судьбы крейсера революции и его героев. Читатель найдет в книге главы о выдающейся роли "Авроры" в дни Великой Октябрьской социалистической революции, страницы об участии крейсера в Цусимском сражении, в Отечественной войне. Книга дополнена новыми материалами.
С о д е р ж а н и е
Пролог
От Либавы до Цусимы
"Аврора" идет к Зимнему
Ораниенбаум - Воронья Гора
Послесловие
На вечной стоянке. Глава-эпилог
Примечания
Пролог. Судьба высокая "Авроры"
По земле шествовал последний год XIX века. Зарождался весенний день 11 мая, опушив деревья сквозной свежей зеленью, широко раздвинув синее небо. Казалось, что майская синь пролилась с этого неба в Неву, окрасила ее стальные воды, не так давно белевшие комковатыми обломками запоздалых льдин.
Тысячи жителей Петербурга запрудили набережную Васильевского острова. Все, конечно, знали, зачем пришли, знали, чего ждут, но никто не догадывался, никому и в голову не могло прийти, что имя корабля, который сегодня спустят со стапелей, облетит планету.
Близ эллинга выкатывали пузатые, схваченные тугими обручами бочки с пивом - для мастерового люда.
В Неву вошел почетный эскорт кораблей: у эллингов остановился расцвеченный и праздничный броненосец "Ослябя", ниже по реке виднелись силуэты крейсеров "Азия", "Джигит", пароходов "Онега" и "Нева".
Закладка корабля состоялась еще в мае 1897 года. На серебряной закладной доске изобразили крейсер с поднятым флагом и дымящимися трубами. Минуло три года. День рождения корабля наступил.
День рождения, если даже появляется на свет маленький беспомощный младенец, - событие радостное: оно таит надежды, пробуждает мечты, заставляет заглядывать в прошлое и еще чаще в будущее; рождение крейсера современного, отразившего возможности технической мысли Отечества - событие государственное. Над этим крейсером крыша - небо всех материков, ему бороздить по тысячемильным просторам, о борт его будут биться бешеные шквалы морей и океанов, ему суждено идти в чужедальние страны под флагом России, а если понадобится, огнем орудий своих и стальной грудью своей защитить интересы Родины...
Развернув знамя, торжественно замер караул из матросов Гвардейского экипажа. Трубы оркестра сверкали на солнце.
На одной из площадок Новоадмиралтейского деревянного эллинга появился Константин Михайлович Токаревский, русский инженер, руководивший строительством крейсера. Несколько минут он молча смотрел на свое детище бронепалубный красавец, покоившийся на стапелях. На корме уже выстроился почетный караул команды, кронштадтский портовый хор.
Все даты до 1 февраля 1918 года приводятся по старому стилю.
Степенно, не спеша заняли свои места на смотровой площадке иностранные послы, военные атташе, адмиралы и генералы. Токаревский узнал надменного англичанина с презрительно-недовольным лицом. Может быть, ему не нравилось, что крейсер назвали "Авророй"? Может быть, он вспомнил, как в 1854 году русский парусный фрегат "Аврора", стоявший в Авачинской бухте, принял бой с англо-французской эскадрой? Десять часов эскадра бомбардировала фрегат и малочисленных защитников бухты. Они выстояли, а десант англичан и французов сбросили в море. И вот опять в России рождается "Аврора"...
Японский атташе широко улыбался, обнажая зубы и щуря глаза. Его сосед, одетый в штатский костюм, внимательно изучал медную обшивку, предохраняющую корпус корабля от обрастания ракушками. А сам атташе поблескивал золотом пенсне, и это поблескивание мешало разобраться, что занимает внимание видавшего виды посланца далекой островной державы...
Наконец недвижные ряды почетного караула словно качнуло незримым порывом ветра. Пройдя по ковровой дорожке от заводских ворот до эллинга, окруженный почтительной свитой, ровно в 11 часов появился государь император. Мало кто заметил едва уловимый кивок государя. Раздалась команда: "Приступить к спуску крейсера!" Грянул сигнальный выстрел. Мощное "Ура!" заглушило оркестры, от гула вздрогнул огромный эллинг.
Крейсер, освободившись от блоков и подпорок, пополз по деревянным полозьям, смазанным "насалкой" - мылом и салом. На флагштоке подняли кормовой флаг, на бизань-флагштоке - адмиралтейский, на грот-флагштоке царский штандарт с вымпелом, на фок-флагштоке - флаг генерал-адмирала и гюйс.
"Сперва крейсер шел медленно, - свидетельствует "Кронштадтский вестник", - но как только корма вышла из-под крыши верфи, быстро покатился и с шумом взбороздил воду Невы".
Залпы боевых кораблей разорвали воздух. Праздничные флаги взметнулись над броненосцем "Ослябя", над крейсерами и пароходами. Тридцать один раз салютовал флот. Было так, как об этом писал Пушкин: "... и Нева пальбой тяжелой далеко потрясена".
Государь император, возбужденный праздничным зрелищем, гулом пушек и громом оркестров, видел, наверное, чужедальние моря и свой желтый штандарт над ними. Впрочем, никому не дано угадать, что виделось Николаю II или о чем думал он в тот теплый и солнечный майский день. И уж, во всяком случае, не думал не гадал он, что по трапам этого корабля, благословляемого его императорским величеством, в феврале семнадцатого сойдут матросы, чтобы вместе с рабочими и солдатами изгнать, ввергнуть в небытие его, всемогущего российского самодержца, а в октябре семнадцатого носовое орудие этого корабля выплюнет огонь в сторону последнего убежища русской буржуазии...
Завершался XIX век. Новорожденный крейсер тяжело покачивался на невской воде. Вся его жизнь была впереди.
От Либавы до Цусимы
Самодержавие видело, что несчастный исход войны равносилен победе "внутреннего врага", т. е. победе революции. Поэтому на карту было поставлено все. Сотни миллионов рублей были затрачены на спешную отправку балтийской эскадры. С бору да с сосенки собран экипаж, наскоро закончены последние приготовления военных судов к плаванию, увеличено число этих судов посредством добавления к новым и сильным броненосцам "старых сундуков". Великая армада, - такая же громадная, такая же громоздкая, нелепая, бессильная, чудовищная, как вся Российская империя, - двинулась в путь...
В.И. Ленин
Минула неделя, как 2-я Тихоокеанская эскадра покинула родные берега. Предстоял долгий, многомесячный путь через три океана от Либавы к Порт-Артуру.
Все дни Немецкое море было спокойно. Полиняло синее октябрьское небо с легкой проседью облаков не предвещало перемены погоды. Даже ветер традиционный спутник кораблей в этих широтах - утих. Но море есть море, его постоянство обманчиво. Неведомо откуда выплыл туман, обволакивая вязкой пеленой корабли. Прожекторы уперлись в туман, как в непроницаемую стену. Гнетуще завыли сирены.
Командир крейсера "Аврора" капитан I ранга Евгений Романович Егорьев стоял на мостике. Обычно после выхода из гавани жизнь входила в нормальную колею. Бесчисленные заботы, связанные со снаряжением корабля в дальний поход, оставались на берегу. Службы обеспечения, будто специально созданные, чтобы мешать отплытию, трепать нервы, простое усложнять, а сложное делать неразрешимым, как бы переставали существовать.
Эскадра, вытянувшаяся в кильватерную колонну, продиралась сквозь туман. Даже густые, черные дымы, выбрасываемые из труб, незримо исчезали в сизой, молочной поволоке. Из-за бесконечных поломок и неувязок корабли шли медленно, делая не более девяти узлов.
Неполадки в машинах - дело нередкое, но поход только начинался. Впереди 18 тысяч миль, слепые туманы, бешенство ветров, свирепые штормы и гибельные ураганы... А скорость... Если идти черепашьим ходом, в Порт-Артур можно опоздать. Что тогда? Кому на помощь придет эта армада?
Егорьев, служивший в прежние годы на Дальнем Востоке, с обостренной ревностью следил за войной с японцами. Он пользовался не только официальными сообщениями. Из Порт-Артура приезжали в Петербург офицеры. Во Владивостоке на крейсере "Громобой" служил мичманом Всеволод Егорьев, сын Евгения Романовича. От него приходили письма.
Когда в российскую столицу долетела весть о том, что японцы, не объявив войны, атаковали корабли на внешнем рейде Порт-Артура и блокировали в порту Чемульпо крейсер "Варяг", Егорьев долго не мог прийти в себя. Вероломство, возведенное в ранг государственной политики, - что может быть подлее?!
Днем и ночью Егорьев думал о случившемся. Как человек военный, он, разумеется, понимал: чем сильнее накаляется политическая обстановка, тем скорее жди взрыва. И все же - такое вероломство! Впрочем, не ждать же любезностей от врага, вооружавшегося у нас на глазах с лихорадочной поспешностью! Не случайно очертания японских островов напоминали Егорьеву то пантеру, то леопарда, ассоциировались с хищниками, до срока неподвижными, притаившимися, чтобы вернее прыгнуть и схватить жертву за горло.
Евгений Романович, как и многие морские офицеры, знал о письме адмирала Макарова в морское ведомство. И хотя оно было под грифом "весьма секретно", в политике неизбежно тайное становится явным.
Макаров предупреждал: опасно держать военные корабли не на внутреннем рейде Порт-Артура, а на внешнем. Ночная атака миноносцев может дорого обойтись России. Сетевые заграждения не прикрывают полностью борта кораблей, да и не у всех есть сети...
Заправилы морского министерства больше заботились о том, чтобы уберечь письмо дерзкого адмирала от гласности, чем уберечь порт-артурские корабли от мин противника. За вопиющее ротозейство пришлось расплачиваться: в ночь на 27 января 1904 года японцы вывели из строя лучшие броненосцы эскадры "Цесаревич", "Ретвизан" и крейсер "Паллада"...
Туман исчез так же быстро, как появился, уносимый легким полуденным ветром. Глядя с мостика на спокойные воды Немецкого моря, Евгений Романович Егорьев не был спокоен. Невеселые, тяжкие предчувствия томили его. Собственно, это были не только предчувствия, это были факты, с которыми столкнулся опытный морской офицер: эскадра комплектовалась с пугающей торопливостью, дело делалось медленно, но на всем лежала печать безоглядной спешки: скорее, скорее! Надо вовремя доложить, вовремя отрапортовать, прорехи, мол, залатаем на ходу. Сроки установлены государем, какие могут быть разговоры!
В эскадру включили разнотипные корабли. Многие из них совершенно не годились для эскадренного боя, для дальних походов.
Экипажи щедро пополнялись резервистами, слабо обученными, незнакомыми с новой техникой. О боевой слаженности команд оставалось лишь мечтать. Комендорам потренироваться в стрельбе не довелось. Все откладывалось на будущее. А велика ли отдача от комендора, ни разу не попавшего в цель?
Командующий эскадрой вице-адмирал Рожественский перед выходом из Ревеля на флагманском броненосце "Князь Суворов" решил провести учение, приказал пробить сигнал для минной атаки. Егорьев не был в ту ночь на "Суворове", но читал приказ № 69, изданный адмиралом после учения.
Бог ты мой, что творилось на броненосце! Спящих долго не могли поднять. А те, кого с роковым (в случае атаки!) опозданием вывели на палубу, не знали, куда им бежать и что делать.
На этом "подготовка" экипажей к войне оборвалась. Перед выходом в поход ожидался визит на эскадру его императорского величества. Все были брошены наводить лоск - лопатить палубы, драить медяшку, подкрашивать плешины. Корабельные леера расцвели флагами. Готовясь к торжественной встрече, фалрепные офицеры в парадных мундирах и треугольных шляпах суетились и нервничали.
Егорьев любил морские ритуалы, морскую символику, их праздничную приподнятость и окрыленность, дающие заряд на долгие недели и месяцы будничного труда, ратной страды, жизни, в лицо которой дышит близкая, а порою и неотвратимая смерть. Ритуалы ритуалами, но душу Евгения Романовича, враждебную лести и угодничеству, угнетало, когда рожденные в боях и походах ритуалы подменялись мишурным блеском, когда на палубы, продутые океанскими ветрами, беззастенчиво вторгался дух дворцовых салонов.
Уж очень маскарадно-ярок был командующий эскадрой Зиновий Петрович Рожественский! Полоской всплеснувшей пены серебрились широкие адмиральские лампасы, а грудь его слепяще сверкала и золотилась - хоть глаза отводи! столько наград.
Военный моряк, Егорьев не испытывал большого почтения к звездам, которыми венчали не после сражений, а после приемов в царских гостиных. Кажется, Суворов придумал меткое словечко "шаркуны" - это о тех, кто изящно расшаркивается перед сильными мира сего.
Евгению Романовичу не надо было напрягать память, чтобы вспомнить: кривая карьеры адмирала Рожественского резко поползла вверх в мирное время в дни встречи Николая II с Вильгельмом II на Ревельском рейде. Удачно фальсифицированные стрельбы, удачно произнесенный тост, похвала довольного пышным приемом кайзера - вот ступеньки, по которым командир учебно-артиллерийского отряда поднялся к должности начальника Главного морского штаба.
В Адмиралтействе как о достоинстве говорили о непреклонной воле Рожественского. Что ж, спорить не приходилось, сильная воля - достоинство несомненное, если она управляема светлой головой и нуждами отечества, а не бычьим упрямством, не безотчетным, необузданным самоуправством - что хочу, то и ворочу.
Было о чем поразмыслить Евгению Романовичу...
На мостике появился старший артиллерист крейсера лейтенант Алексей Лебедев. Он стоял чуть в сторонке, видимо не решаясь нарушить задумчивую сосредоточенность командира.
Егорьев питал слабость к молодым офицерам. Внешне это, пожалуй, не проявлялось, он был строг и требователен, но наедине с самим собой Евгений Романович сравнивал их со своим сыном, искал черты сходства.
Командир поинтересовался: нет ли у старшего артиллериста чего-либо к нему?
- Есть, Евгений Романович, - ответил Лебедев. - У мыса Скаген, когда наши суда грузились углем, рядом с нами стоял шведский пароход. Помните?
- Что из этого следует?
- Шведы говорили, будто ночью видели шесть миноносцев без опознавательных флагов...
- Не очень доверяйте разговорам! - отрезал Егорьев. Его всегда раздражало, если военные оперировали не фактами, не проверенными данными, а слухами.
Между прочим, слухи о желании японцев напасть на эскадру в Немецком море, вдалеке от своих берегов, витали еще в Петербурге, Ревеле и Либаве. Егорьеву они казались лишенными реальной почвы: напасть в нейтральных водах Европы, усеянных судами дружественных России держав, в таком удалении от Японии? Нет уж, Немецкое море по оживленности - это все равно что Невский проспект в Петербурге...
Желая смягчить резкий ответ, Егорьев спросил у Лебедева:
- Рыбную ловлю любите? Вот уж для кого тут раздолье, так это для рыбаков. Здешние места изобилуют сельдью, треской, камбалой, макрелью...
Разговор между ними угас и легко забылся бы, если б не события, неожиданно разыгравшиеся ночью.
К вечеру погода немного испортилась. Заволновалось море, ухудшилась видимость. Первый крейсерский отряд, в который входила и "Аврора", отстал от броненосцев на десять - пятнадцать кабельтовых, а транспорт "Камчатка" еще больше. На "Камчатке" устраняли неисправности.
Когда офицеры собрались на вечерний чай, в кают-компанию вошел вахтенный начальник и протянул командиру запись, сделанную телеграфистами "Авроры". Запись воспроизводила разговор флагманского броненосца "Суворов" с "Камчаткой":
"8 ч. 55 м. "Камчатка" - "Суворову": "Преследуют миноносцы".
"Суворов" - "Камчатке": "Сколько миноносцев, телеграфируйте подробнее".
"Камчатка" - "Суворову": "Миноносцев около восьми".
"Суворов" - "Камчатке": "Близко ли к вам?"
"Камчатка" - "Суворову": "Были ближе кабельтова и более".
"Суворов" - "Камчатке": "Пускали ли мины?"
"Камчатка" - "Суворову": "По крайней мере, не было видно".
Беспечное настроение как ветром сдуло. Значит, слухи и версии имели под собой почву! Значит, японцы где-то рядом!
По мере того как сгущались сумерки, напряжение возрастало. Небо, усыпанное звездами, казалось тревожным, перемигивающимся таинственными сигналами. Все понимали: сейчас начнется.
Надвигалась ночь. Ничто так не накаляет нервы, как ожидание. И тут беспроволочный телеграф записал будоражащую весть с "Камчатки": "Атакована неприятелем со всех румбов".
Егорьев, не принимавший бездумно никаких сообщений, недоуменно повел плечами: для чего миноносцам атаковать со всех румбов беззащитный транспорт, если ему хватило бы и одной мины? И не ради ли этого несчастного транспорта добирались японцы через три океана в Немецкое море?
Цепь логических размышлений Егорьева мгновенно оборвалась, как только он увидел, что далеко впереди, разорвав мрак ночи, зажгли боевое освещение броненосцы и загремели орудийные выстрелы.
По "Авроре" покатились сигналы дробь атаки: тревожно взывали горны, басовито, требовательно бабахали барабаны. Вспыхнули все шесть прожекторов крейсера. Егорьев в суматохе оглушенной, распоротой световыми полосами ночи увидел в небольшом отдалении от броненосцев четыре судовых огня. На фоне возвышающихся над водой броненосцев чужие огни проектировались низко - так могли проектироваться огни миноносцев.
Орудия "Авроры" начали пристрелку. На палубе пахнуло тухлыми яйцами запах бездымного пороха. Под ногами забулькала нахлестанная вода. Между тем артиллерийский шквал с броненосцев достиг огромной силы. Пальба доносилась непрерывная и беспорядочная. Грозно ахнула двенадцатидюймовая, громыхнула так, словно где-то поблизости взорвался склад с боеприпасами.
Впереди неистовствовал огонь. На броненосцах творилось что-то невообразимое. "Ошалело стреляли комендоры, не целясь, куда попало, стреляли прямо в пространство или в мелькавшие в стороне огни, иногда прямо в воду около борта, иногда туда, где останавливался луч прожектора, хотя бы это место было пустое. Прислуга подачи, не дожидаясь выстрела заряженной пушки, тыкала в казенник новым патроном. Одновременно со вспомогательной артиллерией бухали и шестидюймовые башенные орудия. Наверху трещали пулеметы и этим самым только больше нервировали людей, вносили замешательство на судне".
Так описал происходившее баталер броненосца "Орел" Алексей Новиков{1}.
На "Авроре", отставшей от основного ядра эскадры, ажиотаж не успел разгореться. Егорьев отчетливо видел, что четыре судна, светившиеся огнями несколько минут назад, превратились в костры. Рыжее пламя пожаров взметнулось над водой и жадно обгладывало обреченных.
Противник казался поверженным. Откуда же град снарядов, обрушившийся на крейсер? Сначала кипела и фонтанировала вода близ бортов, потом содрогнулся корпус корабля, послышались удары металла о металл, крики.
Командиру доложили: справа бортовая пробоина, пробита труба.
Огонь не прекращался. Стало неоспоримо ясно, что по "Авроре" и "Дмитрию Донскому" бьют свои же броненосцы.
Егорьев приказал зажечь отличительную сигнализацию, вспыхнула "рождественская елка" - фальшфейера.
Наконец на "Суворове" одумались, разобрались. Боевое освещение погасло. Мощный световой столб, как белая колонна, почти вертикально уперся в небо: "Перестать стрелять!"
Наступила тишина.
Ночное побоище разыгралось близ знаменитой отмели Доггер-банка, которая всегда привлекала рыбаков обильными уловами. Мирные огни английских рыбачьих посудин показались Рожественскому сигналами японских миноносцев. Условная ракета, пущенная рыбаками, означала, что суда должны стягивать сети с правого борта и начать их тащить. Все это выяснилось, к сожалению, слишком поздно. В ту ночь ракета сыграла роковую роль. Суда гулльских рыбаков были искромсаны и сожжены.
Транспорт "Камчатка", "атакованный" со всех румбов, не получил ни одной царапины и продолжал плестись в хвосте эскадры. Немного пострадала "Аврора". По правому борту зияла пробоина. Небольшой снаряд прошел навылет каюту священника. У отца Анастасия оторвало руку. Его тяжело контузило. Судовой врач не отходил от батюшки, мучительно стонавшего, временами выкрикивавшего: "За что? За что?"
Комендор Григорий Шатило отделался легким ранением. За восемь месяцев до Цусимского боя на палубе "Авроры" появился забинтованный, припадающий на ногу матрос.
Круги от затопленных рыбачьих судов разошлись по всему миру. Сенсационные заголовки заполнили первые полосы газет. Эскадра Рожественского приковала к себе внимание во многих странах мира.
Для расследования "гулльского инцидента" образовали международную комиссию. Версию о том, что за рыбачьими посудинами прятались японские миноносцы, подкрепить чем-либо не удалось. Даже адмирал Дубасов, представитель России в международной комиссии, в докладе правительству признался:
"В присутствие миноносцев я сам в конце концов потерял всякую веру, а отстаивать эту версию при таких условиях было, разумеется, невозможно. Необходимо было ограничиться тезисом, что суда, принятые русскими офицерами за миноносцы, занимали относительно эскадры такое положение, что ввиду совокупности обстоятельств, заставивших вице-адмирала Рожественского ожидать в эту ночь нападения, суда эти нельзя было не признать подозрительными и не принять решительных мер против их нападения".
Мысль выражена не очень убедительно, но что делать? Гулльские рыбаки определили свои убытки на сумму 65 тысяч фунтов стерлингов (600 тысяч золотых рублей). Сумму эту Россия незамедлительно выплатила...
Эскадра продолжала поход. Ничего как будто не изменилось, правда, по курсу русских кораблей появились дымки тяжелых крейсеров владычицы морей Великобритании.
Погода щадила эскадру. Даже Бискайский залив не показывал свой крутой и жестокий норов. Море бугрилось невысокими волнами, приветливо синело небо. Неприветливыми оказались испанцы. В порту Виго, ссылаясь на нейтралитет, они не разрешили кораблям загрузиться углем. После дипломатической перепалки конфликт кое-как уладили, и с чувством облегчения покинули испанскую гавань.
У Егорьева в каюте появился ворох иностранных газет. Казалось, что, кроме "гулльского инцидента", человечество ничего не интересует. Особенно злобно чернили эскадру англичане. В сообщениях было много сенсационного, правда и домыслы нелепо переплелись. И Егорьев, хотя ни в какой мере не был виновником гулльского побоища, испытывал если не угрызения совести, то разъедающую досаду. Его офицерская честь, честь русского моряка была уязвлена.
В кают-компании лейтенант Дорн, дотошный артиллерист, склонный, как казалось Егорьеву, к подковыркам, бросил фразу:
- Начало, нечего сказать, многообещающее! А кое-кто сомневался, что мы - сила!
Старший офицер крейсера капитан II ранга Аркадий Константинович Небольсин осуждающе-строго посмотрел на Дорна. Реплику никто не поддержал, наступило неловкое молчание, словно не к месту вспомнили что-то неприятное, о чем вслух говорить не полагается.
Егорьев, перед самым походом принявший крейсер, присматривался к людям. Конечно, экипаж большой, без малого шестьсот душ, враз не изучишь, но у командира было незыблемое правило: знать каждого. Он легко и быстро запоминал лица, фамилии, малейшие проявления деловых качеств подчиненных, цепко держал их в памяти. По возможности общался с матросами не только в служебное время, правда мимолетно, урывками, опытный глаз многое схватывал и на лету.
Вот и сегодня, проходя по палубе, где у железной бочки с водой матросы собирались на перекур, Егорьев услышал реплику:
- Нам бы рыбешки жареной, братцы, а мы рыбаков поджарили!
Заметив каперанга, матрос осекся. Егорьев помнил и лицо, и фамилию этого комендора - Аким Кривоносое. Однажды на учении он обратил на него внимание: сноровист, ловок, боевит, энергичен.
- Как зовут? - спросил командир.
- Аким Кривоносов! - отчеканил комендор.
- Молодец! - похвалил Егорьев комендора, запоминая его смешливые и дерзкие глаза.
Он знал: людям с такими глазами, в которых удаль и вызов, живется нелегко. Боцману в них обычно мерещится насмешка, кондуктору - скрытое непослушание, а виноват всегда матрос...
Егорьев не подошел к курившим, не показал, что слышал реплику Кривоносова, заинтересовался другим: метрах в пяти от железной бочки какой-то матрос кормил птиц. Когда он бросал комочки хлеба, они шарахались, потом прыг-скок, прыг-скок, - подбирались к хлебу и жадно клевали.
Стоял октябрь, пора птичьих перелетов. Из Европы в Африку летели огромные стаи. Усталые пичуги садились на реи, на леера, на мостики. Боцманы гоняли их - птицы оставляли бесчисленные отметины, - а матросы охотно прикармливали летучих путешественников.
- Хлеба хватает? - спросил Егорьев, стоя за спиной кормящего.
Матрос стремительно обернулся. Увидев каперанга, вытянулся, руки словно впаялись в бедра:
- Виноват, ваше высокоблагородие!
Он был высок, сухопар, даже под робой угадывались крепкие мускулы.
- Корми, корми, - подбодрил его Егорьев. - Как зовут, кем служишь?
- Минный электрик Андрей Подлесный, - бойко отрапортовал матрос, поняв, что каперанг наказывать не собирается.
- Дома птицу держал?
- Никак нет, мастер по ремонту железнодорожных путей, - ответил Подлесный. - Жалко их: на чужбину летят. Матрос вздохнул, качнув острым кадыком. Казалось, говоря о птицах, он думал не только о них.
- Сколько вас у отца-матери? - спросил командир.
- Одиннадцать нас, ваше высокоблагородие.
- Ну-ну, корми, - сказал Егорьев. - А птицы вернутся. Перезимуют и вернутся...
На крейсере кое-кто смотрел на "вольное" обращение командира с матросами как на чудачество, а старший офицер Аркадий Константинович Небольсин такой демократизм явно не одобрял. Давно разобравшись в пружинах, движущих карьеру, он придерживался простой формулы, многократно подтвержденной практикой: подавляй тех, кто подчинен тебе, ублажай тех, кому подчинен ты. Младшим - разгон, старшим - поклон.
Между командиром и старшим офицером установились отношения сдержанной вежливости. И хотя "философия" Небольсина вызывала у Егорьева раздражение, внешне это не проявлялось, жило где-то в глубине. Правда, при выходе из испанской гавани Виго, когда Небольсин замахнулся на матроса, проявившего по неопытности нерасторопность, капитан I ранга едва сдержал себя. Скандал, резкое обострение отношений с ближайшим помощником в самом начале похода не сулили ничего хорошего. Однако когда Небольсин оказался по какому-то делу в каюте командира, Егорьев, внимательно выслушав его, попросил задержаться.
- Мне стали известны случаи, - сказал командир, - когда старшие подымают руку на младших. Кровь прилила к лицу Небольсина.
- Эти дикие нравы еще не изжиты у некоторых боцманов и кондукторов. Я не потерплю, чтобы на вверенном мне корабле били воина. Вот доберемся до японцев, там и проявим свою воинственность, - подытожил разговор командир. - А вам, Аркадий Константинович, я поручаю внедрить на крейсере эту мою волю.
- Понятно, Евгений Романович, - кивнул старший офицер. - Однако у нашего командующего, как известно, твердая рука. Он порядок любит.
- Командующий высоко, мы о нем не говорим, - заметил Егорьев, конечно не рассчитывавший на поддержку штаба Рожественского и отлично понимавший, куда клонит Небольсин. - Мы с вами отвечаем за свой дом, за "Аврору".
И, чтобы не возвращаться к неприятной теме, каперанг поднял со стола несколько свежих газет, спросил:
- Читали?
В этом вопросе таился намек: вот вам ваш Рожественский, вот чего стоит его твердая рука!..
Вахтенный начальник доложил, что на траверзе появились восемь английских вымпелов. Егорьев и Небольсин поднялись на мостик.
- Как вы думаете, Аркадий Константинович, чего они добиваются?
- Играют на нервах, - ответил Небольсин.
- Пожалуй, - согласился Егорьев.
Гремели якорные цепи, гремели военные оркестры. Корабли выстраивались на Танжерском рейде. Все свободные от вахт сбежались наверх, заполнили палубы. После унылого однообразия моря Танжер казался землей обетованной. Как-никак первая встреча с Африкой!
Путаница кривых, немощеных улочек, лачуги, лепившиеся друг к другу в невообразимой тесноте, крепостные стены со старинными башнями, форты с бойницами, глядящими в море, - все это издали сливалось в живописную картину. Пока корабль был в движении, чудилось, что и улочки и домики движутся, перемещаются, спускаются с горного склона к воде.
Над серо-коричневой неразберихой бедных кварталов, вскарабкавшись по склону вверх, белели нарядные виллы дипломатов. Чем выше, тем виллы были просторнее, богаче, привлекательнее, а над всей округой, на макушке Казбы, поднялся во всем своем белостенном великолепии дворец губернатора.
Не успели авроровцы всласть налюбоваться Танжером, как, тяжело пыхтя, из порта направился к ним германский угольщик "Милос".
Проблема угольных погрузок в судьбе эскадры играла важную роль. На восемнадцатитысячемильном пути от Либавы до Порт-Артура русских баз не было. Дружественных баз попадалось тоже немного. Предстояло грузиться в открытом море, капризном и своенравном. Мировая практика подобного эксперимента, да еще в таких масштабах, не знала. Зарубежные специалисты предрекали России неудачу.
Морское министерство перед выходом эскадры в поход заинтересовалось способом погрузки угля по Спенсеру - Миллеру. Американская печать, захлебываясь от восторга, рекламировала этот способ. Оборудование и приборы обошлись казне в полтора миллиона рублей. Предварительные испытания, к сожалению, результатов не дали.
Признаться, что деньги выброшены на ветер, Адмиралтейство не могло. Пришлось кораблям взять оборудование Спенсера - Миллера, загромоздив им палубы.
"Авось в пути освоитесь, приспособите к делу", - напутствовали эскадру.
Русское "авось" всей своей тяжестью легло на плечи матросов...
"Милос" - один из зафрахтованных Гамбургской компанией{2} пароходов подошел к правому борту "Авроры". Завели швартовы. В большой рупор объявили:
- Погрузку начать!
Взвизгнули, застучали, загромыхали паровые лебедки, по палубам покатились тележки, сотни матросов - кто с мешками, кто с лопатами - пришли в движение.
Фрахт каждого угольщика обходился по пятьсот рублей в сутки. Эскадра в Танжер пришла с опозданием, и, конечно, наверстывать, экономить часы и минуты решили за счет матросских мускулов.
Трубы оркестра, сверкая на солнце, исторгали музыку. Трубачи дули во всю мощь своих легких, стремясь заглушить рокот лебедок, топот ног, выкрики матросов.
Оркестранты слепли от обильного пота, солнце жгло немилосердно, перекуров не было. Наоборот, ритм музыки убыстрялся, убыстряя ритм работающих, подхлестывая их удаль, запал, задор.
Егорьев следил за погрузкой. В первый час чрево угольных ям поглотило пятьдесят тонн. Неплохо!
Матросы, черные как черти, работали с бешеной энергией, разогретые жгучим желанием поскорее закончить, поскорее смыть колючую пыль, вязкий пот, поскорее получить законную чарку водки.
В непрерывном мелькании тележек, человеческих тел, в свистках боцманских дудок, неразборчивых выкриках узнавались иные матросы, иные голоса, и командир удовлетворенно отмечал про себя, что уже команда для него не просто масса, где все на одно лицо.
Вот катит тележку Аким Кривоносов. Торс его лоснится от пота, мышцы упруго вздуты, на чумазом лице светятся белки да белые зубы.
- Э-ге-гей! - кричит он, догоняя идущего впереди, упрямо бодая воздух склоненной головой и страшно тараща глаза.
За ним поспевает низкорослый матрос, почти квадратный, короткорукий и коротконогий здоровяк, словно вытесанный из каменной глыбы.
А вот и Андрей Подлесный с огромным мешком на спине. Хотя он и согнулся под тяжестью, при его росте мешок не кажется таким большим, а жилистые руки, отведенные за голову, мертвой хваткой вцепились в брезентовую мешковину.
Егорьев прикидывал: как облегчить погрузку, наладить дело? Много сутолоки, команду надо разбить на группы, сменяющие друг друга. Что-то недодумано с оркестром. Ритм то непомерно быстрый, то неоправданно медленный. Не у всех покрыты головы. Африканское солнце пощады не знает. И наконец, харч. Приварок в дни погрузки надо усилить...
Пока матросы заполняли бездонные чрева угольных ям, часть офицеров уволилась на берег. Одни поспешили на почту отправлять на родину письма, другие вышли к центру и остановились на площади перед мечетью, облицованной зеленым фаянсом, на котором играли солнечные блики. Высокий минарет с балкончиком и полулуниями на спицах дал приют муэдзину с луженой глоткой, призывавшему правоверных к молитве. Второй, не менее важной и органичной частью центра был рынок, собравший, казалось, всех жителей Марокко. Тут были арабы в чалмах и фесках, обожженные солнцем бедуины, говорящие по-испански, с библейскими лицами евреи, всадники, упирающиеся в стремена голыми, потрескавшимися ступнями, наконец, погонщики мулов, крикливые ишаки, соперничающие с муэдзином, стройные кони арабской породы, вислоухие ослы, прославившиеся своим упрямством. И над всем этим господствовали неумолчный восточный гвалт и навязчивый торг - продавалось все, что дают земля и ремесло.
С клокочущего рынка офицеров увел местный француз, назвавшийся гидом. Оставив в его руке по пять франков, гости прошли тесную харчевню с будоражаще-пряными запахами и оказались в сумеречной комнате без окон, освещенной тусклой лампадой. Неожиданно на ковре возникла танцовщица в костюме Евы, со смуглой, матовой кожей, с упруго торчащей маленькой грудью и страстными пластичными движениями.
Танцовщица исчезла так же внезапно, как и появилась, и офицерам, ограниченным временем, пришлось возвращаться на крейсер. Оглушенные экзотикой Танжера, они попали на палубы, где матросы поливали друг друга из ведер и из брандспойтов. Уши и ноздри их, забитые угольной пылью, постепенно светлели, темная вода струилась по палубе, на поручнях, трапах везде лежал в палец толщиной слой черной пыли, въедливой и мелкой.
Ни одного матроса на берег не уволили. Лишь на следующий день горстка рядовых сошла на берег с печальной миссией. Отец Анастасий, раненный во время "гулльского инцидента" и отвезенный во французский госпиталь, скончался.
Ссохшуюся, окаменело-твердую землю долбили кирками, лопаты были бесполезны. Гроб погрузили в неглубокую яму. Свежевыкрашенный крест увенчал пологий холмик.
Никто не плакал над могилой отца Анастасия, но было тоскливо и одиноко каждому, кто, прощально оглянувшись, запомнил этот безжизненно-сухой бугорок бурой, растрескавшейся от зноя чужой земли.
В Танжере к эскадре присоединилось госпитальное судно "Орел" лебедино-белое, с красными крестами на трубах, с сестрами милосердия, молодыми, улыбающимися, тоже одетыми в белое.
"Орел", разумеется, сразу привлек внимание и матросов и офицеров. Окуляры биноклей вахтенных, да и свободных от вахты все чаще и дольше изучали белопалубного красавца.
Покинув Танжерский рейд, миновав Канарские острова, эскадра взяла курс на Дакар. И опять корабли, как черным облаком, окутались угольной пылью. Опять погрузка, опять в каторжно-короткие сроки.
Вокруг судов в узких лодчонках сновали обнаженные негры, прикрытые лишь тонкими набедренными полосками, увешанные амулетами, охотно нырявшие за медяками, которые бросали с кораблей в прозрачную воду.
Матросы увольнений на берег не получили и здесь. На полубаке развлекал их вислоухий Шарик. Какой-то остряк обучил Шарика, если просили показать, как бранится боцман, громко лаять, бешено мотая головой.
Почему собачонку, прибившуюся к морякам в Ревеле, назвали Шариком, никто объяснить не мог. Он не был ни кругл, ни толст, зато был мохнат, с белым пятном на широком огненно-рыжем лбу. Дежурства у камбуза и у кают-компании помогли Шарику округлиться. Подлесный сделал ему посуду из консервных банок, и незаконный пришелец понял, что корабль - его дом.
Шарик умел стоять на задних лапах, передней деликатно тормоша матроса, и тут уж невозможно было не дать циркачу кусочек рафинада.
Если ему казалось, что встречный идет не с пустыми руками, Шарик несся как угорелый, бросался в ноги, прыгал на грудь.
Матросы полюбили Шарика. Наверное, он напоминал им покинутую землю, довоенную жизнь. Это мохнатое, ласковое существо вносило что-то очень важное в регламентированный и жесткий уклад людей, надолго, а может быть навсегда, оторванных от дома.
В ту минуту на рейде Дакара, когда Шарик показывал, как бранится боцман, на госпитальном "Орле" грянул оркестр. Через несколько секунд матросская братва уже знала: к сестрам милосердия на катере прибыл "сам" так называли Рожественского.
Вездесущие вестовые и всевидящие сигнальщики еще в Танжере узнали, что адмирал посетил "Орел". Ничего особенного в этом как будто не было, но за время похода Рождественский не побывал ни на одном корабле. Бросилось в глаза: почему такое внимание госпитальному судну?
Шли дни, и сигнальщики отметили: катер постоянно курсирует между флагманским броненосцем и "Орлом".
Матросам лишь попадись на язык: все косточки перемоют в соленой водице! А тут еще на берег увольнения не дали. Угольной пыли наглотались, на солнце изжарились. В кубрик не пойдешь - задохнуться можно. Вот и получается: стой на палубе, забавляйся с Шариком или гляди, как адмирал под музыку госпитальный "Орел" пленяет.
И пошли суды-пересуды, стали гадать на все лады, по какой надобности "сам" к сестрицам зачастил: наверняка будущие баталии обговорить надо. Подтрунивали и над комендором Григорием Шатило, еще слегка прихрамывавшим:
- Эх, Шатило, тебе не пофартило. Подставил бы свою ногу под осколки попозже - сейчас петухом бы ходил в курятнике! А то старому да лысому ноги по трапам ломать. Легко ли?!
Офицеры тоже не остались безучастны к госпитальному судну. Злоязычный лейтенант Дорн не упустил случая поточить лясы: мол, думал ли кто, что суровый адмирал так печься о раненых изволит. То цветочки пошлет, то собственной персоной пожалует.
Все, конечно, знали, что на "Орле" ни одного раненого нет.
- Язык у вас без костей, - заметил Дорну Небольсин. - Известно, что у Зиновия Петровича на "Орле" племянница. Добровольно на войну отправилась.
- Известно, известно, - подтвердил лейтенант фальшиво-примирительным голосом. - А еще известно, что племянница дружит со старшей сестрой Сивере. И та, Аркадий Константинович, добровольно. Воевать так воевать!
При Егорьеве обычно подобных разговоров не заводили: командир был строгий служака, но сам Егорьев невзлюбил командующего, и, как ни гасил в себе это чувство, оно росло.
Рожественскому, ни разу не ступившему на борт "Авроры", даже на расстоянии удавалось досаждать командиру крейсера, как, впрочем, и командирам других кораблей. На флагманском броненосце непрерывно взметались флажки, сигнальщики не успевали передавать выговоры и порицания экипажам за мелкие недоделки, порою за мнимые провинности. То адмиралу казалось, что крейсер не так идет в кильватерной колонне, то на погрузке угля оркестр играет слишком громко или слишком тихо, хотя у трубачей глаза вылезали из орбит от напряжения.
Егорьев, не позволявший своим эмоциям пробиваться наружу, записал в дневнике, который вел с первого дня похода:
"Адмирал надоедает своими придирками к разным мелочам..."
Обида кадрового офицера все-таки прорвалась на бумагу. Да и как было сдержаться, если несколькими днями раньше капитан I ранга обратился к Рожественскому с дельным, продиктованным опытом плавания в дальневосточных водах предложением и встретил глухоту и непонимание.
Корабли эскадры, выкрашенные в черный цвет, с оранжевыми трубами, резко выделялись над водой. Японцы, учитывая частые тихоокеанские туманы, окрасили свои суда в шаровой цвет. Даже легкая пелена тумана скрывала их от глаз, как бы растворяла в себе.
Адмирал раздраженно ответил: "Занимайтесь своим делом. Нам ли учиться у японцев? У русского флота свои традиции..."
Егорьев только плечами пожал: сказано громко, хоть и явная глупость. Хороша традиция - помогать противнику целиться в наши суда!
Назрело у командира еще одно дельное предложение - махнул рукой, не стал обращаться к командующему, на "Авроре" внедрил - и баста! А дело всех касалось. Корабельные палубы в Дакаре завалили углем - дождь его смывает, ветер сдувает, пыль, грязь, по палубе порой не пройти... Засадил Егорьев всех своих восьмерых матросов-парусников мешки сшивать. Старой парусины на крейсере хоть отбавляй! Уголь в мешки собрали, чтобы не мешал действиям артиллерии, проходы освободились. На случай боя - укрытие от осколков. На корабле свободнее вздохнули.
Кто-то побывал на "Авроре" из крейсерского отряда, позавидовал:
- И нам бы так! Да кто рискнет? Адмирал узнает, что своевольничаем, голову скрутит.
- Двум смертям не бывать, - буркнул Егорьев.
Гость словно накаркал. Каперанг стоял на мостике и вдруг увидел, что от плавучего госпиталя отвалил катер с командующим и пошел наискосок, прямо на "Аврору". Вахтенный начальник, запыхавшись, прибежал докладывать. Егорьев махнул рукой:
- Вижу.
Адмирал - высокий, осанистый, с густыми усами, сливающимися с небольшой бородкой, с холодным и жестоким взглядом, сопровождаемый флаг-офицерами - прибыл на "Аврору". Выслушав рапорт, сказал:
- Ну, что ж, покажите ваши новации. Что вы тут затеяли?
В слове "новации" был какой-то оскорбительный оттенок, фраза "Что вы тут затеяли?" показалась бы грубостью, если не знать манеру Рожественского разговаривать с подчиненными.
Он осмотрел сложенные штабелями мешки, прошел от носа до юта и там остановился:
- Значит, в новации ударились... Так-так. Запишите!
Он снял фуражку, обнажив гололобую, с глубокими залысинами голову, и обратился к флаг-офицеру, державшему журнал для приказов командующего:
- Запишите. Пусть старшие офицеры других кораблей посмотрят эти новации...
Рожественский не закончил фразу: перед ним возник Шарик, стал на задние лапы и передней робко коснулся адмиральских лампасов. Рыжие уши несколько раз шевельнулись, а потом поникли, как привядшие лопухи.
Лохматая дворняга, к сожалению, не могла отличить адмирала от писаря и, скорее всего, полагала, что все ее обществу одинаково рады.
Командующий брезгливо взглянул на рыжего пса и резко повел рукой: мол, изыдь, нечистая!
Простодушный Шарик воспринял этот жест, очевидно, как приглашение к игре, счастливо крутнул хвостом и прыгнул на грудь адмиралу. Адмирал отпрянул и с силой пнул вислоухого тяжелой ногой. Шарик жалобно взвизгнул и полетел за борт.
Сначала решили, что матросского любимца раскромсало корабельным винтом. Он канул в пенном потоке, но вскоре появился над водой и в исступленном отчаянии заработал лапами, вытягивая голову с белым пятном на лбу.
Конечно, шлюпку спускать не решились.
На следующий день на полубаке в минуты перекура никто не шутил, не разговаривая, молча тянули цигарки.
- Утоп, - сказал один из матросов, - ни за грош загубили.
Сигнальщик, который нес накануне вахту и стоял в бочке, прикрепленной к фок-мачте, крутнул головой:
- Не утоп.
Он дольше всех видел в бинокль колышущееся белое пятнышко, плывшее вслед за эскадрой.
- Не утоп, - повторил сигнальщик. - Акулы сожрали.
Воздух неподвижен. Мертвенно тих океан. Кажется, что за бортом не вода, а расплавленное олово.
Солнце свирепо. Лучи оставляют ожоги. Тропики...
Пот, пот, пот. Мыться приходится морской, соленой водой, она приносит лишь минутное облегчение. Соль разъедает тропическую сыпь, гноящиеся нарывы. От непрерывного зуда хочется кричать, терзать заскорузлыми пальцами исстрадавшееся тело.
В машинном отделении - сущий ад. В воздухе как бы туман - испаряется вязкое масло. Трубопроводы раскалены. Бессильно вращаются лопасти вентиляторов. Надо подвести к ним руку почти вплотную, чтобы почувствовать слабое дуновение. Изводит жажда. Пить нельзя - вода вызывает пот, едкий, мучительный.
Судорога сводит тела кочегаров и машинистов. Их, потерявших сознание, вытаскивают наверх, обливают водой, чтобы через час им опять спуститься в машинный ад.
Флагманский корабельный инженер Евгений Сигизмундович Политовский в письме жене сообщал: "Не успел вчера окончить письма, как меня послали на "Бородино". В 12 часов ночи приехал туда. Там случилось несчастье: два матроса спустились в бортовой коридор и задохлись в нем..."
На кораблях появились тысячи, десятки тысяч проворных рыжих тараканов, заселивших все щели. Они проникли в муку, грызли одежду, бегали по спящим.
Егорьев, получивший ожоги лица, на ночь смазался вазелином. Боль смягчилась, он задремал, но вскоре проснулся - лицо облепили тараканы. Видимо, запах вазелина привлек их.
Тараканов топтали, травили, обваривали кипятком, но появлялись новые, еще более злые и проворные.
В Дакаре кто-то из офицеров снял с веток низкорослого дерева несколько хамелеонов. В Испании их держат в квартирах для истребления мух.
Медлительные, надолго замирающие хамелеоны оказались ловкими ловцами тараканов. Но что могли сделать они, одиночки, если тараканам не было числа...
Корабли прошли Гвинейский залив. Уже казалось, что солнце расплавилось, что с неба льется огненная жидкость.
Люди как манны небесной ждали вечера. Вестовые выносили офицерские матрасы на палубы. Через несколько минут они становились влажными от обильной росы. Воздух, тоже насыщенный влагой, обволакивал. Дышать было нечем.
Звездное небо тревожно вспыхивало отдаленными молниями. Схожие с сигнальными вспышками, они привлекли внимание командира. Капитан I ранга в ту же ночь отметил в дневнике:
"Записав несколько знаков сигнализации господа бога, искали в сигнальных книгах их значение".
За полночь, часа в три, как правило, начиналась гроза. Офицеры и матросы спускались в жилое помещение. Мучило удушье.
Однажды ночью, когда повеял слабый и теплый ветерок, люди, почувствовав облегчение, заснули раньше обычного. Верхние палубы были устланы телами спящих. И вдруг сверху посыпалось на них что-то мокрое, склизкое, трепещущее.
Оказалось - летучие рыбы. Стая, вспугнутая хищниками, поднялась в воздух и потом, падая на палубы, всполошила людей.
Чуть свет, разбитые, начали новый день. Сигнальщик, устроившись в бочке на фок-мачте, прикрытый сверху зеленым зонтиком от прямых лучей, всматривался в горизонт. Порою на звонки вахтенного начальника сигнальщик не отвечал.
"Сморило", - догадывался вахтенный. Приходилось посылать матроса будить заснувшего.
Рожественский, потеряв чувство реального, на одной из стоянок заставил матросов тренироваться в гребле на шлюпках. После тренировок не все смогли подняться на корабль. Товарищи на руках несли измученных, обессиленных гребцов...
Русская эскадра плыла вдоль унылых берегов Африки. Теперь, казалось, не только люди, но и корабли, не выдержав жары, стали все чаще обнаруживать свои "недуги". "В пятом часу на пароходе "Малайя" случилось что-то с машиной. Она остановилась. Ее повернуло боком к волне. Если бы ты видела, что за жалкое зрелище она собою представляла.
В исходе одиннадцатого часа на "Суворове" в кочегарке лопнула труба. Пар засвистел и начал выходить в кочегарку. Едва не сварили людей, часть их бросилась в угольную яму...
...на "Донском" сломалась одна часть его машины. "Аврора" взяла его на буксир..."{3}
Эскадра шла вдоль берегов Африки...
Судовой врач "Авроры" Владимир Семенович Кравченко подсчитал: в походе на эскадре умерло пять офицеров и двадцать пять нижних чинов. Около тридцати человек списали с острым туберкулезом легких.
Тропический климат, тяжелые условия плавания расшатывали здоровье, психику. Осточертело мертвящее однообразие. Матросов, даже прежде равнодушных к животным, неудержимо потянуло к ним. После гибели Шарика на крейсере появились два молодых крокодила, несколько хамелеонов, не только менявших цвет, но и форму тела - они надувались, преображались на глазах.
Судовой врач завел попугая, яркого, нарядного, очень быстро привязавшегося к нему. Единственным недостатком попугая была его болтливость, он кому угодно мог раскрыть военную тайну, называя крепость, к которой стремилась эскадра.
- Арр-тур, Арр-турр! - картаво выкрикивал попугай.
Крокодилы, сверх ожиданий, проявили склонность к приручению. Им дали клички: одному - Сам, другому - Того, имя японского адмирала.
Эти плоскоголовые, со сплюснутыми телами, одетые в зеленый панцирь новоселы на палубе были крайне неуклюжи. Им устраивали купание, наполняя водою тент. Сам и Того в воде буквально оживали, становились веселыми и проворными. В такие минуты верилось, что взрослые крокодилы проплывают в океане сотни миль, добираясь до дальних островов.
Однажды, когда решили, что приручение удалось, крокодилов выпустили на ют. Они грелись на солнце. Усыпив бдительность людей, Сам неожиданно бросился к борту и прыгнул в океан.
Егорьев в дневнике записал: "Не захотел идти на войну один из молодых крокодилов, которых офицеры выпустили на ют для забавы, выскочил за борт и погиб".
Гибель крокодила почему-то произвела удручающее впечатление на матросов. Придавали значение и тому, что выбросился за борт Сам, а крокодил, носивший имя японского адмирала, остался и жил как ни в чем не бывало.
Словно по команде, то на одном, то на другом корабле начались самоубийства.
"...с "Жемчуга" выбросился за борт матрос, был выловлен и помещен на белый "Орел", - отметил в своих записях Егорьев.
Не проходило и недели, чтобы кто-нибудь на эскадре не покончил с собой, или не умер от болезни, или не был списан.
Ритуал похорон подробно описал корабельный врач: "От госпитального судна "Орел" отделяется и медленно идет траурный эсминец. На юте лежит зашитый в парусину покойник, убранный зеленью и цветами. Миноносец идет через эскадру, вдоль фронта судов, идет надрывающе душу медленно. С него доносится похоронное пение, а на судах по мере приближения начинают играть "Коль славен". Миноносец выходит в море, скрывается вдали; слышен одинокий пушечный выстрел - тело предано воде..."
И опять монотонное однообразие пути. Иногда сядет на рею острокрылый альбатрос с желтым клювом и ногами, обутыми в красные сапожки. Иногда приблизятся чайки, оглашая воздух противными резкими криками.
Зловещим эскортом провожают эскадру акулы, питающиеся отбросами с кораблей. Авроровцы выловили нескольких. Даже выстрелы из револьверов не могли прекратить их буйство. У одной из акул вынули сердце - оно продолжало пульсировать, а хвост, хотя и вяло, шлепал по палубе.
Наконец показался далекий берег, гавань Либревилля, устье могучей реки Габун. Разговоры о том, что в прибрежье Габуна живут людоеды, никого не смущали. Берег - даже неясный, неведомый, почти скрытый пепельной дымкой неизменно порождал затаенную надежду: может быть, придет почта с родины; может быть, долетят в эти богом забытые места добрые вести из Порт-Артура.
Люди есть люди, им нельзя без ожидания перемен, без веры, что их страдания не бессмысленны, не напрасны.
Увы, почты не было, добрых вестей не было, но были заждавшиеся угольщики. Начался аврал.
На предыдущей стоянке, в Дакаре, по скорости погрузки угля "Аврора" превзошла другие корабли. Матросы грузили более 70 тонн в час. Команда крейсера получила премию - 720 рублей.
- Не подкачайте! - обратился к экипажу Егорьев.
Оркестр заиграл "Янки дудль" - мелодию, которая легко приспосабливалась к ритму работ, замедляясь и убыстряясь по мере надобности, позволяя развивать бешеный темп.
Когда матросские мускулы разогрелись, когда распалился азарт соперничества, когда мешки, корзины с углем начали перемещаться с быстротой конвейера, оркестр задал небывалый темп. Трубачи притопывали в такт ногами, плечи их ходили, как в танце, на лбу и на лицах сверкал пот.
Ни один офицер не списался на берег. Все участвовали в погрузке. Группы, заранее выделенные, сменяли друг друга, выходили, как выходят на приступ крепости.
Чумазые матросы пытались перекричать грохот. Старые, дырявые мешки, не выдержав нагрузки, рвались, лопались, уголь сыпался на палубы. Вспоминали бога и душу и бежали за новыми мешками.
В шахтах у горловин возникали заторы, возникали навалы в самих угольных ямах. В черном мареве пыли, превозмогая удушье, матросы лопатами разгребали нагромождения.
Адмирал приказал погрузить 1300 тонн. Это количество угля превышало обычную норму. Подобную перегрузку не испытывал ни один корабль. Углем забили, заполонили все: офицерский буфет, кают-компанию, световой люк 3-й машины. На палубах уголь высился в рост человека. Лишь узкие, как щели, как окопы, проходы давали возможность кое-как передвигаться.
Аврал длился семнадцать часов! Наступила ночь, когда стихли лебедки и в большой рупор прогремело:
- Погружено!
Люди падали там, где их застала команда. Прямо на уголь. И, как подкошенные, проваливались в сон.
В третьем часу небо разверзла молния, загрохотал гром. Спящие не видели молнии, не слыхали грома - лишь вахтенные переглянулись, когда вспышка вырвала из мрака низкие клубящиеся тучи.
Грянул ливень, безудержный тропический ливень, низвергающий потоки воды, оглашаемый раскатами грома. Молнии полыхали непрерывно, корчась огненными зигзагами и достигая такой ярости, словно гигантское пламя объяло берег, океан, воздух.
Сточные трубы на крейсере оказались забитыми углем. Вода на палубах подымалась, образуя черное месиво. Люди метались, обваливая узкие проходы, оставленные среди угольных гор. Те, кто бросился в жилые помещения, выбегали из них, чувствуя, что задыхаются. Входные отверстия, через которые поступает наружный воздух, закупорились угольной пылью.
Тропический ливень унялся к утру.
Никогда прежде не казалось, что команда "Авроры" так многолюдна: матросы, унтер-офицеры, боцманы и кондукторы заполнили нос корабля, разместились на мостиках, орудийных башнях, кое-кто забрался на реи и на марс, стоял за бортом, держась за леера. Ожидание необычного, праздничного и веселого порождало нетерпение, слышались шутки, реплики.
Огромная парусина, наполненная водой, образовала искусственное озеро. В "озере" плавал - придумали же, увязав спасательные круги! - островок с невысокой мачтой. В мачту воткнули плакат, разрисованный пальмами, скачущими обезьянками. Из разинутой пасти крокодила - его рисовали с натуры - как бы выбегали буквы, написанные красной краской: экватор.
Экватор был позади, впереди - тропик Козерога, и, соблюдая добрую матросскую традицию, на эскадре праздновали переход экватора. Егорьев еще раз про себя отметил, как важны морские традиции. Именно сейчас, когда пересекли экватор, когда люди измождены, вымотаны до крайности, изнывают от жары, нужны разрядка, сильная встряска, уводящие от обыденности, дарующие бодрость, веру в то, что скоро и эти невзгоды будут преодолены, останутся за кормой, как осталась незримая черта экватора.
Оркестр заиграл туш, матросы расступились, образуя коридор, и на палубу выкатилась своеобразная колесница. Голые, с набедренными повязками люди, черные как папуасы, тянули ее за собой. На ней в окружении свиты важно восседал Нептун, воздев к небу трезубец. Его космы и длинная, до пояса борода были из пакли.
Несколько зазевавшихся матросов, преградивших путь торжественной колеснице, и ахнуть не успели, как их подхватили могучие руки и прямо в одежде бросили в "озеро". Закачался от волнения островок, крокодил Того, изображавший морское чудовище, испуганно заметался.
Нептун взмахнул трезубцем, и начался парад.
Впереди шла раскрашенная, полосатая как зебра, свинья с синими ушами. Предчувствуя, что ее принесут в жертву Нептуну, она пыталась свернуть, но ассистенты, следовавшие по бокам, покалывали ее острыми прутиками. Едва свинья поравнялась с морским владыкой, ей крутнули тонкий, словно веревочка, хвостик, она отчаянно завизжала, захрюкала. Это означало приветствие повелителю океанов.
Длинной вереницей с перьями на голове, с многоцветными опьями шли "туземцы". Возле колесницы, где восседал Нептун, они припадали на одно колено, склоняли головы в знак безусловной покорности. Нептун, не меняя горделивой осанки, кивал им.
Праздник чуть не омрачила сцена "жертвоприношения". Из 1684 пудов солонины, запечатанной в бочки и принятой в Кронштадте, 1360 пудов оказались непригодными. Вспученные бочки были на грани взрыва. Одну из них стали потрошить на глазах у всех и содержимое выбросить за борт акулам.
Из бочки хлынуло такое зловоние, что священный акт жертвоприношения пришлось скомкать, злосчастную бочку поскорее отправили за борт. Зловоние долго не рассеивалось в застойном, неподвижном воздухе, напоминая, какую пищу уготовили матросам в дорогу.
После небольшой паузы, очевидно невольной, потому что Нептуну пришлось дважды нетерпеливо оглянуться на люк, праздник наконец возобновился. Оркестр заиграл восточную мелодию, немного унылую, медлительную, и на огромной черепахе выехал почтенный белобородый арабский шейх, сопровождаемый слугами. Ему, очевидно, более приличествовал бы стройный жеребец или украшенный коврами верблюд, но шейх как бы не заметил подтасовки, был исполнен значительности, чалма гордо венчала голову, царственно скрещенные руки подчеркивали величие старца.
Шейху предстояло из доброго десятка жен выбрать главную. К нему подводили закутанных в простыни "красавиц", распахивали простыни, обнажая бумажные наклейки на груди, волосатые мускулистые тела. На одном даже была татуировка: "Не забуду мать родную!"
Жены с накрашенными бровями строили глазки, подмаргивали, заламывали руки, падали ниц перед шейхом. Небрежным кивком он отвергал неугодных, их хватали слуги и, выразительно мыча, бросали в воду.
Уже никто не верил, что высокочтимому шейху можно угодить, что есть на свете красавица, достойная его одобрения. И вдруг оркестр заиграл тихо-тихо, приглушенно, словно боялся кого-то вспугнуть, и, покачивая бедрами, появилась - сомнения враз были развеяны! - главная жена шейха. Грудь ее, скрытая простыней, подымалась, как гора, а ягодицы необъятных размеров вызвали крики ликования.
Строгий седовласый шейх заулыбался. Слуги отдернули простыню, обнажили подушки, сорвали их, и все узнали длинного, худого, с торчащими ключицами писаря, носившего прозвище Аршин. Оркестр захлебнулся, сто глоток восторженно заголосили, Аршин полетел в воду.
В завершение праздника всех, кто впервые пересекал экватор, кого посвящали в моряки, бросали в "озеро". Вода, давно почерневшая от краски, смытой с туземцев, кипела, бурлила, клокотала. К людям вернулись энергия, радость, смех.
Вечером полыхал фейерверк. Нептун благословил своих подданных, баталеры из ендов разливали по чаркам водку...
Ночью эскадра снялась с якорей. У Евгения Романовича Егорьева было отличное настроение. Он записал в дневнике: "...Построились снова в походный порядок, и опять по океану потянулись длинные, миль на пять, линии двух кильватерных колонн со своими многочисленными разноцветными огнями, которые представляются громадной, хорошо освещенной улицей вроде Невского".
По мере приближения к далекому противнику на эскадре все чаще проявлялась нервозность. Внешне - никаких признаков. Жизнь и плавание шли своей унылой чередой. И вдруг случай, никем не предусмотренный...
Катер-разведчик увидел огонь, светящуюся точку. Заработал беспроволочный телеграф, оповещая, что контркурсом идет загадочный пароход.
Вскоре выяснилось, что восходящую на горизонте звезду приняли за судовой огонь.
День спустя снова непредвиденный случай. С какого-то транспорта упал за борт матрос. Соседние суда оповещены не были, шлюпки не спустили боясь, очевидно, адмиральского гнева.
Матросу начали сбрасывать горящие буйки.
Когда эскадра ушла вперед, отдаленные светящиеся буйки вызвали переполох. Что это? Японский эсминец? Подводная лодка?
На некоторых судах приготовились к отражению атаки...
Нервозность, глубоко спрятанная, жила в каждом. Ее порождало убеждение, что наспех сколоченная эскадра не способна к серьезным баталиям.
Командир "Авроры", ежедневно наблюдавший с мостика строй кораблей, угнетаемый постоянными раздумьями, записал в дневнике: "...Если исключить четыре однотипных броненосца, преобладает удивительная разнотипность. Каждое другое судно представляет положительно unikum, годный для сохранения в музеях в назидание потомству ("Алмаз", "Светлана", "Жемчуг", "Донской", "Наварин", "Сисой" и "Нахимов"). Однотипных семь миноносцев, которые уже успели износиться в прошлом году в походе в Порт-Артур, ныне, после ремонта Кронштадтского порта, снова пришли в такое состояние, что вряд ли кто-нибудь из них дойдет до неприятеля. Присоединились еще к ним гиганты немцы "Урал", "Терек" и "Кубань" - будущие разведчики, лучшие ходоки нашей эскадры и громаднейшие щиты для японских артиллеристов. Попадания в них будут сейчас же видны японцам, так как после первого произойдет огромный пожар, несмотря на какую-то шарлатанскую огнестойкую жидкость, которой пропиталось дерево. Два негодных парохода "Малайя" и "Князь Горчаков" отправляются обратно... Транспортов масса, и наша эскадра похожа на конвойных большого верблюжьего каравана".
С записями командира крейсера перекликались и строчки из дневника корабельного врача Владимира Кравченко: "Ох, что-то нет у нас веры во Вторую эскадру, хотя по наружному виду она и представляет такой грозный вид.
Всем известно, что новые суда заканчивались наспех, остальные же заслуженные старички, которым давно пора на покой.
Испытаний настоящих не было - впереди длинный ряд поломок... Будут отсталые, а кому удастся дойти, тот дойдет порядочным инвалидом.
В маневрировании эскадра совсем еще не спелась. Судовой состав не знает своих судов, своих машин.
Ах, вовсе не нужно и пессимистом быть, чтоб ясно видеть, что, кроме стыда и позора, нас ничего не ожидает..."
Профессор Императорского Московского технического училища П. К. Худяков объяснял глубинные причины, которые привели к созданию плохо защищенных, малопригодных для эскадренного боя кораблей: "При составлении нашей строительной программы мы "прозевали" переворот, совершенный на Западе. США, Япония давно строили крейсера большие и бронированные, а мы только мы - строили крейсера небронированные и среднего водоизмещения. Перед самой войной построенные шесть крейсеров - "Аврора", "Светлана", "Олег", "Жемчуг", "Изумруд" и "Алмаз" не были бронированы. Японские бронированные крейсера вошли в состав неприятельского боевого ядра, а наши новые, дорогие несли в бою сторожевую службу при транспортах и с трудом отбивались от легких крейсеров".
Русские моряки не случайно шутили: штаб воюет с японцами поневоле, технический комитет держит нейтралитет, а кораблестроение и снабжение явно нам враждебны. Видимо, не без веских оснований в Индийском океане, на подступах к Мадагаскару, нервозность на эскадре возрастала, восходящая звезда казалась судовым огнем, горящие буйки - японской подводной лодкой, а капитану I ранга Егорьеву представлялось: обремененная неуклюжими транспортами эскадра "похожа на конвойных большого верблюжьего каравана..."
Днем палящее желтое небо было враждебно людям. Вечером выкатывалась большая круглая луна и заливала океан серебряным сиянием. Людей влекло полюбоваться этим свечением. Но порыв быстро угасал, потому что от воды тянуло сырым смрадом. Мгновенно намокала одежда, прилипала к телу, как мокрая повязка. Тропическая сыпь, полузабытая в дневной суете, ночью жгла и свербила нестерпимо. От неосторожных движений лопались волдыри. Хотелось рвать в клочья одежду, проклинать океан, которому нет конца-края, или броситься в это сияние чужого, обманно торжественного серебра.
В минуту слабости такая мысль приходила многим, но ее гнали, сердце холодело при мысли об алчных акулах, готовых там, за бортом, превратить человеческое тело в кровавые лохмотья и справить пир в этой противно-теплой и вязкой воде.
Все мечтали о земле, забывая беды и горести, связанные с ней, даже угольные авралы. Сознанию рисовались зеленые берега, таящие прохладу, прозрачные родники с холодной и пресной водой.
Когда с кораблей увидели Мадагаскар, простерший к облакам свои горные хребты, покрытый тропическими лесами, радость бросила людей к бортам, на мостики. Силуэты гор, казавшиеся днем голубыми, доверчиво и маняще смотрели из дымчатой дали.
Даже те, кто читал в словаре Брокгауза и Эфрона о Мадагаскаре "тропическая жара в прибрежных болотистых частях делает климат береговой полосы убийственным для европейцев, свирепствует лихорадка", - даже те ждали от близкой земли облегчения, передышки, добрых вестей.
Вслух, пожалуй, никто не решался оптимистически высказываться о судьбе Порт-Артура, но где-то в тайниках сердца не умирала маленькая надежда - уж очень хотелось этого! - эскадра соединится с кораблями осажденной крепости и будут еще хорошие дни.
В пути от Либревилля до Мадагаскара от эскадры отделился госпитальный пароход "Орел" и близ мыса Доброй Надежды взял курс, очевидно, в порт Капштадт. Как и прежде, адмирал Рожественский ни с кем не делился своими планами и соображениями, однако нетрудно было догадаться, что в Капштадте "Орел" должен получить телеграммы из Петербурга. А новости, как их ни таи, быстро просочатся на корабли...
Эскадра проходила проливом между Мадагаскаром и островом Сан-Мари. Пытливые взгляды с мостиков и палуб искали белопалубный пароход с красными крестами на трубах - "Орла" в Сан-Мари не было ни у причалов, ни на рейде.
С близкого расстояния горы уже не казались голубыми. На берегу мрачностенное, со сторожевыми будками здание тюрьмы, из которой, по рассказам бывалых моряков, еще никогда никому не удавалось убежать. Тюрьма напоминала о грубой и грустной действительности.
Угольщики, не мешкая, известили гудками о своем существовании. Начался аврал. Однако ни грохотание лебедок, ни груженые тачки, ни черные облака угольной пыли не смогли отвлечь матросов, когда на рейде появился "Орел". Все побросали работу и прильнули к бортам. От плавучего госпиталя отвалил паровой катер и заспешил к флагманскому броненосцу.
Первыми поняли, что случилось что-то непоправимо страшное, на броненосце "Суворов". Рожественского сотрясал приступ бешенства, он крушил у себя в каюте мебель. Флаг-офицеры боялись приблизиться к его двери.
К утру все экипажи знали: 1-я Тихоокеанская эскадра перестала существовать, корабли Порт-Артура потоплены.
Люди разом поникли, словно лопнул стержень, на котором держались. Значит, все? Значит, напрасны все усилия? Или сегодня ночью или завтра утром опять вытянется в колонну эскадра, чтобы продолжить свой каторжный путь к смерти?
Поступило неожиданное приказание: ремонтировать машины и механизмы.
Экипажи с радостным ожесточением приступили к ремонту. Снова вспыхнул огонек надежды: может быть, эскадра повернет домой?
Вечером радисты перехватили таинственные сигналы японцев. Накануне немецкие угольщики сообщили, будто в Мозамбикском проливе видели японские крейсеры. От самой Либавы по следам эскадры "плыли" всякие вздорные слухи. Но сейчас, после порт-артурской трагедии, после сигналов, перехваченных радистами, как было не поверить?
Комендоры стали к заряженным орудиям. Опустили противоминные сети. Прикрыли внешне огни.
Никто в эту ночь не ложился спать. Ждали.
Далеко-далеко показались восемь огней. Они медленно приближались, тусклые, колышущиеся, вдруг разрослись, поднялись вверх и опять словно скорчились.
Комендоры ждали команды. Адмирал медлил.
Разобрались утром: туземцы на своих пирогах выходили на ночной лов...
Команды жили порт-артурской катастрофой и думали о будущем: куда пойдут корабли?
Было известно, что немецкие угольщики наотрез отказались сопровождать эскадру на восток. Японцы угрожали угольщикам нападением.
Было известно и другое: в России срочно комплектуется 3-я Тихоокеанская эскадра под командованием контр-адмирала Небогатова.
На "Авроре", как и на других кораблях, в кают-компании и в кубриках были свои пророки. Они пытались предугадать, куда пойдет эскадра - домой или к японским островам. На любые доводы находились контрдоводы.
Как, мол, мы пойдем на японцев, если немецкие угольщики отказались доставлять топливо? Пока котлы не научились давать пар без угля. Разве что "сам" прикажет?!
Хотят там или не хотят (имелось в виду в Петербурге) - придется поворачивать оглобли.
Другие отметали этот довод: из любого положения можно найти выход. Что-нибудь там придумают. Иначе для чего комплектуют 3-ю Тихоокеанскую эскадру? Задумайтесь над названием: "Тихоокеанская".
В кают-компанию офицеры почти ежедневно привозили с берега иностранные газеты. Зарубежные комментаторы не ослабляли пристального внимания к судьбе эскадры Рожественского.
Иностранных пророков не замедлил прокомментировать лейтенант Дорн.
- Н-да-а, - протянул он. - Маршрут неясен, но конец уже ясен, господа.
Старший офицер Небольсин, как всегда при подобных разговорах, недовольно поморщился. Заметив его кислую мину, Дорн ехидно спросил:
- А вы как полагаете, Аркадий Константинович, каким маршрутом пойдет эскадра?
- Я вверяю себя судьбе и адмиралу.
В эту минуту в кают-компанию вошел вестовой старшего офицера с пачкой свежих иностранных газет и протянул их Небольсину. Когда вестовой получил разрешение уйти, его подозвал Дорн и поставил у карты.
Офицеры, догадываясь, что Дорн что-то затеял, ждали. Лейтенант, достав хорошо отточенный карандаш, провел острием сначала вдоль северных, потом вдоль южных берегов Суматры. Спросил:
- Как ты думаешь, милейший, какой дорогой проследуют наши корабли?
Вестовой заморгал, глядя на карту, напрягся, не понимая, чего от него хотят:
- Не могу знать, ваше благородие.
- Отвечай, не бойся, - настаивал Дорн. - Ну?! Матрос пожал плечами, упрямо повторил:
- Не могу знать, ваше благородие.
Осторожный вестовой, наверное, ничего не сказал бы, но, чувствуя, что настырный лейтенант так его не отпустит, опасливо поглядел на карту, на остров, похожий на головастика, дипломатично рассудил:
- Што туды плыть, што сюды. Не вмер Данила, так его болячка задавила.
- Ну вот, теперь ясно, - одобрил вестового Дорн. - Ступай, голубчик!
Побагровевший Небольсин сидел, уткнувшись в газету, и словно не видел и не слышал происходящего. Но, едва удалился вестовой, взяв не принятый в кают-компании официальный тон, старший офицер сказал:
- Спасибо, лейтенант, за цирк. Однако, господа, сейчас, кажется, не до цирка! - Он потряс перед собой какой-то французской газетой: - В Петербурге кровопролитие!
Офицеры сдвинулись к Небольсину. Он читал, делая долгие паузы, очевидно пытаясь разобраться, что же произошло в Петербурге. Было много непонятного: петиция царю, шествие рабочих с иконами и хоругвями. В газете назвали страшную цифру - 140 тысяч. Почему-то возглавил шествие поп. Какой-то Гапон. Странно. Расстрел рабочих, женщин, детей. Забастовки. Смута в Петербурге, в Москве, по всей России.
Небольсин отложил газету. Он не мог еще осознать масштабов случившегося, разложить все по полочкам, представить себе, как выстрелы на Дворцовой площади отзовутся здесь, у берегов Мадагаскара, но классовое чутье подсказало Небольсину главное: для кубриков это порох. А порох надо хранить в надежных помещениях...
- Рты на замок! - сказал старший офицер. - Чтоб ни слова не долетело до палубы!..
Пропеллер вентилятора вращался быстро, но струя воздуха была теплой. Она чуть заметно шевелила страницы дневника.
Егорьев, оставаясь заполночь наедине со своими мыслями, делал беглые записи в большой линованной тетради. "28 февраля. Снова печальная весть, что пал Мукден и мы отступили с большими потерями. Целый день прошел в обсуждении этого события, плохо верили в правдоподобность его. Тем не менее находимся в скептическом настроении относительно дальнейшего. Начинаем думать, что Владивосток может быть отрезан и тогда наша дальнейшая цель становится необъяснимой. Флот без базы - до сих пор неслыханное предприятие".
Тишина, объявшая крейсер, располагала к сосредоточенности и воспоминаниям. Рядом с дневником лежал альбом рисунков. Отточенные карандаши тоже ждали своего часа, но так и не дождались - не доходили руки.
У Евгения Романовича было несколько увлечений, которым он никогда не изменял, - фотография, рисование. Когда в Киле был построен большой военный транспорт "Океан" и Егорьев, став его командиром, вел корабль из Европы во Владивосток, сколько рисунков он сделал в своем альбоме, сколько снимков для купленного в Германии стереоскопа! Получился целый фильм. Он мог показать огромный итальянский остров, дымящуюся Этну, похожую на гигантский конус, арабов с корзинами фруктов, подымающихся по трапу "Океана" в Порт-Саиде, желтые берега Суэцкого канала, жителей Коломбо в белых чалмах, сидящих, скрестив ноги, на палубе, уходящие в сопки дома Владивостока...
Острый интерес к жизни, к быту и укладу неведомых людей и народностей никогда не покидал Егорьева. Вот и сейчас, в Носси-Бе, он видел крокодильи яйца, издающие звуки, что означало: скоро родится новый злодей в зеленом панцире с удлиненной мордой и сплющенным телом. У сакалава с мускулистым, как у античных скульптур, торсом, он купил расписной глиняный сосуд и шляпу, сплетенную из травы, так искусно сплетенную, что ею хотелось любоваться. Пахла она сухими стеблями!
Рядом с травяной шляпой лежал белый пробковый шлем для защиты от солнечных лучей. Готовя эскадру в поход через тропики, Адмиралтейство, конечно, о таких "пустяках", как шлемы, не позаботилось. Первой жертвой оказался лейтенант Нелидов с броненосца "Ослябя". Врачи спасти его не смогли, и тело лейтенанта в брезентовом мешке спустили в море...
После похорон Нелидова встревоженные офицеры купили пробковые шлемы. Любая лавка в колониальном порту торговала ими. У матросов для этого не было денег. Да и на берег их увольняли редко, чаще в местах полупустынных.
Зная, что обеспечить шлемами команду не может, Егорьев по-прежнему ходил в форменной фуражке, страдал от солнечных ожогов и на реплику Небольсина "Не щадите вы себя, Евгений Романович" кивнул на палубу, где матросы занимались приборкой:
- А кто их пощадит?
Кадровый морской офицер, Егорьев не был отравлен кастовым пренебрежением к "людям кубрика", в нем жило здоровое нравственное начало, и глухая стена, отделявшая матросов от кают-компании, давила всей тяжестью и на него. Впрочем, в эти дни слишком многое давило и угнетало каперанга.
Взять хотя бы практические стрельбы и приказы-разносы Рожественского. Не надо быть адмиралом - зеленый гардемарин понимает, что мастера рождает упражнение, тренировка, что метко может стрелять тот, кто этому упорно учится. За четыре месяца комендоры лишь дважды выходили на стрельбы, оба раза здесь, у Мадагаскара. На каждого пришлось от силы по два-три снаряда.
Чего же удивляться, что на щитах - ни царапинки?! А флагманский броненосец "Суворов" вместо щита всадил снаряд в крейсер "Дмитрий Донской", повредил мостик и вывел из строя десять матросов...
Один столичный профессор справедливо иронизировал над теми, кто хотел обучить инженер-механиков флота управлять машинами и котлами, не разводя паров, стоя на якоре, экономя уголь и смазку. Так и тут: стоять у пушки это еще не стрелять из пушки!..
А чего стоят эти ночные "минные атаки" катеров без "минных атак"!
Эх, что бы сказал о них Степан Осипович Макаров!..
Макаров был кумиром Егорьева. Евгений Романович знал этого могучего человека, хорошо помнил его распушенную, раздвоенную клиньями бороду, его пытливые глаза, всегда озарявшиеся мыслью, ценил его постоянное стремление к ломке устоявшегося, тормозящего прогресс. Весь склад его жизни, его поиски, открытия и дерзания были близки Егорьеву.
Шутка ли - двадцатидвухлетний мичман "Русалки" изобрел пластырь для заделки пробоин, и сотни терпящих бедствие судов обрели живучесть!
Двадцатидевятилетний Макаров темной ночью 1877 года во время войны с Турцией спустил с парохода "Константин" четыре минных катера, которые взорвали мощный турецкий броненосец "Ассари Шевкет"!
Тогда атаки минных катеров ошеломляли. Это было ново, внезапно, смело до отчаянности - так побеждают в сражениях.
Теперь, спустя почти тридцать лет, когда появились миноносцы разных классов, вооруженные торпедными аппаратами, кого испугаешь маломощными минными катерами?!
Вентилятор монотонно вращался, рассекая воздух, время текло тягуче, стрелка ползла по круглому циферблату так медленно, словно она огибала не циферблат, а земной шар.
В каюте, обрамленная деревянной рамкой, стояла единственная фотография: Евгений Романович с сыном Всеволодом, совсем еще юным мичманом, не по возрасту серьезным: в двадцать хочется выглядеть старше своих лет.
Снимок был сделан во Владивостоке, на берегу залива, за спинами видны темные сопки. Фотография таит скрытую печаль: во-первых, потому, что сделана перед разлукой, перед отъездом Егорьева в Петербург; во-вторых, кажется, что они одни на всем божьем свете - это ощущение усиливают пустынные сопки.
Собственно, так оно и было. Егорьев овдовел рано - его жена Анна, нежно хранимая в памяти, умерла в тридцать пять лет; старшая дочь Саша двадцатилетней трагически ушла из жизни, и Евгений Романович остался со Всеволодом. Теперь их разделяли долгие мили, на пути к их встрече были японские броненосцы, крейсеры, эсминцы, подводные лодки, свинцовые волны и слепые туманы, скрывавшие плавающую смерть - мины.
И все-таки искорка надежды, что встреча состоится, неистребимо жила в Егорьеве. Он был не только многоопытным моряком - он неплохо разбирался в явных и тайных пружинах большой политики, и, когда немецкие угольщики отказались сопровождать эскадру на восток, Евгений Романович не сомневался: Вильгельм заставит их сопровождать эскадру. Уж очень хочется ему, чтобы русский флот завяз на востоке.
Конечно, сдача Порт-Артура, гибель 1-й Тихоокеанской эскадры почти неотвратимо обрекала на гибель 2-ю эскадру. Первая была обстрелянной, более сильной и опиралась на укрепленную базу.
Однако сомнений не было: там, в Адмиралтействе, не подчинятся простейшей логике, тому, что видно всем и каждому, не убедят в этом государя и отзывать эскадру домой не станут.
На сей счет Евгений Романович никаких иллюзий не питал. По законам логики неподготовленную эскадру устаревших, разнотипных кораблей к японским островам не послали бы.
Наконец, если б двухмесячная задержка флота у берегов Мадагаскара предшествовала возвращению домой, то зачем же формировать 3-ю Тихоокеанскую эскадру? Егорьев, узнав состав эскадры контр-адмирала Небогатова, только вздохнул. Броненосцы береговой обороны, которые шли на помощь Рожественскому, моряки окрестили кратко:
- Самотопы.
...Молоденький мичман смотрел с фотографической карточки. Чтобы встретиться с ним, оставалось пересечь Индийский океан, победить у берегов Японии могущественный флот адмирала Того и прийти во Владивосток...
В бухте Носси-Бе броненосец "Орел" стоял к "Авроре" ближе других броненосцев. И когда с "Орла" грянул пушечный выстрел, матросы, высыпавшие на правую палубу, увидели на фок-мачте броненосца гюйс - красный флаг с врезанными в него синими и белыми крестами, словно впившимися в живое тело.
Пушечный выстрел и гюйс означали: начинается суд особой комиссии.
Гюйс в безветрии не колыхался. Матросы, облепившие палубу, образовали у лееров сплошную стену. Синие воротники форменных рубах слились в единую полосу. В эту синеву чужеродно вклинился белый офицерский китель.
- Опять драконы когти выпустили!
Возглас замер в тишине. Белый китель метнулся вправо. Слова долетели оттуда. Матросы не шелохнулись. Одинаковые рубахи. Одинаковые воротники. И молчание. Зловещее и объединяющее.
Призыв Небольсина "Рты на замок" не помог. В кубрики и на палубы проникли слухи о Кровавом воскресенье, как проникает вода в рассохшуюся лодку. То ли их принесли всеслышащие вестовые, то ли кто-то из матросов разобрался в сообщениях иностранных газет, да мало ли как тайное становится явным! Матросы собирались кучками, перешептывались, на лицах появилось плохо скрываемое ожесточение.
Кондукторы, боцманы и унтеры почуяли, что матросы сжались, как пружина перед ударом.
На "Авроре" не было прямого повода для вспышки. На других судах случаи неповиновения участились, и как следствие - гюйс на фок-мачте броненосца, заседание суда особой комиссии, а он уж пришьет так пришьет - позвенишь кандалами на каторге...
Рожественский, доносили вестовые, рвет и мечет: грозился смутьянов на необитаемые острова высадить, непокорных перестрелять.
- Он может, - шептались матросы. - Если царь в Петербурге среди бела дня стрелял...
- А мы не с хоругвями пойдем{4}!..
3 марта 1905 года эскадра покинула Носси-Бе и после долгого плавания и томительного ожидания в бухте Ван-Фонг 26 апреля вышла навстречу кораблям Небогатова. В открытом море, неподалеку от Ван-Фонга, было назначено рандеву.
Корабли шли быстро, бурунили воду, широкий простор вскипал белопенными полосами, а трубы выбрасывали кудлатые хвосты дыма. Они постепенно редели, светлели, истаивали в воздухе. Все остальное, не занятое эскадрой пространство составляли сияющее небо и сияющее море. Впервые, кажется, и небо, и море, и люди были одинаково праздничны.
Крейсерский отряд - "Олег", "Аврора" и "Дмитрий Донской" - шел в арьергарде, с мостика вся эскадра открывалась взору Егорьева. Смешанное чувство радости и печали владело каперангом. Эта нарастающая скорость, словно в предчувствии встречи соотечественников, эти пенные буруны и этот железный строй кораблей - все радовало; но на дне души не рассасывался давний и прочный, уже затвердевший осадок печали.
Когда наконец показались дымки небогатовских кораблей, когда прорисовались очертания далеких броненосцев, реальных, быстро приближающихся, со взметенными мачтами, что-то ёкнуло в сердце Егорьева, электрическим током кольнуло каждого, кто стоял на палубе.
Эскадры сближались. На небогатовских броненосцах были длинные черные трубы, четко и резко видимые на расстоянии (Егорьев вздохнул: "Специально для японских комендоров!"); корабли были низкобортные, едва не зачерпывали воду.
И опять свет и тень сошлись в душе Егорьева... Разве виноваты броненосцы береговой обороны - тот же "Адмирал Сенявин" или "Адмирал Ушаков", предназначенные для действий в узкостях Финского залива, что их отправили в океанский поход и что им придется вести эскадренный бой, бой для них бесперспективный?!
Воздух разорвал орудийный салют. Гулкое эхо покатилось по морскому простору.
Пушки тоже умеют стрелять по-разному: рычаще, оглушающе, заставляя сжиматься, замирать, ощущая тошноту и липкий пот страха; они же умеют торжественно и громогласно нести людскую радость.
В этот день орудийные салюты несли радость. На флагманском броненосце спеша, как на парад, запестрели флажки: "Добро пожаловать!"
Тысячеустое "Ура!" понеслось от палубы к палубе, от корабля к кораблю, и это было не формальное "Ура!", которое исторгается лишь потому, что так положено; это был настоящий шквал, лавина человеческого единодушия, когда десять - двенадцать тысяч "а-а-а" сливаются в долгий и мощный гул.
Вечером на кораблях огласили приказ командующего.
Приказ № 229 зачитал перед командой старший офицер Небольсин. Преисполненный достоинства, читал он громко, ясно, не спеша, не впадая в ложный пафос.
Фразу "Силы эскадры не только уравнялись с неприятельскими, но и приобрели некоторый перевес" Аркадий Константинович произнес как ни в чем не бывало. При этом офицеры Алексей Лосев и Юрий Старк молчаливо переглянулись, а комендор Аким Кривоносов захлебнулся глухим кашлем.
Небольсин невольно оторвался от листков, боцман угрожающе выпучил на Кривоносова глаза.
Чтение возобновилось.
Егорьев ничем не выдавал своего отношения к приказу, строго смотрел прямо перед собой. Между тем перед глазами его была необычная сцена, увиденная всей эскадрой: контр-адмирал Небогатое - грузный, не по возрасту располневший - резво поднялся по трапу "Суворова". Рожественский шагнул ему навстречу, обнял, расцеловал. Это потребовало, очевидно, от Рожественского некоторого усилия воли: одутловатое лицо контр-адмирала, безупречно выбритое по случаю встречи, рдело влажными пятнами.
Лобызание получилось натужное, искусственное - они приложились друг к другу, как прикладываются к холодному лбу покойника.
Те, кто стоял поближе, слышали, наверное, как у наклоненных адмиралов звякнули ордена и медали, а Егорьев подумал о том, что теперь на эскадре четыре адмирала и ни один из них в боевой обстановке эскадрой не командовал.
Вообще приказ, нарочито мажорный, не ободрял. За парадной чешуей слов стояли факты. Не час и не два просидел в каюте Егорьева старший артиллерийский офицер Лосев. Оба хорошо знали японский флот. Подсчитали: против наших 9 потрепанных миноносцев японцы могут выставить более 60. Ежеминутно стволы противника будут выпускать более 53 тысяч фунтов металла, мы - менее 20 тысяч...
Завершая чтение приказа, Небольсин все-таки не устоял перед соблазном усилить голос, придать ему должную торжественность, и слова "Господь укрепит десницу нашу" прозвучали особенно зычно. Вся команда - 570 человек - молчаливо внимала старшему офицеру. На господа, вопреки стараниям отца Георгия, уповали немногие. Поэтому и акцент, сделанный Небольсиным, не достиг цели. Матросам была ближе и понятнее пословица: "На бога надейся, а сам не плошай", тем более что до бога - далеко, а до японцев - рукой подать.
Каждый час, каждая минута неумолимо приближали эскадру к противнику. На кораблях всех - от трюмного до командующего - объединяло одно: ожидание. Кочегары у жарких топок и котлов, машинисты в грохоте машин ждали: не придет ли сверху сигнал, не плывут ли на горизонте зловещие дымки вражеской эскадры. Комендоры прислушивались, с минуты на минуту ожидая тревоги. Сигнальщики с фок-мачт напряженно вглядывались: не мелькнет ли перископ, не качнет ли волна грузное тело плавучей мины.
Днем нетерпеливо ожидали вечера, его наплывающих сумерек, вечером ждали густого мрака ночи, ночью с неизменной тревогой ждали минных атак эсминцев...
Все как манны небесной ждали туманов, заволакивающих своим белым молоком океан. Под таким надежным укрытием можно пройти под носом противника и взять курс на Владивосток...
Небогатовские корабли доставили наконец эскадре долгожданную почту. На "Аврору" привезли несколько брезентовых мешков драгоценного груза.
Письма были семимесячной давности - за октябрь 1904 года. Писарь, запуская руку в мешок, вынимал конверт и выкликал фамилию. Нетерпеливо застывшая толпа матросов вдруг поняла, что многие письма попали на "Аврору" но нелепому недоразумению - одни адресовались на корабли, погибшие в Порт-Артуре, другие предназначались команде броненосца "Андрей Первозванный", который еще строился. Тут уж не поскупились матросы на слова, поминая и бога, и родственников в третьем колене, и, конечно, Главный морской штаб!
И все-таки многим эти брезентовые мешки принесли вести с родины. Кто-то даже нюхал конверт, уверяя:
- Пахнет, братцы! Ей-бо, пахнет!
12 мая от эскадры отделились шесть транспортов. В бою этот "обоз" был бы обузой. На одном из транспортов увозили ответные письма авроровцев на родину.
Серая хмурь ненастного утра быстро поглотила "Ярославль", "Ливонию"... Последним скрылся тихоходный "Метеор", названный так по иронии судьбы. Пенный след накрыли мутные волны.
Сникшие матросы взглядами проводили транспорты. Многие письма были написаны как завещания. Кое-кто, затая тревогу, писал о второстепенном, третьестепенном - о диковинных пальмах, кокосовых орехах, ручном крокодиле Того. Нашлись и такие, которые просили родственников писать во Владивосток...
Отправив письма, почувствовали: прошлое ушло, уплыло, ниточки, связывающие с домом, словно оборвались, скрылись вместе с коммой "Метеора", исчезнувшего в дождевой мути пасмурного дня. Оставалось одно - готовиться к бою.
Егорьев решил прежде всего очистить крейсер от легковоспламеняющегося дерева. История морских баталий изобиловала случаями, когда корабли были сначала сожжены, а потом уже потоплены.
Адмирал упорно отвергал просьбы капитана I ранга и не разрешал выбросить за борт лишнее дерево. Егорьев, понимая, что сражение разгорится со дня на день, махнул рукой - этого индюка любые предложения бесят - и стал действовать на свой страх и риск. Расчет был прост: если победим победителей не судят, если нас победят - не с кого будет спрашивать, а может, и некому.
Сначала за борт полетели деревянные курятники. Птицей заполнили рефрижераторы. Потом, как выразился командир, "покончили с мирным бытом": выбросили тюфяки, столы и стулья.
На палубе принялись обдирать внутреннюю деревянную обшивку борта. Древесина трещала и стонала, ее выламывали ломами, крушили топорами. Снизу, из чрева корабля, выволакивали горы хлама: ящики из-под консервов, подвесные шкапики, некоторые матросы жертвовали самодельными деревенскими чемоданами - сундучками, с которыми когда-то надеялись вернуться домой.
Покончив с деревом, соорудили защитные траверсы возле орудий: в подвешенные стальные сети минного заграждения ставили ряды коек. Вырастала надежная стена от града осколков.
Старший судовой врач Владимир Семенович Кравченко открыл на "Авроре" "медицинскую академию": учил матросов делать перевязки, пользоваться эластичным жгутом, чтобы останавливать кровь. Для жгутов использовали резину от сетей минного заграждения.
На палубах разместили четырнадцать пар носилок, сумки с готовыми повязками.
Взглянув на приготовления медиков, Яковлев, молодой мичман, спросил у судового врача:
- Владимир Семенович, если оторвет ногу, протез для меня найдете?
Матросы, слышавшие эту шутку, притихли. Старший фельдшер, молчаливый и старательный Уллас, поднял глаза на Кравченко: что, мол, тут скажешь?
- Ну-ну! - погрозил Кравченко мичману пальцем и строго добавил: - Не ищите мне работу!
13 мая 1905 года в 6 часов вечера с флагманского броненосца просигналили: "Завтра с рассветом иметь пары для полного хода".
Перегруженные корабли тяжело зарывались в воду. Жилые помещения, палубы, все площадки, даже рундуки были забиты углем. На "Суворов" при водоизмещении в 13,5 тысячи погрузили 15 тысяч тонн.
Из-за сильной осадки броненосцев надводные минные аппараты стали "подводными". Это означало: эскадра лишилась 70 минных аппаратов.
На "Апраксине", "Наварине", "Ушакове" и "Сенявине" - на многострадальных "самотопах" - башенные орудия при сильной волне хлебали воду.
Надвигалась ночь. Топовые огни выключили. Офицеры, светя потайными фонариками, осторожно пробирались по палубе, разговаривали вполголоса, будто противник мог не только увидеть, но и услышать.
Комендоры прилегли у заряженных орудий. Плеск волн и привычные удары винта не успокаивали, чудилось, будто они заглушают какие-то далекие звуки. В ушах тревожно звенело от долгого напряжения.
Перед "Авророй" простиралось объятое тьмой море, а за кормой, чуть в стороне, светились неоправданно яркие огни госпитальных судов "Орла" и "Костромы" с красными крестами на гафеле.
- Плывут как на парад.
Было слышно, как сказавший это сплюнул.
Два плавучих светящихся острова раздвигали мрак вызывающе и дразняще. А сверху нависала густая чернь ночи. Лишь в одном месте прорезал ее тонкий кривой серпик месяца.
В телеграфной рубке нервно стучал аппарат. На ленте плясали загадочные знаки - японские разведчики переговаривались. Первым обнаружил русскую эскадру вспомогательный крейсер "Синано-Мару".
"Синано-Мару" в 2 часа 45 минут ночи на 14 мая, находясь в сорока милях на W 1/2 румба к N от Сираса и идя на N, вдруг заметил по левому борту огни парохода, идущего на Ost. При сближении увидел, что на грот-мачте этого судна подняты белый - красный - белый огни. В то время месяц как раз был на востоке, и так как пароход находится на Ost от "Синано-Мару", то наблюдать за ним ему было неудобно. Командир "Синано-Мару" капитан I ранга Нарикава увеличил скорость и, обойдя пароход с кормы, вышел у него по правому борту. В 4 часа 30 минут, подойдя к нему, рассмотрел, что судно имеет три мачты и две трубы и по типу совершенно походит на находящийся в составе русской эскадры вспомогательный крейсер "Днепр"{5}.
Командир "Авроры" утром 14 мая записал в дневнике: "Рассветает рано, признаки рассвета уже в 4 часа. Немного погодя осмотрели не совсем ясный горизонт, ничего не открыв; продолжаем идти 9-узловым ходом.
Около 6 часов утра "Нахимов" доносит, что на горизонте с правой стороны видит неприятельское судно. Через полчаса госпиталь "Кострома", идущий сзади, доносит, что видит четыре неприятельских судна. Итак, японцы напали на наш след сзади и справа и стараются распознать расположение наших судов, но решительного пока ничего не предпринимают.
В 8 часов утра и с "Авроры" на правом траверзе замечен силуэт двухмачтового двухтрубного японца в расстоянии до 92 кабельтовых..."
На этом оборвалась последняя дневниковая запись Евгения Романовича Егорьева.
Пелена тумана раздвигалась, как рваный клочковатый занавес. Ветер уносил обрывки дымчато-серой завесы. Все шире открывался простор взбудораженного волнами Цусимского пролива.
- Они!
Японскую эскадру увидели одновременно на многих кораблях. Не надо было и биноклей, хотя бинокли многократно приблизили противника. Он шел встречным курсом, шел быстро, словно боялся опоздать. На флагманском броненосце "Микаса" бился флаг адмирала Хейхачиро Того.
"Микаса" был ровесником "Авроры" - его спустили на воду в 1900 году. Егорьев задержал бинокль на этом мощном флагмане. Адмирал Того сейчас, наверно, рассматривал русские корабли. Капитан I ранга не раз видел портреты широкоскулого, с по-восточному узкими, буравящими глазами адмирала, вот уже восемь лет командующего эскадрой.
"Сейчас начнется!"
Егорьев не произнес эти слова, они возникли в глубине его сознания, и он словно услышал их.
Противник неудержимо приближался. Того поднял на флагмане сигнал: "Судьба империи зависит от этого боя. Пусть каждый приложит все свои силы".
Егорьев спустился с мостика на палубу. Священник, отец Георгий, торопливо кропил орудия святой водой. Командир, сняв фуражку, шел от группы к группе матросов:
- Встретим свой час достойно! Не посрамим честь свою!
Непокрытая голова, обнажаемая военными лишь в особых случаях, как бы свидетельствовала, что сейчас он наступил, этот особый случай: "Не посрамим честь свою!"
На палубах не было ни суеты, ни тревоги. Все уже отболело, улеглось, и теперь спокойная решимость, готовность ко всему отразились на лицах.
- Не посрамим! - громко ответил комендор Аким Кривоносов и кивнул на орудие: - Попотчуем японца!
Егорьев, не задерживаясь, направился от юта к себе, в носовую часть корабля. На пути, прислоненные к световому люку, лежали носилки для раненых. Рядом стояли ведра с водой на случай пожара. На ведра пошли железные банки из-под машинного масла.
До начала сражения оставались считанные минуты. Молчание сближающихся броненосцев становилось тягостным. Выстрел "Суворова" наконец оборвал молчание. Началось Цусимское сражение!
Сначала "Микаса" на огонь "Суворова" и поддержавших его кораблей отвечал один. По всплескам снарядов флагман вел пристрелку. Пристрелявшись, флагман подал команду другим броненосцам. Сразу вода забурлила, один за другим взметнулись фонтаны из белой кипени брызг, черного дыма и рыжего пламени.
Еще не было попаданий, но уже было ясно, что японцы применили снаряды нового типа, которые взрываются от прикосновения к воде и выбрасывают клубы удушливого, дурманящего дыма.
Скоро весь пролив клокотал смертоносными фонтанами. Они взметались выше корабельных мачт, рассыпались и снова взметались вверх. Эти фонтаны сжимали кольцо вокруг "Суворова". Слева, справа, перед носом, за кормой вырастали белые водяные столбы.
Орудийные стволы изрыгали пламя. Гул нарастал, но даже он не заглушал зловещее шипение воздуха, рассекаемоего снарядами.
На "Суворове" вспыхнули пожары. Из-за дыма невозможно было разглядеть, что горит и насколько это опасно. Пока бой вели броненосцы, крейсерский отряд охранял транспорты. Задача прорваться во Владивосток оставалась в силе.
В 2 часа 25 минут показались крейсеры противника. Они, вероятно, скрывались в дымке острова Коцусима, а теперь на предельной скорости устремились к нашим транспортам, чтобы атаковать их.
"Олег" и "Аврора", чья скорость достигала 23 и 20 узлов и не уступала в скорости японским крейсерам "Читосе", "Кассуге", "Нийтаке", устремились им наперерез.
В десяти кабельтовых от "Авроры" тонул броненосец "Ослябя". Дым и пламя пожирали коробку обезображенного, оставшегося без труб, без башен, без мачт, корабля. Люди - как-никак в команде девятьсот душ! - не успели отплыть от броненосца. Когда стальная громада канула в воду, образовалась гигантская воронка. Она клокотала. Плывущих швырнуло в прожорливый зев этой воронки, и они бессильно завертелись в стремительном, бешеном круговороте.
Матросы "Осляби" гибли на глазах. Им на помощь бросились юркие миноносцы "Бравый" и "Быстрый". "Аврора" прошла чуть в стороне - у правого борта уже взметнулись фонтаны воды. Вражеские снаряды ложились все ближе и ближе.
Большая скорость, умелое маневрирование русских крейсеров мешали японцам пристреляться. Но неожиданно положение осложнилось: неведомо откуда появились "Мацусима", "Ицукусима", "Нанива", "Хасидате", "Сума", "Идзуми".
Теперь японцы наседали на "Олега" и "Аврору" с двух сторон. Два против девяти! Однако численное превосходство противника не остановило крейсеры. Это отметили в своих донесениях японцы: "...около 2 часов 50 минут, заметив появление наших 3-го и 4-го боевых отрядов, "Олег" и "Аврора" пошли на них и начали бой..."
"...около 3 часов судно типа "Аврора" вышло из строя и кинулось на нас..."
Корпус "Авроры" вздрогнул от мощного толчка. В борт ударил снаряд восьмидюймового орудия с "Кассуги". Одновременно на шкафуте - между фок-мачтой и грот-мачтой - пополз по палубе огонь, жадно выбрасывая вверх свои острые, жгучие языки; удушливый дым стлался низко, почти не рассеиваясь. Несколько матросов из пожарного дивизиона, бросившихся с ведрами к огню, отступили - душил кашель, спазмы. Наконец кто-то направил на пламя шланг. Упругий, вздрагивающий, точно живой, шланг ударил тугой струей по палубе. Огонь зашипел, заволакивая шкафут дымом.
Бой разгорался, и было непонятно, как видят и слышат люди в этой кутерьме, в этом грохоте. Между тем "Аврора" маневрировала и не снижала скорости, и огненные всполохи вырывались из стволов ее пушек. И странным показался в суматохе неожиданный, отчаянно прорвавшийся сквозь грохот крик:
- Командир! Командир!
У тех, кто услышал этот крик, первая мысль была заставить замолчать безумца, очевидно контуженного, зовущего в горячке не санитара, а командира крейсера. Но уже через минуту, увидев носилки, сопровождаемые кем-то из офицеров, догадались: да, он. Но что с ним? Убит? Тяжело ранен?
Из дневника судового врача В. С. Кравченко: "В 3 часа 20 минут на носилках был принесен командир крейсера капитан I ранга Е. Р. Егорьев. На его лице играла обычная, слегка насмешливая улыбка. Я тщетно окликнул его: "Евгений Романович!"
Пока санитары перекладывали его на операционный стол, я успел убедиться в отсутствии пульса. Дыхательные движения груди были очень слабы, лицо быстро покрывалось синевой. На голове в области теменных костей виднелось отверстие входной раны, был виден мозг. При исследовании окружности раны под неизмененной кожей на большом протяжении мягко ощупывались осколки черепных костей. Я не стал подробно рассматривать сильно развороченное выходное отверстие на затылке и приказал закрыть рану повязкой. Положение раненого было безнадежно.
В операционной при каждом сотрясении крейсера мигали люстры, подвешенные на шкертах. Запах крови, хлороформа, йода, влажных бинтов заглушал запах гари, жженой одежды, которую разрезали и тут же бросали под операционный стол. Выносить было некогда. Раненые продолжали поступать. Кого приносили, кто приползал, кто ковылял как мог. Многие, получив помощь, возвращались к товарищам, которые вели бой".
Из дневника судового врача В. С. Кравченко (продолжение): "На операционный стол был положен мичман Яковлев: у него оказались две тяжелые рваные раны на левой голени: висели оборванные нервы, сухожилия; кости чудом остались целы. Молодой мичман вел себя молодцом.
...Какой-то матросик принес ко мне на перевязочный пункт оторванную половину черепа (лицо) своего убитого товарища, спрашивая, что с ним делать. Это заметно произвело на всех тяжелое впечатление.
...Я не помню точно часа, кажется между 4 и 5, но был момент, когда вдруг весь перевязочный пункт сразу наполнился грудою стонавших и вздрагивающих тел, среди которых человек семь было принесено уже скончавшимися или смертельно раненными. Тут уж пришлось перевязывать всем, не только фельдшерам и санитарам, но и остальным моим помощникам, перевязывать прямо на палубе".
Израненные, истекали кровью, умирали люди; израненные, с зияющими пробоинами, захлебываясь в потоках хлынувшей воды, задыхаясь в чаду гибельных пожаров, умирали корабли.
На "Суворове" горела штурманская рубка, как шалаш, сложенный из сухих веток. Пламя яростно выпрыгивало из окон, рвалось из тесноты. Какие-то взрывы на палубе - и без того черной, как пепелище, - выбросили вверх клубы дыма, окутавшие корабль сплошной завесой. Казалось, что флагману пришел конец, но, едва приблизились к нему "Ниссин" и "Кассуга", из дымной пелены брызнуло пламя выстрелов. Плавучий пылающий остров остервенело огрызался, не хотел умирать.
Миноносец "Буйный", скользнувший мимо "Авроры", просигналил: "Раненый адмирал и штаб эскадры на борту миноносца".
Побоище продолжалось. Попытки японцев оттеснить "Олега" и "Аврору" к острову Коцусима, где их, очевидно накрыл бы огонь фортов, успеха не имели. Русские крейсеры продолжали маневрировать, уклоняясь то влево, то вправо, развивая предельную скорость, стопоря машины; они, как близнецы, держались рядом, выручая друг друга.
С "Олега" тревожно засемафорили: "Мина!"
Авроровцы проглядели опасность. Хищное стальное тело стремительно приближалось. Дали полный вперед. Мина шла на корабль.
Стоявшие на левом борту, наверное, успели прошептать слова прощания, замерли в роковом ожидании. Волна, рожденная предельной скоростью крейсера, отбросила мину, и она, качнувшись, прошла, не задев судна.
В другой раз что-то случилось с "Олегом". "Аврора" прикрыла собой крейсер, пока "Олег" не справился с повреждениями.
В сухопутном сражении людей укрывает земля. В морском сражении укрыться негде. Задраенные отсеки, если в пробоину хлынет вода или ворвется пожар, становятся могилой. Каждая минута боя чревата опасностью. Море не укроет, не спасет оно поглотит и матроса, и офицера, и адмирала, и смертельно израненный корабль.
Море слабых не любит!
Японский снаряд, как бритвой, рассек бронированный кабель электрического управления рулем. "Аврора" беспомощно завертелась. Без движения, без маневра, под огнем девяти крейсеров - гибель, неминуемый конец.
Минный электрик Андрей Подлесный бросился в боевую рубку. В лицо пахнуло гарью и жаром. Рваные края кабеля врезались в руки. Он застонал от боли. Кровь брызнула на кабель. Но в такие секунды себя забывают. Спасти корабль! Спасти корабль!
Секунда, другая. Тело крейсера вздрогнуло, крейсер рванулся вперед, вновь обретя управление. А Подлесный, выбежав на палубу, увидел мертвого матроса. Он лежал, раскинув руки. Из разорванного шланга хлестала вода, шевеля волосы убитого, как водоросли.
Рядом горел стальной борт корабля. Это казалось невероятным, это казалось галлюцинацией. Конечно, горела не сталь, горела краска, но в такое мгновение задумываться некогда. Подлесный схватил шланг и направил струю на огонь.
Горела не только сталь - на рострах горели шлюпки. Это тоже было непонятно: Подлесный помнил, что перед боем все шлюпки по приказу командира наполнили водой.
Иссеченные осколками, шлюпки давно выпустили воду и медленно умирали на рострах, пожираемые пламенем.
На палубе, испещренной выбоинами от снарядов, красной от крови, валялся обрубок пупырчато-зеленого тела. Фугасный снаряд разорвал крокодила Того в клочья: осталась часть туловища с выпирающим позвоночником и голова. Обреченно смотрел одиноко выпученный глаз...
А жизнь продолжалась. Возле кормовой мачты гремели элеваторы, подавая снаряды. Орудия устало ухали, кожух ствола откатывался и, возвращаясь на место, ненадолго замирал, чтобы снова выдохнуть огонь и смерть.
Внизу, в кочегарке, ставшей во время боя "тылом", - так, возможно, думали наверху, - как всегда, было жарко. Вентиляторы качали не воздух, а дым.
В носовую кочегарку ударил снаряд. Мгновенно помещение наполнилось газом. Кочегар Егорченко, задыхаясь, рухнул на пол.
Осколки повредили трубу, ободрали обшивку, и люди неизбежно сварились бы, если б не стремительные действия Малышевича.
Младший инженер-механик Чеслав Федорович Малышевич слыл молчуном и увальнем, любил часами копаться в механизмах, не проронив ни слова. А тут откуда что взялось - команды четкие, быстрые. Обошлось без жертв. Лишь тошнота подступила к горлу у кочегаров - то ли от пережитого, то ли наглотались газов, которые взметались при разрывах японских снарядов...
Попадания вражеских снарядов в "Аврору" участились.
Из дневника матроса Андрея Подлесного: "В правом борту, под правым катером, 75-мм снаряд сделал пробоину в 2 кв. фута и не разорвался. Снаряд был немедленно выброшен за борт комендором Кривоносовым.
В то же место попал фугасный снаряд, сделавший пробоину в борту в 20 кв. футов. Совершенно выведено из строя 75-мм орудие. Причем убито 3 человека. Взрывом разбросало вблизи лежащие патроны. Причем одна горящая пачка была сброшена в погреб. Но тотчас была потушена хозяином погреба матросом первой статьи Тимиревым".
Из дневника судового врача В. С. Кравченко: "Уже загорелся и грозил взорваться другой ящик с патронами; тяжело раненный в руки и ноги, Борисов ползком до него добрался и вытолкнул за борт.
Перед тем Борисов стоял часовым под флагом. Его ранило, а винтовку вырвало из рук и превратило в нечто неузнаваемое: от деревянных частей винтовки остались только жалкие щепы, а дуло, замок были частью пробиты, частью изогнуты спирально, дугообразно, так что ружье и узнать было нельзя.
Наш широкий новешенький кормовой флаг, весь превращенный в лохмотья, сбиваемый в течение боя шесть раз, теперь снова лежал на палубе, и подоспевший лейтенант Старк тотчас же скомандовал своим резким металлическим голосом: "На флаг! Флаг поднять!"
Но теперь это не так-то легко было сделать: все концы были оборваны, и флаг на гафеле пришлось поднять по-иному (на эренсталях).
Туда под огнем полез боцман Козлов. Остервенело сражались артиллеристы носового орудия. Когда японский снаряд разорвался на полубаке, у правого входного трапа, взрывом всех разбросало. Устоял на ногах лишь лейтенант Дорн. Он огляделся: уцелел комендор Жолноркевич; Дмитриенко забинтовывал голову, явно не собираясь уходить к врачу; тяжелораненый Зиндеев уже тащил снаряд, чтобы зарядить орудие. Бездымный порох выбросило из патронов взрывной волной. Он неярко горел, разметанный по палубе.
- Орудие - к бою! - надтреснуто-хриплым голосом скомандовал Дорн.
Сражение продолжалось...
"Бородино", опрокинувшийся вверх килем, уже не казался грозным броненосцем, вооруженным почти шестьюдесятью орудиями. Его днище, покрытое ракушками, скорее напоминало днище огромной старой баржи, отжившей свой век.
Мощный корабль - настоящий бронированный город с сотнями людей на борту - ушел в пучину Цусимского пролива. Вода сомкнулась над ним, над гигантской братской могилой
Из 900 человек экипажа эскадренного броненосца "Бородино" только одному матросу суждено было остаться в живых. Вырвался из подводной могилы матрос Семен Ющин. "
Гибель броненосца - последнее, что видели в тот день, 14 мая, авроровцы. Смерть флагманского корабля, покинутого адмиралом и его штабом, истерзанного, беспомощного, с одной уцелевшей пушкой, с командой, брошенной на произвол судьбы, увидеть не довелось. Его потопили вражеские миноносцы. Японцы в своем донесении запечатлели последние минуты жизни броненосца "Суворов": "Этот корабль, весь обгоревший и еще горящий, перенесший столько нападений, расстреливавшийся всей (в точном смысле этого слова) эскадрой, имевший только одну случайно уцелевшую пушку в кормовой части, все же открыл из нее огонь, выказывая решимость защищаться до последнего момента своего существования, пока плавает на поверхности воды!.."
С наступлением сумерек часть японских крейсеров вышли из боя. "Кассуга", "Мацусима" и "Нанива" уходили зализывать раны, устранять тяжелые повреждения. Не только крейсерские отряды, но и главные силы японского флота оттянулись на ночь к своим берегам на отдых. Адмирал Того полагал: русским вряд ли отбиться от ночных минных атак многочисленных эсминцев. Кто уцелел днем, погибнет ночью!
Последний сигнал, поданный с миноносца "Безупречный" и принятый уцелевшими кораблями русской эскадры, был краток: "Адмирал Рожественский передает командование адмиралу Небогатову. Идти во Владивосток".
Сигнал этот поступил слишком поздно. Основные броненосцы, способные вести эскадренный бой, уже покоились на дне Цусимского пролива. 2-я Тихоокеанская эскадра как единый боевой организм перестала существовать.
Там, где серела длинная полоса горизонта, показались многочисленные черные точки. Они росли, приближались, казалось, что весь пролив заполнен японскими миноносцами, что нет им числа и никуда от них не укрыться.
Русские корабли - каждый на свой страх и риск, а иногда и небольшими группами - ушли в ночь. Волею случайных обстоятельств "Аврора" оказалась вместе с крейсерами "Олег" и "Жемчуг". "Аврора" и ее соседи шли с погашенными огнями, развивая максимальную скорость, которая подымала крутые буруны, отбрасывающие мины.
Мрак таил неожиданности. Сигнальщики крейсера увидели совсем близко пенные всплески неизвестного судна, которое шло на "Аврору". Столкновение было почти неминуемым, но две трубы, увиденные в последнюю минуту, когда корабли разделяли два кабельтова, сразу все разъяснили: это не миноносец!
"Аврора" и "Мономах" разошлись контркурсами так близко друг от друга, что впору было достать соседа рукой...
Перемещаясь по заливу, крейсеры натолкнулись на длинную цепочку огней. Они слепо мерцали в ночи, перечеркнув огненным пунктиром водный простор. Уж слишком точно огоньки отстояли один от другого! Уж слишком очевидной
представлялась уловка японцев увести русские корабли от огней на мины, в заготовленную ловушку...
Крейсеры, не сбавляя скорости, пересекли загадочную цепочку фальш-огней...
За ночь в "Аврору" было выпущено семнадцать вражеских мин, но попаданий не было.
Когда тающие сумерки, слизывая звезды, расступились, сбавили ход. Погони не было. Заработали помпы, выкачивая воду из затопленных отсеков. Изрешеченные осколками трубы "Авроры" выпускали дым не только вверх, как обычно, - темные струи вырывались и по бокам.
На палубу вышли несколько машинистов и кочегаров и с трудом узнали свой обгорелый, в зияющих пробоинах корабль. Да и сами они были в мазуте, в угольной пыли, в густой копоти, чумазые, как призраки-полуночники.
Машиниста Богаевского - он провел возле машин бессменно двадцать восемь часов - качало от крайней вымотанности.
Возле шестидюймового орудия, испещренного осколочными зазубринами, сидели артиллеристы Дмитриенко и Зиндеев. У Дмитриенко была перевязана голова, у Зиндеева - левая рука и шея. Зиндеев заметил, что к стволу пушки прилип клок человеческого мяса вместе с лоскутом тельняшки. Дмитриенко проследил за взглядом товарища, глухо сказал:
- Все, что от Акима осталось. Нет больше Кривоносова...
- Многих нет, - угрюмо добавил дальномерщик Храбрых, который и сам чудом уцелел. Взрывная волна выбросила его за борт. Ухватившись за штаг, Храбрых висел за бортом, чувствуя, что силы его покидают и смерть в клокочущей бездне неизбежна. Однако судьбы людские неисповедимы. Сильный толчок, накренивший "Аврору", бросил обреченного не в пучину, а на палубу. Сигнальщик отделался ушибом...
Лишь утром подобрали всех погибших. "Один из убитых нижних чинов был найден без головы, рук и ног, у другого в груди была гильза"{6}. Всего погибло пятнадцать человек. Выбыло из строя раненых более восьмидесяти.
Цусимское побоище было позади. Впереди была неизвестность.
В Южно-Китайском море хоронили Евгения Романовича Егорьева. Отец Георгий раскачивал благовонное кадило. Приспущенные флаги не шевелились. Ветра не было.
Застопорили машины. По наклонным доскам плавно спустили в воду запаянный цинковый гроб.
Командир корабля, отдавший сорок лет морю, погрузился в него, чтобы остаться в его глубинах навсегда. Море было его судьбой, его жизнью; море принесло ему смерть, приняло в свою пучину.
"Аврора" отсалютовала семью выстрелами. На палубу вышли офицеры и матросы: Андрей Подлесный с забинтованными руками, раненые артиллеристы Зиндеев и Дмитриенко, дальномерщик Храбрых, осунувшийся и постаревший за минувшие сутки лейтенант Дорн, судовой врач Владимир Кравченко, оставивший ненадолго перевязочную, капитан II ранга Небольсин с повязкой на голове, понурый, с запавшими глазами и ожогом на лице младший инженер-механик Малышевич. Скорбно стоял и контр-адмирал Энквист, безвольно поникший, с невидящими, застывшими глазами.
15 мая контр-адмирал перенес свой флаг с "Олега" на "Аврору", так как "Аврора" после сражения оказалась в лучшем состоянии. Вместе с Энквистом перешел на крейсер и его штаб.
Адмирал ничего не знал о судьбе других уцелевших кораблей. После долгих колебаний, понимая, что прорваться во Владивосток шансов мало, Энквист повел свой отряд из трех крейсеров к Филиппинским островам. О двух из них в донесении адмирала Того говорилось:
"Во время боя "Олег" и "Аврора" находились в сфере огня наших 3-й и 4-й эскадр, и на них начался пожар. Возможно, что эти суда спаслись, но, во всяком случае, они надолго потеряли свою боеспособность".
Утверждение японского адмирала было близко к истине. Ведя бой с противником, пятикратно превосходящим по численности, оба крейсера получили тяжелые повреждения. На "Олеге" пять отделений наполнились водой. Изранена была и "Аврора".
Командир "Олега" считал, что крейсеры чудом не затонули. Ведь бортовой брони у них не было, а тонкая броневая палуба - велика ли защита?!
О таких кораблях говорили: "Руки в перчатках, а тело голое".
Словом, после Цусимской баталии корабли не смогли бы выдержать серьезного боя. Это сознавали, пожалуй, все: от скромного трюмного до честолюбивого Энквиста. Успокаивала надежда: а какой, собственно, может быть бой в нейтральных водах? До Манилы оставалось не более ста миль.
И вдруг впереди увидели дымки. Один... Три... Пять...
Ударили боевую тревогу: взревели горны, покатилась барабанная дробь. Матросы - раненные, изможденные от напряжения, от пережитого - заняли свои места по расписанию. Понимали: этот бой будет последним.
Но им не суждено было погибнуть. Броненосцы и крейсеры оказались американскими. 21 мая 1905 года "Аврора", "Олег" и "Жемчуг" вошли в Манилу.
Послесловие к цусимской трагедии
Кто мог подумать, что Манила - тропический рай со стройными стволами бамбуковых деревьев и щедроплодными бананами - для русских матросов станет тюрьмой. Американские власти разоружили крейсеры. Без разрешения их адмирала ни один матрос не имел права уволиться на берег.
"Посадили нас в клетку", - говорили на "Авроре".
Сюда, в Манилу, пришли и черные вести о судьбе 2-й Тихоокеанской эскадры. Рожественский со своим штабом, покинув флагманский броненосец, спасался на миноносце "Буйный", потом на миноносце "Бедовый" и сдался японцам. Пушки "Бедового" были позорно зачехлены.
Контр-адмирал Небогатов "вместо андреевского флага поднял простыню". Так зло и горько говорили об адмиральской капитуляции. Иной была участь русских кораблей, не запятнавших своей чести.
Миноносец "Быстрый" взорвал себя, но не сдался врагу. "Дмитрий Донской" обрек себя на смерть у берегов острова Дажелет - команда затопила крейсер, но не покорилась, не спустила боевого флага. Броненосец "Адмирал Ушаков" сражался до последней возможности; когда эти возможности были исчерпаны, командир приказал открыть кингстоны.
Командовал броненосцем брат мужественного ученого и путешественника капитан I ранга Владимир Николаевич Миклухо-Маклай. Он покинул борт "Ушакова" последним, раненный, поддерживаемый матросами, плыл, пока хватало сил, и предпочел плену смерть в водах Цусимского пролива.
Крейсер "Светлана" достойно сражался и достойно погиб, открыв кингстоны. Сотни матросов спасались в воде. Японский крейсер "Отава", мстя непокорным, не только не взял на борт терпящих бедствие, но и прошел в гуще плывущих, разрывая в клочья винтами беспомощных и безоружных людей.
Дни смятения и траура пришли на "Аврору". Беспримерным по своим тяготам был поход через три океана. Чудовищным оказался финал этого похода. И вопрос, дремавший, затаенно тлевший в душах матросов, вдруг встал во весь рост, разъедая, тревожа, будоража: во имя чего, во имя кого эта кровь, все эти муки?..
Контр-адмирал Энквист на кораблях почти не появлялся. До войны он был градоначальником Николаева и здесь, в Маниле, легко и охотно сменил зыбкую волну в бухте на твердую землю в городе.
Офицеры тоже все чаще отлучались на берег, влекомые прохладительными и горячительными напитками в отелях и ресторанах с массивными стенами, с закрытыми жалюзи, защищающими от жары и солнца, с домашними ящерицами, уничтожающими комаров и москитов.
Некоторые офицеры увлеклись петушиными боями.
Цирк обычно колыхался и ревел от восторга: петухи сшибались, жестоко клевали друг друга, загрубелыми шпорами рвали перья, забивали соперников насмерть.
Кровавая потеха пусть ненадолго, но отвлекала русских офицеров от пережитого, от давящих раздумий.
А команды кораблей оставались в своем заточении. Харчи становились все хуже, пучились бочки со зловонной солониной. В муке копошились разжиревшие черви.
Окольными путями проникали новости с родины. Кое-что узнали от рабочих и мастеровых, ремонтировавших "Аврору". Сведения были неясные, сбивчивые, отрывочные: в России - смута, в России - волнения. Обстановка в кубриках накалялась. Искрой, которая привела к взрыву, оказалась почта. Писем из дому ждали, как задыхающийся ждет кислорода. Наконец прибыл катер с заветными брезентовыми мешками. Матросы отовсюду потянулись на палубу. Почта, отнесенная в каюту Небольсина, задерживалась. Глухой ропот перекатывался по палубе:
- Заснул, что ли?
- Очки потерял?
- Чего тянет? Эй, писарь, толкнись в дверь, подай голос! И вдруг весть: Небольсин рвет "неугодные" письма, вестовой относит их в кочегарку. Палуба дрогнула:
- Сюда Дракона! За борт!
Небольсин вышел на крики. Голова его еще была обвязана белоснежным бинтом, хотя легкая, касательная, рана вполне затянулась.
- Что там?! - раздраженно бросил кавторанг и осекся.
На лицах, в глазах, в позах матросов застыла та ярость, которая ничего не боится и на все способна. Небольсин скорее почувствовал, чем понял, что малейший неверный жест или шаг приведут к беде; он почувствовал, ощутил всей своей кожей, по которой пробежал нервный озноб, что власть его и власть таких, как он, поколеблена, размыта кровью цусимского позора и никакой окрик, никакой револьвер не удержит, не остановит эту толпу.
И вместо обычного, оглушающе-властного "Замолчать!" Небольсин приказал писарю:
- Раздать почту!..
С того дня "Аврора" превратилась в пороховой погреб. Уже отозвали с крейсера Небольсина, уже назначили нового командира - капитана I ранга Барща, уже подписали мир с Японией, корабли тронулись из Манилы в обратный путь, на родину, но на "Авроре" обстановка оставалась накаленной.
Из Ла-Манша командир крейсера послал в Петербург телеграмму: "Получены сведения от французской сыскной полиции: команды русских военных кораблей в Алжире и Шербурге закупили большое количество револьверов. Так как обыски на корабле не дают результатов, желательно внезапно осмотреть вещи команды при отправлении ее в экипаж в Либаве. № 9. Барщ"...
"Аврора" приближалась к родным берегам. Матросы еще не знали, что экипаж корабля ждет "особая" встреча: одних срочно демобилизуют, других разбросают по разным судам, третьи попадут под надзор полиции; они еще не знали, что в декабре в Москве, на Пресне, выросли баррикады и рабочие дали бой царизму, что в деревнях пылают помещичьи усадьбы и всюду, где есть заводские трубы, клокочут стачки; они еще не прочли вещие слова в рабочей газете: "Самодержавие именно по-авантюристски бросило народ в нелепую и позорную войну. Оно стоит теперь перед заслуженным концом. Война вскрыла все его язвы, обнаружила всю его гнилость, показала полную разъединенность его с народом..."{7}.
"Аврора" приближалась к родным берегам. Пытаясь заглянуть в завтрашний день, никто, конечно, не ведал о том, что этому крейсеру суждено участвовать в иных событиях, иного масштаба, что само имя его - "Аврора" "свет утренней зари" - обретет новый смысл на всех морях и океанах, на всех континентах...
"Аврора" идет к Зимнему
Поднялась волна революции. Смело ринулась она на темную, мрачную скалу, одним ударом обрушила она ее подмытые, расшатанные устои.
Отступает она на миг и снова с еще большей силой набрасывается на скученные, нагроможденные обломки, размывает и сносит их в морские глубины.
И не упадет, не успокоится волна, но будет расти, вбирая в себя новые силы, пока не довершит свое дело, дело правды.
Большевистская газета "Волна", 1917
Мелкий, надоедливый снег порошил с утра. Временами, нарушая его ленивое кружение, налетали порывы морозного ветра. Тысячи колючих белых крупинок проносились над Невой, скрывая по-зимнему неясные ее очертания.
Часовой, переминаясь у трапа с ноги на ногу, досадливо сетовал: почему не бьют склянки? Не спят ли там, на "Авроре"?
Время словно остановилось. Громада крейсера, стоящего у стенки Франко-русского завода, казалась покинутой. Ничто не выдавало признаков жизни. Борт с ржавыми, рыжими пятнами, с облупившейся краской, палуба без труб, комья неубранного снега на корабельных надстройках подчеркивали эту безжизненность.
Еще недавно на корабле был в разгаре ремонт. Сверла с яростным жужжанием вгрызались в металл, на палубе гремели железные листы, сновали матросы и рабочие. Теперь все вымерло. Лишь густой хвост грязновато-серого дыма медленно тянулся в небо. Человек посторонний не догадался бы, откуда берется этот дым, но часовой знал, что там, по другую сторону крейсера, стоит старая калоша с промасленной и черной от угля палубой пароход-отопитель. Его подогнали к "Авроре" на время ремонта.
Вымер и Франко-русский завод. Его трубы, простертые в низкое зимнее небо, не дымили третий день. Не дышат. Баста!
Из заводских ворот с самого утра не вышел ни один рабочий. Часовой, притопывая на морозе, иногда поглядывал на высокие и массивные ворота, у которых появились солдаты в серых папахах. Пока с ними был офицер, они чинно стояли на своем посту. Но офицеру, очевидно, надоело мерзнуть, и он удалился под крышу. Солдаты сбились в кучу, о чем-то оживленно переговариваясь.
Время тянулось и тянулось. Солдаты уже побелели от снега.
Час или два назад по трапу прошел мичман Поленов. Он возвращался из города. Мичман шел торопливо, погруженный в свои мысли, оставляя на трапе отчетливую цепочку тяжелых шагов. Следы постепенно завьюжило, сгладило. Сколько же прошло времени?
Морозные крупинки по-прежнему плясали перед глазами, ноги словно ступали по скрипучему, битому стеклу. И вдруг томительное однообразие разорвал лязг железных задвижек: заколыхались высокие ворота, пропуская взвод солдат. Офицер что-то быстро и запальчиво прокричал им. От взвода отделились человек десять. Впереди, придерживая шашку, побежал фельдфебель, за ним - солдаты, и через несколько мгновений исчезли в снежной кутерьме, взвихренной порывом ветра.
В кают-компании мичман Поленов отхлебывал круто заваренный чай и рассказывал офицерам о событиях в Петрограде. Улицы запружены народом. Ни проехать, ни пройти. Хоть на аэростате подымайся.
Чеслав Федорович Малышевич, инженер-механик, человек невозмутимый, равнодушный к политике, всецело отдавшийся ремонту крейсера, удивлялся: "А чего народ желает?"
Винтер, старший артиллерист, пытался выяснить, что видел мичман Поленов, что слышал.
Поленов рассказал: дома у них воду запасают - ванна полная. По телефону непрерывно звонки от знакомых: "Что нового?" Все чего-то ждут. Слухи - только рот открывай пошире: войска вызваны, градоначальник полицию пулеметами вооружает. На Невском, где всегда праздная публика жуировала, сейчас рабочая масса затопила проспект, как в половодье. И гул несется: "Леба-а-а, леба-а-а". Хлеба требуют. Голод людей вывел на улицы.
Гардемарин Соколов со строгим, суженным к подбородку лицом если высказывался, то неизменно касался самой сути событий:
- Шутка ли, миллионы мужчин в окопах. Крестьянин в поле не пашет... Вот и остались без хлеба. Довоевались! Разве вы не видели, господа, что весь Питер очередями опоясан? А сколько хлебных лавок, как штормом, смыло? Разнесли их в щепки, в пух и прах. Голод не тетка!
Винтер поинтересовался:
- А полиция, жандармы, гарнизон индифферентны?
- Не индифферентны. Городовые теперь в одиночку не ходят, - сказал Поленов, - мосты оцеплены, на фанерных щитах предупреждения: "Назад! Переходить запрещено!" Хотели, видно, центр оградить от рабочих окраин, да где там! Если на мосту заслон, рабочие по льду Невы через каналы идут. На льду, на снегу дороги протоптаны.
- Не всякую пробоину на корабле пластырем задраишь, - пояснил он, - а тут море хлынуло.
Разговор снова и снова возвращался к вопросу, с кем войска. И хотя Поленов вскользь помянул: солдаты от полиции особняком держатся, разговоры с толпой ведут, Винтер настойчиво добивался бесспорного и точного ответа, на чьей стороне гарнизон.
В кают-компании помолчали, раздумывая над вопросом Винтера, догадываясь об его опасениях: не повторилось бы в Петрограде 9 Января.
- Не похоже, - усомнился Поленов. - Тогда с хоругвями шли, с просьбами. Теперь требуют. И, знаете, какое слово у всех на языке? "Долой!" Над всеми толпами, как пароль, - "Долой!"
Кого "Долой!" - не спросили. Даже Малышевич не спросил. И Поленов не уточнял. Притихли. Лев Андреевич отхлебнул остывший чай, отодвинул стакан, достал из кармана газету.
Все сдвинулись к Поленову. Перед ним лежало "Новое время" за 25 февраля 1917 года.
Первая страница пестрела объявлениями. Они приглашали на панихиду "по в бозе почившем императоре Александре III", уведомляли о бенефисе А. А. Мирновой в пьесе Потапенко "Про любовь", сообщали о кончине тайного советника Владимира Лукича Попова. Словом, все было обычно, нигде и намека на события, охватившие Петроград.
Вторая страница открывалась призывом: "Жертвуйте на красное яичко солдату к пасхе". Чуть ниже с полосы смотрели две полуобнаженные женщины: одна - лицом к читателю, другая - спиной. Подпись под рисунком объясняла пикантные позы женщин:
"Примерьте полученные по последним моделям от нашего Парижского дома элегантные корсеты, полукорсеты, пояса, бюстодержатели..."
Лишь на четвертой странице офицеры отыскали небольшую заметку, напечатанную мелким шрифтом и перекликавшуюся с событиями дня. В ней цитировались речи ораторов Государственной думы. Ораторы размышляли: почему, если есть в Петрограде мука, нет в булочных хлеба?
Председатель Совета министров князь Н. Д. Голицын, председатель Государственной думы М. В. Родзянко, петроградский городской голова П. И. Лелянов утешали общественность: "...имеются достаточные запасы пшеничной муки в количестве 460 тысяч пудов... подвоз муки в Петроград идет удовлетворительным порядком..."
- Ничего не понимаю, господа, - признался Малышевич. - Если есть хлеб, то почему его не продают? Если его нет, то зачем лгать?
Разговор офицеров внезапно оборвался: в кают-компанию вошли Никольский и Огранович.
Командир крейсера капитан I ранга Михаил Ильич Никольский остановился у стола и обвел офицеров взглядом. Статный, с горделиво откинутой головой, с взметенными кверху дугами усов, он никогда не смотрел в глаза подчиненным, смотрел мимо них, всем видом показывая свое пренебрежение.
Старший офицер Огранович - маленький, с тонкой, жилистой шеей - до стола не дошел. Между командиром и им всегда сохранялась небольшая дистанция. Он как бы сам ставил себя на второй план. Боднув воздух клинышком рыжей бородки, старший офицер впился взглядом в мичмана Поленова. На корабле знали: глаза Ограновича буквально буравят, и первым он никогда взгляд не отводит...
Было ясно, что Никольский и Огранович пришли сообщить что-то важное. К сожалению, никто не научился читать мысли командира. Его льдистые глаза ничего не выражали: ни тревоги, ни гнева, ни колебаний. В них господствовал холод, "вечная мерзлота", как определил один из офицеров, когда Никольский впервые появился на корабле. Выходец из дворянской элиты, связанный тесными нитями с сильными мира сего, он давно усвоил, что эти связи с лихвой заменяют любые служебные достоинства. Тех, кто был хоть ступенькой ниже его, он попросту не замечал. Команда платила ему почти единодушной неприязнью.
Матросы, прозвавшие Никольского Драконом, ненавидели его за мелочные придирки, за барские пинки и взыскания; матросы буквально проскакивали верхнюю палубу, если по службе приходилось туда подыматься, чтобы не встретиться с каперангом.
Офицеры постоянно чувствовали высокомерие командира: он ни с кем не советовался, держался обособленно, попрекал дозволенным и недозволенным. Аргумент у него был один: "Мне это не по нраву!"
Однажды в кают-компании, заметив, что гардемарин Соколов углубился в морские рассказы Станюковича, он вслух выразил свое неудовольствие:
- Я не советую вам, Павел Павлович, читать эти художества.
- Вкусы иногда не совпадают, Михаил Ильич, - заметил Соколов.
- На моем крейсере и вкусы должны совпадать! - негромко, но с раздраженной властностью ответил Никольский.
Он так выделил интонацией слова "моем" и "совпадать", что Соколов пожалел: стоило ли рассуждать о "вкусах"?
Огранович, пожалуй, оказался единственным человеком, который с усердием шел в "фарватере" командира. Правда, о нем говорили, что его линия всегда совпадала и будет совпадать с линией тех, кто имеет право ему приказывать.
Словом, внезапное появление в кают-компании командира и старшего офицера не предвещало ничего хорошего. Так оно и случилось.
- Вы слишком расслабились, господа офицеры, - сказал Никольский. - А время и обстановка требуют собрать нашу волю в кулак!
Он медленно свел пальцы в кулак и подержал перед собою, чуть покачивая этот холеный, белый кулак с небольшим, еще свежим рубцом. Рубец остался от неудачной зуботычины, которую дал каперанг своему вестовому.
Упрекнув офицеров в расслабленности (командир в иных случаях смягчал таким образом более определенное слово - "разболтанность" ), он попытался нарисовать общую картину. Суть его речи сводилась к следующему.
В Петрограде - смута, затеянная немецкими шпионами и взбунтовавшейся толпой. Водворение порядка - дело одного-двух дней. Ему, Никольскому, поручено контролировать положение в районе Франко-русского завода. Силы: экипажи крейсера и царской яхты "Штандарт" (она стояла на ремонте рядом с "Авророй") и приданный пехотный батальон. Батальон уже "запломбировал", как выразился каперанг, все заводские входы и выходы.
- Вам надлежит, - он милостиво взглянул на офицеров, - усилить наблюдение за командой и получить револьверы. Револьверы получить немедленно, - подчеркнул Никольский и, повернув вполоборота голову к Ограновичу, добавил: - А вам...
Старший офицер не дал командиру закончить фразу, мотнул в знак безусловного согласия клинышком бородки, отчеканил:
- Будет исполнено, Михаил Ильич!
Пока часовой у входного трапа прислушивался к непривычной тишине, пока в кают-компании Никольский вразумлял офицеров, матросские кубрики кипели страстями:
- Почему нас, как кротов, вниз загнали?
- Братцы, а винтовки из пирамиды - тю-тю - в артпогреб спрятали!
- А эта шкура Диденко совсем озверел.
- Шкуру с него содрать - и за борт!
- Ордин, что ли, лучше? Тоже шкура!
- И его туда же!
Приказ не выходить из кубриков взбудоражил команду. Смельчаки, дерзнув пробраться на палубу и разведать, что делается на белом свете, исхлестанные цепью боцманской дудки, скатывались по трапу в кубрик.
Диденко, главный боцман с маленькими, злыми глазками хорька, был тяжел на руку. Ударит - иной на ногах не удержится, юшкой умоется.
- Ну як, соленая? Море тоже соленое.
Кондуктор Ордин - огромный и неуклюжий, как орангутанг, - бил всегда кулаком, целился в межглазье...
Палубы опустели. Придерживая рясу, корабельный священник Любомудров{8} осторожно спускался по трапу. Сколько ни служил он на корабле, так и не приноровился: ряса путалась в ногах, того и гляди, не ухватишься за поручень - загремишь по железным ступенькам. Да и толку-то от хождения? Матросы обозленные - им не божье слово, а розги нужны!
Заглянул в кубрик к машинистам. Головы, как одна, повернулись, глазами спрашивают: мол, чего надо? Видно, разговор прервал. Николай Лукичев запоздало ударил по струнам гитары, тихо запел: "Что шумишь, качаясь..."
"Спохватился!" - злорадно отметил Любомудров, не любивший Лукичева за вызывающе-дерзкий взгляд, за гитару, спутницу легкомыслия и неверия, как полагал батюшка. И еще ему не понравилось, что рядом с Лукичевым - этим затаенным безбожником - примостился белорус Иван Васютович, нравом мягкий и податливый матрос.
- Здравствуйте, чада мои! Не скучаете? - Любомудров обычно тянул сладенько, вымучив улыбку, обнажавшую золотые зубы. Тянуть тянул, а глаза бегали: отчего это в кубрик к машинистам унтер-офицер Курков пожаловал? Как тут плотник Липатов оказался?
- В наши дни не заскучаешь, батюшка, - ответил машинист Белышев.
Белышев невысок, с виду смирный, и ответ вроде бы не грубый, но какой-то скрытый смысл уловил священник в слове "не заскучаешь". Он вздохнул глубоко, ряса заколыхалась. И пока священник внушал матросам, будто дни наши, как единокровные близнецы, друг на друга ликом схожи, ему навстречу шагнул Сергей Бабин, лихой пересмешник и сердцеед, заводила и красавец с правильными и точеными чертами лица, с небольшими усиками, с неугасающей лукавинкой в глазах.
- Любишь ли ты, батюшка, Пушкина?
Батюшка замялся, однако, подумав, сказал:
- Я святые писания больше жалую.
- А я сказочки жалую, - ответил весело Бабин. - Вот послушай: с первого щелка прыгнул поп до потолка...
- Не богохульствуй! - зло прервал его Любомудров. - Побойся божьей кары!
- Вот она, божья кара, уже получил, - посуровел Бабин. - Полюбуйся!
Его правую щеку заливал кровавый подтек - след, оставленный кулаком Ордина.
Проследив, куда удалился священник, Сергей Бабин вернулся к своим:
- Наместник бога, кажется, потопал к Дракону...
Николай Лукичев снова ударил по струнам. Сперва звучала только мелодия - грустная-грустная, потом он вполголоса запел горестную, рожденную, наверное, в дальних плаваниях, в матросских кубриках или машинных отсеках, выстраданную песню:
Трупы блуждают в морской ширине,
Волны несут их зеленые,
Связаны руки локтями к спине,
Лица покрыты мешками солеными.
В сером тумане кайма берегов
Низкой грядою рисуется,
Там над водою красуется
Царский дворец Петергоф.
Где же ты, царь?
Покажись, выходи
К нам из-под крепкой охраны!
Видишь, какие кровавые раны
В каждой зияют груди?
Лукичеву тихо подпевали, и, чем тише были голоса, тем скорбнее было на душе, тем замкнутее становились лица. Когда замолчали, матрос Федор Кассихин сказал:
- Все в этой песне правда, братцы.
Кассихин часто захаживал к машинистам, с Андреем Златогорским водил дружбу. Откуда-то он приносил то прокламации, то запрещенные газеты, подолгу толковал с Курковым, который догадывался, что Кассихин связан в городе с большевиками и сам, пожалуй, большевик.
- Правда это, - подтвердил Кассихин. - Нашего брата матроса с девятьсот шестого по шестнадцатый около двух тысяч осудили, а сто восемьдесят трех казнили...
По трапу кто-то спускался. Шаги приближались. Лукичев затянул:
Трупы блуждают в морской ширине,
Волны несут их зеленые...
Мелодия, как на волнах, раскачивала грустные слова...
Любомудров зачастил к машинистам не удовольствия ради. Не очень-то он любил подметать рясой крутые трапы. "Чует церковный пес, где сало спрятано", - говорили машинисты.
Для усердия батюшки оснований было более чем достаточно. Еще в ноябре 1916 года, едва "Аврора" ошвартовалась у причальной стенки Франко-русского завода, машинистов направили в мастерские и цеха для участия в ремонтных работах. Все они были люди умелые - до флота кто слесарничал, кто токарничал, дело знали. Никольский поручил священнику: "Пригляди, отец, чтоб с завода на крейсер крамолу не занесли".
И Любомудров приглядывал: то в кубрик наведается, то на полубак у фитиля, где матросы курили, внезапно, как из-под земли, возникнет, то беседу заведет издалека - о житье-бытье, о войне, о доме.
Сколько ни старался священник, все тщетно: о войне и доме говорили с ним уклончиво. Бабин прибаутками сыпал: мол, где прикорнем, там и дом... Кондукторы и по матросским рундукам шарили, но и там ничего крамольного не нашли.
А машинисты тем временем привыкали к заводу, к его огромным цехам, где ухали, вздыхали и клацали прессы, грузно проплывали тележки с болванками, в грохоте, гомоне, визге, жужжании и стуке неслось время, склонялись люди над револьверными станками, обтачивая стаканы будущих снарядов. Завод поставлял фронту "смерть" и ремонтировал корабли.
Состав рабочих был неоднородный. Костяк, конечно, составляли пролетарии, которых держали в жесткой узде: их объявили военнообязанными. Отказ от работы означал отправку на фронт.
Пришли к станкам женщины, подростки; норовили пристроиться на военном заводе, уклоняясь от фронта, ремесленники, мелкие лавочники. Рабочими профессиями они не владели. Пока учились, их держали на скромных ролях подсобников - поднять да бросить. Из этого пополнения настоящих токарей и слесарей вышло мало, зато вчерашние лавочники смотрели в рот мастерам, угодничали, наушничали.
За обточку снарядных стаканов платили девять копеек. Квалифицированный токарь за смену - от семи до семи, от темна до темна - давал восемьдесят таких стаканов. К концу смены рабочего качало от изнеможения. Поташнивало от голода. Никто не переговаривался. Обреченно склонялись над станками сутулые, молчаливые фигуры. Лишь иногда вполголоса заводили унылую, монотонную песню:
Между Пряжкой, Невой
Стоит Бердов завод,
Он и грохот, и вой
Целый день издает.
Песня была тягучая, однообразная, как жизнь на Франко-русском заводе, и завершалась она скорбной строкой: "В целом - ад и тюрьма". Сочинил ее когда-то рабочий{9}, она прижилась, Николай Лукичев разучил ее и порою напевал в кубрике под аккомпанемент своей гитары.
Харчевались в цехе скудно, впроголодь. Насмотрелись авроровцы: гудит гудок, перерыв на обед, а рабочим спешить некуда. Ни котомок с домашней снедью, ни самодельных котелков, как до войны бывало. Кто развернет белую тряпочку, вынет картофелину, кто медленно жует тощую корочку, чтоб растянуть удовольствие.
Мастера тиранили придирками, душили штрафами, разве что кулакам воли не давали, а так - под стать боцману Диденко или кондуктору Ордину.
- Шкуры - они везде шкуры, - подытожил виденное Сергей Бабин.
- Мы эту Америку давно открыли, - сказал Петр Курков. - Неужто они вечно у нас вот здесь сидеть будут?! - И он похлопал себя по шее.
Унтер-офицера Куркова поставили старшим в группе машинистов, посланных на завод. Рыбу пустили в воду!
Еще до флота Петр прошел хорошую школу: сначала - подручным у отца, сельского кузнеца на Рязанщине, потом - слесарем, котельщиком, масленщиком в пароходстве на Оке. Уж он-то знал, почем фунт рабочего хлеба!
Цепкий взгляд, волевые, сомкнутые губы Куркова выдавали натуру решительную и бескомпромиссную.
Курков говорил:
- Если видишь заводскую трубу, значит, встретишь своего брата рабочего. А где рабочие - там и социалисты.
- Где же они, социалисты твои? - не терпелось Бабину.
- Где-то рядом, встретим, - отвечал Александр Белышев, внешне очень спокойный, собранный, на редкость выдержанный.
"Где-то рядом" - это подмечал, чувствовал не только Белышев. Не было дня, чтобы с ними не заводил разговоры о войне Георгий Ефимович Ляхин. Голос у него был хрипловатый, простуженный, из спецовки выглядывал высокий ворот свитера домашней вязки. Близоруко поглядывая сквозь очки, он рассказывал:
- Опять из окопов недобрые вести. У Сазоновой мужа убили. Знаете Сазонову? Вон за тем станком стоит. Невеселая такая, в синей кофте.
- Кому война, кому мать родна, - незаметно включался в разговор другой рабочий - Павел Леонтьевич Пахомов. - Наши хозяева не жалуются.
Коротко остриженный, большеглазый Пахомов проницательно смотрел в глаза матросам, как бы спрашивая: "А вы что об этом думаете?.."
Все чаще в ящиках у станков рабочие находили прокламации. Кто их принес, разложил, когда?
Перед сменой раздавалось два гудка: один - прерывистый, предупредительный, второй - густой, басовитый, требовательный. Первый оповещал, что до начала работы осталось пять минут, он заставал рабочих у проходных ворот; басовитый как бы повелевал: включайте станки, день начат!
Очевидно, кто-то приходил с первым гудком и успевал разложить прокламации.
Приметили авроровцы одного рабочего - степенного, с глубоко сидящими внимательными глазами, со щеткой коротких седых усов. Он появлялся в новомеханическом цехе на первый взгляд по делу, брал с тележки болванки, делал какие-то замеры и мимоходом непременно подходил то к Куркову, то к Белышеву, то к Бабину перекинуться словечком.
- Ну что, флот, бросил якорь? И как вам в нашей гавани? Думаете, штиль? Или ждете бури?
- Бурю ждем, старина.
- Что ж, поплывем вместе.
В этом мимолетном, шуточном, ни к чему не обязывающем разговоре улавливалась недосказанность, был будоражащий намек: "Ждете бурю?", "Поплывем вместе..."
Однажды, когда авроровцы после смены возвращались на корабль, за воротами к ним присоединился кто-то из рабочих. Было мглисто, редкие фонари почти не освещали дорогу. Шли молча. Спутник поднес к цигарке зажигалку, и огонек осветил кустистые брови, глубоко утопленные глаза, знакомую щетку белых усов.
- Узнаете? - спросил рабочий. - Нам, кажется, по пути. Теперь они были не на виду у всего цеха, а одни, в сумраке зимнего вечера. Спутник завел разговор о том, что на заводе не мед и дома не слаще. Топить нечем. Есть нечего. Война, говорят.
- А вам, - поинтересовался он, - из дому пишут? Может, где лучше живется?
Куда уж лучше! У Белышева брата на фронте убили. Жена его с детьми мыкается. Он медяки им свои посылает. На медяки шею не наешь.
Слово за слово - беседа завязалась, рабочий невзначай поинтересовался настроением команды, порядками на крейсере. Посоветовал: мол, если что приходите, потолкуем, помозгуем сообща. Надо кончать войну, а чтобы кончить, - надо прикончить ее зачинщиков. Заварится каша - давайте вместе держаться.
- А скоро? - выжидательно остановился Курков. Остановились и остальные.
- По всему видно - скоро, - ответил рабочий.
Авроровцы и сами чувствовали, что дело идет к развязке. Голод, безысходность сделали рабочих смелее, злее, непокорнее, иные накалились до отчаяния - не хватало искры для взрыва. Хозяйские лизоблюды - мастера своим собачьим чутьем уловили: обстановка меняется, присмирели, стали осторожнее.
Лишь старший мастер Степин - прихлебай самого директора Шарлантье - не унимался, злобствовал, рукам волю давал.
Пришла как-то работница за расчетом и за пособием. С нею несчастье случилось. Задремала, стоя у станка, на мгновение ресницы смежились, ей палец на станке отхватило.
В цехе знали: мужа ее на фронт угнали, мать еле ноги переставляет, от голода пухнет, и сама работница на тень похожа. Ночью в очереди у дверей хлебной лавки мается, а к семи утра - в смену. Вот и задремала.
- Сука бесстыжая, - заорал на нее Степин. - Дрыхнешь у станка, жалованье тебе подавай! Вот тебе жалованье! И ткнул в лицо работнице кукиш.
- Слыхали?! - пронзительно закричала одна из работниц, и авроровцы увидели, как пять, десять, пятнадцать человек, оставив станки, окружили мастера.
- По местам! - рыкнул Степин, опасливо озираясь, но кто-то накинул на него мешок из-под угля.
Пока он голосил, его спеленали канатом, дюжий мастеровой подкатил тачку, и под всеобщее улюлюканье и ликование старшего мастера повезли на свалку железного лома.
А спустя несколько дней случилось то самое, о чем недавним зимним вечером говорил спутник авроровцев.
Прерывистый, нервный, беспокойный гудок, зовя и будоража, ворвался в обычный заводской шум.
- Бросай работу! Выходи во двор!
Кто подал эту команду? Никто не знал, да и не стремился узнать. Власть этих слов была всемогуща.
Замолкли револьверные станки. Застыли брошенные где попало тележки с болванками. Рабочий поток, многоголосо перекликаясь, хлынул из цеха. Угодников мастера, вчерашних лавочников, пытавшихся задержаться у станков, лавина курток и спецовок подхватила, понесла с собой, подчиняя единой воле.
Заводской двор не помнил такого многолюдья. Толпы колыхались, гудели.
Несколько рабочих вскарабкались на грузовик, один из них - узколицый, глубоко надвинувший темную кепку - подошел к самому борту и поднял руку.
- Тише, тише! - пронеслось по толпе. - Крутов скажет! Пусть Крутов скажет!
Было непостижимо - тысячеголовая, наэлектризованная масса притихла, замерла, и только пар от дыхания смешивался с порхающим снегом.
Тот, кто выдвинулся к борту грузовика, побелел на глазах у всех: темная кепка, плечи, кустистые брови стали того же цвета, что и щетинистые усы.
- Братцы, это он! - первым узнал знакомого рабочего глазастый Бабин, хотел что-то сказать, но Курков толкнул его локтем и кивнул в сторону грузовика: мол, слушай!
Открытый простор поглощал голос, казавшийся негромким, и все-таки каждое слово слышал каждый, потому что очень хотел услышать. И слова-то как будто были знакомые, слышанные, читанные в прокламациях, однако других и не надо было. Вот они:
- Петроград бастует. Петроград подымается. Заводы один за другим выходят в центр, на Невский. Мы требуем хлеба! Требуем мира! Долой самодержавие!..
Людская масса задвигалась и, вытягиваясь в колонны, потекла к городу.
- Пойдем и мы! - твердо сказал Курков.
- Пойдем! - поддержали его Белышев и Масловский.
Среди ушанок, платков, картузов затрепыхались черные ленточки бескозырок.
Едва шаги священника Любомудрова затихли, в кубрике машинистов возобновился разговор. Не так-то легко было разобраться, что происходит в Петрограде. В город никого не отпускали. Караульная команда, ходившая на охрану Франко-русского завода, ничего толком не знала.
Пришлось рисковать. Метельной ночью, когда слепая мгла заволокла крейсер, машинист Иван Чемерисов отправился в город к брату. Брат его работал на Обуховском заводе.
В глубокой тьме Чемерисов прокрался на пароход-отопитель, спустился на лед и по льду отправился в город. Возвратился он до рассвета, благополучно проскользнул в кубрик и, окруженный товарищами, смахивая с бровей намерзшие льдинки, сказал:
- Началось!
- Что началось?
- Началось! - упрямо повторил Чемерисов. И, желая поскорее сбросить и убрать заснеженную одежду, протянул товарищам объявление, сорванное с рекламной тумбы. Чуть примятый клок светло-серой бумаги пошел по рукам. ОБЪЯВЛЕНИЕ
командующего войсками Петроградского военного округа
Последние дни в Петрограде произошли беспорядки, сопровождающиеся насилиями и посягательствами на жизнь воинских и полицейских чинов.
Воспрещаю всякое скопление на улицах.
Предваряю население Петрограда, что мною подтверждено войскам употреблять в дело оружие, не останавливаясь ни перед чем, для водворения порядка в столице.
25 февраля 1917 г.
Командующий войсками
Петроградского военного округа
генерал-лейтенант Хабалов
- "Предваряю население", - передразнил Бабин.
- А ты тянешь! Рассказывай! - насели товарищи на Чемерисова. Приказ генерал-лейтенанта Хабалова подогрел их нетерпение.
Иван Чемерисов видел не так уж много. На перекрестках, на мостах полицейские патрули. В вихрях метели темным призраком пронесся конный разъезд. У каменного здания суетились какие-то люди. Бледными лучами карманных фонариков они шарили по стене и соскребали прокламации.
На Большом Сампсониевском проспекте, неподалеку от серого, в подтеках дома, где жил брат, Иван Чемерисов увидел разгромленную хлебную лавку. Окна, двери были выломлены, громоздились сорванные, искореженные деревянные полки, присыпанные комьями штукатурки. У входа поземка намела белый снежный барьер.
У брата Чемерисов застал нескольких рабочих. Они негромко переговаривались. По отрывочным фразам можно было кое о чем догадаться. Поминали конного жандарма, сбившего с ног рабочего. Кони затоптали рабочего насмерть. Жандарма стащили с седла, разорвали в клочья.
"Началось, - сказал одни рабочий. - Теперь пойдет..."
Обуховцы забастовали - все, тысяч четырнадцать. И на других заводах также. Значит, напор будет расти. Стало быть, и отпор будет остервенелый. Жандармы уже пулеметы на крышах расставили. А войска?
Один рабочий уверял: "Солдаты на нас руку не подымут. В своих стрелять не станут". Другой колебался: "Кто их знает?" Называли имя Чугурина{10}. Мол, Чугурин призывал брататься с солдатами, разъяснять им, что к чему.
А кто такой Чугурин - Иван Чемерисов не знал. И вообще больше ничего рассказать не смог. Засобирался в обратный путь, задерживаться побоялся. Брат только спросил его:
- А у вас как? Тихо? Глядите не проспите! Вместе надо...
- Что же нам делать, сидим за семью замками! - вырвалось у Бабина. Попробуй разберись!
- Вот, - протянул Чемерисов Куркову прокламацию, извлеченную из потайного кармана. - Дали на дорогу. Почитай, мол, своим.
Курков развернул тщательно сложенный листок, матросы сдвинулись теснее. Несколько секунд он молча всматривался в слова:
- "Листовка Петербургского комитета РСДРП". Слушайте!
Он читал негромко, но слова были сильные, горячие, казалось, они вырываются из кубрика, слышны далеко-далеко:
- "Жить стало невозможно. Нечего есть... Набор за набором, поезд за поездом, точно гурты скота, отправляются наши дети и братья на человеческую бойню.
Нельзя молчать!
Отдавать братьев и детей на бойню, а самим издыхать от голода и холода и молчать без конца - это трусость, бессмысленная, преступная, подлая.
Все равно не спасешься. Не тюрьма - так шрапнель, не шрапнель - так болезнь или смерть от голодовки и истощения.
Прятать голову и не смотреть вперед - недостойно. Страна разорена. Нет хлеба. Надвинулся голод. Впереди может быть только хуже. Дождемся повальных болезней, холеры...
Требуют хлеба - отвечают свинцом! Кто виноват?
Виновата царская власть и буржуазия. Они грабят народ в тылу и на фронте".
Курков перевел дыхание и продолжал:
- "Царский двор, банкиры и попы загребают золото. Стая хищных бездельников пирует на народных костях, пьет народную кровь. А мы страдаем. Мы гибнем. Голодаем. Надрываемся на работе. Умираем в траншеях. Нельзя молчать!
Все на борьбу! На улицу! За себя, за детей и братьев!"
Машинисты, собравшиеся в кубрике, понимали: огонь разгорается все жарче и жарче. Собственно, и начало было бурным, знали они о нем не понаслышке: когда завод забастовал, они с рабочими вышли на улицы. Петроград затопили колонны демонстрантов. Мостовые не вмещали движущиеся потоки, они выплескивались на тротуары. Пешеходы в обратную сторону идти не могли, толпа увлекала их за собой, набухая, становясь гуще, шумнее. Хлебные лавки, попадавшиеся на пути, разносили в щепы, словно лавки и были главными виновниками голода, исчезнувшего хлеба, закипающей ярости обездоленных, доведенных до неистовства людей.
Кое-где навстречу ползли трамваи, беспокойно звоня и прося пропустить их. Они как бы желали жить и двигаться по старому, заведенному когда-то порядку. Трамваи останавливали, опрокидывали посреди улицы, и это было вызовом заведенному порядку, обанкротившемуся, проклятому многотысячными массами голодных людей.
На подступах к центру все чаще путь преграждали заслоны полиции. Движение колонн замедлялось. Передние ряды вступали в перебранку со стражами закона.
- Ишь, толстобрюхие, ремни понавешали, в окопы вас гнать, а вы с бабами воюете!
Полицейский пристав, расставив, как циркуль, ноги, стоял насупясь и зло глядел на расходившуюся работницу. Его облегала тесная, светло-серая шинель, перехваченная, как бочка обручем, широким поясом.
- Наддай назад! - прохрипел пристав.
Полицейские обнажили шашки, преграждая путь.
- Фараоны! - понеслось из толпы.
Задние ряды нажимали. Лавина, затопившая улицу от тротуара до тротуара, надвигалась медленно, но неумолимо.
- Фараоны! Душители! - гремели озлобленные голоса, а лица - гневные, скуластые, сведенные худобой - были полны решимости.
Полицейская цепь дрогнула, попятилась назад. Пристав что-то крикнул мордастому дворнику с номером на медной бляхе и нырнул во двор.
- Ура-а-а! - взметнулось и понеслось по рядам.
Передние устремились в брешь. Расширяясь и набирая скорость, лавина хлынула к Невскому проспекту. В потоке бегущих были старые и молодые, мужчины и женщины, был даже один полицейский - без шапки, без сабли, с оттопыренными погонами. Он не мог выбраться из густой, взбудораженной толпы, она несла его, как щепку несет полая вода, и только испуг на лице выдавал смятение и беспомощность.
Невский, как море, вбирал бесчисленные людские реки, они текли из всех переулков, и этот широкий, сверкавший витринами проспект царских министров, дворянских особняков, золотопогонного офицерства, бобровых воротников впервые так победно шумел и колыхался во власти курток и картузов простого люда.
То тут, то там взметались полотнища кумача. К балкону второго этажа кто-то приколотил фанерный щит с надписью: "Хлеба!" Из ближнего переулка доносилась "Марсельеза". Опрокинутый трамвай превратился в трибуну для ораторов.
Свободно, не прячась - теперь ли бояться агентов охранки! - выступали ораторы. Их страстные лица, обращенные к массе, их руки, сжатые в кулаки, передавали порыв, волю и боевой азарт тех, кто вознес их на импровизированную трибуну.
Ораторы не говорили - они исторгали изнутри, бросали в толпу громкие на пределе голосовых возможностей - слова, рубили кулаком воздух. И в ответ многоголосо, хрипло, нестройно, но властно неслось:
- Правильно! Крой! Давай жарче!
Опьяненные свободой, клокотанием тысячеголовой и тысячерукой массы, авроровцы кричали вместе со всеми, и голоса сливались в гул одобрения и восторга.
Из речей можно было понять, что сегодня, 23 февраля{11}, в Международный женский день, первыми вышли на улицы Петрограда текстильщицы, требуя хлеба, требуя вернуть из окопов мужей и братьев, требуя человеческих условий жизни. Их почин, как искра, попавшая в солому, разгорелся пожаром заводских митингов, где выступали большевики. Потоки демонстрантов устремились к центру.
- Долой войну! Долой голод! Да здравствует революция! - провозглашал очередной оратор, распахнувший пальто, скомкавший в руках шапку, всем телом подавшийся вперед, к толпе. И в это мгновение, словно ветерок, донеслось неясное и тревожное:
- ..а-за-ки!..
Вторая волна повторила внятно и громко холодящее слово:
- Ка-за-ки!..
Из переулка на рысях вытягивалась сотня с офицером во главе. Еще нельзя было разглядеть лица казаков, еще не дрогнула людская стена, еще не качнул ее страх, но кто-то, обезумев, уже бросился к массивным воротам и, барабаня кулаками, надрывно голосил, молил о помощи и пощаде.
Толпа напряглась, упруго сжалась, замерла в ожидании.
Кривая сабля серебряно сверкнула в руке офицера. Конь, храпя и разбрасывая пену, высекал копытами комья снега и льда. Первые ряды явственно услышали кожаный скрип казачьих седел.
Толпа чуть раздвинулась, пропуская офицера в тесный людской коридор. Вытягиваясь по одному, притормаживая коней, за офицером последовали казаки. Никто из них не вынул сабель, лица были приветливы, один чубатый подмигнул молчаливо съежившейся работнице и повел плечами.
Вздох облегчения прошумел над толпой. Она ожила, зашевелилась, загалдела десятками голосов. Шутка ли: казаки, не раз обагрявшие себя невинной кровью, не будут больше палачами, не пойдут против народа...
В кубрике машинистов царило тягостное раздумье. Ноги не связаны, а пойти никуда нельзя; руки не связаны, а до винтовок не дотянуться пирамида на палубе пустая: оружие заперто в артиллерийском погребе.
Что же делать?
Крутов - рабочий, призывавший, если каша заварится, держаться вместе, - где он? Где его искать? Или каша заварилась слишком быстро? Так и не успели обо всем договориться...
Авроровцы, хлебнувшие на Невском хмельного воздуха свободы, уже не могли сидеть сложа руки. Рассказ Ивана Чемерисова лишил покоя: на крышах полицейские пулеметы... А с кем войска? Протянут ли руку рабочим? Или будут нейтральны, как те казаки? Что происходит в городе сегодня, сейчас?
Старший унтер-офицер Петр Курков отправился на разведку. На палубе его окликнул главный боцман Диденко:
- Не знаешь, что ли, что шастать по палубе запрещено?!
Курков сказал, что идет к инженер-механику Малышевичу. Вернувшись в кубрик, сообщил: в городе пожары, слышна стрельба.
- Надо связаться с матросами караульной команды, - предложил Белышев. - Как-никак они электростанцию охраняют, у них винтовки...
Договорить Белышев не успел. Дробь башмаков загремела по трапу. В кубрик вбежал запыхавшийся Алексей Краснов, машинист левой машины, друг и земляк Белышева, уроженец Владимирщины, парень спокойный и немного робкий. Прежде таким возбужденным товарищи его не видели.
- Дожили! - выпалил Краснов. - "Аврору" превращают в тюрьму. В карцер повели арестованных рабочих. К нам шли...
Узнав, что Никольский превращает крейсер в тюрьму, матросы пришли в ярость.
- Айда наверх, хватит! - требовали одни.
- Дракона в карцер! - вторили другие.
Третьи охлаждали не в меру горячих:
- На мостике "максим" появился. Никольский быстро наши головы сосчитает.
Из города глухо докатывалась отдаленная пальба. Черные столбы дыма уходили в небо. Где-то горели здания. Эти пожары и отголоски боя распаляли матросскую массу, готовую к бунту, к немедленным действиям.
В отличие от других из кубрика машинистов громкие возгласы не доносились. Тут говорили вполголоса, намечая план захвата корабля и освобождения рабочих. Первое, что пришло в голову, - поднять караульную команду. Но от этой мысли отказались. Людей там надежных нет. Поддержать других, может, и поддержат, а запевалами не будут.
Броситься к карцеру, снять часового и освободить рабочих? А дальше? На мостиках - пулеметы. От пуль ни брезентовая роба, ни фланелевки не уберегут. На берегу - у заводских ворот - солдаты. Долго ли Никольскому снять трубку - и батальон серых папах расстреляет безоружных авроровцев...
- Надо начинать с Дракона, - сказал Курков.
- А как яво возьмешь? - усомнился Васютович.
Тихий и скромный, Васютович редко встревал в общие дискуссии, и, хотя хорошо говорил по-русски, одно слово ему упорно не давалось: вместо "его" он неизменно говорил "яво".
- Может, на вечерней молитве? - неуверенно предложил Белышев.
- Правильно! - поддержал плотник Липатов. - Электрики перережут заводской кабель{12}. В темноте обезвредим Дракона.
Довольный, что найдено решение, Липатов потер большие, как лопаты, шершавые, пахнущие столярным клеем ладони.
Вечерняя молитва проводилась в 21 час на церковной палубе. Приходили все, кроме занятых на вахте.
- Самый раз богу душу отдать, - оживился Сергей Бабин. - Погаснет свет - и Дракона за горло...
Мало-помалу прорисовался план действий: кому свет гасить, кому Никольского обезоружить, кому в артпогреб за винтовками идти, кому рабочих освобождать. А пока решили разойтись по кубрикам, с матросами поговорить: пусть на вечерней молитве скажут свое слово...
Рано сгустились февральские сумерки. Всполохи пожарищ тревожно багрянили городское небо. Корабельные склянки{13} , разорвав тишину, отзвенели и затихли.
Матросы собирались кучками, перешептывались; они ждали, как праздничного обеда, как ендову, из которой баталер разливает водку, вечернюю молитву. Все напряженно прислушивались в кубриках к тому, что доносится с верхней палубы; в кают-компании ловили каждый звук, долетавший снизу.
Тревога сгущалась. Кто-то пронюхал, что готовится бунт. Может быть, священник, учуявший недоброе в том, что в кубриках стихло громогласное клокотание? Может быть, кто-нибудь из кондукторов подслушал неосторожные разговоры?
Любомудров явился к Никольскому: не соблаговолит ли командир отправить арестованных на берег? Уж больно неспокойно на корабле, матросы затевают смуту.
- Уповайте на бога, пекитесь о небе, - посоветовал Никольский. - А на корабле я как-нибудь сам решу, что мне делать.
Батюшка, покорно кланяясь, удалился. Вслед за ним направилась к командиру группа офицеров. Взглянув на вестового, поняли: Никольский не в духе. Вестовой стоял у двери бледный, правая щека его дергалась. Обычно он был первым "громоотводом" при вспышках ярости капитана I ранга. И все-таки офицеры вошли к командиру. Он не предложил им сесть и сам выслушал их стоя, обратив глаза куда-то в пространство.
- Так-так, - наконец выдавил Никольский и подошел к иллюминатору. Никто не знал, что он рассматривает сквозь толстое стекло и долго ли придется любоваться его широкой спиной. Нервно сцепленные пальцы выдавали с трудом подавляемое раздражение.
Вероятно, каперанг наблюдал за солдатами приданного батальона, охранявшими заводские ворота, и раздумывал, как быть. Строптивый характер мешал ему согласиться с доводами офицеров: команда крайне возбуждена, стоит ли рисковать из-за каких-то агитаторов? Неровен час - вспыхнет бунт...
Вряд ли Никольский прислушался к мнению подчиненных, вряд ли всерьез отнесся к фразе: "Крейсер не тюрьма, зачем нам арестанты с завода?"
Скорее, его раздумья питало другое: офицеры ропщут, они встревожены. В городе, видно, не все ладно. Из штаба дважды звонили, хотят забрать солдат. Что, если действительно, как ему докладывали, на вечерней молитве вспыхнет бунт? Чем удержать эту дикую ораву?
Никольский резко повернулся:
- Изволите мандражировать, господа офицеры? Слова "тюрьма" испугались, захотели быть чистенькими? В тихой гавани отсидеться? Так я вас понимаю?
Распаляясь, он бросал в лицо офицерам оскорбления и, когда им показалось, что их миссия провалилась, схватил телефонную трубку и приказал командиру батальона прислать караульных и увести арестованных. Командир батальона, очевидно, сетовал: куда, мол, их дену, помещения для арестантов нет.
- Найдете! - отрезал Никольский.
До вечерней молитвы оставалась одна, последняя склянка. Кое-кто вышел на палубу покурить у железной бочки с водой, в которой, шипя, гасли матросские самокрутки. Диденко и Ордин куда-то исчезли. И вдруг пронеслось:
- Глядите! Ведут арестованных!
Через несколько секунд этот возглас достиг самых отдаленных кубриков. Крейсер мгновенно всколыхнулся, ожил, забурлил. Из люков выскакивали матросы, словно их выбрасывал наверх мощный трамплин.
Трое арестованных подходили к трапу. Внизу, у причальной стенки, ожидали их конвоиры - солдаты в серых папахах, построенные в шеренгу. Фельдфебель медленно прохаживался вдоль строя - стоять было холодно.
Матросы, курившие на полубаке возле железной бочки, первыми увидели арестованных. Один из них - худой, с длинной шеей и острым кадыком - шел впереди и был без шапки.
- Ура-а-а! - грянули матросы, грянули без команды, стихийно, в порыве, объединившем разрозненных людей.
- А-а-а-а! - понеслось с носовой части, с юта - отовсюду, где замелькали бескозырки, откуда покатился нарастающий топот десятков, может, сотен бегущих. Вырвавшись из тесноты кубриков, матросы устремились к троим, выведенным из карцера, чтобы подхватить их на руки, чтобы излить свою радость, чтобы дать волю истосковавшейся душе.
Никольский и Огранович появились из-за вахтенной рубки, что-то яростно закричали. В гуле голосов и топоте ног их крик утонул, и только пять - семь матросов, услышав рассвирепевшего каперанга, повернули на голос головы. Никольский замер, словно впаянный в палубу. Вытянутая с револьвером рука подрагивала - он целился; целился и Огранович, напряженно склонив чуть набок жилистую шею.
Машинист Власенко, задержавшийся, увидел, что на него наведен пистолет. Он вздернул руку, прикрывая лицо, словно ладонью можно было заслониться от пули. Дважды или трижды треснули выстрелы.
Рядом, застонав, грохнулся на палубу Осипенко. Власенко почувствовал сильный толчок в ногу. Он не сразу понял, что ранен, потому что ждал выстрела в лицо.
От вахтенной рубки вторично донесся пистолетный треск.
Палуба опустела. Матросы нырнули в люки, укрылись за орудийными щитами. Машинист Фомин выбросился за борт, ухватившись руками за бортовую железную ограду. Раскаленно-стылый металл нестерпимо жег пальцы. Фомин не выдержал, разжал их и рухнул с криком на лед.
Крик оборвался. Стало тихо.
Конвоиры, напуганные матросской лавиной, разбежались. Арестованные скрылись. Александр Неволин и Андрей Подольский, перепачканные кровью, унесли на руках умирающего Осипенко.
Серый, скупой рассвет теснил сумерки. В эту ночь мало кто спал на "Авроре". Покачивались подвесные матросские койки. В кубрике машинистов переговаривались. Чей-то приглушенный голос тревожно спрашивал:
- Думаешь, утром уведут нас?
- Похоже.
- Эх, не сумели мы!
- Растерялись.
- Помнишь, гангутцев{14} как скрутили?
- Помню, все помню.
- Велика Сибирь, - вздохнул кто-то.
- Поплыли, - сердито сказал Курков. - Еще посмотрим!
Сосед не ответил, снова тоскливо вздохнул.
Минувший вечер не сулил ничего хорошего. Едва стихла стрельба, горн взрезал воздух сигналом "Большой сбор". Никольский, сопровождаемый Ограновичем и ротными, шел вдоль рядов, слепя глаза матросов карманным фонарем. Временами он останавливался, гасил фонарь и бросал в темноту:
- Бунтовщики! Пособники шпионов! Заговорщики! Задушу смуту!
И снова шел вдоль рядов, и луч света, как лезвие бритвы, скользил по лицам, по жмурящимся глазам, а причальная стенка, освещенная прожектором, заполнилась солдатами. Выполняя команды, они строились и перестраивались, и лес ружей щетинился у них за спинами...
Зарождающийся день не рассеял ночной тревоги. На мостиках, поглядывая сверху вниз, дежурили кондукторы. Неуклюже-огромный Ордин, присев на корточки, как бы издеваясь над безоружными, поглаживал ствол пулемета. Казалось, вот сейчас, через секунду, свинцовая очередь рассечет воздух.
На утренней молитве матросы понуро слушали священника. Любомудров стоял отрешенно поникший, с крестиком, сбитым набок, с нерасчесанной бородой и гундосил слова молитвы. Батюшка явно не выспался, под глазами набухли мешки, и блуждающие глаза, опущенные долу, безуспешно прятали страх.
После молитвы матросская масса вывалилась на палубу, и, кажется, Белышев первым заметил, что на причальной стенке ни одного солдата. Он не успел и словом перекинуться с товарищами - они потянулись к борту, прислушиваясь к гулу голосов, доносившихся с завода. Железные ворота вдруг задрожали и, не выдержав напора, рухнули. Густая толпа хлынула в зев и, растекаясь в ширину, затопила причальную стенку. Женщина, оказавшаяся впереди, сорвала с головы платок и, размахивая им, крикнула:
- Братья матросы, мы с вами!
- С вами! - многоголосо загудели рабочие, вознося над головой красные полотнища, подымая винтовки и острые пики, выкованные на заводе.
Матросов на "Авроре" словно подбросило взрывом. Тесня друг друга, они устремились к трапу, навстречу рабочим. Белышев и Липатов успели крикнуть:
- Сюда, братва, за нами!
Они вспомнили: на мостиках - пулеметы.
Цепкие, сноровистые руки мигом ухватили кондукторов - кого за ноги, кого за волосы - и стащили на палубу. "Орангутанга" Ордина окружили и бутузили с особым усердием.
- Так его, так его! - кричал Бабин, а Ордин, закрыв лицо руками, как тяжелый мешок, валился под ударами то в одну, то в другую сторону.
Курков, раздобыв ключи, открыл артпогреб и раздавал матросам винтовки. Рабочие, заполнившие палубу, напомнили:
- А где ваш главный жандарм? Сбежал?
Бросились в каюты.
Шпыняя, тыча кулаками, вывели Никольского. Чья-то рука содрала с него погоны, швырнула под ноги. Китель с оборванными пуговицами распахнулся, выглянула белоснежная сорочка. Чем-то ошеломляющим и неожиданным показалось матросам это немыслимо-белое барское белье.
Внешне в эти минуты Никольский переменился мало. И хотя голова его, обычно горделиво откинутая назад, поникла, хотя кто-то оборвал клок его закрученных кверху усов и справа над губою багрянились сгустки крови, он шел, не сутулясь, безучастный к пинкам и выкрикам, очевидно готовый к неотвратимому. Лишь холод ненависти застыл в его глазах.
- Убийца! - кричали Никольскому вдогонку.
Матросам, которые отвезли Прокофия Осипенко в адмиралтейский госпиталь имени Петра Великого, врач сказал: "Надежды никакой".
- Кончай Дракона! - требовали матросы.
- Стой!
Приказ прозвучал категорически. На голос обернулись обозленные лица. С сомкнутыми губами, властный и решительный, на световом люке стоял старший унтер-офицер Петр Курков. Конечно, не наплечные унтер-офицерские кондрики остановили матросов. В голосе Куркова была та подчиняющая сила, которая действовала как команда:
- Не погань палубу! Крейсер теперь наш. Тащи Дракона на землю!
Никольского довели до трапа. Гулко, почти в упор грянул выстрел. Винтовочный приклад толкнул Брагина в плечо. Брагин выдохнул: "все".
Обиды, пинки, зуботычины, изнуряющие наряды, униженность, недоимки и тяготы всей жизни - многое было в этом глубоком выдохе машиниста Брагина, не дождавшегося, когда Никольского сведут на землю. И Никольский рухнул на трап. Один его глаз остался открытым, будто убитый смотрел и хотел запомнить лица матросов.
Комендор Огнев молча стащил Никольского с трапа, обтер о брезентовые штаны ладони и в сердцах сплюнул.
Рядом на земле дергался и хрипел Огранович. Сергей Бабин проткнул его шею штыком. Огранович, скрючась, лежал на боку в растекавшейся темной лужице.
А на палубе матросы уже жадно слушали рассказы рабочих о событиях в Петрограде. Ивана Яковлевича Крутова окружили давние знакомые - Белышев, Краснов, Масловский, Лукичев.
- Ну вот мы опять вместе, - говорил Иван Яковлевич. Глубоко утопленные глаза его кого-то искали. - А где ваш старшой? А-а, вижу.
Он помахал рукою Куркову.
- В Петрограде - революция, - сказал Крутов. - Рабочих поддержали солдаты. Сейчас от вас подадимся в город. Слышите - на улицах стрельба... А это - "Авроре"...
Крутов кивнул рабочему, стоявшему рядом с ним, худому, с неестественно длинной шеей и острым кадыком. Немногие из авроровцев узнали его, хотя и видели в тот памятный вечер, когда с двумя товарищами, без шапки, он шел из корабельного карцера.
- Вот вам, - сказал рабочий и протянул красное полотнище.
У грот-мачты засуетились матросы. Зычная команда оборвала разговоры. Люди распрямились, повернули головы к мачте. Тяжелый, двухметровый кумач качнулся, поплыл вверх. Ветер лениво колыхал его. Лишь у самой макушки сильный порыв неожиданно развернул полотнище, разгладил все складки, и багряное крыло торжественно захлопало над запрокинутыми головами{15}.
День выдался ясный, свежий, морозный. Из-за гряды облаков, громоздившихся на горизонте, выкатилось багряное солнце. Облака таяли, уплывали, над Петроградом простерлась высокая синева, лишь местами перечеркнутая дымом пожарищ. Горел окружной суд, кое-где догорали полицейские участки. В морозном безветрии дым подымался черными столбами, почти вертикально.
Полотнище, только что взметнуршееся над грот-мачтой, отсвечивало на солнце, пронизанное его лучами. Из ворот Франко-русского завода уже выступили на помощь восставшим колонны рабочих и матросов. Ряды их перемешались, бескозырки, платки и ушанки составили нечто нерасторжимо-единое, слившееся. Несколько голосов, сильных своим задором, подняли над колонной частушку:
Эх, узнает Николашка,
Что Романовым конец,
Хватит враз его кондрашка,
Околеет наконец.
Эх!
"Эх!" подхватили все, оно громогласно качнулось, как могучий выдох, и нетерпеливые голоса подхватили слова о Николашке и кондрашке, которая его хватит.
Колонна неохотно теснилась к тротуару, уступая дорогу заводским грузовикам. Первый, гремя цепями, медленно полз по глубокому, истоптанному снегу, давно не убираемому дворниками. Над кабиной возвышался фанерный щит. Чернело намалеванное дегтем короткое и энергичное: "Долой!"
На грузовых машинах по совету Ивана Яковлевича Крутова разместили летучие отряды. Авроровцы сняли с мостиков пулеметы, перенесли в грузовики.
Комендор Евдоким Огнев - крутоплечий, широкоскулый - хозяином расположился возле "максима", улыбался, как говорится, от уха до уха, угощая товарищей донским, привезенным кем-то из земляков табачком.
Наконец первая машина вырвалась из толпы, замедлявшей ход, за нею вторая, и улицы побежали навстречу летучему отряду. Кое-где бег прерывался - путь преграждали сугробы, моторы тяжело урчали, фыркая бензинным перегаром. К грузовикам с обеих сторон подступали дома. Одни светились на солнце разузоренными морозом окнами, алели кумачом, опоясавшим балконы, другие выжидающе затаились, опустив жалюзи, слепо глядя на мостовые массивными ставнями. Бывало и так, что безмолвные окна оживали, изрыгали ярость пулеметных очередей. Стены напротив покрывались частой оспой пулевых отметин, слышались вскрики падающих прохожих.
Огневский пулемет свинцовым вихрем хлестал по окнам. Лишь единожды он внезапно смолк. Комендор откинул крышку короба, устранил перекос патрона, и снова в кузове все задрожало от непрерывной, секущей воздух скороговорки "максима".
Внезапно водителям пришлось затормозить перед "Асторией". В проемы выбитых окон первого этажа входили и выходили любопытные, озираясь среди хаоса разгромленной мебели, опрокинутых цветочниц с распластанными на коврах фикусами и брошенных под ноги продавленных картин.
Перед "Асторией" зияла воронка, багровая от пролитого вина, вся в пёресверке битых бутылок. В осколках дробилось солнце. Винный дух ударял в нос.
Близ Садовой резко свернули под арку, чтобы не подставить машину под огонь с чердака. На мостовой корчилась женщина. Она стонала, билась о ледяные булыжники, но никто не мог приблизиться - пули щелкали, взвихривая снег. Солдаты и рабочие жались к стенам домов, безрезультатно стреляя вверх. Авроровцы, взломав двери, бросились по лестнице к чердаку. Минут двадцать гремели выстрелы. Из слухового окна вывалился городовой. Он глухо шмякнулся в сугроб. Городового словно и не было - остался лишь горб черной шинели, да сапог нелепо торчал из снега.
Женщину, корчившуюся на мостовой, отнесли в квартиру первого этажа. Она, видимо, умирала, не было сил стонать, иногда только зябко вздрагивала, будто судорога пробегала по телу.
Перепачканные штукатуркой, в чердачной паутине, авроровцы вскарабкались в грузовики. В их молчаливой мрачности жило пережитое темные трупы прохожих на снегу и эта женщина, в глазах которой уже отразилось ощущение близкой смерти. Матросы молчали, мучимые сознанием: поспей они на пять минут раньше - и этого могло бы не случиться.
- Поехали! - Сергей Бабин ударил по крыше кабины.
И снова машина, гремя цепями, покатилась по улицам Петрограда мимо горящих участков, мимо костров с пылающей "иродовой писаниной" - судебными папками и протоколами, мимо митингующих толп, мимо встречных автомобилей с широкими крыльями, на которых лежали солдаты с винтовками.
На перекрестке хотели было остановиться: толпа задержала переодетого жандарма. С него сорвали серое пальто и увидели синие штаны, по которым струйками крови стекали красные канты.
- С ним и без нас управятся! - властно сказал Курков. - Чего терять время?!
Грузовики загремели по людным улицам. В эти часы все было в движении. Даже бронзовые львы, выщербленные пулями, не казались застывшими. У Аничкова моста, украшенного фигурами литых коней Клодта, какой-то бородач с красной повязкой взмахом руки остановил машины:
- Сходи, братки!
К солдатам рабочие уже привыкли, а восставших матросов, видимо, встретили впервые и, обрадованные этим, окружили их.
- Тебе, товарищ, - торжественно сказал бородач, остановивший машину, и приколол на грудь Куркову красный бант.
У рабочих на штыках алели флажки, на куртках и пальто - банты. Такие же банты появились у Александра Белышева, у Николая Лукичева, у Алексея Краснова, у Ивана Чемерисова, у Ивана Васютовича.
Невский проспект, набережная Фонтанки, где остановились машины, кишели людьми. Весь Петроград превратился в огромный клуб под открытым небом, где встречались и беседовали знакомые и незнакомые люди, где спешили выговориться, сказать о наболевшем, о том, что навсегда уходит, и о том, что придет завтра.
Молодая женщина, продираясь в тесноте по Аничкову мосту, несла, обняв левой рукой, большую кастрюлю. Временами она останавливалась, доставала картофелину и протягивала солдату или рабочему:
- Угощайся, товарищ!
Перепала картофелина и Евдокиму Огневу. Он с минуту стоял, провожая глазами незнакомую женщину, не понимая, почему так ново и так необычно для него это давнее слово - "товарищ". Потом он ел картофелину, недосоленную, остывшую, хотя кастрюля и была укрыта платком. К горлу подкатил горячий ком - пахнуло домом, аппетитным запахом подового хлеба.
Рядом стоял солдат. Он держал картофелину на ладони, отламывал по кусочку, потом остатки отправил в рот и с бессловесной тоской поднял глаза на вздыбленного коня.
Железный конь с заиндевелой спиной, большой, сытый, переместив всю свою тяжесть на задние ноги, поднял высоко передние, изогнул грудь и, казалось, жарко дышал.
Глаза солдата затуманились. Может, вспомнил он, бывший пахарь, своего Савраску? Может, оглушило хмелью полузабытых запахов хрустящего, терпкого сена? Может, прикинул: войдет ли этот холеный, гладкий коняга в его хилый, с подгнившими подпорками сараишко, когда-то срубленный на краю Ивановки или Степановки?
Станичник Огнев молча глядел на солдата с присохшими к ладоням крохами домашнего картофеля, угадывая его думы и сверяя со своими. Солдат не замечал крутоплечего соседа-комендора, отрешенно щурился на солнце. Оно пригревало все жарче, обещая щемящую близость весенней пахоты.
А на Аничков мост уже выкатил броневик. Кто-то горластый звал всех стягиваться к Адмиралтейству, кончать с последним оплотом драконов и царских прислужников.
Когда авроровцы прибыли к "оплоту драконов и царских прислужников", его осаждали десятки тысяч вооруженных людей. В Александровском саду яблоку негде было упасть. Среди голых веток сада повсюду торчали штыки. Группы восставших грелись у костров. В одном из них полыхал деревянный герб царской России. Краска вздувалась и лопалась, плавилась. Пахло паленым. В толпе ждали: вот догорит герб - и Хабалову{16} крышка.
Признав в Куркове старшего среди авроровцев, рабочие говорили ему:
- Где же ваши пушки? Шандарахнули бы разок - враз нам ворота отворили бы!
Иные спрашивали:
- Чего не штурмуем, иглы, что ли, адмиралтейской испугались? Она для нас не опасная, небо проткнула, ворон пугать.
Кто-то объяснял:
- Чего на рожон лезть, нас тут вон сколько - видимо-невидимо, и так сдадутся. Они в мышеловке.
Хриплоголосый рабочий, в мешковатом пальто, с большим прямым носом и цепкими глазами, говорил:
- На Франко-русском уже делегатов в Совет избрали. Путиловцы избрали. От рот, от кораблей делегатов надо. Пора свою власть ставить. Николашке конец.
Авроровцы слушали: толпа - лучшая академия. Все тут узнаешь...
В полдень ухнула пушка Петропавловской крепости. Чугунные ворота Адмиралтейства распахнулись, словно там только и ждали этого сигнала. Из ворот потянулись солдаты, за ними - скрипучий обоз с кухнями, в хвосте почему-то оказались неуклюжие орудия. Колеса оставляли в снегу колею.
Солдаты шли без винтовок, виновато поглядывая по сторонам.
- Одумались, - пронеслось по рядам и легким шорохом унеслось в глубину Александровского сада.
Последний оплот царских прислужников в Петрограде пал.
Жизнь на "Авроре" зарождалась необычная, на прежнюю непохожая, словно великий рулевой враз, круто повернул корабль. Видано ли было такое, чтобы матрос хозяином по палубе шел, не боясь кулака-свинчатки кондуктора Ордина, жестокого и желчного Ограновича, самовластного и свирепого Никольского?! Канул главный боцман Диденко - жаль, не рассчитались за прошлое, должок не отдали!
Раньше матрос на крейсере жил как в тюрьме без решеток. Тут не стань, там не пройди, изволь палубу лопатить, медяшку драить, гальюн чистить.
А теперь... Эх, и житье началось! Вольному воля! Выше голову, матрос! Говори - не оглядывайся, слушай - не бойся! Свободен от вахт - митингуй, песни горлань, слова о свободе слушай, хоть здесь, на Франко-русском заводе, хоть у златоглавого Исаакия, хоть к Таврическому дворцу ступай. Таврический весь Петроград вмещает, да что Петроград - всю Россию. Слыхали авроровцы, что Овальный зал с его колоннами в два ряда на пять тысяч душ рассчитан. Это, наверное, прежде так было, а нынче сколько народу придет, на столько и рассчитан. Всех вместит!
Гремят башмаки, гремят сапоги нечищенные по паркету, еще недавно зеркальному, блестящему (по углам и сейчас сохранился), а больше выщербленному, замусоренному. Любопытные и в зимний сад забредают поглазеть на высоченные деревья с листьями из жести, цветы диковинные понюхать цветы настоящие, живые, ну это так, баловство, а главное - новостей набраться, речи послушать. И уху приятно, и душе сладко, когда говорят: "Свобода!", "Товарищи!", "Братья!"
Свозят сюда со всего города пленников - царских приближенных. Видели авроровцы бывшего военного министра Сухомлинова. Вывели его из машины, винтовками от толпы оградили.
Черносотенец Дубровин - организатор травли большевиков, убийств и еврейских погромов - быстро семенил ногами, шею втянул. Ни глаз, ни лица не разглядеть - одна шуба видна. Богатая шуба - пышная, такую на витрине на Невском и то, пожалуй, не выставляют.
Арестованного митрополита Питирима тоже видели. - Святого духа под ружье взяли, - буркнул кто-то язвительно.
Рабочие, солдаты, матросы, студенты толпились, двигались в неразберихе коридоров, лестниц, переходов Таврического дворца.
Без перерывов заседал Совет рабочих депутатов, люди заводов и казарм, в старой, тертой и латаной одежде. Дымили цигарками, докуривали их до последней черты, до той грани, когда окурок пальцами не взять - можно только сплюнуть. Посторонних не гнали - слушайте, стойте, если ноги держат!
В правом крыле собирались бывшие думцы, теперь они называли себя Временным комитетом Государственной думы. Тут не ходили в потертых пиджаках и застиранных гимнастерках, тут белели крахмальные воротнички, золотились цепочки, темнели фраки ухоженных господ.
"Неужто и они за народ?" - пожимали плечами авроровцы.
Умаявшись в дворцовой сутолоке, суете, разноголосице, выходили матросы на вольный воздух. Медногорлые трубы гремели "Марсельезу". Реяли красные флаги. К Таврическому строем подходили войска.
К солдатам с речью обратился оратор. Он говорил о крушении царизма, о свободе, о необходимости спокойствия и порядка в Петрограде, о доверии солдат к офицерам.
Слова "о доверии солдат к офицерам" вызвали шумок, но оратор поднял руку, голос его зазвенел.
- В единстве - сила, сила несокрушимая. И если нашей свободе будут угрожать, я первый отдам за нее жизнь!
В строю зарукоплескали. Авроровцы, стоявшие в десяти шагах от оратора, с любопытством его разглядывали. Он вышел к солдатам без пальто и без шапки, явно не по погоде. Коротко стриженные волосы топорщились жесткой щеткой. Сухое, вытянутое лицо, блеклые, словно выцветшие глаза не выражали тех эмоций, которые звучали в голосе, иногда замиравшем до шепота, иногда громком, приподнято-решительном.
Большой шелковый бант алел на груди.
- Кто это?
Интеллигент в очках, не сводя глаз с оратора, недоуменно прошептал в ответ:
- Керенского не знаете?!
Авроровцы не знали тогда многого и многих. События накатывались непрерывной чередой, как волны в часы прилива. Освоить, переварить столь обильную пищу не успевали, не могли. Пожалуй, самой будоражащей новостью был "Приказ № 1 по гарнизону Петроградского военного округа", принятый на объединенном заседании рабочей и солдатской секций.
Под ударом этого приказа рушился весь уклад старой армии. Во всех частях предлагалось избрать комитеты из солдат. Эти комитеты брали на себя контроль над оружием, над политической жизнью, подчиняясь лишь Советам. Раз и навсегда отменялось титулование офицеров. Пришел конец "вашим превосходительствам" и "вашим благородиям". Офицерам запрещалось обращаться к солдатам на "ты".
Палубы гудели от матросского возбуждения. С пылу-жару начали выбирать судовой комитет. Над кандидатурами, можно сказать, задуматься не успели, выкрикивали фамилии тех, кто попался на глаза. От машинистов в комитет выбрали Сергея Бабина, лихого матроса. Председателем избрали Якова Федянина, артиллерийского унтер-офицера, уравновешенного, почитаемого за грамотность.
Комитет выбирали весело, с шутками и прибаутками, без особых споров и сомнений, посмеиваясь, говорили:
- Гляди, Яков, нос не дери, ешь за одного, работай за двоих!
Куда сложнее проходили выборы командира корабля.
После расправы над Никольским офицеры словно сквозь землю провалились. Правда, крейсер никто не покинул, но на палубе не показывались. О них и забыли.
Сказать, что кто-нибудь из офицеров скорбел по Никольскому или Ограновичу, было бы несправедливо. И все же стихийная вспышка матросской ярости кое-кого напугала.
Первыми на палубе появились мичман Лев Поленов и гардемарин Павел Соколов. Они сняли погоны, показывая этим, что отрекаются от всего, что связано с золотопогонным царским офицерством. Команда поняла это и приняла к сведению.
Конечно, не все офицеры разделяли в полной мере демократические убеждения Поленова и Соколова. Следуя их примеру, они сняли погоны, но не расстались до конца со старым. Новый берег, к которому несли их события, представлялся неясно, порою пугающе, порою настораживающе.
Были и такие, как Малышевич, безучастный к политике, как старший штурманский офицер Эриксон - честный и опытный моряк, оградивший себя рамками службы.
Вот почему, когда начались выборы командира крейсера, матросы заволновались: кого? Своего братка, соседа по кубрику, по кочегарке, или из них? Из офицеров?
- Своих! - кричали бывалые матросы, хлебнувшие офицерских милостей, стоявшие в нарядах с песком в заплечном мешке в стужу и зной на пустынной палубе.
Раздавались и другие голоса: крейсер не баржа, не рыбачья посудина. В бою или дальнем походе без опытного командира не обойтись!
Судили-рядили, выбрали командиром старшего лейтенанта Никонова...
Март начался бурным потоком новостей. Сначала узнали о составе Временного правительства. Матросов смутило: во главе списка стоял князь Г. Е. Львов - председатель Совета министров и министр внутренних дел.
- Опять князья, - сплюнул Лукичев.
- И тот радетель за свободу в их компании, - заметил Белышев, запомнивший фамилию Керенского. - Тоже министр.
- А куда Совет смотрит - непонятно! - недоумевал Курков. - Поди разберись, кого над нами поставили!
Через день опять новость: Николай II отрекся от престола в пользу великого князя Михаила Александровича. Михаил Александрович от престола отказался.
Матросы посмеивались:
- Это мы их отрекли. Теперь трон никому не нужен. Задаром не берут!..
Пока авроровцы потешались, отводя душу, новые власти не дремали. На корабле появился капитан I ранга Постуганов, командированный Временным правительством. Его назначили командиром крейсера.
Команда построилась на палубе. Каперанг своей осанкой напоминал Никольского. Он словно не замечал взглядов, неотрывно изучавших его, прошелся вдоль строя, недовольно морщась.
Речь его была коротка и категорична: мол, надо поскорее завершать ремонт, крейсер нужен не здесь, у стенки завода, а в море, в сражении против общего врага - против немцев.
Постуганов грозил: "Беспорядков не потерплю, ходить у меня все будут по струнке. Служить так служить!"
Строй замер в тяжелом, враждебном молчании. Каперанг нервно прошелся вдоль шеренги. В тишине резко простучали каблуки. Неожиданно из глубины строя раздался голос:
- Мы эти песни уже слыхали. Хватит!
- Что-о-о!!!
Постуганов, багровея, искал глазами смельчака, бросившего оскорбительную фразу.
- А ничего! - решительно ответил Липатов. - На одном корабле хватит нам одного командира. Мы своего выбрали. Каперанг взорвался:
- Смир-но!
В ответ кто-то прыснул, кто-то буркнул почти в лицо: "Ишь прыткий", а из задних рядов вышел матрос с маленькими усиками, с нагловато-красивым лицом, с ухарски сдвинутой бескозыркой и заговорил издевательски-ласково:
- Не гневайтесь, ваше благородие! Их благородие Никольский ждут вас в гости. Мы расстараемся, устроим вам свиданьице!
Закончив свою тираду, Сергей Бабин с вызовом подмигнул Постуганову и начал на него надвигаться. Каперанг попятился к трапу. Строй рассыпался, загоготал, засвистел.
Старший лейтенант Никонов, которому Постуганов вручил предписание о своем назначении, медленно изорвал в клочки казенную бумагу с витиеватыми росписями...
События пьянили, оглушали своей новизной и необычностью. С 4-5 марта 1917 года начали выходить в Петрограде газеты. Никогда прежде матросы не охотились за ними с такой жадностью, стремясь разобраться в разноголосице заметок, сообщений, призывов.
"Новое время" писало: министр юстиции А. Ф. Керенский распорядился о предоставлении Екатерине Константиновне Брешко-Брешковской возможности скорейшего возвращения в Петроград. Ее, Брешко-Брешковскую, одного из организаторов своей партии, эсеры громко окрестили "бабушкой русской революции".
Газета живописала итоги революции: рабочие пошли за хлебом, а принесли отречение царя от престола, на штыках - клочья жандармских мундиров.
"Солдатское слово" информировало: решено сохранить остатки полуразгромленной политической тюрьмы "Кресты" как исторический памятник. Та же газета во всю полосу призывала: "Война до сокрушения бронированного немецкого кулака!"
- Лыко-мочало, начинай сначала! - цедили матросы, переглядываясь.
- Чей орган, чья газета? - спросил Курков у читавшего. Под заголовком было написано: "Листок для войск и народа".
Эсеровский "День" громогласно обещал: "Мы будем поддерживать Временное правительство, не отказывая себе в праве и не отказываясь от обязанности критиковать отдельные его ошибочные шаги".
Большевистская "Правда" призывала совсем к иному: "Задача Временного правительства сводится к тому, чтобы дать рабочим и крестьянам как можно меньше. А задача крестьян, солдат и рабочих - отвоевать от помещиков и капиталистов как можно больше".
Матросы, неискушенные в политике, не понимали ее крутых поворотов, не видели подводных рифов. На "Аврору" зачастили агитаторы от эсеров и меньшевиков. Язык у них был подвешен неплохо, говорили горячо, ратовали за Временное правительство. Если кто и лез к ним с колючими вопросами, не пасовали, лавировали:
- Землю крестьянам? Конечно, конечно, но не все сразу. Вот созовет правительство Учредительное собрание... А пока... Были на кораблях "их благородия". С ними покончили! Не считали раньше матроса за человека, а теперь в трамваях без платы{17} разъезжает!
Когда войне конец? Справедливый вопрос, очень справедливый. Но сейчас нельзя позволить немцам растоптать завоевания революции...
Красно говорили агитаторы. От громких речей, порой жарких, как истерика, кругом у иных шла голова. Лишь самые дотошные нутром чуяли: что-то тут не так! Потянулись на Франко-русский завод к рабочим, искали Павла Леонтьевича Пахомова, Ивана Яковлевича Крутова, Георгия Ефимовича Ляхина. Нашли их не на заводе, а в доме у Калинкина моста. Поднялись по скрипучим лестницам к двери, на которой прочли: "2-й городской районный комитет РСДРП".
Здороваясь с Крутовым, Белышев сказал:
- Забыли нас, Иван Яковлевич.
- Нет, не забыли, - возразил Крутов. - Дела завертели. Хорошо, что сами пришли.
Старые знакомые сильно исхудали, хоть авроровцы не виделись с ними всего-то дней семь, не больше. У Ляхина - он и раньше говорил с хрипотцой голос совсем сел. Больше прежнего заострилось лицо у Крутова, глаза запали глубоко-глубоко. Круглолицый и широкоскулый Пахомов внешне изменился мало, но тень усталости легла и на его лицо.
В небольшой прокуренной комнатке остались с Крутовым. Дверь непрерывно отворяли рабочие и, видя, что Иван Яковлевич занят, уходили. За деревянной перегородкой не смолкали голоса, под тяжестью шагов скрипели лестницы. Но ничего не мешало беседе с Крутовым. Сначала он расспрашивал, потом рассказывал сам, объяснял, что к чему. Взял листок бумаги и, жадно затянувшись цигаркой, предложенной Липатовым, стал водить по листу карандашом.
Незатейливый рисунок возник в две-три минуты. По колоннам у входа, по круглому куполу догадались, что это - Таврический дворец. Под крылом длинного здания Иван Яковлевич написал: "Временное правительство". Он подчеркнул волнистой линией слово "Временное", достал газету с фамилиями новых министров:
- Видели?
- Видели, - ответил за всех Курков.
- Поняли, что за птицы?
Авроровцы пожали плечами. Крутов ткнул пальцем в газету:
- Львов - князь, родовитый помещик, Коновалов - текстильный царек, у Терещенко - и земля и заводы. Конечно, такое правительство землю крестьянам не отдаст, за рабочих радеть не будет. С войной не кончит. Пока оружие у вас, у матросов, у солдат, у рабочих, они маневрируют, громкими речами и обещаниями головы забивают.
- Значит, опять драка? - спросил Белышев.
- Время покажет, - ответил Крутов...
С того вечера Курков и Белышев, Лукичев и Липатов, Златогорский, Краснов и Неволин стали ежедневно бывать в доме у Калинкина моста. Здесь их приняли в партию большевиков. Крутов, Пахомов, Ляхин хорошо знали их по заводу.
Первым вожаком партийной ячейки авроровцы избрали Андрея Златогорского. Был он машинным унтер-офицером, так что машинисты соприкасались с ним постоянно. Парень основательный и, хоть окончил лишь трехклассное ремесленное училище, во всем докапывался до корней.
С шестнадцати лет плавал помощником машиниста по Волге. Буксирный пароходик "Севск" посудиной был убогой, но там Андрей узнал, почем фунт лиха, кто его друзья и кто враги и за что надо бороться рабочему человеку.
Когда Златогорский прибыл из машинной школы Балтфлота на "Аврору", машинисты безошибочно почуяли: "Этот парень с нашей начинкой..."
Из дома у Калинкина моста на "Аврору" потекли стопки прокламаций, "Правда". Едва Златогорский с товарищами появлялся на борту крейсера, матросы говорили:
- Братва, пошли большевиков послушаем!
Чтобы привлечь побольше матросов, Николай Лукичев однажды к стихам, напечатанным в "Правде", подобрал мелодию. Мелодия была простенькая, но в конце каждой строки он с чувством ударял по струнам. Дрожащий звук медленно угасал. Подбадриваемый улыбками матросов, Лукичев пел: "Власть" тосковала по "твердыне",
"Твердыня" плакала по "власти".
К довольству общему - отныне
В одно слилися обе части.
Всяк справедливостью утешен,
"Власть" в подходящей обстановке.
Какое зрелище: повешен
Палач на собственной веревке.
"Правду" читали в кубриках, на палубе, возле железной бочки на полубаке, где собирались курильщики, толковали о текущем моменте, о войне и о доме, о земле и о власти. С каждым днем вокруг Белышева, Куркова, Лукичева собиралось матросов все больше. Сергей Бабин, записавшийся в партию эсеров, ревниво поглядывал, как из его группы, поначалу самой многочисленной, то один, то другой перебегают к Белышеву. Вожак анархистов попытался задержать одного из перебежчиков, а он на палубе при всем честном народе отрезал:
- Брось, Серега, зря глотку драть, пойдем правду послушаем.
Газета "Правда" и само понятие "правда" становились для матросов чем-то равнозначным, нерасторжимым.
Большевистская группа на крейсере заметно активизировалась, влияние ее на матросов росло.
Однажды на "Аврору" явился докладчик из Таврического, "златоуст" из меньшевиков, рьяный защитник Временного правительства. Его строгий френч и красный бант над нагрудным карманом были призваны, очевидно, сгладить впечатление, производимое упитанным, розовощеким лицом и бархатным, умиротворенно-убаюкивающим голосом.
- Большевики ратуют за создание революционного правительства без либеральной буржуазии, - сказал оратор. - Мы против подобных крайностей. Вы спросите почему? Извольте, отвечу.
Оратор вышел из-за стола, сложил руки на груди и по-домашнему доверительно продолжал:
- Кто помогал нам свергнуть монархию? Буржуазия. Кто помогает нам наладить экономику, государственный аппарат? Буржуазия. Есть у нее и опыт, и энергия, и желание. Что ж, прикажете оттолкнуть, прогнать союзника? Разумно ли это?
Нам говорят: буржуазия в любой момент может предать интересы народа. Я в это не верю, но допустим... Вот мы и выдвинули лозунг: поддерживаем либералов постольку, поскольку они поддерживают нас...
Оратор разъял сложенные на груди руки, свел пальцы - пухленькие, с золотыми волосиками - в кулак, эффектно закончил речь:
- Пока мы вместе, наш революционный кулак - реальная сила. Выдерните из него хоть один палец - и это уже не кулак...
Несколько сот человек слушали не шелохнувшись. Здорово повернул оратор. Петр Курков, собиравшийся от большевиков выступить первым, замешкался: с чего начать? По глазам, по позам, по тишине - по всему было видно: врезалось в сознание - без пальца, пусть даже одного, кулак не кулак...
И тут, в самую трудную минуту, раздался густой голос комендора Огнева:
- Господин оратор, кулак у вас революционный, а ручка, я вижу, барская!
Смешок покатился по рядам, убивая эффект последней фразы, и, прежде чем он захлебнулся, щеки меньшевика зардели красными пятнами. Все, кто раньше, может, и не обратил внимания, пристально смотрели на пухленькие, с золотыми волосиками пальцы маленьких, не знавших труда рук.
- И ручки барские, и речи барские! - подхватил Курков, вышел из строя, стал лицом к матросской братве и, не переводя дыхания, выложил, как говорится, правду-матку. Он вслед за Огневым назвал оратора "господином". Когда тот попытался протестовать, требуя, чтобы ему говорили "товарищ", Курков напомнил, что гусь свинье не товарищ, что рабочие с мозолистыми руками с либералами в бирюльки играть не хотят, им подай восьмичасовой рабочий день, крестьянам подай землю - обещаниями вот так сыты (он провел по горлу рукой - неизменный жест Куркова, когда он говорил о чем-то непомерно опостылевшем). А насчет войны мнение одно: долой!
Курков говорил так убежденно и так стремительно сменил его перед строем Александр Белышев, что никто и слова вымолвить не успел.
Белышев - спокойный, неторопливый - начал совсем тихо, заставляя напряженно прислушиваться:
- Вы говорите, будете поддерживать либералов постольку, поскольку они поддерживают вас... А мы не хотим их поддерживать нисколько!
Взгляд у Белышева был миролюбивый. Он стоял и как бы размышлял вслух. В негромком голосе была убеждающая сила:
- Зачем играть в кошки-мышки? Мышкой для буржуев мы не будем. Придется им расстаться с заводами, а князьям Львовым - с землями. Постольку, поскольку, господин оратор, все должно принадлежать народу...
Напрасно посланник Таврического решился выступать вторично. Ни скрещенные на груди руки, ни красный бант, который оратору, как он утверждал, дороже жизни, не помогли. Правда, несколько голосов подбадривали меньшевика, выкрикивая: "Правильно!", "Дельно говорит, чего спорить!", но матросская братия гудела, бросала реплики, и многосотголовая палуба пришла к выводу:
- Ну и дали наши, ну и дали!..
Без малого неделю щедрая синева заливала купол над городом. Еще накануне вечернее небо, усыпанное звездами, обещало погожий день. Но утро 23 марта 1917 года выдалось хмурое. Темные тучи тяжело навалились на храмы и соборы. Посуровели улицы. Природа была заодно с людьми. Черные ленты и флаги людской скорби трепал сырой ветер.
Петроград в этот день провожал в последний путь жертвы Февральской революции.
Великий траур пришел в многосоттысячный город. Выстраиваясь в колонны для манифестации, пролетариат проявил такую организованность и такую собранность, каких никогда прежде не демонстрировал.
У людей еще не выветрилась недобрая память о коронационных
торжествах Николая II, когда на Ходынке погибло около двух тысяч человек.
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов решил: ничто не должно нарушить священный порядок проводов борцов революции.
С девяти утра прекратилось трамвайное движение. Каждый район получил свой маршрут. В переулках дежурили санитарные машины. Через улицы протянулись канаты.
Рабочая милиция выставила посты.
Во главе колонн шли распорядители с красными лентами через плечо. Если распорядитель подымал белый флаг - колонна немедленно останавливалась. Без слов, без команд, в скорбном безмолвии замирали шеренги.
В 8 часов утра первым начал шествие Василеостровский район. Из больницы Марии Магдалины вынесли гробы, обшитые красной материей. На стенках гробов надписи: "Павшим борцам". Среди еловых веток багрянились пятна живых цветов.
Дрогнул воздух - шопеновский марш поплыл над оркестрами Финляндского и Кексгольмского полков. Людской поток медленно потек к Марсову полю. Мерно колыхались знамена и плакаты. На огромном плакате, который несли двенадцать рук, в полный рост стояла женщина, олицетворявшая свободу. У ног ее корчились поверженные царские слуги, валялись разорванные цепи.
"Вы жертвою пали, - высоко поднял сильный голос, - в борьбе роковой", - подхватили сотни мужчин и женщин. Идущие взялись за руки, и колонна, вытянувшаяся на многие километры, густой, темной рекой начала вливаться в Марсово поле.
Гигантскую площадь рассекли солдаты. Построившись двумя рядами, они образовали живую улицу. По этой улице двигалась траурная процессия. Процессия ни на секунду не останавливалась. В ее неиссякаемой непрерывности отразилась мощь всенародности. Казалось, не только Петроград, не только делегаты из других городов - вся Россия участвует в шествии.
Несущие гробы, минуя трибуны, входят за ограду. Над братской могилой деревянный помост. Рыдают трубы оркестра. Опускаются в люки помоста гробы. Вот первый уже не виден, и в эту же секунду, заставив вздрогнуть тысячи петроградцев, гремит пушечный раскат с Петропавловской крепости.
А колонны, оставив позади Марсово поле, все текут и текут, заливают Французскую набережную, черной лентой движутся через выгорбину Троицкого моста. Орудийный гул оповещает город: новые гробы с жертвами Февраля преданы земле.
Василеостровский район, чья процессия тянулась через площадь около трех часов, сменяют Петроградский, Выборгский, Невский, Московский.
Из подъезда адмиралтейского госпиталя имени Петра Великого выносят гроб с телом матроса Прокофия Осипенко. Здесь он скончался, смертельно раненный пулями Никольского и Ограновича. На крышке гроба среди цветов и хвои - бескозырка. На ленте золотом - "Аврора".
Весь экипаж крейсера, не считая вахтенных, - в траурном шествии. Тимофей Липатов и Евдоким Огнев несут плакат: "Смерть ваша зажгла великий факел свободы". Слова написаны на широком фанерном щите. Формой щит напоминает контуры "Авроры". Не зря Липатов до полуночи не выходил из своей мастерской!
Лица у обоих окаменело-неподвижные, хмурые. Шаг медленный.
В переулке за канатом выстроились бестужевки, молодые курсистки, ожидающие, когда пройдут матросы. У бестужевок тоже плакат. Он матерчатый, ветер вздул его, натянул, как тетиву. Когда налетает новый порыв ветра, буквы колышутся, как живые: "Всякая благодарность ниже их подвига".
Белышев, Лукичев, Курков, Краснов, Неволин, Чемерисов, Хабарев идут в одной шеренге. Белышев бескровно-бледен. Мало кто знал, наверно, что душа его обнажена, незащищена, открыта чужому горю. Может быть, он вспомнил женщину, которая билась о ледяные камни мостовой в тот памятный февральский день? Или перед глазами Белышева был Осипенко с безжизненной синевой на желтом лице?
У Петра Куркова губы сжаты - признак крайнего внутреннего напряжения. Курков ни свет ни заря побывал в доме у Калинкина моста, принес на корабль до шествия свежие номера "Правды". Влажные газеты остро пахли краской.
Курков на палубе вслух читал статью "Наш памятник борцам за свободу". Он впитывал в себя горячие, раскаленные слова о могучем всплеске народного гнева, о натиске геройски восставших против насилия и произвола, о павших в борьбе, и эти слова становились и его словами, и словами матросов, стоявших на палубе.
"Сегодня - день похорон геройских жертв русской революции, сегодня день радостно-скорбного торжества".
Эти слова звучали и жили в нем, когда вместе с товарищами, влекомый людской рекой, Курков приближался к Марсову полю. Уже пламенели кумачом колонны Павловских казарм, уже колыхались траурные ленты на высоких мачтах, уже раздирал душу шопеновский марш. Сводный оркестр, состоящий из кронштадтских моряков, разместился чуть правее братской могилы. В пяти шагах от оркестра матросы увидели почтенного господина, коленопреклоненного, молитвенно кланявшегося.
Конечно, авроровцы не знали, что секретарь этого господина положил на пятна талого снега деревянную плашку, обтянутую бархатом, и что господин этот - военный министр Временного правительства А. И. Гучков.
Не знали авроровцы и некоторых других мужчин, присоединившихся к процессии. Это были только что вернувшиеся из ссылки депутаты Государственной думы большевики М. К. Муранов, А. Е. Бадаев и Н. Р. Шагов. Один из них - широкоплечий, с густыми усами - сказал:
- Ради этого стоило вернуться из ссылки{18}.
Гроб с телом Осипенко начал погружаться в люк. Знамена склонились, поникли, орудийный выстрел грянул с Петропавловки, и гул пронесся по городу...
Траурное шествие длилось почти до полуночи. Никто точно не мог определить, сколько людей прошло мимо братской могилы{19}. 184 гроба, обтянутых красной материей, было предано земле{20}. Россия в этот день задумалась: неужели эти жертвы не последние?
Некоторые догадывались, многие знали - не последние!
Тысячи ног мирных манифестантов шаркали по петроградскому булыжнику, на который в июле семнадцатого снова прольется рабочая кровь; слепо мерцали зарешеченные окна в "Крестах" - политической тюрьме, куда бросят в июле Куркова, Масловского и их соратников...
А пока гремели трубы военных оркестров. Сквозь морось дождя молочными лучами вспарывали мглу прожекторы. Петроградцы все шли и шли - скорбные, сомкнувшие ряды. Тревожный огонь смоляных факелов раскачивал ветер...
* * *
Шел октябрь семнадцатого. Порывы ветра заносили с набережной на палубу "Авроры" поблекшие, сухие листья. Еще больше их, желтых, увядших, сдувало в реку. Намокнув, они медленно погружались в темную воду.
Старое умирало. Ветер срывал с ветвей обреченные листья. Белышев в который раз выходил на палубу, вглядывался: не идет ли Андрей Златогорский?
В райкоме предупредили: "В "Рабочем пути" печатается статья В. И. Ленина. Не провороньте! И народу почитайте!"
Почему же задерживается Златогорский? Вышла ли газета?
Простор Невы ветер покрыл рябью. Она перекатывалась, убегая и спеша, догоняя небыстрый катерок, пересекавший реку.
Матросы, появляясь на палубе и застигнутые ветром, охотно подставляли свои лица его порывам, и сам Белыщев испытывал нечто ободряющее, когда упругие потоки воздуха ударяли в грудь, трепали ленточки бескозырки.
То, что вершилось в природе, перекликалось с душевным состоянием людей. Вряд ли об этом задумывались - это жило неуловимо, подспудно, день ото дня усиливаясь.
Белышев, став в сентябре председателем судового комитета, острее, чем прежде, подмечал малейшие перемены в настроении команды. Он улавливал и запоминал даже такие оттенки в словах и поступках товарищей, которые некоторое время назад растворились бы незамеченными в круговороте будней.
Как-то он стоял на палубе и увидел, что к трапу подходит Федор Никифорович Матвеев, член Петербургского комитета, большеголовый, лобастый, с выбивающимися из-под кепки светлыми волосами. Он был ровесником Белышева, но казался, пожалуй, старше своих лет - лоб разрезала глубокая складка, взгляд, всегда сосредоточенно проникновенный, выдавал в нем человека, умудренного житейским опытом.
Когда Матвеев подходил к трапу, на посту стоял рыжеволосый, веснушчатый часовой, молодой деревенский парень, недавно прибывший на крейсер из флотского экипажа. Родом парень был с Рязанщины, где-то прослышал, что земляки его захватывают помещичьи земли. Новичок, поначалу тянувшийся к эсерам, за последние неделю-другую заметно переменился, и Белышев искренне обрадовался, что часовой, которому Матвеев предъявил удостоверение Петербургского комитета, заулыбался, пропуская гостя на корабль.
Матвеев очень часто появлялся на "Авроре", вникал в жизнь команды, интересовался настроениями, толковал с матросами, в последний свой визит рассказал Белышеву о Питерской городской конференции и письмо Владимира Ильича к ней. Словом, Федор Никифорович авроровцам был знаком, и, казалось бы, чего удивляться радушной улыбке часового, но Белышев уже научился от отдельных фактов приходить к обобщениям, и веснушчатый деревенский парень существовал для него не сам по себе - он был одним из тех, кто потянулся к большевикам.
Впрочем, сентябрьские выборы в судовой комитет "Авроры" яснее ясного отразили обстановку{21}: из девяти мест шесть в комитете получили большевики. Все шестеро были как на подбор: Петр Курков непререкаемо авторитетный, еще летом избранный командой депутатом Петроградского Совета; Павел Андреев и Николай Ковалевский отличались и твердостью убеждений, и умением донести их до матросов; плотник Тимофей Липатов обладал такой энергией, которой хватило бы на пятерых, решительность его граничила с отчаянностью; Николай Лукичев, как и Белышев, служил машинистом, их связывала тесная дружба. В экипаже Лукичева любили по-особому: он играл на гитаре, пел, и, если надо было "настроить души на нужную волну", всегда обращались к Лукичеву.
Лишь трое из членов комитета еще не вступили в РСДРП (б), но были близки и по духу, и по делам к большевикам: и мичман Павел Соколов, и машинный унтер-офицер Яков Ферябников, и особенно сигнально-дальномерный боцманмат Сергей Захаров. Так что Белышеву не приходилось опасаться, что в решающую минуту члены судового комитета потянут в разные стороны - кто в лес, кто по дрова. Да и команда в основном сплотилась в единый коллектив, и та решимость, которая появилась у рабочих Франко-русского завода, обучавшихся на глазах авроровцев военному делу, и тот накал митингующих толп, и те заряды революционного энтузиазма, которыми был напоен даже воздух великого города, - все это жадно впитывалось матросами, порождая нетерпеливую, накаляющуюся готовность к взрыву.
Семнадцатый год с февральских дней чем-то напоминал гигантский вулкан, то извергавший огненную лаву, то затихавший, но затихавший лишь внешне и ненадолго, потому что в глубинах слышалось неумолчное, нарастающее клокотание.
Особый ритм, особую скорость - у Белышева это четко запечатлелось время обрело с апреля, после возвращения в Россию Ленина.
День этот, точнее, вечер и ночь по-особому врезались в сознание и память Белышева.
Весть о приезде Ильича пришла на "Аврору" из райкома. Белышев известил команду, выйдя на палубу, увидел, что рабочие Франко-русского завода уже строятся в колонну, развернув над шеренгами кумачовые флаги.
"Слухом земля полнится", - удовлетворенно подумал Белышев. Поначалу он засомневался: удастся ли оповестить рабочих? Ведь 3 апреля - праздничный пасхальный день, заводы не работают, ни одна труба не дымится. Да и в воинских частях солдаты и матросы отпущены в увольнение.
Был вечер, темень опустилась на город. Но улицы не замирали, как обычно бывает в позднее время; наоборот, из дворов, из переулков - где струйками, а где густыми колоннами - со знаменами текли и текли люди.
- Беспроволочный телеграф, - сказал Курков Белышеву, догадываясь, что весть о возвращении Ильича передавалась из уст в уста, из дома в дом, из барака в барак, из казармы в казарму.
Приблизясь к Финляндскому вокзалу, авроровцы поразились: колыхались знамена и плакаты, нестройный гул голосов усиливался, люди все прибывали и прибывали.
Сколько собралось народу - определить было невозможно, и, хотя уже на площади негде было упасть иголке, в людское море вливались и вливались все новые потоки.
Петроград, привыкший за годы войны к полусвету, забыл о предосторожностях, отбросил их: Финляндский вокзал, площадь и прилегающие улицы освещались не только высокими фонарями, не только прожекторами, чей свет широкой полосой скользил по людской массе, но и факелами. Встречающие держали их над головами. Пламя подрагивало, то клонясь, то строго выравниваясь и жарко дыша.
Колонны рабочих слились с солдатами, чьи серые папахи возвышались над ушанками и платками. Среди матросов в черных бушлатах авроровцы увидели посланцев Гельсингфорса, узнав их по лентам с надписями "Республика" и "Петропавловск". Тут же оказались кронштадтские моряки, радостно-возбужденные и изрядно вымокшие: они совершили переход по льду Финского залива, уже залитому водой, по-весеннему ненадежному.
Поезд с Лениным опаздывал. Петроградцы не знали, что в Белоострове Ильича встретили рабочие Сестрорецкого оружейного завода и понесли на руках... Наконец тонко запели рельсы, из мрака выплыл огненный глаз паровоза, а вслед за ним - длинная цепь освещенных вагонов.
Все, что было потом, происходило стремительно, ошеломляюще, восторженно, при таком многолюдий, когда детали сливаются в общую картину: порыв встречающих, гром оркестров, перекаты "Ура!", площадь, вдруг замершая, Ленин, поднятый на броневик, озаренный прожекторами, с простертой рукой, провозгласивший:
- Да здравствует социалистическая революция!
Под лучами прожекторов раздвинулась ночь. Ленин на броневике въезжал в Петроград. Не покидало впечатление, что броневик плывет не по брусчатке, что, подхваченный руками рабочих, солдат и матросов, он плывет в их нескончаемом потоке.
Трепетали знамена. Двигались люди. Набирало разбег время.
Да, с апреля время обрело особый ритм. И в череде быстро меняющихся обстоятельств Ленин всегда был. Не только тогда, когда Белышев слышал его, стоящего в распахнутом пальто на броневике, не только выступающего с балкона особняка Кшесинской или с импровизированной трибуны на двадцатитысячном митинге адмиралтейцев. Ленин был близок и тогда, когда голос его доходил из подполья, когда слово его оживало на страницах газет и брошюр, помогая обнажить суть и смысл событий, нацелить куда идти, как действовать!
Вот и сейчас, дождавшись наконец Андрея Златогорского с газетой, Белышев собрал в судовом комитете актив и, пока матросы рассаживались, нетерпеливо развернул "Рабочий путь", скользнул взглядом по объявлениям, вынесенным на самое видное место на первой полосе, по передовице, озаглавленной "Советчики Керенского", и увидел статью с кратким, как выстрел, заголовком: "Кризис назрел".
Белышев поискал глазами подпись и, удостоверясь, что статья подписана Лениным, протянул газету Масловскому:
- Читай!
Никто, кажется, на "Авроре" не владел так голосом, как машинист Василий Масловский. Он никогда не бубнил слова монотонно - одни выделял интонацией, другие произносил так тихо, что приходилось напрягать слух, однако и в том, и в другом случае смысл как бы подчеркивался, запечатлевался.
Даже на митингах, если надо было зачитать резолюцию, матросы неизменно кричали: "Пусть Масловский!" Команда избрала его членом Центробалта второго созыва и делегатом съезда Балтфлота. Вернувшись, Масловский рассказал о съезде так, что было ощущение, будто матросы сами побывали на нем. Ничего не упустил: рассказал и о драме, разыгравшейся в районе Моонзундского архипелага, и о готовности моряков Балтийского флота стать под знамена революции, и о безуспешных призывах лидера левых эсеров Марии Спиридоновой искать компромиссы с Временным правительством...
- Читай! - повторил Белышев, видя, что Масловский погрузился в газету, выжидая, пока откашляется ярый курильщик Николай Ковалевский.
Развернув газету, Масловский держал ее двумя руками. Иногда он распрямлял ее, чтобы удобнее было читать, страница сухо похрустывала, шуршала, и этот шорох казался громким - так было тихо.
Раза два или три Масловский вдруг останавливался, на минуту задумываясь, пытаясь лучше понять прочитанное, и по глазам, по лицам было видно, что и остальные задумываются, сверяя услышанное со своими мыслями. Весть о том, что в судовом комитете читают новую статью Ленина, видимо, облетела корабль, и, не дожидаясь общего сбора, стали появляться все новые и новые люди. Они входили осторожно, неслышно, замирали у стены. Когда прозвучали слова о растущем крестьянском восстании, кто-то глубоко и шумно вздохнул, и Белышев узнал вчерашнего часового, сцепившего большие и неуклюжие, привыкшие к труду руки.
- "Возьмем далее армию, которая в военное время имеет исключительно важное значение во всей государственной жизни, - читал Масловский. - Мы видели полный откол от правительства финляндских войск и Балтийского флота. Мы видим показания офицера Дубасова, не большевика, который говорит от имени всего фронта и говорит революционнее всех большевиков, что солдаты больше воевать не будут. Мы видим правительственные донесения о том, что настроение солдат "нервное", что за "порядок" (т. е. за участие этих войск в подавлении крестьянского восстания) ручаться нельзя. Мы видим, наконец, голосование в Москве, где из семнадцати тысяч солдат четырнадцать тысяч голосуют за большевиков".
- Чего же ждать! - сорвался неугомонный, порывистый Бабин, у которого действия от мысли отделяли мгновения.
Возглас его не вызвал обычного шума, не вызвал реплик. Каждый был захвачен статьей. Каждый принимал ее так, словно она адресована ему лично.
Масловский, наверное, вспомнил о том, что слышал на II съезде Балтфлота: 690 боевых и вспомогательных кораблей, 100 тысяч моряков Балтики отвергают Временное правительство и поддерживают большевиков. Белышев, очевидно, задумался о последнем визите на "Аврору" Федора Матвеева. Обычно он беседовал с моряками, а на сей раз недолго пробыл в судовом комитете и уточнил лишь несколько вопросов: сколько на крейсере стрелкового оружия и боеприпасов; где можно получить снаряды для шестидюймовых орудий; когда "Аврора" сможет отойти от стенки Франко-русского завода...
Андрей Златогорский кивнул Масловскому: давай, мол, продолжай!
И снова авроровцы слушали, слушали в такой тишине, в какой, кажется, не слушали ни одну статью, ни один документ. Последние ленинские строки подводили к единственно верному выводу:
- "Все будущее международной рабочей революции за социализм поставлено на карту.
Кризис назрел..."
Леонид Александрович Демин шел в Адмиралтейство. В скудном свете осеннего дня вряд ли кто-нибудь обратил внимание на безупречно отутюженные брюки, на новую, без единой морщинки, шинель, на рассеянный взгляд мичмана, который явно думал не о том, что попадалось ему на глаза.
На Гороховой ежились на ветру спекулянты, предлагавшие папиросы, двухрублевые свечи и тощие бумажные пакетики с сахаром. Разбрызгивая лужи, проносились автомобили.
Стояла обычная петроградская осень. Небо набухло облаками. Если изредка и проглядывала просинь, ее тут же затягивало пеленой. На полунагих деревьях обреченно подрагивали скрюченные листья. Лишь единожды, когда мичман свернул к главному входу в Адмиралтейство, на секунду выглянуло солнце, зажгло шпиль с вознесенным в небо корабликом, сверкнуло в окнах, в лужах и скрылось за облаками. Стало совсем сумрачно. Надвигался, очевидно, ливень. Демин ускорил шаг. Не хотелось, чтобы форму, надетую впервые, забрызгали мутные потоки холодного дождя. Впрочем, до заветного подъезда оставалось несколько минут ходьбы, и сейчас за массивными стенами длинного, вытянувшегося почти на полкилометра, здания, за колоннами, в одном из кабинетов Адмиралтейства, решится его, Леонида Демина, судьба.
Ближайшее будущее двадцатилетнему мичману представлялось весьма смутно. Петроград жил слухами, предчувствием перемен, тревожными ожиданиями. По вечерам город погружался во мглу, позволяя себе зажигать лишь редкие, блеклые, горящие вполнакала фонари. Опасались немецких цеппелинов. По небу шарили прожекторы, щупая рыхлые облака, выхватывая из мрака участки беззвездного неба.
Правительство во главе с Керенским энергично готовилось к эвакуации из Петрограда. Офицеры, командированные из Москвы, рассказывали, что в белокаменной полным ходом ремонтируют, пристраивают, белят и красят дома для правительственных учреждений.
Наконец морская баталия между русским и немецким флотом в Рижском заливе закончилась. Немцы высадили десант на Моонзундские острова и захватили архипелаг.
У Демина были все основания полагать, что эхо Моонзунда еще сотрясает Адмиралтейство, что Главный морской штаб России похож на кипящий котел и что судьба его, молодого мичмана, будет в прямой зависимости от этих событий.
Предположения не оправдались. Вдоль здания праздно фланировали офицеры без погон, в галифе, ботфортах, вульгарно напомаженные "дамы". У подъезда стояло несколько автомобилей с дремлющими шоферами; один, правда, не дремал, а лениво протирал тряпкой ветровое стекло.
Внутри тоже ничто не напоминало "кипящий котел". По длинным, как лесные просеки, коридорам, по глади беломраморных лестниц не спеша, степенно переговариваясь, проходили офицеры.
Демина принял начальник управления военно-морских учебных заведений генерал-майор Степанов. Он был нетороплив и любезен, предлагал папиросы из серебряного портсигара, говорил об офицерском долге, о верности многострадальному отечеству.
Отвлеченные слова генерала, к чему-то, очевидно, клонившего, наслаивались, как вата, и к сознанию сквозь эту вату так и не пробились.
Демин облегченно вздохнул, получив генеральское благословение и покинув просторный кабинет с тяжелыми, обтянутыми черной кожей креслами.
Капитан I ранга Виктор Яковлевич Новицкий, у которого предстояло получить назначение, разместился в кабинете поменьше, вместо кресел стояли стулья, но склонность к пространным беседам была у него такая же, как у генерала. Особенно поразила Демина степенная неторопливость, размягченность, господствовавшие в Адмиралтействе. Он-то рассчитывал увидеть здесь упругую пружину, приводящую в движение сотни боевых кораблей на просторном театре военных действий...
Сообщив, что Демин направляется вахтенным начальником на крейсер "Аврора", Новицкий чуть ли не дословно повторил слова генерала об офицерском долге и о верности многострадальному отечеству:
- Предупреждаю вас, мичман, что "Аврора" - посудина изрядно засоренная. Смутьянов там предостаточно. Беспорядки. Анархия. Дисциплины нет. Выборный командир Никонов с крейсера ушел, ныне командует лейтенант Эриксон...
Новицкий побарабанил жесткими пальцами по столу, никак не выразив свое отношение к Эриксону, и продолжал:
- Однако не падайте духом. Мы срочно замещаем все вакансии на крейсере. Сегодня направили мичмана Красильникова. Теперь направляем вас. Ремонт на "Авроре" закончен. Наша задача - как можно скорее вытолкнуть эту посудину из Петрограда, увести подальше от митингующих толп. В море авось кончатся беспорядки, начнется служба...
Демин вышел из Адмиралтейства с тяжелым чувством. У подъезда по-прежнему стояли автомобили с дремлющими шоферами. Моросил бесконечный октябрьский дождь.
Лейтенант Эриксон - высокий, сутуловатый, костистый - легко поднялся навстречу Демину. Большие серые глаза на мгновение сузились, изучая мичмана. На крупном, мрачноватом лице - никаких эмоций.
Эриксон в две-три минуты рассказал Демину все, что полагалось рассказать при первой встрече, и отпустил его. За внешней суховатостью были собранность и деловитость. Краткие, отрывистые фразы. Ни одного лишнего слова.
Конечно, после трехминутного свидания какие-либо выводы делать было рискованно, обычно в таких случаях говорят: "Поживем - увидим".
Между тем путь от трапа к каюте командира и от командира к кормовому салону, на время ремонта заменившему кают-компанию, решительно опровергал все, что услышал Демин в Адмиралтействе о беспорядках на "Авроре". Часовой проверил документы, вызвал вахтенного. Тщательно прибранные палубы сверкали чистотой. Самый привередливый боцман вряд ли нашел бы к чему придраться.
Группа рабочих и комендоров возилась возле шестидюймовой пушки, очевидно только что установленной.
"Ремонт закончен", - вспомнил Демин слова Новицкого.
В салоне встретили новичка приветливо. Лица офицеров были открыты и молоды, разве что инженер-механик Чеслав Федорович Малышевич казался человеком зрелого возраста. Тогда еще Демин не знал, что и мрачноватому командиру крейсера лишь недавно исполнилось... 27 лет.
Разговор в салоне шел вольный, раскованный. Молодость презирает робость и оглядки. И Демин, сидя на удобном диване, молчаливо внимал беседующим.
- Позволю себе привлечь ваше внимание, - обратился к офицерам судовой врач Маслов. - Журнал "Солнце России" напечатал стихи о Керенском.
- Ишь! - вскинул кустистые брови Чеслав Федорович.
- Огласите! - потребовало несколько голосов. Маслов прочитал:
Герой и вождь! России светлый гений! За жизнь и мир иди на смертный бой, Иди, великий, радостный, весенний, - Мы - с тобой!
- Нашему бонапартишке стихотворцы приделали крылышки, - заметил, усмехнувшись, Павел Павлович Соколов. - А чье это сочинение?
Судовой врач скользнул по журнальной странице взглядом:
- Лидия Лесная.
- Браво! Браво! - воскликнул Соколов. - Прекрасный пол славит Керенского. Керенский славит прекрасный пол. Ваш подопечный, Лев Андреевич, делает успехи.
Острословы называли Керенского "подопечным" мичмана Льва Андреевича Поленова, который в дни корниловщины возглавил матросскую роту по охране Зимнего дворца. Дважды или трижды Поленов видел премьер-министра и даже отвечал на его вопросы. Когда перепуганный насмерть премьер в честь офицеров, защищавших от Корнилова Петроград, закатил званый обед, за Львом Андреевичем прислали. Матросы видели, как из дворцовых кладовых выносили бутылки с этикетками винного подвала его величества. Но мичман от приглашения уклонился, сказав, что не смеет покидать пост.
Наблюдал Поленов своего "подопечного" и при иных обстоятельствах - на Исаакиевской площади, на торжественном параде женского батальона смерти.
Поводом для торжеств явились присвоение командиру батальона Марии Бочкаревой офицерского звания и вручение ударному батальону боевого знамени.
Для встречи с Керенским остриженным воительницам, очевидно, в последнюю минуту выдали новое обмундирование. Подогнать его как следует не успели. Гимнастерки на ударницах сидели мешковато. Интендантские штаны, сшитые без учета особенностей женской фигуры, подчеркивали нелепость экипировки.
Во время церемониального марша одна ударница слишком рьяно вскидывала правую ногу. Это не обошлось без последствий - размоталась обмотка. Пока ударница, наклонившись, возилась с обмоткой, строй сбился, забуксовал на месте.
Бочкарева, увешанная медалями, метнула на виновницу взгляд. На лице командирши - грубом, почти мужском, с волевыми складками и тяжелой челюстью - обозначилось выражение холодной жестокости.
Говорили, что Бочкарева тяжела на руку, что режим в батальоне каторжный: подъем в пять утра, занятия до девяти вечера, сон на голых досках, повиновение беспрекословное...
Замыкая строй, на левом фланге, грузно топая, шла широкобедрая, грудастая баба. Иначе не назовешь - именно баба. Грудь распирала натянутую до предела гимнастерку. Подходящих брюк в интендантстве, видимо, не нашлось, и она вышагивала по площади в черной юбке, с трудом вскидывая толстые ноги в коричневых чулках.
Генерал Половцев морщился, как от боли. Его адъютант - молодой поручик - беззастенчиво улыбался. Керенский, стоявший на трибуне с торжественно-каменным лицом, приложил носовой платок, словно хотел чихнуть.
Дальше все шло гладко. Батальону вручили знамя, Марии Бочкаревой портупею, шашку и револьвер. Она обнажила сверкнувшее лезвие шашки, поцеловала его и, опустившись на колено, церемонно поклонилась.
Керенский благословил ударный женский батальон смерти на подвиг. И колонна, замыкаемая могучим "солдатом" в черной юбке, под звуки оркестра покинула Исаакиевскую площадь.
Этот фарс, разрекламированный в газетах как высшее проявление патриотизма, оставил у Поленова горчайший осадок. И сегодня, когда Маслов прочитал стихи "Герой и вождь! России светлый гений!..", когда Соколов воскликнул: "Прекрасный пол славит Керенского", Лев Андреевич не сдержался:
- Боже мой, как при таких вождях наше отечество до сих пор не провалилось в тартарары?!
Он произнес эту фразу негромко, но все ее слышали, и Демина поразило: здесь говорят открыто о чем угодно; и еще больше его поразило, что особой реакции эти слова не вызвали, были восприняты как само собой разумеющееся.
- Он и швец, он и жнец, - продолжил разговор Соколов, - и полководец, и флотоводец. Вчера Рига, сегодня Моонзунд, завтра в Москву сбежать с правительством захочет...
Едва был упомянут Моонзунд, в салоне заговорили все одновременно. Морские дела касались каждого особенно близко.
- "Слава"{22} н-на дне, - мрачно констатировал Борис Францевич Винтер.
- Попробуйте повоюйте, - буркнул доктор. - На два наших линкора десять немецких! Случайно, думаете, бинтов у нас не хватает?..
Винтер вздохнул:
- Скоро и нам выходить...
Никто не сомневался, что "Аврора" стоит у стенки Франко-русского завода последние дни. Малышевич заявил: "Машины к плаванию готовы, хоть сегодня пар подымем".
Неясно было другое: куда направят крейсер?
- Как куда?! - не разделял общих сомнений доктор. - Вернемся в свою бригаду{23}. Разве кто-нибудь намерен этому воспрепятствовать?
Доктору не ответили. Собственно, никто и не смог бы ответить. Обстановка складывалась крайне противоречивая, неустойчивая. Почва из-под ног властей уходила. О ближайшем будущем можно было только гадать.
Приказы Адмиралтейства ни в Кронштадте, ни в Гельсингфорсе реальной силы не имели. Сплошь и рядом их отменял Центробалт. Еще свежа была в памяти офицеров история с начальником 2-й бригады крейсеров капитаном I ранга Модестом Ивановым{24}.
Не дождавшись ответа, доктор склонился над страницами журнала "Солнце России". Соколов сел к роялю. Гибкие пальцы легко и привычно побежали по клавишам.
Каждый погрузился в себя, словно никакого разговора перед этим не было. Демин тоже задумался, вспоминая неторопливую проповедь Новицкого и резко изменившееся, ставшее злым его лицо, когда он заговорил о "посудине", которую надо как можно скорее "вытолкнуть из Петрограда".
В дверях появился Эриксон. Он обвел взглядом офицеров, отыскал глазами Винтера:
- Меня и вас, Борис Францевич, срочно вызывают в Адмиралтейство.
Офицеры переглянулись. Когда стихли шаги, Соколов опустил крышку рояля, поднялся:
- Ну вот, кажется, начинается...
Этот поединок приближался с неотвратимой неизбежностью. Собственно, не поединок, точнее, противоборство двух разных позиций.
Эриксон вошел в судовой комитет, остановился у стола, сказал:
- Есть новости.
Хотя лицо командира крейсера, с двумя косыми складками от носа к подбородку, окаймленное красновато-рыжими волосами, было, как всегда, сурово и непроницаемо, Белышев почувствовал: Эриксон возбужден.
Выдвинув из-за стола стул и поставив его рядом с Петром Курковым, Белышев пригласил Эриксона сесть.
Эриксон с секунду колебался. Видимо, он хотел выложить все, с чем пришел, стоя, как бы соблюдая дистанцию между ним, командиром крейсера, и судовым комитетом, и тут же уйти. Но что-то помешало ему так поступить, и после едва заметной заминки он сел на предложенный стул.
Судовой комитет, избранный в сентябре 1917 года, выполнял волю большевиков, а команда подчинялась судовому комитету безраздельно.
Узнав об этом, на крейсере "Россия" собрались матросы всей бригады, а также представители подлодок и линкоров и приняли резолюцию: "Капитану I ранга Модесту Иванову предложить остаться начальником бригады, а всякого вместо него назначенного другого выбросить за борт". После победы Октября В. И. Ленин вызвал в Смольный М. Иванова и беседовал с ним. Впоследствии М. Л. Иванов сыграл видную роль в организации Военно-Морского Флота Советской республики.
Командир крейсера оказался в щепетильном положении: формально он руководил жизнью корабля, на практике все его принципиально важные приказы нуждались в согласовании с судовым комитетом. Даже секретная переписка с Адмиралтейством и командующим флотом контролировалась.
Эриксон прежде едва знал Александра Белышева - невысокого, негромкоголосого матроса, с мягкой улыбкой, немного даже застенчивого, и не предполагал, что, став председателем судового комитета, он обретет такую непререкаемую власть на корабле. Его душевная деликатность и неизменный такт в отношении с командиром крейсера не мешали ему, едва дело касалось существенных проблем в жизни команды, становиться неуступчивым, твердым, бескомпромиссным.
Помимо Белышева в каюте сидел унтер-офицер Курков, член судового комитета, избранный матросами в Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. Волевые, сомкнутые губы Куркова, дерзкий взгляд и резко повернутое к Эриксону лицо не вызывали сомнений в том, с какой решимостью он будет стоять на своей позиции.
Дело было, разумеется, не только и не столько в личных качествах тех или иных людей. Суть была в другом: лейтенант Эриксон как офицер присягал на верность Временному правительству. Керенский ввел смертную казнь за невыполнение боевых приказов. А судовой комитет выполнял лишь указания Центробалта, не признававшего власти Временного правительства.
Большое, угрюмое лицо Эриксона чуть дрогнуло:
- Я получил приказ штаба вывести корабль в море.
Он сказал это буднично, спокойно, ничем не обнаружив внутреннего накала.
- После ходовых испытаний "Аврора" соединится со своей бригадой, пойдет в Гельсингфорс.
- Без согласия Центробалта приказ штаба выполнять не будем, - ответил Белышев.
- Приказ есть приказ, - возразил Эриксон. - Если я его не исполню... Он замолчал, оборвав фразу.
- Запросим Центробалт, - сказал Курков.
- Ну что ж, запросите.
Эриксон. резко встал и пошел к выходу.
Без малого год стояла "Аврора" у стенки Франко-русского завода. Далеким прошлым казались те дни, когда беструбая палуба, заметенная снегом, загроможденная ящиками и железными листами, озарялась синими вспышками электросварки.
Теперь крейсер обрел боевой облик. Высоко взметнулись стройные мачты, поднялись одна за другой могучие трубы, готовые вот-вот жарко задышать. Корабль ощетинился стволами орудий, до поры затаившими свой громовой голос.
Строгие линии "Авроры", удивительная соразмерность всех ее частей, союз поэзии и геометрии, придавали крейсеру ту крылатую легкость, за которой невозможно было угадать водоизмещение почти в семь тысяч тонн, трудно было представить, что в стройном стальном теле размещаются почти шестьсот человек команды, около тысячи тонн угля, машины, мощность которых превышает одиннадцать с половиной тысяч лошадиных сил.
Созданный руками петербургских рабочих, заботливо отремонтированный ими, крейсер снова был молод и надежен.
Обновленный, с устойчивым, еще не выветрившимся запахом свежей краски корабль не забыл и того, что было вчера и позавчера. Здесь, на холодный тик этой палубы, упал, истекая кровью, матрос Прокофий Осипенко; здесь офицеры-монархисты Никольский и Огранович расстреляли молчаливое долготерпение команды.
Отсюда по трапу, дрожавшему от топота матросских башмаков, устремились авроровцы на проспекты и площади Петрограда, объятого пожаром Февральской революции.
По этому же трапу в апреле сошли они на лобастую брусчатку великого города, чтобы в шелесте знамен пройти к Финляндскому вокзалу и встретить Ленина.
Были на этих палубах и безотрадные, трудные дни, дни июля. Матросская братва, обескураженная и подавленная, чадила самокрутками на полубаке. Всех волновал один и тот же вопрос: "Почему? Почему стреляли в демонстрантов?"
На Гороховой, на Садовой, у Гостиного двора лежали убитые. На Литейном проспекте вздулись трупы коней, сваленных выстрелами.
Манифестация вспыхнула стихийно, хлынула на улицы Петрограда, как поток, прорвавший плотину. Застрельщиком выступил 1-й пулеметный полк. "Горючее" накапливалось постепенно: неудачи на фронте, расформирование революционных частей, голод, кабала фабрикантов. С марта семнадцатого властвовало Временное правительство. Керенский взывал: "Граждане капиталисты! Будьте Миниными для своей России. Откройте свои сокровищницы и спешите нести свои деньги на нужды освобожденной России!
Крестьянам. Отцы и братья! Несите свои последние крохи на поддержку слабеющего фронта. Дайте нам хлеба, а нашим лошадям - овса и сена".
Капиталисты не захотели быть "Миниными" и не спешили открывать свои сокровищницы.
Крестьяне давно отдали "свои последние крохи" слабеющему фронту.
Россия жаждала перемен, а Петроград вышел на улицу с единым требованием: "Долой 10 министров-капиталистов!", "Вся власть Советам!".
Из Кронштадта в неуклюжих баржах прибыли многотысячные отряды моряков. Авроровцы присоединились к ним, направляясь к особняку Кшесинской.
Большевики пытались сдержать стихийный порыв, считая, что момент не назрел. Оказалось, сдержать людские потоки невозможно. Они выплеснулись из берегов, наводнили улицы и проспекты. Все подступы к Таврическому дворцу запрудили путиловцы. Тридцать тысяч путиловцев с женами, детьми стояли у стен дворца, и три слова реяли над их головами: "Долой 10 министров-капиталистов!"
Большевики, как всегда на крутых поворотах, решили быть с массами, подчеркивая мирный характер шествий. Нельзя было дать властям повод для провокаций.
Но курок был взведен. Керенский, приказчик контрреволюции, скомандовал нажать на спуск, "правительство примиряющих" превратилось в "правительство усмиряющих".
Загремели выстрелы.
Расправой руководил генерал Половцев{25}. Любитель ошеломляющих действий и хлестких словечек, он приказал: окатить свинцом пулеметов площади и проспекты. А потом по Литейному, где лежали неубранные трупы, проскакал в окружении адъютантов и подручных на пегом коне. Конь размозжил копытом лицо женщины. Густая, темная кровь брызнула на изящную генеральскую черкеску. Половцев брезгливо поморщился...
На помощь петроградскому убийце с "отборными частями" прибыл с фронта меньшевистский поручик Георгий Мазуренко. Рука его эффектно покачивалась на черной перевязи. Опоздав к началу побоища, поручик изо всех сил тщился наверстать...
На Мойке, 32, под прикрытием ночи распоясавшиеся вояки ворвались в редакцию "Правды", учинили разгром, жгли и топтали рукописи, разбивали о стену "ундервуды", обрывали телефонные провода, выплескивали в потолок чернила.
На следующий день на углу Литейного и Шпалерной убили Ивана Воинова, распространявшего "Листок "Правды".
По страницам всех буржуазных газет растекалась ядовитая клевета на Ленина и его соратников. По Петрограду шли аресты.
Бывший адвокат Керенский прикрыл бесчинства черной сотни фиговым листком законности, создал "следственные комиссии" по травле большевиков. Добрались и до "Авроры". Вызванные к следователю Курков, Златогорский, Ковалевский, Масловский, Симбирцев на корабль не вернулись. Моряков засадили в политическую тюрьму "Кресты".
Еще в марте Временное правительство похвалялось, что останется лишь одна политическая тюрьма, как исторический памятник... В июле "памятник" заполнили до предела: в камерах задыхались от тесноты. По свидетельству бывалых, видавших виды заключенных, тюрьма Керенского от царской ощутимо отличалась: кормили еще хуже.
Авроровцы, после долгих проволочек и ходатайств добившись свидания с Курковым, увидели его за решеткой, с сомкнутыми губами, исхудалого, с землистым лицом.
- Пробились! - Курков разомкнул губы, метнул взгляд на тюремного смотрителя, настроившегося слушать разговор. - А мы тут, как в академии, уму-разуму набираемся.
Курков в "Крестах" действительно набирался "уму-разуму". Он сблизился с Павлом Дыбенко, председателем Центробалта, настоящим богатырем, щедро наделенным природой всем, что она могла дать: рост так рост, скроен на совесть, волосы - жгучая чернь, бородка - смоль, зубы - один в один.
О жизни своей Павел Дыбенко говорил вскользь, но иногда к случаю вспоминалось то одно, то другое, и Курков знал, что судьба не очень-то баловала этого богатыря: и батрачил по чужим дворам, и грузчиком мытарился, и на флоте дорожка не сахаром посыпана... В Кронштадте в первом же увольнении не стал во фронт, когда жена адмирала Вирена проезжала, и схлопотал трое суток карцера. Из флотского экипажа угодил служить на линкор "Император Павел I", который матросы прозвали "каталажкой". Пришлось Дыбенко на этой "каталажке" и тиковую палубу стеклом скоблить на яростном солнцепеке, и грести в шлюпке, привязанной канатом к судну, грести до тех пор, пока растертые мозоли на руках кровью не набрякнут...
"В соленой воде меня выварили", - говорил Дыбенко. В тюрьме он не сник и другим сникнуть не давал. Рассказывал: "В феврале вместе с голодными рабочими упитанные буржуа пели: "Долго в цепях нас держали, долго нас голод томил..." Я еще тогда думал: где они, бедные, так изголодались?
В июле они запели иную песню. Остается одно: взять их за горло..."
Разговор между Белышевым и Курковым сквозь решетку, да еще при непрошеном свидетеле, не очень приятен. Но что поделаешь! Смотритель - надо отдать ему должное - беседовать не мешал, стоял с постной физиономией. После февраля 1917-го и аристократы тюремного замка, видно, чувствовали фортуна переменчива.
Белышев, прощаясь с Курковым, заверил:
- Скоро тебя и всех наших, Петя, вырвем отсюда. Недолго вам тюремную баланду хлебать! Нашего полку прибывает. Народ к нашему брату тянется...
И верно: "Аврора" еще не ведала таких времен. Матросы от меньшевиков и эсеров шарахнулись, как от прокаженных. Эсеровские билеты рвали в клочья, швыряли в Неву. Обрывки бумаги уходили в темную воду.
Бесшабашно-разудалый, неудержимо-порывистый Сергей Бабин, водивший в июле свою анархистскую группу под черным флагом, сломал о колено древко.
- Баста! Дураков нет!
Меньшевистский лидер Ираклий Церетели - недавний кумир митингов и собраний - на "Авроре" почувствовал: слушают его матросы, но не слышат. У одних в глазах любопытство, у других на лицах усмешка; смотрят на белые манжеты, на белый воротничок с галстуком, на гладко зачесанные назад волосы, на короткую бородку, удлиняющую остроносое лицо, смотрят, но не слышат. Мельница красноречия вращается вхолостую. А едва дошло дело до резолюции, замотали головами, затопали, зашумели:
- Чего время терять! Кончай! Не наша песня!..
После июльского "пира" быстро наступило "похмелье". Петроград окончательно прозрел, но не присмирел, не притих.
В августе рабочие, вооруженные для разгрома Корнилова, растоптали планы кровавого генерала. Покончив с Корниловым, оружие властям не вернули.
"Нет, - властно сказали рабочие. - Оно еще нам послужит!"
Заводские дворы превратились в плацы для боевой подготовки. Только на Франко-русском более тысячи рабочих записались в Красную гвардию. Слесари, токари, шлифовальщики становились стрелками, пулеметчиками.
Петроград опять заклокотал митингами. В цирке "Модерн", затемненном, как и все городские здания, у трибун пылал смоляной факел. Ораторы, освещенные огнем, призывали к последней схватке.
- Правильно! - гудели под куполом цирка голоса, и от горячего дыхания сотен людей колыхалось пламя факела.
Петр Курков - под напором событий тюремщики освободили Куркова и его товарищей, - возвращаясь с заседаний Петроградского Совета, докладывал на судовом комитете:
- Правительство под предлогом угрозы немцев хочет вывести революционных солдат из города. Мы ответили: дудки!
Новости из судового комитета быстро облетали палубы, а после отбоя долго будоражили кубрики.
Поздно засыпала "Аврора". В ночной мгле слепо мерцали сигнальные лампочки. Не дышали высокие трубы. Безмолвно смотрели в ночь неподвижные стволы орудий.
Стряхнув строительный мусор, обретя боевую готовность, "Аврора" замерла в ожидании, словно знала: всему свое время, всему свой срок. "Аврора", председателю судового комитета Белышеву
Авроре произвести пробу двадцать пятого октября.
Дыбенко Командующему Балтийским флотом контр-адмиралу А. В. Развозову
23 октября 1917 г. Срочно
Сегодня днем председатель судового комитета получил приказание от Центробалта впредь до его распоряжения не выходить из Петрограда. Председатель судового комитета настаивал перед Дыбенко по юзу на необходимости выхода крейсера на пробу машин, которую предполагалось произвести в среду, а завтра должны были перейти в Кронштадт. Дыбенко настаивает на том, чтобы крейсер 25 и 26 оставался в Петрограде. Председатель судового комитета ослушаться распоряжений Центробалта не считает возможным, о чем и заявил мне. Обо всем донесено минмору.
Лейтенант Эриксон
Из постановления Кронштадтского Совета...
...1) Немедленно собрать подготовленные боевые части, погрузить на минный заградитель "Амур", каковой на буксирах вытащить за стенку и затем под собственными парами отправить в Петроград к Зимнему.
2) Линейный корабль "Заря свободы" вытащить с пристани и поставить в канале против станции Лигово для обстрела станции из восьмидюймовых орудий, - в случае наступления или передвижения правительственных войск на Петроград.
3) Погрузить из склада порта в баржу шестидюймовые снаряды для орудий "Авроры" и под буксиром отправить в Петроград в распоряжение "Авроры"...
Постановление Военно-революционного комитета
при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов
1. Гарнизон, охраняющий подступы к Петрограду, должен быть в боевой готовности.
2. На вокзалах должна быть усилена охрана.
3. Не допускать в Петроград ни одной войсковой части, о которой не было бы известно, какое положение она приняла по отношению к нынешним событиям. Навстречу каждой части надо выслать несколько десятков агитаторов, которые должны разъяснить им, направляющимся в Петроград, что их желают натравить на народ.
Корниловские эшелоны, если таковые не подчинятся увещеваниям, должны быть задержаны силой. Надо действовать строго и осторожно и, где окажется нужным, применить силу.
О всех передвижениях войск немедленно сообщить в Смольный институт в Петрограде, Военно-революционному комитету и присылать туда представителей из местных Советов и полковых комитетов для установления связи...
Революция в опасности! Но все-таки ее силы несравненно больше, чем силы контрреволюции! Победа наша! Да здравствует народ!{26}
Председателю судового комитета "Авроры" Белышеву
Центробалт совместно с судовыми комитетами постановил: "Авроре", заградителю "Амур", 2-му Балтийскому и Гвардейскому экипажам и команде Эзеля всецело подчиняться распоряжениям Революционного комитета Петроградского Совета.
Центробалт. Председатель Дыбенко Предписание Военно-революционного комитета
Петроградскому Совету грозит прямая опасность, ночью контрреволюционные заговорщики пытались вызвать из окрестностей юнкеров и ударные батальоны в Петроград. Газеты "Солдат" и "Рабочий путь" закрыты. Предписывается привести полк в боевую готовность. Ждите дальнейших распоряжений.
Всякое промедление и замешательство будет рассматриваться как измена революции. Выслать двух представителей на делегатское собрание в Смольный.
Приказ командующего войсками Петроградского военного округа
1. Приказываю всем частям и командам оставаться в занимаемых казармах впредь до получения приказов из штаба округа. Всякие самостоятельные выступления запрещаю. Все выступающие вопреки приказа с оружием на улицу будут преданы суду за вооруженный мятеж.
2. В случае каких-либо самовольных вооруженных выступлений или выходов отдельных частей или групп солдат на улицу помимо приказов, отданных штабом округа, приказываю офицерам оставаться в казармах. Все офицеры, выступившие помимо приказов своих начальников, будут преданы суду за вооруженный мятеж.
3. Категорически запрещаю исполнение войсками каких-либо "приказов", исходящих от различных организаций.
Петроград дышал предгрозьем. Черные клубящиеся тучи наплывали с залива. Листья, прилипшие к плитам тротуаров, влажно багрянились под ногами. Патруль юнкеров с кроваво алеющими погонами окликнул:
- Стой! Куда идете?
- Куда приказано!
Лукичев огрызнулся, глядя прямо перед собой. Ни он, ни Белышев не сбавили шагу, качнули винтовками с примкнутыми штыками: мол, не трогаем не задирайтесь!
Юнкера не решились остановить матросов.
Александр Белышев и Николай Лукичев шли в Смольный. Час назад пришел вызов: членов судового комитета - к товарищу Свердлову. Зная, что в городе неспокойно, перекинули через плечо винтовки.
Улица - лучший барометр надвигающихся событий. Дома притаились. Многие ворота - на запорах. Окна первого этажа уныло ослеплены ставнями. На перекрестке - рекламная тумба, пестреющая многоцветьем. Афиши наползают одна на другую. В Мариинском театре 72-й раз - "Севильский цирюльник", рядом - "Смерть Гришки Распутина", сенсационная драма в четырех частях. Первые подзаголовки - "Грехопадение" и "За кулисами благочестия" - можно прочесть, остальные заклеены плакатом: "Война до победного конца!" На белом поле плаката - огромный кукиш. Густо зачерненный, с белым ногтем на большом пальце.
Опять патруль юнкеров. На сей раз юнкерам не до матросов - остановили автомобиль, обыскивают, шарят под сиденьями.
Улицы полупустынны. Редкие прохожие, торопящиеся, деловые. На мокрых камнях негулкий отзвук шагов.
- Проскочили! - говорит Белышев.
Впереди - белые стены и знакомые колонны Смольного. Они вырастают из второго этажа и тянутся к крыше.
На углу - жаркий костер, солдаты с красными повязками - свои. Один прикуривает от головешки, другой сладко затягивается, третий читает надписи на бескозырках, смотрит, как Белышев и Лукичев разбрызгивают башмаками лужу, и незлобиво острит:
- Э-гей, братец, гляди не утопии!
У входа в Смольный - красногвардейцы с примкнутыми штыками. Проверка пропусков. Во дворе урчат броневики с заведенными моторами.
Входящие протягивают часовым какие-то бумажки с синими печатями. Бородач в серой шинели, ощупав колючим взглядом Белышева и Лукичева, кивает головой:
- Валяй, "Аврора"!
На площадке - хищный ствол скорострельной пушки. Слева и справа - по "максиму". А внутри помещения - духота многолюдья, круговорот, суета, мелькание солдатских шинелей, матросских бушлатов, кажущаяся неразбериха.
Первая мысль - разыскать своих: несколько суток в Смольном дежурили посыльные от "Авроры" - Сергей Бабин, Иван Чемерисов, Василий Масловский. Да разве их разыщешь? На дверях - старые таблички, оставшиеся от Института благородных девиц, - "Учительская комната", "Классная комната".
Остановили рабочего с пачкой листовок. Он не дослушал до конца, кивнул на матроса в бушлате: "Вон Мальков, он скажет" - и исчез в круговороте людей.
Мальков облеплен солдатами и красногвардейцами. Все требуют, просят, жалуются, говорят одновременно. Тут же зычный голос приглашает: "А ну, получай патроны!"
Патроны раздают красногвардейцам прямо из ящика, только что расколоченного.
Наконец Белышев добирается до Малькова.
- Товарищ Свердлов? Третий этаж!
Матрос в бушлате сказал, как отрубил, и опять утонул в толпе нетерпеливых, тормошащих, требующих.
Яков Михайлович Свердлов принял авроровцев в маленьком кабинете, где, кроме стола и нескольких стульев, ничего не было. Белышев и Лукичев, поставив винтовки в угол, сели у стола. Свердлов сказал:
- Настал час взять государственную власть. Готова ли команда к активным действиям?
Яков Михайлович посмотрел на Лукичева, потом клинышек острой бородки повернул к Белышеву. Белышев встал:
- Готова, товарищ Свердлов.
- Сидите, сидите, - Свердлов кивнул на стул и тихо добавил: - Давайте кое-что уточним.
Вопросы были конкретны: состав команды, сколько матросов и сколько офицеров, если придется действовать, офицеры не помешают?
- В команде уверены, - заверил Белышев. - Вот резолюция, принятая на последнем митинге.
Пробежав глазами по строчкам: "Рабочий класс всегда может рассчитывать на поддержку революционного флота в борьбе с врагами внутри и извне...", Свердлов заинтересовался составом партийной ячейки: сколько матросов, сколько унтер-офицеров, сколько бывших рабочих, крестьян, давно ли вступили в партию?
Ответы, видно, удовлетворили Якова Михайловича. Он вынул из кармана кожаной куртки записную книжку в черном клеенчатом переплете и сделал пометки. Пока он расспрашивал Белышева и Лукичева, никому и в голову не пришло бы, что перед ними человек, почти не спавший несколько суток. Однако, едва Яков Михайлович отключился от беседы и сосредоточился, стала заметна желтизна от безмерной усталости, проступившая сквозь смуглую кожу худого лица. Стол, за которым сидел Свердлов, закрывала карта Петрограда. Она бугрилась там, где стоял телефон, и, не уместившись на столе, свисала почти до пола. Карта вся была в красных пометках. Голубая лента Невы уходила туда, где раскинулись локти Якова Михайловича.
Отложив записную книжку, он скользнул карандашом по голубой ленте, обвел кружком какую-то точку, - авроровцы могли лишь догадываться, что это их крейсер, - спросил:
- Какая помощь Военно-революционного комитета вам нужна?
- Все необходимое у нас есть, - доложил Белышев.
- Хорошо, - сказал Свердлов, как бы подводя итог разговору. - Теперь нам надо назначить на крейсер комиссара. В его руках будет вся полнота власти на корабле. Комиссар - представитель Военно-революционного комитета. Слово за вами.
Яков Михайлович испытующе посмотрел на авроровцев, словно в их глазах можно было прочесть ответ. Застигнутые врасплох, матросы молчали. Они привыкли, что выборы всегда проходили на миру, на палубе, под огнем матросских реплик.
- А вот он, Белышев, - вдруг сказал Лукичев. - Его у нас председателем судового комитета избрали.
- Правильно, - поддержал Лукичева Свердлов. - Разумное решение.
Яков Михайлович снял пенсне, подышал на стекла и протер их носовым платком, сдвинул со стола карту, достал бланк, вписал фамилию Белышева и слева, под датой и номером, пометил: "12 часов 20 минут дня".
Увидев цифру "12 часов 20 минут", Белышев удивленно прикинул, что пробыли в этом кабинете меньше десяти минут. Десять минут, а сколько выяснили, решили! И этот кружок на карте Петрограда, может быть самой главной карте, какую когда-либо знали люди! А сейчас надо прощаться...
Свердлов поднялся, давая понять, что беседа окончена, и, пожимая руки авроровцам, спросил:
- Ваши связные в Смольном есть?
- Есть, - подтвердил Белышев.
- Ждите указаний.
На "Авроре" в канун решающих событий их было сорок два - сорок два большевика. Одни пришли в партию на гребне революционной волны, после февраля семнадцатого, другие - перед штурмом старого мира - в сентябре, октябре.
Из тесноты кубриков, из смрада кочегарок и машинных отделений вышли они навстречу буре. Как большевики родились они в дни борьбы и для борьбы, готовые победить или умереть.
Ветер века обжигал лица, трепал их бушлаты. Раскаленные дни октября предвещали взрыв неслыханной силы.
Сорок два большевика! Много это или мало?
Наверное, Александр Белышев - один из сорока двух, двадцатичетырехлетний матрос, ставший комиссаром "Авроры", - хорошо понимал: простая арифметика бессильна объяснить, что стоит за этой цифрой. А он, Белышев, безошибочно знал: сегодня эти четыре десятка единомышленников - ядро корабля, сердце корабля, питающее полутысячный экипаж неукротимой революционной энергией.
Не так давно, в марте Александр Белышев впервые испытал чувство, о котором трудно что-либо сказать, которое трудно понять, не испытав его. Он вышел из райкома, прошел несколько метров близ Калинкина моста и вынул из кармана картонную карточку с четко впечатанными словами: "Российская социал-демократическая рабочая партия".
Он был в числе первых авроровцев, получивших партийный билет. Он стоял один у моста под хмурым весенним небом, и удивительное, неведомое прежде чувство причастности к великому коллективу охватило его. Теперь у него на каждом заводе, в каждом полку, на каждом корабле были единомышленники!
Морская служба сплачивает людей. Корабль - дом, где ты живешь, где днем и ночью чувствуешь плечо товарища, дом, с которым порою может разлучить только смерть. Но в тот весенний день Александр Белышев ощутил родство более высокое и нерасторжимое - родство братьев по убеждению, по смыслу жизни, по цели, избранной раз и навсегда.
На "Авроре" родилась партийная ячейка. Большевиков можно было пересчитать по пальцам. Но они ни одного дня, ни одного часа не чувствовали себя одинокими. У Калинкина моста светились окна 2-го Городского райкома РСДРП (б). Здесь им всегда были рады, отсюда приходили дружеские советы и помощь.
Не за горами был и Петербургский комитет! Словно угадывая, что надо поддержать большевиков-авроровцев, в самую нужную минуту появлялся Федор Матвеев, умевший распутать клубок самых запутанных вопросов, подсказать, как быть сегодня и что делать завтра.
Когда не в меру активизировались эсеровские и меньшевистские ораторы, Матвеев пообещал Белышеву:
- Поможем.
На "Аврору" из Петербургского комитета приехал Михаил Иванович Калинин. Он ничем не походил на ораторов, бывавших на корабле: ни предельно скромной одеждой, ни манерой держаться. Он чуть сутулился. Молча выслушал авроровских партийцев, едва заметно кивая и поглядывая улыбчивыми глазами.
На церковной палубе, где собрались сотни матросов, Михаил Иванович не спеша снял пальто, чувствуя себя свободно, по-свойски, будто он в кругу семьи. Косоворотка, облегающая шею, темный пиджак - одежда не оратора, а скорее мастерового - все это было несколько необычно. Но едва гость заговорил, едва произнес слова, которые мог бы произнести любой матрос: "Потолкуем о том, почему продолжается война и кому это выгодно", его сразу признали своим.
По существу, Калинин не выступал, не произносил речь, а беседовал, приводил примеры, факты и, незаметно подводя слушателей к выводу, спрашивал:
- Верно я говорю? Вы согласны со мной? И в ответ слышался гул голосов:
- Согласны!
В сознании Белышева запечатлелось: "Вот как надо говорить с людьми!.."
Когда на "Авроре" начала свою жизнь партийная ячейка, десятки нитей потянулись с корабля на Большую землю. Тимофей Липатов, едва вечерело, отправлялся в особняк Кшесинской - в солдатский клуб Военной организации ЦК большевиков, любовно называемой "военкой". Вслед за ним потянулись в клуб другие авроровцы - Иван Чемерисов, Николай Лукичев, Густав Зимзир, Иван Симбирцев.
В клубе слушали они Подвойского и Володарского, из клуба приносили "Солдатскую правду", вести о положении в Петроградском гарнизоне, на фронте, на флоте.
Тимофею Липатову, корабельному плотнику, однажды кто-то из товарищей сказал:
- Ты свою мастерскую, Тимофей, вовсе забросил?
- Да что ты! - возразил Липатов. - Я сейчас самому Керенскому гроб сколачиваю...
Нити связей от "Авроры" протянулись не только в Смольный, не только во 2-й Городской райком РСДРП (б) - они уходили за пределы Петрограда, в Гельсингфорс, где разместилась главная база Балтийского флота, где находился Центробалт. И хотя крейсер стоял у стенки Франко-русского завода, его экипаж был в курсе всех событий, происходивших на "Республике", на "России", на "Диане"...
Посланцы "Авроры" - Яков Федянин, Андрей Зоткевич, Василий Масловский, Александр Белышев - не раз бывали в Центробалте - на яхте "Полярная звезда". Так уж получилось - "Полярная звезда", бывшая царская яхта, стала боевым штабом балтийских моряков. Здесь гремел бас неуемного, не знавшего усталости Павла Дыбенко, отсюда быстрее ветра летели его приказы на корабли, несшие вахту в пенных бурунах Балтики. А в первой половине октября Павел Дыбенко неожиданно появился на "Авроре". Он приехал на съезд Советов Северной области, но нашел время, чтобы побывать на крейсере, уверенно взбежал по трапу, обнял Петра Куркова, с которым сидел в "Крестах", весело пошутил:
- Времена меняются, Петр Иванович! Теперь, пожалуй, тюрьма пригодится для наших тюремщиков...
Дыбенко был в добром расположении духа, сказал, будто пришел на "Аврору" переночевать, однако настойчиво поторапливал с ремонтом крейсера, предупредил:
- Ваши стволы понадобятся Петрограду. Ясно?
Авроровцам хотелось, чтобы председатель Центробалта рассказал о предстоящем подробнее, но он поднял две большие ладони: мол, от разъяснений увольте, придет время - все узнаете. Лишь прощаясь, сказал:
- Ждите юзограмму...
...Узкие ленты юзограмм из Центробалта лежали перед Белышевым. В последней из них было сказано: всецело подчиняться распоряжениям ВРК. А ВРК приказал: судно привести в боевую готовность.
"Настал час взять государственную власть. Готова ли команда к активным действиям?" - вспомнил Белышев вопрос Якова Михайловича Свердлова. Конечно готовы! После тех летних дней, когда VI съезд партии определил единственно возможный путь - путь вооруженного восстания, большевики "Авроры" не сидели сложа руки. И Белышев подумал о тех, в ком был уверен, как в себе: о бескомпромиссном и волевом Куркове, непреклонном латыше Густаве Зимзире, бесстрашном Александре Неволине, неизбывно энергичном Липатове... Белышев не сразу заметил, что думает о друзьях, которые вместе с ним или вслед за ним пришли в партию. В памяти всплыла знакомая цифра: "Сорок два". Сорок два большевика на "Авроре". Много это или мало?
У комиссара были веские основания, чтобы считать: немало. Немало потому, что за ними, за сорока двумя, идет вся команда; немало потому, что сами они пришли в партию в дни борьбы и для борьбы и готовы победить или умереть!
Вечер 24 октября 1917 года в кормовом салоне мало чем отличался от других вечеров. Инженер-механик Буянов просматривал свежие газеты, тихо переговаривался с мичманом Красильниковым. Соколов музицировал на рояле. Борис Францевич Винтер играл с судовым врачом Масловым в шахматы.
Винтер был шахматист незаурядный, знал теорию шахмат, решал задачи, держал в голове множество хитроумных комбинаций, которые легко разыгрывал на доске, ошеломляя противников.
Доктор, вкусивший сладкий яд винтеровских комплиментов, уверовал в свою звезду и упорно стремился хоть раз одолеть соперника. Вытянув из фуражки белую пешку, он пошел первым и повел в наступление обоих коней, не открывая короля и королевы.
Борис Францевич притворно завздыхал, мотая головой:
- Вы не доктор, а погубитель!
- Вас погубишь! - буркнул доктор, втайне вынашивая честолюбивые замыслы.
Винтер уже вывел для атаки офицера и ферзя, и судьба соперника, можно сказать, была предрешена.
Демин деликатно отсел от сражающихся на диван. Дальнейшие события угадывались: сейчас доктор начнет ахать и охать, как, мол, он проглядел, увлекся комбинацией. Винтер будет его утешать: "И на старуху бывает проруха", и опять они расставят на доске фигуры, и все начнется сначала,
Раскрыв книгу, Демин не сразу погрузился в чтение. Последнее время он увлекался Горьким, но сегодня хотелось не читать, а потолковать с кем-нибудь о положении в Петрограде.
За короткий срок молодой мичман вполне акклиматизировался на "Авроре". Он, конечно, и в малой степени не представлял масштаба надвигающихся перемен, однако острая интуиция и жадная наблюдательность помогали впитывать происходящее.
Сегодня подошел к нему унтер-офицер Курков и, сославшись на решение судового комитета, сказал:
- Мы передаем для рабочих ящики с патронами. Прошу распорядиться!
У борта крейсера остановился грузовик, матросы грузили ящики. На верхней палубе показался Эриксон, хмуро поглядел и, ничего не сказав, удалился.
Сгустился мрак, когда Демина вызвал к трапу часовой. Без вахтенного начальника ничего не обходится! Оказывается, прибыл член Военно-революционного комитета Антонов-Овсеенко.
Проверив документы, Демин проводил его в судовой комитет. Общение их было мимолетным, но обостренная восприимчивость редко обманывала мичмана: этот Антонов был из породы одержимых. Одержимость жила во взгляде прищуренных властных глаз. В порывистых движениях, в привычке энергично встряхивать длинными рыжими волосами, падавшими на глаза, угадывалась активная, деятельная натура.
После появления Антонова-Овсеенко заметались рассыльные, собирая комитетчиков. Заседали сравнительно долго. Потом поднялись на ходовой мостик, что-то рассматривали в бинокли...
Конечно, если бы завязать разговор с Соколовым, можно было бы кое-что узнать. Демин еще в тот первый свой вечер на "Авроре" проникся симпатией к Павлу Павловичу. Суждения его отличались убежденностью и самостоятельностью. На флот он попал из университета. Отсюда, наверное, и шла вольность его суждений.
За участие в июльской демонстрации Соколова без конца таскали в следственную комиссию. Приходил он оттуда злой, раздраженный и на все расспросы отвечал, махнув рукой:
- Развели крыс с юридическими петличками. Вот они и копошатся...
Когда приехал Антонов-Овсеенко, Павел Павлович, как член судового комитета, участвовал в заседании, что-то страстно доказывал на ходовом мостике. Теперь он уселся за рояль. Играл он неведомую Демину вещь, играл мечтательно-тихо, медленно перебирая пальцами, чуть заметно покачиваясь в такт музыке.
С Соколовым по осведомленности соперничал мичман Поленов, часто ездивший в город и привозивший оттуда полный короб новостей. Увы, Поленов уволился на берег. Собирались в Петроград еще несколько офицеров, но Эриксон неожиданно предупредил:
- Обстановка усложнилась. Прошу всех ночевать на корабле.
Что "усложнилось" - Эриксон не объяснил. Внешне все оставалось, как было. Время текло медленно. Каждый коротал его по-своему, и Демин, отрешившись от мирской суеты, углубился в книгу.
Дважды или трижды били склянки, он слышал их, как сквозь сон. Шуршали страницы, жандармы рылись в комнате Павла Власова, Ниловна понуро следила за желтолицым офицером.
Внезапно смолк рояль. Демин поднял глаза: перед Соколовым стоял запыхавшийся посыльный. Долетел обрывок фразы: "...срочно в судовой комитет!"
Соколов мгновенно встал, словно весь вечер ждал вызова, одернул китель и скрылся вслед за посыльным.
Шахматисты не оторвали голов от доски. Буянова не было - очевидно, он ушел к машинам. Красильников недовольно бросил:
- Соколов, как челнок, то к нам, то к матросам...
Демин ждал его возвращения. Минут тридцать спустя послышались шаги. К каюте Эриксона шел Белышев. В бескозырке и фланелевке, он шел, никого не замечая, погруженный в себя, сосредоточенный и серьезный.
Свидание длилось не очень долго. Белышев вышел тем же быстрым и резким шагом, и лицо его, не умевшее ничего скрывать, выражало крайнее недовольство, озабоченность и решимость.
Установилась нехорошая тишина. Буксир, причаливший к борту "Авроры", отчаянно дымил. Из салона были видны его корма, заваленная дровами, кочегары с цигарками. Между крейсером и буксиром темнела полоска воды, скупо освещенная иллюминаторами.
"Пришли буксиры", - отметил про себя Демин.
Назревали какие-то события. Эриксон из каюты не выходил...
Еще днем, расстелив в судовом комитете карту, водя карандашом, Антонов-Овсеенко объяснил:
- Вот "Аврора". Вот Николаевский мост. Вот Зимний. Керенский стягивает во дворец юнкеров, прапорщиков, ударников, казаков. Полагаю, без боя не обойтись. Мосты, как вы знаете, в наших руках, кроме Дворцового и Николаевского. Николаевский разведен. Мы обязаны его свести. Открыть дорогу Васильевскому острову на Зимний. А вам надо стать здесь!
Антонов-Овсеенко резко откинул со лба рыжие пряди и упер карандаш в Неву возле Николаевского моста.
- Тогда из окон Зимнего увидят ваши пушки. Понятно?.. Вечером посыльные доставили из Смольного предписание: "Военно-революционный комитет Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов постановил: поручить вам всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами восстановить движение по Николаевскому мосту". К выходу команда была готова: котлы стояли под парами: подошли вызванные из порта буксиры.
Белышев направился к командиру. На легкий разговор он не рассчитывал. Чувствовал: за сдержанностью Эриксона таится несогласие с двоевластием на корабле. Оно накапливается, растет, разъедает, как соль, терпение лейтенанта. Предписание ВРК Эриксон читал неестественно долго. Его крупное, грубое лицо все гуще и гуще багровело. Он оперся на большие, тяжелые руки, поднялся из кресла:
- Крейсер в Неву выводить не буду!
"Не буду!" прозвучало как приговор.
Белышева от Эриксона отделял стол. Они стояли друг против друга и смотрели в упор - глаза в глаза: Белышев - не мигая, Эриксон - не отводя взгляда.
- Выводить не буду, - повторил он. - Фарватер не проверен.
И опустился в кресло.
В судовом комитете сизый папиросный дым наплывал, как туман. Сидели. Думали. Конечно, понимали: фарватер - прикрытие, отговорка. Эриксон не хочет выступать против власти...
Наверное, то у одного, то у другого возникала мысль: "А что, если самим? Без него!" Но вслух эту мысль никто не высказал. Шутка ли! Крейсер!
Сергей Захаров, старшина сигнальщиков, вышедший из юнг, бывалый, тертый, просоленный и продубленный, тоже молчал. Не думал, что Эриксон так вот, в трудную минуту, спину покажет.
Захаров лучше других знал Эриксона. Когда "Аврора" несла дозорную службу в Финском заливе и искала среди шхер проход из Финского в Ботнический, сколько вахт в ходовой рубке отстояли! С виду мрачный, слова не скажет, но, как ни устал, как ни раздосадован, на матросе настроение не сорвет. И корабль выведет там, где ни одно судно не проходило. Штурман не еловый, нет, настоящий штурман Эриксон. А тут - "фарватер". А что, собственно, фарватер?
И вдруг Захарова осенило:
- Фарватер его смущает? Давайте промерим фарватер! Кто со мной?
Заскрипела шлюпбалка. Плюхнулась шлюпка о темную воду. С Захаровым Богатырев, Старцев и еще кто-то.
Ночь выдалась - ни зги. Чернота неба слилась с чернотою воды. Фонарь, оклеенный темной бумагой, давал тонкий, как паутина, лучик. Богатырев освещал цифры на лотлине; из рук Захарова выскальзывал, уходя в воду, пеньковый трос.
Гребли тихо, осторожно. Ни скрипа, ни всплеска. По набережной шарили патрули юнкеров. То и дело вспыхивали желтые зрачки карманных фонарей. В шлюпке замирали: долго ли прошить пулями такую цель...
На корабле росло беспокойство: шлюпка растворилась во мраке, канула как в бездну. Минул час. Минуло полтора. Наконец кто-то из сигнальщиков не зря о них говорят, что ночью лучше совы видят! - крикнул:
- Плывут!
Подняли шлюпку на борт, обступили Захарова, осветили влажный лист с неровной линией проверенного и отвехованного фарватера. Двадцатиоднофутовая осадка "Авроры" надежно обеспечивалась.
- Теперь крыть нечем! - сказал Белышев.
...Командира разыскали в кормовом салоне. Никто из офицеров не спал. Эриксон взял захаровский листок, скользнул по нему взглядом и возвратил Белышеву:
- Ночные промеры... - Покачал головой: - Нет, крейсер в Неву выводить не буду...
Над Петроградом простерся вечер. На "Авроре" уже знали, что отбоя ко сну не будет. На Франко-русском заводе командиры боевых десятков проводили перекличку.
В гулкой тишине полупустынных улиц слышались шаги красногвардейских патрулей. Они замирали в глухих переулках, и люди с повязками на руках и винтовками за спинами, как призраки, исчезали в густой темени осеннего вечера.
В Васильевском, Нарвском, 1-м и 2-м Городских районах шли собрания большевиков. В повестке дня был один вопрос - вооруженное восстание.
В жилых домах в этот вечер постели не расстилали. Кое-где горел свет. В большинстве окон свет не зажигали. Люди чего-то ждали. Одни - со страхом. Другие - с надеждой.
Из 41-й квартиры на Сердобольской, 1/92, вышла женщина. Частые шаги раздавались в полумраке. Она спешила. Там, где мерцали блеклые, матовые фонари, свет на мгновение выхватил из мглы замкнуто-сосредоточенное лицо. И снова шаги - напряженные, торопящиеся.
Тщательно спрятанный, вчетверо сложенный шершавый листок бумаги, как уголек, то согревал, то обжигал ее кожу. Слыша встречные шаги, угадав в сумраке фигуры юнкеров, она чувствовала, как огненный комок подкатывается к сердцу.
Скорее, скорее! Мимо темных, как скалы, домов, мимо опасных перекрестков, с тревожно светящимися фонарями, скорее туда, в Выборгский комитет.
Она знала слово в слово, что написано в этом листке: "Товарищи!
Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя критическое. Яснее ясного, что теперь, уже поистине, промедление в восстании смерти подобно.
Изо всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на волоске, что на очереди стоят вопросы, которые не совещаниями решаются, не съездами (хотя бы даже съездами Советов), а исключительно народами, массой, борьбой вооруженных масс.
...Надо, во что бы то ни стало, сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство, обезоружив (победив, если будут сопротивляться) юнкеров и т. д.
Нельзя ждать!! Можно потерять все!!
...История не простит промедления революционерам, которые могли победить сегодня (и наверняка победят сегодня), рискуя терять много завтра, рискуя потерять все.
...Правительство колеблется. Надо добить его во что бы то ни стало!
Промедление в выступлении смерти подобно".
Одинокая женщина шла вечерним Петроградом. К 23 часам ей надо вернуться с ответом. А тем временем в 41-й квартире на Сердобольской, 1/92, коренастый, невысокий человек мерно вышагивал от стены до стены, останавливался и прислушивался. Его напряженная собранность выдавала крайнее нетерпение. Порою он останавливался, поправлял сдвинувшийся парик и продолжал ходить.
Наконец он услышал на лестнице шаги. Нет, она не могла вернуться так быстро. Он мгновенно подумал о втором окне в столовой, которое открыто - он днем проверил это, - и оттуда по водосточной трубе можно спуститься во двор и нырнуть в лаз в дощатом заборе...
Два коротких, отрывистых звонка: "Свои!"
Порывисто отворяет дверь. Это - Эйно Рахья. Он учащенно дышит. Спешил. Пальто набухло вечерней влагой.
Новости не успокаивают: Керенский хочет развести все мосты, разобщить рабочих, громить районы по одному...
- Едем в Смольный!
Эйно Рахья пытается отговаривать: дорога опасна. Очень опасна. На улицах усилены патрули.
- Едем в Смольный!
Решение твердое и безоговорочное. В кармане - удостоверение на имя рабочего Сестрорецкого оружейного завода Константина Петровича Иванова. Нашлась и какая-то завалящая кепчонка, и повязка легла на щеку - поди разбери, кто это!
В квартире на столе оставлена записка: "Ушел туда, куда Вы не хотели, чтобы я уходил. До свидания..."
Настороженно-тревожны вымершие улицы. Тревожен мрак. И тревожен свет.
Идут двое. У одного - руки в карманах. В каждом кармане - по револьверу. Пальцы согрели пупырчатую сталь рукоятки. Второй, временами поправляя повязку, ступает упруго и быстро.
А вот и трамвай. Он почти безлюден. На задней площадке прицепного вагона тряско и сумеречно.
И опять пешком - через Литейный мост, по Литейному проспекту, по Шпалерной.
Навстречу - конные юнкера. Крупы откормленных коней лоснятся в полусвете. Зычная команда: "Стой! Пропуска!"
Эйно Рахья успел шепнуть: уходите. А сам не вынимает из карманов рук. Два револьвера. Две смерти. Но нельзя поднимать шум. Отругивается: "Какие пропуска? Никто о них не знает!"
Юнкер плетью стегнул коня: не пререкаться же с этим бродягой до рассвета!..
Двое идут по темному Петрограду. Роковая опасность идет рядом. Один думает: "Я должен уберечь и защитить его любой ценой". Другой: "Промедление смерти подобно. Нельзя ждать!!! Можно потерять все!.."
Смольный слепит огнями, клокочет многолюдьем. На втором этаже коренастый человек снимает кепку, снимает парик. Больше не надо быть Константином Петровичем Ивановым. И по длинным коридорам особняка, по прокуренным комнатам сквозь неумолчный перестук "ундервудов", сквозь человеческое многоголосье, сквозь топот бесчисленных ног проносится стремительное, как дуновение ветра:
- Ленин в Смольном!
И вот он уже окружен товарищами и соратниками, и все нити развертывающихся событий - в его руках. Это означает, что пущена "машина восстания на полный ход".
А ночь - темная, осенняя, глухая - дышит стылой сыростью, нависает над бессонным городом, плывет над Зимним, где, пройдя на чердак, в потайную радиостанцию, командующий Петроградским военным округом полковник Полковников докладывал в ставку:
"...положение в Петрограде угрожающее. Уличных выступлений, беспорядков нет, но идет планомерный захват учреждений, вокзалов, аресты. Никакие приказы не выполняются. Юнкера сдают караулы без сопротивления. Казаки, несмотря на ряд приказаний, до сих пор из своих казарм не выступили.
Сознавая всю ответственность перед страной, доношу, что Временное правительство подвергается опасности потерять власть, причем нет никаких гарантий, что не будет попыток к захвату Временного правительства..."
Невероятно быстро и невероятно медленно движется время. Во мраке все, даже Нева, кажется застывшим, и лишь "Аврора" - в сигнальных огнях, и трубы ее вместе с дымом выбрасывают снопы искр, и лейтенант Эриксон отчетливо слышит за дверью каюты тяжелые шаги часового.
"Аврора" содрогалась. Работали мощные машины. Винты выбрасывали из-под кормы пенные потоки. Вода завихрялась и клокотала.
Белышев и Захаров стояли в ходовой рубке. Рулевой Алексей Аникеев занял место у штурвала. Захаров нервничал, покусывая губу. На ней проступила кровь.
- Нам бы отойти от стенки, а там не страшно, комиссар, - сказал он.
Толчки машин, сотрясавшие корпус корабля, словно прокатывались по телу Белышева. Всем существом он почувствовал: ожила громада крейсера - дышит, пульсирует, вздрагивает от нетерпения.
Напряжение последних минут вытеснило тревогу. Еще четверть часа назад могла разыграться трагедия. Команда, узнав, что Эриксон отказался вести корабль, забурлила. Вспыхнувший как порох Сергей Бабин оказался тут как тут:
- Довольно нянчиться! За борт контру!
Он увлек за собой десяток горячих голов и наверняка натворил бы бед, если бы не леденящий окрик Куркова. Белышев, не мешкая ни секунды, поставил у офицерского салона часовых...
Палубы дрожали, как в ознобе. Впереди простиралась ночная муть, плотная и тревожная.
- Согласен! Согласен! - услышал Белышев. Размахивая бескозыркой, бежал Лукичев. - Командир согласен!
Лукичев был старшим над часовыми, приставленными к каюте Эриксона.
- Снять часовых! - распорядился Белышев. - Пусть ведет!
Захаров, облегченно вздохнув, занял привычное место у штурвала. Белышев потеснился - командир стал у машинного телеграфа. Бинокль на груди тускло отсвечивал большими окулярами.
Крейсер, подаваясь то вперед, то назад, работал винтами, размывая отмель, образовавшуюся за год стоянки.
- Отдать кормовой!
Пучки света, струясь из иллюминатора, осветили взбудораженную воду. Полоса, отделяющая крейсер от стенки, росла, расширялась. Навстречу наплывала густая мгла, и лишь где-то в глубине Английской набережной, как вызов мраку, одиноко мерцало окно, повиснув над черной бездной.
Что-то щемяще-тревожное было в этой тишине, в этой темени, объявшей воду и небо. Напряжение росло. Ждали: вот сейчас грянут из мрака пулеметы, полоснут свинцом по мостику, по палубам. Но было тихо. Лишь за бортом слышался негромкий плеск.
Когда вышли на середину реки, задул ветер. Он подхватывал капли моросящего дождя, швырял их в лицо. Впереди - ни зги. Непроглядная, глухая стена. Стучали машины. Горячие толчки отдавались у Белышева в груди.
"Аврора", не раз пересекавшая моря и океаны, совершала самое короткое плавание, но это было великое плавание.
Где же Николаевский мост? По времени пора!
Черная мгла, дождь. Нервно шевельнулся безмолвный Эриксон. И вдруг возглас сигнальщика:
- Мост! Вижу мост!
Резкая команда в рубку:
- Впереди мост! И секунду спустя:
- Малый назад! Полный назад!
Бурлит за кормой вода, упруго расступаясь под тяжестью крейсера.
- Отдать якорь!
Казалось, с борта плюхнулась в воду тяжелая рыбина.
- Мост, - сказал Эриксон Белышеву. - Моя миссия завершена...
Прожектор "Авроры" перекинул световой столб к набережной, метнулся к Николаевскому мосту, вырвав из мрака его массивные, овальные быки и разъятый, вздыбленный пролет. По мосту заметались юнкера. За пустым пролетом - броневичок. Он кажется маленьким, почти игрушечным.
Белышев, напрягая голосовые связки, командует в мегафон:
- Эй, юнкера! Марш по домам! Именем Военно-революционного комитета покиньте мост! Иначе открою огонь!
Орудия медленно поворачиваются в сторону Николаевского моста. Жерла смотрят в упор. Видят ли их юнкера? Свет ярок, как солнце.
Очевидно, разглядели. Или не усомнились в угрозе комиссара. Броневичок задним ходом скатился с моста, словно его сдуло порывом ветра.
Небольшая группа юнкеров задерживается на одном из пролетов. Какая-то фигурка мечется с револьвером в руке. Очевидно, офицер.
Неужели решили обороняться?
Белышев направляет бинокль: да, офицер что-то кричит, что-то внушает, но группка тает на глазах. Вот и офицер, оглянувшись на "Аврору", побежал. Мост очищен!
На полубаке, на шканцах засвистали, заулюлюкали, загремели каблуками матросы, а крепкое русское слово полетело в ночь, вдогонку за юнкерами, ослепленными могучим прожектором.
- Десант - на берег! Свести мост! - скомандовал Белышев.
На воду быстро спустили шлюпку с десантом вооруженных матросов. Круглолицый, дюжий, хриплоголосый электрик Дионисий Ващук, возглавивший десант, бросил гребцам кратко:
- Жми, братва!
Весла разом ударили по воде.
Было 3 часа 30 минут ночи. 25 октября.
В полевом штабе, созданном по решению ЦК РСДРП (б), большая карта столицы, она испещрена пометками. Красные пометки обозначали - свои, черные - враги.
Гарнизон Петрограда, все рабочие - на стороне ВРК. Из Кронштадта, из Гельсингфорса на помощь рабочим и солдатам спешат матросы Балтфлота.
На стороне Временного правительства остались: в Зимнем дворце - школа прапорщиков, женский батальон, инженерная школа, часть Ораниенбаумской школы прапорщиков; в штабе округа - бойцы ударного батальона; на Дворцовой площади - орудия Константиновского артиллерийского училища, заставы и патрули юнкеров.
Временное правительство наступать не помышляло, надеясь получить подкрепления.
Не обошлось без колеблющихся, выжидающих, объявивших себя нейтральными: 1-й, 4-й и 14-й казачьи полки, Павловское училище, Михайловское артиллерийское училище, артиллерийская кавказская бригада, инженерное училище, самокатный батальон, автомобильная школа, автобронеотряд...
Противоборствующие силы группировались, перегруппировывались. Там, где на карте пестрели номера полков, в Петрограде змеились улицы, раскинулись проспекты и площади, по которым уже двигались войска.
Пружина предстоящего сражения неумолимо сжималась, чтобы в нужный момент разжаться с небывалой силой и яростью.
Моросящий дождь густой сеткой повис над городом. Плотное небо навалилось на макушки соборов. Казалось, вот-вот оно опустится еще ниже и скроет от глаз передвижение войск.
Рабочие, красногвардейцы, солдаты нескончаемо двигались улицами, переулками, проспектами. Полки, дружины, сводные отряды обкладывали Зимний. Изредка вспыхивала и быстро гасла перестрелка - стихийная, шальная, нервная.
Разводные мосты - чугунное ожерелье Петрограда - в этот дождливый, свинцовый день не знали отдыха, не ведали передышки. Охраняемые красногвардейцами, выгнув покатые спины, Николаевский, Литейный, Троицкий, Больше-охтинский, Биржевой, Тучков, Сампсониевский и Гренадерский пропускали войска.
"Рабочий путь" на всю первую полосу дал шапку: "Вся власть - Советам рабочих, солдат и крестьян!"
Передовая статья призывала: "Против палачей-корниловцев, против буржуазных заговорщиков, против врагов народа и революции - станем все, как один человек, за свободу, мир, хлеб и землю!"
Военно-революционный комитет, обращаясь к населению Петрограда, заверял жителей, что "гарнизон Петрограда не допустит никаких насилий и бесчинств".
А в это время по Николаевскому мосту проходил Финляндский полк. На плечах солдат мерно покачивались винтовки. "Аврора", словно выплыв из дождевой мороси, обнажив расчехленные орудия, смутно возвышалась над Невой. Матросские патрули прочесывали ближние дворы, окрестные набережные.
Белышев напряженно ждал указаний из Смольного. Смольный молчал.
Утром радист крейсера передал в эфир обращение ВРК: К гражданам России!
Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.
Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено.
Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!{27}
Это было утром. Стрелки часов перешагнули за полдень. Войска все двигались и двигались к Зимнему. Матросы завистливыми взглядами провожали колонны солдат, пересекавшие мост и исчезавшие за поворотом. Нетерпение томило. Самые горячие наседали на комиссара.
- Когда же мы?
- Приказа не было! - хмуро отвечал Белышев.
Наблюдатели доложили:
- Катер!
Черный катер быстро шел по взбугренной ветром Неве. За кормой вился пенный шлейф.
Антонов-Овсеенко легко взбежал по трапу.
- Собирай комитет, скликай актив! - приказал. Белышеву.
Влажное пальто Антонова-Овсеенко пахло сыростью. Растрепанные ветром длинные волосы падали на лоб. Раздеваться не стал - расстегнул верхние пуговицы, окинул взглядом собравшихся:
- Состояние невтерпежное. Временные забаррикадировались в Зимнем. Они - в кольце. В войсках жмут на ВРК: надо кончать!
Антонов близоруко прищурился, вглядываясь в лица. По их выражению нельзя было не понять, что здесь всех жег один вопрос: "Чего тянем? Чего не начинаем? Сил-то сколько!"
- С минуты на минуту начнут прибывать кронштадтцы, - объяснил Антонов-Овсеенко. - Попозже придут корабли из Гельсингфорса. Тогда и ударим. Всей силой!
Он сделал секундную паузу, давая матросам осмыслить сказанное, и заговорил о том, ради чего прибыл на крейсер.
Основной удар по Зимнему предполагается от Николаевского моста. Удар этот нанесут кронштадтцы. В поддержку им выделены силы Васильевского острова: Красная гвардия, Финляндский и 180-й полки, 88-я и 90-я Вологодские дружины.
Павловскому полку и сводному отряду красногвардейцев придется ударить со стороны Миллионной, сжимая кольцо блокады.
- А мы? - не удержался Сергей Захаров, мучимый неясностью: какая же роль отводится "Авроре"?
- Вы запевалы штурма. Первый выстрел даете вы! По вашему выстрелу начинается атака на Зимний. Подымутся все полки, отряды, дружины. Когда? Время сообщим дополнительно. Кроме того, следите за Петропавловской крепостью. Увидите красный фонарь - даете сигнальный выстрел!
- Распушим! - с тревогой сказал комендор Евдоким Огнев и тут же пояснил: - Я не про временных. Их не жалко. Дворец распушим. И нашим, чего доброго, перепадет - орудие шестидюймовое!
Оказывается, Огнев все уже прикинул: стрелять по дворцу, чтоб не задеть здания, можно лишь из бакового шестидюймового орудия.
- Да-а, - протянул Антонов, - может, холостым дать сигнал?
- Можем! - согласился комендор.
- А если понадобится... - Антонов заколебался, очевидно раздумывая: "Неужели устоят? Неужели понадобится?", и добавил: - Если очень понадобится, ударите боевым. Петропавловка поддержит. Но сами не начинайте. Ждите приказа...
Катер понесся по Неве. Навстречу ему уже плыли минные заградители "Амур" и "Хопер". Авроровцы высыпали на палубы. Скоро не только сигнальщики - все увидели и корабли, и кронштадтцев, толпившихся на носу, на шканцах, с боевой выкладкой, с винтовками, готовых с ходу броситься в бой.
"Амур" сигнализировал: "Вся власть Советам!" "Аврора" ответила: "Вся власть Советам!" В воздух полетели бескозырки, замелькали ленточки, загремело "Ура!". На Николаевском мосту замерло движение. Солдаты бросились к перилам, и серые папахи с красными бантами приветственно заколыхались у них в руках.
Теперь оставалось дождаться кораблей из Гельсингфорса. Развертывалась операция, спланированная Лениным: "Окружить и отрезать Питер, взять его комбинированной атакой флота, рабочих и войска"...
Закодированную телеграмму председатель Центробалта Павел Дыбенко получил 24 октября вечером: "Высылай устав. Антонов". Эта телеграмма расшифровывалась так: "Высылай в Петроград миноносцы и вооруженный десант".
Миноносцы, получившие повреждения в Моонзундской баталии, к выходу готовы не были.
Дыбенко пригласил в Центробалт командующего Балтфлотом и старшего флагманского механика. Старший механик доложил:
- Корабли смогут выйти только через двое суток. Павел Дыбенко вызвал механиков с кораблей.
- Ровно в восемь утра миноносцы покинут Гельсингфорсскую гавань.
Рабочие с завода "Сандвик" и матросы с миноносцев ремонтировали корабли. День ли, ночь - работы не прекращались.
- Справимся! - заверил председателя Центробалта инженер-механик с "Забияки" Кюн.
Командующий Балтфлотом Развозов пожал плечами:
- Это невозможно...
Всю ночь Дыбенко отправлял в Петроград эшелоны с вооруженными моряками. Буксиры без сигналов причаливали к пристани. По затемненным улицам, соблюдая тишину, рота
за ротой направлялись к вокзалу. Разверстые чрева товарных вагонов словно проглатывали людей, а на смену им приходили все новые и новые взводы.
От Гельсингфорса до Петрограда протянулась длинная цепочка комендатур. Коменданты на станциях строго следили за часовым графиком. Эшелоны с неумолимой точностью следовали в город Революции.
Председатель Центробалта Павел Дыбенко:
Погрузка проходит без всяких задержек. Эшелоны отходят через каждые полтора часа один за другим. Оркестры музыки играют "Марсельезу". С эшелонов несется громкое, радостное "Ура!".
В 8 часов провожаю последний эшелон и спешу в Центробалт. В этот момент мимо Центробалта стройно, величаво проходят один за другим миноносцы. На них развеваются красные флаги с надписью: "Вся власть Советам!" Команда на уходящих миноносцах и остающихся кораблях стоит во фронт. Оркестры музыки и громовые раскаты "ура" провожают уходящих в Петроград на борьбу. Брунс-парк, залитый утренним солнцем, наполнен народом. Тысячи ликующих взоров рабочих провожают уходящие миноносцы. На лицах остающихся матросов светится вопрос: "А мы? Так и не будем участвовать в петроградском перевороте?"
С "Республики", с "Петропавловска" звонят по телефону и спрашивают: "А мы разве не пойдем в Петроград? У нас все готово. Мы ждем приказания".
- Потребуетесь, и вас пошлем. Пока будьте на страже.
На борту "Полярной звезды" (помещение Центробалта) стоит командующий адмирал Развозов. Обращаюсь к нему:
- Ну что? Теперь поверите?
- Да, это - чудо. Совершается невозможное. При таком рвении и силе желания вам обеспечен успех.
Петр Курков, вызванный на экстренное заседание Петроградского Совета, шел в Смольный, но жил еще впечатлениями ночи. Николаевский мост, с его чугунными узорами на ограждениях, с тонкими профилями коней, сегодня казался таким мирным, а ночью взметнувшиеся над черной Невой, как для прыжка, пролеты хищно противостояли друг другу...
Все сложное, что минуло, так просто! А тогда... И эта стынь на полубаке, и мозглый ветер, и тревожное око одинокого окна на Английской набережной, и бычье упорство Эриксона, и отчаянный крик Бабина: "За борт контру!"
Теперь это позади. Молодец Белышев, в суматохе не сорвался, не отпугнул офицеров. Все они на корабле и, пожалуй, близки к тому, чтобы выступить не против восстания, а с восставшими...
Возбуждение минувшей ночи остывало медленно, спать в эту ночь почти не пришлось, легли, когда светало, а утром
пришло из ВРК обращение "К гражданам России!". Прочитав, что правительство низложено, с минуты на минуту ждали сообщений, приказов, но так ничего и не получили. Между тем войска стягивались к Зимнему, броневики с красными флажками и свежими надписями на башнях "РСДРП (б)" патрулировали перекрестки, курсировали по городу...
В Смольном, едва Курков миновал заслон часовых, делегаты потянулись в зрительный зал, и он, не мешкая, стал пробираться к высоким дверям. Густой поток тек по центральному проходу, рассасываясь по рядам. Куркову повезло: он сел в центре, ряду в десятом, не дальше. Через несколько минут уже не было мест, опоздавшие жались к подоконникам, к белым колоннам. Некоторые ставили винтовки у стен, но многие не расставались с винтовками солдатская привычка, и Курков поставил свою между колен. Сосед его, красногвардеец, весь опоясанный новенькими ремнями, при каждом движении поскрипывал ими и, видимо, наслаждался этим скрипом.
Постепенно зал, набитый до предела, мало-мальски угомонился. Курков оглянулся, пытаясь представить, сколько народу вместили эти стены, эти ряды, и понял, что представить это более или менее точно невозможно.
Среди сидящих было много матросов и солдат, да и рабочие, очевидно красногвардейцы, оказались в большинстве своем вооруженными. Курков, как и другие депутаты Совета, которые пришли в беломраморный зал не только с мандатами, но и с винтовками, пожалуй, не сомневался, что сейчас слово возьмет кто-либо из членов ВРК, доложит, сколько сил у противника, какие силы у нас, как и когда начнется решающая схватка. В воздухе словно висело желанное, горячечно ожидаемое: "Штурм Зимнего начался!"
- В порядке дня, - сказал председатель, - доклад о задачах Советской власти. Докладчик - товарищ Ленин.
Зал замер, неестественно притих и лишь несколько секунд спустя, увидев быстро идущего к трибуне Ленина, взорвался рукоплесканиями и криками. Тысячегорлый гул шквалом ударил в стены, в потолок. Внутренняя охрана Смольного - всполошенные красногвардейцы ворвались в зал, испуганные непонятным, еще не слыханным гулом.
От Куркова, как ни тянул он шею, чьи-то затылки заслоняли трибуну. Никто в эти минуты не сидел. Все-таки он изловчился и увидел большой, покатый ленинский лоб и его подвижные темные глаза. Они чуть-чуть улыбались, собирая едва заметные лучи-морщинки.
Зал долго не затихал, хотя Ленин вынул из жилета круглые карманные часы и недвусмысленно поглядывал на них: мол, время, товарищи, берегите время!
Куркову и прежде приходилось видеть Ильича: и на Финляндском вокзале, когда Петроград встречал своего вождя, и на узком, с невысокой трубчатой оградой балконе особняка Кшесинской, и на плазе Галерного Островка. На плазе - в первом железобетонном здании России - собрались двадцать тысяч человек, в основном кораблестроители, пришел почти весь экипаж "Авроры".
В "Правде" было напечатано объявление: "Сегодня 12 мая в 6 час. вечера митинг протеста против осуждения австрийскими палачами нашего тов. Фридриха Адлера к смертной казни. Митинг устраивает ПК РСДРП.
Адрес: Галерный Островок, Железобетонная площадь. Вход 1 руб., присутствовать могут и не члены партии. Весь сбор будет отослан австрийским и германским интернационалистам, сторонникам Фридриха Адлера и Карла Либкнехта".
Железобетонная площадь, на которой Курков бывал прежде и казавшаяся ему тогда невероятно большой, гигантской, оказалась тесной, не смогла вместить всех желающих. Впереди Куркова, позади, по бокам были тысячи голов, тысячи глаз, которые смотрели на трибуну, ждали Ленина. В ту минуту подумалось: "Как одному овладеть этой массой, повести ее за собой?"
С первых слов Ильича тысячеголовая масса слушала, как один человек. Казалось, люди не дышат, только глаза провожают каждое движение ленинской руки.
Успех был поразительный. Когда, решив послать братский привет рабочим-интернационалистам всех стран, голосовали за резолюцию, против проголосовал лишь какой-то одиночка. Эта одинокая, отверженная рука среди двадцати тысяч рабочих и матросов лишь подчеркнула полное единодушие митинга.
Ленин выступал с дощатого помоста. Матросы, стоявшие ближе к помосту, говорили, что Ильич улыбнулся, увидев, как много вокруг людей в бушлатах. Курков, оттесненный тогда толпой и расстоянием, видел лишь фигуру Ленина, черты лица расплывались. Сегодня же в Смольном Курков был благодарен судьбе, что сидит так близко и что может даже разглядеть, как на подбородке Ильича пробились волосы - видимо, начала отрастать бородка, сбритая в подполье; сегодня голос слышался совсем рядом, обращенный именно к нему, к Куркову.
Когда Ленин произнес первую фразу: "Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась", снова гром рукоплесканий потряс зал. Взрывная сила этих слов, помноженная на тысячерукий всплеск всеобщего энтузиазма, радости, восторга, звучала набатно и долго. В зале ловили каждое слово.
"В корне будет разбит старый государственный аппарат..."
"Отныне наступает новая полоса в истории России..." Справедливый мир. Землю - крестьянам. Подлинный рабочий контроль над производством. Постройка пролетарского социалистического государства.
Люди как загипнотизированные: головы повернуты к Ильичу, глаза устремлены на Ильича, слова его не только слушают - вбирают в себя.
Все ясно. Как тут не согласиться? Вся плотная, ладно сбитая фигура Ленина подалась вперед, к залу, и правая рука тоже энергично подалась вперед, как бы протягивая лежащие на ладони слова.
Ясно не только Куркову. Ясно всем. Разговор уже о завтрашнем дне. О завтрашней жизни. Сосед-красногвардеец кивает, наклоняясь всем корпусом, и его новенькие ремни поскрипывают в тишине...
Прений по докладу не открывали. Делегаты понимали: время не прений время действий. Прямо из зала, заряженные ленинской речью, потекли в казармы, на заводы.
Курков забежал в ВРК. Исхудалый, крупнолицый Подвойский оторвался от бумаг, кольнул взглядом:
- Приказ послан на крейсер. Выстрел - в 21 час!
Курков не уходил: "Неужели все? Неужели никаких инструкций?"
В комнате стояли человек шесть-семь солдат и красногвардейцев. Стол Подвойского завален донесениями, телеграфными лентами. Председатель ВРК то подымал трубку телефона и отдавал сжатые распоряжения, то делал какие-то пометки на бумаге, то тихо подзывал одного из стоявших, и тот исчезал с пакетом, притворив двери. Подвойский работал за десятерых, его худая фигура казалась отлитой из воли, нервов, мускулов. Никто из тех, кто наблюдал его в эти минуты, наверное, не знал, что в 1905 году в Ярославле, на углу Духовской и Романовской улиц, казаки и черносотенцы опрокинули наземь это сильное тело, топтали его ногами, швыряли в него камни.
Отбитый дружинниками, чудом вернулся к жизни этот кремневый человек, в руках которого сегодня сосредоточились донесения, рапорты, телефонограммы из армии и флота, из красногвардейских отрядов, из рабочих дружин.
Наконец он снова оторвался от бумаг и, бросив взгляд на Куркова, повторил:
- В 21 час, Курков! Но смотрите: без красного фонаря на Петропавловке не начинать!
"Боевой корабль, - вспоминал Леонид Александрович Демин, - вооруженный 14 дальнобойными шестидюймовыми орудиями, укомплектованный опытной командой, с налаженной службой и хорошей дисциплиной, представлял собою плавучую крепость, расположенную в центре Петрограда на реке Неве. В Петрограде в это время не было такой воинской части, которая по своей силе и организованности могла бы быть противопоставлена "Авроре". Не было силы и средств, которые бы заставили "Аврору" уйти с занятой позиции"{28}.
Расчехленные пушки крейсера, нацеленные на Зимний, породили неуверенность и страх у Временного правительства и его защитников. Нарастающая паника рождала домыслы и неразбериху.
Подходила к концу ночь на 25 октября.
- Керенский:
Во время моего совещания с командующим войсками явился Роговский, правительственный комиссар по градоначальству, с чрезвычайно тревожными новостями, ни в чем не совпадающими с только что мною выслушанными сведениями полковника Полковникова. Между прочим, от Е. Ф. Роговского мы узнали, что значительное количество судов Балтийского флота в боевом порядке вошло в Неву, что некоторые из этих судов поднялись до Николаевского моста; что этот мост, в свою очередь, занят отрядами восставших, которые уже продвигаются дальше к Дворцовому мосту.
Утро 25 октября.
Керенский:
...Заснуть не мог. Лежал с закрытыми глазами в какой-то полудреме. Не прошло и получаса, как из этого состояния вывел меня фельдъегерь, вошедший в комнату с экстренным сообщением. Большевики захватили центральную телефонную станцию, и все наши (дворцовые) телефонные сообщения с городом прерваны; Дворцовый мост (под окнами моих комнат) занят пикетами матросов-большевиков.
Полковник А. С. Коренев{29}:
Оказывается, что у Дворцового моста, с наведенными на дворец орудиями, стала пришедшая из Кронштадта "Аврора", кроме нее в город прибыли матросские отряды; по слухам, рабочие уже двинулись с Выборгской стороны, громя по дороге правительственные учреждения и стремясь к дворцу, чтобы захватить министров. Обращение Временного правительства
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов объявил Временное правительство низложенным, потребовал передачи ему всей власти под угрозой бомбардировки Зимнего дворца пушками Петропавловской крепости и крейсера "Аврора", стоящего на Неве.
Правительство может передать власть лишь Учредительному собранию, а посему постановило не сдаваться и передать себя защите народа и армии, о чем послало телеграмму Ставке. Ставка ответила о посылке отряда.
Пусть армия и народ ответит на безответственную попытку большевиков поднять восстание в тылу борющейся армии.
25 октября к 10 часам утра Керенский вызвал министров на экстренное совещание в Главный штаб. По свидетельству министра юстиции Малянтовича, у входа в штаб охраны не оказалось. Офицеры проносились с глазами, не видящими встречных. На втором этаже юнкер опирался на ружье, как на палку.
Керенский стоял в окружении министров Коновалова, Кишкина, генерала Багратуни, адъютантов.
Малянтовича поразило бледное, измученное и постаревшее лицо премьер-министра, который стоял, "ни на кого не глядя, с прищуренными веками, помутневшими глазами, затаивши страдание и сдержанную тревогу".
Хотя министр юстиции прибыл на совещание в указанное время, оно уже закончилось. Керенский спешил к своему автомобилю. Второй автомобиль предоставило американское посольство. Предполагалось, что дипломатический флажок обезопасит путь премьер-министра, отправившегося в вояж за войсками, способными задушить восстание.
Последний глава последнего буржуазного правительства в России покидал Петроград.
Министры Временного правительства отсиживались в Малахитовом зале Зимнего дворца. Позолоченная люстра, густо усеянная лампочками, сверкала с неуместной торжественностью и отражалась в огромном настенном зеркале. Лепные потолки, резные двери, колонны, пилястры и камин, облицованные уральским малахитом, высокая ваза с тонкими прожилками - все это как бы смотрело из прошлого на т длинный стол заседаний, за которым никто не заседал. На столе белели хаотически разбросанные листы бумаги. В пепельнице, недокуренная и забытая, дымилась папироса.
Генерал Маниковский полулежал на узком диване у белой V стены с парящими в пространстве аллегорическими женскими фигурками. Бритоголовый адмирал Вердеревский, засунув руки в карманы, быстро ходил из угла в угол. Министр иностранных дел Терещенко то ненасытно и жадно курил, то расчесывал глубокий пробор на круглой голове и часто, покидая Малахитовый зал, проходил в торцовую комнату с окнами на Николаевский мост.
Когда-то старый царский камердинер, получавший от Терещенко щедрые презенты, доверительно показал министру на одном из окон отметину, оставленную Николаем II. На стекле перстнем было нацарапано: "Сидел, смотрел в окно Ники". Теперь в это окно уставились жерла "Авроры"...
Министры в последний раз уселись за длинный стол заседаний в Малахитовом зале, чтобы обратиться с воззванием к населению. Они исторгли его, как прощальный выдох. Вот оно:
"Граждане, спасайте родину, республику и свободу. Безумцы подняли восстание против единственной государственной власти, установленной народом впредь до Учредительного собрания, - против Временного правительства. Члены Временного правительства исполняют свой долг, остаются на своих местах и будут продолжать свою работу на благо родины до восстановления порядка и для созыва в назначенный срок Учредительного собрания, будущего полномочного хозяина земли русской и всех народов, ее населяющих.
Граждане, вы должны помочь Временному правительству. Вы должны укрепить его власть. Вы должны помешать безумцам..."
Когда воззвание было дописано, возник вопрос: как, куда и кому его направить?
П. Малянтович: В холодном свете пасмурного дня, льющегося через высокие окна Малахитового зала, перед нами отчетливо встала панорама города. Из углового окна мы видели широкие просторы могучей реки. Равнодушные, холодные воды... Скрытая угроза притаилась в воздухе. Обреченные, одинокие, всеми покинутые, мы ходили взад и вперед по этой огромной мышеловке, иногда собираясь вместе или группами для коротких разговоров... Вокруг нас была пустота, и такая же пустота была у нас в душе. Мы все сильнее и сильнее испытывали чувство полнейшего безразличия...
Но ведь должен же когда-нибудь наступить момент, когда нам придется издать короткий и решительный приказ. Приказ о чем? Держаться до последнего человека, до последней капли крови? Ради чего?
Если народ не защищает правительство, значит, он не нуждается в этом правительстве..."
Кольцо вокруг Зимнего сомкнулось. Министр государственного призрения Кишкин, получивший полномочия диктатора и всю полноту власти для "водворения порядка", никакой реальной властью уже не обладал. В его распоряжении осталась кучка дворцовых камердинеров и швейцаров и стянутое в Зимний пестрое, разноликое воинство из юнкеров, прапорщиков, ударниц женского батальона, смерти, инвалидов - георгиевских кавалеров и колеблющихся казаков.
Дворец, превращенный в казарму, пестрел полосатыми матрасами, на беломраморных статуях сушились портянки, на полу валялись окурки, консервные банки, цинковые коробки из-под патронов, обрывки газет.
К ударницам Марии Бочкаревой приставали прапорщики:
- Пойдемте к нам. Иначе матросы придут - и вам не поздоровится...
Капитан школы прапорщиков Галиевский говорил поручику Синегубу, командовавшему обороной первого этажа:
- Паршиво, но еще хуже - растерянность правительства. Сейчас получен ультиматум с крейсера "Аврора", стоящего на Неве против дворца. Матросы требуют сдачи дворца, иначе откроют огонь по нему из орудий.
Нервозность, колебания и растерянность царили в Зимнем. Юнкера, ударницы, георгиевские кавалеры расположились во дворце, как в казарме, однако чувствовали: приют ненадежный.
Были во дворце и такие помещения, куда не заглянул ни один из защитников Временного правительства. Под самым их носом туда пробрались посланцы из Смольного во главе с большевиком Михаилом Дементьевым и матросом-авроровцем Борисом Прокуратовым.
Луначарский поручил им охрану художественных сокровищ Эрмитажа.
Десять бойцов прошли гуськом по правому берегу Зимней канавки, перебежали на другую сторону и, выйдя на Миллионную напротив Атлантов, проникли в ту часть здания, где стояли упакованные, подготовленные к эвакуации ящики с ценнейшими картинами. Дементьев и Прокуратов хлебными мякишами опечатали двери. Мякиш, придавленный пятаком, почти не отличался от сургучной печати.
Посланцы Смольного, вооруженные пистолетами и винтовками, прислушивались к малейшим шорохам.
- За ценности отвечаете головой, - предупредил Луначарский. - Отныне это достояние народа.
Десять бойцов революции заступили на бессонную вахту, готовые защитить от любых посягательств богатства, которым суждено было навсегда перейти в собственность к их законным хозяевам...
Вечером в торцовые окна Зимнего неожиданно ударил мощный поток света. Приблизиться к окнам было невозможно - слепило.
- Прожектор с фок-мачты "Авроры", - сказал Вердеревский. - Сейчас начнут.
- Что грозит дворцу, если "Аврора" откроет огонь?
- Он будет обращен в кучу развалин, - ответил адмирал Вердеревский, как всегда, спокойно. Только щеку задергал тик.
Все понимали, что время остановиться не может, но казалось, что оно остановилось. Замерло. Загустело в сырой, вязкой мгле осеннего вечера.
Еще днем ушел в Смольный Андрей Златогорский на II съезд Советов. Еще днем с кронштадтцами к Зимнему ушел отряд авроровцев, возглавляемый матросом-большевиком Александром Неволиным. Рядом с высоким и сухопарым Неволиным шел скуластый, плечистый Константин Душенов.
Еще днем штурман линейного корабля "Заря свободы", прибывшего из Кронштадта снял с карты азимуты и вместе с мичманом Деминым определил расстояние от места стоянки линкора до пунктов, которые, если обстановка потребует, придется подвергнуть обстрелу.
- До встречи на нашей земле!
Штурман, выделив слова "нашей земле", недвусмысленно улыбнулся...
Вечером в Неву вошли военные корабли из Гельсингфорса.
Г. Левченко, командир носового плутонгового орудия на эсминце "Забияка": 25 октября около 19 часов миноносцы "Забияка" и "Самсон" пришвартовались к плавучей пристани у левого берега Невы, вблизи Николаевского моста. С "Авроры" был передан семафор: "Председателям судовых комитетов "Забияки" и "Самсона" после швартовки их к стенке прибыть на крейсер "Аврору".
К левому борту миноносца "Забияка" начал швартоваться миноносец "Самсон". Оба корабля якорей не отдавали, швартовались тросами к береговым креплениям, так как якоря могли повредить подводные кабели.
Белышев по-братски обнял председателя судового комитета "Забияки" Василия Заикина, знакомого по встречам в Центробалте.
- С прибытием! - сказал Белышев.
- С началом! - поздравил Заикин...
Всеми своими мачтами "Аврора" словно вслушивалась в тишину.
Дождь прекратился. Облака поднялись выше, раздвинулись, отступили.
Шальной или преднамеренный выстрел - попробуй определи! - напомнил, что рядом враг. Выстрел раздался со стороны Васильевского острова, пуля рикошетировала, звякнув о левый борт у полубака.
Задраили иллюминаторы броневыми крышками.
В 21 час сигнал боевой тревоги всколыхнул крейсер. Едва горнист выдохнул последние звуки, матросы заняли места по расписанию.
На мостике - судовой комитет. Белышев не отрывает от глаз бинокля, вглядываясь в неподвижную мглу Петропавловской крепости.
Для надежности сигнальщики дежурят на набережной, откуда крепость и шпиль отлично просматриваются. Но и они не видят заветного красного фонаря.
Баковое орудие заряжено холостым зарядом. Десятый час. Что же случилось?
Мичман Соколов поглядывает на часы, недоуменно подергивая плечами. Огромный, молчаливый комендор Евдоким Огнев внешне невозмутим. Он стоит, широко расставив ноги. Лишь желваки ходят на щеках.
Белышев нервничает. Задержка неожиданна, непонятна и, как все непонятное, тревожит. Стрелки ползут: 21 час 15 минут, 21 час 35 минут.
Может быть, Временное правительство сдалось без боя? Почему же такая тишина? Почему - ни посыльных, ни известий? Почему Петропавловская крепость словно растворилась во мраке? Ни огонька!
Между тем Петропавловку объяла та тишина, которая предшествует буре. Получив из частей, выделенных для штурма Зимнего, рапорт о боевой готовности, в крепости зарядили и выдвинули для боя орудия. Оставалось дать сигнал для выстрела "Авроры". Его ждали замершие перед броском войска на Дворцовой площади.
Г. Благонравов, комиссар Петропавловской крепости: Стемнело. Непредвиденное и мелкое обстоятельство нарушило наш план: не оказалось фонаря для сигнала. После долгих поисков таковой нашли, но водрузить его на мачту так, чтобы он был хорошо виден, представляло большие трудности...
21 час 40 минут. Сигнальщики с набережной замигали фонариками. Это означало: над Петропавловской крепостью пополз вверх воспаленно-красный сигнальный фонарь. - Прожекторы на Зимний!
Белышев не узнал своего голоса - такой он был властный.
Световая лавина обрушилась на торцовые окна дворца. Вслед за "Авророй" вспыхнули прожекторы на "Амуре", "Забияке", перечеркнули огненными полосами небо, уперлись в стены домов, заскользили по Зимнему.
- Слушай мою команду! - Белышев напряг голос. - Носовое - огонь!
Яркая вспышка озарила темный силуэт комендора и его расчета, полыхнула, вырвав из мглы полнеба. Громовой раскат, удаляясь, пронесся над Петроградом.
Привкус жженого металла остался на губах чуть оглушенного Евдокима Огнева. В ближайших домах на набережной зазвенели, падая, стекла. Эхо выстрела еще катилось над городом, а брусчатка петроградских улиц затряслась от топота, зататакали пулеметы, выбрасывая из горячих стальных горловин струи свинца. Опоясанные лентами кронштадтцы, порывистые красногвардейцы, солдаты в серых папахах подымались с мокрых осенних мостовых и, не кланяясь пулям, шли на приступ дворца. Поленницы, выложенные перед дворцом, вздрагивали от залпов.
Александр Бычков, матрос десантного отряда авроровцев, участвовавших в штурме Зимнего: На Дворцовой площади не смолкала перестрелка. Мы лежали на стылой брусчатке. Холод пронизывал, прошел сквозь бушлаты. Из-за баррикад, сложенных из бревен, стреляли юнкера. Временами в ружейный разнобой врывалась пулеметная скороговорка. Застрекочет и захлебнется.
Холод и нетерпение подхлестывали нас, хотелось поскорее подняться на штурм дворца, из окон которого сверкали огни. Там горели люстры, было тепло, а мы лежали злые как черти - полумрак, стынь, по брусчатке пули цокают, искры высекают. Того и гляди продырявят череп...
- Чего ждем! - гремел справа от меня Константин Душенов. - Шугануть бы их, чтоб знали наших!
- Потерпи, скоро! - отзывался Александр Неволин, получивший строгий приказ до сигнала "Авроры" не подыматься, не лезть под пули очертя голову.
И наконец дождались. Ахнула наша шестидюймовка так, что дрогнула Дворцовая площадь. Жаль, из-за громады Адмиралтейства не видели мы ни крейсера, ни орудийной вспышки, но голос "Авроры" услышали все. И всех словно кто локтем подтолкнул: разом, без команд, без приказов вскочили, поднялись в рост, и покатилось "ур-а-а-а" - долгое, нескончаемое, тысячегорлое.
Вскакивая, успел я пальнуть по поленнице юнкеров, видел, что соседи мои - Душенов и Подольский - тоже успели выстрелить, а дальше уже не до стрельбы было: слева, справа, впереди - везде свои.
Порыв такой лихой, такой стремительный был, что забыли у про опасность, про вражьи пули, на одном дыхании к баррикадам цепи наши, как волны, нахлынули.
Поленья мокрые, скользят, рушатся. Душенов нагнулся, кричит: "Давай!" Разъяснять не надо - вскочил на спину, оттуда вверх и спрыгнул по другую сторону баррикад.
Юнкеров и ударниц как ветром сдуло. Винтовки брошены, пулемет брошен, а их и след простыл. А впереди, разливая свет из окон, Зимний.
- Вперед, братки! - закричал Неволин. - Добьем контру!"
Александр Неволин, командир десантного отряда авроровцев, участвовавших в штурме Зимнего: Ворвались во дворец. В сумрачном коридоре пахло порохом и сухой известковой пылью. Пыль щекотала горло, слепила глаза, неприятно хрустела на зубах. Разгоряченные люди бежали по коридору мимо мраморных комнат, золоченых залов, огромных зеркал. Из-за бархатных портьер глухо звучали одиночные выстрелы. То вела огонь охрана дворца. Быстро разоружили ее...
По лабиринту коридоров и комнат движемся дальше. В темных углах, под диванами, за драпировками вылавливаем перепуганных безусых мальчишек в юнкерских мундирах и фуражках.
В одном из коридоров повстречали Антонова-Овсеенко с группой красногвардейцев и матросов. Узнав авроровцев, он крикнул:
- Быстрее сюда, товарищи!
Под его командой отправились на розыски засевших министров Временного правительства...
В. А. Антонов-Овсеенко: Обширные залы скудно освещены... Зияет в одном пробоина от трехдюймовки. Повсюду матрацы, оружие, остатки баррикад, огрызки.
Юнкера и какие-то еще военные сдавались...
Но вот в обширном зале, у порога, - их неподвижный четкий ряд с ружьями на изготовку.
Осаждавшие замялись в дверях... Подходим с Чудновским к этой горсти юнцов, последней гвардии Временного правительства. Они как бы окаменели. С трудом вырываем винтовки из их рук.
- Здесь Временное правительство?
- Здесь, здесь! - заюлил какой-то юнкер. - Я ваш, - шепнул он мне.
Но у порога (из зала направо) - новая стена юнкеров, уже дрожащая, растерянная... И внезапно - юркая, подвижная сюртучная фигура:
- Что вы делаете?! Разве не знаете? Наши только что договорились с вашими. Сюда идет депутация городской думы и Совета с Прокоповичем с красным фонарем! Сейчас будут здесь.
Юнкера колыхнулись.
- Вы арестованы, господин Пальчинский, - режет Чудновский, хватая за грудь "генерал-губернатора"...
...Через коридор. В небольшой угловой комнате.
...Вот оно - правительство временщиков, последнее буржуйское правительство на Руси. Застыли за столом, сливаясь в одно трепетное бледное пятно.
- Именем Военно-революционного комитета объявляю вас арестованными.
- Что там! Кончить их!.. Бей!
- К порядку! Здесь распоряжается Военно-революционный комитет!
"Неизвестные" оттеснены...
- А Керенский?! - выкрикивает кто-то.
Диктатора нет. Сбежал!..
- Где премьер?! Кто-то (Гвоздев?) шелестит:
- Уехал еще утром!
- Куда?!
Молчание.
"А туда-то!" Грохает о паркет чей-то приклад.
"Министры" переписаны. Отобраны документы. Тринадцать... Комплект...
Спешно сформирован караул. Оставляю Чудновского комендантом дворца... Выводим "министров"...
Смолк огонь трехдюймовых пушек с верков Петропавловской крепости, стихла винтовочно-пулеметная пальба - голос поднявшегося Петрограда. Уже из столицы, из иностранных миссий, ушли первые телеграммы:
"Большевистский переворот, по-видимому, можно считать совершившимся. В течение нескольких часов столица целиком в руках Петроградского Совета, на сторону которого перешел почти полностью гарнизон. По сообщениям французского посольства, министерство Керенского, оставленное даже казаками, условия которых не были приняты, распущено. Сегодня утром Керенский бежал, сказав, что уезжает в армию. По-видимому, формируется правительство Ленина... Отряды войск Совета занимают город..."
А ночь шествовала по Петрограду, исполненная торжественной необычности. Министры Временного правительства, арестованные в Зимнем и конвоируемые матросами, миновали Троицкий мост и подходили к Петропавловской крепости. Понуро брели министры. Впрочем, они уже были бывшие министры...
Захватывающая дух панорама открывалась с "Авроры": темные силуэты кораблей на Неве и победное метание прожекторов, ослепивших Зимний; изогнутые, в стальных переплетениях мосты, словно прыгнувшие туда, к Дворцовой площади. И люди, люди, люди, запрудившие улицы и проспекты, с оружием, возбужденно-радостные.
Петр Курков стиснул в объятиях Александра Белышева:
- Какой нынче день, Саша!..
Таяла над Россией последняя ночь старого мира. Ленину доложили: приспешники Керенского заключены в Петропавловку.
Николай Подвойский, председатель ВРК: Владимир Ильич молча выслушал сообщение о том, что Временное правительство арестовано и находится в крепости, и сейчас же отправился в свою комнату в Смольном. Сел на стул и, положив на колени книгу, стал писать декрет о земле.
Все были охвачены волнением по поводу взятия власти, а Владимир Ильич уже думал о завтрашнем дне: если завтра утром не будет декрета, то следующий шаг не будет сделан. В таком виде я и застал его, когда приехал в Смольный расставлять караулы...
Ораниенбаум - Воронья Гора
...Я листаю года.
Я читаю событья и строки.
Для души моей стала вершиной
Воронья гора.
Михаил Дудин
Было воскресенье, 22 июня 1941 года. Война уже шла по нашей земле. Там, на границе, танки со свастикой сминали и вдавливали в землю полосатые пограничные столбы, рвали колючую проволоку. Здесь, в мирном пока Ораниенбауме, не сразу можно было разглядеть, какие перемены в жизнь прибрежного городка внесло зловещее слово "война".
Большой черный репродуктор, установленный на привокзальной площади, бросил это слово в толпу экскурсантов. Только что подошел поезд, площадь была запружена народом. На воскресенье приезжали сюда семьями, толпились у лотков с мороженым, у автобусных остановок, предвкушая долгий день воскресного отдыха.
Услышав слово "война", люди отхлынули от лотков, растерянно замерли, явно не зная, что же делать сейчас, в эту минуту. Площадь быстро опустела, отдыхающие и экскурсанты рассосались, разъехались кто куда. Остались одинокие продавщицы мороженого и газированной воды.
В Ораниенбаумской гавани - крейсер "Аврора". Его высокие трубы выбрасывали черный дым. Казалось, вот-вот он отойдет от стенки, развернется и возьмет курс на Кронштадт. Однако у трапа, перекинутого на берег, как обычно, стоял часовой, никаких приготовлений к отплытию на корабле не было. И местные жители, узнавшие о начале войны и приходившие проверить, на месте ли "Аврора", говорили:
- Там и без "Авроры" управятся. Где мы, а где война?!
Никто, видно, не брал в расчет, что "Аврора" была боевым современным кораблем в русско-японскую войну, грозной силой в семнадцатом, а теперь, на пятом десятке своей жизни, стала учебным судном, плавучей школой для будущих морских офицеров.
Еще сегодня вместе с командой крейсера выстроились, придя на митинг, триста курсантов Высшего военно-морского училища имени Фрунзе. Старший политрук Федоров сказал:
- Вы читали на памятнике адмиралу Макарову в Кронштадте слова: "Помни войну". Война ворвалась в наш дом.
Никогда прежде старшего политрука Федорова не видели таким насупленно-серьезным. И когда он сказал: "Война ворвалась в наш дом", шеренги словно дрогнули. Скорее всего, так показалось. Но потому, что Федоров назвал страну "нашим домом", его обращение коснулось каждого - и каждый подумал о своем доме, где жил до службы и где оставил близких, подумал и о том большом доме, границы которого обозначены пограничными столбами.
Курсанты, покинув крейсер, построились у стенки в колонну, взяли шаг ноги взлетали носок к носку, каблуки разом ударили по брусчатке, запевала затянул песню: "Если завтра война, если завтра в поход..."
Песня не успела набрать силу, ее не успели подхватить уже сделавшие глубокий вдох шеренги курсантов - прозвучала резкая команда: "Отставить!"
Тем, кто стоял на палубе, непонятно было, почему недовольный командир оборвал так уверенно и привычно начатую песню. Первым догадался старшина второй статьи Николай Кострюков:
- Правильно сделал. "Если завтра война..." Какое там "завтра", если она сегодня пришла. Нужна новая песня...
Колонна курсантов удалялась без песни, ее провожали взглядами горожане, и здесь, у стенки, трое мужчин, возившихся с парусами на яхте спортобщества "Буревестник", тоже провожали взглядами курсантов, словно до этого ни разу не видели их, отбивающих шаг в тихом Ораниенбауме. И моряки на "Авроре", слышавшие реплику Кострюкова, задумались: такая хорошая песня, еще вчера ее пели, и сразу устарела...
А вокруг все, кажется, было по-прежнему: и ясное небо, без единого облачка, и штиль в заливе. В хороший день Кронштадт, отлично видный из Ораниенбаума, представлялся особенно близким. Невооруженный глаз различал кирпичные трубы морзавода, доки с их надстройками и кранами, кронштадтский собор, громаду линкора "Марат", стоявшего на рейде. Среди прочих судов он возвышался, как Гулливер среди лилипутов, и моряки, даже бывалые, которым довелось слышать раскалывающий небо гул его орудий, произносили короткое слово "Марат" нараспев, вкладывая в него почтение к этому плавучему гиганту: "Ма-р-а-ат".
В Ораниенбаумской гавани царило обычное оживление. Молодцевато, на большой скорости входили "КМ" - катера-малютки и тральщики. Командиры на мостиках глядели лихо, с морским шиком сбив чуть набок фуражки с высокой тульей. Вслед за катерами вход в гавань затягивал противоминной и противолодочной сетью старенький, потемневший от копоти, смахивающий на чугунный утюг буксирчик. Голос его тоже был старческий, сипловатый, накрененная труба выбрасывала дым не вверх, а немного в сторону.
Как бы там ни было, но буксирчик уже нес службу, продиктованную военным временем.
На "Авроре", по-прежнему мирной, с зачехленными орудиями, пока неясно представляли себе, какие новые задачи будет решать крейсер. Курсантов, проходивших на корабле практику, отозвали. А что ждет команду?
Палуба, если у моряков выпадала досужая минута, не пустовала. Корабельные пророки - что за крейсер без пророков! - обычно курили, комментировали прочитанное и услышанное, а сегодня пытались заглянуть в будущее, предсказать завтрашний день. Командир отделения трюмных машинистов Николай Кострюков перед самой войной готовился к демобилизации. Общительный и компанейский, он не раз на полубаке рассказывал, как вернется к себе на Урал, как войдет в дом, сверкая надраенными пуговицами и нагрудным знаком, какого там, на Урале, пожалуй, и видеть не видывали.
Еще и двух месяцев не прошло, как Николаю Кострюкову перед строем экипажа вручили знак отличника ВМФ. Приказ о награждении подписал сам нарком. "Аврора" в тот день, празднично расцвеченная, вышла по Неве к мосту Лейтенанта Шмидта, и это подчеркивало торжественность и значимость награды.
Сегодня, поняв, что демобилизации не будет, что о ней и думать нечего, что не скоро суждено появится у своих земляков, Кострюков утешал себя и своих товарищей мыслью: "Война есть война, двинут нас к берегам Германии, на Пиллау пойдем или на Росток, покажем, где раки зимуют!"
Главбоцман Тимофей Черненко прогнозов Николая не разделял: мол, посудина наша, хотя и заслуженная, но старая, век свой отслужила, в дальний поход не пошлют.
И Черненко мотнул головой в сторону Кронштадта, и все посмотрели на громаду "Марата", понимая, что если уж посылать к берегам Германии, то посылать самых мощных.
- Куда пошлют, туда и поплывем, - примирительно сказал Саша Попов, коренастый и широколицый наводчик. До призыва на флот он служил водолазом и умел, о чем бы ни завели речь, сворачивать на любимую дорожку - к рассказам о своей профессии. Он и сейчас, помолчав немного для приличия, посетовал, что после войны в скафандре ему дневать и ночевать: ведь сколько кораблей со дна подымать придется!
Скептик Черненко и тут окатил собеседника холодной водой: ты, мол, сперва доживи до конца войны, а потом уж вздыхай да утопленников подсчитывай. Чего лезть поперед батьки в пекло...
Но люди так устроены, что каждый видит события своими глазами, и видит их по-своему. Даже Иняткин - парикмахер из боцманской команды - не умолчал. Его беспокоило дело житейское, возникшее сегодня в ряду других дел: встанут под ружье миллионы людей, всех остричь надо!
- Эх, брадобрей, - вздохнул кто-то из старослужащих. - Всем бы твои заботы!..
Лейтенант Александр Антонов, тоже стоявший на полубаке, казалось забыв обо всем на свете, наблюдал за тем, как играет на поверхности залива плотва. На самом деле он слушал беседу моряков и сам думал о том же, что и они. Конечно, разговор был немного наивен. Да это и неудивительно: ребята, пришедшие на флот из сел, из городов, мирные по природе своей, мечтали о мире, а не о войне. И в те первые часы с естественной наивностью рассуждали о случившемся. Да и он, Антонов, два года назад став лейтенантом, в сороковом высадившийся с десантом под Выборгом и знавший, почем фунт лиха, смутно представлял себе завтрашний день войны. Антонов хорошо понимал Кострюкова, чьи планы развеялись как дым, потому что и собственные планы рухнули как карточный домик. Лейтенант готовился в Военно-морскую академию, шансы на поступление были реальны. Немного смущал немецкий язык, хромало произношение, хромала грамматика, но на помощь пришла жена Ольга. Она закончила ЛИИЖТ - Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, язык ей давался хорошо, и они по воскресеньям занимались часа по три.
Сегодня занятия полетели к черту, однако командир отпустил Александра на часок домой, чтобы предупредить: отныне с корабля отлучаться вряд ли придется, да и останется ли корабль в Ораниенбауме?
Она провожала, его в гавань. На улице Володарского остановились возле деревянного дома с застекленной терраской, с белыми наличниками на окнах, постояли у невысокой ограды, перечитывая слова на мемориальной доске. Антонов множество раз проходил мимо этого дома, знал, что в 1914-1915 годах здесь жил В. А. Дегтярев, талантливый русский оружейник, но сегодня будто увидел впервые и стеклянную терраску, и мемориальную доску и с тоской подумал: минули времена винтовки, пусть даже автоматической, пришла пора линкоров, бомбовозов, гаубиц, танков...
У трапа "Авроры" стоял часовой. На шканцах маячили три-четыре фигуры: матросы кого-то ждали, выглядывали.
- Прощаться не будем, - сказал Антонов Ольге. - Еще забегу...
И вот сейчас, наблюдая за играющей плотвой, Александр жалел и не жалел, что не простился с Ольгой. Не жалел, потому что и тогда под Выборг десант бросили внезапно, не было прощаний-расставаний, лживо-утешительных слов, и он вернулся живой-невредимый, малая царапина не в счет. Жалел, потому что как артиллерийский командир знал: дважды снаряд в одну воронку не ложится - один раз вышло так, другой раз может обернуться иначе.
На воду упала тень чайки, и плотва мигом ушла в глубину. И плотва и чайки - все это было ни к чему Антонову, повод постоять у правого борта, чтобы поскорее увидеть катер, на котором будут возвращаться из Кронштадта вызванные туда командир и старший политрук.
Что бы ни делали и ни говорили в тот день на "Авроре", все жили одним, ждали одного: куда направят крейсер?..
Закопченный буксирчик, пыхтя, раздвигал противоминную сетку, открывая вход в гавань тральщику. Тральщик не успел отдать швартовы, резко ударили колокола громкого боя, где-то неподалеку завыла сирена, то истошно-яростная, то на мгновение почти затихающая, и вслед за криками "Воздух!", "Воздух!" захлопали зенитки.
По направлению разрывов Антонов легко разыскал в небе маленькую точку вражеского разведчика. Многомильное расстояние делало его игрушечным, на солнце он вспыхивал, серебрился и плыл в синеве раздражающе медленно.
Зенитную скороговорку Ораниенбаума подхватил и Кронштадт, били с "Марата", били с фортов. Все небо покрылось пучками разрывов, но разведчик продолжал свой неторопливый полет.
- Высоко, не достать!
Это крикнул, кажется, Кострюков.
Самолет удалился в сторону Финляндии.
Война была еще далеко от Ораниенбаума, но ее холодное дыхание словно сдуло, унесло дачников с южного берега Финского залива. Опустели многочисленные деревянные домики, уютно спрятанные в зелени. Почти все они летом сдавались в наем, каждый, как терем-теремок, был полон.
Как назло дни стояли солнечные, зелень, напоенная обильными дождями конца мая - начала июня, росла буйно, быстро и щедро. С неуместной торжественностью расцвели нарциссы, налились краской тюльпаны. В палисадниках небывало густо разрослись неприхотливые маргаритки. Среди них на тонком и длинном стебле возвышался рыжий подсолнух. Пряным дурманом тянуло со дворов от разросшегося жасмина.
Все это цветущее царство доставляло радость разве что одним пчелам. На заборах, где прежде белели квадратики листков с объявлениями о сдаче в наем комнат, теперь висели приказы военкома о призыве в армию и постановления Ленсовета: "Привлечь... граждан Ленинграда, Пушкина, Колпина, Петергофа и Кронштадта к трудовой повинности для выполнения оборонных работ".
Даже Большой Ораниенбаумский дворец, созданный в начале восемнадцатого века, - всемогущий магнит для экскурсантов - враз утратил свою притягательную силу. Над полукруглыми крыльями купольных павильонов покинуто кружили голуби, оставленные без постоянной подкормки. В канале, соединяющем дворцовый парк с морем, плескались мальчишки.
Еще неделю назад экскурсоводы работали с такой нагрузкой, что к вечеру голоса становились хриплыми. Слишком много было такого, о чем не рассказать было невозможно: и о тех временах, когда Петр Великий подарил эти земли "светлейшему князю" Меншикову, и почему, собственно, Ораниенбаум называется Ораниенбаумом. Притча о померанцевых деревьях, стоявших по всему парку в кадках, вызывала неизменный интерес, потому что именно оно, померанцевое дерево (в переводе на русский язык - Ораниенбаум), и дало имя будущему городу...
Теперь экскурсоводы-мужчины ушли: кто в армию, кто на оборонные работы, а экскурсоводов-женщин включили в комиссию, возглавленную почтенным представителем из Ленинграда, который хмуро ходил по увеселительному "китайскому дворцу" и записывал, что подлежит эвакуации, что надо укрыть на случай бомбежки.
Еще непривычно было слово "эвакуация", не верилось, что на этот невысокий, изящный, вписанный в парк и прикрытый его кроной дворец могут сбросить бомбы. Зачем? Разве это военный объект?
Да, война была еще далеко, во всяком случае так казалось, но по улицам городка уже шли группы мобилизованных. Шли мимо двухэтажного деревянного дома с фотографией в нижнем этаже, мимо кинотеатра "Смена", мимо бани с котельной и чадящей трубой. Мужчины пытались соблюдать строй, но часто сбивались с ноги; у некоторых на пиджаках алели значки "Ворошиловский стрелок" и ГТО. За ними по тротуару, а те, что посмелей, - прямо в шеренге шли жены с котомками, со свертками торопливо приготовленной снеди, по давней традиции и по горькому зову судьбы провожали своих защитников и кормильцев на сечу, на войну, под пули и бомбы...
С левого борта "Авроры" открывался вид на Ораниенбаум - не курортный, не дачный, не праздный: колонны полувоенных мужчин, не останавливаясь, пересекали город, удаляясь в сторону Петергофа. Там, очевидно, было место сбора мобилизованных.
В конце июня так же, как в первый день войны курсанты-фрунзенцы, у стенки перед крейсером построились авроровцы. Сформированные в специальный батальон для действий на суше под началом военинженера III ранга Орлова, те, кто еще час назад были моряками, стали пехотинцами. На ленточках бескозырок горело имя родного корабля.
Батальон запел морскую песню "Уходим в плаванье к далекой гавани..." сухопутных еще не разучили. Их провожали - иные с завистью: "Уходят в дело, наверное горячее, раз моряки потребовались!", другие с горечью и недоумением: "Что же у нас - пехоты мало, что флот на берег списывают?!"
Им отвечали: "И пехоты немало, да так всегда было. Разве Нахимов без матросов в Севастополе обошелся бы? А в гражданскую?"
Минул день-другой, и опять приказ: тридцать пять человек для усиления Чудской флотилии. Возглавил отряд старший лейтенант Яков Музьфя.
Авроровцы, смотревшие фильм "Александр Невский" кто по три, кто по четыре раза, хорошо помнили, как русский князь топил немецких псов-рыцарей в Чудском озере. Корабельный плотник Арсений Волков не замедлил обратиться к Якову Музыре с подковыркой:
- Товарищ старший лейтенант, говорят, с 1242 года на Чудском ни одного немца не было. С кем же воевать там будете?
- Зато там снеток, сиг, ряпушка, - вторил Волкову Саша Попов. - И ершик для ухи водится. Мелковатое озеро, водица мутная, все же рыбное.
Злоязычники острить острили, однако и задумывались: с "Авроры" сняли орудия малого калибра, на канонерские лодки устанавливать будут. Вот тебе и Чудское озеро! Значит, могут появиться фашисты!
Вслед за Музырей большой отряд моряков направили на Ладогу.
8 июля 1941 года пришел приказ командующего морской обороной Ленинграда и озерного района контр-адмирала К. Самойлова: сформировать из комендоров крейсера батарею специального назначения "Аврора". Материальная часть - девять корабельных орудий главного калибра.
К борту крейсера подошла баржа, вслед за ней - плавучий морской кран. Комендоры подвели стальные тросы под казенную часть. Тяжело качнулись опутанные тросами, как паутиной, мощные стволы. А по земле уже гремели тягачи, тянули деревянные волокуши.
Непривычно было смотреть на крейсер без бортовых орудий. Притихли, загрустили корабельные острословы. Даже большеглазый Арсений Волков не каламбурил, прощаясь с товарищами, мотал головой и морщил свой большой, мясистый нос. Про его нос говорили, что он все за версту чует.
- Прощайте, братцы! - только и сказал Арсений.
Артиллеристы-авроровцы уезжали на грузовиках. Лейтенант Антонов сидел в кабине полуторки. Саша Попов задержался - никак не мог расстаться с Кострюковым. Полуторка тронулась, Попов ухватился за борт и забрался в кузов на ходу.
Машины, познавшие на своем веку превратности бездорожья, скрипели, тряслись и постанывали. Возле дома с бочкой под желобом и с окном, выходящим в палисадник, Антонов высунулся в окошко кабины. Во дворе никого не было. На веревке висело махровое полотенце, и одинокий рыжий подсолнух, возвышаясь среди маргариток, смотрел на дорогу.
8 июля 1941 года, вернувшись с совещания в ставке Гитлера, начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Гальдер записал в своем "Военном дневнике": "Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы. Задачу уничтожения этих городов должна выполнить авиация. Для этого не следует использовать танки. Это будет "народное бедствие, которое лишит центров не только большевизм, но и московитов (русских) вообще".
В этот же день, оставив у подножия Вороньей горы "эмку", инженер-капитан I ранга Григорий Лазаревич Соскин и старший лейтенант Дмитрий Николаевич Иванов поднялись на вершину. Стояла безоблачная погода. Обзор открывался на многие километры.
Иванов впервые был на Вороньей горе и внимательно разглядывал сначала ближайшие деревеньки, высоты, покрытые сосняком, синюю змейку Дудергофки, озера, отсвечивающие на солнце. Вдоль озер вилась линия железной дороги. Кудлатый дым из трубы бегущего паровоза помогал следить за движущимся составом. Высоту Кирхгоф венчала церквушка с колокольней. Иванов про себя отметил, что это подарок судьбы для наблюдателей. Потом он начал всматриваться в даль. В его глазах сосредоточенность сменилась радостью, он даже улыбнулся.
- Видите? - спросил инженер-капитан I ранга.
- Вижу, - подтвердил старший лейтенант. Обоим было ясно, о чем речь: Иванов видел Ленинград, видел Исаакиевский собор.
- Совсем близко. И все как на ладони.
Соскин, как все кадровые военные, был немногословен. По дороге из Пулково, где разместился командный пункт артиллерийского дивизиона, до самого Дудергофа он не проронил ни слова. На его худом, тонком лице, в раздумчивых глазах прочесть что-либо было нелегко.
Иванов знал, что Соскин - опытный и авторитетный артиллерист, преподавал в военной академии, имеет ученые труды. Не случайно ему поручили командовать дивизионом специального назначения, в который вошли батарея "Б" - "Большевик", - расположенная в Пулково, и батарея "А" - "Аврора", дислоцирующаяся на Дудергофских высотах. Отсюда до Ленинграда рукой подать. Если командование решило установить здесь стационарные батареи и делает это в срочном порядке, значит, оно допускает, что сюда могут прийти гитлеровцы?
Мучимый проклятым вопросом, Иванов не задал его Со-скину. Он давно усвоил неписаное правило: все, что старший начальник сочтет нужным, он скажет сам.
Инженер-капитан I ранга развернул карту: позиции орудий батареи "А" расположатся на территории почти в пятнадцать километров. Замелькали финские названия деревень: Пелгала, Пёляля, Карвола, Рецеля, Перекулья, Мурилово, Вариксолово. Иванова заинтересовало: почему такие названия на исконных русских землях?
Соскин, видно, хорошо знал историю этих мест. В XVII веке их захватили шведы. Захватив, переселили сюда финских крестьян.
- Впрочем, - инженер-каперанг провел карандашом по карте, - из расположения вашей батареи значительная часть населения эвакуирована. Нужна секретность. Эти деревни почти пустынны...
Когда они спускались с горы, Соскин рассказал Иванову, что под Дудергофом Александр Федорович Можайский проводил испытания летательного аппарата, пролетевшего двести метров у северного склона Вороньей горы.
Они прошли к северному склону и увидели внизу просторное поле, на которое приземлился летательный аппарат Можайского. Сейчас оно зеленело ботвой картофеля. Вспомнив слова инженер-каперанга, что население эвакуировано, Иванов подумал: для усиления флотского котла пригодится...
Соскин свернул с тропы. Трава была высокая, сочная. Встречались кусты орешника. Мирно окликала кого-то тонкоголосая пичуга: "у-и, у-и". Послышалось тихое журчание воды.
Соскин наклонился над родником. Родник бил из-под коряги. Вода была с голубоватым оттенком и настолько прозрачна, что на дне различались промытые камешки, даже песчинки. Упругая струя шевелила невесомые усики травы.
Сложив из ладоней ковш, Соскин сделал несколько глотков:
- Водой батарейцы обеспечены превосходной. В былые времена отсюда в бочках возили ее в Петербург и продавали.
Иванов догадался: командир дивизиона изучил эти места досконально, учел все мелочи и так, незаметно, как бы невзначай, вводит его в обстановку.
Не задерживаясь, они миновали деревушку - покинуто-печальную, с заколоченными дверьми и ставнями, с лавочками перед избами, на которых никто не сидел, с маленькими, еще незрелыми плодами на яблонях. Откуда-то выбежала к ним забытая кошка, нерешительно остановилась и, поведя зелеными глазами, метнулась во двор. Одичать она не успела, но дух вольной дикости уже бродил в ее жилах...
"Эмка" стояла не там, где они ее оставили. Водитель подогнал ее к старой ели так, что мохнатые хвойные лапы укрыли кабину.
"Во всем у него порядок", - подумал Иванов почему-то не о шофере, а о Соскине.
Командир дивизиона отбывал в Пулково. Командир батареи оставался у Вороньей горы, чтобы встретить личный состав. Инженер-каперанг инструктировал кратко:
- Прежде всего маскируйте пушки. Тщательно, безупречно, так, словно их нет и не было! Личный состав у вас надежный - авроровцы. Ядро батареи есть. Наводчики опытные. В ближайшее время получите пополнение из флотского экипажа. Новичков придется обучить. Не хватает врача и начпрода. Обещали прислать. Туговато с транспортом - территория у вас немалая. Пока выделяю полуторку и велосипед. Плохо со стрелковым оружием, надо бы побольше гранат, пулеметов, автоматов. В штабе развели руками, сказали: "Авось не понадобится". "Авось" - не мой бог...
На худом, тонком лице инженер-каперанга появилось нечто вроде гримасы недовольства, и, как бы подводя черту разговору, он вскинул руку к козырьку:
- Действуйте!
"Эмка", раздвигая еловые лапы, выехала на проселок, взметнула пыль и укатила в сторону Пулкова.
Большую карту страны политрук батареи Адриан Адрианович Скулачев раздобыл в Дудергофе, в школе. До полуночи он провозился с ней, что-то чертя, пытаясь нанести линию фронта. Занятие оказалось не из легких: в глухих сводках той поры населенные пункты назывались редко, чаще сообщалось: "По всему фронту идут упорные бои".
Обводя кружками города, оказавшиеся во вражеских руках, Адриан Адрианович называл гитлеровцев и гуннами и вандалами и приговаривал: "Чтоб вам всем осиновый кол был памятником!"
В палатке карту повесить было негде. Скулачев готовил ее для будущих политинформаций. Матросы нетерпеливо ждали вестей с фронта.
Иванов, вернувшись на КП после объезда батареи, политрука в палатке не застал. Лежали записка: "Ушел к Желудкову" - и свернутая трубочкой карта. Желудков командовал девятым, самым отдаленным орудием. Карту Адриан Адрианович, видимо, не закончил и оставил. Иванов развернул ее. Линии, пунктиры и стрелы Скулачева изрезали Украину, Прибалтику, приблизились к Смоленску. Взгляд пересек карту и задержался на Севастополе: от Ольги, жены, не было ни одного письма. Дмитрий Николаевич давил тревогу, считая ее необоснованной, убеждал себя, что пора привыкнуть к капризам почты. Но тревога не рассеивалась, а мысли о "капризах почты" не утешали.
Взгляд снова заскользил по синим изгибам рек, по черным колеям железных дорог, вверх, вверх, от Крымского полуострова к голубому пятну Балтийского моря. Дудергофа на карте не было - не тот масштаб! - но была Луга, к которой рвались фашисты. На большой карте нагляднее обозначалась огромность территории, захваченной врагом, и угрожающе близким показалось острие фашистского наступления, нацеленного на Ленинград.
Иванов не стал подсчитывать, сколько километров до Луги: сто пятьдесят или сто семьдесят, в конце концов степень опасности определяется не только расстоянием - иной километр может оказаться роковым, гибельным. Он вспомнил каламбур о Багратионе, которому доложили: "Противник на носу", после чего Багратион поинтересовался: "На чьем носу? И нельзя ли еще отобедать?.." Почему-то этот каламбур сегодня не веселил, и думалось о тысячах людей, рывших окопы и противотанковые рвы в окрестных балках, близ дорог, на высотках. Появилось новое слово - "оконницы". Иванов видел их на полях и в перелесках от Красного Села до Дудергофа. Им, казалось, не было числа этим женщинам с кирками и лопатами, взмокшим от напряжения, непомерно усталым, но готовым возвести земляной вал и земляные крепости на пути врага.
На одном из перекрестков дорогу перегородил тягач с прицепом. В прицепе лежали бетонированные капониры, противотанковые ежи. Пришлось остановить полуторку. Иванов и его шофер Костя вышли из машины. Перед ними бугрилась влажная, комковатая земля, только что вырытая окопницами.
Костя взял в руки горсть земли. В ней, извиваясь, копошился червь. Костя брезгливо стряхнул его:
- Ишь жирный! Словно крови насосался...
Иванов догадался, о чем подумал Костя. Промолчал.
Рядом долбили землю окопницы. Видно, попался жесткий, глинистый пласт. Одна из них, вонзив в грунт кирку, утерла пот и задиристо-зазывающе обратилась к Косте:
- Эй, матросик, чего зря стоишь? Аида на помощь!
Крупный, плечистый Костя не походил на "матросика". Окопница кольнула парня, очевидно, из простого расчета: чем больнее кольнешь, тем быстрее откликнется.
- Где уж мне уж, - отшутился Костя. - Сегодня еще и каши не ел. А что вы роете, девочки?
Окопница уставилась на матроса удивленно синими глазищами: мол, сам не видишь, что роем, с неба, что ли, свалился? И подбоченясь, окинув взглядом товарок, поглядев на упрямую, затвердевшую под солнцем землю, помрачнела лицом, зло сказала:
- Гитлеру могилу роем, ясно?..
На батарее дела пока складывались неплохо. Матросы вырыли котлованы для орудий, дворики. Специалисты, приехавшие из Ленинграда, дворики забетонировали. Установили пушки.
При установке стационарных орудий нужна абсолютная точность. На башню ставится банка с водой. Если не прольется ни капли - значит, перекоса нет.
Ленинградцы потрудились на совесть, пушки стояли надежно. Авроровцы повеселели, словно сюда, на склоны Дудергофских высот, перенесли часть корабля. Орудийные дворики называли не иначе как палубой и были довольны.
Оставалось прочистить стволы, замаскировать орудия, оборудовать погреба для боеприпасов, заняться устройством личного состава.
Из девяти командиров орудий пятерых - Александра Доценко, Алексея Смаглия, Ивана Овчинникова, Алексея Голубова и Леонида Желудкова - Дмитрий Николаевич знал по Севастополю. Они были его курсантами (он преподавал курс артиллерии в Черноморском высшем военно-морском училище1). Народ подобрался крепкий, за них Дмитрий Николаевич был спокоен. С новичками предстояло познакомиться.
Прежде всего решил побывать у командира второго орудия лейтенанта Антонова. От него пришло донесение: обстрелян в деревне Вериксолово. С группой авроровцев отправился прочесывать подозрительные дома.
Антонова Иванов видел дважды. Первый раз - когда представлялись командиры расчетов и получали задания, второй раз - когда матросы рыли котлованы.
У Иванова был наметанный и цепкий глаз. Детство его прошло в деревне Боже-ново Саргатского района Омской области. Как многие сибиряки, он рано пристрастился к охоте, мог, не блуждая, выйти из любой чащи, выследить зверя, сшибить из двустволки летящую птицу. На флот попал по путевке комсомола, окончил в Севастополе училище{30} и сам начал учить курсантов. Словом, работал с людьми, в людях разбирался, и ему понравилось, что на первой же встрече Антонов обратился с вопросом: нельзя ли получить побольше противотанковых гранат и автоматов?
Предупрежденный Соскиным, что артиллеристам стрелковое оружие пока дают нещедро, и желая "пощупать" командира орудия, Иванов спросил:
- Насколько остра нужда в гранатах и автоматах? Все-таки мы не на переднем крае...
- Мы на войне, - ответил Антонов.
Стреляный и меченый еще под Выборгом, Антонов хорошо усвоил и что значит лишняя граната в бою, и что значит лежать часами, распластавшись на снегу, на морозе, чтобы не стать добычей снайпера, и что такое риск, и что такое расчет. Он резонно рассудил: орудия стоят обособленно, кое-где в двух - двух с половиной километрах друг от друга. А если гитлеровцы сбросят десант?! Пехотного прикрытия нет. Да и линия фронта меняется не по дням, а по часам...
Комбат поддержал лейтенанта.
Иванов видел Антонова, когда его расчет рыл котлован. Моряки, по пояс голые, работали с задором, с лихостью, охваченные духом соперничества. Тон задавал командир. Он тоже стоял до пояса обнаженный, в руках его мелькал черенок лопаты, а сам он склонялся и распрямлялся так ритмично и с такой непостижимой быстротой, что хотелось, вооружась лопатой, показать, на что способны человеческие руки!
Иванова поразило телосложение лейтенанта: его литые плечи, литая спина, бугры мышц на груди, упругий и сильный торс. Тело, лоснящееся от пота, блестело на солнце.
Комбат и сам был не из хилых, как-никак сибирская порода: и высок, и костью крепок, и в плечах - дай бог, и пудовики подбрасывал играючи, но Антоновым залюбовался - настоящий Геракл! Спросил: "Давно спортом занимаетесь?" Услышал ответ: "Да так, немного..."
Во время третьего посещения Иванов застал расчет антоновского орудия без командира. Ему доложили честь по чести, во дворике был порядок, артиллеристы чистили ствол. На деревянный шест, видимо, намотали слишком много ветоши. Шест этот - его комендоры называли "калабашкой" - застрял в стволе.
Комбат не подал виду, что заметил сконфуженные лица артиллеристов, бесплодно пытавшихся вытащить "калабашку". Она застряла и не поддавалась никаким усилиям.
Иванов походил по дворику, опять приблизился к орудию. "Калабашку" тянул наводчик Александр Попов. Он побагровел, налился краской от напряжения, однако толку - никакого.
- Ползаряда! - скомандовал Иванов.
Ахнула, словно вздохнула, стотридцатимиллиметровая пушка, и "калабашка" вылетела...
Разглядывая карту, комбат постоянно отвлекался. Отошедший день стоял совсем рядом, за парусиной палатки, терся о нее послушными ветру еловыми лапами, отзывался голосами то оконниц, то матросов. Иванов всегда прежде, чем планировать дела на завтра, "прокручивал сегодня". Он так и говорил: "Прокрутим сегодняшний день".
Рука нащупала в кармане и вынула гильзу от немецкого автомата. Принес ее Антонов. В деревне Вериксолово никого не нашли. Пусто. Тихо. Лишь на чердаке, с которого раздался единственный выстрел, обнаружили гильзу.
Кто же оттуда стрелял - шпион, лазутчик, диверсант? Вражеский радист? Не побоялся, рискнул выстрелить. Или был уверен, что не промахнется? Или слишком силен был соблазн добыть документы морского командира, разобраться, кто это и зачем появился в деревне Вериксолово, удаленной от моря и покинутой жителями?
Гильза стояла на столе - маленькая, жалкая, с черными усиками копоти. О ней можно бы забыть, не думать, если бы она не таила связи с большой картой, простертой на столе, с коряво нарисованной Скулачевым стрелой, изогнутой в сторону Луги, а в конечном счете в сторону Ленинграда.
Старший лейтенант Иванов и политрук Скулачев были удивительно разными, непохожими друг на друга. Двадцативосьмилетний Иванов словно родился военным: высок, подтянут. Быстрый, решительный шаг отражал решительность, напористость, внутреннюю мобилизованность. Команды отдавал краткие, как выстрел. За словом предполагалось дело, немедленное, безотлагательное.
Он был блондинист, сероглаз, и, выделяясь на загорелом лице, его серые глаза смотрели непререкаемо-строго, даже властно.
Круглолицый Адриан Скулачев, лиши его военной формы, никак не сошел бы за кадрового командира. В свои неполные сорок лет он успел располнеть, внешне казался увальнем. Рябинки на его щеках, когда он улыбался, придавали ему доверительную домашность.
На политработу Скулачев пришел из сверхсрочников, через курсы, службу знал во всех ее проявлениях и подробностях, однако в суровой череде лет, регламентированных жесткими требованиями уставов, не утратил своей природной доброты к окружающим людям, не зачерствел. Если в Иванове было что-то врожденное "командирское", то во всем существе Скулачева - что-то врожденное "комиссарское".
Не мастак говорить "вообще", не любитель выступать перед большими собраниями Адриан Адрианович предпочитал говорить с глазу на глаз или с группой в пять - семь человек, присев на пенек, на перекуре. Его слушали по-особому и шли к нему со всеми радостями и бедами.
Прошло пять или шесть дней, как батарея обосновалась на Дудергофских высотах, а Скулачев знал в лицо, пожалуй, всех матросов, всех командиров, знал судьбы иных и не переставал печься о том, чтобы смягчить удары, нанесенные людям войной. В хлопотах и делах - а их хватало, особенно в первые дни, - Скулачев умудрялся перекинуться словечком то с одним, то с другим, разобраться, "чем жив человек".
В тихой роще, где решили ставить штабную землянку, расположили связистов. Полевая кабельная линия протянулась к орудийным расчетам. Тонкая нитка провода, теряясь среди кустов, утопая в траве, привела Скулачева к раскидистой сосне. Под нею расположился Илья Чистопьянов.
Мороки у связистов, пока подключили к линии все орудия, было изрядно, умаялись, как черти, и Адриан Адрианович удивился, когда на вопрос: "Есть связь, доволен?" - Чистопьянов, равнодушно кивнув, вяло ответил: "Доволен, товарищ политрук".
Высоченный, большерукий Чистопьянов словно выпил снотворного, смотрел безучастно, каким-то отсутствующим взглядом.
Скулачев присел рядом на пенек, протянул связисту махорку, поинтересовался, откуда Чистопьянов родом.
Чистопьянов назвал деревню Лысуху и, боясь, что политрук про такую не слыхал, добавил:
- Белорус я, на Березине деревня.
В комментариях Скулачев не нуждался, с полуслова все понял, утешать не стал. Чего фальшивить? Не любил легких на слово утешителей - чужую беду рукой разведу. Подымил цигаркой, спросил:
- Леса вокруг есть?
- Ляса драмучие, - сказал Чистопьянов.
Услышав характерное "я" - "ляса" - и характерное "а" - "драмучие", политрук мысленно упрекнул себя: мог бы и раньше подметить, что этот могучий связист из Белоруссии, потолковать с ним.
- В лесах легче. И кров, и сушнячок, и ягоды. Без лесов хуже.
Чистопьянов вроде бы согласился:
- Да, легче, как-никак свои мы там, укроют.
День спустя политрук дал связисту фронтовую газету. В сводке Совинформбюро подчеркнул строчки: в Белоруссии население целыми деревнями в леса подалось, к партизанам.
Конечно, газета не письмо из дому, это понимал Скулачев, а все же... И, пожалуй, главное - помог Чистопьянову заговорить о больном, о спрятанном от глаз. Самое трудное - в себе носить...
Был у политрука нюх: у кого что-либо не ладится, кошки на душе скребут - он первым учует.
Как-то Иванов между делом обронил: "Смаглий что-то невеселый ходит. Не замечали?" Политрук знал: лейтенант Алексей Смаглий, командир пятого орудия, в Севастополе у Иванова курсантом был. Видно, любимым курсантом. Сдержанный комбат однажды сказал: "Смаглий, этот все может". Политрук присматривался к лейтенанту. Сказать "невеселый ходит" особых оснований как будто не было. Какое уж тут веселье - день-деньской в земле артиллеристы роются, как кроты. Дворики оборудовали. Теперь погреба для боезапаса роют. Расчет Смаглия скорее других управляется.
Дня два назад политрук заночевал в пятом расчете. До палаток и землянок руки еще не дошли, спали под открытым небом - кто еловый лапник подстелил, кто сенца раздобыл. Ночи в июле теплые, тихие. Хвоя пахнет, травы пахнут. Из опустевшей деревни собачий лай доносится - одинокий и очень жалобный.
В иные времена такой песий перебрех начался бы - хоть беги. А тут: "тяв-тяв" - и смолкло вокруг, и провалился Адриан Адрианович в сон, как подкошенный. За день километров двадцать пять отмахал, не меньше. Зато проснулся ни свет ни заря. Восток едва-едва засерел. Решил пораньше на КП вернуться. Глянул на соседа своего, на Смаглия: тот лежит на спине, руки под голову, глаза открыты, словно и не спал. Глаза большие, черные, тоской налитые. Отчего бы?
Скулачев не был бы Скулачевым, если б не разобрался, что у него, у лейтенанта, на душе: и почему не спит в рассветный час, и когда мать последний раз видел, оставшуюся там, под немцем, в Черкассах, и почему в атласе - с самого Севастополя он его возит - вся оккупированная земля густым черным карандашом обведена, и не просто линией, а чем-то вроде колючей проволоки...
Разными были, очень непохожими динамичный командир и медлительный с виду, неторопливо потирающий свои рябинки политрук. Наверное, хорошо, что оказались они разными, не повторяли, а дополняли друг друга.
В те дни Иванов приглядывался к Скулачеву, Скулачев - к Иванову. Тогда они еще не знали, что судьба счастливо свела их, чтобы вскорости обречь на вечную разлуку...
Аэростат, лениво покачиваясь, подымался в ленинградское небо. Многие привыкли - не первый день высоко над городом висят эти воздушные колбасы. Некоторые прохожие останавливались, задирая головы, смотрели, как легко, невесомо, словно серое облако, аэростат набирает высоту. Казалось: пока он вверху - внизу можно жить спокойно, как живут спокойно под крышей, если на дворе дождь. Находились, конечно, и скептики, которые качали головами, высказывая сомнения:
- От аэростатов польза - как рыбе от зонтика. Против самолетов нужны самолеты...
Антонина Павлушкина не спеша проходила знакомыми улицами, прислушивалась к разговорам прохожих, к неожиданным репликам, присматривалась ко всему, что появилось недавно, на днях, и так резко изменило лицо города. Раньше самой зримой, видимой на огромном расстоянии приметой Ленинграда была адмиралтейская игла, строгая в облачные дни, сверкающая в солнечные; немыслим был городской пейзаж и без купола Исаакия или без шпиля Петропавловской крепости. А теперь с любой площади, с любой улицы люди видели аэростаты, плававшие в голубизне неба, как большие рыбы. И уже выработался рефлекс - выходя из дому, торопясь на работу или по иным делам, вскидывать голову, проверяя: висят над городом аэростаты? Висят! Ну и хорошо!
Временами Антонина Павлушкина козыряла военным. Рука легко и привычно взлетала к виску. Она делала это механически. Командирский китель, сшитый в первоклассном ателье для выпускниц Военно-медицинской академии, плотно облегал тонкую фигурку, подчеркивая ее изящество.
Антонина прощалась с Ленинградом. В этом городе прошли ее студенческие годы, здесь она стала врачом, готовилась прожить в нем всю жизнь, а если б можно - две. Но приходилось расставаться - ее однокурсники и однокурсницы все получили назначения на флоты и фронты - Клава Бутузова, Женя Синева, Миша Ваганов, Саша Древина, Миша Лушицкий. Получила назначение и она: направили ее в Дудергоф, на батарею "Аврора", в общем-то совсем недалеко от города. Но на войне как на войне, доведется ли вернуться?
Звонкий, проворный трамвай спешил по колее, через весь вагон, написанные краской, чернели буквы: "Все для фронта!" А на углу притороченный к дереву лист фанеры служил указателем: "В бомбоубежище!" Неумело нарисованная стрела изгибалась в сторону старого, темного, в дождевых подтеках дома, где, очевидно, оборудовали глубокий и просторный подвал под бомбоубежище.
Вот и памятник Екатерине II. Голову императрицы заляпали белыми пятнами обнаглевшие голуби. Не пощадили и ее фаворита Потемкина.
А вот Аничков мост. У входа на мост Антонина недоуменно остановилась. Конечно, это был он, Аничков мост, многократно исхоженный по пути в Публичную библиотеку, и одновременно это был не он - что-то неузнаваемо изменило, обескрылило его привычный облик.
Внезапная перемена так ошарашила, что Павлушкина несколько минут топталась на месте, пока сообразила: привычных вздыбленных, полных порыва и грации литых коней Клодта нет, их сняли, увезли, спрятали от возможных бомбежек, и мост показался голым, обкраденным, почти чужим...
Как быстро менялся город! Если вчера - пусть не буквально вчера - все флаги в гости были к нам, если проспекты и бульвары были широко распахнуты навстречу гостям, словно говорили: "Добро пожаловать!", то сегодня суровость и собранность по-своему преобразили город. И на Марсовом поле, хранившем память о жертвах революции, вырыли траншеи и как бы приготовились к новым жертвам; у Финляндского вокзала памятник Ленину обшили деревянным конусом, защитили мешками с песком, и памятник, как боец, укрыты и бруствером, приготовился к бою.
К набережной Невы Антонина вышла в сумерки. В потемневшей, стального цвета воде ничего не отражалось - ни огонька. Подружки по академии, уезжая даже на каникулы, бросали в реку монеты. Может быть, и она бросила бы монетку в хмурую Неву - все-таки традиция, все-таки обещание возвратиться, - но вдоль гранитных парапетов стояли длинноствольные зенитки, и артиллеристы в касках, дежурившие у орудий, провожали ее долгими, неотрывными взглядами.
Одноэтажный деревянный Дудергоф вытянулся вдоль длинной улицы, которая шагнула километра на два - от вокзала до школы. С фасада окна домов смотрели на хвойную щетину Вороньей горы, а окна, расположенные с противоположной стороны, смотрели на синее озеро.
В то июльское утро дремотная тишина повисла над поселком. Вездесущие и всезнающие мальчишки подсказали Антонине Павлушкиной, куда идти:
- Прямо, прямо, до школы. Там моряков найдете!
Чемодан оттягивал руку. Пришлось взять десятка два медицинских учебников. Целая библиотека!
Вещей почти не оказалось, если не считать нового голубого платья, сшитого для выпускного бала, естественно не состоявшегося. Началась война, выпуск произошел досрочно, внезапно. Теперь среди вещей каждодневно необходимых шелковое платье казалось неуместным. Но оставить его, первое в своей жизни праздничное платье, не поднялась рука...
Четверть часа спустя Павлушкина уже стояла в землянке перед командиром батареи. Он встал из-за стола, торопливо застегивая верхнюю пуговицу кителя. От папиросы, оставленной в консервной банке, приспособленной под пепельницу, подымался дымок. Рядом с добродушно-улыбчивым и открытым лицом политрука смуглое лицо Иванова могло показаться чрезмерно строгим, даже жестким, но улыбка его смягчила, серые глаза подобрели. Выслушав рапорт, он предупредил, что по морскому закону следует сначала накормить, а потом уж говорить.
Хотя Павлушкина солгала, что не голодна, комбат и слушать ничего не пожелал, на камбузе быстро поджарили консервы, в кружку налили крепкий чай, настоянный на брусничном листе. У себя в Мясцове Антонина часто заваривала чай на брусничных листьях и не сдержала улыбку: вкусно. И совсем как дома.
Первая скованность прошла сама собой. И разговор начался легко, без напряжения.
Особый интерес старший лейтенант проявил к хирургии, не смог скрыть удовлетворения, узнав, что Павлушкина самостоятельно делала операции, крови не боится.
Первая часть беседы оказалась своеобразной разведкой, вторая предельно конкретной и деловой. Иванов вырвал из тонкой тетрадки листок, положил перед Павлушкиной:
- Изложите все, что вам необходимо для оборудования медицинского пункта недалеко от КП батареи, а также запасного, вспомогательного, в районе пятого орудия. Необходимо обучить матросов навыкам первой помощи. Учтите - орудия рассредоточены на территории в пятнадцать километров. Так что везде вам не поспеть. Надо иметь обученных помощников. С командирами расчетов вас познакомит политрук. Да, кстати, изучите позывные. Они у нас начинаются на "О". Батарея - "Огурец". Я - "Олень". А вы будете "Ольга". Вопросов нет? Если нет, устраивайтесь. У меня дела!
Комбат шагнул к выходу, откинул брезентовый полог и, обращаясь то ли к Скулачеву, то ли к Павлушкиной, сказал:
- Прислали врача - значит, пахнет порохом...
Давно матросы не спали под открытым небом - перебрались в землянки с бревенчатыми накатами, с нарами, покрытыми пахучим сеном. Перебрался в землянку и командир 5-го орудия лейтенант Алексей Смаглий.
Пора стояла страдная. Намаявшись за день, Смаглий засыпал, едва добирался до нар, но среди ночи просыпался без видимой причины, как и тогда, под соснами, рядом с политруком Скулачевым. Старшина Кукушкин, возвращаясь с ночного обхода караулов, слышал, как лейтенант переворачивается с боку на бок, а если и не ворочается, то лежит без сна. Старшина безошибочно угадывал спящего по дыханию.
В землянке завелся сверчок, его назойливое стрекотание буравило тишину и казалось невероятно громким.
Батарейный начбой - начальник боепитания Семен Алексеевич Лобанов, или Старина, как его называли за глаза (ему было под пятьдесят), говорил, что сверчок в землянке - к счастью. Смаглий, конечно, в приметы не верил: какое уж счастье, если по земле идет война, идет беда. В его карманном атласе Черкассы, где осталась мать, были обведены неровной, похожей на колючую проволоку линией. Смаглий никогда не вспоминал о матери вслух, но Скулачев видел, как становилось бледным, почти белым лицо лейтенанта, когда речь заходила о зверствах гитлеровцев на оккупированной земле. Может быть, подмечал затаенную боль командира еще старшина Кукушкин. Остальные вряд ли замечали - Смаглий был неутомим, деятелен, подбадривал других, не давал повода думать, что у него на душе скребут кошки.
Отец Алексея умер рано. Незадолго перед этим семья переехала из села в Черкассы. Мать Федора Тихоновна городской профессии не имела, на руках осталось двое детей, хозяйства не было никакого - ни кола, ни двора.
Алексей, как старший, хозяйничал в доме: одевал и кормил сестренку, следил за порядком, мыл полы, бегал в лавку за хлебом, носил воду.
Судьба не баловала Алексея. Он научился радоваться краюхе свежего хлеба, посыпанной крупной солью, и сдержанной ласке матери, подходившей к засыпающему сыну, чтобы поправить одеяло или положить свою большую шершавую руку на его густые, черные волосы.
Мальчик рос, наливался силой. В 1937 году нежданно-негаданно в Черкассах объявили комсомольский набор в военные училища. Алексей уехал в Севастополь в Черноморское военно-морское...
Жесткий курсантский распорядок съедал все время без остатка, но Смаглий находил "щелочки", чтобы писать домой по нескольку раз в неделю, чтобы вспоминать то тихую улочку и приземистый домик в тесном дворе, то выращенный из косточки лимон, заслонявший и без того малое оконце, то шершавую и теплую ладонь Федоры Тихоновны, то полосатого, как бурундучок, котенка, рано оставшегося без матери и вскормленного им, Алексеем, набиравшим молоко в рот и поившим сироту через соломинку...
Из двадцати пяти рублей, ежемесячно выдававшихся курсантам, Смаглий половину посылал домой. Себе оставлял самую малость - на фотобумагу, на проявитель и закрепитель, и нещедрый досуг полностью посвящал съемкам. Маленький "ФЭД" стал спутником всех его увольнений в город. Он любил уединяться, снимки делал не спеша, долго приглядываясь, стараясь запечатлеть на пленке что-то необычное, ускользающее. Так, он снял памятник затопленным кораблям, когда о камни ударилась волна, взметнув каскад брызг, и круто взлетела с камней чайка; в Херсонесе, до которого от училища было рукой подать, Алексей сфотографировал колокол, стоящий над морем. На скалистом уступе лежала вечерняя тень от колокола, впереди простиралась водная гладь.
Даже Саша Доценко, однокашник и ярый фотолюбитель, признавал заслуги Смаглия. А сам Смаглий продолжал охотиться за "неповторимыми мгновениями", карточки раздаривал товарищам и непременно посылал Федоре Тихоновне.
Летом, приехав на побывку к матери, он застал в невысоком домике, в комнате с промытыми, выскобленными до белизны полами все незыблемо прежним: и лимон на табурете перед окном, и дерюжку возле железной кровати для Кота - тигренка-полосатика, и бумажный абажур, сделанный из плотной цветной бумаги. Лишь в углу, где висели зеркало и взятый в рамку портрет отца, появились карточки, присланные Алексеем из Севастополя: и памятник затопленным кораблям, и колокол на уступе в Херсонесе, и общий вид Стрелецкой бухты, омывающей территорию училища, сутолоку охотников и тральщиков у ее причалов. И еще в этом красном углу на тумбочке - от первого до последнего - высокой стопкой лежали его письма...
Сын припал к матери, она рыдала, впервые не сдержавшись, а когда утерла слезы кончиком фартука, он сказал, что через год будет уже командиром и приедет за ней, чтобы никогда больше не расставаться.
Алексей слово не -сдержал: война забросила его сюда, к Дудергофским высотам, в Черкассах - фашисты; по комнате его детства шмякают чужие сапожищи, оставляя на скобленом полу ошметки грязи, а мать, скорее всего, выгнали в сарай, где пахнет дровами и мышами, где прелая, худая крыша, и если дождь... А может, погнали ее, уже немолодую, за колючую проволоку и надсмотрщик хлещет плетью по глазам, по лицу, по голове...
Если ночью Смаглий бередил свою душу воспоминаниями, то день, расписанный по минутам, не оставлял для раздумий и воспоминаний времени. Ранние склянки подымали расчет, и с этой секунды до вечера колесо военного распорядка непрерывно вращалось.
Склянки, словно трамплин, выталкивали упругие тела краснофлотцев из землянки. Старшина Алексей Алексеевич Кукушкин уже стоял на тропинке, кряжистый, круглолицый, строгий, поглядывал на большие круглые часы.
На пробежке он всегда был впереди, упрямо резал воздух чуть склоненной головой, загребал правой рукой, словно не бежал, а плыл. Темп бега нарастал, однако Кукушкин выбирал момент, чтобы оглянуться и прикрикнуть:
- Ивков, не отставать!
- Лебедев, дыши глубже!
Смаглий бежал чуть в стороне, сбоку. Все, что делалось в расчете, он всецело мог доверить Кукушкину, опытному старшине. Но лейтенант не давал себе никаких послаблений, понимая, что подчиненным не безразлично, делит ли с ними командир труд и досуг. Он прочно усвоил старую истину: если слово и дело нерасторжимы, слову доверяют, а дело надежно.
Лейтенант бежал легко, мягко касаясь земли, плавно, как молодой олень, выбрасывая вперед ноги, дышал свободно и ровно и, конечно, знал, что моряки краем глаза следят за ним и втайне довольны: "Вон он, наш командир!"
Чай пили в восемь, как и на кораблях; к чаю давали булку, масло и сахар. Они и на суше блюли морские порядки: завтраков - каш, макарон и прочего, как у пехотинцев, - не было.
Дотемна шли занятия: тренировались у зарядного станка, устанавливали прицелы и целики, чистили и смазывали орудие, учились ловко и быстро подавать снаряды, а снаряды тридцатидвухкилограммовые - руки и поясница за день наливались усталостью.
Номера расчета отрабатывали взаимозаменяемость. Все, казалось, получается, действия доведены до автоматизма, но Смаглий требовал большей четкости, большей точности. Кукушкин смотрел на часы - счет шел на секунды - и мотал головой: мол, можно и нужно быстрее, еще быстрее!
В расчет к Смаглию попали и такие, которые ранее в артиллерии не служили, времени на учение - это чувствовали все - судьбой отпущено немного, так что себя не жалели, с усталостью не считались.
После вечернего чая Смаглий отпускал краснофлотцев за свежими ветками, которые втыкали в маскировочные сети. Артиллерийский дворик сверху воспринимался не иначе как заросли кустарника или мелколесье.
Сначала матросы ходили за ветками без видимой охоты:
- Вроде бы еще не завяли, товарищ лейтенант. Сутки простоят.
Но последнее время, едва смеркалось, артиллеристы рвались за ветками, уходили все дальше от орудия, "чтобы не демаскировать его". По лукавым взглядам матросов лейтенант догадался, что "любовь к маскировке" усилилась после того, как близ деревни Пелгалы метрах в четырехстах от орудия расположились окопницы - ленинградские студентки и работницы городских фабрик.
Все, напоминавшее дом, мирный уклад, довоенную жизнь, обрело остроту и притягательную силу. В расчете, кажется, все до одного без меры любили приблудную черно-белую дворнягу - крупную, грубошерстную, звонкоголосую, получившую кличку Полундра. Отвечая любовью на любовь, Полундра ходила с высоко поднятым мохнатым хвостом, полагая, наверное, что глаза не могут выражать всю полноту собачьей радости так, как выражает ее хвост.
Полундра отлично усвоила распорядок: минут за десять до обеда ее охватывало возбуждение, она за версту чуяла приближение повозки с обеденными бачками. По вечерам дворняга первой встречала Анну - жену Кукушкина, черноглазую, проворную, ходившую в спецовке, пахнущей землей. Анна работала поблизости на окопах, часто приходила навестить мужа, узнать, нет ли письма от отца.
Перед войной отец увез двухлетнюю Нину, дочь Кукушкиных, в деревню под Демьянск. Увез - и как в воду канул. Вестей не было.
Смаглий догадывался, что разговор идет о дочке, потому что Кукушкин "раскочегаривал" свою прокуренную трубку. Махорка, прозванная матросами "вырви глаз", нещадно драла горло. Алексей Алексеевич, однако, жадно затягивался, курил взахлеб, через рот и нос выпуская струи едкого дыма.
Кукушкина понять было нетрудно - тревога за дочь глодала его, но горе свое он прятал, от подъема до отбоя трудился за троих, службу нес ревностно и жену утешал по-мужски сурово, грубовато:
- Чего ссутулилась, Анна?! Ты это брось! У всех сейчас горе, не у нас одних...
И все-таки Кукушкин был не один, и не угасла надежда, что найдется дочка. Куда труднее, если ты один, совсем один, если уже не ждешь писем и самому некуда написать!..
Человек так устроен, что должен о ком-то заботиться, должен с кем-то делиться куском хлеба, кому-то рассказывать сны, кому-то отдавать нерастраченное тепло...
О ноги Смаглия терлась Полундра. Авроровцы с ветками еще не возвратились. Было сумеречно. Лейтенант, подражая комбату, "прокручивал" минувший день: стрельбы по закрытым целям прошли нормально; Яковлев наводил орудие неплохо, правда, не хватает быстроты реакции - надо потренировать; приходила Антонина Павлушкина...
Эх, доктор, доктор! Она появилась на пятом орудии днем, переговорила со старшиной Кукушкиным и заспешила на шестое орудие, к Доценке. Смаглий как раз вышел из землянки, однако Павлушкина, сделав вид, что не замечает его, быстро зашагала по тропинке. Она явно избегала его.
С первой встречи в их отношениях возникла напряженность. Павлушкина называла Смаглия по-уставному: "товарищ лейтенант", он обращался к ней не по-военному: "доктор". Язык не поворачивался сказать: "товарищ старший военфельдшер". Уж очень синими были глаза, очень ладно сидел безупречно сшитый китель, пшенично-золотые волосы так живописно сворачивались в кольца, что нестерпимо хотелось коснуться хоть одного колечка. Вообще появление молодой женщины в мужском коллективе было и неожиданно и будоражаще. Все, что говорила Антонина Павлушкина, не вязалось с ее нежным обликом, а говорила она скованно-официально:
- На орудии больных нет? Жалоб нет? Выделите, согласно приказу по батарее, боевого санитара, чтобы прошел обучение. Ко мне вопросы есть?
Она почти не подымала глаз, выдавая свое смущение; с трудом уговорили ее пообедать. Она и ела подчеркнуто-сдержанно, словно за день не успела проголодаться.
Каламбур Смаглия, касавшийся клятвы Гиппократа и сегодняшних военных медиков, Павлушкина пропустила мимо ушей, поблагодарила за обед и заметила:
- Не забудьте сделать крышку для колодца. Лето - время кишечно-желудочных заболеваний.
Эта скованность, этот официальный тон, эти "кишечно-желудочные заболевания" - все казалось Смаглию защитной реакцией, крайним смущением. Он догадывался - за внешней оболочкой спрятано совсем иное...
Последующие встречи - мимолетные и торопливые - мало чем отличались от первой. Но вот дней пять назад зазвонил телефон. Смаглий по выговору узнал белоруса Илью Чистопьянова, который передал несколько распоряжений Иванова. Сообщив все, что у него было, очевидно, записано на бумажке, Чистопьянов сказал:
- А таперь с вами будет говорить доктор.
После чистопьяновского "таперь" и переданного открытым текстом "доктор", послышался женский голос:
- Товарищ "Охотник", здравствуйте! Говорит "Ольга". "Олень" приказал мне сдать стрельбу из нагана и винтовки. Когда вы сможете принять?
Все командиры сдавали стрельбу Иванову. Павлушкина в тот день ездила в Ораниенбаум за медикаментами. Ничего удивительного не было в том, что комбат направил доктора к нему, Смаглию: во-первых, его орудие ближе, чем другие, к стрельбищу; во-вторых, Иванов по училищу знал: Смаглий не раз завоевывал первенство в самых трудных состязаниях.
Они встретились близ Кирхгофских высот. Вверху среди зелени одиноко белела невысокая церквушка с колоколенкой. Внизу разместилось стрельбище. Собственно, стрельбищем называлась обыкновенная травянистая поляна, упиравшаяся в скат высоты. У ската лежали фанерные щиты с наклеенными мишенями.
Смаглий и Павлушкина сели в траву. Лейтенант разобрал и собрал винтовку. Он комментировал все, что делали его руки, осторожно касался каждой ложбинки, каждого выступа.
- В училище, - сказал Смаглий, - старший лейтенант Иванов учил нас с завязанными глазами, на ощупь определять, какую деталь держим. И получалось!..
Пожалуй, Смаглий смог бы с закрытыми глазами собрать винтовку. Однако он не сказал об этом, молча лег, раскинул ноги, и винтовка словно впаялась в плечо. Он целился недолго, выстрелил, щелкнул затвором, выбросив гильзу, и пошел к мишени.
"Один выстрел - не слишком ли самоуверен?"
Смаглий принес мишень с продырявленной десяткой:
- Теперь стреляйте вы. Затаивайте дыхание. Приклад намертво вдавите в плечо.
Пули легли кучно. Смаглий, державшийся деловито и строго, впервые улыбнулся:
- Вы хорошо стреляете, доктор.
Павлушкина могла бы ответить, что еще в Ржеве, в медтехникуме, получила значок "Ворошиловский стрелок", а в академии огневая подготовка была так же обязательна, как полевая хирургия. Сказала другое:
- У меня гуманная профессия, товарищ лейтенант. Меня учили не убивать, а спасать жизни.
Ее прорвало. Ее с утра томило, что придется на полдня оставить медпункт, заваленный привезенными из Ораниенбаума медикаментами, и еще больше томила необходимость сдавать стрельбу лейтенанту Смаглию, при виде которого она перестает быть сама собой. Словно комбат специально послал ее к Смаглию. Но разве комбату возразишь?!
Смаглий посмотрел на нее холодно и недоуменно. Перекинул через плечо винтовку, не сказав ни слова. Вся его поза как бы говорила: задание выполнено, можно идти.
Отчужденные, они покидали стрельбище. Шли так, что между ними, не задев, мог свободно пройти третий. Оставив позади Кирхгофские высоты, молча миновав добрую половину пути, Смаглий вдруг остановился:
- Доктор, а что у вас в санитарной сумке? По-моему, она для вас тяжела.
Лейтенант нес санитарную сумку и противогаз Павлушкиной.
Она объяснила: в сумке ничего лишнего - вата, бинты, шприцы, пиано, кохеры, роторасширитель, камфора, йод, морфий, кофеин в ампулах.
Он попросил разрешения заглянуть вовнутрь и с любопытством осмотрел оба отделения. Его удивил большой перочинный нож: какое, мол, он имеет отношение к полевой хирургии? Назначение ножа оказалось неожиданно-будничным: "А чем разрезать брюки раненого?" Обнаружив фляжку, Смаглий тряхнул ею: "И это для раненых?"
Она охотно объяснила: спирт порой спасает от шока, дезинфицирует раны; рассказала о назначении роторасширителя, пиано и так увлеклась, что исчезли отчужденность и скованность. И дальше они шли уже рядом, свободно беседуя. До медпункта оставалось менее километра, когда Смаглий предложил сделать привал, положил в траву винтовку, брезентовую сумку с красным крестом, противогаз и опустился на колени возле замшелого пенька.
Павлушкина не могла понять: что это лейтенант разыскивает среди травы? Через минуту он подошел к ней, держа в ладони пахучую землянику. Ягоды были налитые, крупные. Среди румяных и перезрелых зеленело лишь две-три еще незрелые ягодки. Брызнул сок, сладкий аромат разлился во рту.
Каждый вспомнил свое: Антонина - деревню Мясцово, приречные рощи и земляничные поляны; Смаглий - тесный дворик в Черкассах, большие ягоды клубники, промытые, свежие, положенные в два неглубоких блюдечка...
Он опять помрачнел, как в тот миг, когда Павлушкина заговорила о своей гуманной профессии, перестал собирать землянику, сказал:
- У нас в Черкассах под окном росла. Мать и прежде не ела: берегла для нас с сестренкой. А теперь там фашисты...
Они шли по Вороньей горе неспешно, вспугивая ящериц, гревшихся на солнце. Молчание не разъединяло их, скорее соединяло, и когда Павлушкина остановилась - до медпункта оставалось не более трехсот метров, и настала пора прощаться, - Смаглий взял в свои руки обе ее руки и заглянул в ее глаза так, словно захотел увидеть, что спрятано на дне души ее.
- Тоня, я один на целом свете. Я хочу, чтоб ты стала моей женой.
Он хотел сказать еще что-то, но увидел в ее глазах смятение, испуг и нечто непонятное, неосознанное, внезапное, как жар, увидел, как вспыхнули ее щеки, напряглись руки.
- Вы с ума сошли! - сорвалось у нее. - Вы забыли, что идет война!
Ее руки выскользнули из его рук, она побежала к медпункту. Сначала бежала быстро, потом медленнее, медленнее, перешла на шаг и наконец остановилась и оглянулась.
Смаглий стоял на склоне горы, за спиной его были сосны, над головой небо, он стоял счастливый, улыбающийся, сбросивший тяжкий камень, давивший его все эти дни, он готов был обнять весь мир и, наверное, мысленно обнимал его.
Она замерла на минуту, не сводя с лейтенанта глаз, и, обессиленная, побрела к медпункту.
В землянке Смаглия буравил тишину сверчок, не унимаясь ни днем ни ночью. Отсвет от коптилки падал на низкий потолок, подрагивал вместе с подрагивающим язычком пламени. С минуту Алексей разглядывал приколотые к стене севастопольские карточки: Херсонесский колокол, шлюпку, на которой плыл из Стрелецкой бухты в Балаклаву. Надо было во что бы то ни стало победить соперников, море было неспокойное, и он в кровь растер уже успевшие загрубеть ладони...
Смаглий не сразу отвлекся от карточек, расстегнул планшет, вынул карту, карандаши, письмо к матери, так и не отправленное в Черкассы, но хранимое: почему-то он боялся расстаться с этим письмом, словно от него зависела судьба Федоры Тихоновны.
Над листом линованной бумаги Смаглий сидел долго, не касаясь его, о чем-то думая. Когда пламя в коптилке задергалось, отчаянно зачадило, предвещая, что вот-вот погаснет, Смаглий твердо вывел: "Командиру батареи специального назначения старшему лейтенанту Иванову Д. П.".
И написал: "Прошу разрешить жениться на старшем военфельдшере Павлушкиной Антонине Григорьевне". Лейтенант Антонов остановился. Он всегда, отойдя метров на сто от орудия, оглядывался, проверяя, все ли в порядке, не нарушена ли маскировка.
Неубранное картофельное поле с буйно разросшейся ботвой подступало к окраинным домикам деревни Мурьелы. Домики вскарабкались на пологие склоны холма. У подножия расположилось орудие. Как ни вглядывался Антонов, ничто не выдавало огневую позицию.
Маскировали на совесть. Над артиллерийским двориком из арматуры возвели большой гриб, накрыли его буровато-зеленым, под цвет местности, брезентом. Сверху, как и на других орудиях, натянули маскировочную сеть, утыканную ветками кустарника.
Еще два дня назад глаз привлекали две тропинки: одна вилась заметной ниточкой от Мурьелы к Дудергофу, вторая наметилась от матросской землянки, вырытой в пятидесяти метрах от орудия, и вела к деревенскому колодцу.
Инженер-каперанг Соскин, побывавший на огневой позиции у Антонова, кажется, остался доволен. Единственное, что немного смутило его, тропинки. Все-таки демаскируют. С самолета обратят на них внимание: деревни пустые, а тропинки свежие.
Пришлось прикрыть их дерном.
Из землянки вышли двое - Алексей Смирнов и Василий Володькин. Оба, как и наводчик Попов, бывшие водолазы. Смирнов был длинный как жердь. Над ним подтрунивали: "Чтоб тебя одеть, вдвое больше материала расходуется, чем на нас. А прокормить тебя и вовсе невозможно".
Смирнов и Володькин с бачками шли в Дудергоф, на камбуз за ужином. Лейтенант проследил, не пойдут ли они по тропе, - ходить по тропе он запретил. Нет, матросы
свернули в поле. Поле это накануне преподнесло не очень приятный сюрприз.
...Вечерело. Прервав занятие, Антонов объявил перекур. Матросы забрались на бруствер, зачадили цигарками.
Было тихо, безветренно. Глазастый Попов, заядлый охотник, заметил: картофельная ботва колыхнулась. Выждал - опять колыхнулась.
Сказал лейтенанту. Антонов приложил к глазам бинокль, смотрел, смотрел - ничего. Кто-то пошутил:
- Тебе, Саша, перед ужином всегда зайцы мерещатся. Попов, не отрывая взгляда от ботвы, потянулся к винтовке, попросил лейтенанта:
- Разрешите!
Антонов кивнул. Резко ударили один за другим два винтовочных выстрела. Что-то дернулось в ботве и замерло.
Матросы приволокли раненого: одежда цивильная, но автомат немецкий, и фонарик немецкий с цветными стеклами для сигнализации, и сигареты немецкие.
Видно, не картошки ради ползал в ботве. Антонов попытался допросить пленного. Первыми пришли на память слова из "Зимней сказки" Гейне, которые учил с Ольгой, потом с грехом пополам задал несколько вопросов. То ли действительно его произношение было недоступно для немца, то ли Попов задел пулей какой-то слуховой центр - пленный мотал головой, что-то невнятно мычал, глаза его были мутными.
Махнул рукой и отправил его на КП...
Алексей Смирнов и Василий Володькин скрылись в кустарнике. Лейтенант проводил их глазами и сам зашагал к Дудергофу.
Антонова вызвали по телефону. С коммутатора монотонный голос передавал приказание "Оленя". Видимо, одно и то же передавалось на все орудия. Голос устало цедил: "Явиться к 19 часам. Кто принял?"
Комбат редко собирал командиров: по всей вероятности, не хотел надолго отрывать их от расчетов. Как-никак к дальним орудиям, к восьмому и девятому, ходьбы более двух часов!
Что же означал вечерний вызов? Не начало ли каких-нибудь событий?
Впервые Антонов ощутил их в Ораниенбауме и Ленинграде. В тыл эвакуировали жен командиров. Проводить их комбат поручил ему. Так после месячного перерыва он увидел Ораниенбаумскую гавань, пепельно-серый профиль "Авроры", флаг на кормовом флагштоке. На корабле мигом окружили. На ходу, спеша, отрывочно рассказал о батарейцах и сам начинился новостями: полуостров Ханко, узкой полоской вцепившийся в финский берег, держится; в Эстонии - жаркие бои; в Финском заливе - "уха из мин".
У стенки с тральщика сносили раненых. Они лежали забинтованные, недвижимые, как неживые. А потом была знакомая и незнакомая комната - без занавесок, без банок с цветами, с опустевшей этажеркой. Учебники Ольга увязала в тяжелую стопку. Александр заколебался: надо ли везти эту стопку в Ярославль? Какая уж тут академия, если сегодня не знаешь, что будет завтра даже с этим мирным поездом, в котором повезут Ольгу.
Вслух не сказал ничего. Что-то помешало ему. Ольга везла и чемодан со скарбом, и баян в черном чехле, так мало послуживший Александру, и стопку учебников...
В Ленинграде не задерживался: времени было в обрез. А из кабины грузовика много ли увидишь? Разве что улицы, изрезанные траншеями, ряды вздыбленных противотанковых ежей, марширующих ополченцев да в сквере среди желтых, зеленых и красных качелей и детских песочниц - зенитки.
Поезд отправили с опозданием. Где-то на трассе разбомбили станцию. Дежурные метались по вокзалу, кого-то разыскивая. Люди теряли в толчее друг друга. В вагоны, вместившие втрое больше, чем обычно, продолжали втискиваться все новые пассажиры. Когда наконец поезд поплыл вдоль перрона, паровоз пронзительно рявкнул, обрывая последние прощания. Ольга прижалась к оконному стеклу, но через мгновение ее заслонили чьи-то головы, спины, чьи-то простертые руки. Поезд скрылся.
В ушах осталась боль от неожиданно резкого паровозного гудка...
Штабная землянка Иванова спряталась среди кустов и елей. Под накатами бревен, укрытыми сверху аккуратными пластинами дерна, заслоненная от глаз хвоей, она была так искусно скрыта, что иные ходили рядом, не обнаруживая ее. Часовой таился за стволом мохнатой ели, сам все видел, оставаясь невидимым для других. Это был стиль Иванова.
Вокруг ни одной сколько-нибудь запоминающейся приметы. Все-таки среди сосен с вороньими гнездами - не отсюда ли название горы "Воронья"? Антонов выделил старое дерево с пятью изогнутыми ветвями, образовавшими близ макушки седловину. В этой седловине, как в растопыренной пятерне, тоже было гнездо. Эта сосна и служила для Антонова ориентиром. Под нею в траве он легко отыскивал нитку полевого телефона, которая безошибочно выводила к землянке комбата.
Собрались все командиры. Были давние знакомые: Евгений Дементьев, сослуживец по "Авроре", командир третьего орудия, всегда нахмуренный, будто чем-то недовольный; Александр Доценко, отутюженный, как перед смотром, деловитый и серьезный, а рядом другой севастополец - Алексей Смаглий, улыбчивый, белозубый, с грустными - вопреки улыбке - глазами. Из пополнения батареи - врач Антонина Павлушкина, уже успевшая насесть на Антонова с претензиями: колодец открытый, непорядок; техник-интендант II ранга Григорий Швайко, поскрипывающий новой портупеей, только что прибывший из Выборгского училища, суетливый, разговорчивый, открытый. Он признался: в училище прозвали "Швейком", предупредил: "Прошу не путать, я - Швайко", но, кажется, гордился кличкой: все-таки сравнили с бравым солдатом, известным во всех странах мира.
Ровно в девятнадцать прибыл инженер-каперанг Соскин. Рядом с землянкой хлопнула дверца машины. Командир дивизиона прошел к столу, снял фуражку, оставившую на лбу след, и несколько минут вглядывался в знакомые лица, что-то перебирая в памяти или желая запомнить эти лица. Потом, как бы смахнув отвлекающие мысли, сказал:
- С делами батареи я знаком. Сегодня коснусь более общих вопросов...
Прежде инженер-каперанг интересовался только насущным, конкретным: оборудованием огневых позиций, маскировкой, устройством личного состава, точными расчетами для боевой стрельбы. Населенные пункты, дороги, железнодорожные станции в радиусе тридцати километров батарея могла в любой момент накрыть уничтожающим огнем.
- Рапортов с просьбой отправить в действующую армию много? неожиданно спросил инженер-каперанг.
- Подал каждый пятый, - ответил Иванов и, отыскав глазами Швайко, добавил: - Даже командиры... Он оборвал фразу. Фамилии не назвал.
Соскин не стал произносить назидательные речи - он, видимо, терпеть их не мог, был человеком дела и твердо усвоил, что слово - это тоже дело. Поэтому он не напоминал, что дивизион назван дивизионом специального назначения не случайно и не случайно прикрывает Ленинград в самом опасном месте. Кто из артиллеристов не знал, что от Пулковских высот до Международного проспекта танки могут пройти в считанные минуты... И Соскин заговорил совсем о другом. Он рассказал, что Гитлер предполагал взять Ленинград 21 июля, месяц назад. Формальные расчеты фашистских штабистов, многократно взвешенные и выверенные, как им казалось, давали такую возможность. Группа вражеских армий "Север", двинувшаяся к городу на Неве, насчитывала шестьсот тысяч солдат и офицеров, более тысячи танков, около тысячи самолетов и шесть тысяч орудий. Однако приказ фюрера не выполнен. Ошибка в расчетах? Чья ошибка? Диктаторы, как известно, не ошибаются ошибаются их подчиненные. Виновны, во всяком случае, они.
Командующий группой "Север" генерал-фельдмаршал фон Лееб, увенчанный рыцарским крестом за прорыв линии Мажино, не желает быть развенчанным. Его армии будут рваться к Ленинграду, пока есть хоть один из шестисот тысяч солдат, хоть одно из шести тысяч орудий...
Сегодня противник вышел к Красногвардейску{31}...
Никто не задавал вопросов. Слово "Красногвардейск" означало - надо ждать. Вот-вот немцы могут прорваться к Вороньей горе. Может быть, сегодня ночью. Может быть, завтра. Может... На войне трудно прогнозировать. Надо быть готовым.
В глухом и плотном мраке Антонов возвращался на огневую позицию. В ближнем болотце озабоченно перекликались лягушки. Он вышел на картофельное поле и направился в сторону деревни Мурьелы.
Лягушачьи вскрики были уже почти неразличимы, когда его слуха коснулись далекие отзвуки канонады. Он остановился, прислушался. Он еще сомневался: не кажется ли? Это было едва-едва уловимо. Но это было.
Павлушкина избегала встреч с Алексеем Смаглием, но не думать о нем, не вспоминать его не могла. Даже обучая санитаров накладывать на голову повязку, она вдруг замечала, что эта повязка и весь разговор о черепных ранениях обретают определенный и конкретный смысл, что черепные ранения опасны постольку, поскольку опасны для него...
Матросы благоговейно смотрели, как проворные руки доктора, взяв два бинта, в мгновение ока закрепляли на голове одного из них "шапку Гиппократа" - аккуратную, надежную. А у них не получалось: бинт на голове не держался, сползал. И никто, конечно, не мог заподозрить, что доктор, так ловко орудующий бинтами, витает бог весть где.
Забот у Павлушкиной все прибывало и прибывало. Занятия с санитарами шли полным ходом. Они научились накладывать жгуты, останавливать кровотечение, применять шины, делать уколы, а тут, как обухом по голове, сообщение с четвертого орудия: у лейтенанта Кузнецова боли в животе, у замкового из его расчета рвота, колики.
Неужели вспышка эпидемии? Сейчас, перед самым боем?
У Кузнецова оказался острый аппендицит - его увезли в госпиталь.
С отравлением справилась, труднее было справиться с собой, со своей тревогой: в садах налились яблоки, в огородах созрели огурцы, неровен час, вспыхнет дизентерия, и батарея до боев выйдет из строя.
Иванов передал на все орудия телефонограмму: "Выполнять приказания врача, как мои".
В санпункт из Ленинграда прислали пополнение - сан-дружинницу Зою. Она только что окончила десятилетку, была уже не девочкой, а девушкой - ей было тесновато в платье школьных лет, которое упруго облегало ее плотное, молодое тело. На фронт Зоя ушла добровольно, видно, проявила характер, добилась желаемого. Медицинских навыков не имела, но очень хотела все уметь и все постичь.
В думах Павлушкиной мелькнуло: "Вот обучу Зою, во время боя оставлю ее здесь, на медпункте, сама перейду на запасной". Запасной разместили рядом с пятым орудием, а пятое находилось в самом центре расположения батареи. Пожалуй, она поступила бы так же и не будь Смаглия. однако что делать, если получилось именно так...
Думая об этом по пути с кузнецовского орудия в Дудергоф, Павлушкина услышала тяжелый гул самолетов. Бомбардировщики прошли над Вороньей горой, за ними, скользнув по небу, пронеслось звено "мессершмиттов".
С высоты было видно, как бомбардировщики заходят на цель. Что там? Болотце, заросшее осокой, жидкая рощица, за нею пустырь. В роще Павлушкина это помнила - стояло несколько глиняных танков, на пустыре был оборудован ложный аэродром.
"Юнкерсы" заходили волнами, бомбы взметали землю. Уже, конечно, ничего не осталось от рощицы, от глиняных танков, от ложного аэродрома, а они все бомбили и бомбили.
Самолеты ушли, оставив за собой огромное облако черного дыма.
В звене "мессершмиттов" Павлушкина одного не досчиталась. Пока она соображала, куда он делся, "мессер" появился в небе и пошел прямо на нее.
Ей доводилось слышать, что фашистские асы практикуют такое: самолет охотится за человеком, если даже он один. И все-таки в первый момент это показалось невероятным. Лишь повинуясь инстинкту, Павлушкина прыгнула, прокатилась метра два по скату и, очутившись в бомбовой воронке, уткнулась в землю.
Пулеметный огонь срезал молодую сосенку. Макушка ее свалилась в воронку, пули прошили край воронки, и несколько комков земли упали на Павлушкину. Она еще не разобралась, ранена или нет, что-то толкнуло в бок, а "мессер" уже развернулся и начал заходить вторично. Моторный гул надвигался, грохот разрывал перепонки, дзвикали пули. Как ни странно, даже гул не мог заглушить близкое дзвиканье пуль.
Истребитель едва не задел плоскостями сосну. Тень его прошла по спине Павлушкиной. В рот набилась земля, но не открой она рта - оглохла б от грохота...
Выбравшись из воронки, постояла, не веря, что жива. Шевельнула правой рукой, левой - целы. Да и бок был цел - видно, ударила срезанная пулями ветка. На ветке беспечно сидела пестрая бабочка, чуть заметно подрагивая крыльями.
Павлушкина стряхнула с кителя землю. Рука слушалась плохо деревянная, чужая.
Бабочка затрепыхала крыльями, полетела прочь. Гул "мессершмиттов" удалялся. Все обошлось...
Спустя несколько дней, проходя мимо бомбовой воронки, она не испытывала уже ни смятения, ни страха, скользнула взглядом по иссеченной пулями макушке сосны и предалась иным мыслям, иным переживаниям. Стремительные перемены, столь частые в круговерти военного времени, захватили Антонину Павлушкину. То, что совсем недавно было немыслимо далеким, ворвалось в ее жизнь властно и решительно.
Три дня назад комбат вызвал ее к себе. Он поинтересовался, как идет обучение боевых санитаров. Она рассказала.
- А как выполняются ваши прочие указания?
Павлушкина неожиданно спросила:
- Можно проверить, товарищ старший лейтенант, где ваш индивидуальный пакет?
Он достал из кармана пакет, молча спрятал его, и вдруг в глазах его загорелись лукавые искорки. Комбат заговорщически улыбнулся:
- Я хочу вас задержать для не совсем официального разговора.
Без всякого перехода, ни с того ни с сего Иванов заговорил о лейтенанте Смаглии, назвал его по имени и отчеству - Алексеем Васильевичем, как никогда прежде не называл, помянул, что знает его с восемнадцатилетнего возраста по училищу, что командир он отличный и человек доброй души, честный и принципиальный. После секундной паузы комбат сказал, что ее, Антонину Григорьевну Павлушкину, знает сравнительно недавно, но ее деловые и человеческие качества у него не вызывают сомнений и он, получив рапорт от лейтенанта Смаглия - рапорт Иванов протянул Павлушкиной, - решил его удовлетворить...
Еще до встречи с комбатом ее ни на час не оставляли раздумья: "Как же так, идет война, как можно думать о нем, о себе, ведь война, война, война". И с ее языка неуверенно сорвались два этих слова:
- Ведь война. Иванов прервал ее:
- Да, война, но настоящие чувства не боятся войны. А тяготы одолевать вдвоем легче, чем в одиночку. Дружно не грузно...
Пословицы всегда выручали его: мысль, подкрепленная народной мудростью, обретала особую завершенность. Доводы Павлушкиной, возникшие после памятной встречи со Смаглием, померкли, отступили перед затаенными чувствами. Краска прилила к лицу...
Колесо ее судьбы завертелось с бешеной скоростью. Она жила, словно во сне, и не заметила, как настал час, когда надо было отбросить все дела и отправиться в Пелгалу на свадебный ужин. Антонина достала свое голубое шелковое платье, приготовленное для выпускного вечера, и черные туфли на каблучке, села на койку и неожиданно разрыдалась. Слезы текли обильно, безостановочно. Сандружинница Зоя, сначала притихшая и растерявшаяся, принялась утешать доктора:
- Что вы, что вы, ведь он такой хороший, такой красивый!
Павлушкина выплакалась - так было заведено в деревне Мясцово, когда девушки выходили замуж, прощались с подругами. Голубое платье аккуратно завернула в газету, туфли спрятала в сумку от противогаза. Одернув китель, проведя раз-другой по сапогам бархоткой, хранимой за голенищем, сдвинула вправо кобуру с наганом, перекинула через плечо санитарную сумку. И все повторилось, как повторялось каждодневно, - травянистая тропа, проложенная комбатом, воронка, суживающаяся книзу, с набежавшей на дно дождевой водой. И лишь в Пелгале, где она сбросила запыленные сапоги и почувствовала, как легко в лакированных лодочках, где надела невесомое голубое платье (после плотного кителя настолько невесомое, словно она и вовсе без одежды), когда увидела Алексея в белоснежной сорочке, свежего, чистого, идущего навстречу, когда появились комбат, политрук с букетами полевых цветов и горделиво-загадочный Георгий Швайко, развернувший газету и поставивший на стол бутылку шампанского в серебряной одежде, - в сердце ее празднично запела радость.
Полевые цветы, поставленные в консервные банки, украсили стол. Шампанское, добытое начпродом неведомо где и как, торжественно возвышалось над железными кружками и гранеными стаканами. Разлили вино.
Иванов пожелал молодым пройти по дорогам войны и вместе прийти к победе.
Политрук Скулачев показал на занавешенное окно, напомнил, что за окном часовой с винтовкой, и предложил тост за то время, когда за окном будут мирные люди, и свадебные песни, и веселая музыка.
Провозглашалось традиционное "горько", на пожелания не скупились, на несколько минут забыли о войне, и Адриан Адрианович достал с подоконника гитару и попросил Тоню что-нибудь спеть. Она не заставила себя упрашивать и запела давнюю, с ранней юности знакомую песню о счастье и верности.
Не изменит оно, не солжет,
Все оценит в тебе, все поймет,
И какая ни грянет беда
Не оставит тебя никогда...
В гильзах мерцал огонь. Словно из той, из мирной, жизни возникли голубое платье Павлушкиной и белая сорочка Смаглия, возникли и вытеснили безысходную горечь первых месяцев войны.
Снова поднялся Иванов, посмотрел на часы. Все поняли - пора. Последний раз сдвинули кружки и граненые стаканы, выпили за жен, за матерей, за родные города и села.
Из сумеречного полусвета комнаты шагнули в загустевшую синеву вечера. Силуэт часового темнел у калитки.
Политрук Скулачев читал в орудийных расчетах отрывки из дневника ефрейтора 3-й немецкой мотодивизии, опубликованные в газетах: "Наш экипаж в составе трех человек вел разведку. В танк было два попадания из русских противотанковых пушек. Танк сгорел. Все мои вещи сожжены. В нашем взводе подбит еще один танк - прямое попадание противотанкового орудия.
...Натолкнулись на упорное сопротивление. Наш батальон отрезали с тыла. Со всех сторон по нас била артиллерия.
...Мы пробиваемся обратно. Танк, шедший впереди нас, попал под артиллерийский снаряд. Два человека убито, четыре ранено".
Матросы, любители вставить острое словцо, хлестко прокомментировать слышанное, молчали. Каждый знал: немцы прут на Ленинград. Исходят кровью, но прут. И Адриан Адрианович, отложив дневник убитого в танке ефрейтора, открыл другую газету - "Ленинградскую правду". Невоенная газета напечатала статью: "Как уничтожать фашистские танки". Из рук в руки перешел рисунок: боец из окопа швыряет бутылку с горючей жидкостью в бронированную машину с крестом.
Скулачев читал медленно, останавливался, чтобы лучше запомнили: с пятнадцати метров танковое орудие не поражает - "мертвое пространство"; бутылки с горючей смесью следует бросать в кормовую часть танка, где расположен мотор.
Разлившаяся жидкость воспламенит его.
Придет ли конец экипажу? Фашисты порой спасаются через верхний или нижний (аварийный) люк. Надо следить! Выпрыгнут - бери на мушку!..
Слушали, наматывали на ус, понимали: скоро. 29 августа пало Тосно, 31 августа пала Мга. Связь со страной по железной дороге оборвалась. Кольцо вокруг Ленинграда неумолимо сжималось.
Скулачев, умевший читать газеты, видел, как изо дня в день тон их становился тревожнее. "Ленинградская правда" призывала:
"Все, как один, на защиту родного города!"
Газета "На страже Родины" писала:
"Грудью защитим свои жилища, свою честь и свободу!"
С плаката смотрели бойцы и ополченцы, ставшие в один ряд.
Александр Прокофьев, словно забыв, что он лирик, исторг строки, отрывистые, как приказ:
Ни шагу назад!
За нами - Ленинград!
Ни шагу назад!
Ни шагу назад!
Передовые, аншлаги, стихи, сводки, плакаты - все сливалось в единый призыв: "Выстоять!"
На первой полосе напечатано сообщение: образован Военный совет обороны Ленинграда.
Авроровцы, чьи орудия ждали своего часа, понимали, что они частица огромного фронта, что они незримо связаны с пехотными полками, до поры скрытыми в глубоких, ощетиненных колючей проволокой траншеях, с фортами и кораблями Кронштадта, громовые залпы которых сотрясают землю и небо, с самим Ленинградом - великим и суровым, то видимым с Вороньей горы, то скрытым туманом и дымом, но всегда ощутимо близким. Сознание этой близости придавало авроровцам особую твердость. Об этом не говорили, это чувствовали.
И еще одна мысль жила в сердцах комендоров: тогда, в октябре семнадцатого, такая же пушка, как эти, стоящие у Вороньей горы, дала сигнал к штурму Зимнего; сегодня они, орудия "Авроры", на важнейшем рубеже, преграждающем путь к городу Ленина.
Об этом тоже вслух не говорили. Но это жило в каждом...
В начале сентября батарея "Аврора" получила приказ: открыть огонь по противнику. Данные передавали из Пулкова, из штаба дивизиона. На мосты, развилки дорог, населенные пункты, рощи и овраги, удаленные от пушек на двадцать километров, и пристрелянные заранее, обрушился огненный смерч.
Наблюдатели и воздушная разведка передавали: снаряды обрушились на скопления танков, горят склады, рушатся мосты, дороги разворочены, становятся непроезжими.
Гитлеровцы бросили на Воронью гору авиацию. От гула груженых "юнкерсов" дрогнула земля. Батарея "А" на всем своем пятнадцатикилометровом фронте от Дудергофа до Пёляле замерла: быть или не быть?
"Юнкерсы" заходили на Воронью гору. Бомбы, отделяясь от самолетов, падали на вековые сосны. Деревья вырывало с корнями. Земля и камни поднялись в воздух. Сквозь дым, мглу и неразбериху разрывов пробилось грязно-рыжее пламя горящего леса.
Волна за волной разворачивались бомбардировщики. Вой включенных сирен несся к земле, а под тяжкими бомбами содрогалась ее твердь.
Два часа длилась бомбежка.
Два часа молчала батарея.
Наконец прорезался писк рации из Пулкова: передали новые данные для стрельбы. И орудия батареи "А", стоявшие у самой Вороньей горы, безупречно замаскированные, не потерявшие ни одного бойца, снова открыли огонь.
Гитлеровцы по звуку пытались засечь батарею. Мгновенно в воздух поднялись "юнкерсы". И опять смерть неистовствовала на Вороньей горе. И опять, едва отгремела бомбежка, заговорили пушки "Авроры"...
Немецкое командование, очевидно, решило во что бы то ни стало найти и уничтожить батарею. Высоко в небе парил фашистский разведчик "фокке-вульф", прозванный в войсках "рамой". По форме он действительно напоминал раму. Разведчик забирался на недосягаемую для зениток высоту и вел съемки. "Юнкерсы" с прежним остервенением терзали Воронью гору. Батарея оставалась необнаруженной. Но жертвы были. По пути к авроровцам погиб от осколка командир дивизиона Григорий Лазаревич Соскин.
8 сентября, закрыв собою полнеба, на Ленинград поплыла фашистская армада. Не сосчитать, сколько их шло, надрывно гудящих бомбовозов.
Весь вечер и всю ночь небо над городом полыхало кровавым заревом. Разбомбленные склады имени Бадаева, где хранились запасы муки и сахара, выбросили двадцатиметровые столбы пламени. Раскаленной лавой тек сахар. Город горел. Тупорылые бомбовозы, иссеченные зенитками, рушились на пылающие дома.
А утром батарея "А" получила последнюю почту. Писем не было. В сводке Советского информбюро Скулачев прочитал: "В ночь на 9 сентября наши войска продолжали бои с противником на всем фронте". И через всю полосу крупным шрифтом:
"Умрем, но Ленинград не отдадим!"
Стемнело, но дорога была еще различима. Она смутно серела среди темного леса. Не зажигая синих фар, шофер медленно вел батарейную полуторку. У выбоин, у бомбовых воронок притормаживал.
Деревья за обочиной, росшие вразброс, отдаленные друг от друга, словно сошлись, встали черной стеной, боясь ночного одиночества.
Старший лейтенант Иванов стоял в кузове, опираясь на крышу кабины. Встречный ветер холодил лицо. Лохматые кусты и сосенки, выбегавшие к дороге, не казались комбату ни призраками, ни медведями, поднявшимися на задние лапы. Он привык к полуночной езде, еще больше к ходьбе, и лес, изменившись во мраке до неузнаваемости, не был для него чужим.
Пока Костя объезжал очередную воронку, Иванов скорее представил, чем увидел, стоявшую у обочины сосну, расщепленную бомбовым взрывом. Макушка ее рухнула наземь, лишь корою крепясь к стволу, а сам ствол белел, как обнаженная кость.
Гитлеровцы бомб не жалели. К счастью, ни одна пушка пока не пострадала, правда, шальным осколком убило командира первого орудия лейтенанта Скоромникова. Пришлось на его место поставить начпрода Швайко. Это вынужденное назначение беспокоило комбата: молодой интендант все-таки не артиллерист. Иванову, привыкшему уважительно относиться к пословицам, вспомнилось: "Всяк сверчок знай свой шесток"...
Дорога давала возможность продумать все, что заботило. Из девяти командиров орудий двое выбыли: Скоромников и Кузнецов. Кузнецова Павлушкина отправила в госпиталь. На замену надеяться было трудно.
Утром следовало послать машину за снарядами в Красное Село, на основной склад боепитания. Как-никак стрельба по закрытым целям поубавила запасы, а решающий бой близок. Вот и приезд комиссара дивизиона, пожелавшего немедленно, нынешней ночью, объехать все расчеты, конечно, не случаен...
Комиссар дивизиона был однофамильцем Иванова. Старший политрук юркий, коренастый, быстрый в решениях, напористый в деле - торопился. Напоив гостя горячим чаем со смородиновыми листьями, Иванов спросил:
- Хотите ехать непременно ночью?
- Да, непременно. Скоро матросам не до бесед будет.
Из этого явствовало: в дивизионе ждут главного боя вот-вот. Это "вот-вот" длилось более двух недель. Однако кто мог поручиться, что гром не грянет сегодня, сейчас...
Пунктир трассирующих пуль прорезал темень. Пули истаивали во мраке, исчезали бесследно, словно мрак поглотил их.
Мимолетная игра огня подчеркнула покой приближающейся ночи. Часть дороги, изрытая бомбами, миновала, шофер мог прибавить газу, но внезапно притормозил. Комбат, глянув прямо перед собой, на дороге, уже едва различимой, увидел людей. Неясные движущиеся тени перемещались навстречу машине, и первое, что пришло в голову, было: матросы отправились в лес за ветками для маскировки. Иванов не успел сообразить, из какого орудийного расчета направились в эту часть леса, - тишину разорвали автоматные очереди, хлопнула ракетница, и воспаленный красный шарик взметнулся вверх. Словно из лопнувшего пузырька, разлился свет.
Иванов выпрыгнул из полуторки, бросился к придорожным кустам. Что-то ожгло правую ногу. Упав за бугорок, он швырнул в бегущих гранату. В свете разрыва увидел неподвижную машину, Костю и комиссара, прошитых очередями и не успевших выпрыгнуть из машины. Иванов дважды выстрелил из револьвера и метнулся в сторону. По нему ударило несколько автоматов. Он на мгновение опередил гитлеровцев. Они били по револьверным вспышкам, но опоздали.
Пригибаясь, перебегая от дерева к дереву, он углубился в лес. Гитлеровцы строчили наугад, в погоню пуститься не решились: побоялись сунуться в темноту.
Удалившись от места стычки метров на сто, Иванов позволил себе краткую передышку. Надо было разобраться, что с правой ногой. В пути дважды пронизывала боль, парализуя движение. Он коснулся брюк и почувствовал вязкую, теплую мокроту: кровь.
В верхней части бедра вырвало клок мяса. Иванов нащупал индивидуальный пакет, стянул бинтом ногу.
Немцы повесили осветительную ракету. Жмурясь от яркого света и уткнувшись в землю, он услышал бульканье воды. Где-то рядом ворковал, перекатывая камешки, знакомый ручей. От него наискосок вилась тропинка, выводящая кратчайшим путем к первому орудию.
За минуту, что пережидал, пока догорит ракета, повязка опять промокла, Он снова ощутил вязкую мокроту - кровотечение не прекращалось. Цепляясь за накренившуюся березку, поднялся.
Идти стало тяжелее. Тошнило, кружилась голова. Обволакивала слабость. Иванов припадал на правую ногу. Пришлось для упора взять палку. Он спешил. По лицу хлестали ветки. Останавливался, нащупывая здоровой ногой тропу. И снова шел.
Еще в июле, когда батарея обосновалась в районе Вороньей горы и заработал полевой телефон, Иванов ввел позывные. Все они начинались на "о": батарея - "Огурец", командир батареи - "Олень".
"Олень" - это слово пришло в голову само собой, но вряд ли оно пришло бы, не будь охотничьей юности у комбата. Он неодолимо любил лес, ко всем орудиям проложил "оленьи тропы", и ни один скороход - даже отлитый из мускулов Антонов - не мог бы быстрее его добраться на дальнюю, девятую пушку, не говоря о ближних.
В пути у Иванова были свои приметы: замшелые пни, грибные наросты, изогнутая аркой березка, дуб с дуплом, в котором лежало несколько сухарей. Эти сухари он не брал, но иногда проверял, не унесла ли белка, и оставался доволен, обнаруживая их на месте.
Этим вечером, сбиваясь с тропы и возвращаясь на нее, он ощупью узнал дуб в полтора обхвата, поднял руку на уровень головы и, нащупав в дупле сухари, удостоверился: до первого орудия не более пятисот метров...
Сандружинница Зоя перевязала Иванова. Кровь остановить не удалось. Белые бинты заалели прежде, чем она сделала последний виток. Комбат, не замечавший Зонной растерянности, отдавал распоряжения Георгию Швайко: смотреть в оба, занять круговую оборону, из Дудергофа отозвать дежурных по камбузу, держаться до последнего, ночью ждать подкрепление.
В землянке лейтенанта Скоромникова, где Зоя делала перевязку, на гвозде еще висела фуражка с зеленым околышем. Убитый был не моряком, а пограничником. Комбат на мгновение задержал взгляд на фуражке, на Зое, которая проспиртованной ватой стирала с пальцев кровь, приказал:
- Берегите людей, Швайко!
Комбат вышел из землянки. Палка, на которую он опирался, сильно прогибалась. От провожатого отказался:
- Доберусь!
Он решил идти к запасному КП, в Пелгалу, пробираясь от расчета к расчету. До второго орудия было полкилометра, не больше.
Он ни разу не застонал. Она лишь чувствовала, как он напрягся. Рана была глубокая, большая, рваная. Видно, немцы стреляли разрывными.
- Потерпите, - попросила она, быстро обрабатывая рану, но он терпел и так, в этой просьбе не было нужды.
Павлушкина с трудом представляла, как комбат дошел до КП. В свете чадящей коптилки, сделанной из сплюснутой гильзы и заправленной пушечным смазочным маслом, она разглядела толстую палку, прислоненную к койке, и след крови на одеяле. Очевидно, комбат, добравшись до койки, минут пять пролежал: не было сил двинуться, и там, где лежал, остался кровавый след, черное влажное пятно на сером одеяле.
Она закончила перевязку и взглянула на него. Лицо обескровилось до белизны. Проступили скулы - прежде они никогда не проступали. В полусвете синева под глазами казалась чернотой.
- Я немедленно отправлю вас в госпиталь.
Судьба высокая "Авроры"
Они встретились взглядами. Павлушкина увидела стальные, властные глаза комбата. Он слабо качнул головой:
- Нет.
Иванов ничего не повторял дважды. Его "нет" не оставляло щелочки для продолжения разговора. Нет, - значит, нет, в госпиталь он не поедет.
- Смаглия ко мне!
Комбат прикрыл глаза, отдавшись своим мыслям. Обстановка оставалась неясной. Какими силами прорвались немцы? Почему они шли не с фронта, откуда их ждали, а с тыла? Уж слишком разнузданно-смело и открыто двигалась разведка. И что означала ракета? Может быть, за разведкой следовали танки, мотопехота?
Связь между батареей и дивизионом оборвана. Связь между орудиями тоже.
Наиболее вероятен удар гитлеровцев по первой пушке. Ночью они сунутся едва ли. Значит, до рассвета надо укрепить расчет Швайко. И послать, конечно, опытного командира-артиллериста...
Смаглий появился быстрее, чем можно было ожидать. Черную шинель перехватил ремень, отягощенный двумя гранатами. Автомат, перекинутый через плечо стволом вниз, придерживал рукой. Большой, сдерживающий после бега дыхание, он, казалось, сразу заполнил всю землянку.
Было 2 часа ночи. На свежем лице Смаглия - никаких следов прерванного сна. Он уже знал больше, чем предполагал комбат.
Заполночь Кукушкин разводил караулы. Орудийный склад находился в четырехстах метрах от огневой позиции. Полундра, всегда провожавшая ночью старшину, тихо зарычала. Кукушкин остановился, прислушался: через минуту-другую и он услышал топот бегущих.
Полундра зарычала громче, старшина коснулся загривка - шерсть на собаке приподнялась. Став за дерево, Кукушкин выждал и окликнул бегущих:
- Стой, кто идет?!
Отозвались женщины, бежавшие со стороны станции:
- Это мы, свои. В Дудергофе фашисты!..
Расчет орудия, поднятый по тревоге, занял места по расписанию. Смаглий попытался связаться по телефону с КП, с соседними пушками. Телефон молчал. Он выставил дозор, послал матроса к лейтенанту Доценко: как у него? есть ли связь?
Смаглий уже знал от посыльного, что комбат ранен. Он смотрел на Иванова, не задавая вопросов. Понимал: что надо - комбат скажет. И комбат, никогда не обращавшийся к Смаглию на "ты", если кто-либо был рядом, сказал:
- Возьми с каждого орудия троих - пятерых. Возьми по автомату, больше в расчете не взять. Ручные пулеметы. В первом смени Швайко. Торопись. Действуй по обстановке. Пришел наш час, Алеша!
У Смаглия качнулся кадык, он хотел что-то сказать, заверить Дмитрия Николаевича, что все будет сделано, но слова где-то застряли, рука дернулась к козырьку. Уже повернувшись, он увидел стоявшую в глубине землянки Тоню. Смаглий на секунду задержался. Его глаза как бы просили: "Не беспокойся, все будет в порядке. Сделаю дело и вернусь".
Он поспешно вышел. Через десять минут матросы ждали его на тропе, а он, отведя в сторону Кукушкина, тихо попросил:
- Береги Тоню, Алексей Алексеевич! И, дав волю чувствам, обнял старшину, коснувшись его колючей, бритой еще до подъема, щеки.
Вспоминает командир третьего орудия лейтенант Евгений Дементьев:
Батарея "А" начала вести огонь по противнику в первых числах сентября, когда немецко-фашистские войска, прорвав нашу оборону на Лужском рубеже, вышли в район Красногвардейска и стали продвигаться непосредственно к Ленинграду. Огонь мы вели по невидимым целям: скоплениям танков и другой техники, а также по живой силе врага.
Данные для стрельбы я получал по рации с КП дивизиона из Пулкова. В большинстве случаев результаты этих стрельб мне не были известны, но иногда с КП сообщали: цель накрыта, противник понес значительные потери, скопление войск рассеяно.
С каждым днем бои нарастали. Мы непрерывно вели огонь, а противник с такой же настойчивостью бомбил нас с воздуха.
10 сентября из леса, расположенного примерно в одном километре к югу от наших орудий, неприятель начал вести обстрел из минометов.
На рассвете 11 сентября передовые мотомеханизированные войска и танки гитлеровцев показались в поле видимости - они прорвались по шоссе на правом фланге батареи "А", в непосредственной близости от орудия № 1.
Весь день 11 сентября мое третье орудие вело огонь прямой наводкой. Бойцы не уходили в укрытие даже тогда, когда нас бомбила немецкая авиация. Так же поступали и расчеты других орудий, в поле зрения которых была цель.
Мне в бинокль было хорошо видно, как на шоссе горят и взрываются немецкие танки, бронемашины, как разметались вокруг трупы убитых, как мечутся тени разбегающихся...
Стоило только немецким автоматчикам и мотоциклистам появиться из леса, расположенного перед батареей, как орудия переносили огонь на видимого противника.
Во всех этих боях на моем орудии никто ни разу не проявил трусости. Все приказы выполнялись беспрекословно.
Однако шли бои неравные. Фашистам, хотя они и несли тяжелые потери, к исходу 11 сентября удалось прорваться на правом фланге батареи "А"... Под вечер в двухстах - трехстах метрах от третьего орудия мои наблюдатели обнаружили с десяток танков, бронетранспортеров со свастикой, много мотоциклистов и пеших автоматчиков.
С места расположения третьего орудия из-за складок местности не просматривались орудия первое, второе, четвертое и уже не было слышно стрельбы...
Рассказывает старшина пятого орудия Алексей Кукушкин:
Лейтенант Смаглий из нашего расчета на первую пушку увел шестерых. Петра Лебедева помню, Чернышева. Мне сказал:
- Давай, старшина, автомат. Там нужнее.
Екнуло мое сердце от предчувствия: навсегда расстаемся. Снял автомат. На орудии их всего два было - у лейтенанта и у меня.
Смаглий очень торопился. Подкрепление с других пушек - от Доценко, от Овчинникова - ждать не стал, предупредил меня: "Придут - посылай вдогонку. Пойдем от орудия к орудию, по цепочке. Человек двадцать наберу, не меньше..."
Рассказывает заряжающий третьего орудия Лев Шапиро:
В ту ночь лейтенант Дементьев поднял расчет по тревоге. В артиллерийском дворике увидели матросов с других пушек, с ними лейтенант Смаглий. На голове - каска, на груди - автомат.
- У вас станковый пулемет есть, - сказал Смаглий.
- Есть, - подтвердил Дементьев, - только неисправный.
- Давайте, - настоял лейтенант. - Исправим.
Ушли они в ночь. Светать едва-едва начинало. Может, часа три было, может, чуть больше. А на следующий день такое началось, что думали: конец свету. Воронью гору "юнкерсы" перепахали. Все в дыму. Что горит - не поймешь: лес, земля, воздух?
Орудие наше не замолкало. Боялись - расплавится.
К ночи бой стих, а дым так и не рассеялся. Воронью гору окутало. Дышать нечем - одна гарь в воздухе, в горле першит.
Так вот в ночь на 11 сентября меня часовым поставили у склада с боеприпасами. Склад наш, как положено, глубоко в земле, накаты дерном покрыты, размещен в редколесье между первым и нашим, третьим орудием. Стою я, слушаю ночь. В Дудергофе дома догорают, фашисты зажигательными стреляли.
И вдруг со стороны первой пушки "Ура!" понеслось. Пулеметы ударили - я хорошо различаю, - один станковый, другой ручной, и винтовки, и автоматы, и гранаты ахнули. В ответ бешеная трескотня поднялась.
То ли прорывались наши, то ли еще что - не знаю. Минут пятнадцать бой шел. Потом стихло...
Рассказывает наводчик второго орудия Александр Попов:
- Первая пушка - наша соседка. Послал лейтенант Антонов двух матросов в разведку. При мне напутствовал: хоть под землей проползите, разузнайте толком, что у Смаглия, где враг, и - назад.
Если ждешь, время тягучее, как резина. Понимаем, что первое ведет бой - стрельба слышна, пушка бьет, значит, живы. А связи нет, точно ничего не знаем.
Расстояние между нашими пушками такое, что разогнаться и... прыгнуть. Куда же провалились разведчики? Нервничаем.
Антонов виду не подает, не у бруствера стоит, ушел в глубину дворика. Я - за наблюдателя. Лейтенант знает, что я глазастый. Еще на охоте глаз навострил. Ветер дохнет - вижу.
Что Воронья гора немцами занята - догадываемся. Не бомбят. Они не такие, чтоб экономить бомбы. Бомб у них хватает. Чует сердце - пролезли, зарываются, как кроты. У них гора. Из-за дыма ни черта не видать. Где же эти дьяволы разведчики?!
Наконец-то пожаловали. В земле вывалялись, на брюхе ползли, в воронках отсиживались. Вымотались, никак не отдышатся. Доложили: первое окружено, гитлеровцев полно, роты две, не меньше. И Дудергоф захвачен, по Вороньей, как муравьи, расползлись. Надо ударить.
Накануне к нам на пушку политрук Скулачев приехал. Обычно пешком ходил, а тут "эмка" пулковская подкатила. Думали - начальство из дивизиона. Оказалось - начальство на батарейной полуторке, "эмку" нашему политруку дали.
Посовещался лейтенант со Скулачевым - дело ясное. Решили не ждать у моря погоды - ударить по Вороньей. Перво-наперво надо было Смаглию помочь. Всадили мы по склону, что к пушке ведет, снарядов десять. Если был там кто - метра на три в землю вогнали и сверху землей присыпали. Потом гору обработали. Славно обработали. Жаль, мертвые внукам не расскажут, сколько аршин русской земли стоит.
Бой есть бой, в раж вошли, азарт обуял, все-таки стотридцатимиллиметровая, даст так уж даст! А тут команда: "Прекратить огонь!"
Вижу, Антонов к брустверу побежал, бинокль к глазам прикладывает. Прислушался - в ушах еще гудит, хотя и не стреляем. Все же различил: с дороги грохот доносится, танки идут. Идут не от Красногвардейска - оттуда мы фашистов ждали, - а с тыла, от Красного Села.
- Наши! - закричал кто-то. - Подкрепление! Ура!
Почти все к брустверу бросились. Даже второй наводчик Алексей Кузьменко не утерпел: уж больно своих увидеть захотелось. На такое, честно говоря, уже и не надеялись. А я на месте, в башне, остался. В стереотрубу как глядел, так и гляжу.
Вижу: по дороге из-за горы выдвигается головной. Глаз не отрываю - на бортовой броне свастика. Меня как кипятком обдало. Слышу голос Антонова:
- Орудие, по немецким танкам!..
Эх, мать честная, ствол орудийный-то в сторону Красногвардейска повернут. Штурвал подкручиваю, чувствую - фашист опередит меня, хобот его пушки прямо на нас нацелен. Ударил, проклятый! В башню снаряд влепил. Взять броню не взял, но треск и звон такой пронзительный, что душу вывернуло, уши болью свело. Кто-то стонет, кто-то кричит, а я только танк вижу: нет, бормочу себе, теперь не уйдешь, гад! С дороги свернуть некуда, при на меня - пан или пропал. Веду ствол, веду.
- Огонь! - не крикнул, а рявкнул Антонов.
На всю жизнь этот выстрел запомню. Шар огня и дыма. И все. Рассеялся дым. Нет танка. Прах один. Пустое место. А уже новые прут.
- Цель! Цель! Цель!
- Есть цель!
И снова:
- А-ах!
Поняли эти каракатицы бронированные, что в лоб нас не возьмешь. Втянулись за гору. Может, решили ночи дожидаться? Ведь обойти нас не обойдешь - одна дорога, свернуть некуда.
Огляделся я. Алексей Кузьменко ранен в ноги. Приполз к орудию, занял свое место второго наводчика.
Несколько убитых лежат. Лиц не вижу - прикрыты. Только у Волкова сполз бушлат, голова обнажена, рыжие пряди торчат и рот почему-то открыт. Потом узнал, что немецкий снаряд живот его навылет прошел и самого Волкова метров на десять отбросил.
Передышка недолгая выпала. Опять по башне зацокали осколки. Танки стреляют, а на дороге не показываются, из укрытий бьют. Иной снаряд в башню всадят - голова от звона раскалывается. В ушах резь. Взглянул на Антонова. Голова - в бинтах. Бинты кровью набрякли. Бинокль к глазам прижат, что-то видит, колесико водит. Оторвал бинокль, ко мне обернулся, кричит, а я слов не слышу, звон в ушах не проходит. Глаза у лейтенанта злыми стали, губы ходят, догадываюсь - крепкое слово запустил, и сразу в голове моей прояснилось: чего на лейтенанта глаза пялю, на врага смотреть надо.
Близ дороги, у самого изгиба ее, сарай. Старый, покинутый, под соломенной крышей, от времени побуревшей. Из-за сарая танк бьет. Вспышка, другая...
Ударили. Хорошо ударили. Ни танка, ни сарая. Антонов вроде бы улыбнулся, не то чтоб улыбнулся - губы развел, рукой лоб захотел утереть, забыл о бинтах. Рука кровью обагрянилась.
В ту минуту я еще не знал, что последний выстрел дал. От нашего ли огня, от вражеского ли брезент загорелся, маскировка наша, сети, ветки. Мы словно ослепли.
Слышим - танки гремят, проскакивают по дороге, на Мурьелу выходят. Хотели так, наудалую, снаряд-другой пустить - поворотный механизм заело. От частых попаданий в башню орудие послушность утратило. Да и снаряды, можно сказать, к концу пришли, два или три осталось.
- В укрытие! - скомандовал Антонов.
Мало нас осталось, хоть по пальцам считай. К землянке пробираемся, там от осколков защита. А немцы стреляют. Позади осколки шмякаются, меня щадят. Прижимаюсь к земле, думаю: если и в рубашке родился, в таком аду одной рубашки мало, пожалуй. И словно накликал на себя: левую ногу будто кто дернул с силой. Куда угодило - не пойму, в бедро наверняка попало и вниз куда-то, в голень, что ли. И потекла по ноге боль, как огонь жгучая.
"Все, - сказал я себе. - Здесь и на двух ногах не уйдешь. На одной куда денешься? Пиши - пропал".
Положил я голову на землю, расслабился. Боль чуть-чуть утихла. Лежу, слушаю. Земля от разрывов вздрагивает, как живая. И ее, бедную, дрожь бьет. Послушал-послушал, злость меня обуяла: чего себя раньше времени хоронить вздумал! Напряг руки, пополз. Раненая нога волочится, криком кричать хочется - боль такая, но я ворот бушлата закусил, чуть насквозь не прогрыз, молчу.
Заполз в воронку, ко мне Алексей Смирнов пробрался. Перевязал.
- Держись, Саша! Лейтенант прорываться решил. Нащупаем путь - тебя унесем...
На ногах четверо осталось: Антонов, Скулачев, Володькин и вот он, Леша Смирнов. Негусто. Унесут не унесут - кто ответит? На войне жизнь не страхуют. Пуля - дура...
Огляделся: надо из воронки уползать подобру-поздорову. Если миномет ахнет, или "мессеры" прочешут, или град осколков сыпанет - над головой одно небо. Крышка. А метрах в пятнадцати "эмка" стоит. Не то чтоб целехонька стекла повышибло, осколками посечена изрядно, но стоит - на крыше ветки. Под ней отлежаться? Или до землянки ползти?
В землянке, конечно, спокойнее, однако тридцать метров на руках тело свое тащить, ногу распроклятую, боль мою!
"Мессеры" помешали выбор сделать. Вынырнули из-за леса, из пушек, из пулеметов чешут. Один совсем низко прошел, думал - бугор колесами заденет. Душой в землю ушел. По звуку понял - пронесло. Поднял голову: "эмка", как свеча, горит.
Вот и выбирать стало нечего - потащился в землянку.
Профессия моя - водолаз, так что и до боев о жизни думал и о смерти думал. Всякое было. А на войне, кем бы ты ни был, будь готов к худшему: в любой день и час может прийти смерть с косой. Об одном не думал и в голову такое не приходило, что выволокут меня, бессильного, фашисты, бросят возле землянки и начнут глумиться над беспомощным. Сначала авроровские ленты из бескозырки выдернут, потом в звезду на фланелевке ногой ткнут. У нас, у моряков, на левой руке звезды. Раненых набралось человека четыре, кажется. Оглядел нас офицер, зарычал:
- Alles комиссар?
Переводчик объяснил: не комиссары они, форма у них такая.
Честно говоря, стал я бабки подбивать: рано, мол, Александр Васильевич, звезда твоя закатилась. И до тридцати не дотянул. Короткий у тебя век. Пели когда-то: "И в воде мы не утонем, и в огне мы не сгорим". В воде, правда, не утонул, в скафандре рядом с рыбами плавал, а в огне если не сгорел, то сгорю. Ясное дело.
Так я ушел в свои счеты с жизнью, словно в забытье погрузился и очнулся, когда немцы закричали, защелкали затворами. Бог мой, смотрю - из артпогреба, как привидение, Лешка Смирнов выходит. Бледный, как парус, что лет десять на солнце выгорал. Значит, Антонов не смог прорваться. Значит, и он и политрук здесь, в арт-погребе?
Офицер опять что-то закричал про комиссаров. Вряд ли Лешка понял его карканье, скорее догадался, мотнул головой в сторону погреба и сказал: "Лейтенант Антонов и политрук Скулачев ждут вас внизу". Так и сказал: "Ждут".
Гитлеровцы с офицером туда подались. Человек семь. Ну, думаю, сейчас артпогреб на воздух подымут наши, не иначе. Потом вспомнил: снаряды-то кончились.
В эту минуту забыл про все на свете, про себя забыл. Адриана Адриановича Скулачева представил - круглолицего, домашнего, доброго такого. Дня три назад Адриан Адрианович про деревню свою говорил, про поля окрестные: хлеба-то какие, а убрать некому!
Что они, гады, с ним сделают? Ведь веревки вить будут.
Антонов - тезка мой, тоже Саша. Совсем молодой. Кремень человек. Мы, бывало, любовались - мускулы какие, его и пуля не свалит. И на пушке, весь в кровавых бинтах, ни на миг не присел. А вчера еще в его землянке треугольничек белый видел, письмо жене наверное. Так и осталось в землянке. А сам он? Может, как я, мешком лежит, обессилел, уже и пальцем двинуть не может...
Хлестанул автомат, револьвер два раза хлопнул. Выскочили немцы офицер за руку держится, рану зажимает, солдата мертвого волокут, а другому морду набок своротило, вздулась, как тесто на дрожжах. Не иначе Антонов своим кулачищем врезал. Ясное дело.
Забегали фашисты, закаркали по-своему. И придумали, гады, Антонову и Скулачеву смерть мученическую. В трубу для вентиляции, что над крышей артпогреба из дерна торчала, швырнули дымовую шашку. Она на вольной воле смердит так, что задохнуться можно. В артпогребе от нее - каюк...
Опять побежали немцы к двери. Рванули - дым из нее валит, света божьего не видно. И вдруг громыхнуло, эх как громыхнуло! Что уж там взорвали наши - не соображу. Сильный толчок был. Я на земле лежал, меня, как в люльке, качнуло. Противотанковые гранаты, пожалуй. Связка. А то и две...
Вынесли лейтенанта и политрука. В клочья их разорвало. Мать родная не узнала бы. Немецкий офицер фуражку с головы снял. И остальные притихли.
Нас, раненых, на подводу побросали. Из деревни пригнали. Повезли. Лучше б здесь кончили. Нет, тащат еще куда-то.
- В противотанковый ров сбросят, - прохрипел Лешка Смирнов. - Живыми засыплют.
Дым постепенно рассеивался, расползался, открывая щетинистый склон Кирхгофской горы, картофельное поле, изрытое, словно кротами, снарядами. Ботву разметало. Клубни выворотило.
Наступила передышка. Кукушкин понимал, что немцы перегруппировываются, - слишком все получилось организованно: скрылись танки, смолкли орудия и минометы, авиация, которая весь день не унималась, исчезла.
Старшина сосал свою трубку, махорка "вырви глаз" драла горло, как наждак. Матросы кто курил, кто хлебал из кружек горячий чай. Кукушкин велел принести термос с кипятком и сухари. Когда еще выпадет передышка? И выпадет ли?
Павлушкина сидела на ящике от снарядов, маленькими глотками отпивала из кружки чай, прислушивалась. Тишина казалась враждебной, таящей что-то роковое. Двое матросов, ушедшие на первое орудие со Смаглием и раненные в начале боя, вернулись ночью. Они буквально продрались сквозь гитлеровцев, говорили сбивчиво, возбужденно. Через них Смаглий передал комбату: "Бьемся. Немцев - как комаров. Живыми не отойдем".
Эта фраза терзала, но вчера со стороны первого орудия отчетливо слышалась пальба; и сегодня доносился оттуда грохот, с первого ли, со второго ли орудия - понять она не могла. Спросила Кукушкина. Он ответил уклончиво:
- Везде гремит. Попробуй разберись!
На пятой пушке комбат оставил вместо Смаглия Павлушкину. Она попыталась возразить - какой, мол, она артиллерист, - но он, как всегда, не потерпел возражений:
- Остаетесь за Смаглия. У вас - военная академия! Стрелять придется прямой наводкой. Кукушкину в этом доверьтесь. Не подведет.
Старшего лейтенанта Иванова, отказавшегося от госпиталя, пришлось отправить на шестую пушку. Все-таки ближе к Пулкову. Идти он уже не мог, его взяли под руки краснофлотцы. Нести себя не разрешил...
Кукушкин, докуривая трубку, поглядывал в ту сторону, откуда должны были вернуться матросы, провожавшие Иванова. Во-первых, хотелось узнать, как дела у соседа на шестой, у Доценко; во-вторых, каждый человек был на счету. Шестеро ушли со Смаглием, трое дежурили на камбузе и не вернулись. Обслуги возле пушки не хватало, доктор на подачу снарядов стала. Тридцать два килограмма снаряд - дело не женское!
Пока он продувал трубку, оттуда, откуда ждал своих матросов, прямо с бруствера свалился в артиллерийский дворик солдат: шинель изорвана, глаза вытаращены. Правда, винтовка при нем. Пробежал по дворику несколько шагов, закричал:
- Братва, спасайтесь, уходите! Там танки!
- К орудию! - скомандовал Кукушкин, рукою потянувшись к кобуре, и пошел прямо на солдата. Тот сжался, чуть склонил голову, но с места не сдвинулся.
- Паникер! Трус! - Кряжистый, крутоплечий старшина с трудом подавил желание шлепнуть паникера на месте. Смягчила изорванная, полинялая шинель окопника и расстегнутый пустой подсумок для патронов - патроны, видимо, были расстреляны.
- Танков не видно! - доложил наблюдатель.
- Где рота? - спросил Кукушкин, все еще взвинченный, не остывший.
- Там, - буркнул солдат, расслабляясь, чувствуя, что старшина отходит. Он так произнес это неопределенное "там", что и без вопросов стало ясно: "там" - откуда не возвращаются.
- Останешься с нами, - приказал Кукушкин и обернулся к Павлушкиной: Не возражаете? Она кивнула.
- Воздух! Воздух!
Первым крикнул наблюдатель, впрочем, и без крика почти все одновременно услышали знакомый звук. "Мессершмитт" шел от Дудергофа, шел довольно низко, и казалось, что он прямиком идет на пятое орудие. Очевидно, на шестом и седьмом полагали, что самолет идет на "их.
В планы немецкого истребителя, по всей видимости, встреча с нашим "ястребком" не входила. Уверенный в своей безнаказанности, он пересекал небо по избранному курсу, как летит к цели стервятник, знающий, что бояться ему некого.
Вынырнувшая из облака "чайка", конечно, была неожиданностью. Двукрылая, зеленая, как стрекоза, тихоходная, уязвимая и на вид беспомощная перед стремительным и маневренным, отлично вооруженным хищником, она без колебаний пошла на "мессершмитта".
О "чайке" в войсках была добрая слава, и относились к ней с незлобивым юмором. Когда пролетала она над сельскими улицами так низко, что становились различимы переборки на крыльях, шутили: "Летчики по деревне гуляют". Теперь было не до шуток. "Мессершмитт" принял вызов. Его плоскости резали воздух. Гул его мотора заглушал рокотание "чайки".
Они сближались. Небо стало ареной, за которой следили сотни глаз. Не только бойцы пятого, шестого и седьмого орудий. Наверняка следили и немцы, пока притаившиеся на Кирхгофской высоте, за церквушкой, за плохо видимыми сараями питомника, укрывшиеся в узких горловинах траншей и в покатых ямах-воронках; следили, открыв люки танков, сидя в заведенных мотоциклах.
В таком поединке - один на один - оживало что-то давнее, усвоенное с детства, когда бой двоих определял исход общей битвы.
Они чуть не столкнулись. "Чайка" винтом пошла вверх, "мессер" проскочил на большой скорости.
Опять началось сближение. Наш "ястребок" выиграл первый "раунд", потому что противник теперь шел против солнца. Оно явно мешало ему.
На земле не сомневались - сейчас столкнутся. Это казалось неотвратимым. Малая скорость все же позволила "чайке" сделать резкий разворот и тут же второй разворот и послать в хвост "мессершмитту" очередь. И пока внизу думали, что и второе сближение не дало результатов, хвост вражеского истребителя выбросил пучок черного дыма, брызнул рыжий огонь, взрыв разметал самолет, как игрушку.
Вряд ли наш летчик слышал матросское "Ура!", но видел, наверное, взлетевшие вверх бескозырки и, покачав крыльями, круто пошел вниз, скользнул над холмом и скрылся. Скрылся вовремя. Уже гудели, словно пустившись наперегонки, "мессеры" - три, шесть, девять, а за ними "юнкерсы". В воздухе задрожала напряженно натянутая струна. Ее звук нарастал, усиливался, острой спицей прокалывал уши.
Самолеты прошли на Ленинград, однако, не дойдя до города, развернулись. То ли заградительный огонь заставил их повернуть назад, то ли в этом таился какой-то замысел - никто не понял. Бомбежка началась над позициями батареи. Маскировка по-прежнему надежно скрывала пушки. Бомбометание велось неприцельное, по площадям.
Бомбы, как колбаски, повисали над артиллерийским двориком пятого орудия. Матросы знали: раз над головой - снесет, попаданий не будет.
Ярость близких разрывов, вздыбив землю, на время укрыла Кирхгофскую высоту и раскуроченное картофельное поле. Кукушкин нервничал: не проглядеть бы в этой кутерьме танки. К счастью, вражеские машины упустили момент, скорее всего, побоялись попасть под бомбы своей авиации. Они выползли на дорогу, когда открылся обзор. Кукушкин, стоявший у бруствера, вовремя подал команду.
Наводчик Борис Яковлев со второго снаряда смял танк. Именно смял. Слово "подбил", такое точное для противотанковых пушек, совсем не подходит для авроровского главного калибра. Снаряды, обладавшие огромной мощностью, обрушивались, как ураган, разнося вдребезги все на своем пути{32}.
Пока завязывался поединок с танками, на Кирхгофской высоте близ церквушки и на самой колокольне гитлеровцы установили минометы. Воздух наполнился визгом, скрежетом, свистом.
В первые же минуты россыпь осколков докатилась и до артиллерийского дворика. Раненые оповестили о себе стонами. Пронзительно взвыла Полундра и, проволочив на передних лапах перебитое тело, смолкла.
Борис Яковлев чуть промешкал. Его опередили: с шестого и седьмого ударили по Кирхгофской высоте. Ударил и Яковлев. С неслыханным звоном покатился колокол, рухнула вся верхняя надстройка церкви, укрывая камнепадом, кирпичной пылью, трухой навсегда замолкшие минометы.
Бой разгорался. Била немецкая артиллерия, били танки. Постепенно столбы вздыбленной земли смешались с пеленой дыма. Сплошная, плотная завеса скрыли стреляющих. Лишь по вспышкам определяли направление ответного огня.
От артиллерийского дворика несколько ступенек вели в артпогреб. На деревянных стеллажах слева лежали снаряды, справа - заряды. По цепочке, из рук в руки снаряды передавались к орудию. Этот живой конвейер, поредевший в ходе боя, работал так интенсивно, что руки, как рычаги, сжимали стальное тело снаряда и стремительно тянулись к следующему.
Двенадцать выстрелов в минуту! Уши, как ватой, заложило от грохота. Голоса, выкрики команд стали неразличимы. Лишь обостренность всех чувств позволяла угадывать команды по движению губ.
После каждого выстрела из казенника вырывалась струя кисловатого дыма. На раскаленном стволе запеклась краска, вздулась пузырями. Неподалеку две ели, обожженные пороховыми газами, осыпались, а ближняя сосна стояла уже голая, почерневшая, как после пожара.
Павлушкина по-прежнему подавала снаряды, взмокла, пот застилал глаза. Перед глазами мелькала тельняшка замкового. Бушлат он отбросил в сторону. Замковый дергал за тросик - велика ли нагрузка, - однако и он был мокр, как. после бани, тельняшка прилипла к спине, волосы спутались, и лицо горело.
Стояли рык, рев, грохот, стоном стонала земля, гудело небо, и было почти немыслимо, что люди слышат, видят, движутся, ведут бой. Труднее, казалось, быть не может.
- По танку! По танку!..
Лицо Кукушкина никогда еще таким не было. Крик исказил его. В этот крик вложил он всю свою жизнь.
- Держу, держу цель! - судорожно прокрутив штурвал, кричал Яковлев.
Павлушкина видела, как замковый дергает тросик, а выстрела нет. И вот у него, вдруг окаменевшего, отчаянно расширились глаза, встали торчком волосы, вздыбились, как у ежа. Еще секунду назад мокрые, слипшиеся, они поднялись вертикально.
Все, кто стоял под башней, не успев сделать и полшага, взглянули туда, где ступеньки уводили под своды артпогреба. Туда! Туда! Броситься, нырнуть в спасительную дыру, не превратиться под гусеницами в склизкое, кровавое пятно.
У входа в артпогреб стояла Павлушкина, врач, женщина, подавшаяся чуть вперед, с очередным снарядом в руках, готовая скорее броситься с этим снарядом под гусеницы, чем отойти...
Пятое орудие спас Доценко. Снаряд его пушки разворотил танк, который уже не стрелял - так было близко до цели, так хотелось ему смять гусеницами орудие.
Заминка произошла по вине прибойника. Неисправность устранили. Бой продолжался, пока не кончились снаряды. И тогда в ствол, покрытый, как струпьями, пузырями запекшейся краски, всыпали песок. Пушку зарядили осветительным снарядом. К тросику привязали ремни. Расчет скрылся в укрытии.
Кукушкин дернул ремень. Гул и шипение вырвались из покореженного ствола.
- Отходить к восьмому орудию! - приказал старшина, сняв стреляющее приспособление, чтобы утопить его в колодце.
Матросы от воронки к воронке, от куста к кусту, замирая в дождевых промоинах, поползли за Кукушкиным. Впереди, на картофельном поле, шевелилась ботва. Видимо, просочились немецкие автоматчики.
Гул то ослабевал, то усиливался. Канонада докатывалась со стороны восьмого и девятого орудий.
Вспоминает командир шестого орудия лейтенант Александр Доценко:
Часов в восемь утра танки противника ворвались на Кирхгофскую гору, и с этого момента вступили в бой четвертое, пятое, шестое и седьмое орудия, расстреливая прямой наводкой танки и огневые точки противника. Вспыхнули и остались на опушке два танка, вырвавшиеся правее кирхгофской церкви. Остальные танки (со своего наблюдательного пункта я насчитал семь) отошли в лес и прекратили огонь, так как он не доставал до наших позиций под горой.
Мощный шквал огня морских пушек сковал силы противника. Немцы, обнаружив еще несколько наших орудий, перегруппировались и обрушили огонь минометов, стремясь вывести из строя личный состав.
Они установили в сторонке, левее церкви, на колокольне самой церкви и за подбитыми танками ротные и полковые минометы. С колокольни бил крупнокалиберный пулемет.
Огонь вывел из строя часть матросов четвертого, пятого и шестого орудий. Я был оглушен и легко ранен осколками мины в шею и руку. Кровью залило таблицы стрельбы, которыми приходилось пользоваться, управляя огнем орудий. Это, конечно, не остановило нас и не прервало наших действий. Заметив вспышки выстрелов из сторожки и церкви, я дал целеуказания, и огневые точки были сметены.
Связной четвертого орудия (наиболее близкого к противнику) доложил, что на юго-западном склоне Кирхгофской горы, в лесу, слышен гул танков и автомашин. Комбат решил сосредоточить огонь по этой части леса.
Примерно до часу дня мы прочесывали лес на Кирхгофской горе. Людей осталось мало. К часу иссяк боезапас. Рассчитывать на подвоз было невозможно.
Доложил комбату. Старший лейтенант Иванов потерял много крови. Его состояние внушало мне тревогу. Но он не упускал управление боем из своих рук.
- Выводите людей! - приказал он.
Мы подожгли землянки, вывели из строя орудие. Комбата понесли на носилках.
Отход на Пёляле, к восьмому и девятому орудиям, я прикрывал со старшиной Тарасовым и матросом Даниловым.
Рассказывает житель Дудергофа Михаил Цветков: Нас, мальчишек, собралось немного. Тогда, 12 сентября 1941 года, кто еще прятался в лесу, кто вообще ушел из этих мест.
Немцам в тот день не до нас было: впереди шли бои, гремело вовсю. Ленинград горел. Пожары мы с Вороньей горы видели.
Кто-то из мальчишек предложил: "Айда, ребята, к первой пушке. Может, наши раненые в кустах, помочь надо".
Побежали к спуску, к тропинке, а тропинки как не бывало. Одни воронки. Воронка на воронке. Несколько таких огромных, что избу туда спрятать можно.
Под ногами - всякая всячина: немецкие каски, бляхи от ремней, клочья их зеленых шинелей, разбитый, перевернутый мотоцикл, покореженный ствол миномета. Трупы убраны. Унесли.
Приблизились к пушке - вокруг запустение. Раньше ее и не разглядеть было - маскировочная сеть натянута, ветки понатыканы. Это мы, ребятня, знали, где она и какая. Иногда нас к самой пушке пускали. Меня, например, один раз и флотскими щами угостили.
А теперь все голо, ствол торчит, что-то накидано возле. Подошли к дереву - оно совсем рядом с пушкой росло. Взрывом изломано, ни веток, ни листьев, не поймешь что - тополь или осина.
Кто-то закричал: "Смотрите!" Глянули на обрубок ствола. Поверите, живого места нет, весь в осколках. Торчат в коре - большие и малые, черные, как гнилые зубы. И под ногами железо, вся земля в осколках. Такой огонь был. Аж страшно стало.
Спрыгнули с бруствера в орудийный дворик. Тот, кто первым шел, вдруг замер как вкопанный, шею вытянул. Я чуть не спросил: "Ну что ты?" Не успел. Сам увидел.
На земле лежала девушка. Голая. На ноге - бинт, повязка. И грудь вырезана. Застыл. Ноги будто отнялись. И языком не шевельнуть. Молчим. Даже дыхания не слышно. Так и стояли бы, если б не Беланович.
- Это наша дудергофская, на Красноармейской живет. - Подошла - мы и не слышали. - Чего стоите? Накрыть надо. Сандружинница это, ко мне за молоком ходила...
Накрыли. Плащ-палатка от крови рыжая. Раненых, видно, на ней перетаскивали. Девушка накрыта, а я ее вижу, перед глазами она. И потом долго снилась. Один и тот же сон: нога с повязкой, а сама голая.
Отошли наконец. Кучкой идем, потеснее друг к дружке жмемся. Чувствуем, что не все увидели. Так и есть. У самой пушки - люди. Двое на спине лежат, один на боку, пальцы рук скрючены, и весь он скрючен, в муках, наверное, корчился. Четвертый колючей проволокой к стволу пушки приторочен. И все обожженные. И бушлаты местами обуглены.
Я сразу вспомнил, что перед бруствером следы от шин мотоциклетных видел и перевернутую мотоциклетку видел, и догадался, что гитлеровцы раненых, связанных авроровцев бензином облили, подожгли. Живых. Потому так корчились. И мучились долго, потому что бензином их сверху попрыскали, не пламенем вспыхнули, а тлели.
Лейтенант больше других был изувечен. Острия ржавой проволоки прямо в тело впились. Наверное, вырывался, когда связывали. Как же он все это вытерпел? Кровь с ржавчиной смешалась, представляете? А на шее ножевые раны, кровь запеклась, корочка образовалась...
Позже одна окопница лейтенанта, привязанного к пушке опознала. И вот как. Левая щека была совсем черная, и кость торчала, а правая, к стволу прижатая, почти не обгорела. Окопница фамилию назвать силилась, вспоминала: "Смуглый, Смуглый". И сама себя поправляла: "Нет, это он мне сказал, что похоже на Смуглый. Так, говорил, запомнить легче..."
Из дома в дом понеслась весть о том, что видели. Говорили люди: крепко досадили матросы фашистам, если такую расправу учинили. Совсем осатанели, звери.
На следующий день мы опять пришли к первой пушке. Матросов уже не было. Кто-то похоронил их ночью.
Фюрер не раз провозглашал сроки победного вступления в Ленинград. Сроки опрокидывались. Те, кто перед "последним броском" надраивал ваксой башмаки, гнили под березовыми крестами.
И снова войска генерал-фельдмаршала фон Лееба ринулись в "последний бросок". На одной из дорог, ведущих в город, ленинградские ополченцы задержали фашистскую машину. У шофера обнаружили "Временный путевой лист"{33}: "Следует от заградзоны Ленинграда в городскую комендатуру для получения внутригородского пропуска.
Комендант Ленинграда генерал-майор Кнут". "Всю ночь с 10 на 11 сентября, - вспоминал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, - мы провели с А. А. Ждановым и А. А. Кузнецовым, адмиралом флота И. С. Исаковым, начальником штаба, командующими и начальниками родов войск и служб фронта, обсуждая дополнительные меры по мобилизации сил и средств на оборону Ленинграда. Главная опасность грозила со стороны Урицка, который был уже частично захвачен немцами. Не меньшая опасность нависала и в районе Пулковских высот.
В результате коллективного обсуждения обстановки было решено:
- немедленно снять с ПВО города часть зенитных орудий и поставить их на прямую наводку для усиления противотанковой обороны на самые опасные участки обороны Ленинграда;
- огонь всей корабельной артиллерии сосредоточить для поддержания войск 42-й армии на участке Урицк - Пулковские высоты;
- срочно приступить к созданию глубоко эшелонированной инженерной обороны на всех уязвимых направлениях, заминировать и частично подготовить под электроток..."
Ленинград ощетинился перед смертельной схваткой. В эти минуты старший лейтенант Иванов прощался с батареей. Он смутно догадывался о гибели Скулачева, Смаглия, Антонова. Не было точных сведений - сто или сто двадцать матросов остались в строю. Уже кончились снаряды на восьмом и девятом орудиях, и он приказал подготовить их к взрыву.
Двое суток на рубеже Вороньей горы батарея сдерживала и перемалывала танки, мотопехоту, артиллерию врага. Кто знает, где были бы эти танки, если б их не сожгли под Дудергофом, Мурьелой, на Кирхгофской горе?!
Теперь авроровцы, оставшиеся в живых и раненные, которые могут ходить и могут стрелять, уйдут в Пулково. Поведет их лейтенант Доценко.
У комбата запали глаза, резко обозначились скулы. От потери крови бил озноб. Доктор Павлушкина, сделавшая здесь, у девятой пушки, последнюю перевязку, сказала категорически:
- Немедленно в госпиталь!
Комбат молча кивнул. Он не мог уже даже садиться. И когда пришла за ним санитарная машина, попросил несколько минут подождать. Лежа на носилках, он узнал в стоящем рядом старшину Василия Помченко, широкогрудого, затянутого ремнями. Помченко смотрел так, будто хотел сказать что-то ободряющее, но молчал. Бывают минуты, когда слова не нужны, они слышнее невысказанные.
Раздался выстрел со стороны восьмой, потом - шипение и грохот со стороны девятой. Он хорошо знал этот звук снаряда, выталкивающего из ствола песок. Умирали и последние авроровские орудия.
В сумрак уходили матросы. Их черные бушлаты почти сливались с надвигающейся теменью. Иногда светились в полумгле белые повязки раненых.
Батарея "А", ее комендоры и матросы выдвигались на новый рубеж - в Пулково, чтобы слиться с батареей "Б", чтобы не пропустить врага к городу Ленина.
Шел сентябрь 1941 года. Ленинградская земля оглохла от канонады. Собственно, люди неделями не видели ее, своей земли, - дым не рассеивался, окутывал ее все гуще, и уже горел не только Ленинград, не только селения и деревни на десятки километров в округе - горели деревья, травы, деревянная обшивка траншей, люди горели в танках и окопах, стервятники, несшие смерть, взрывались в воздухе, становясь обгорелой грудой осколков, россыпью мертвого металла, прахом.
Гитлеровцы захватили Урицк, Стрельну, Петергоф. В порыве, похожем на безумие, озверев от чужой и собственной крови, они рассчитывали ворваться в Ораниенбаум, захватить
Красную Горку, нашими же орудиями задавить наш Кронштадт и распахнуть морские ворота, прикрывшие город на Неве.
Они не прошли. Они захлебнулись кровью. Не выдержали рурская сталь и прусские нервы.
"Аврора" по-прежнему стояла в Ораниенбауме. Дачный городок зиял провалами крыш. Покинутые дома смотрели на полупустынные улицы заколоченными дверьми. В гавани не успевали засыпать и разравнивать глубокие воронки. Всю ее покрыли заплатки.
Днем гавань почти замирала. С Петергофского собора без биноклей видели дымящиеся трубы "Авроры". Эти дымы бесили вражеских артиллеристов - они открывали огонь.
Лишь ночью с Лисьего Носа на Кронштадт и Ораниенбаум отправлялись проворные катера, работяги-буксиры, неуклюжие баржи, укрытые ненадежной мглой, готовой расступиться, если вспыхнут прожектора или повиснут в небе ракеты.
И еще один опасный враг поселился в водах Финского залива. Его называли "гремучая смерть". Это были мины, сбрасываемые с самолетов, ими кишел залив, они подстерегали суда. На беспечных волнах с белыми гребешками покачивалась смерть.
Ораниенбаумский плацдарм простерся по берегу Финского залива на шестьдесят пять километров от Кернова до Старого Петергофа, глубина его не превышала местами и двадцати километров. Он простреливался насквозь и подвергался непрерывным бомбовым ударам.
"Водная тропа", связывающая плацдарм с Большой землей - с блокированным Ленинградом, была опасной и трудной. Но плацдарм жил, сражался, не отдавал врагу ни вершка, ни пяди своей земли. Верной, гордой приметой непобежденного плацдарма оставалась "Аврора" с поднятым на флагштоке боевым флагом. Этот флаг видели морские пехотинцы, проходившие по прибрежному шоссе к Малой и Большой Ижоре, к Лебяжьему, к Красной Горке; видели моряки охотников и буксиров, заходивших в Ораниенбаумскую гавань; видели наблюдатели из Кронштадта, видели и радовались; его видели в бинокли и стереотрубы враги, засевшие в Петергофе, видели и сатанели от ненависти.
Палубы крейсера были малолюдны. Курсанты-фрунзенцы, ушедшие с корабля первыми, сражались под Нарвой и Кингисеппом.
В плоской котловине Чудского озера взметались пенные вихри канонерских лодок, на которых служили авроровцы из отряда старшего лейтенанта Якова Музыри.
Они охраняли баржи, перевозившие войска, совершали налеты на дороги и прибрежные поселки, высаживали десанты.
Авроровцы, 7 июля покинувшие крейсер, 22 июля на Чудском озере приняли самый тяжкий и самый страшный бой с гитлеровскими стервятниками.
Канонерские лодки стояли на рейде близ Мустве, когда на бреющем полете ринулись на них десятки фашистских бомбардировщиков.
Бой был кровавый и долгий. Горящие, чадя черным дымом, уходили подбитые "юнкерсы", а на смену им шли все новые и новые. Один из них рухнул в озеро, и яростью взрыва его разметало в клочья.
Вода бурлила, как кипящий котел: рвались бомбы.
Раненые матросы не оставляли своих орудий и пулеметов. На канонерской лодке "Нарва" окровавленный старшина 1-й статьи Ходяков взрывной волной был сброшен в воду. Оглушенный, он все-таки вынырнул из пучины, взобрался на борт и продолжал бой.
Старший лейтенант Музыря отдавал команды до последнего вздоха. Когда радист-авроровец Мартыненко подбежал к командиру, чтобы перевязать его, было уже поздно: он бездыханно лежал в луже крови...
Сражались авроровцы на Ладоге и в самом Ленинграде. Близ Вороньей горы еще стояли в опустевших, разметанных огнем двориках взорванные орудия батареи "А", а сами батарейцы уже стояли насмерть на Пулковских высотах.
Не сразу, окольными путями приходили на корабль вести о судьбе авроровцев, которых военная судьба бросила на самые горячие участки обороны города на Неве. И, послав лучших своих сынов на Ладогу и Чудское, на Воронью гору и в Пулково, отдав свои пушки, свои снаряды, почти безоружная, с горсткой моряков на борту, встретила "Аврора" огненный сентябрь 1941 года, готовая ко всему.
Сентябрь изобиловал погожими днями. На синее небо, залитое светом, смотрели с опаской - с минуты на минуту появятся самолеты. На земле все как на ладони - и начнется...
Облачное небо тоже плохо. Вырвутся стервятники к Ораниенбауму внезапно, упустят зенитчики минуту-другую - не сдобровать. Полутонные бомбы сделают свое дело, нет от них спасения...
Хорошо бы ненастье, чтобы обложные облака спустились до самой воды, чтобы хлестал, как из ведра, дождь или повис слепой туман, густой, вязкий, протянешь руку - ее не видно.
Так рассуждали авроровцы, исподволь поглядывая на безоблачное небо и черпая из котелков горячую уху. Моряки приспособились: едва закончится артиллерийский обстрел, спускают на воду шлюпку, вылавливают сачками оглушенную рыбу - и на камбуз. Это называлось УДП - усиленный дополнительный паек.
"Король камбуза", кок Дмитрий Кольцов, белолицый и белобрысый, неподвластный летнему солнцу, обычно ворчал: мол, и так забот полон рот, мол, не до ухи, а сам доставал из заповедных тайников зеленую приправу, огненные язычки красного перца, бросал в кипящий котел разделанных лещей и плотву.
На плацдарме, отрезанном от Большой земли и зависящем от скудного подвоза продовольствия по заливу, с харчами стало туговато.
- Хорошо наши интенданты стараются, - острил Николай Кострюков, намекая на вражеские обстрелы, - хоть рыба есть.
- Могли бы лучше постараться, - отвечал Арсений Волков, втягивая аромат ухи своим мясистым носом. - Выше плотвички да лещиков не подымаются.
- Гляди, гляди, еще подымутся, - кивнул в небо главбоцман Тимофей Черненко. - Будет из тебя рыбам корм...
Алюминиевые ложки еще отбивали по дну котелков веселую дробь, когда раздалась пожарная тревога. Бросив еду, аварийные команды мгновенно рассыпались по кораблю.
Старший лейтенант Петр Сергеевич Гришин, прибывший на "Аврору" в августе, буквально донимал команду пожарными тревогами. Он ежедневно проверял состояние помп, шлангов, боеготовность аварийных команд и, как бы хорошо они ни действовали, хвалил сдержанно, требовал большей быстроты и слаженности.
На корабле никто, даже военфельдшер Белоусов, делавший старшему лейтенанту перевязки, не знал подробностей гибели эсминца "Карл Маркс", с которого Гришин прибыл на "Аврору". На шее старлейта заживающую рану прикрывал пластырь. Была обожжена и правая рука, но она, как он выражался, "выписана в строй"...
Матросы догадывались: частые пожарные тревоги не слабость, не причуда командира, не блажь; догадывались: было в судьбе его нечто тяжкое, незарубцевавшееся, что побуждает к этим действиям.
Судьба Петра Сергеевича Гришина действительно сложилась нелегко. В первые месяцы войны он испил полную чашу: на десятерых хватило бы того, что испытал он!
Эскадренный миноносец "Карл Маркс" в конце июня вышел из Кронштадта. Плавание предстояло трудное. Немецкие летчики набросали в залив столько мин, что старпом грустно острил: "Мин больше, чем воды. Плывем по минам".
В тот день эта фраза не казалась большим преувеличением. Гришин настроил себя на худшее, внутренне подготовился: если случится самое страшное, каким бы страшным оно ни было, достойно принять неотвратимое.
Несколькими днями раньше, впервые попав под бомбежку, он испытал такое оцепенение, такое липкое, тошнотворно-выворачивающее чувство страха, что был ненавистен самому себе. И он ощетинился против собственного страха, захотел сломить его, обуздать. Умом он понимал: страх - как зверь. Почует твою слабость - не отпустит. Почует твою силу - уйдет.
Волевой, собранный, сильный духом и телом, с устойчивой психикой, Гришин раз и навсегда решил: смерть на войне подстерегает каждый день, хочешь не хочешь - смирись с этим, но не будь щепкой, швыряемой волнами, пока жив, управляй событиями, управляй собой. Борись!
Когда эсминец, уничтожив семь мин, напоролся на восьмую, когда взрыв потряс море, когда корабль тряхнуло, как скорлупку, швырнув за борт кормовое орудие, повредив рулевое управление, разметав раненых и убитых, Гришин не свалился в кипящую воду. Он удержался за один из лееров, а через секунду зычной командой привел в чувство нескольких матросов и начал заводить к пробоине пластырь.
Миноносец не затонул. Командир корабля капитан III ранга Дубровицкий быстро овладел положением. Погасили пожар. Остановили течь. Матрос Кучеров - золотые руки - исправил рулевое управление.
28 июня 1941 года эсминец пришел в Таллин.
Спустя несколько дней - бой с "юнкерсами". Теперь Гришин не сжался в комок, как при первой бомбежке; он видел пикирующую смерть, черные кресты на плоскостях, слышал вой сирен, ощутил всплеск взбудораженных нервов - и жар, и озноб, и сухость во рту, но справился со всем этим, продолжая управлять боем.
Однако самое тяжкое выпало на его долю в бухте Хара-Лахт, куда направили эсминец, стремясь не допустить высадку немецкого десанта.
Бомбардировщики, как обычно, появились внезапно. Они летели из-за леса, подступавшего к поселку Локса. Ни один мускул не дрогнул на лице Гришина. Он стоял на мостике, внимательно следя за "юнкерсами". Надо было предугадать, как развернутся события в ближайшие минуты.
Конечно, он чувствовал на себе и мимолетно-тревожные взгляды пробегавших матросов, чувствовал, как засосало под ложечкой, как резь обожгла уши в предчувствии воя сирены... Все это было, но внешне Гришин оставался окаменело-спокойным, а главное - его действия, команды, решения не сковывало то мертвящее оцепенение, которое охватило тогда...
В момент появления бомбардировщиков "Карл Маркс" стоял в бухте у стенки пристани поселка Локса. Рядом с ним ошвартовался катер с запасом горючего.
Бомбы упали на пирс. Пирс загорелся.
Прикрываясь зенитным огнем, эсминец отошел от стенки. Отошел и катер.
Гибельным оказался второй заход "юнкерсов". Разбив строй, они рассыпались и заходили с разных сторон. Работа зенитчиков осложнилась до предела. Бомбы падали все ближе. Фонтан воды едва не сбросил Гришина за борт. Он сильно ушибся, вскочил. Корабль так рвануло, что сомнений, наверное, ни у кого не осталось - конец.
Бомба попала в кочегарку. Эсминец горел. Помпы из-за повреждений не работали.
- Ведра! Ведра! - закричал Гришин, увлекая матросов на борьбу с огнем.
Заходы "юнкерсов".продолжались. Бочки с горючим снесло с катера в воду. Горящая нефть разлилась по заливу. Взрывная волна швырнула в воду людей, а следующая бомба, подняв в воздух столб брызг, уничтожила катер.
Матросы плыли по горящей воде - раненные, обожженные, оглушенные. Они ныряли, чтобы спастись, но, вынырнув, снова попадали в огненную купель.
- Шлюпки на воду!
На первой шлюпке плыл Гришин. Не заметив, что шея, задетая осколком, в крови, не чувствуя боли обожженной руки, он командовал спасением людей из горящего моря.
Корабельный врач погиб. На помощь пришли эстонцы из Локсы и окрестных хуторов - Борис Лайнела, Леонхард Гнадеберг, Херман Валток, Сильвия Тампалу, Хелли Варью, Линда Орав...
Гришин испытывал удовлетворение: аварийные команды действовали безупречно. Даже главбоцман Черненко, уловив настроение командира и явно ободренный этим, спросил:
- Кажется, получается, товарищ старлейт?!
Старший лейтенант кивнул. Сейчас его беспокоило другое: ночью к стенке Ораниенбаума стал огромный санитарный транспорт "Леваневский". Со всего плацдарма потянулись к пристани повозки и машины с ранеными. Мысленно Гришин ругал начальство: "Неужели не понимают? Неужели забыли, что у немцев есть авиация, а у наблюдателей в Петергофе - глаза?! Или боятся, что за ночь не управятся?"
Затор санитарных машин увеличивался, разгрузка шла медленно.
Дело усугублялось тем, что борт к борту с "Леваневским" стояло другое судно - "Базис", груженное взрывчаткой и глубинными бомбами. Этот огнеопасный груз завезли в Ораниенбаум на случай прорыва немцев, чтобы взорвать портовые сооружения. О тех, кто служил на "Базисе", говорили: "Они служат на "пороховой бочке".
Гришин, знавший педантизм гитлеровцев, прикидывал: если в ближайшие полчаса налета не будет, значит, пронесло, во всяком случае, до обеда стервятники не прилетят. Обед у немцев - дело священное.
Они нарушили собственное правило. Со стороны Петергофа донесся гул. Ведущий держал курс на Кронштадт. Окуляры бинокля задержались на крестах, перечеркнувших плоскости. Гришин скользнул биноклем по синеве чистого неба, ожидая, что вот-вот в воздухе набухнут белые пучки разрывов. Раструбы звукоуловителей в Кронштадте, в Большой и Малой Ижоре, на Красной Горке наверняка провожали самолеты. Зенитки в фортах и на кораблях ждали сигнала.
На стыке Ленинградского и Ораниенбаумского фарватера строй "юнкерсов" словно качнуло ветром. Бомбардировщики изменили курс. Ведущий повел их на Ораниенбаум.
Ударили колокола громкого боя. Ударили зенитки. Небо покрылось летучими облачками. Плотная завеса огня нарушила строй "юнкерсов", но они с безрассудным упрямством норовили пикировать на "Аврору". Бомбы рвались близко. Взрывные волны раскачивали крейсер, как девятибалльный шторм. От мощной детонации в отсеке открылся кингстон.
Гришин не отходил от бакового зенитного орудия, которое не давало гитлеровцам вести прицельное бомбометание по кораблю.
Наблюдатель доложил:
- В ходовую рубку "Базиса" попала бомба. На "Базисе" пожар.
- Кострюкова с третьей аварийной - на "Базис"! - приказал Гришин.
Жилы на шее вздулись. Перекричать грохот было невозможно. Осколком срезало фуражку. Лоб взмок - то ли пот, то ли кровь. Опять заходили "юнкерсы". Не хватало секунды для поворота головы. Взрыв на "Базисе", груженном бомбами, похоронил бы и "Леваневского", и "Аврору", и все портовые сооружения.
Когда Кострюков с Брикулей, Ивановым, Иняткиным, разматывая пожарный шланг и пуская насосы, приблизились к "пороховой бочке", уже зловеще щелкали запалы. Шквал воды хлынул на пламя. Оно шипело, металось, желая выжить, но вода была беспощадна и неиссякаема. Огонь сдался...
Горящий "юнкерс", прорисовав дымный зигзаг, плюхнулся в залив. Третья атака захлебнулась. Самолеты уходили. Но бой продолжался. Над Гостилицкими высотами повисла колбаса аэростата с корректировщиком. Начался артиллерийский обстрел.
Военфельдшер Белоусов сбился с ног. Едва он перевязал и оттащил в безопасное место электрика Топтелова и матроса Зайцева, прибежал сигнальщик Гуляев:
- Скорее!
Пулеметчик Николаев лежал на палубе. Из горла вырывались прерывающиеся хрипы. Скрюченные пальцы вдруг разомкнулись, и тело дважды или трижды дернулось в последней судороге.
А с юта уже кто-то бежал за фельдшером:
- Скорее, скорее!
Аварийные команды не знали передышек. Пожары. Пробоины. Снова пожары. Едкий дым и пламя под полубаком. Пробоина по правому борту. Клинья, распорки, остервенелое напряжение трюмно-пожарных насосов, откачивающих воду.
И опять, опять, опять тревоги, команды, борьба.
Смеркалось, когда отошел от стенки "Леваневский". Многим раненым не суждено было попасть на санитарное судно. Близ пристани валялись перевернутые, искореженные машины. Железобетонный пирс был расколот, как при землетрясении. В глубоких трещинах темнела вода. Громоздкие шпалы колеи железной дороги, подведенной к пирсу, расшвыряло, словно щепки, а стальные рельсы изогнуло, как мягкую проволоку.
К борту "Авроры" прибило несколько трупов. У пехотинца - опознали по гимнастерке - оторвало голову. Отдельно плавала нога в кирзовом сапоге.
- Похоронить! - глухо приказал Гришин.
Вспоминает старшина второй статьи Николай Кострюков: Дымящиеся высокие трубы крейсера демаскировали корабль. Противник видел их из Петергофа невооруженным глазом. Командование приказало погасить котлы. Теперь наши трудности значительно возросли. С каждым днем крейсер все больше наполнялся водой, а откачивать воду стало нечем: из-за погашенных котлов прекратилась подача пара к водоотливным средствам. Погружаясь в воду, "Аврора" накренилась на правый борт. С этой стороны корабля находилась та пробоина, через которую наполнялось водой правое машинное отделение.
30 сентября нос корабля высоко задрался вверх. Стало ясно, что "Аврора" в результате крена либо ляжет на борт, либо перевернется...
Допустить это было ни в коем случае нельзя. Если бы крейсер лег бортом на грунт, то он закрыл бы своим корпусом вход в гавань. Решение надо было принять немедленно. Командира и комиссара на корабле в эти минуты не было их срочно вызвали в штаб. Почти вся команда в это время находилась в отсеках, спасая продукты, оружие, боеприпасы и ценное имущество из затопленных погребов. И я взял все на себя. Увидев старшину первой статьи П. Васильева, я крикнул ему:
- Бегом за мной!
Мы ринулись к корме, спустились в левое машинное отделение. За бортом слышались разрывы. Враг продолжал начатый с утра обстрел корабля. В темноте, на ощупь, нам удалось найти кингстон борта левой машины и открыть его. Потом на клапанной коробке открыли разобщительный клапан и клапан осушения левой машины. Вода под большим давлением сразу же хлынула в помещение.
Выскочив наверх, я увидел, что крен и дифферент все еще остаются большими и что корабль не выравнивается. Я помчался что есть духу на нос, спустился в жилую палубу и открыл носовой кингстон левого борта.
Вода быстро заполнила все помещения: погреба, отсеки, откосы. Корабль встал на ровный киль, находясь на грунте. Верхняя палуба, полубак и часть батарейной палубы остались незатопленными, и это позволило "Авроре" нести в дальнейшем свою боевую службу.
В Ораниенбауме горел топливный склад. Удушливый дым застилал город.
Гавань, с утра замиравшая, с наступлением сумерек пробуждалась, оживала.
Гришин несколько раз за ночь подымался на мостик. Вахтенный главстаршина Василий Никифоров докладывал, старлейт отпускал его, по-своему понимая слова "тихая ночь", и беспокойно прислушивался к звукам этой ночи.
Далеко-далеко ухали пушки.
В небе изредка возникали и гасли стремительные цепочки трассирующих пуль. Ночь действительно была тихой. На лицо садилась копоть - топливный склад горел и горел, - Гришин сдувал ее, чтобы не размазать, и продолжал прислушиваться. Сегодня тишина не радовала, тревожила.
Несколько дней назад с крейсера отозвали в Кронштадт двадцать одного авроровца. На борту осталось два десятка человек. Это было мало, крайне мало, немыслимо мало, если учесть, что горстке моряков поручалось не только нести боевую службу, но и любой ценой сохранить корабль. Авроровцы ни на секунду не забывали, что значит их корабль для Ленинграда, для флота, для всей России!..
Двадцать один человек сошел по трапу на пирс. Их поглотила ночь, их увезли катера. Гришин вспоминал отозванных в Кронштадт: Александра Афанасьева, командира отделения котельных машинистов, уже немолодого, замкнутого, который, следя за "юнкерсами", летевшими на Ленинград, говорил: "Пошли, гады, детей моих бомбить"; сигнальщика Сергея Рябчикова, проворного, разбитного, умелого - хоть блоху подкует, Рябчикова, на беду свою плохо плавающего, осыпаемого колкостями: "Рябчик не чайка, гляди не подкачай-ка"; марсового Ваню Доронина, совсем молоденького, впервые побрившегося на "Авроре".
Когда их отозвали, Гришин не знал зачем, надолго ли. Прежде, отзывая, в приказе указывали: на Чудское, на Ладогу, в Дудергоф. Теперь не конкретизировалось. "Направить" - и точка. Вскоре выяснилось: в Петергофе высажен морской десант. Морской десант... Афанасьев, Рябчиков, Доронин... На поясе - кинжал и гранаты, под сукном бушлата - холодная ракетница и связные голуби, в заплечном рюкзаке - оттягивающий, тяжелый запас патронов. И бой, в котором или убьешь ты, или убьют тебя...
Тайное стало явным. Из Петергофа доносилось кипение боя. Потом стихло. К ночи бой не возобновился. И, выйдя на мостик перед рассветом, не услышав того, что надеялся и хотел услышать, старший лейтенант догадался: все, конец.
Потянулись ночи, похожие друг на друга, с трудными вахтами и тревожными минутами затишья, а дни порой были темнее, чем ночи, - из-за дыма, из-за густой мглы пожарищ.
Неподвижная, полузатопленная, с поднятой над водой верхней палубой, "Аврора", вооруженная двумя пушками и станковым пулеметом, продолжала жить и бороться. "Доношу, - писал в рапорте командованию командир крейсера П. С. Гришин, - что 1 декабря 1941 года в 13 часов противник начал артиллерийский обстрел Краснознаменного крейсера "Аврора".
В результате обстрела в корабль было четыре прямых попадания. Возник пожар, который был ликвидирован силами пожарной команды Ораниенбаумского военного порта и личным составом корабля.
От артобстрела разрушена радиоаппаратура "Шквал М-1", которая была снята и упакована для отправки.
От осколков снарядов погиб старшина группы радистов Близко, который снимал радиоаппаратуру".
Из приложения к "Историческому журналу Краснознаменного крейсера "Аврора"
22 февраля 1942 года по кораблю выпущено более восьмидесяти снарядов. Зафиксировано три прямых попадания. В районе полубака возник пожар. При тушении огня отважно действовал старшина второй статьи коммунист Я. П. Трушков. Будучи раненным, он отказался идти на перевязку и продолжал борьбу с полыхающим пламенем...
Налеты продолжались. Росли потери. Удвоилась, утроилась нагрузка на каждого авроровца: вахты, борьба с пожарами, заделка пробоин.
Зима сковала залив.
Под настом, задубевшим от ветра, до поры дремали мины. Снег надежно спрятал их. Они затаились, их незримая рать охраняла подступы к фортам, опоясала кольцом остров Котлин, на котором раскинулся Кронштадт, выстроилась цепочкой севернее Ораниенбаума и преградила путь к мысу Лисий Нос.
Ледовые дозоры "Авроры" охраняли большой участок. На берегу в мерзлом грунте прорыли траншеи, построили мощные блиндажи с узкими глазницами-амбразурами, нацеленными в сторону врага.
"Водную тропу" - единственную нить, соединявшую Ленинград с Кронштадтом и Ораниенбаумом, заменила ледовая трасса, по которой пошли машины. Если знаменитый путь через Ладогу называли "Большой дорогой жизни", то путь по льду Финского залива назвали "Малой дорогой жизни".
"Аврора", с погашенными котлами, скованная льдом, приютила команду в кубрике под полубаком. Чугунная печка, раскаленная докрасна, дышала теплом и жизнью. Трубу вывели в иллюминатор.
Когда кончилось топливо, стали добывать уголь из затопленных погребов.
Не хватало харчей. Трехсотграммовая пайка хлеба и жиденький мучной суп не могли утолить мучительный, сосущий голод.
Кровоточили десны. Начали опухать ноги. Кострюков, бреясь, глядя в осколок зеркала, как-то воскликнул:
- Братцы, опять поправился!
После этого начали замечать: все поправились. Появились отеки на лицах.
Арсений Волков вспомнил Сашу Попова, водолаза, уехавшего в июле на Воронью гору:
- Нырнул бы водолаз в продпогреб. Чего-нибудь оттуда выудил бы.
Была бы мысль - за ней и дело приходит. Приспособили багры. Вытащили мешок с мукой. Вымокла, конечно, как полагается, но все-таки мука. На безрыбье и рак - рыба. Благо, в Финском заливе вода несоленая...
Опять появился УДП - усиленный дополнительный паек. Правда, теперь, горько посмеиваясь над голодом, УДП расшифровывали так: "Умрешь днем позже..."
Гитлеровцы не унимались. По фронту пошла легенда: пока стоит "Аврора", пока реет над нею боевой флаг, не захватить им Ораниенбаумский плацдарм, не ворваться в Ленинград, не отогреться в городских квартирах, леденеть в мерзлых окопах, прозябать и гибнуть.
И с новым остервенением стаи стервятников набросились на "Аврору", и снова содрогнулась земля от орудийного рева.
Вспыхивали пожары - горели мостики, ют, полубак, палуба. Из-за погашенных котлов помпы не работали. Гасили огонь вручную, ведрами.
Однажды разрывом снаряда на юте сбило кормовой флаг.
Вахтенного Арсения Волкова свалила, обожгла взрывная волна. Он вскочил. Оглушенный, не понимая, дрожат ли ноги или содрогается от разрывов корабль, он поднял полотнище. Его качало, он падал и снова вставал и все-таки добрался до флагштока. Продырявленный флаг пополз вверх...
На борту крейсера осталось двенадцать человек. С ними командир - Петр Сергеевич Гришин. Раненые корабль не покидали.
- У нас не было раненых, - сказал Николай Кострюков. - Были живые и мертвые.
Послесловие
В июле 1944 года к борту "Авроры" подошли спасательное судно "Сигнал" и отливные буксиры.
Главный водолаз Петр Васильевич Сироткин долго беседовал с Николаем Кострюковым, уточняя, где и когда были открыты кингстоны. Наконец Сироткин уже из скафандра, в котором он казался неестественно большим, неуклюжим и волшебно-могущественным, подал сигнал:
- Спуск!
У Петра Васильевича Сироткина был богатейший опыт. Сколько кораблей поднял он со дна морского! Сколько трагических историй видел он в подводных глубинах!
Довелось ему под вражеским обстрелом и бомбежкой подымать немецкую подлодку. Невозможного для него не существовало! Арсений Волков и Николай Кострюков нетерпеливо следили, как отливные буксиры откачивают воду, как все выше и выше подымается корабль из воды.
Петр Сироткин, закрывший кингстоны, тоже стоял на палубе. Тысячу триста пробоин насчитали в надводной части "Авроры".
А крейсер - жженый, стреляный, на восемьсот пятьдесят дней погруженный в водную стынь - всплыл над гладью залива. Сверкнула ватерлиния, обозначились над водой совершенные формы израненной, но непобежденной "Авроры".
Начиналась новая страница в биографии крейсера...
По склону Вороньей горы шли две женщины: одна - в черном платье, в черном платке, иссушенная годами и горем, вторая - в военном, с погонами капитана медицинской службы, скорбная, обреченно переставлявшая ноги. Пожилая - ей было за семьдесят, не меньше, - иногда спотыкалась.
Военная придерживала ее, временами останавливалась, силилась узнать окрестные места и, видно, не узнавала.
Наконец молодая шепнула:
- Мама, постойте минуточку, я сейчас...
Проваливаясь в ямы, продираясь сквозь ветвистый кустарник, она побежала к одинокому стволу. Он сиротливо торчал на склоне, побуревший, кое-где покрытый мягким мшистым пушком и грибовидными наростами. Она погладила мох. Пальцы коснулись корявых осколков.
Впереди, слева и справа зияли воронки. Дожди сгладили острые края, из почвы пробился неприхотливый ольшаник, бурно разросся бурьян. Но даже сквозь зелень четко прорисовывались контуры воронок.
"Боже, - вдруг поняла она, - этот обрубленный ствол, истыканный осколками, - все, что осталось от корабельных сосен на склоне".
Они спустились к пушке. В артиллерийском дворике, который матросы называли "палубой", кто-то выворотил деревянный настил и деревянную обшивку бруствера. Лишь орудие, взорванное, накрененное набок, стояло на ржавых штырях, а вокруг густо росла, тянулась к солнцу высокая, налитая влагой, вымахавшая до пояса трава.
Женщина в черном упала на колени, зарыдала и, прижимая к груди траву, повалилась в нее. Она долго плакала. Ее спина и плечи содрогались.
Выплакавшись, с красными глазами, она поднялась на колени и, не разгибаясь, словно молясь, запричитала:
- Алешенька, сыночек мой, травой пророс, кровушкой твоей напиталась она, насытилась, и на кого ты меня, старую, оставил?..
Она нежно ласкала зеленые стебли, мягкие, как волосы сына, и причитала, причитала...
Военврач - по-прежнему отрешенно поникшая - оперлась на ствол пушки и, если б не оперлась, вряд ли устояла бы: в лице ни кровинки, пальцы рук сомкнуты так, что не разомкнуть.
Пожилая тем временем сгребла немного земли, поднесла ладонь с землею к губам и, ссыпав ее в платочек, прижала к груди...
Над Вороньей горой поднималось солнце. Прежде оно, продираясь сквозь сосны, бросало на склон косые лучи; теперь оно не встречало преград - не было сосен; не нарушали безмолвия и крикливые вороны, гнездившиеся на соснах, - не было ворон, негде им стало гнездиться.
Среди низкорослого ольшаника торчал лишь обрубок ствола, возвышалось искореженное орудие да две женщины в немой тоске слушали мертвую тишину.
Людям земли, в которой лежали бойцы и комендоры батареи "А", еще предстояло узнать о подвиге погибших. Крутому склону Вороньей горы еще предстояло стать местом многотысячных митингов и народных манифестаций. Имя командира бесстрашных - лейтенанта Алексея Смаглия - еще предстояло высечь на граните. Но первыми к нему пришли две женщины: одна дала ему жизнь, другая одарила любовью.
Глава-эпилог.
На вечной стоянке
Здесь хочется припасть губами к каждому сантиметру палубы...
Герман Титов,
летчик-космонавт (запись в книге гостей крейсера "Аврора")
"Аврора" шла по Неве. Вода перед ней расступалась, волны откатывались, за кормой закипали буруны.
Вдоль набережной выросла людская стена. Впервые после Великой Отечественной ленинградцы видели "Аврору", слышали, как плещется вода о ее борт, как хлопает флаг, то изгибаясь, то упруго распрямляясь на ветру. И, глядя на реющее полотнище, тысячи рук приветственно махали флажками; легкие, невесомые шары взмывали над толпами, над домами, над городом.
"Аврора" шла по Неве, шла мимо кварталов, еще не залечивших раны, мимо людей, отстоявших этот город, эту невскую воду, это небо.
Иные стояли на костылях, иные вспоминали близких, не доживших до этого часа, погребенных под развалинами, убитых голодом блокады.
Радость нередко впитывает печаль, которая живет в ней, не растворяясь, оттеняя ее.
- Ав-оа, Ав-оа! - кричал малыш, не научившийся выговаривать букву "р". И люди вокруг улыбались - улыбались и тому, что мальчишка в числе первых слов узнал слово "Аврора", и тому, что в послеблокадном Ленинграде появился он и такие, как он, без страха глядящие в небо, с которого прежде рушилась смерть, которые не видели замерзшей в нетопленных домах воды, не стояли у кромки земли, в которую опускали бездыханных отцов и матерей.
- Авоа, Ав-оа! - кричал малыш, а крейсер шел.
Казалось чудом, что не видно на нем следов недавних ран, он снова был молод, строен, прекрасен и светел на темной невской воде в тот ноябрьский день 1947 года.
А вечером "Аврора" вспыхнула гирляндой лампочек, пунктир огней, мерцая, перекинулся через мост Лейтенанта Шмидта, прожекторы осветили юбилейные стяги на Зимнем дворце, и снова тысячные толпы, опьяненные радостью праздника, высыпали на набережные.
Наверное, многие помнили более пышное, более многоцветное ликование света, но после черноты блокадных ночей, еще не ушедших из памяти, полыхание огней, открытое, свободное, без гнетущей маскировки, по-особому волновало и будоражило.
Необычен был тот ноябрьский вечер и на "Авроре". После Ораниенбаума крейсер стоял на ремонте в Ленинграде. Горожане по субботам и воскресеньям приходили на помощь судостроителям-ремонтникам. Чрево корабля покрыла железобетонная рубашка, призванная предохранить крейсер от разъедающей коррозии. Толщина этой рубашки местами достигала ста миллиметров. Заделали пробоины, зарубцевали шрамы на рубках, мачтах, мостиках.
Обновленная "Аврора" вошла в Неву. Однако не только этим был примечателен ноябрьский вечер. В канун 30-летия Октября на корабль приехали те, кто служил на нем в семнадцатом. После удивленных и восторженных возгласов - иные не виделись три десятилетия! - после первых минут общения, неизбежных вопросов: "Где?", "Когда?", "Откуда?" - разошлись по палубам, мостикам и отсекам. Каждому хотелось хоть немного побыть с кораблем, воскресить что-то свое, заповедное, спрятанное в тайниках памяти.
Дионисий Ващук в ту решающую ночь семнадцатого года возглавлял десант моряков, которые свели Николаевский мост. Он, конечно, не забыл, как метались юнкера, ослепленные прожекторами "Авроры", как шлюпка ударилась о гранит набережной и черными призраками бросились матросы к мосту.
Теперь на этом мосту, носившем имя Лейтенанта Шмидта, кипела праздничная толпа, золотые грозди лампочек отражались в Неве. Ващук неотрывно следил за мостом, небывало многолюдным и торжественным, а Тимофей Липатов и Николай Ковалевский, догадавшись, о чем думает товарищ, не отвлекали, беседовали вполголоса.
Леонид Александрович Демин, молча вглядываясь в лица товарищей Соколова, Поленова, Винтера, - улыбался. Чаще других произносились слова: "А помнишь тогда?.." "Тогда" означало в семнадцатом. Он был, кажется, самым молодым, совсем юным мичманом, начинавшим морскую службу. Он пришел на "Аврору" в канун восстания. Он напряженно вслушивался в разговоры в кают-компании, пытаясь разобраться в событиях. А тогда, в ту ночь, на его долю выпало быть вахтенным начальником...
Как располнел Винтер! Следы осколков разорвавшейся мины так сгладились, что лицо кажется почти чистым. А тогда, в восемнадцатом, думали - конец... По-прежнему подвижен Поленов! Удивительно похож на того, прежнего, гардемарина Павел Павлович Соколов - тот же пробор в волосах, тот же испытующе-вдумчивый взгляд. И все-таки годы свое сделали: все возмужали, на смену молодой и легкой проворности пришла неторопливая основательность движений. Что ж, каждый переступил полувековую черту. На погонах - звезды капитанов I ранга...
Труднее других узнать Александра Викторовича Белышева. Не то чтобы он так разительно изменился, нет! Видимо, виной тому - штатская одежда, черный костюм, серое пальто и, конечно, темная оправа окуляров, скрывавших всегда добрый и чуть застенчивый взгляд тогдашнего двадцатичетырехлетнего комиссара "Авроры".
Конечно, три десятилетия невоенной жизни сказались. Впрочем, Александр Викторович всегда "воевал": с трудностями, с косностью, с невзгодами. В конце двадцатых годов его назначили заместителем директора Центральной лаборатории проводной связи. Директор, Александр Федорович Шорин, талантливый инженер-изобретатель, уезжал в частые заграничные командировки. И Белышеву приходилось подолгу возглавлять лабораторию, выпустившую первый в стране аппарат звукового кино.
Почувствовав, что не хватает знаний, Александр Викторович уже на пороге своего сорокалетия поступил в Ленинградскую промышленную академию. Обычно консерватизм этого возраста, когда человек скорее склонен учить, чем учиться, одолеть не так просто. Да и совмещать работу и ученье в зрелую пору главе семьи из четырех человек - крест нелегкий. Тем более что Белышев не умел ни работать, ни учиться вполсилы.
Он справился. И, выбирая тему для диплома, остановился на самой сложной: разработал проект цеха автоматических телефонных линий.
Грянула война. Белышев - на заводе "Ленэнерго". Город на Неве питала электричеством Волховская ГЭС. Кабель протянули по дну Ладоги. Второй кабель держали опоры, скрепленные льдом. Оборудование для этой "линии жизни" изготовляли Белышев и его товарищи.
Позже, в блокированном городе, в зашторенном кабинете, макая ручку в чернильницу, затянутую корочкой льда, Александр Викторович создавал проект восстановления ленинградских электростанций...
Праздничный салют расцветил небо. Исчерченное огнями, оно пылало в густой и темной воде Невы. От реки несло осенним холодом. Даже в плотном пальто Белышеву было зябко. Тогда, тридцать лет назад, в распахнутом бушлате он стоял на мостике и не чувствовал ни ветра, ни стыни. Внизу, широко расставив ноги, ожидал команды комендор Евдоким Огнев. Хмурился, глядя на часы, Петр Курков...
Ни Огнев, ни Курков никогда не взойдут по трапу "Авроры". Оба погибли...
Новый залп салюта рассыпал в небе ракеты. В воде словно заплясали легкие и юркие золотые, синие, зеленые рыбки.
Ленинград праздновал и ликовал.
Это было 7 ноября 1947 года. А год спустя "Аврора" направилась в свой последний рейс.
Еще во время войны Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся принял решение: "1. Принять предложение Народного комиссара ВМФ СССР об установлении навечно Краснознаменного крейсера "Аврора" на Неве как памятника активного участия моряков Балтфлота в свержении буржуазного Временного правительства в дни Великой Октябрьской социалистической революции.
2. Краснознаменный крейсер "Аврора" установить у Петроградской набережной по реке Большой Невке, против здания Ленинградского Нахимовского военно-морского училища".
17 ноября 1948 года крейсер ошвартовался у Петроградской набережной, пришел к месту вечной стоянки.
Памятники морской славы впечатляют по-особому. Кто стоял на Приморском бульваре в Севастополе у большого, тяжелого якоря, почти полтора века назад снятого с боевого корабля, не забудет ни этот якорь, ни скалу, словно вынырнувшую из волн, влажную от брызг. От нее устремляется вверх стройная колонна со словами, выбитыми на граните:
"В память кораблей, затопленных в 1854-1855 гг. для заграждения входа на рейд".
Кричат чайки, плещутся волны, безмолвно стоят люди. Бывают минуты, когда молчание может сказать больше слов. Люди знают о судьбе затопленных кораблей, знают и о судьбе матросов этих кораблей: они ушли на бастионы и преградили путь неприятелю...
А вот другой памятник, воздвигнутый в Ленинграде: два матроса с эскадренного миноносца "Стерегущий" открывают клапаны затопления, чтобы корабль не достался врагу.
Эсминец вел многочасовой неравный бой с шестью миноносцами и крейсерами противника. Когда из экипажа в живых остались двое, они исполнили свой трагически-гордый долг: открыли клапаны затопления. "Стерегущий" погрузился в морскую пучину...
Подвиги моряков отлиты в бронзе, высечены в граните. Эти памятники можно увидеть на ребристых скалах, у пенистых фиордов, на хмурых сопках, на берегах рек и морей.
"Аврору" тоже называют кораблем-памятником. Это одновременно верно и неверно. Мы привыкли к тому, что памятники неподвижны, что образы, воссозданные ими, живут лишь в нашем сознании.
По-иному сложилась судьба "Авроры". Чем-то, конечно, она сродни другим памятникам морской славы России, но во многом и отлична. Ее биография неповторима. Ее вечная стоянка - это вечное плавание по волнам времени.
Придите к Большой Невке, когда с Финского залива набегает хлесткий ветер, и увидите волны, бьющиеся о борт, увидите клочья черного дыма над трубами корабля: он дышит, работают его машины, под паром котлы.
В седоватой мороси утреннего тумана, хорошо знакомого ленинградцам, можно наблюдать группы людей, идущих по Петроградской набережной к памятному мосту. Они останавливаются у гранитного парапета и ждут. Чего они ждут?
Ровно в восемь утра вздрогнет корабельный колокол, качнется медный язычок, отбивая склянки, воздух наполнится сигналами горластого горна, и на юте, где замрут ряды авроровцев, по флагштоку поплывет флаг ордена Октябрьской Революции, Краснознаменного крейсера...
"Аврора" продолжает жить. Ее матросы овладевают военным делом и несут многотрудную службу: легко ли содержать в порядке корабль, ежедневно принимающий тысячи гостей?!
Корабельная приборка предполагает безупречную чистоту. Не случайно бытует притча о боцмане, который белоснежным носовым платком проверяет, как продраена палуба.
Почти все матросы на корабле со специальным средним образованием. Они легко входят в коллектив. Сравнение экипажа с часовым механизмом не будет большим преувеличением: колесики и шестеренки взаимодействуют без перебоев, надежно и точно. С кем бы ни свела вас судьба на корабле, у вас неизменно возникнет ощущение, что каждый на своем месте, на своем посту - от улыбчивого вестового Коли Лебедева до командира крейсера капитана I ранга Юрия Ивановича Федорова.
Представьте себе заботы хозяина дома, который изо дня в день посещают многие тысячи гостей. Приходят соотечественники. Приезжают делегации и туристы со всех концов мира. Одни запомнят открытое русское лицо и добрую улыбку командира, другие - беседу с ним, третьим, быть может, доведется познакомиться с моделями кораблей, изготовленными Юрием Ивановичем.
Корабли Федорова экспонируются во многих музеях страны. Созданная им маленькая "Аврора" искусно воспроизводит настоящую "Аврору", которой он посвятил лучшие годы своей жизни.
Главбоцман на крейсере тоже Федоров, однофамилец командира корабля Владимир Дмитриевич Федоров. Подростком он партизанил под Вышним Волочком, а девятнадцатилетним впервые ступил на палубу "Авроры". Владимир Дмитриевич уже отпраздновал полувековой юбилей. Так что авроровец он старый, но годы его не берут.
- Секрет молодости? Просто некогда стареть! - отшучивается Федоров. Служба не позволяет.
Боцман в классической маринистской литературе - фигура не очень привлекательная. На груди дудка, закручены кверху злые усы, грубый, грудастый, багрянощекий, с пудовыми кулачищами.
Облик Федорова опровергает классический образец. Он по-флотски подтянут, лицо удивительно приветливое, освещенное мягкой улыбкой. Может быть, поэтому приметили его киношники. Во всех фильмах, снимавшихся на "Авроре", участвовал и Владимир Федоров. Смеясь, он говорит:
- Думаете, я боцман, а я "кинозвезда". В "Залпе "Авроры" снимался, в "Капитане I ранга" снимался, да что перечислять - в семи фильмах снимался. Бывало, сутки несешь вахту, а потом - добро пожаловать на съемки!
- А в городе семья, квартира есть?
- Есть, конечно, - отвечает Федоров. - Но дом мой здесь...
Это характерно: авроровцы судьбой прикипают к своему кораблю.
Автор этих строк жил на "Авроре", из года в год бывал ее частым гостем, многое и многих видел своими глазами, еще больше узнал из рассказов офицеров и матросов.
Однажды по трапу на крейсер поднялся старик богатырского роста. Он шел не спеша - стройный, преисполненный достоинства. Взойдя на палубу, он отдал честь кормовому флагу, медленно прошел мимо судового колокола, заглянул в глаза встречному матросу, погладил бородку. Клинышек его посеребренной бородки был аккуратно подстрижен. Во всем облике этого могучего, рослого старика чувствовались прочность и основательность.
Кто же это так уверенно, как по собственному дому, проходит по крейсеру? Загадка открылась, когда гость спустился в корабельный музей. Он остановился у стенда с материалами о Цусиме, и достаточно было даже беглого взгляда на портрет матроса-электрика Андрея Павловича Подлесного, чтобы, не колеблясь, сказать: это - он! Он, спасший "Аврору" в Цусимском сражении! На стенде его Георгиевский крест, а рядом живой, мгновенно попавший в тесное кольцо посетителей Андрей Павлович! Сколько же ему лет? Откуда он появился?
Экскурсовод шепотом ответил:
- Без малого сто. Во всяком случае, девяносто пять, помню, отмечали... А живет на Сяськом целлюлозно-бумажном комбинате. От Ленинграда не очень далеко, но и сто лет не очень мало...
Другой эпизод, пожалуй, не менее характерен. На "Аврору" приехала киносъемочная группа Министерства обороны. Задумали документальный фильм о крейсере. И естественно, очень хотели, чтобы рассказ о корабле вел кто-нибудь из ветеранов, участников Октября. К тому времени из членов команды, служившей в 1917 году, в живых осталось тридцать шесть человек. Всем за восемьдесят. Судили-рядили - решили обратиться к Александру Соломоновичу Неволину. В октябрьские дни он командовал десантом авроровцев, штурмовавших Зимний. И жил сравнительно недалеко, в Киеве.
Ответ на телеграмму пришел в тот же день: "Буду завтра".
Режиссеры и операторы волновались: главному герою будущего фильма предстояло выдержать немалые перегрузки. Планировали, как бы потолковее построить работу, организовать съемки, чтобы Неволина не замучить. Между собой договорились: после дороги пусть дня два отдохнет. Старость не радость, девятый десяток не пустяк...
Поезд пришел утром. Сломав сопротивление встречавших, Александр Соломонович, даже не заехав в гостиницу, направился на корабль. Ступив на входной трап, он распрямился, вскинул голову. По палубе он уже не шел, а почти бежал. В одном месте, всматриваясь в аккуратные пластинки тика, остановился. Здесь в дни Февральской революции был смертельно ранен контрреволюционером Никольским матрос Осипенко. Неволин первым оказал помощь товарищу, понес его, окровавленного, умирающего...
И снова гость заспешил по палубе, сноровисто спустился по трапу в машинное отделение. Ему сказали: там операторы ведут съемки.
Неволин дышал учащенно. Трап есть трап. Корабельный фельдшер Иван Васильевич Шевченко придерживал гостя:
- Нельзя так, Александр Соломонович. Не бережете вы свою жизнь.
Неволин в ответ улыбнулся. Надо ли объяснять, что этот корабль и был его жизнью...
Авроровцы прирастают к своему кораблю. Однажды военфельдшер Шевченко пригласил автора этих строк к себе в медпункт, торжественным жестом отодвинул с цементного пола маленький коврик и указал на какие-то углубления и штыри.
Непосвященный гость, не поняв, в чем дело, пожал плечами.
Шевченко объяснил:
- Здесь крепился операционный стол, на котором во время Цусимского боя оперировал раненых судовой врач Владимир Семенович Кравченко!
А один из молодых кочегаров, кажется Иван Перевозчиков, обнаружил в кочегарке вмятину от снаряда. Сколько раз ремонтировался крейсер, а вмятина сохранилась. Взволнованный кочегар позвал товарищей и, показывая след от снаряда, поглаживал боевую вмятину былых лет. Что-то необъяснимо важное было в этом прикосновении первогодка-матроса к зарубцевавшейся ране "Авроры".
"Аврора" - музей! Это было неожиданно и необычно. К этому долго привыкали.
Музей неизменно связывают с тишиной, с шарканьем мягких тапочек, - не поцарапали бы пол! - со строгими табличками: "Руками не трогать!"
Работать в необычный музей пришли необычные сотрудники, в судьбе которых не было музейной тишины, пришли люди в форме морских офицеров, еще вчера стоявшие на мостиках боевых кораблей.
Первым начальником авроровского музея был кавторанг Борис Васильевич Бурковский. Семнадцатилетним он начал свою службу на "Авроре", в Отечественную командовал дивизионом торпедных катеров на Черном море. Четыре года непрерывных боев, дерзких рейдов, смертельной опасности... Бурковский участвовал в обороне и освобождении четырех городов-героев: Одессы, Севастополя, Керчи, Новороссийска. После войны, отвергнув заслуженный отдых, вернулся на корабль своей юности.
Традиции первого начальника авроровского музея продолжает его преемник - Н. И. Горбунов.
Капитан I ранга Геннадий Павлович Бартев - старший научный сотрудник музея, неутомимый летописец и пропагандист "Авроры" - впервые увидел крейсер подростком в Архангельском порту, заболел мечтою служить на нем, служил - ив пору зрелости снова на "Авроре".
Заслуженные морские офицеры Иван Иванович Скляров и Александр Иванович Турчаненко - сотрудники музея - тоже авроровцы.
Капитан I ранга Анатолий Семенович Малеев посвятил многие месяцы изучению связей "Авроры" с предприятиями и колхозами.
По крупице собирали они все, что собрано, становясь профессиональными исследователями, профессиональными экскурсоводами.
Итак, "Аврора" - музей! Об этом забываешь, едва оказываешься на трапе, поскрипывающем и покачивающемся под ногами. Приходится придерживаться за поручни - внизу вода, темная, холодная, дна не видно.
На палубе звоном наполняются уши. Бьют склянки. Посетитель редко воспринимает их как отсчет времени, скорее как сигнал к отправлению. И действительно, происходит "отплытие": "Аврора" уходит в глубь истории, в 1917 год, в главный день века - 25 октября, плывет по морям и океанам своей судьбы.
Разумеется, малочисленная группа штатных экскурсоводов музея не может обслужить гигантский поток посетителей. К счастью, все или почти все матросы и старшины на крейсере - экскурсоводы. Просто поразительно - почти все.
Вести экскурсию по кораблю сложно. В его биографии - и Цусимское сражение, и война 1914 года, и многочисленные походы в дальние страны, и Великий Октябрь, и осажденный Ленинград. В корабельном музее более шестисот экспонатов!
У матросов срочной службы жизнь расписана по минутам. Экскурсии проводятся в свободное, личное время. Зато, представьте, как это здорово, когда, отстояв вахту, сбросив рабочую робу, выходит к трапу стройный экскурсовод лет девятнадцати-двадцати, в бушлате, в бескозырке и говорит посетителям:
- Здравствуйте, товарищи! Я - старший матрос Алехин Владимир Константинович - сегодня познакомлю вас с историей легендарного корабля.
Алехин - с рыжеватыми усиками, с живыми, пытливо-подвижными глазами. Держится свободно. Над шляпами, беретами, платками, фуражками - его бескозырка. Парень рослый. Загорающиеся глаза. Речь немного тороплива. Может быть, виною колючий ветер на палубе: рядом поеживается не привыкшая к холоду смуглолицая туркменка.
Носовая часть крейсера. У бакового шестидюймового орудия, из которого комендор Евдоким Огнев дал сигнальный выстрел по Зимнему, как всегда, многолюдно. Туристы, разговаривающие по-испански, - видимо, гости из Латинской Америки - о чем-то темпераментно спорят. Один из них - молодой, серьезный, с профилем Ильича на лацкане пиджака - делает пометки в большом блокноте; вопросы задает не праздные, не простым любопытством продиктованные:
- Сколько войск было у Керенского?
- Какое превосходство в силах было у Ленина?
- В чьих руках были вокзалы? Телеграф?
Все очень внимательно слушают ответы. Следят за речью экскурсовода, потом - переводчика.
Наконец место возле бакового орудия освобождается. Группа Алехина располагается для фотографирования. Легко одетая туркменка становится поближе к замолкшему экскурсоводу. Ветер треплет ее шарфик, шевелит тугие черные косы. Холодно. Если б не столь официальная обстановка, Володя Алехин надел бы ей на плечи свой теплый бушлат. Но сейчас нельзя. Поэтому и лицо его кажется строже, чем требуют обстоятельства, и рыжие усики кажутся колючими.
- Плотнее, плотнее! - командует фотограф. - Историческое орудие! Снимок на всю жизнь!..
В помещении корабельного музея тесно. Слышен ровный голос капитана I ранга В. И. Фирсанова. Вокруг него гости из Анголы. Тут же пионеры из Петрозаводска. А в соседний кубрик втягивается другая группа, кажется туристы, совершающие путешествие из Ростова в Ленинград.
Шестьсот экспонатов! Одни говорят сами за себя, другие надо комментировать, третьи предполагают развернутый рассказ. Алехин объясняет, комментирует, рассказывает.
Самый острый интерес вызывает зал, посвященный Октябрю. Гости рассматривают диораму. Как бы со стороны, с набережной, видят крейсер, подошедший к Зимнему. В это мгновение Алехин говорит:
- Слушайте голос первого комиссара "Авроры" Александра Викторовича Белышева.
Голос четкий и близкий. Кажется, Александр Викторович где-то рядом. В первую секунду эффекту присутствия мешает шорох пленки, но скоро покоряет власть глубокого, изнутри идущего голоса.
К группе Алехина пристраиваются "неорганизованные". В зале, обычно шумном, воцаряется почти неестественная тишина...
За два года службы старший матрос Владимир Алехин провел двести семьдесят экскурсий. Пока на корабле это рекорд. Надолго ли? У Алехина есть опасные "конкуренты"...
Каждый день на корабле интересные, порой непредвиденные встречи, иногда не обходится и без своеобразных "поединков".
Беседу вел матрос в зале подарков "Авроре". Гость оказался дотошным, явно настроенным сбить матроса, поставить в неловкое положение. Он неприятно оттопыривал нижнюю губу, смотрел на матроса, как удав на кролика, и всем своим видом показывал: вот сейчас ты попадешь в мою ловушку.
Матрос провел без малого двести экскурсий, гостей видел разных, приезжающих и с добрыми намерениями, и с не очень добрыми. Понимал: приставлен к делу - держись достойно, на комариные укусы не реагируй. Лишь брови чуть смыкались над переносицей матроса.
Заинтересовавшись подарком из Индии - слоном из сандалового дерева, тащившим на цепи тяжкое бревно, иностранец спросил:
- Что символизирует эта композиция?
Матрос улыбнулся и спокойно ответил:
- Слон символизирует слона, а бревно символизирует бревно...
Вокруг засмеялись. Гость не унимался, с пристрастием расспрашивал о композиции, сделанной вьетнамцами из обломков сбитого американского самолета, а у модели кубинской яхты "Гранма", которая, подобно "Авроре", поставлена на вечную стоянку, устроил матросу настоящий экзамен: что, да как, да почему.
Толковые ответы лишили возможности к чему-либо придраться. Тогда иностранец заявил: нас, мол, обманывают, перед нами не матрос, а переодетый научный сотрудник.
Пришлось показать матросскую книжку. С фотокарточки смотрели насмешливо сощуренные глаза, чуть сомкнутые брови, а на ленте бескозырки легко было прочитать: "Аврора"...
Не будет преувеличением, если мы скажем: в музее "Авроры" интересно все! Однако обо всем не расскажешь. Это была бы книга, у которой нет конца.
У иного экспоната стоишь и жалеешь, что он безгласный. Человек так устроен, что ему мало разглядеть оболочку факта, ему хочется докопаться до самой сути, постичь весь драматизм и всю полноту подробностей какого-то эпизода или события. И это желание ведет к очевидцам, в недра архивов и хранилищ.
"Мы, бывшие нижние чины..."
История одного письма в ленинский "Пролетарий"
В экспозиции корабельного музея есть фотокопия письма, написанного авроровцами в 1908 году. Видимо, фотокопия была сделана с газеты, прожившей не одно десятилетие, - буквы поблекли, бумага пожелтела, однако прочитать письмо можно, и читающих всегда много.
Фотокопия под стеклом, она стала музейным экспонатом, экспонатом действующим, потому что живет в старом воспроизведенном письме человеческое волнение, не оставляющее нас равнодушными и спокойными даже сегодня, спустя столько лет после его появления в печати!
Конечно, лучше бы взять в руки газету, увидеть на первой полосе выходные данные - "Пролетарий". № 35. Женева, четверг (24 сентября) 11 сентября 1908 г." И любому непременно бросится в глаза, что открывает ее знаменитая ленинская статья "Лев Толстой, как зеркало русской революции".
В статье есть размышления Владимира Ильича о солдатских восстаниях 1905-1906 годов, о социальном составе борцов революции, и, пожалуй, письмо авроровцев, пусть не прямо, перекликается с этими раздумьями Ильича.
Кто же они, авторы письма в ленинский "Пролетарий"? В каком порту они покинули свой корабль? Какая участь постигла их на чужбине?
У посетителей авроровского музея возникает много вопросов, но даже опытные экскурсоводы далеко не на все вопросы могут ответить. Еще немало загадок таит история. Не все они разгаданы.
В дооктябрьских газетах, которые довелось редактировать Владимиру Ильичу Ленину - вспомните "Искру", "Вперед", "Пролетарий", - время от времени появлялись солдатские и матросские письма. Как правило, Владимир Ильич сохранял их подлинность, не подвергая литературной переработке, после которой обычно пропадает самобытность автора, ощущение живого человека, водившего пером и написавшего именно эти "троки, пусть и корявые, пусть и со стилистическими огрехами.
Итак, в газете "Пролетарий" появилась заметка, названная "Письмо матросов с крейсера "Аврора". Авторы ее с первых же строк разъясняли существо дела:
"Мы, бывшие нижние чины флота, службу свою несли на крейсере I ранга "Аврора", а в настоящее время мы находимся за пределами России. Причины этому следующие:.." Какие же причины названы авроровцами? О чем они поведали читателям "Пролетария"? Что побудило их взяться за перо, чтобы излить на бумаге наболевшее?
На корабле офицеры, выходцы из привилегированных и наиболее реакционных слоев тогдашнего общества, установили режим, попиравшие права матросов: мордобой, унижение человеческого достоинства. Матросы пишут:
"Мы, нижние чины, не могли перенести того издевательства, что мы перетерпели..."
"Отношение к нам было невыносимо..." Старший офицер крейсера изо дня в день заводил к себе в каюту кого-либо из матросов, попавшихся ему на глаза, задавал ему вопросы, на которые тот не мог ответить, и начинал его избивать.
"Натешившись над ним вдоволь, делает ему строгий наказ, - рассказывают в своем письме авроровцы. - Если ты скажешь слово, я тебя загоню туда, куда Макар телят не гонял.
По выходе из каюты у матроса изменяется лицо до неузнаваемости, так как по нему гуляли благородные кулаки начальника. После такого испытания в голову приходят такие мысли: дальше служить или на себя руки наложить?"
Были среди офицеров любители и других "забав": заставляли матросов спускать на воду и подымать на борт корабля шлюпки, доводя свои жертвы до полного изнеможения.
Подобные бессмысленные изнурительные работы придумывались сплошь и рядом.
Была на корабле еще одна пытка - пытка голодом. Матросам произвольно урезывали пищевое довольствие, их постоянно и беспардонно обкрадывали. "Пища была следующая: горячая вода и несколько пучков травы, которые придавали зелено-мутный цвет всей этой жидкости. И если... команда говорила, что нужно же что-либо кушать, мы ведь не собаки, брошенные на произвол судьбы, чтобы помереть с голоду.., то в ответ голодающим выдавали сухари, "от которых пыль идет, когда их несут, и весьма скверный запах". Эти сухари, оказывается, давно "превратились в порошок зеленого цвета".
От других офицеров старался не отставать и корабельный врач: "Д-р все болезни лечит касторкой. Протестующих сажает больными в карцер".
Когда кончался голодный, отравленный издевательствами день и матросы рассчитывали хоть ночью забыться, восстановить силы, их подымали и заставляли проводить разборку и сборку машины.
Явная, нарочитая бессмысленность этой работы окончательно изнуряла команду.
Завершается письмо так: "Эти-то "патриоты" заставили нас покинуть свою дорогую родину и скрываться за пределами России в числе более 20 человек. Мы просим прощения перед своей дорогой родиной! Мы сделали это сознательно, спасая свою жизнь, иначе у нас не было никакого выхода; служить родине мы были не в силах, так как нас давили цепи. Дальше всего этого мы не могли перенести. Если дальше служить, то пришлось бы на себя руки наложить.
Долг службы перед своей дорогой родиной мы с человеческим достоинством выполним во всякое время. Еще раз просим прощения перед своей дорогой родиной и просим всех своих соотечественников наложить клеймо позора на этих опричников. Губят они наши рабочие молодые силы, но и свою "патриотическую" шкуру не спасут. Больное место уже назревает, в скором времени прорвется.
Может быть, придется возвратиться на родину, то только для мщения за все прошлые истязания. И, может быть, нас здесь встретит голодная смерть, то лучше мы ее перенесем, чем нам гибнуть от кровожадных опричников. Шлем братский привет дорогой нашей родине".
Как видим из письма, писали его люди гордые, не пожелавшие мириться с надругательствами, с оскорблением своего человеческого достоинства.
Кто указал им путь в ленинский "Пролетарий"?
Пока точного ответа на этот вопрос нет. Хорошо известно, что в 1908 году с авроровцами поддерживал дружеские связи матрос большевик И. С. Круглов, служивший на различных кораблях Балтийского флота. Во время стоянок он бывал на крейсере, не раз встречался на "Авроре" с машинистом Усовым, с радиотелеграфистом Богдановым.
Круглов снабжал авроровцев большевистскими прокламациями. Мог, конечно, пронести и "Пролетарий", издававшийся в Женеве, где в ту пору был в эмиграции Владимир Ильич.
А где покинули корабль авторы письма?
Интересное, по-настоящему творческое исследование провел Валентин Осипов в своей работе "Крейсер "Аврора": отзвуки давних времен".
В документах Центрального государственного архива Военно-Морского Флота он обнаружил сведения о группе авроровцев, покинувших корабль. В книге приказов за 1908 год оказалась запись: "Дезертировавших в городе Стокгольме нижепоименованных чинов в числе 12 человек исключить со всего довольствия с 21 июля..."
Сказано громко: "Со всего довольствия". Мы из письма знаем, какое оно было, это довольствие: "Горячая вода и несколько пучков травы, которые придавали зелено-мутный цвет всей этой жидкости".
И все-таки на один из вопросов выписка из приказа отвечает - побег был совершен в Стокгольме, в шведской столице.
В поименном списке "нижних чинов" упомянут матрос 2-й статьи Лука Алексеевич Гончаренко, выходец из Харьковской губернии. Под его фамилией пометка: "Назначен на "Аврору" из разряда штрафованных".
Не он ли, "штрафованный" Гончаренко, поддерживал связь с большевиком И. С. Кругловым и был инициатором обращения в ленинский "Пролетарий"?
Бросается в глаза еще одна деталь: всегда на кораблях революционное ядро составляют машинисты и кочегары. Среди совершивших побег они составляют большинство: Николай Федорович Дьяченко - машинист 2-й статьи, Иван Олимпиевич Михеев и Семен Иванович Федосеев - машинисты 1-й статьи, Григорий Степанович Заболотный, Филипп Пименович Рудаков, Ефим Иосифович Фойченко - кочегары, Карл Индрикович Лятс, Иван Иванович Якшин - ученики кочегаров.
Исследователь обнаружил документы, свидетельствующие о переполохе, вызванном побегом моряков, в МИДе Российской империи, в военном ведомстве, на крейсере.
Не случайно в адрес командира корабля полетели из Петербурга запросы о приметах бежавших "для предъявления требований шведскому правительству".
Наверняка еще до этого офицеры крейсера пытались обнаружить беглецов в Стокгольме. Однако задача эта была почти неразрешимой.
Шведская столица с пригородами и городами-спутниками раскинулась на территории, превышающей шесть тысяч квадратных километров.
В чужом городе матросов в русской военной форме легко было бы найти, если б они специально ждали своих карателей на площади Густава II Адольфа, возле Национальной оперы, или, скажем, прогуливались бы перед королевским дворцом, парадно возвышавшимся на холме и обращенным фасадом к морю.
На это каратели рассчитывать не могли. В огромном городе моряков найти оказалось труднее, чем иголку в стогу сена, да и подготовили, видно, они побег толково и продуманно.
Вот и решили царские опричники прибегнуть к помощи шведских властей. Для этого требовалось юридическое обоснование. Его-то они и не смогли "состряпать".
Валентин Осипов цитирует ответ российского генконсульства в Стокгольме командиру "Авроры":
"Бежавшие не подлежат выдаче как дезертиры".
Итак, документы Центрального государственного архива Военно-Морского Флота проливают свет на судьбы тех, кто покинул крейсер в 1908 году. Однако не все еще выяснено, многие вопросы остаются без ответа. Порой и документы дают основания не для утверждений, а лишь для предположений.
Одно несомненно: авроровские моряки - не дезертиры, как это пытались утверждать их притеснители, держиморды в офицерских мундирах, а гордые, исполненные достоинства люди, не пожелавшие склонить голову перед насильниками, не пожелавшие терпеть побои и издевательства.
Вспомните их строки: "Служить своей родине мы были не в силах, так как нас давили цепи"; "Долг службы перед своей дорогой родиной мы с человеческим достоинством выполним во всякое время".
Легко представить, как тяжко сложилась судьба людей, оказавшихся на чужбине без знания языка, без денег, без документов, преследуемых, гонимых, не уверенных в том, что завтра их не схватят и не отдадут на расправу трибуналу ("Может быть, нас здесь встретит голодная смерть, то лучше мы ее перенесем, чем нам гибнуть от кровожадных опричников").
Они сделали этот трудный, полный смертельного риска шаг, люто ненавидя насилие и согретые верой, что, "может, придется возвратиться на родину", и не просто возвратиться, а возвратиться "для мщения за все прошлые истязания".
На этом пока приходится оборвать комментарии к письму авроровцев в ленинский "Пролетарий". Эта глава не дописана. Когда-нибудь, мы надеемся, еще удастся узнать, как жили и боролись за лучшую долю сильные и смелые сыны "Авроры", бросившие вызов самодержавию "в те годы дальние, хлухие".
Портрет Е. Р. Егорьева
У меня все время сжималось сердце, я вспоминала пятно на стене в том месте, где всю мою жизнь висел портрет деда. Но вот с портрета сняли покрывало. Замер строй краснофлотцев. Мне даже показалось, что по рядам прошла дрожь, когда после цусимского побоища матросы "Авроры" сняли с командирской рубки кусок брони, пробитой японским снарядом. Осколки этого снаряда смертельно ранили командира крейсера Евгения Романовича Егорьева.
Пробоина в броне была сравнительно невелика, но в нее вошел портрет Егорьева. А рамку матросы смастерили из обгорелых досок палубы. На эти доски упал умирающий командир.
Из рваного металла, полуобугленной древесины и любви экипажа был создан единственный в своем роде памятник герою Цусимы. И подарили его матросы сыну Егорьева - в ту пору мичману русского флота Всеволоду Евгеньевичу Егорьеву.
Отгремела русско-японская война. Отгремела первая мировая. Смолкла канонада гражданской. Завершилась Великая Отечественная. Мичман стал адмиралом, доктором военно-морских наук, профессором.
Уникальный портрет - семейная реликвия - все эти годы хранился в доме Егорьевых на Адмиралтейской набережной в Ленинграде. Он висел над письменным столом Всеволода Евгеньевича. Однако настал день и час, когда сын, сняв со стены портрет отца, сказал:
- Он не может принадлежать только нам...
- 2 мая 1959 года на "Авроре" была построена вся команда, рассказывает внучка первого командира крейсера Анастасия Всеволодовна Егорьева. - Отец в полной форме, при всех орденах, рядом стояли моя мать, Августа Ивановна, и я.
У меня все время сжималось сердце, я вспоминала пятно на стене в том месте, где всю мою жизнь висел портрет деда. Но вот с портрета сняли покрывало. Замер строй краснофлотцев. Мне даже показалось, что по рядам прошла дрожь, когда матросы увидели в пробоине рваной брони лицо и флотский мундир Евгения Романовича.
А потом говорил командир. Очень хорошо говорил. Я, конечно, не помню всех слов. Больше всего меня тронуло, когда он сказал, что капитан I ранга Егорьев через полвека после своей гибели снова вернулся на "Аврору", чтобы никогда с ней не разлучаться...
Правда, умные и хорошие слова? И теперь многие экскурсии на крейсере начинаются с этого портрета...
Смерть в жестяной коробке
"Аврора" стояла в Петрограде. Враги, явные и тайные, не могли простить революционному крейсеру его участия в октябрьских событиях. Замышлялись провокации и диверсии.
5 января 1918 года Верховная морская коллегия переслала на "Аврору" письмо: "Товарищи!
Вчера, 4 января, в зале Калашниковской биржи на общем собрании была предложена премия за уничтожение судна "Аврора" в сумме ста тысяч (100 000) руб., 50000 сразу, а остальные 50 000, когда взорвет...
...Ввиду этого просим быть на страже, а то будет печально, если найдется негодяй, который согласится свою шкуру продать и всю трудовую массу.
Сочувствующий II съезду Советов рабочих и солдатских депутатов и народных комиссаров - Г."
С подлинным верно.
Член Верховной морской коллегии В. Ковалевский".
На крейсере усилили охрану. Без тщательной проверки на корабль никого не пропускали.
Минуло более двух месяцев. Однажды в марте незнакомый человек в солдатской шинели подошел к часовому, стоявшему у трапа, передал сверток и, сказав, что подобрал на льду возле корабля, удалился.
Часовой вызвал дежурного. Поднявшись на палубу, дежурный услышал, что из свертка глухо доносится тиканье часов. Догадавшись, что тут что-то неладное, бросился к старшему офицеру Борису Францевичу Винтеру.
Винтер сразу понял: в жестяной коробке, прикрытой тряпкой, "адская машина". Он быстро открыл крышку коробки, из желтой массы взрывчатого вещества извлек латунную гильзу, оказавшуюся взрывателем. Коробку унесли. Борис Францевич начал разбирать взрыватель. В гильзе он обнаружил капсюль, ударник со спиральной пружиной, часовой механизм. И вдруг... раздался взрыв.
Вспоминает бывший мичман "Авроры" инженер-контрадмирал Л. А. Демин: Я побежал в каюту командира и увидел следующую картину: на полу, раскинув руки, лежал без сознания лейтенант Винтер. Лицо его было землистого цвета, а губы совершенно белые. Китель с левого бока разорван, и оттуда виднелась рана, из которой текла кровь. Руки также были в крови, и на полу была большая лужа крови.
Рядом стоял Эриксон, у него на лице были отдельные капли и струйки крови. Я спросил его, что здесь произошло. Он ответил, что у Бориса Францевича взорвался в руках взрыватель...
Врач сделал Винтеру первую перевязку, затем мы уложили его на носилки и отнесли в уже знакомый нам госпиталь № 73. Когда мы несли раненого, к нему вернулось сознание и он стал командовать: "Левой - правой, левой правой...", для того чтобы мы шли в ногу и меньше его трясли, так как при каждом толчке он испытывал сильную боль...
Медленно тянулось время, пока шла операция. Но вот наконец к нам вышел хирург и заявил, что положение раненого очень тяжелое, так как у него много ран не только поверхностных, но и во внутренних органах. Сейчас, сказал хирург, он очистил около семидесяти ран, вынул из них металлические, деревянные и стеклянные осколки. Больной был без сознания, потерял много крови, многие раны еще не очищены, поэтому сказать уверенно, что он останется жив, доктор не мог...
Б. Ф. Винтер, остановив часовой механизм, предотвратил более страшный взрыв "адской машины", от которого могла произойти детонация снарядов в кормовых погребах. Тогда бы от крейсера и от всей команды ничего не осталось...
Форт "Павел"
"Аврора", принявшая на борт первую группу курсантов военно-морского училища, стояла на Большом Кронштадтском рейде. Надвигался вечер. Один из вахтенных со стороны форта "Павел", где хранились старые мины, увидел дым.
Вспоминает курсант Александр Евсеев: В этот памятный, даже очень памятный вечер, 19 июля 1923 года, я нес обязанности гребца дежурной шлюпки. Раздалась команда вахтенного:
- Вахтенные и подвахтенные отделения - наверх!
Заинтересовавшись причиной вызова, я подошел к группе моряков, стоявших у борта, и спросил, в чем дело. Мне сказали, показав рукой на форт, что горит что-то такое на "Павле". На этом форту я не был ни разу. Мне только было известно, что форт давно заброшен и что там находится склад старых мин. Но я еще знал, что на этот старинный форт нередко заглядывают военморы, чтобы отдохнуть и покупаться в его спокойном заливчике. Тут же было отдано через вахтенного приказание разводить пары, и отправилась дежурная шестерка на форт для ликвидации пожара.
Бросившись к левому трапу, я увидел, что желающих уже больше, чем нужно для шестерки. Шел спор из-за мест, и каждый старался во что бы то ни стало отвоевать себе место в шлюпке. Мне, приложив большие усилия, удалось занять место гребца.
Отвалили. Нас в шлюпке было девять человек, считая и начальника учебного отдела военно-морского училища тов. Гедле.
...Пристали к бону форта и быстро выскочили на землю. Тов. Гедле отрывисто бросил:
- Одному из гребцов остаться дежурным у шлюпки, остальным быстро следовать за мной!
Мы бежим за ним. На ходу он приказывает нам насыпать песок во что попало: в фуражки, в голландки для того, чтобы погасить пламя.
Наступила темнота. Я только видел, как из горловины мины вылетал огонь, освещая каменные укрепления форта, где было более сотни мин.
Я и мой товарищ Ушерович первыми насыпали песок в голландки и первыми бросили его в горловину мины. Мина, проглотив его, зловеще зашипела и выбросила пламя в два раза большее, чем оно было прежде.
Остальные тоже тушили горящую мину. Один из наших военморов, Казаков, даже вылил в нее ведерко воды.
С секунды на секунду мы ожидали взрыва. Мина накалилась докрасна. Смерть как бы смотрела нам в лицо.
Видя неудачу своих попыток погасить огонь, мы решили изолировать мину. Схватили минреп, валявшийся здесь же, на берегу. Попытка столкнуть мину в море кончается неудачей. Минреп лишь раскачивает ее. Чувствуем свое бессилье, но с двойной энергией принимаемся за работу.
Снова делаем отчаянную попытку столкнуть мину, и снова мешает окружающее ее кольцо других мин. Томительно идут секунды.
Мы находимся всего в трех-четырех шагах от дрожащей от внутреннего полыхания мины. Она как бы загипнотизировала и притягивает к себе...
И вдруг сметающий все на своем пути огненный смерч и грохот. Это один миг.
Я видел только блеск. Стало темно. Я потерял сознание.
Очнулся в воде, будучи отброшен взрывом. Вода освежила меня и придала мне силы. Я выбираюсь на берег. Чувствую большую слабость. На берегу в темноте замечаю среди груды камней несколько огоньков. Это загорелось еще несколько мин. Опасность придает мне новые силы...
...Я и Сидельников в Кронштадтском госпитале. За нами заботливый уход, а там, на горящем форту, погибли четыре близких, почти родных товарища: Гедле, Казаков, Ушерович, Альтман...
24 июля 1923 года "Петроградская правда" писала: "Герои пали. Погибший В. В. Гедле, 28 лет... бывший флотский офицер, с самого начала революции работавший в рядах пролетариата. Обладая большими организаторскими способностями, он отдал Красному Флоту все свои знания и революционный долг.
Слушатель Казаков Константин, 28 лет... революционер, в числе первых поднявший оружие в защиту Советов. Он числился в первой десятке одесской Красной гвардии. Впоследствии участник многих боев с белогвардейцами. Он работал в отряде знаменитого Железнякова. Один из красных маршалов, посетивший на днях училище, рассказал, что Казаков вынес его из-под жестокого ружейно-пулеметного обстрела.
Слушатель Ушерович Моисей, 23 лет, также боец гражданской войны. Он не только участвовал в боях, но работал в подполье, в тылу у немцев, занявших революционную Украину.
Альтман Геральд, 19 лет, горел ярким огнем желания служить Республике и погиб за нее".
Кто видел в корабельном музее портрет Льва Андреевича Поленова, тот едва ли его забудет. Широкий лоб, большое, открытое лицо, в котором соединились интеллигентность и решимость, во взгляде - мысль. Пусть прочесть, разгадать эту мысль нельзя, но очень хочется представить себе, о чем думал в эту минуту Лев Андреевич.
Этот портрет запомнился мне, наверное, навсегда. В открытом лице угадывались внутренняя сила и душевная щедрость. И поселилось во мне желание узнать о Поленове больше, чем я узнал, и рассказать больше, чем рассказано в главах о грозовом феврале и победном октябре 17-го года.
Пожалуй, о каждом авроровце можно написать книгу, потому что крейсер шел по главному фарватеру века. Однако немногие так тесно, так органично связаны с "Авророй", как Поленов. С юных лет и до конца жизни. Даже смерть Поленова... Впрочем, не будем забегать вперед.
Лев Андреевич Поленов и сейчас как бы присутствует на Васильевском острове, в квартире сына. В высокой и просторной гостиной отсвечивают, поблескивают кортики, которые носил Поленов, на картинах и фотографиях дыбятся волны морей, по которым он плавал. Тут рисунки, этюды, полотна его друзей-маринистов и картины, писанные рукой самого Льва Андреевича.
На стенах - легкие парусники, гонимые ветром, мощные, громоздкие броненосцы, под которыми расступается свинцовая тяжесть осеннего моря, предгрозового, темного, сурового.
Сын Поленова, Лев Львович, тоже военный моряк, капитан I ранга, нахимовцем проходил практику на "Авроре". Он попытался сохранить в квартире все, как было при отце.
Когда-то, читая воспоминания Поленова, я выписал строку: "Как ласкает глаз вид морского простора". У истинного моряка, наверное, есть неодолимая потребность, чтобы и на земле все напоминало море, чтобы подойти к барометру, посмотреть, куда клонится чутко подрагивающая стрелка, и успокоенно отойти: погода будет!
В квартире сына - все об отце, все, что связано с его склонностями, привязанностями, морской службой. Тут даже стеньги с "Авроры", сбитые во время войны, и медные болты, оставшиеся после ремонта крейсера.
Что-то помешало Льву Андреевичу расстаться с ними! Лев Львович показывает большой лист ватмана, на котором родословное древо Поленовых. Все очень старательно вычерчено: глубокие корни уводят в петровские времена, когда Поленовы, служившие в Преображенском и Семеновском, воевали против шведов и турок; есть в давнем и славном роду ветви, напоминающие о выдающемся хирурге, создателе "Атласа операций на головном и спинном мозге", и выдающемся художнике, авторе "Московского дворика".
Может быть, судьба предрекала Льву Андреевичу путь художника?
На стене помимо кораблей разных времен - маленькая акварель. Рыжие сосны. Сквозные ветви. Густой воздух. Я не оговорился - есть ощущение густого, настоянного хвойного воздуха.
Эту акварель написал двенадцатилетний Лева Поленов.
- Да, - соглашается со мной Лев Львович, - живопись была второй страстью отца. Но первой его страстью, главной, всепоглощающей, было море. И зародилась она, эта страсть, как это часто бывает, в детстве...
С четырехлетнего возраста мальчик жил в Кронштадте. Все улицы выводили на синий простор. Тянулись в небо мачты кораблей, кричали чайки, и сам остров, на котором раскинулся город, казался порою плывущим. Кронштадтский собор в вечерних сумерках напоминал высокие башни линкоров.
Отец его служил в морском госпитале. Везде были моряки - на кораблях, на улицах, дома.
Толчок, потрясший душу маленького Поленова, произошел неожиданно. В Кронштадт из Филадельфии, где он строился, пришел крейсер "Варяг". На нем служил один из родственников отца. Долгие вечера заполнились рассказами о дальнем плавании, о достоинствах быстроходного, совершенного, лучшего в ту пору крейсера.
"А когда меня как-то взяли на крейсер, - пишет в своих воспоминаниях Л. А. Поленов, - и я побывал на самом "Варяге", он стал для меня еще ближе и, после родителей, казался наиболее дорогим существом. Быть может, здесь покажется странным, что неодушевленный предмет, сочетание железа и стали, может возбудить подобное чувство, но это так, и в этом-то, я думаю, и заключается та особая любовь моряков к своему кораблю, флоту, которая направляет людей на подвиги ради своего корабля, чести флага, достоинства Родины".
На долю семилетнего Поленова выпало провожать "Варяг", когда он уходил из Кронштадта на Дальний Восток. Жены, сестры, дети прощались с мужьями, с родными и близкими, не зная, что прощаются навсегда.
Крейсер отчаливал, разорвав объятия, а синяя полоса воды, как непреодолимая граница, разделила навеки тех, кто запрудил причал, и тех, кто усыпал палубы, вскарабкался на стройные мачты крейсера.
Гремел марш, в котором нерасторжимо слились высокая торжественность и горечь разлуки. А спустя несколько лет долетела из далекой дали трагическая весть о гибели" "Варяга".
"Я плакал и рыдал, как о смерти самого близкого человека", - запишет потом Поленов.
Воспоминания Л. А. Поленова, обогатившие эту главу действительными фактами из жизни "Авроры", хранятся в фондах корабельного музея и в домашнем архиве Л. Л. Поленова.
Вот, собственно, что определило жизненный путь Льва Андреевича. Достигнув совершеннолетия, он поступил в Морской корпус...
Пока я рассматривал этюды и картины, на столе и на диване появились кипы альбомов с открытками военных кораблей всех времен и всех рангов. В коллекции Льва Андреевича более сорока таких альбомов. Здесь зримая биография русского флота от гребных судов, от парусных фрегатов, от первой русской подлодки "Форель" до современных кораблей. Тут, конечно, и близкий сердцу Поленова "Варяг", эскадренный броненосец "Князь Потемкин-Таврический", и легендарный "Очаков", и, наконец, самая заветная открытка - трехтрубный красавец крейсер. Я сразу узнаю "Аврору". Очевидно, это первая открытка, посвященная прославленному кораблю. На ней надпись: "Аврора". Крейсер I ранга. Водоизмещение 6731 т. Цензура дозволила 3 марта 1904 г.
Открытка попала в альбом за десять лет до того, как Лев Андреевич Поленов, окончив Морской корпус, получил назначение на корабль, которому суждено было прославиться на весь мир.
Выйдя из гардемаринских классов, Поленов окунулся в бурную жизнь Балтийского флота: шла война с Германией. Так что "грамматику боя, язык батарей" молодой мичман постигал под огнем. А потом история раскрыла перед ним самую яркую свою страницу: октябрь 17-го. О ней рассказано в главе "Аврора" идет к Зимнему". В семейном альбоме Поленовых я неожиданно для себя обнаружил своеобразное дополнение к этой главе. Среди самых дорогих, сугубо личных фотографий, сделанных Львом Андреевичем, я увидел старый-старый, но хорошо сохранившийся снимок: Петроград. Колонны рабочих, солдат и матросов. Лавиной движутся они через восставший город. И крупным планом - плакат с лозунгом дня: "Вся власть Советам!"
Так личное слилось с общенародным. Видно, Лев Андреевич очень дорожил этим снимком. Не случайно в альбоме соседствуют портреты деда, отца, матери и запечатленное навсегда, выхваченное объективом в череде грозных событий мгновение из жизни клокочущего, революционного Петрограда...
И снова страницы альбома. И снова редкий снимок. "Аврора" без пушек, без якорей. Очень унылое и непривычное зрелище - боевой корабль без боевых орудий.
1918 год. Суровое и трудное время. В стране не хватает топлива. Нет возможности ремонтировать корабли. Правительство принимает решение: законсервировать их, поставить на долговременное хранение. До лучших времен.
В Кронштадте "на покое" оказалась и "Аврора".
Поленов, разумеется, не сидит без дела, он плавает на эскадренном миноносце "Изяслав", на гидрографическом судне "Самоед". Но душа его тянется к "Авроре". И в кутерьме той горячей, лишенной передышек жизни он выкраивает время, чтобы приехать в Кронштадт и сфотографировать свою "Аврору".
Поленов словно чувствует: разлука временная. И предчувствие не обманывает.
Великая держава не может жить без могучего флота. И как ни трудно, как ни велика разруха, как ни чудовищна бедность страны, пережившей опустошительную гражданскую войну, надо восстанавливать боевые корабли.
1922 год. По стране объявляют одну за другой "Недели Красного флота". На заводах проводятся субботники в "фонд флота". Рабочие отчисляют деньги из зарплаты, крестьяне - продукты.
V Всероссийский съезд комсомола решает взять шефство над Военно-Морским Флотом.
Короткое слово "Надо!" объединяет усилия миллионов.
В эту пору Льва Андреевича Поленова вызывает командующий флотом. Он поручает старому авроровцу принять командование "Авророй" и приступить к ее восстановлению.
- Учтите, - предупредил командующий, - никаких специальных средств на восстановление не будет, участие заводов исключено. Все делать придется своими силами.
Не было денег. Не было материалов. Не было людей. И над всем этим стояло железное, неумолимое, продиктованное жизнью НАДО!
В Кронштадте, в старой Военной гавани, в мертвенной неподвижности покоились корабли. Одни предназначались на слом и на разоружение, другим суждено было ожить: их ждало второе рождение.
Поленов шел вдоль Военной гавани, узнавая корабли, когда-то стремительные, грозные, вспарывающие волну, ощетиненные жерлами орудий. Что делает время даже с такими бронированными великанами!
Он постоял возле линкора "Парижская коммуна". Рядом с громадой линкора подводная лодка казалась маленькой скорлупкой, порыжевшей от ржавчины, с облезлыми пятнами краски. Подлодка жалась к борту линкора, словно просила защитить ее от тлена и смерти.
А вот и "Аврора". Никаких признаков жизни. Где ее слаженная, испытанная в боях и грозах команда?
Лев Андреевич вспомнил, сколько авроровцев сложили головы на воде и на суше, скольких разбросала жизнь по стране. Морякам-балтийцам без колебаний доверили важнейшие участки возрождения разрушенного хозяйства России... Поленов понимал: прежде всего предстояло определить масштаб работ по восстановлению "Авроры" и принять "законсервированный крейсер у Кронштадтского порта. Вместе с ним в чрево корабля спустились старые авроровцы: машинный механик Андрей Григорьевич Тихонычев и ревизор Трифон Наумович Максимов. Не спеша осмотрели они котлы и машины, рефрижераторное отделение, мастерские, сушилки, артпогреба. Дел предстояло невпроворот. Правда, главные машины были отремонтированы на Франко-русском заводе перед Октябрем. Тогда же заменили на "Авроре" котлы. Крейсер спешно хотели ввести в строй и, чтобы ускорить дело, установили на нем котлы, предназначавшиеся для царской яхты "Штандарт".
И все-таки ремонт и восстановление огромного корабля казались затеей почти нереальной. Без средств. Без помощи заводов. С командой в... четырнадцать человек.
Первые признаки жизни на крейсере появились, когда из круглых глазниц иллюминаторов выползли на свет божий изогнутые трубы буржуек. Из них по вечерам вырывался дым, вспугивая мрак морского "кладбища", вылетал рой искр. В каютах топили.
Вскоре к борту "Авроры" подошло посыльное судно "Коршун". Ему отводилась роль отопителя, своеобразного донора. Пар с маломощного "Коршуна" пустили в магистраль для отопления кормового отсека. Когда в трубах защелкало, когда запах горелой краски наполнил отсек, авроровцы поверили: кораблю возвращается жизнь. Выстуженное, холодное тело крейсера обрело тепло!
Первую радость поспешили омрачить первые морозы. За ночь гавань словно застеклили - она покрылась ледяной коркой. Минули еще день, другой, вслед за своей разведкой, за слабыми заморозками, зима двинула главные силы невиданно лютую стужу.
"Коршун" трудился день и ночь, но пара не хватало, вода в авроровском паропроводе, схваченная жестоким морозом, образовала ледяные пробки.
Андрей Григорьевич Тихонычев и его помощники работали без передышек. Факелы из пакли, смоченные керосином, яростный огонь паяльных ламп жарко лизали стылые трубы, отогревая их.
Проблема тепла была проблемой номер один. В ту зиму половина команды оказалась без обуви. Выйти на верхнюю палубу означало обморозить ноги.
Быт был трудный, приварок - скудный. В судовой баталерке хранились пшено, селедка и вобла, которую матросы прозвали "карие глазки". Стоило появиться коку, как сыпались колючие реплики:
- Что-то ты взмок, браток! Наверное, опять готовишь "карие глазки"?
И все-таки дело подвигалось. Пустили первый котел. Теперь уже не пар "донора" - свой пар побежал по трубам, свой огонь клокотал в топках.
Пополнилась команда. Лев Андреевич собирал авроровцев: снова пришли на борт своего корабля кочегарный старшина Киров, трюмный машинист Крючков, писарь Некрасов.
Убедившись в жизнеспособности команды, командующий разрешил взять на бывших царских яхтах "Штандарт" и "Полярная звезда" инструменты и оборудование. С яхт перекочевали на "Аврору" электроарматура, манильские тросы, высококачественные лаки и краски.
Торжественно и бережно пронесли в кают-компанию пианино, зеркально сверкающее черным лаком. На его блистающей поверхности отражались лица матросов.
Боцман Клочков на царском инструменте одним пальцем отбил мелодию "Интернационала".
Матросы улыбались: новое время - новые песни!..
23 февраля 1923 года - официальная дата второго рождения "Авроры". Об этом сообщила газета "Красный Балтийский флот":
"Флаг и гюйс поднять!"
Оркестр играет "Интернационал". На кормовом флагштоке "Авроры" развертывается ярко-красный флаг, на гюйс-штоке - пестрый гюйс.
"Аврора" подняла флаг!
"Аврора" снова в рядах пролетарского флота".
Ремонтные работы продолжались. Правда, крейсер покинул "кладбище" в Военной гавани, его перевели в док "трех эсминцев". Здесь предстояло привести в порядок гребные винты, кингстоны, подводную часть корабля.
На помощь команде пришли курсанты-комсомольцы - пополнение, откликнувшееся на призыв V Всероссийского съезда комсомола. В междудонных отсеках и в трюмах корабля стало многолюднее.
Однако каждый новый день рождал новые заботы. Поленов с боцманом Клочковым все чаще ходил на двойке по кронштадтским гаваням, выискивая недостающие для ремонта детали. Требование "все делать своими силами" оставалось назыблемым.
Немало хлопот выпало на долю Льва Андреевича из-за якорей. Надо было достать три становых якоря.
Но где?
Еще в 1916 году, когда "Аврора" шла из Свеаборга в Рижский залив для участия в десантных операциях, все, без чего можно было обойтись, сгрузили с крейсера. Оставили в Свеаборгском порту и запасной становой якорь.
Второй якорь оборвался в Неве и был потерян. Год спустя потеряли и третий якорь, когда крейсер вели на кронштадтское "кладбище".
Проблема казалась неразрешимой. Конечно, якоря могли изготовить на Ижорском заводе, но это потребовало бы длительного времени, а крейсер был близок к тому, чтобы поднять пары и выйти в море. Кроме того, оставался в силе приказ: делать все без участия заводов, без денежных затрат. Этот приказ был продиктован жизнью, общей обстановкой в стране.
Рейсы на двойке по кронштадтским гаваням ничего утешительного не принесли. И Лев Андреевич, как это не раз с ним бывало, когда он искал ответ на неразрешимый вопрос, принялся листать свои альбомы, на страницах которых был представлен весь русский военный флот.
"Вдруг я наткнулся на фотографию крейсера "Богатырь", входящего в ворота Кронштадтской гавани, - вспоминал годы спустя Поленов. - Якорь у него был поднят под клюз и сразу бросился в глаза. Я знал, что крейсеры "Богатырь" и "Олег" одного типа. "Богатыря" в тот момент уже не было, но затопленный у Кронштадтского фарватера "Олег" должен был иметь такие же якоря. Этот крейсер по водоизмещению примерно такой же, как "Аврора". Тогда у меня и возникла мысль: нельзя ли попробовать снять якоря с потопленного "Олега"?"
В Кронштадтском порту Лев Андреевич разыскал чертежи и схемы "Олега". Вес якоря - 275 пудов, вес якоря на "Авроре" - 276 пудов. Выход был найден!
Водолазы в тяжелых скафандрах опустились на дно. Заскрипели лебедки, нагнули свои стальные шеи краны. Зеленый от водорослей, в чешуе налипших ракушек, из воды показался якорь...
8 июня 1923 года выдалось солнечное утро. Розовые полосы восхода легли на море. Под легкими порывами ветра по водной глади пробегала рябь.
На мостик "Авроры" поднялся командир крейсера. Возрожденный корабль уходил в плаванье...
Эту страницу из жизни "Авроры" воскресила небольшая фотография из семейного альбома Льва Андреевича Поленова.
Мой рассказ о первом в советские годы командире прославленного корабля мог бы быть продолжен, но я не пишу биографию Поленова. Я взял лишь несколько эпизодов из большой жизни Льва Андреевича, подсказанных фотографиями. Эти эпизоды - частица истории "Авроры". И личное от всенародного отделить тут невозможно.
Вот и теперь смотрю я на цветные эскизы, слушаю комментарии Льва Львовича:
- К десятой годовщине Октября "Аврору" наградили орденом Красного Знамени. Это был первый из кораблей Военно-Морского Флота, удостоенный такой награды.
В то время краснознаменного флага не существовало, и каким он должен быть, никто не знал.
Отец решился разработать эскиз флага и предложил свой эскиз командованию. Командование эскиз одобрило. Ждать, пока изготовят флаг в мастерских, не было возможности. Пришлось рисовать ордена масляными красками на белых кусках флагдухов, а потом вшивать их в полотнище кормового и гафельного флагов.
К торжественной церемонии все было готово!
Покидая квартиру на Васильевском острове, я вспомнил, что отсюда, от заводской стенки Васильевского острова, в ноябре 1948 года "Аврора" ушла в свое последнее плавание - к месту вечной стоянки. В этом плавании участвовал и Лев Андреевич Поленов. Два тяжелых инфаркта, перенесенных им, не смогли помешать ему взойти на борт корабля.
"Аврора" стала его судьбой, его жизнью. И вопреки уговорам врачей, вопреки недугам, жестоко терзавшим его, он всегда находил в себе силы, чтобы рассказать об "Авроре" в рабочей, в молодежной или в военной аудитории. Так было и в тот, последний раз.
В ноябрьские дни Льва Андреевича пригласили к себе пионеры. Долгими рукоплесканиями приветствовали они известного авроровца. Рядом с боевыми орденами заалел галстук почетного пионера.
Лев Андреевич был взволнован. Он рассказывал, и вся жизнь проходила перед ним: и выход "Авроры" к Зимнему, и второе ее рождение, и первые заграничные походы, и... Внезапно рассказ его оборвался. Он прижал обе руки к груди, словно хотел зажать комочек сердца своими ладонями, но опоздал. Он упал, будто настигли его осколки и пули трех отгремевших войн, в которых он участвовал.
Гроб с телом Льва Андреевича, сопровождаемый многотысячным кортежем, установили на Петроградской набережной. На борту "Авроры" замерла в траурном безмолвии команда крейсера. Дрогнули трубы оркестра. Дрогнул приспущенный флаг.
Жизнь военного моряка Лев Андреевич начал на "Авроре". Без малого полвека спустя "Аврора" проводила его в последний путь.
Окно в Европу
Рассказывает контр-адмирал А. И. Дианов.
Нас провожали очень торжественно. В Лужской губе "Аврора" и "Комсомолец" медленно прошли вдоль линии кораблей Балтфлота. От корабля к кораблю, то угасая, то нарастая, перекатывалось "ура". Команды, выстроенные на верхних палубах, приветствовали и напутствовали нас.
На флагмане "Марате" взметнулся сигнал: "Желаем счастливого плавания и благополучного возвращения".
Все мы ждали этого дня, готовились к нему, а когда настал момент расставания, что-то кольнуло в груди. Позади остались дымки эскадры, а впереди была морская даль.
Конечно, моряк на то и моряк, чтобы плавать, а все-таки не оставляла мысль: с начала первой мировой войны русские военные корабли не выходили за пределы Финского залива и Балтийского моря. В иностранных портах ни разу не видели советских военморов. Нам предстояло быть первыми.
Мне в ту пору исполнилось двадцать два года. В нынешнее время мой ровесник жизнь только начинает. Окончил, к примеру, техникум или институт, делает первые самостоятельные шаги.
Я себя начинающим не чувствовал. Как-никак, за спиной гражданская война. Воевал с белоэстонцами, с бандами Булак-Балаховича и Махно, прошел пехотинцем от Синельникова до Перекопа. Словом, знал цену и солдатскому сухарю, и последней обойме, и последнему глотку воды во фляжке. Бывало, перед тобой Сиваш с мертвой водой, а ты лежишь под огнем, не зная, от чего скорее погибнешь: от вражьей пули или от смертельной жажды.
Оба брата моих на флоте служили. И меня подначивали:
- Хватит обмотки навертывать. Давай к нам, моря покорять!
Братьям я не внял, а на призыв комсомола откликнулся. В шестнадцать лет стал я комсомольцем, в семнадцать - членом партии, и привык: раз надо значит, надо! Пошел добровольцем на флот.
В июле 24-го, когда с командирского мостика прозвучала команда: "По местам стоять! С якоря и со швартовов сниматься!", морским волком я еще не был. Но худо-бедно два года на флоте отслужил, на морских ветрах просолился, к дальнему походу был готов и телом, и душой.
К тому времени назначили меня политруком машинной команды. Не только головой понимал я - каждой клеточкой чувствовал, какая ответственность на мне лежит. И любой военмор понимал: идем в зарубежные страны, впервые советский флаг несем в чужие воды. По мне, по тебе обо всей стране судить будут!
И конечно, символично было, что Страну Советов представлять за рубежом поручили "Авроре" - крейсеру, возвестившему начало новой эры. С нами шло учебное судно "Комсомолец". На борту его - курсанты, будущее нашего флота. Им предстояло, как тогда говорили, "оморячиться" - получить закалку, отработать навыки в трудном, почти шеститысячемильном походе вокруг Скандинавии.
Пока буржуазные газеты на все лады трубили, что Советская Россия осталась без флота, что в стране анархия и развал, мы серьезно и упорно готовились к походу: не на страх, а на совесть постигали морское дело, на досуге кое-кто языки изучал, в судовой библиотеке чаще, чем обычно, книги норвежских писателей брали, Ибсена, например, или читали о странствиях Амундсена и Нансена, в салоне музыка Грига звучала.
Перед выходом погрузили большой запас угля. Наш военмор и летописец Миротин на этот счет говорил: "Угольная пыль въелась под глазами, словно они подведены, как у цирковых наездниц".
Вся команда участвовала в угольной погрузке, все действительно были черны как черти, но мы понимали: во-первых, страна не располагает лишней валютой, чтобы покупать уголь за границей, во-вторых, не хотели зависеть от прихотей буржуазных государств. От них можно было ждать любых сюрпризов!
После погрузки палубу выторцевали, пролопатили, она сверкала, продраенная песком, промытая водой, и привередливый боцман мог белым платком ткнуть в любое место палубы - не придраться! Платок остался бы белоснежным.
Покраска так омолодила корабль, что, если взглянуть на него со стороны, никто не поверил бы, что сотни снарядов терзали тело его под Цусимой, что два десятилетия бороздит он моря и океаны.
Гордая красавица наша "Аврора" снова была молода, стремительна, исполнена грации, присущей кораблям этого типа.
"Смотри, заграница, во все глаза, - думал я про себя, - вот мы какие! А ты трубишь, что в России нет флота..."
Вышли из Финского залива. Желтовато-серая вода сменилась синевато-зеленой, морской. Потянул ветер, закурчавились белые барашки.
Встретили итальянский линейный корабль "Карло Мирабелло". Отсалютовали. Это был, кажется, первый визит иностранного военного судна в наши воды без захватнических целей.
Впереди возник остров Готланд. По мере приближения он словно подымался из воды, становясь все больше и больше. Как на фотобумаге, брошенной в проявитель, прорезались ленты дорог, трубы заводов, темная щетина леса, светлые пятна пашен, мельницы с широкими крыльями, рыбачьи лодки на прибрежной полосе, похожие на большие черные ракушки.
А на кораблях шла будничная жизнь. В шесть - побудка, до семи вязание и уборка коек, в восемь - подъем флага, потом учение, вахты. Вахты были на юте и на баке, гребцы дежурили у спасательных шлюпок.
Самая трудная вахта - штурманская: четыре часа на открытом мостике, нередко под дождем, под шквальным ветром.
Отрабатывали спуск паровых и гребных судов. Чередовались тревоги боевая, пожарная, водяная.
Распорядок строго соблюдался. О том, что рейс необычный, ничего, собственно, не говорило. Исключение составлял лишь корабельный оркестр, разучивавший норвежские, датские и шведские гимны.
Музыканты часто сбивались, слышалась команда: "Отставить!" И все начиналось сначала. Слушая, как репетируют оркестранты, я про себя невольно отмечал: "Готовимся"...
И еще я заметил одну особенность, которую прежде не замечал. В плавании обычно у всех забот полон рот, некогда предаваться созерцательности. А сейчас, как выдастся свободная минутка, тянет на палубу, хочется поглядеть, какие по курсу встают острова, видны ли лоснящиеся спины тюленей, провожают ли нас крикливые чайки.
Я родился и детство провел в деревне Писковичи на Псковщине, вырос, как говорится, на природе. Встречал в поле восходы, росная трава омывала ноги, ходил в ночное, слышал шелест летучих мышей, крик филина, видел падающие звезды.
Это стало привычным, примелькалось. А море всегда неповторимо. Утром одно, днем - уже другое, вечером - не похожее на дневное, а следующим утром оно опять неузнаваемое...
Может, такое восприятие зависит от общей настроенности? Не знаю. Но где-то близ острова Эланд я видел, как в небе отражаются плывущие парусники, невесомо-легкие, скользящие, как привидения. Померкло солнце, и этот мираж растворился в воздухе.
Проходя мимо датского острова Борнхольм, я не мог оторвать глаз от развалин какого-то замка на горе. Зубчатые башни, глухие стены. Не хватало рыцаря в средневековых доспехах.
Когда вошли в пролив Каттегат, взыграли буруны, заштормило.
Мы и до этого были наслышаны, что пролив изрезан рифами, изобилует песчаными мелями, опасен сильными течениями, непогодой. Нас не минула чаша сия.
Завыл, ударяя внахлест, ветер. Вздыбились волны. Одна высокая, а вторая еще выше. Через палубу перекатываются. Водяная пыль столбом. А на соседнем "Комсомольце" после взлета на волне из якорных клюзов течет вода. Шум, плеск, грохот.
Задраили иллюминаторы. На верхней палубе протянули штормовые леера. На полубаке - не устоять, а в отсеках, в кубриках, в машинном отделении ох как муторно.
Я первый раз в настоящий шторм попал. Креплюсь, конечно, но на душе паскудно, и ребята хоть и держатся, однако лица не то что бледные - зеленые стали. Верно говорят: лицо что зеркало - все отражает.
К нам в отсек комиссар крейсера Утенкин пробрался. Ясное дело - от шторма и комиссар не застрахован, бледен, однако улыбается и нас, грешных, подбадривает:
- Не дрейфь, военморы! Говорят, у скандинавов вдоль берегов спасательных станций не счесть.
Представьте, сработала шутка, заулыбались ребята. И сам я почувствовал себя лучше, вспомнил словечко "оморячиваемся"...
Ночью прошли Скагеррак. Слева - Дания, справа - Норвегия. Пролив - как пограничная улица. А на рассвете ждала нас встреча с Бергеном.
Фиорд то открывал синюю дорогу крейсеру, то громоздил на пути отвесные, хищно зазубренные скалы. Временами казалось, что нос корабля вот-вот врежется в каменистую преграду, но в последнюю минуту фиорд словно распахивал ворота, и "Аврора" медленно скользила по воде.
Плыл крейсер, плыли тени его мачт по берегу, подступившему почти вплотную, плыл навстречу город, раскинувшийся на семи возвышенностях. Горы ушли в облака, а дома хаотически громоздились друг на друга - так, по крайней мере, казалось, потому что улицы не были видны.
На мачте "Авроры" взметнулся норвежский флаг, прогремел двадцать один выстрел - салют наций.
Я хорошо помню этот момент. В воздухе запахло дымом. Наступила напряженная тишина ожидания: ответят норвежцы или нет?
Старинная крепость Бергенгус - насупленно-мрачная, толстостенная, мощная - молчала.
Минули две, три минуты. Долгие. Скребущие душу. И вдруг замелькали вспышки - раскатисто и гулко грянул ответный салют.
А через минуту мы увидели, что по фиорду, весело расплескивая воду, к нам спешит маленький пароходик, расцвеченный флажками, и среди людей, жмущихся к борту, стоит женщина с большим букетом красных роз.
- Коллонтай! - кто-то выдохнул у меня за спиной. - Коллонтай!
Тогда это слово было для меня новым и непонятным, потом уж я узнал, что женщина с розами - Александра Михайловна Коллонтай, полпред нашей страны в Норвегии, известная революционерка, соратница Владимира Ильича Ленина.
Маленький пароходик вплотную подошел к борту "Авроры".
- Здравствуйте, товарищи! - услышали мы женский голос.
Александра Михайловна, кажется, сказала еще что-то, но я уже ничего не слышал - грянуло "ура". С пароходика протяжное "у-р-а-а-а" перекатилось на крейсер, а минуту спустя его подхватили на берегу.
Норвежцы повторяют "ура" восемь раз. И восемь раз аукалось эхо. Спящий город, разбуженный залпами салюта, приветственными возгласами на многолюдной набережной, окончательно проснулся и двинулся к морю.
По парадному трапу Александра Михайловна Коллонтай поднялась на борт, прошла на кормовой мостик и обратилась с речью к авроровцам.
Конечно, воспроизвести эту речь мне трудно, пожалуй, невозможно. Я лишь помню, что говорила Александра Михайловна зажигающе-горячо, глаза ее излучали свет.
"Орлы Революции! - подавшись вперед, обратилась к нам Коллонтай. Впервые в истории человечества флаг Страны Советов развевается в сердце капиталистического мира".
Снова гремело "ура", гремел "Интернационал", и слышали его тихие воды фиорда, старинная крепость Бергенгус, и норвежские скалы, и сами норвежцы, толпившиеся на набережной, и шведы, датчане, немцы, специально приехавшие в Берген, чтобы посмотреть на большевиков.
Сейчас, с высоты прожитых лет, та первая встреча с Бергеном отодвинулась далеко-далеко, я вижу ее словно из другой эпохи. Многое, наверное, забылось, потесненное новыми событиями долгой жизни, но многое помнится так четко, будто это было вчера.
Я не берусь соединить минувшее в стройную систему, в памяти всплывают отдельные эпизоды, поразившие тогда меня, двадцатидвухлетнего военмора.
Сразу могу сказать, что самое сильное впечатление в нашем многодневном дальнем походе - встреча с Бергеном. Может быть, потому, что он оказался первым зарубежным городом, на землю которого я ступил. Впрочем, и норвежцы по-особому гордятся Бергеном.
Кто читал книгу Геннадия Фиша "Скандинавия в трех лицах", возможно, обратил внимание на такой отрывок. В одной из школ Осло учитель спросил новичка, как его зовут, сколько ему лет, чем занимаются родители. На все вопросы мальчуган охотно ответил. Но на вопрос, из какого города он приехал, как ни бился учитель, мальчик не ответил. Когда все школьники разошлись по домам, он сам подошел к учителю.
- Я из Бергена.
- Почему же ты сразу не ответил?
- Еще скажут - хвастается...
Как видите, бергенцем в Норвегии быть почетно. И поэтому нам вдвойне было приятно, что встретил нас Берген с трогательным радушием.
Поначалу официальные власти проявляли настороженность. Когда наш командир Лев Андреевич Поленов поехал к коменданту города договариваться о порядке увольнения на берег и назвал, сколько матросов и курсантов с "Авроры" и "Комсомольца" будут уволены, комендант взмолился:
- Что вы, что вы! Да они разнесут наш маленький Берген.
У коменданта был горький опыт: в порт заходили английские и американские моряки, было их немного, но от их пьяного разгула, драк и скандалов город буквально лихорадило.
- У нас это исключено! - убежденно заверил коменданта наш командир.
И слова его оправдались...
Что же осталось в моей памяти, не стертое временем?
Цветы. Море цветов.
"Аврору" буквально окружили ялики, лодки, парусники, яхты. Нам бросали цветы. Не все долетали, вода стала красной от плавающих гвоздик. Я, кажется, никогда ни раньше, ни после не видел столько цветов!
Наш катер, отчаливший от "Авроры", встретил в фиорде катер, плывший к нашему кораблю. Нам протягивали десятки рук, братское рукопожатие оказалось настолько сильным, что катера не могли отойти друг от друга. Кто-то запел по-русски "Интернационал", норвежцы подхватили по-норвежски.
В катере, как потом выяснилось, плыли портовые рабочие. Перед нашим прибытием они провели забастовку и вышли из нее победителями.
Набережная. Встречающих - не счесть. Снова восьмикратное "ура". Один норвежец, очень нарядно одетый, так увлекся, что плюхнулся со стенки причала в воду. На поверхности - фетровая шляпа, потом вынырнул ее хозяин и, вскарабкавшись на стенку, как ни в чем не бывало, опять принялся кричать "ура".
Сколько я слышал рассказов и анекдотов о сдержанности скандинавов, а бергенцы разом их опровергли!
На "Аврору" началось паломничество. Рабочие по-братски обнимали нас. Глаза их светились счастьем. Мы ожидали увидеть пролетариев в куртках и кепках, а они оказались в костюмах, с аккуратно повязанными галстуками, в фетровых шляпах.
С явным интересом рассматривали корабль деловые люди - финансисты, коммерсанты. Чувствовалось, прощупывают: какие они, русские, будет ли толк в контактах с ними?
Гостей решили угостить, но выяснилось - парадной посуды на корабле мало. Не потчевать же из мисок! Комиссар посоветовался с Александрой Михайловной, кто-то из работников посольства с тремя матросами отправился в город за посудой.
А пока, чтобы занять гостей, к пианино сел наш военмор Борис Павлович Хлюстин. Как он играл! Пальцы его порхали по клавишам. Пианино, снятое с царской яхты "Штандарт", привлекало гостей не только божественными звуками, но и своей изысканной формой и отделкой.
Наш командир танцевал с Александрой Михайловной. Норвежцы восхищенно следили за танцем. Лев Андреевич Поленов вел уверенно и легко, Александра Михайловна была исполнена грации, казалась невесомой, никому и в голову не могло прийти, что за плечами у нее более чем полувековой жизненный путь.
Какая-то старушка останавливала на палубе одного за другим наших военморов и удивленно разводила руками: "Неужели это большевики? Они похожи на нормальных людей".
Гости заполнили крейсер. Счастливчики привинчивали к лацканам пиджаков значки с профилем Ленина, с кремлевскими башнями. Заядлые курильщики учились свертывать самокрутки с махоркой, у них не получалось, махорка просыпалась, попадала в рот. И угощающие и угощаемые весело смеялись.
Всегда было людно на камбузе. Охотников отведать русские щи и макароны по-флотски оказалось немало, а любителей нашего ситного хлеба - еще больше. Корабельная пекарня не успевала выпекать горячий, с подрумяненной корочкой ситный!
На крейсере царила атмосфера доброжелательности. И в городе - тоже. Повсюду мелькали черные ленты бескозырок: на знаменитом рыбном рынке, к которому подплывают мотоботы и прямо на мокрые прилавки сгружают живую, бьющую упругими хвостами и сверкающую серебром чешуи рыбу; на глухих улочках и шумных площадях; в скверах с широколистыми каштанами и раскидистыми липами, словно перекочевавшими сюда из России; на фуникулере, медленно ползущем вверх, на самую высокую бергенскую гору - Флоен; на Ганзейской набережной, чьи дома с островерхими крышами замерли у самой воды.
Наших моряков окружали, завязывали с ними дружеские беседы, обменивались сувенирами, показывали свой, единственный в мире Берген, провожали в гавань.
На стадионе моряки и курсанты играли с норвежцами в футбол, стремительными атаками завоевывая сердца бергенцев; в Нюгардспарке выступали наши ансамбли. "Барыня" и "гопак" заражали зрителей и слушателей задором, удалью, безудержным весельем.
Даже строгие, невозмутимо спокойные, как на подбор двухметроворостые полисмены при виде наших моряков степенно улыбались...
Мимо внимания бергенцев не прошло и то, что военморы посетили музей Трольдхауген - двухэтажный белый дом над озером, где жил Эдвард Григ. И не просто посетили - приехали с цветами, подарили музею русское издание "Лирических пьес" Грига.
Военморы долго бродили по усыпанным галькой дорожкам, по которым бродили гости Грига - Ибсен и Бьёрнсон, вглядывались в заросли лесного шиповника и можжевельника, из которых, по преданиям, по ночам выходили волшебные тролли.
Норвежцы поняли и почувствовали: русские хотят ощутить аромат земли, аромат норвежского фольклора, питавших творчество их любимого композитора.
И конечно, с ревнивым восхищением отнеслись норвежцы к мореходному искусству наших командиров.
Флагманский штурман Дмитриев, вопреки традициям, давно существующим в территориальных водах скандинавских стран, провел корабли по хитросплетениям фиордов без лоцманов, успешно прошел все рифы и мели.
Перед выходом из Бергена надо было пополнить запасы топлива на "Авроре". "Комсомолец" с таким искусством, так виртуозно развернулся и ошвартовался бортом к крейсеру, что толпа, наблюдавшая за этим маневром со стенки причала, восторженно зарукоплескала.
Не так-то просто заслужить аплодисменты у потомственных мореходов!.. Покидая Берген, мы оставляли в городе тысячи новых друзей. В маленьких красных домиках, прилепившихся к скалам, вывесили норвежские флаги. А в корабельной книге отзывов появилась такая запись:
"Октябрь, Ленин, "Аврора" - мы с вами навсегда".
Вторым городом Норвегии, который мы посетили, был Трондгейм. Опять мы увидели цепи гор, увенчанные облаками, лесистые склоны, бессчетную флотилию лодок, встречающую нас.
Едва заиграли оркестры на "Авроре" и "Комсомольце", на десятках лодок в тон оркестрам откликнулись норвежские гармонисты. Было такое впечатление, будто озвучены музыкой и скалы, и вода фиорда, и сам воздух...
Дни, проведенные в Трондгейме, по насыщенности, пожалуй, не уступают дням, проведенным в Бергене. О них много писали норвежские газеты.
"Память - штука хорошая, - как-то сказал мне один историк. - И все-таки документ не имеет конкурентов, он как посланец того времени, которым мы интересуемся".
В музее "Авроры" хранится "посланец того времени" - газета норвежских коммунистов за 14 августа 1924 года.
Я приведу лишь несколько отрывков из этой газеты: "Вчера в Трондгейме состоялся коммунистический праздник. 300 молодых коммунистов Красного флота были приглашены на товарищеский вечер... Посетителей было так много, что и в два раза больший зал оказался бы малым. Но все уладилось, и теснота была встречена с теплым юмором.
Что могли мы предложить гостям? Музыку? Русские сами играли лучше и больше нашего. Пение? Хор рабочих пел великолепно, но импровизированный большой хор русских с каким-то волшебником в роли дирижера дал превосходный, единственный в своем роде концерт. Казалось, что каждый из них является певцом куплетов и частушек. Они пели испанские романсы и украинские песни. Они представили сатиру на буржуазию с таким мимическим талантом, что все поняли ее смысл. Они играли на пианино, на всех других инструментах. Они танцевали соло... Иными словами, они имели небывалый успех". "Рабочие и коммунисты Трондгейма, коммунистическая молодежь Трондгейма горды видеть в своих рядах представителей революционной России моряков Красного флота. Мы не только гордимся вашим посещением, мы хотим поклясться вам, что мы не только на празднествах, но и в боях будем вашими братьями и товарищами.
Ваши враги являются нашими врагами. Ваша победа - наша победа".
Читаешь эти строки, смотришь на старую фотографию рабочего клуба с длинными галереями, уходящими под сводчатый потолок, с огромным залом, где негде упасть яблоку, и думаешь: не зря мы плыли сквозь штормы, мимо коварных рифов и отмелей. Честное слово, не зря!
Командир "Авроры" Лев Андреевич Поленов не раз повторял свой любимый афоризм: "Чтобы флот был здоровым организмом, ему надо дышать морем".
В первом заграничном походе мы вволю надышались морем, как говорили тогда, "сплавались". Когда год спустя, летом 1925 года, "Аврора" и "Комсомолец" снова отправились в плавание вокруг Скандинавии, мы уже чувствовали себя бывалыми моряками. Даже сильный шторм не вызывал прежних острых ощущений.
Штормит - на то оно и море. Будничная, спокойная реакция!
Морская экзотика - ее было немало в этих походах - тоже не вызывала былого удивления. Привыкли и к фиордам, которые острым лезвием разрезали скалистые берега, и к двадцатиметровым гигантам кашалотам, выбрасывавшим фонтаны воды, и к магнитной аномалии близ острова Борнхольм, когда картушки на компасах начинали вертеться во все стороны, и даже к тому, что в Ледовитом океане солнце садилось в полночь и, едва коснувшись горизонта, начинало подыматься, щедро разбрызгивая свои лучи.
Распорядок дня на кораблях по-прежнему был строг и плотен: учения, вахты. Выкраивали время и для досуга. Особенно любили военморы и курсанты спортивные игры, где получали выход их энергия, их удаль, ловкость, сноровка.
Бой подушками, бег в мешках, перетягивание канатов - эти игры проходили бурно, горячо, азартно.
Шумно чествовали тех, кому удавалось пробежать по палубе или быстро взбежать по трапу, держа в руке ложку с куриным яйцом...
Я вспоминаю эпизоды, факты, оставившие в душе приятный след. Не случайно говорят, что хорошее остается, а плохое забывается. Однако мне не хотелось бы, чтобы создалось впечатление, будто все и всегда было у нас гладко, без сучка и задоринки, что повсеместно нас ждали цветы и музыка. Да, цветов дарили нам много, но были и колючки.
В Бергене или Трондгейме - точно сейчас не помню - группа наших моряков вошла в кафе, расписанное маринистами, чтобы выпить по чашечке кофе. Кучки белоэмигрантов, сбившись в угол, затянули "Боже, царя храни".
Моряки покинули кафе.
В одной из норвежских газет, помню, на полстраницы дали снимок: наш военмор поднял над головой счастливо улыбающегося мальчонку. Я сам был при этом и подарил юному норвежцу, не отходившему от нас ни на шаг, золотой якорек. А в газете под фотоснимком поместили подпись: "Советская обработка начинается с этого..."
Во время второго заграничного похода мы пережили неприятные минуты, подходя к шведскому городу Гётёборгу. Соблюдая традиционный ритуал, мы подняли на грот-мачте шведский флаг - голубое полотнище, пересеченное желтым крестом, и под звуки шведского гимна произвели салют наций двадцать один выстрел.
На наш салют ответила салютом батарея с острова Свинхольм, однако советский гимн "Интернационал" исполнен не был. Потом уж мы узнали, что шведское правительство на специальном заседании решило "Интернационал" не исполнять "ввиду отсутствия в крепости оркестра".
Нейтральное шведское правительство оказалось не таким уж нейтральным по отношению к Стране Советов. Даже буржуазная газета "Гётеборг постен", стремясь быть объективной, писала:
"Конечно, официальные политические воззрения теперешней России нам абсолютно чужды, но из этого никоим образом не следует, что, если представители этой России, с которыми мы связаны нормальными международными отношениями, наносят нам достойным образом визит, мы должны демонстрировать нашу разницу во взглядах путем невежливости в отношении этих представителей. Подобное поведение некрасиво, неуместно и с национальной точки зрения недостойно. Как люди, русские граждане, доколе их поведение безукоризненно, имеют право на такой же хороший прием, как и любой другой народ. Если же они его не встречают, то стыдно должно быть только нам".
Как ни пыжились, как ни пытались отравить атмосферу нашего визита некоторые буржуазные деятели, им это не удалось. Высокое достоинство, которое отличало наших моряков, их встречи со шведами в Гётеборге и на корабле, выступления наших ансамблей и спортсменов, весь уклад наш - все это быстро растопило лед отчужденности.
Многое из того, что нам кажется обычным, естественным, шведов буквально ошеломляло.
В саду Лиссеберг был устроен товарищеский обед, на котором за одним столом оказались посол, красный адмирал, как выражались шведы, командный состав и рядовые военморы.
Во многих газетах обсуждался этот, как там казалось, из ряда вон выходящий факт: рядом, на равных, сидят за столом и обедают красный адмирал и рядовой военмор, кочегар или машинист...
К счастью, шведские судостроители, ткачи, машиностроители, моряки, докеры отлично нас поняли и полюбили. Прощаясь, вслед нам глядела не только знаменитая скульптура женщины с всклокоченными ветром волосами, венчающая пятидесятиметровую башню-колонну, - "Жена моряка", вслед нам глядел весь трудовой Гётеборг. Даже могучие полисмены в белых брюках и черных мундирах с бесчисленными пуговицами потонули в многолюдье толп. А по воде, как и в Норвегии, нас провожали тысячи лодок и катеров.
Победила, как сейчас говорят, дружба. Второй заграничный поход, как и первый, прошел успешно.
В Лужской губе наш отряд встретили боевые корабли. Оркестры грянули встречный марш. Член Реввоенсовета и начальник политотдела Балтийского флота, старый авроровец, участник октябрьских событий на крейсере Петр Иванович Курков поздравил нас с благополучным плаванием и объявил личному составу благодарность.
Мы подходили к родным берегам, узнавали их очертания, маяки, прибрежные постройки. У меня, как, наверное, и у других моряков, сладко защемило сердце: мы - дома!
Эрнст Тельман - почетный авроровец
В тот день на "Авроре" ждали гостей - делегатов VI конгресса Коминтерна, приехавших из Москвы в город на Неве. Гости запаздывали. Взрыв радости ленинградцев был таким бурным, что протокольный регламент нарушился, делегатов подолгу не отпускали.
Появились гости внезапно, настолько внезапно, что вахтенный на трапе корабля, не успев подать сигнал, оказался в объятиях могучего мужчины в синей фуражке с высокой тульей и округлым козырьком. Его стальные руки стиснули вахтенного, а лицо озарилось широкой улыбкой.
Вахтенный знал по портретам и это лицо, и эту фуражку, но все-таки растерялся и очень смутился, такой оборот не был предусмотрен уставом, да и как не растеряться, если снискавший мировое признание человек заключает тебя в объятия.
Тельман не взошел, он взбежал по трапу. Темный пиджак был распахнут, ворот белой сорочки расстегнут и обнажал упругую мускулистую шею.
Трап подрагивал и покачивался, но это, видно, не смущало Эрнста Тельмана. Он и по палубе шел хотя и твердо, но немного враскачку, как ходят люди, познавшие круговерть штормов.
Не все тогда знали, что в юности Тельман ходил на пароходе из Гамбурга в Америку, был помощником кочегара, работал и портовым грузчиком, взваливая на свои литые плечи немалые грузы.
Когда он поднялся на командирский мостик и снял фуражку, все увидели его большую бритую голову и высокий лоб, его светлые, обращенные к краснофлотцам глаза, его резко очерченный волевой подбородок и косую складку, идущую от носа к сомкнутым губам.
От всего облика Тельмана веяло силой, неизбывной энергией, а мощно посаженная бритая голова придавала его атлетической фигуре скульптурность.
Он протянул к краснофлотцам руку, не успел и слова вымолвить - палуба взорвалась рукоплесканиями: так ждали его, так любили, так быстро, едва взойдя на трап, покорил он видавших виды авроровцев.
Объяснить популярность Эрнста Тельмана среди моряков и легко и сложно. Его колыбелью был портовый Гамбург с лесом мачт у причалов, с длинными шеями стальных кранов, с вечной перекличкой пароходных гудков и боцманских дудок, с поскрипыванием лебедок, с холодным блеском лоснящейся жирными пятнами Эльбы.
Причастность к морю влияла, наверное, на симпатии краснофлотцев, но важнее было другое: перед ними стоял вождь пролетариев Германии, которые вели тяжелые классовые битвы.
Летом 1928 года, когда Тельман приехал на "Аврору", еще свежи были в памяти наших соотечественников легендарные дни Гамбургского восстания. Готовясь к приему гостя, многие на корабле перечитали очерки Ларисы Рейснер "Гамбург на баррикадах" - горячий репортаж с места событий, из города, на стенах которого "героические царапины, белые воронки от пуль...".
Возглавил это восстание Эрнст Тельман. Бои в Гамбурге были сродни боям на Красной Пресне, чьи уроки наверняка учел Тельман.
Крупнейший город Германии вздыбился баррикадами. Каждое окно стало бойницей, каждый дом - крепостью. Мертвенно-тихие подвалы и чердаки внезапно оживали, озаряясь рыжими вспышками выстрелов.
Полицию и войска поддерживали броневики. Но путь им преграждали баррикады, а удары восставших обрушивались то с тыла, то с флангов.
Рабочие отряды, вооруженные винтовками и пистолетами, захваченными у полицейских, пробирались канализационными туннелями под землей, карабкались, как по скалам, по шатким карнизам домов, возникали там, где их не ждали. Часами войска и полиция вели остервенелый огонь по пустующим баррикадам, не подозревая, что удар нанесут им с тыла - обескураживающий, стремительный, как порыв ветра.
Когда пришла необходимость прекратить борьбу, рабочие отряды скрылись, сохранив оружие, сохранив чувство моральной победы и готовность в нужный момент вновь поднять знамя восстания.
Эту гибкую тактику уличных боев разработал и осуществил Эрнст Тельман.
Полиция его искала. Его хотели схватить, заточить в каземат, а он в день похорон героев восстания появился на Ольсдорфском кладбище и обратился к товарищам по борьбе с речью.
И снова полиция пыталась его схватить, но многотысячная толпа рабочих растворила его, скрыла и не отдала...
Популярность Тельмана среди моряков была, конечно, естественна и закономерна. Она еще больше возросла, когда авроровцы увидели и услышали вождя немецких пролетариев, когда он прошел по их кубрикам, по машинным отсекам, беседуя с кочегарами, машинистами, комендорами.
Еще живы старые авроровцы, которые помнят, как принял Тельман форму краснофлотца, с какой нежностью, словно на любимых детей, смотрел на молодых моряков, избравших его почетным членом своей команды.
Несколько минут он стоял молча. Его большие, сильные пальцы гладили шершавую поверхность тельняшки, прочерченной белыми и синими полосами. Глаза его стали задумчивыми. Быть может, в эти минуты он думал о своих соотечественниках из Гамбурга, Берлина, Дрездена, о тех испытаниях, которые ждут их на пути к свободе?
Эти раздумья, эти мысли прорвались, хлынули на бумагу, едва Эрнст Тельман склонился над книгой отзывов крейсера. Быстрые, четкие буквы замелькали на белом поле листа: "Делегаты VI Всемирного конгресса передают вам сердечный революционный привет! Для всех нас возможность провести несколько часов среди краснофлотцев "Авроры" - огромное событие...
Когда по царскому Петербургу были даны первые артиллерийские залпы, революционные рабочие и матросы почувствовали прилив новых сил. Красногвардейцы, которые с великой страстью и еще большей энергией строили баррикады на улицах Петербурга, испытали прилив нового мужества, потому что знали, что красные матросы Кронштадта помогают им свернуть чудовищный режим и установить на одной шестой части земного шара диктатуру пролетариата".
Свою запись Эрнст Тельман закончил словами о битвах, предстоявших немецким рабочим и рабочим в других странах капитала.
"Тогда, - писал он, - нашим боевым призывом, нашим боевым сигналом, нашим боевым лозунгом, нашим паролем будет слово: "Аврора"..."
В марте 1933 года на крейсер пришла черная весть: Эрнст Тельман схвачен гестаповцами и заключен в Моабит.
Редкие и скудные сведения о Тельмане проникали на волю сквозь толщу тюремных застенков. Лишь со временем стало известно его письмо о пытках, применявшихся гестаповцами. "С меня сорвали одежду. Два гестаповца положили меня поперек табурета. Один из них принялся равномерно избивать меня тяжелой плетью из кожи бегемота. От боли я несколько раз вскрикнул.
Тогда мне заткнули рот, и удары посыпались на меня градом. Меня били по лицу кулаками, по груди и спине плетью. Брошенный на пол, я лежал ничком, уткнувшись лицом в пол, и ни слова не отвечал на вопросы. Меня пинали ногами. Я все старался закрыть лицо. Я изнемогал. Сердце начало сдавать. Я уже ничего не видел и не слышал. К тому же меня мучила такая жажда, что изо рта шла пена, и я почти задыхался.
Будучи в полуобморочном состоянии, я все же не терял сознания, но и не чувствовал боли и думал только о том, как избавиться от этой пытки".
А вот еще одно свидетельство Эрнста Тельмана: "Проходят часы в молчаливых размышлениях. Мой путь предопределен мною, даже если он будет еще тяжелее. Повседневное унижение, попирание человеческого достоинства страшная участь. Но эта борьба - мой удел".
Осенью 1943 года, когда полузатопленная "Аврора" стояла в Ораниенбаумской гавани и отвечала огнем на огонь гитлеровцев, осаждавших Ленинград, в Германии произошел такой эпизод.
В тюремную одиночку в Баутцене вошел солдат в форме фашистской армии. Он взглянул на арестованного: бритая голова, нездоровое, бледное лицо, какое бывает у людей, не один месяц и не один год просидевших в застенках. Солдат спросил:
- Вы Тельман?
- Да, Тельман - это я, - последовал ответ.
И тогда солдат поведал свою историю. Прежде он служил тюремным надзирателем в Баутцене. Потом воевал во Франции. Теперь приехал в отпуск перед отправкой на восточный фронт. Его бывшие сослуживцы - тюремные надзиратели разрешили ему войти в камеру Тельмана на несколько минут. Он вошел, чтобы спросить, что думает Тельман о войне против России и о положении Германии.
- Германии никогда не победить Советскую Россию, - твердо сказал узник.
В декабре 1943 года немецкий солдат Вальтер Лесснер сдался под Ленинградом.
Слышал ли он грохот авроровских орудий? Видел ли в подзорную трубу полузатопленный крейсер, не спустивший боевого флага и продолжавший вести огонь?
На этот вопрос ответить мы не можем. Но мы знаем: Вальтер Лесснер беседовал в полутемной камере-одиночке с почетным авроровцем Эрнстом Тельманом и сдался в плен советским войскам...
После этого прошел без малого еще один год. Фашистское радио распространило сообщение, что во время налета англоамериканской авиации на район Веймара и Бухенвальда погиб бывший депутат рейхстага Эрнст Тельман.
Гитлеровское радио опровергла печать наших союзников: в тот сентябрьский день над Средней Германией не появлялось ни одного англо-американского самолета.
Что же произошло? Жив ли Эрнст Тельман?
Лишь много лет спустя авроровцы получили ответ на этот вопрос. На крейсере побывали жена Тельмана Роза Тельман и дочь Ирма.
Вот что произошло в сентябре 1944 года.
В одну из ночей Тельмана посадили в машину и под усиленной охраной повезли из Баутцена (последнее место заключения) в Тюрингию - в концентрационный лагерь Бухенвальд.
Тельман понимал, что по мере приближения советских войск страх тюремщиков перед ним, вождем немецких коммунистов, будет возрастать. Гитлеровцы захотят учинить расправу.
У палачей, как правило, жестокость и трусость неотделимы. Его увезли из тюрьмы ночью. И во мраке ночи вывели из машины. И стреляли в Тельмана, не став лицом к лицу, нет, они стреляли в спину. И, страшась даже безжизненного тела узника, сожгли его...
Идут годы. На "Авроре" побывали десятки делегаций из Германской Демократической Республики. Приезжали юные тельмановцы - немецкие пионеры. Приезжали рабочие и крестьяне, студенты и военные.
Одна из делегаций привезла в подарок авроровцам большой портрет Тельмана. Те, кто видел вождя германских пролетариев в 1928 году на крейсере, легко узнали бы его:
та же распахнутая белая сорочка, и фуражка с высокой тульей, и светлые глаза, и резко очерченный волевой подбородок, и мощно посаженная голова на открытой мускулистой шее.
Сменилось не одно поколение авроровцев. Однако Тельмана знают, любят, он навсегда прописан на крейсере Революции.
Однажды моряки написали Ирме Тельман письмо. Они спрашивали, что известно о почетной форме краснофлотца, врученной Тельману в памятный день посещения "Авроры".
"Подарок ленинградских матросов, который дорог каждому из нас, я сохраняла в Гамбурге до 1944 года, - ответила Ирма Тельман. - Но фашистские палачи похитили почетную форму..."
Авроровцы расспрашивали частых гостей из ГДР, ведутся ли поиски краснофлотской формы Тельмана.
- Ведутся, - отвечали гости. - Но пока найти не удалось.
И вот недавно, когда уже самые стойкие оптимисты потеряли надежду на успех, пришла долгожданная весть: почетная форма авроровцев, врученная Тельману в 1928 году, найдена и возвращена немецкому народу.
Сегодня в Дрездене, в Музее Вооруженных Сил ГДР, лежат под стеклом и тельняшка, которой касались пальцы Тельмана, и бескозырка с черными лентами и шестью золотыми буквами: "Аврора".
Благодарность Мессины
Перед эскадренным миноносцем "Решительный" открывались берега Сицилии. На борту миноносца был командир "Авроры" капитан I ранга Юрий Иванович Федоров, не отрывавший от глаз бинокля. Юрий Иванович уже видел не только очертания Мессины, как бы сбегавшей к морю, не только массивные стены древнего форта Сан-Сальваторе...
Советские моряки спешили на юбилей, посвященный... Впрочем, сначала историческая справка.
28 декабря 1908 года несколько подземных толчков чудовищной силы погребли итальянский город Мессину под грудами развалин. Руины, как это часто бывает при землетрясениях, охватило пламя пожара. Из-под завалов неслись стоны обреченных.
Первыми сигнал бедствия приняли корабли русской эскадры, находившиеся недалеко от острова Сицилия. Корабли устремились на помощь мессинцам.
Город лежал поверженный: камень и щебень, скелеты обгорелых зданий, тлеющие головешки. Разгребая руины, пробираясь по стропилам полуобвалившихся домов, палимые огнем догорающих балок, моряки спасали раненых, обезумевших людей.
Две тысячи мессинцев было спасено русскими моряками!
По свидетельству Максима Горького, жившего в ту пору в Италии, когда линкор "Слава" доставил пострадавших в Неаполь, набережную сотрясали рукоплескания и возгласы:
- Да здравствуют русские моряки!
В 1911 году правительство Италии пригласило в Италию крейсер "Аврора". В обращении муниципалитета Мессины к населению (это обращение представлено в экспозиции корабельного музея) писалось: "Граждане!
Завтра к нам прибывает русский крейсер "Аврора" для принятия медали, которую жители Мессины передают морякам Балтийского флота за самоотверженность и доблесть, проявленные во время землетрясения 28 декабря 1908 года.
Вы видели их, бросающихся, не щадя своей жизни, в самые опасные места, чтобы без лишних слов спасать жизнь других, невзирая на ужас, их окружающий. Вы помните примеры исключительного мужества, совершенные среди разрушений и смерти.
Мы обратимся к храбрым русским морякам, с которыми нас так сблизило несчастье, с самыми сердечными приветствиями, торжественно подтверждая, что если грустные воспоминания об этих печальных днях еще живы, не забудутся, то вечны и наши благодарность и признательность к тем, кто показал великолепные образцы человеческой солидарности и братства, первыми придя нам на помощь".
Встречать "Аврору" вышел весь город. Набережная была запружена народом, украшена флагами. Командиру корабля делегация мессинцев вручила золотую медаль и панно: на фоне синего моря - русские корабли, идущие к берегам Сицилии на помощь пострадавшим итальянцам.
Торжественная встреча состоялась 1 марта, а в ночь на 2-е на мессинской набережной вспыхнул пожар. Яростное пламя быстро разгоралось, все шире охватывая здание кинотеатра.
На "Авроре" прозвучала тревога. Более ста пятидесяти моряков бросились в пылающий кинотеатр, чтобы спасти его...
В 1978 году эскадренный миноносец "Решительный" прибыл к берегам Сицилии на празднование семидесятилетия подвига русских моряков в Мессине.
На мраморе мемориальной доски мессинцы высекли слова благодарности России и ее мужественным сыновьям.
"Открытие доски освятил сам архиепископ Мессины монсиньор Иняцио Каннаво, - писала "Красная звезда". - Обращая к ней взор, много хорошего сказал на манифестации мэр города синьор Антонио Андо. В тот день сотни мессинцев представились морякам "Решительного" как сыновья, дочери, внуки спасенных русскими в 1908 году. Они заверяли, что и их дети, их внуки тоже никогда не забудут этого".
На "Решительном" состоялась пресс-конференция. К контр-адмиралу Н. Рябинскому подошел представитель итальянского информационного агентства АНСА и сказал:
- Господин адмирал, позвольте представить вам мою мать. Во время мессинского землетрясения ее, тогда пятилетнюю девочку, спас, откопав из-под руин, офицер одного из кораблей русской эскадры.
Корабельный музей на "Авроре". От него тянутся нити в недра архивов и хранилищ, к очевидцам и участникам отгремевших событий. И как ветви вырастают из ствола дерева, так день сегодняшний вырастает из дня вчерашнего...
Все дни недели, кроме пятницы, на "Авроре" с утра до вечера посетители. На набережной выстраивается вереница автобусов с табличками: "Экскурсионный", "Заказной", "Интурист". На некоторых автобусах флажки с названиями ближних и дальних городов, с многоцветными гербами. А людская река, многоголовая, неубывающая, течет и течет к трапу крейсера.
Если в 1948-1950 годах на крейсере побывало семнадцать тысяч соотечественников и иностранцев, то сейчас, ежегодно по палубе проходит более миллиона гостей. Посланцы более ста стран мира посетили крейсер. Поток гостей растет. Не случайно входной трап на корабль окрестили "народной тропой".
На палубах вечное многолюдье. Группы экскурсантов и отдельные посетители встречаются, расходятся и снова встречаются. В постоянно движущейся многоликой массе трудно кого-либо выделить. Но даже в этом кипучем круговороте в тот день нельзя было не задержать взора на высокой, смуглой девушке с книжкой в руке. Она была ослепительно молода и красива. И никуда не спешила. Наоборот, замедлив шаг, кого-то искала глазами.
Наконец она увидела матроса, проходившего по палубе, и направилась к нему.
Авроровские матросы - народ общительный, не только общительный привычный к тому, что гости крейсера обращаются с любыми, порой сложными и неожиданными вопросами. Но тот, остановленный девушкой, шел по делу, времени в запасе, очевидно, было мало, и думал он о чем-то своем, никого не замечая.
Она преградила ему путь и быстро заговорила:
- Здравствуйте, очень извините, я очень... просила... вас...
По акценту, по запальчивой быстроте, с какой она произнесла первые три слова и по той трудной медлительности, с которой подбирала последующие, матрос легко определил: иностранка. Она опять начала говорить, но матрос почему-то совсем ничего не понял. Его мимолетный взгляд скользнул по смоляным волосам, заглянул в угольно-черные глаза с блестящими зрачками, задержался на курточке. Курточка чуть вздымалась на груди и была увешана значками с изображением ленинского броневика, Петропавловской крепости, Медного всадника и еще чего-то.
Замешательство матроса грозило неловкостью, но, увидев протянутый путеводитель по "Авроре", он сразу нашелся, нащупал шариковую ручку:
- Как вас зовут?
Девушка повела плечами.
Догадавшись, что вопрос не понят, переспросил:
- Ваше имя?
- Имя, имя! - обрадовалась гостья знакомому слову. - Имя - Аврора.
Такого на крейсере еще не случалось: на "Аврору" приехала Аврора! Приехала из кубинской провинции Камагуэй. Родилась она в семье рабочего, который решил так назвать дочь в честь Октябрьской революции.
Аврора - член Союза молодых коммунистов Кубы. Окончила высшую школу. Педагог. Ей двадцать два года.
Вся команда собралась, чтобы познакомиться с гостьей из Кубы. Ей вручили знак почетного члена экипажа и бескозырку. Она поцеловала ленточки и надела бескозырку. Смуглое лицо светилось белозубой улыбкой.
Матросы дружно рукоплескали. Никогда в составе экипажа не было девушек. А теперь на "Авроре" - Аврора Дельгадо!..
В корабельном музее есть две необычные карты: на одной показаны реки, моря и океаны, по которым плавала "Аврора", на другой - страны, чьи посланцы побывали на борту крейсера.
Обе карты интересны и о многом говорят уму и сердцу. Кто-нибудь когда-нибудь составит третью карту - огромную, всеохватывающую. Мы прочтем на ней тысячи знакомых и незнакомых названий городов и деревень, бухт, островов. Люди, живущие там, разбросанные по всему белому свету, хорошо знают силуэт трехтрубного крейсера, в их судьбе "Аврора" заняла свое особое место...
На эту карту с полным правом можно будет поместить и домик из кубинской провинции Камагуэй, где родилась Аврора Дельгадо, и рабочий поселок близ Берлина, где более десяти лет средняя школа носит имя "Авроры", и польский город Сосковцы, где юные моделисты, руководимые учителем Юлианом Грабовским, спустили на воду модель русского крейсера, и Московский электромеханический завод имени Владимира Ильича, рабочие которого написали: "Эхо легендарной "Авроры" вечно будет звучать в гуле наших цехов..."
Много лет назад известный тамбовский коллекционер Николай Алексеевич Никифоров начал собирать марки, открытки, значки, сувениры, медали, посвященные "Авроре". Теперь в городе на берегах Цны проводятся выставки "Реликвии Революции". На этих выставках - тысячи марок, открыток, значков с изображением трехтрубного крейсера. "Аврора", отлитая в металле, изваянная в гипсе, выточенная в дереве. Профиль корабля, знакомого и почитаемого на всех континентах!
"Аврора" не только символ. Живая дружба связывает ее с десятками коллективов...
Машина наматывает километр за километром, удаляясь от Москвы. Уже нет асфальтовой магистрали, уже легким шлейфом вьется пыль проселочной дороги, и поля, изредка разрезанные оврагами, все бегут и бегут - бесконечные, бескрайние. Наконец на зеленой равнине всплывает обетованным островом село Раменье. На широкой площади, упираясь высокими трубами в крону деревьев, неожиданно вырастает "Аврора" с ее знаменитой баковой пушкой и стройными мачтами. Перед нами - панно величиной почти с корабль.
Почему же крейсер оказался в сухопутном краю?
В Раменье - главная усадьба колхоза, носящего имя "Аврора". И "заплыл" крейсер в этот безводный уголок - ни река, ни море село не омывают - в давние годы: "В десятилетнюю годовщину Красной Армии и Флота, непоколебимо стоящих на страже завоеваний Октябрьской революции, мы, крестьяне, бедняки и середняки селенья Раменье, Волоколамского уезда, Московской губернии, в количестве шести дворов и сорока едоков решили объединить свои хозяйства на коллективных началах и организовали товарищество по общественной обработке земли, которое зарегистрировали в Московском земельном отделе и присвоили наименование "Аврора" в память революционных заслуг славного Красного боевого крейсера "Аврора".
Пусть наше коллективное объединение будет так же удачным в строительстве социалистического сельского хозяйства, как был удачен первый выстрел крейсера "Аврора" по Зимнему дворцу в Октябрьские дни.
Принимая это решение, мы просим вас, дорогие товарищи красные моряки крейсера "Аврора", принять над нами культурное шефство и тем самым создать неразрывную связь с Красным Флотом".
Эта "неразрывная связь" была установлена. Теперь бедное, почти нищее товарищество, состоявшее из "шести дворов и сорока едоков", стало мощным, известным в стране колхозом-миллионером, урожаи которого кормят многие тысячи "едоков".
Имя обязывает. Колхоз "Аврора" - один из флагманов на полях Подмосковья...
И опять дорога. Неподалеку от слияния речки Рузы с Москвой-рекой, на высокой круче, раскинулся пионерский лагерь "Авроровец". У входа в лагерь двенадцатилетние-тринадцатилетние вахтенные в матросках. И большой морской якорь здесь не случайный гость. Ребячьи палаты называются кубриками, пионерские отряды - экипажами, во главе стоят командиры. Есть и боцманы. Какие моряки - пусть и совсем юные - могут обойтись без боцманов?!
Здание из стекла и камня - ребячий городок, приютивший почти полтысячи пионеров. Одно здание резко выделяется: форма его напоминает корабль, вместо окон - круглые стеклянные иллюминаторы. Это - музей, посвященный "Авроре" и красногалстучному экипажу "Авроровца".
Второй десяток лет дружат пионеры лагеря с командой крейсера. А на самом крейсере шефство над ребячьими коллективами - дело не новое. В 1924 году матросы опекали детдом имени В. И. Ленина. Размещался он в Кронштадте, и жили в нем ребята, родители которых погибли в боях за Октябрь.
Время было трудное, холодное и голодное. На самой "Авроре" кормили пшеном да селедкой. Обмундирование пооборвалось настолько, что обувь выдавали лишь тем, кто заступал в караул.
В эту тяжкую пору матросы крейсера отчисляли для подшефных детдомовцев стоимость своих небогатых пайков, подарили детям 37 пар валенок, 16 метров сукна на пальто, 5 килограммов какао и 5 килограммов шоколада.
Разумеется, ребята в пионерлагере "Авроровец" обеспечены всем необходимым. Дружба с экипажем крейсера для них нравственная школа.
В числе первых к пионерам приезжал ветеран "Авроры" Андрей Павлович Подлесный. Их гостем был матрос Александр Кузьмин.
Заливались горны, гремели барабаны, отбивали шаг экипажи с морскими названиями - "Впередсмотрящий", "Варяг"...
Жаркий костер разгорелся, пламя поднялось так высоко, что казалось, его языки лижут черноту неба. Посланцы крейсера сидели у огня и рассказывали, рассказывали о событиях далеких, но незабываемых, о той ночи, когда "Аврора" направила свои пушки на Зимний...
Шефские связи "Авроры". Они не мимолетны, не быстротечны, они устойчивы и надежны. И что бы ни свершилось в стране, это непременно находило отклик на крейсере.
Перенесемся из пионерлагеря "Авроровец" на Волгу, из наших дней в тридцатые годы, когда над котлованами гигантской стройки, над ямами, где гасилась известь, над путями узкоколеек, над корпусами, выросшими из развороченной земли, реял призывный, властный, самый короткий на свете лозунг: "Даешь!"
В ноябре 1931 года из Нижнего на "Аврору" пришла телеграмма: "Крайком комсомола совместно с крайкомом партии Нижегородского края и дирекцией автомобильного завода просят о высылке представителей для принятия шефства".
Дорог был каждый день, каждый час. Не хватало специалистов. И крейсер направил в Нижний своих умельцев: младшего командира Федорова, машиниста Арбузова, старшего машиниста Юрьева, электрика Маркова, главстаршину Шошкина, артэлектрика Лукашева, трюмного машиниста Луппова.
Не успела бригада в тельняшках и бескозырках прибыть на леса стройки, как оттуда пришел новый запрос: в Ленинградском порту не разгружается пароход "Карплака". Скопилось много транспортов. "Карплака" прибыл из-за границы. В его трюмах оборудование, необходимое стройке. Помогите!
Авроровские десанты не раз устремлялись на самые горячие участки борьбы. Фронтовое, горячее, зовущее "Вперед!" сменило новое: "Даешь!". "Бойцы Краснознаменного крейсера двинули семьдесят восемь человек в порт на разгрузку. Ударными темпами в течение одних суток командиры и краснофлотцы "Авроры" очистили трюмы пузатого "Карплака". На эту работу в порту потребовалось бы не менее трех суток"{34}.
- Мы это помним, мы это знаем, - рассказывает старший матрос Юрий Гришаев. - Авроровцы помогали строить автозавод, автозаводцы служат на "Авроре". Нева и Волга породнились.
"Породнились" не красное словцо. Не фраза.
Юрий Гришаев - горьковчанин. Учился в индустриально-педагогическом техникуме, кузнице кадров для автозавода. И, как большинство горьковчан, настоящий волжанин. Вода - его стихия. Яхтсмен.
Мальчишкой с завистью смотрел, как, накренясь, взметнув крыло паруса, скользят стремительные яхты. Только смотрел, сам до срока довольствовался байдаркой - легкой, послушной, быстрой.
Двадцать километров по Горьковскому морю тоже расстояние! А подрос пересел на яхту.
Сколько раз белокрылый "Летучий голландец" переворачивался, сколько раз - две минуты, умри, но яхту подыми! - Юрий справлялся. И опять косой парус наполнялся ветром...
Пришла пора служить. Гришаев получил комсомольскую путевку на "Аврору". Издавна живет эта традиция - Горьковский автозавод ежегодно посылает на крейсер пять - семь своих достойных призывников.
Гришаев после двух лет службы стал комсомольским вожаком. На "Авроре" это означает - вожак команды, потому что все матросы - старшины и молодые мичманы - комсомольцы. Все до одного!
Юрий Гришаев ездил в Горький на праздник призывника. Дворец культуры от входных ступенек до самых высоких галерей, до люстры, венчающей зрительный зал, содрогался от гремящих оркестров. Музыка властвовала во дворце. И никогда, кажется, не было в нем столько цветов!
Пришли девушки, без которых, разумеется, не обходится ни один мужской праздник.
На торжественной части все соблюдалось, как заведено: и большой стол под красной материей, и президиум, и колокольчик у председательствующего, и микрофон на трибуне.
В выступающих тоже недостатка не было: от парткома, от завкома, от комсомола, от военкомата.
Потом поплыла по залу знакомая мелодия, тихо-тихо, как бы набирая разгон. Из глубины партера возникла песня, осторожно подхваченная залом.
Пели известную песню "Что тебе снится, крейсер "Аврора"?".
Песня еще парила над рядами, когда Юрий Гришаев вышел на трибуну. Кто видел его, упругого, стройного, сплав мускулов и молодости, кто видел, как идет ему густая синева матросской фланелевки, как широкий ремень, перехватывая талию, подчеркивает его безупречный торс, тот навсегда запомнил своего земляка.
Выйдя из-за трибуны, все больше увлекаясь и увлекая других, говорил он об "Авроре", и сцена уже была как палуба корабля. Говорил он долго - Юра два года водит экскурсии, не новичок, а председательствующий забыл про свой колокольчик и про регламент...
Опять запели "Что тебе снится, крейсер "Аврора"?". Песню пели все, а в зале сидели они, пять счастливчиков, которым вручили комсомольские путевки и которые будут служить на "Авроре"...
На Петроградской набережной кого только не видали! Кто только сюда не приходил и не приезжал! Вдоль набережной вытягивались вереницы изящных лимузинов, комфортабельных автобусов, запыленных машин, прошедших сотни километров. Звучала разноязыкая речь, здесь бывали люди всех рас и народностей - чернолицые, белолицые, желтолицые. Все они приезжали и приходили, движимые одним: побывать на "Авроре". Но в тот вечер произошло нечто необычное.
В намечавшемся мартовском сумраке еще ничего не было видно, но уже слышался нарастающий гул. Он плыл, приближался, напоминая грохот мощных танковых колонн, выходящих на парад.
Фонари не зажигали - был тот рубеж между уходящим днем и неродившимся вечером, когда можно обходиться без электричества.
Наконец свет фар заскользил по Петроградской набережной. Один за другим, с флажками на радиаторах, сверкая свежей краской, шли тракторы.
Длинная колонна - по нескольку машин в ряд - завладела всей мостовой. Движение прекратилось. Головной трактор остановился возле "Авроры". Вспыхнул летучий митинг.
Митинг длился считанные минуты. Рабочие Кировского завода отрапортовали: тракторы, построенные из сэкономленных материалов, прямо с конвейера пришли к "Авроре", чтобы отсюда взять курс на колхозные поля.
Грянул оркестр. Колонна снова тронулась в путь...
"Аврора" давно стала стартовой площадкой многих начинаний. Не раз ленинградские юноши и девушки в рубашках цвета хаки, с походными рюкзаками, с песнями, петыми на Ангаре и в Казахстане, на БАМе и Ямале, собирались на палубе крейсера, чтобы отсюда начать путь в таежную глухомань, на болотистые низины, в необжитые края, чтобы строить дороги, прокладывать мосты, возводить города!
22 апреля - в день рождения Владимира Ильича - "Аврора" во власти самых маленьких своих друзей. В этот день на груди их вспыхивают красные галстуки.
Скольким этот галстук повязал первый комиссар крейсера - Александр Викторович Белышев!
Апрель в Ленинграде чаще холодный и ветреный, чем погожий, но палуба белеет сотнями отутюженных сорочек. "Всегда готовы!" звучит над Большой Невкой. И потом, когда отряды проходят по палубе, когда уходят в жизнь самые юные, нет силы, способной заставить их застегнуть легкие пальто. Пусть обжигает ветер, подымая с реки холодные брызги, но пусть все видят матросы на корабле, прохожие на тротуаре, проезжие на мостовой - красные, красные, красные галстуки!..
Ни время, ни расстояния не могут остановить птиц - они возвращаются на свои гнездовья. Так и авроровцы: в какие бы дали ни забросила их судьба, стремятся к своему кораблю.
Леонид Александрович Демин долгие годы исследовал Берингово и Японское моря. В отечественной гидрографии не было человека, которому удалось бы составить описание двух морей. Таким человеком стал Демин.
Его именем назвали бухту в Чукотском море и группу островов в Малой Курильской гряде.
Леонид Александрович - один из ведущих создателей Морского атласа. Среди его наград - медаль лауреата Государственной премии и золотая медаль Ф. П. Литке.
Друзья свидетельствуют: инженер-контр-адмирал Демин всегда был чрезмерно загружен. Он, уплотняя сутки до крайности, любил повторять шутку:
- Один день может вместить два дня, а если хорошо постараться - три.
И все-таки, наперекор любым перегрузкам, он находил время, чтобы молча постоять на борту "Авроры", вслушиваясь в многоязычный говор и шум посетителей, радуясь неубывающему людскому прибою. Здесь возвращалась к нему молодость, на час-два он как бы опять становился тем мичманом, который пришел на "Аврору" в октябре семнадцатого.
А когда начались съемки кинофильма "Залп "Авроры", не было более ярого спорщика и ревнителя истины, чем Леонид Александрович. Он лишил покоя сценаристов и режиссеров, добиваясь беспощадно-строгой точности фактов, деталей, положений...
Жизнь соединила Демина с "Авророй" в такой день, такой год, когда решалась судьба народа, судьба России. Такое остается навсегда...
Причастность к судьбе "Авроры" как бы озаряет судьбу авроровца до конца его дней, кем бы и где бы он ни служил.
Взять, скажем, Василия Широкова, скромного матроса "Авроры", который в ночь штурма Зимнего был в боевом расчете Евдокима Огнева.
В мирное время Василий Широков вернулся к мирной профессии. Четыре десятилетия водил он караваны судов по великой Волге, по Оке и Каме.
В дни Отечественной войны Василию Широкову поручали самые опасные рейды. Однажды, в разгар боев за Сталинград, вел он в пылающий город караван со снарядами. Появились "юнкерсы". Широков приказал зажечь дымовые шашки. Завеса дыма, сдуваемая ветром, заволокла реку, как густым туманом. Василий Иванович повернул караван в тесную горловину протоки, берега которой щетинились зарослями леса.
"Юнкерсы" отбомбились впустую...
Авроровец всегда авроровец! Василий Иванович и сейчас, на девятом десятке своей жизни, не сидит без дела: его "школу" проходят коломенские ребята из клуба юных моряков...
Николай Васильевич Ратозий - из послевоенного поколения аврлэровцев. Накануне войны он жил на Черниговщине, в краю вишневых садов. Трудно угадать, как повернулась бы его жизнь, если б не дядя Алексей Шеремет, балтийский моряк, приехавший на краткосрочную побывку и поселивший в душе мальчика будоражащие мечты о море.
В сорок пятом Алексей Шеремет погиб: корабль, на котором он служил, торпедировала вражеская подлодка. На смену дяде приехал на Балтику племянник.
Коля Ратозий был очень юн, он и брился тогда, пожалуй, не по надобности: просто хотелось поскорее стать взрослым. И этому юному радисту, подымавшемуся по трапу "Авроры", невдомек было, что трап ведет его в большую жизнь, что он прирастет к крейсеру, как приросли ветераны...
Годы службы на корабле навсегда сроднили Ратозия с крейсером. Оказавшись вдали от "Авроры", он продолжал жить ее прошлым, настоящим и будущим.
Военно-политическая академия имени Ленина. Ратозий углубился в архивы. Первое признание: на Всесоюзном конкурсе по проблемам общественных наук он удостаивается диплома I степени и медали "За лучшую научную студенческую работу".
Потом - многолетний труд, о котором, очевидно, мало знают, но значение которого от этого не умаляется. Весь досуг, все отпуска, все дневные и ночные раздумья, не прерывая воинской службы, он посвящает "Авроре". Не месяцы, а долгие годы настойчиво, с самозабвенным упорством ведет он научный поиск. Так рождается диссертация: "Революционный крейсер "Аврора" и воспитание трудящихся на его героических традициях".
Первый ученый, создавший подлинно творческую работу о корабле революции, оказался авроровцем!..
Николай Васильевич Данилов - один из пушкарей батареи "А" - прилетел в Ленинград из заполярного Нарьян-Мара. Если взглянуть на Николая Васильевича - непременно придет мысль: не от Ильи Муромца ли берет свое начало этот богатырь, щедро наделенный физической мощью. И энергия его неизбывна. Не случайно, наверное, Данилов в мирное время стал строителем, возводил дома в нелегких условиях Заполярья.
И вряд ли, глядя на Николая Васильевича, кому-либо подумается, что в жизни его было немало трагических страниц.
В августе сорок первого старшина шестой пушки в Дудергофе женился на Лилии Николаевне, 9 сентября она уехала на работу в Ленинград, а вернуться не смогла: дорогу на Воронью гору перерезали гитлеровцы.
Спустя несколько дней тяжелый осколок промял каску Данилова. Кровь залила лицо. Он упал, думали - замертво, но Данилов выжил...
Через тридцать шесть лет Николай Васильевич и Лилия Николаевна разыскали друг друга и встретились на "Авроре"...
Василий Ильич Бурдасов, уйдя на пенсию, жил в Ленинграде на улице Карпинского, не скажешь, что до "Авроры" - рукой подать, однако ежедневно приезжал на крейсер как штатный сотрудник и водил экскурсии.
Никто, пожалуй, не догадывался, сколько лет этому густобровому человеку, по-медвежьи плотному, с медлительной походкой, по старой привычке широко расставлявшему ноги - "на случай качки".
Служил Василий Ильич на "Авроре" в двадцатые годы, воевал на Ладоге. Помнят его и бухта Морье, и маяк Осиновец, и остров Сухо, и Тулокса...
После десанта в районе Тулоксы грузили раненых на санитарные суда. Из-за мелководья подойти к берегу они не могли. Вскарабкаться на высокий, покачивающийся борт у раненых не хватало сил. Бурдасов, стоя в воде и согнувшись, заменил мостки: по его спине прошли триста пар тяжелых подбитых железками сапог.
Раненых погрузили, а спина Василия Ильича превратилась в огромную рану...
Авроровцы прилетают, приезжают, приходят на свой корабль. Летят отовсюду вести о судьбе ветеранов:
- Бывший матрос Архип Алексеевич Кулаков стал почетным гражданином Ртищева.
- Именем Алексея Смаглия названа улица в поселке Можайском.
- Авроровцу Тимофею Ивановичу Липатову присвоено звание Героя Социалистического Труда.
В Мичуринске набережная носит имя Л. А. Демина, а судно его имени бороздит моря и океаны.
В далекой Сибири, в райцентре Сургутка, энтузиасты-краеведы А. Перевозкин и Г. Федоров собрали богатый материал о своем земляке командире батареи "А" Дмитрии Иванове, готовят к открытию общественный музей.
Были и "белые пятна". Долго оставались невыясненными обстоятельства, при которых погиб в начале гражданской войны Евдоким Огнев. В музее крейсера есть фотокопия последнего заявления, подписанного комендором:
"Товарищи! Мы обращаемся к вам от команды крейсера "Аврора" в количестве 13 человек. Просим вас не отказать нам в нашей просьбе. Мы изъявили желание идти на фронт, на Каледина, где наши товарищи проливают кровь..."
Огнев уехал "на фронт, на Каледина". В 1918 году пришла трагическая весть: комендор погиб на Маныче.
Как погиб? Где могила комендора?
Ответа на эти вопросы не было.
В середине шестидесятых годов на "Авроре" побывала группа пионеров из 90-й школы Ростова-на-Дону. Возглавила ее Вера Степановна Гура, участница Великой Отечественной войны, волевая и энергичная учительница, посвятившая себя поиску погибших героев.
Пионеры встретились с Белышевым.
- Попытайтесь разыскать могилу комендора, узнать о его боевых делах, посоветовал Александр Викторович. И начался поиск.
Судьба комендора Огнева
В детстве Евдоким много кочевал вместе с родителями. Нужда, поиски заработка гнали безземельных с хутора на хутор, из станицы в село и опять в станицу.
"Хорошо, где нас нет", - говорил отец Евдокима, однако с судьбой не смирялся и в который раз отправлялся в новые странствия.
Так семья Огневых прошла по степям нынешних Волгоградской, Воронежской и Ростовской областей.
Много лет спустя, когда имя комендора "Авроры" стало знаменитым, между этими тремя областями возник спор: каждой хотелось Евдокима Огнева считать своим земляком.
В Ростове-на-Дону в краеведческом музее под портретом комендора крупными буквами написали: "Е. П. Огнев - уроженец Дона".
Спор продолжался годы. Победу в конце концов одержали воронежцы. В архиве они нашли документ: Евдоким Павлович Огнев родился в Воронежской губернии, в Старокриушанской волости, в той же слободе...
Старая Криуша - поселение, когда-то возникшее на окраине государства Российского. Жили там войсковые казаки, отличавшиеся силой, неудержимой удалью и храбростью.
Предки Евдокима Павловича были пушкарями, мастерами "огненного дела". Воронежцы установили: отсюда и пошла фамилия Огневых.
На родину комендора, как только стало известно место его рождения, потянулись экскурсанты из разных уголков Воронежской области, и не только Воронежской.
Дорога в Старую Криушу бежит по гладкой равнине, огибает холмы, по горбатым склонам которых расползлось курчавое стадо овец. На одном из холмов - отвесная скала с древними пещерами. Входные дыры в пещеру выщерблены, угласты, похожи на разверстые пасти допотопных чудовищ.
По преданиям старокриушанцев, в былые времена в этих пещерах сельские мальчишки устраивали боевые игрища. Верховодил в них Евдоким Огнев.
Вот и Криуша, речка, оправдывающая свое имя. Она и ста метров не течет прямо, изгибается, петляет, у села разливаясь вширь, отражая в своей воде и небо, и прибрежные ивы.
Людей, знавших Евдокима Огнева, в селе нет. Лишь ветхая изба, почти по самые окна ушедшая в землю, маленькая, тесная, приземистая - в полный рост и не встанешь, - единственная свидетельница детства Евдокима.
Возле избы на улице, носящей имя комендора "Авроры", деревянный щит, удостоверяющий, что здесь родился Евдоким Павлович Огнев.
В местной школе создан музей. Пока слово "музей" звучит несколько громко, но в просторной комнате кое-что уже есть: и портрет комендора, и его биография, и снимок легендарной шестидюймовки, давшей выстрел по Зимнему, и поэма о знатном авроровце, написанная учителем И. Корчагиным.
- Мы проложим сюда постоянный маршрут, - сказал, выступая перед старокриушанцами, секретарь Калачеевского райкома партии Александр Иванович Скрынников. - Далеко от Старой Криуши до Невы, но сын нашей земли в главный день века - 25 октября 1917 года - дал сигнал для штурма Зимнего...
Перед школой, в разросшемся сквере, разбита аллея Славы. По замыслу эта аллея должна привести к памятнику комендора "Авроры". Самодеятельный проект памятника уже разработан, однако воплощение в жизнь заветных замыслов старокриушанцев вряд ли осуществимо без активной и квалифицированной помощи партийных и советских организаций Воронежа.
Пока не изваян в бронзе -мужественный облик Евдокима Огнева, его земляки пытаются воссоздать образ комендора по документам, по воспоминаниям сослуживцев и родственников.
Воронежский журналист Вячеслав Дубинкин в станице Великокняжеской встретился с девяностолетней сестрой комендора Марией Павловной, вел многолетние поиски биографических материалов Огнева, из которых родилась его брошюра "Комендор крейсера "Аврора".
Несколько эпизодов, описанных Вячеславом Дубинкиным, существенно дополняют наше представление об Огневе - артиллеристе, об Огневе человеке, об Огневе - бойце Революции.
Перенесемся в 1911 год, на Балтику, где проходили учебные стрельбы.
"Огнев тщательно наводил орудие на цель - парусиновый щит, укрепленный на деревянном плоту. Он мягко тронул штурвал наводки, и нить прицела легла в основание щита.
Загрохотали выстрелы. Командир "Авроры" капитан I ранга Лесков, стоя на мостике в окружении офицеров, следил в бинокль за каждым разрывом снаряда.
Когда заговорила носовая шестидюймовка, лицо Лескова просияло. Со второго выстрела полетели обломки щита, клочья парусины, то же самое произошло и со вторым щитом.
- Молодец, отличный наводчик! Узнайте, господа, его фамилию... Впрочем, позовите-ка его лучше сюда.
Огнев бегом поднялся на мостик, вытянулся перед командиром, четко доложил о себе.
Лесков протянул серебряные часы.
- Отменно стрелял, комендор! Возьми в награду".
Штрих за штрихом разрозненные эпизоды из биографии Огнева помогают нам представить порывистого, находчивого, мужественного комендора.
В Петрограде, возвращаясь на корабль из увольнения в город, Огнев услышал крик:
- Помогите!
Приблизившись, он увидел грузного городового, пытавшегося связать девушке руки. На тротуаре - рассыпанные прокламации. Одна из них наклеенная - белела на стене дома.
Огнев все понял.
- Служивый, брось бабу! - крикнул он, стиснув в объятиях городового так, что тот не мог и пошевелиться. - Лучше выпьем за государя императора.
- Отвяжись! - захрипел полицейский. - Видишь, она крамолу разносит...
- А-а-а, за государя выпить не желаешь?!
Огнев пнул городового, придержал его левой рукой, а правой с такою силой двинул в челюсть, что полицейский качнулся и рухнул наземь.
Комендор схватил за руку растерявшуюся девушку и стремительно увлек ее в ближайший переулок.
- Будьте осторожнее, - предупредил он пропагандистку. - Не больно-то часто матросы увольняются в город.
Так Евдоким Огнев познакомился с Анной Кураковой, ставшей впоследствии его женой...
В дни Февральской революции Огневу из своей шестидюймовой пушки стрелять не довелось. Однако комендор не сидел сложа руки. Об этом рассказал член судового комитета крейсера Александр Трапезников:
"Февральская революция. Огнев, со свойственным ему пылом, бросился в огонь восстания, освобождает из тюрем политических заключенных, снимает с крыш городовых и жандармов.
Вот одна из картин. На Литейном мосту юнкера из броневика расстреливают проходящих по мосту рабочих и солдат. Огнев прокрадывается к броневику на животе и штыковым ударом закалывает пулеметчика.
Поспевают товарищи, и броневик, захваченный моряками, в качестве трофея доставляется на Английскую набережную, где стояла "Аврора".
И наконец, октябрь семнадцатого. Не случайно потомственному пушкарю поручили этот выстрел, услышанный всей планетой.
На афишных тумбах Петрограда появились воззвания Совета Народных Комиссаров: "Рабочие, солдаты, крестьяне! Революция в опасности. Нужно народное дело довести до конца. Нужно смести прочь преступных врагов народа. Нужно, чтоб контрреволюционные заговорщики - казачьи генералы, их кадетские вдохновители почувствовали железную руку революционного народа..."
Тринадцать авроровцев подали заявление с просьбой направить их на фронт: Огнев Евдоким, Никифоров Филипп, Новиков Кузьма, Липатов Тимофей, Герасимов Феофилакт, Векшин Иван, Белоусов Иван, Бруммель Мартын, Денисов Александр, Торопов Василий, Никаноров Михаил, Бычок Александр, Сиваков Кирилл.
Евдокима Огнева назначили комендором на бронепоезд "Смерть Каледину".
Сухопутный корабль - громыхающий, ощетиненный орудиями и пулеметами, защищенный броней - вышел в опасный, полный неожиданностей путь.
До нас дошли сведения о первых боях, в которых участвовал на суше комендор.
Под Никитовкой внезапно заскрежетали тормоза - машинист увидел раскуроченные рельсы. В ту же минуту из ближней рощи по бронепоезду ударили вражеские трехдюймовки.
Осколки забарабанили по бронированным стенкам вагонов. Судьбу бронепоезда решали доли минуты. Пристреляется батарея, выведет из строя паровоз - весь состав станет неподвижной мишенью.
Бронепоезд спасло мастерство Евдокима Огнева. Он вторым или третьим снарядом накрыл трехдюймовку, потом вторую... Батарея замолчала, онемели пушки, опрокинутые среди изломанного березняка.
Отряд Ховрина провел успешные бои вдоль железной дороги и был отозван в Петроград. А комендор Огнев направился на юг добивать Каледина.
И дальше - "белое пятно". Три слова: "Погиб на Маныче". При каких обстоятельствах? Где? Маныч не ручеек... Не было даже тонкой нити, за которую можно бы ухватиться.
Следопыты из ростовской школы тщательно изучили карту, перечитали все, что помогало представить бои на Маныче. Главное так и не прояснилось: где и как искать погибшего комендора?
Решили поднять на поиск школы, расположенные близ Маныча. Разослали письма.
Минули месяцы. Письма словно канули в воду.
Между тем молчание не означало бездействия. На хуторе Веселом пионервожатая Тамара Шрамко организовала поисковый отряд. Ему предстояло пройти вдоль берегов Маныча более ста километров. И не просто пройти! Отыскать среди старых казаков участников гражданской войны. Побеседовать с каждым. Авось найдутся очевидцы гибели Евдокима Огнева, его соратники по боям и походам...
Поисковый отряд выступил в путь летом, во время каникул. Непросто в летнюю страду разыскивать хуторян: кто в поле, кто на бахче, кто в саду. Днем в куренях ни души, вечером - не лучше: один повел в ночное коней, другой - сторожит склад...
Но следопыты вездесущи, неустанны, упорны.
- Как же, с Евдокимом Павловичем, как с вами, стоял, - услышали наконец ребята. - И в отряд его записался. Жаль, служить под его началом пришлось недолго.
Это был Петр Сидорович Киричков. Встреча его с Огневым произошла так.
В середине апреля 1918 года небольшой конный отряд во главе с комендором занял хутор Казачий Хомутец. На площади собрались хуторяне. Огнев речь сказал, призвал казаков пополнить отряд, встать на защиту Советской власти.
В соседнем хуторе Веселом белоказаки засели. Атаман из Веселого прислал парламентеров: мол, зачем кровь проливать, давайте миром все порешим, за стол вместе сядем, договоримся.
Атаман к Огневу парламентеров послал, чтобы время тянули, а сам из станицы Багаевской запросил подмогу.
На рассвете две сотни белоказаков окружили Казачий Хомутец. У комендора отряд малочисленный - семьдесят сабель, да еще раненые на подводах.
Огнев приказал своим конникам отходить через Маныч, спасать раненых, а сам с группой бойцов прикрыл отход.
Была в отряде трофейная пушка. Развернул ее комендор, ударил по белякам, заплясали разрывы, захрапели кони, заметались.
Атака захлебнулась.
Перестроились беляки, с разных сторон двинулись. И опять, попав под огонь, откатились.
У комендора кончились снаряды. Из всей группы прикрытия трое остались: сам Огнев, его ординарец-подросток да казак, примкнувший к отряду в Казачьем Хомутце.
Решили отходить. В балке вскочили на коней и, отстреливаясь, - к Манычу. Возле скифского кургана тот казак, примкнувший перед боем, неожиданно спешился и выстрелами в спину убил и комендора, и его ординарца-подростка...
Петра Киричкова Огнев принял в отряд ездовым. И оружия ездовому не дали - лишнего не было. Поэтому белоказаки, схватив Киричкова, убивать его не стали, кулаками отбутузили, в горницу атамана доставили.
Пока лежал он, связанный, на полу, убийца Огнева перед атаманом бахвалился. От него, от Киричкова, и узнали хуторяне имя убийцы...
Комендора захоронили в безымянном скифском кургане близ Маныча. С годами жители Казачьего Хомутца окрестили курган по-своему: Огнев курган.
Эстафету поиска от пионеров хутора Веселого приняли пионеры Казачьего Хомутца. В одноэтажной восьмилетке лучшую комнату отвели под музей. Стеллажи, полки, стены быстро заполнились ребячьими экспонатами. Среди них - ключ от комбайна.
Ключ этот имеет свою историю. Из металлолома, собранного школьниками, рабочие "Ростсельмаша" построили комбайн. Ребята назвали его "Авроровец". Работает комбайн на полях колхоза "Красный Октябрь".
В школьном музее записаны рассказы старых казаков, служивших в отряде Евдокима Огнева. Один из них - Василий Михайлович Курилов - прирос душой к следопытам-пионерам. Как выдастся досужий часок, затомится в курене, скажет старухе:
- Ты уж поскучай, а я - к Евдокиму Палычу.
И идет в школьный музей.
Лицо, шея и руки Курилова побронзовели от степных ветров и южного солнца. Не берет загар только узловатые сабельные шрамы. Ребята, показывая на шрамы, бередят былое, расспрашивают: "А это когда? А это?"
На подвижном загорелом лице ходят морщины, рассказывает Василий Михайлович и о сабельных атаках, и о своем командире, сохранившем в Сальских степях полосатую тельняшку...
Жители Казачьего Хомутца перезахоронили Евдокима Огнева. Прах его перенесли на хуторскую площадь, на которой он выступал перед последним в своей жизни боем.
Конные и пешие, со знаменами и оркестрами, стеклись люди с берегов Дона и Маныча. Когда разрыли на кургане могилу, всех поразило: ленты на бескозырке комендора не истлели, лишь поблекли буквы. Все прочли: "Аврора".
Набожные старухи даже крестились: не берут годы комендоровы ленты.
У могилы школьники посадили тую и можжевельник, поставили обелиск с барельефом Евдокима Огнева.
У обелиска в почетном карауле - пионеры-авроровцы. На рукаве каждого силуэт крейсера.
Когда солнце клонится к закату, лучи освещают лицо комендора, лазоревые тона отступают перед багряными, и зарево, как полотнище, опоясывает площадь.
Рассказывает руководитель поиска Тамара Шрамко:
"Лиха беда - начало". Хорошо сказано. Лучше не скажешь! И словно о нас - так точно. А "мы" - это человек десять - двенадцать, красные следопыты веселовского Дома пионеров.
Помню, перед вечером, после уроков, собрала я их и прочитала письмо ростовских пионеров про их встречу с комиссаром Белышевым, про Евдокима Огнева, комендора "Авроры", погибшего на берегу Маныча, в Сальских степях.
Долго рассматривали ребята портрет комендора, старались запомнить черты лица, будто Евдокима Павловича можно встретить, узнать среди живых казаков...
Вышли мы из хутора в свой поисковый поход, оглядела я мою ребячью гвардию, и сердце у меня защемило: ох, думала, не справимся, осрамимся, по плечу ли нам такое дело? Ведь ничегошеньки не знаем. Погиб на Маныче... Сколько десятилетий минуло. В гражданскую кони топтали наши степи, в Отечественную танки утюжили, целые поколения сменились...
Да, лиха беда - начало. Вспоминала я моих ребяток, следопытов, мальчиков и девочек, кажется, девять душ в поход отправилось, вспоминала недавно, когда в районной станице Багаевской народу собралось столько, что иголке негде было упасть. Собрались люди проводить участников автопробега. Хорошее задумали дело - автопробег по тем местам, где жил Евдоким Огнев, где предательская пуля его свалила.
Маршрут наметили толковый, три области - Ростовская, Волгоградская, Воронежская. Больше двух тысяч километров получилось. Участники пробега все люди уважаемые: одни в гражданскую и Отечественную отличились, другие на полях, в колхозах и совхозах наших Сальских степей прославились.
Многое мы повидали. И станицу Егорлыкскую с окрестными партизанскими балками, и хутора Маныч-Балабинку, Веселый, и Пролетарск - бывшую Великокняжескую - из нее Огнев на флот ушел.
Встречали нас с музыкой, с хлебом-солью; в Богучаре, Каменске, Шахтах, Новочеркасске все население собиралось. А когда ветеран гражданской войны Григорий Липцов о боевых делах Евдокима Огнева рассказывал, люди замирали, тихо было так - дыхания не слышно.
Больше всего меня растрогало, когда Саша Шевцов, следопыт из веселовского Дома пионеров, передал землякам Огнева - жителям Старой Криуши - горсть земли, взятую на могиле комендора, пучок полыни и ковыля, выросших близ Огнева кургана, там, где упал он, сраженный выстрелом.
Вот и породнились селение, где родился Евдоким Огнев, где первые шаги по земле сделал, и станица, где последнее слово сказал, - земля, на которой последний вздох сделал.
Теперь и спор кончился - чей он, комендор "Авроры", - воронежский, волгоградский или ростовский.
Всей нашей земле принадлежит он...
Наводчик Александр Попов
Если судьба Евдокима Огнева уводит в прошлое, уже неблизкое, оставленное за чертой нескольких поколений, судьба другого авроровского артиллериста - Александра Попова - уводит в "сороковые, роковые". Она тоже драматична. И тоже - по весьма веским причинам - не сразу открылась современникам.
8 июля 1941 года Александр Попов последний раз взглянул на "Аврору" и в машине лейтенанта Антонова выехал в район Вороньей горы. Ему, ленинградцу, хорошо знавшему и Дудергоф, и Воронью гору, казалось, что он не удаляется, а приближается к дому.
"Недальнее плавание", - сказал он товарищам.
11 сентября 1941 года лейтенант Антонов и политрук Скулачев подорвали себя в артиллерийском погребе. Живыми не сдались. Это, видно, ошеломило гитлеровцев. Может быть, поэтому раненых, захваченных в землянке, обескровленных и беспомощных, расстреливать они не стали, побросали на подводы, повезли.
Подводы поскрипывали вдоль глубокого противотанкового рва. На дне рва темнела дождевая вода.
"Живыми зароют, - решили раненые. - Всех свезут и зароют".
Попов так обессилел от потери крови, что вот-вот мог впасть в забытье. Смерть уже не страшила, а забыться не давали толчки. Колеса подводы попадали в рытвины, от толчка боль разливалась по всему телу. Стон сдержать было невозможно, как ни старался.
Сведенные болью лица очень веселили и забавляли гитлеровцев. Они гоготали, скалили зубы, чмокали языками.
В эти минуты Попов проклинал себя за то, что не смог подавить стон, вырвавшийся сам собою, и, проклиная, прислушивался к артиллерийскому гулу. Ему чудилось, что он различает голоса авроровских пушек. Возможно, восьмое и девятое орудия еще вели огонь. Больше всего на свете Попову хотелось, чтобы здесь, рядом, взорвался снаряд и в прах превратил этих гогочущих двуногих с закатанными рукавами и потными лицами.
В одном месте ров был завален изуродованными, искромсанными оконницами. Тела почти доверху заполнили огромные ямы. Поблизости зияли воронки.
Гитлеровцы остановили подводы именно в этом месте, рядом с кровавым месивом, и устроили перекур. Они выкрикивали какие-то фразы, Попов понимал лишь отдельные слова: "russische Mдdchen", "schlaffen" и еще что-то.
После выматывающей езды вдоль рва, казавшейся бесконечной, свернули на проселок. Ров остался в тылу. Раненые догадались, что если и ждет их смерть, то не в этих ямах, а в каких-то других.
Вечером их погрузили в товарный вагон. В вагоне пахло навозом и чем-то застояло прокисшим. Был плотный мрак. Двери сперва закрыли, а потом заколотили, как заколачивают гроб. Эшелон тронулся.
Скрипели и стонали доски старого, расшатанного и разъезженного вагона. Стонали раненые. День от ночи отличался тем, что в узкие щели робко струился скудный свет.
На станциях двери не отворяли. Слышалась лающая речь. Дважды или трижды подходили соотечественники, доносились русские слова, удары молоточка о колеса. Связаться с ними не удалось.
Один из раненых постучал в дверь, попросил:
- Браток, а браток, выручи, воды глоточек! Подыхаем!
В ответ хлестнула по вагону автоматная очередь. В пробоины засочились струйки света.
Попов ходить не мог - люди лежали плотно. Запах пота, крови и прелой одежды стоял в вагоне.
Сосед Попова перестал стонать. Глазницы запали, как на трупе. Потормошить бы, но было страшно - вдруг умер?
Однажды на эшелон напали партизаны. Где-то недалеко, вероятно на железнодорожном полотне, рванули воздух взрывы, загремели выстрелы.
Стояли долго. Тронулись поздно, когда в щели не проникали даже убогие струйки света.
Тупая безучастность овладела Поповым. Нога ныла все глуше, все отрешеннее, будто и не его нога, а чужая. Мучительнее переносилась жажда, сухой язык касался растрескавшихся губ, не освежая их.
Ночью мерещилось бульканье воды. Проваливаясь в не-долгий и беспокойный сон, он видел воду и слышал ее плеск. То ударяли по воде весла шестерки, то он в скафандре опускался в синюю глубину. Удивленные рыбы проплывали рядом, выпучив круглые и недобрые глаза.
Даже во сне он делал глотательные движения и тянулся ртом к руке, держащей ковш воды, а просыпаясь, чувствовал, что им овладевает безумие.
Опять в щели заструился свет. Сколько времени они в дороге? Он потерял счет, сбился, череда монотонно-похожих дней как бы погрузила его на дно серой, безысходно-глубокой ямы.
Сосед скончался. Тогда, накануне, он был еще жив. А утром по лицу пробежала судорога, он захрипел и, откинув голову; открыл рот.
На станциях, сколько ни прислушивались, русская речь не доносилась. Наконец эшелон куда-то прибыл, расколотили двери и начали выгружать раненых и мертвых. Мертвых бросали в огромный прицеп, полуживых сгружали в кузов грузовика.
Вокзал, крытый черепицей, с кирпичной башенкой в центре, с непонятными готическими буквами над фасадом, был почти пуст. Шел дождь. Раненые пересохшими ртами ловили дождинки.
Их выгрузили в концлагере, километрах в пяти от станции. В глубине лагеря темнели мрачные бараки. Эти бараки были перегружены или предназначались для других. Вновь привезенных выгрузили на голую землю, без единого кустика, без построек, без навеса от дождя. Вокруг - ряды густой проволоки, настолько густой, что и воробью не пролететь.
Попова поразило: все это просторное поле было изрыто лунками. Он пополз. В лунке, прикрытой шинелью, оказался мертвец. В другой лежал раненый. От него узнал: кормить не будут. И воды не дадут. Не надейся. Протянешь день или два - куда-нибудь определят. Кого в барак переведут. Кого, говорят, в госпиталь...
Решил рыть лунку. Земля была нетвердая. Приспособил для этого пряжку от ремня. Работал небыстро, уставал. Томила жажда. Днем появился офицер. Что уж он высматривал или выискивал на этом унылом поле - неизвестно, шел медленно, высоко держа голову и важно неся на черной повязке согнутую руку.
Какая нечистая дернула Попова за язык - он и сам не мог объяснить, но в тот момент, когда офицер поравнялся с ним, вырвалось из тайников детской памяти злополучное слово "Wasser". Офицер остановился, неохотно наклонил голову, разглядывая, кто это там, внизу, на земле, поверженный, смеет к нему обращаться. Здоровой рукой вынул из кобуры парабеллум.
Глаза смотрели в глаза. Офицер целился Попову в переносицу. Холодок смерти коснулся лба. Сами собой смежились ресницы. Предчувствие выстрела раскололо череп.
Офицер не выстрелил.
А на следующее утро на поле въехали три огромных черных фургона, похожие на сдвоенные или строенные автобусы, неуклюжие, брюхатые, глухие, без единого окна.
Офицер в мегафон объявил: "Нуждающиеся в медицинской помощи грузитесь!"
Серое поле зашевелилось, пришло в движение. Из лунок, стряхнув оцепенение, поползли люди к черным фургонам.
Пополз и Попов. Апатия, бессилие, обреченность - все отступило перед жаждой жизни. Слева, справа, тяжело дыша, поминутно замирая, чтобы передохнуть и набраться сил, волокли тела люди, лишь бы поскорее выбраться из этих могильных лунок.
Попов накануне разглядывал свою ногу. Оборвав нижние края тельняшки, он стянул раны. Запах гноя и тлена ударил в нос. Нога посинела.
Пузатые фургоны казались спасением. Метрах в ста от цели, вконец обессилев, Попов уткнулся в землю. Руки дрожали. Из горла вырывались хрипы. Наступал предел его возможностей. И все-таки, превозмогая себя, он пополз.
Было совсем близко. Слышалось урчание моторов. В кабине ближайшего фургона шофер ковырял в зубах зубочисткой.
Неизвестный окликнул:
- Морячок, стой! На тот свет спешишь?!
Он не полз, а сидел, и следов ранения на нем не было.
Попов хотел ответить - не хватило силы, повел пересохшими губами:
- Нога.
Незнакомый кивнул в сторону барака:
- Есть у нас лекарь. Поможет. А там сожгут...
Позднее он узнал: обессиленных отвозили в черных фургонах в крематорий. А в бараке русский фельдшер, тоже из пленных, оказывал товарищам медицинскую помощь.
Медикаментов почти не выделяли: бумажные бинты, йод. Вместо скальпеля пользовался хорошо прокаленным на огне перочинным ножом.
Попов лег на сколоченный из досок самодельный стол. Возле стола стоял ящик, из которого торчали отпиленные ноги.
- Кричи, - сказал фельдшер. - Легче будет.
Он кричал, пока мог кричать, стонал, пока мог стонать, потом трясся в ознобе на нарах, сгорал в жару температуры. Он выжил.
В ранах копошились черви, от зуда не избавляло ничто - хотелось повеситься, броситься под колеса машины, но он не повесился и не бросился под колеса...
Зимой его свалил тиф. Перед отправкой в тифозный барак раздели донага, вывели на снег и, обливая кипятком, драили шваброй.
Тифозный барак походил на морг. На нарах костенели трупы.
Он выжил.
Поздней осенью 1944 года, когда к Пруссии приблизился фронт, Александр Попов бежал из лагеря...
Человеческая память - это вторая жизнь героя. Жизнь долгая. Ей тесны календари. Ее продолжают новые поколения.
Следопыты бывшего Дудергофа - ныне поселка Можайского - разыскали матроса с "Авроры" Александра Попова. Ему было чуть больше тридцати, когда он вернулся с войны. Он еще прихрамывал. На груди его был орден Славы, полученный под Берлином. А на голове - ни одной темной пряди. Он был бел как лунь...
На уроках мужества в школе о Попове рассказывают были, похожие на легенды.
На уроках мужества рассказывают о беспримерной храбрости Алексея Смаглия, о подвиге Александра Антонова...
По крупице накапливался материал о моряках-артиллеристах батареи "А". Среди пионеров этой темы были научный сотрудник крейсера-музея И. Батарин, офицер-балтиец К. Грищинский, директор можайской школы-десятилетки Е. Зуборовский, энтузиастка поисковой работы учительница Н. Хямяляйнен. Теперь не сотни, а тысячи и десятки тысяч людей приезжают на Воронью гору, чтобы осмотреть позиции знаменитых авроровских орудий, защитивших Ленинград. И скоро скромный памятник комендорам, созданный их юными наследниками, перерастет в мемориал, в артиллерийском дворике каждой из девяти пушек батареи "А" подымется стела с именами непобежденных...
Человеческая память - вторая жизнь героя. Уже никогда не взойдет на борт "Авроры" ее первый комиссар Александр Белышев, но его голос, сохраненный для грядущего, звучит в корабельном музее; никогда не станет у баковой пушки крейсера комендор Евдоким Огнев, но люди со всех концов света ежедневно стоят у его пушки...
Однажды, многие годы молчавшая, погруженная в музейный покой, ожила радиорубка "Авроры". Было решено в канун 60-летия Октября передать из рубки ленинское воззвание "К гражданам России!".
К передатчику сел ленинградский радист Александр Иванович Сазонов. Соратники Сазонова рассказывают: у Александра Ивановича подрагивали пальцы, повлажнели глаза. На несколько секунд он замер.
Что в эти минуты испытывал Сазонов? Отец его, солдат Октября, погиб в семнадцатом; сам он, радист блокадного Ленинграда, выжил чудом. К концу блокады Сазонов - крупный, высокий мужчина - весил тридцать шесть килограммов...
Александр Иванович овладел собой. Застрекотала морзянка. В эфир полетели позывные "Авроры": "Всем, всем!"
Слабые сигналы, шорохи, треск атмосферных разрядов - ничто не могло помешать передаче. Слова воззвания, как шестьдесят лет назад, летели в эфир.
В числе первых откликнулся Ростов-на-Дону. Это было знаменательно: 25 октября 1917 года рация революционной яхты "Колхида", стоявшей в Ростовском порту, приняла передачу "Авроры".
Теперь, кажется, не было на земле уголка, где бы не услышали воззвание. Радиолюбители 140 стран откликнулись на радиопередачу из рубки крейсера.
Александр Иванович Сазонов долгие месяцы посвятил непредвиденной и увлекательной работе: регистрировал карточки, поступившие от радиолюбителей неведомых островов, далеких стран, затерянных в океане архипелагов.
Позывные "Авроры" услышал весь мир!
Новый день встает над Ленинградом. Солнце, прорвав кучевые облака, бросает блики на темные воды Большой Невки. Река светлеет. И "Аврора" - от гюйсштока до юта - вся озаряется, явственнее обозначаются ее строгие линии, ее выдвинутые вперед рубки, ее стремительные мачты.
Ровно в восемь утра вздрогнет корабельный колокол, качнется металлический язычок, отбивая склянки, воздух наполнится сигналами горластого горна, и на юте, где замрут ряды авроровцев, по флагштоку поплывет флаг ордена Октябрьской Революции, Краснознаменного крейсера.
На "Авроре" начинается трудовой день. А в 10 часов 30 минут часовой на трапе скажет экскурсантам, давно ждущим этой секунды:
- Добро пожаловать!
И потечет людской поток, неиссякающий, неизбывный.
Из года в год идут и идут люди. Подымаются на палубу, как на командирский мостик, с которого видно далеко-далеко. И если верно, что "Аврора" - на вечной стоянке, то не менее верно и то, что "Аврора" - в вечном плавании по волнам времени...
Примечания
{1} А. Новиков-Прибой.
{2} Гамбургская компания по договору с Россией на всем пути следования эскадры снабжала ее углем и фрахтовала в различных странах суда.
{3} Из писем флагманского инженера Е. С. Политовского.
{4} Эту фразу, по свидетельству матроса Андрея Подлесного, произнес комендор Аким Кривоносов.
{5} Описание военных действий на море... (в 1904-1905 гг.), составленное Морским Генеральным штабом в Токио. СПб, 1910, с. 76.
{6} Исторический журнал крейсера I ранга "Аврора", с. 98. Журнал хранится в корабельном музее.
{7} Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 10, с. 254-255.
{8} Многие авроровцы, чьи воспоминания хранятся в фондах корабельного музея, говорили о священнике Любомудрове как о провокаторе.
{9} Эту песню и стихи о Франко-русском заводе сочинил рабочий Глухоченков. Они печатались в журнале "Металлист". Глухоченков был арестован за участие в революционных кружках. Дальнейшая его судьба неизвестна.
{10} И. Д. Чугурин - член Петербургского комитета, секретарь Выборгского комитета. Учился в ленинской школе в Лонжюмо, участник революционных событий в Сормово.
{11} 8 марта по новому стилю.
{12} Во время ремонта электрический ток на "Аврору" подавала электростанция Франко-русского завода.
{13} Склянка - получасовой промежуток времени, отмечаемый на флоте ударом в колокол.
{14} В октябре 1915 года на линкоре "Гангут" матросы подняли бунт против издевательств старшего офицера и недоброкачественной пищи. 95 матросов были арестованы, 26 из них осуждены на различные сроки каторги.
{15} "Аврора" была первым кораблем русского военно-морского флота, поднявшим в феврале 1917 года красное знамя.
{16} Хабалов - генерал-лейтенант, командовавший Петроградским военным округом. За тридцать минут до капитуляции, в 11 часов 30 минут, 28 февраля 1917 года Хабалов отвечал по прямому проводу на вопросы генерал-адъютанта Иванова, которого Николай II наделил чрезвычайными полномочиями, поручив силою карательных отрядов утопить в крови восстание в Петрограде. Вот этот разговор:
"1. Какие части в порядке и какие безобразят?
- В моем распоряжении в здании главного Адмиралтейства четыре гвардейских роты, пять эскадронов и сотен, две батареи, прочие войска перешли на сторону революционеров или остаются, по соглашению с ними, нейтральными. Отдельные солдаты и шайки бродят по городу, стреляя в прохожих, обезоруживая офицеров.
2. Какие вокзалы охраняются?
- Все вокзалы во власти революционеров, строго ими охраняются.
3. В каких частях города поддерживается порядок?
- Весь город во власти революционеров, телефон не действует, связи с частями города нет.
4. Какие власти правят этими частями города?
- Ответить не могу.
5. Все ли министерства правильно функционируют?
- Министры арестованы революционерами.
6. Какие полицейские власти находятся в данное время в нашем распоряжении?
- Не находятся вовсе.
7. Какие технические и хозяйственные учреждения военного ведомства ныне в вашем распоряжении?
- Не имею.
8. Какое количество продовольствия в вашем распоряжении?
- Продовольствия в моем распоряжении нет.
9. Много ли оружия, артиллерии и боевых припасов попало в руки бастующих?
- Все артиллерийские учреждения во власти революционеров.
10. Какие военные власти и штабы в вашем распоряжении?
- В моем распоряжении лично начальник штаба округа. С прочими окружными управлениями связи не имею".
{17} Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов установил: "Нижние чины всех родов войск и чины городской милиции, едущие одиночным порядком, имеют право на бесплатный проезд в вагонах трамвая..."
{18} Эти слова, как сообщила газета "Новое время" от 25 марта 1917 года, произнес 23 марта Алексей Егорович Бадаев. Среди присутствовавших на Марсовом поле был и Герман Лопатин, близкий друг и ученик Карла Маркса, первый переводчик "Капитала" на русский язык.
{19} По предварительным данным, как сообщила "Правда" 25 марта 1917 года, через Марсово поле прошло 800 тысяч человек.
{20} 184 раза салютовали орудия Петропавловской крепости в память жертв Февральской революции.
{21} Обстановку в сентябре 1917 года так охарактеризовал В. И. Ленин: "Получив большинство в обоих столичных Советах рабочих и солдатских депутатов, большевики могут и должны взять государственную власть в свои руки".
{22} "Слава" - русский линкор, затоплен после морского боя при защите Моонзундского архипелага.
{23} Бригада крейсеров в составе "России", "Дианы" и "Громобоя". В нее входила и "Аврора".
{24} Модест Иванов поддержал матросов 2-й бригады крейсеров, недружелюбно встретивших помощника морского министра эсера В. И. Лебедева, который вел себя вызывающе во время инспекционного смотра кораблей. Приказом по министерству капитан ранга Иванов был уволен в отставку.
{25} П. А. Половцев в июльские дни 1917 года был командующим войсками Петроградского военного округа. Бежав из революционной России в Париж, Половцев опубликовал книгу воспоминаний "Дни затмения", в которой с нескрываемым цинизмом рассказал о своей роли в расстреле мирных петроградских манифестаций.
{26} Это постановление ВРК, привезенное Петром Курковым из Смольного, было передано "Авророй" в эфир. Его приняли радиостанции многих гарнизонов. В Выборге была задержана 5-я Кубанская казачья дивизия, в Царском Селе ударный батальон, в Ревеле нейтрализованы ненадежные полки 3-го конного корпуса, в Петрограде обезоружена 1-я школа прапорщиков.
{27} Обращение "К гражданам России!" было написано В. И. Лениным.
{28} Записки музея. Л., 1958, с. 13.
{29} А. С. Коренев - член Чрезвычайной комиссии по делам бывших (царских) министров - ошибочно полагал, что "Аврора" пришла из Кронштадта.
{30} Ныне Высшее военно-морское училище имени адмирала П. С. Нахимова.
{31} Ныне Гатчина.
{32} Только в течение одного дня моряки-артиллеристы уничтожили двенадцать танков противника и рассеяли сотни гитлеровцев. Эти сведения приведены в книге И. Козлова и В. Шломина "Краснознаменный Балтийский флот в героической обороне Ленинграда". Л., 1979, с. 122.
{33} "Временный путевой лист" находится в экспозиции Музея истории Ленинграда.
{34} "Красный Балтийский флот", 1932, 4 апреля.


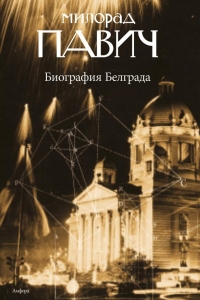
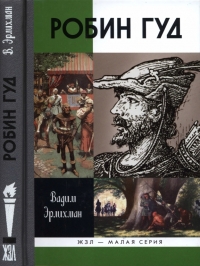
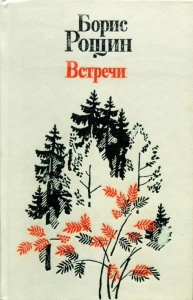
Комментарии к книге «Судьба высокая 'Авроры'», Юрий Михайлович Чернов
Всего 0 комментариев