Дмитрий Сергеевич Мережков Маленькая Тереза (Приложение)
Смерть отца
Как прошел шестнадцатый год жизни ее – последний год ожидания Кармеля, об этом не вспоминает Тереза в «Истории одной души», а может быть, не помнила уже и тогда, когда этот год проходил. Если бы стрела, пущенная из лука в цель, могла чувствовать то, что с ней происходит между двумя мигами – тем, когда она слетела с тетивы, и тем, когда вонзилась в цель, то чувствовала бы то же, что Тереза в этом году.
Вместе вспоминает она о своем вступлении в Кармель и о начале смертельной болезни отца, может быть, потому, что эти два события не только одновременны, но и внутренне связаны, как причина и следствие.
Точно говоря, было не одно, а четыре вступления в Кармель, четыре двери, в которые надо было ей войти, чтобы вступить в Кармель окончательно, заживо для мира и для отца умереть: через первую дверь входит она при вступлении в послушницы 9 апреля 1888 года; через вторую – при облачении в рясу, prise d'habit, 10 января 1890 года; через третью – давая обет 8 сентября 1890 года; и, наконец, через четвертую – при пострижении в монашество 24 сентября 1890 года. Входя в каждую из этих четырех дверей, надо ей переступать через лежащее на пороге тело убиваемого ею отца; каждый раз думает она, что он уже умер, и видит, с возрастающим ужасом, что все еще жив и, почти труп, влачится за ней от двери к двери. И это длится три года.
«Эти три года кажутся мне самыми счастливыми и плодотворными в жизни моей». Страшное слово!
1
Что такое чудо святости, этого люди наших дней не знают или не хотят знать, а между тем чудо это в жизни св. Терезы Лизьеской совершилось перед нами и будет совершаться воочию, потому что эта жизнь бесконечна, по своим последствиям, не только для христиан, но и для отказавшихся от Христа людей нашего времени. «Будут еще святые, увенчаны венком святости в Римской Церкви, но уже не будут в миру», – предсказывал Реноне, как раз накануне тех дней, когда Тереза Лизьеская увенчана была венком святости не только в Церкви, но и в миру, и даже раньше в миру, чем в Церкви (Ghéon. Ste Thérèse de Lisieux, 1934, с. 74).
Что такое святость? Отсутствие зла? Нет, бесконечно растущая победа над бесконечно растущим злом. Это мы знаем, может быть, лучше святых, потому что нет у них такого страшного сознания, как у нас, такого направленного в самую глубину сердца, ослепительного прожектора. Кажется, глубже нельзя заглянуть в звездное небо, чем заглядываются люди наших дней; но вот, оказывается, можно: чем больше скрывается от человеческого взгляда вечная тайна мира, тем бесстрашнее и неутомимее человеческая жажда знания. Если бы великий ученый оказался на другой планете, то делал бы на каждом шагу удивительные открытия, а Маленькая Тереза делает их на нашей старой, бедной и скучной земле. Ни Канта, ни Эйнштейна, ни Лобачевского не знает она, но есть у нее тончайшие познавательные приборы и точнейший химический анализ, чем у них.
«Будьте, как боги» – в этом дерзновении человечество, в лице маленькой Терезы, зашло так далеко, что уже нельзя ему вернуться назад, можно только идти вперед, чтобы погибнуть или спастись. Чем спастись, могли бы узнать по религиозному опыту Маленькой Терезы, если бы мы поняли его как следует. В мир послав ее, Бог был к миру так милосерд, как только мог. Вот почему для нас нужнее всех святых она, и, узнав ее, мы не можем не полюбить ее, как родную.
Святость есть мудрость и знание, а грех – безумие и неведение. Но вот что удивительно: грешные люди знают иногда то, чего не знают святые, – что высшая точка христианства есть «согласование противоположностей», accorder les contraires, по слову Паскаля, соединение двух Божественных начал в Третьем – Отца и Сына в Духе; знают грешные люди, чего не знают святые, – что ни одна из Церквей, ни католическая, ни православная, ни протестантская, все еще не Церковь Вселенская, спасение человечества, и что Церковь эта может явиться только под знаком Трех – Отца, Сына и Духа: вот почему только Трое – св. Тереза Испанская, св. Иоанн Креста и св. Тереза Лизьеская – введут человечество в Церковь Трех.
«9 апреля 1888 года был день, назначенный для моего вступления в Кармель послушницей. В этот день праздновалось отложенное из-за костра Благовещение… Утром, взглянув в последний раз на Бьюссонский дом, милое гнездо детских дней моих, я пошла в обитель Кармеля, где стояла у обедни с родными. Когда Иисус сходил в сердце мое, я слышала только рыдание близких моих, и хотя сама не плакала, но когда шла, впереди всех, к воротам обители, сердце мое билось так, что мне казалось, что я умираю. О, как я страдала! Это надо пережить, чтобы понять. Я обняла моих родных и стала на колени перед отцом, чтобы он меня благословил. Он тоже стал на колени и благословил меня, плача… И двери Кармеля закрылись за мной навсегда», – писала Тереза позже в своей книге. Вел ее отец в обитель Кармеля, как невесту на брачное ложе и как жертву на заклание.
12 февраля 1889 г., через месяц после того как Тереза приняла обет, узнала она, что отец ее тяжело заболел: с ним сделался удар и начался паралич. «Кажется, нельзя было больше за отца страдать, чем я страдала. Выразить это не могли бы никакие слова, и я не буду об этом говорить. А между тем три года смертельной болезни отца моего кажутся мне самыми счастливыми и плодотворными в жизни моей. Я не променяла бы их ни на какой экстаз» (Ghéon, 134). Так же как Иоанн Креста счастлив во тьме кромешной в аду, как в раю, «без всякого утешения земного и небесного».
Надо очень любить ее и очень верить в нее, чтобы, прочитав эти слова, не бежать от нее в ужасе. Но ведь и ученикам Иисуса надо было любить Его и очень верить в Него, чтобы, услышав из уст Его, может быть, самое страшное, когда-либо людям сказанное слово о ненависти любящих к любимым, не бежать от Него в таком ужасе, как все готовы бежать от Терезы.
В страшном и святом поединке Маленькой Терезы кто из них больше страдал, умирал, хотел и не мог умереть – убиваемый отец или убивающая дочь, святой или святая, – этого они сами не знали; знали только: один и тот же меч прошел им душу обоим. Две стороны одного режущего лезвия – два вопроса без ответа: хорошо ли мы делаем, что убиваем друг друга? Страшен этот сказанный вопрос, но еще страшнее немой: «Хорошо ли сделал Тот, Кто велел любящим убивать любимых?» «Иго мое благо, и бремя легко», – это же Он сказал. Но кто возлагает на людей злейшее иго и тягчайшее бремя, чем это? «Чти, благословляй, люби Отца своего», – говорит Отец. «Проклинай, ненавидь, убей Отца своего», – говорит Сын. Сын против Отца; Отец против Сына? Этого не говорили они и даже не думали, но где-то, «в самой, самой глубине, в самом сердце души» (по чудному слову Терезы Испанской), это было как начало смертельной болезни. Когда она говорит: «О, как я страдала. Надо самому пережить, чтобы понять» – это не пустые слова. Сам Иисус в Гефсиманскую ночь блаженствовал на лоне Пресвятой Троицы, но это не облегчало смертных мук Его.
Неудивительно, что ужаса этих вопросов не вынес и умер в полубезумии отец Терезы; удивительно то, что сама она выжила и осталась разумною. Что лучше – такая жизнь или такая смерть, – трудно решить.
8 сентября 1890 года, в ночь перед самым произнесением обета, среди горячих молитв и экстазов, вдруг великое искушение постигло ее. «Вместо утешения испытывала я только сухость души и богоотвержение. Это была сильнейшая буря за всю мою жизнь. В самом конце обета, во время ночной молитвы, обыкновенно столь сладостной, вдруг показалось мне мое пострижение безумной и невозможной мечтой. Диавол – потому что это был он – внушил мне уверенность, что Кармель не для меня, что я обманываю всех (старших), вступая на путь, на который вовсе не призвана. Ночь моя – это „Тема Ночи Духа“, то же, что у св. Иоанна Креста, – ночь моя сделалась такою черною, что я почувствовала только, что должна вернуться в мир. Как выразить тогдашнюю муку мою? Я не знала, что мне делать, и наконец решила исповедаться игуменье в искушении моем и, вызвав ее, призналась ей во всем. К счастью, увидела она душу яснее, чем я сама, над моим признанием только посмеялась, и тотчас же диавол бежал от меня; он только хотел помешать мне и этим завлечь меня в западню, но не он, а я его поймала. Чтобы до конца унизиться, я призналась игуменье во всем, и утешительный ответ ее рассеял все мои сомнения окончательно. Утром 8 сентября, воды мира нахлынули в душу мою так, что в мире том, который „превыше всякого ума“, я произнесла мой обет». «Я призналась игуменье во всем», – вспоминает Тереза. Но, может быть, о главной причине ее искушения – о муках ее за отца – здесь все-таки умолчано; две стороны одного режущего лезвия, два вопроса без ответа – хорошо ли делают они, что убивают друг друга? И хорошо ли сделал Тот, Кто велел им друг друга убивать?
2
Очень знаменательно, что Папа Лев XIII, который угадал так пророчески в четырнадцатилетней девочке Терезе то же опасное для Римской Церкви, потому что возможно «еретическое», что угадал и в св. Терезе Испанской тот инквизитор, который предсказывал, что если бы прожила она дольше, то была бы отлучена от Церкви за «ересь» (это же мог бы предсказать и о св. Иоанне Креста), – очень знаменательно, что этот именно папа оказался христианским социалистом. Трудно поверить, что такой умный человек и проницательный политик, как Лев XIII, мог соблазниться таким грубым соблазном, как христианский социализм, что такая рыба могла быть поймана такой маленькой удочкой и что сразу не понял он, что христианский социализм есть прежде и больше всего немудрая для Церкви политика, покушение с негодными средствами, обращение в христианство, из-за грубой выгоды того, кому столько же дела до Христа, сколько до прошлогоднего снега; трудно поверить, что такой умный человек сразу не понял, что в христианском социализме он сделается маленьким «Великим Инквизитором», как в «Легенде» Ивана Карамазова.
В противоестественном соединении социализма с христианством происходит нечто подобное тому, что шабаш ведьм, где «жида с лягушкой венчают», потому что душа христианства есть воля к «Царству Человеческому», сначала без Бога, а потом и против Бога. Тот же и здесь свойственный всему XIX в. дурной вкус – дурной запах: древнюю тиару Верховного Первосвященника не побрезгал Папа Лев XIII заменить новым котелком социалиста Жореса или даже коммуниста Ленина.
«Я хотела бы, чтобы Бог принудил всех людей спастись, – ведь Он это может», – скажет Маленькая Тереза накануне смерти (Н. Ghéon, 74). Если может спасти, то почему же не спасает? Знает она, конечно, ответ: потому что «принудительным» спасением отнял бы Он у людей свой божественный дар, Свободу.
Истина сделает вас свободным… Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете (Ио., 8, 32 – 36).
Вот, кажется, из всех слов Господних самое непонятное сейчас не только для мира, но и для Церкви, православной, католической и протестантской, одинаково, потому что для них для всех несомненно, что свобода значит «мятеж», а мятеж значит «отпадение от Церкви и отступление от Христа», а что Церковь может быть меньше Христа, потому что не Он – от нее, а она – от Него, это давно уже никто не помнит, не знает или не хочет знать ни в миру, ни в Церкви. Первая, после Паскаля, вспомнила о том, что такое свобода со Христом, св. Тереза Лизьеская. «Руки мои я простираю ко Христу Освободителю», – могла бы сказать и она, как Паскаль.
3
Жизнью св. Терезы Лизьеской в XIX веке, как в XVI-м жизнью св. Иоанна Креста и св. Терезы Испанской, во внешней Реформе, поставлен вопрос, от которого зависят последние судьбы человечества: как относится нынешняя Русская Церковь к будущей Церкви Вселенской? Этого вопроса не поняла бы св. Тереза Лизьеская так же, как не поняли бы его св. Тереза Испанская и св. Иоанн Креста. Но, сами того не желая и не сознавая, каждым движением и каждым биением сердца ставили они все трое этот вопрос и отвечали на него: будущее – Церковь Вселенская – всемирно-историческое действие Трех, Отца, Сына и Духа, начнется только тогда, когда кончится настоящая Римская Церковь – всемирно-историческое действие Двух, Отца и Сына. Здесь, на земле, эти трое – св. Иоанн Креста, св. Тереза Испанская и св. Тереза Лизьеская – только потому, что там, на небе, те Трое – Отец, Сын и Дух. Путь. Путь от настоящей Римской Церкви к будущей Вселенской Церкви проходит только через этих трех на земле так же, как через тех Трех на небе.
Первые две Реформы, внешняя, протестантская, и внутренняя, католическая, отделены от второй, той, которую начинает, сама того не зная и не желая, св. Тереза Лизьеская будущей, уже не протестантской и не католической, а вселенской Церкви, являются одним из величайших событий всемирной истории, Великой Французской Революции и всем, что родилось от нее, за последние четыре века до наших дней, хотя уже под другим знаком, но с тем же вечным смыслом.
Кажется, души отдельных людей и собирательная душа человечества никогда еще, после Рождения Христа, не были таким расплавленным металлом или бушующим хаосом, как в наши дни, и никогда еще так не требовал хаос этот порядка, отливки этот металл. Формы для отливки не может быть иной, или, по крайней мере, люди формы иной не хотят, кроме социальной революции. Равенству жертвуют они свободой и братством в трехчленной заповеди Великой Революции: Свобода, Равенство, Братство. Опыт русского коммунизма, который привел к тягчайшему, за память человечества, рабству и к братоубийственнейшей бойне, не убедил никого, что жертва эта может быть и убийственна для человечества, потому что жажда Равенства в людях наших дней так неутолима, а страх Свободы так силен, что никакие опыты не могут их в этом убедить.
Как ни уединена была Маленькая Тереза в уединении Кармеля от всего, что происходило за стенами его, кое-чего не могла она не знать о величайшей попытке человечества устроиться на земле без Бога, о социализме; не могла она не знать об этом тем более, что и в самом Братстве Кармеля, так же как во всех монашеских Братствах, продолжалось, пусть неудачно, но с бесконечной и, может быть, ненапрасной надеждой, что будет и удача когда-нибудь, то, что люди наших дней называют «социальной революцией», и что началось еще, хотя и в совсем противоположном смысле, за две тысячи лет назад, уже в первохристианских общинах:
Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого (Деян., 2, 44 – 45).
В первый раз уже совершилось это великое чудо Свободы, Равенства в Насыщении Хлебами:
Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы, и дал ученикам Своим, чтобы они роздали им; и две рыбы разделил на всех. И ели все и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. Было же евших хлебы около пяти тысяч мужей (Мк., 6, 41 – 44).
То же великое чудо повторяется, вот уже две тысячи лет, каждый день, в Церкви, в таинстве Евхаристии, как немолчное пророчество о том, что когда-нибудь совершится не только в Церкви, но и в мире то, что люди наших дней называют так неверно и недостаточно, потому что безбожно, «социальной революцией». Каждый день во всем христианском человечестве повторяется это пророчество, но никто не понимает его, не видит и не слышит.
Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? Имея уши не слышите? И не помните? (Мк., 8, 17 – 18).
Люди все меньше помнили об этом, все больше забывали и, наконец, за последние четыре века социальной революции, забыли так, как еще никогда. Маленькая Тереза вспомнила об этом первая и поняла, что мир сейчас погибает, потому что об этом забыл, и не спасется, пока не вспомнит; первая поняла она, что голода человеческого никто не насытит, жажды не утолит; того, что люди наших дней называют «проблемой социального неравенства», никто не разрешит, кроме Того, Кто сказал, две тысячи лет назад, и сейчас говорит каждый день, в таинстве Плоти и Крови:
Я хлеб живой, сошедший с небес; идущий хлеб сей, будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира… Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день (Ио., 6, 51 – 54).
Что это значит, поняла св. Тереза Лизьеская первая, как, может быть, за две тысячи лет христианства, не понял никто; вспомнила об этом первая, и можно сказать, что все дело ее не только во времени, но и в вечности есть не что иное, как напоминание миру, сейчас погибающему так, как он еще никогда не погибал, что нет для него иного пути спасения, кроме этого. Вот почему людям наших дней, может быть, ближе она и нужнее, чем кто-либо из святых, кроме св. Терезы Испанской и св. Иоанна Креста, которые делали то же во времени и делают в вечности, что и она.
4
Маленькая Тереза, когда ей было 14 лет, горячо молилась о великом злодее Пранцини, осужденном на смертную казнь. Так же нераскаянно все человечество наших дней, как нераскаян был этот злодей, когда всходил на эшафот, где уже сверкал нож гильотины и ждал его палач, а священник подал ему распятие, он посмотрел с таким презрением, как будто плюнуть на него хотел, но в последнюю минуту, по горячей молитве маленькой, никому не известной девочки, будущей великой святой Терезы Лизьеской, совершилось чудо Божие: вдруг схватил несчастный распятие, прижал его к побелевшим губам и услышал: «Будешь со Мною сегодня же в раю!» Тем же чудом Божиим, по той же молитве Маленькой Терезы, спасется, может быть, и все человечество наших дней.
«Маленькая – великая, грешная – святая Тереза, – молится, сам того не зная, один из неверующих людей нашего времени, – мы уже не боимся тебя, и насколько ярче озаряет нас свет лица твоего теперь, когда мы вдруг увидели, что ты, в муках своих и сомнениях, так похожа на нас! Как мужество твое, без всякой помощи Свыше, делает и нас более мужественными. К самым горячим молитвам твоим были мы равнодушны, потому что это был для нас чужой, непонятный язык. Но ты сошла к нам с неба на землю, за руку взяла нас молча, и мы вдруг увидели, что ты и сама плачешь так же, как мы, и слезы твои нас утешили» (L. Delarue-Mardrus, Sainte Therèse de Lisieux, 1920, с. 7). Так никто никому из святых не молился, за две тысячи лет христианства, а только такая молитва и может спасти человечество наших дней.
«Мама моя умерла; Маленькая Тереза, защити меня, как мама!» – молился какой-то погибавший и чудом спасшийся летчик в первой Великой Войне, и сколько подобных ему! Так же могло бы молиться и все человечество наших дней. «Мама» его умершая – нынешняя Церковь, православная, протестантская или католическая, а Мама Живая, та, кого оно зовет, само того еще не зная, есть Будущая Церковь Вселенская.
5
Запертый в недавно изобретенной для страшной пытки, если не самим диаволом, то русскими коммунистами, пробковой комнате, человек задыхается, медленно (в этой-то медленности и главный ужас пытки), медленно отравляясь тем углеродом, который содержится в его же собственном дыхании. То же происходит и в обыкновенных, плохо проветриваемых комнатах, где собирается много людей: каждый из них медленно отравляется сам и отравляет других дыханием своим. Так страшно и жалко человеческое тело устроено, что исполнением необходимейшего для жизни условия, дыханием, человек убивает себя и других. То же и в порядке духовном: зло – такое же начало смерти для души, как углерод для тела.
Но если так для всех людей, то для Маленькой Терезы иначе, потому что все духовное существо ее так совершенно устроено, что начало первородного греха как будто не имеет над ним власти. Свежая-свежая вся, как ночной росой еще освеженная, но утренним солнцем уже прогретая внутренность белой лилии. Чисто все существо ее от зла, как от углерода дыхание Ангелов. Что-нибудь подобное дурному вкусу, – дурному запаху, может ли прикоснуться к такой почти неземной чистоте? Может, увы! Кажется даже, что начало первородного греха еще неодолимее в святых, чем в грешных людях. Вкус дурной – дурной запах в нарушениях законов духовной красоты – есть как бы вкус и запах первородного греха даже у великих святых! Сказывается это и в дурном вкусе Маленькой Терезы. К счастью, зараза эта не проникает в душу ее, а остается на ее поверхности, как сметаемая малейшим дуновением ветра пыль на одежде. Но все-таки где-то очень близко от Маленькой Терезы чувствуется этот дурной вкус – дурной запах. «К небу вознесут меня руки Твои, Иисус, как подъемная машина!» – в этой молитве ее, во всяком случае, нехороший вкус, и не лучший, а может быть, и худший в руках Иисуса, этих несказанно страшных и возлюбленных руках, «полных рождественских конфет» для маленьких девочек, кармельских сирот (Mardrus, 8 – Ste Therèse de l'Enfant Jésus, éd. Office de Lisieux, 474).
Лучше всего можно судить о неодолимой силе этого дурного вкуса по тому, что люди сделали и продолжают делать, чтобы увековечить память Маленькой Терезы в нормандском городке Лизье, где провела она почти всю жизнь и скончалась. Здесь, в ее часовне, лежит, как в музее восковых фигур, в стеклянном ящике, под ярким светом электрических лампочек, на голубых, с золотым кружевом, бархатных подушках, мраморная кукла ее в театральной позе Сары Бернар. Тут же вспыхивают, в виде световых реклам, воззвания к верующим следовать путем святой, а против часовни, на огромных афишах восхваляется новый ликер Терезетта. Здесь же основано ловкими евреями и католиками Акционерное Общество для издания книги Маленькой Терезы, «История одной души». Это, может быть, страшнее Инквизиции, которая едва не сожгла книгу св. Терезы Испанской, «Моя душа», а в других, изданных тем же О-вом, благочестивых книжках объявлены предполагаемо достаточные цены за «чудесные, молитвами св. Терезы, исцеления».
«Все это уже не для нас!» – жалуются бедные нормандские крестьяне-паломники, земляки святой (Mardrus, 18, 39, 28).
Есть анекдот: два человека молились Маленькой Терезе, нищий, может быть второй Франциск Ассизский, и банкир, может быть из Лизьеского Акционерного Общества имени св. Терезы. Нищий молился о хлебе насущном, а банкир – о процветании Акцион. О-ва, и одна молитва мешала другой. Долго терпел банкир, но наконец не выдержал, обернулся к нищему, сунул ему в руку пять франков и сказал:
«Не надоедайте Маленькой Терезе, ступайте прочь, и чтобы духу вашего здесь больше не было!»
Кажется, люди, в том числе и добрые католики, сделали все, что от них зависело, чтобы превратить святость Маленькой Терезы в кощунство, и славу ее в позор. Если китайским или готтентотским поклонникам своим кажется она творящей чудеса, могучей и страшной колдуньей, а летчики обеих Великих Войн посвящают ей авионы с бомбометами, то от этого мало ей радости, и если все еще сделала она для мира бесконечно меньше, чем могла бы сделать, то, может быть, потому, что ее отделяет от мира неодолимая преграда Церкви, подобная тому стеклянному ящику, в котором лежит ее кощунственная кукла. Лужа грязной воды, в которой люди утопили ее, может быть, хуже, чем костер, на котором сожгли они св. Жанну д'Арк. Каким диавольским чудом это святое место, Лизье, сделалось величайшим уродством в христианском искусстве двух последних веков? Почему Бог попускает такое кощунство? Почему попускает его и св. Тереза? (Ghéon, 19.) Этот вопрос, который задают себе множество поклонников ее, связан с другим, более глубоким и страшным вопросом, который почти никто себе не задает: как относятся друг к другу св. Тереза и Римская Церковь?
«О, если бы Святой Престол основал комитет для борьбы с дурным вкусом в Церкви!» – мечтает одна усердная, хотя и неверующая поклонница Маленькой Терезы (Mardrus, 43). Но, увы, никакие комитеты тут не помогут, потому что и сама католическая Церковь вот уже более четырех веков заражена тем же дурным вкусом: реял уже в XVI веке, над главным алтарем Св. Петра, кощунственный, из желтого стекла, голубь Духа Святого, и на главных улицах Рима уже красовались банки того же имени. Лютер мог их видеть, и этого одного было достаточно, чтобы оправдать и освятить великое дело его, Реформу.
6
Маленькая Тереза продолжит в XIX в. дело Реформы, начатое за четыре века назад св. Терезой Испанской и св. Иоанном Креста, выход из настоящей Римской Церкви в будущую Церковь Вселенскую. Чтобы увидеть и понять, что выход этот хотя им самим еще невидим и непонятен, но уже действителен, стоит только пристальней вглядеться в эти три лица, уже озаренные новым, никогда еще людьми не виданным, розовеющим светом восходящего великого Солнца – Третьего Царства Трех.
Между этими тремя на земле – св. Терезой Испанской, св. Иоанном Креста и св. Терезой Лизьеской – такое же «противоположное согласие», antixon sympheron, по слову Гераклита, как и между Теми Тремя на небе, Отцом, Сыном и Духом. Главную силу св. Иоанна Креста, созерцание, Маленькая Тереза соединяет с главною силою св. Терезы Испанской, действием, как Отца и Сына соединяет Дух. Но так – в последнем пределе, в вечности, а в земных путях, во времени, Маленькая Тереза ближе все-таки к св. Иоанну Креста, чем к св. Терезе Испанской, может быть, потому, что разум и вера, уже у того соединенные, еще разделены у этой.
«О, каким светом озарило меня учение св. Иоанна Креста! – вспоминает Маленькая Тереза в „Истории одной души“. – Не было у меня, от семнадцати до восемнадцати лет, другого чтения. Но впоследствии все духовные учителя ничего не рождали в душе моей, кроме сухости… Так уж и теперь: если я читаю и прекраснейшую книгу, сердце у меня сжимается, и я читаю бессмысленно, а если даже кое-что и понимаю, то все-таки бросаю книгу, чтобы созерцать и молиться… Только в одном Евангелии нахожу все, что нужно для бедной, маленькой души моей… Чтобы человеческие души учить и спасать, не нуждается Христос ни в каких учителях и книгах: сам Он учит, без слов. Я никогда не слышала (в видениях), как Он говорит, но знаю, что Он во мне, и что Он всегда ведет меня за руку. Вижу я Его именно в эту минуту, когда нуждаюсь в Нем больше всего, и вижу всегда в новом, от Него идущем свете. Чаще всего озаряет меня этот свет не во время молитвы в церкви, а в самых простых, повседневных делах». – «Я не ищу молитв в церковных книгах: только голова болит у меня от этих молитв… Я, как маленькие дети, которые еще не умеют читать, говорю Богу все, что мне хочется, и Он меня понимает». – «Путь, которым я шла, был так ясен и прям, что я не чувствовала нужды ни в каком посреднике, кроме Иисуса… Сам Он, казалось мне, действует на меня, без всяких посредников» (Mardrus, 100). Здесь уже начало такого же выхождения из католической Церкви, такой же «ереси», как у Лютера и Кальвина, хотя и под совсем иным, противоположным знаком – не Разделения, а Соединения Церкви. Если эту линию продолжить, то будет повторение того, что уже сделал св. Бернард Клервосский и сделает Паскаль, – обращение от суда Римской Церкви к суду Господню: «К Твоему суду взываю, Господи! ad Tuum, Domine, tribunal appello!» Будет и ответ Жанны д'Арк на вопрос судей-палачей: «Власть св. Матери нашей, Церкви, готовы ли вы признать, Жанна?» – «Да, готова, но Богу послуживши первому!» Будут и слова Лютера на Соборе в Вормсе: «Я здесь стою; Бог да поможет мне; я не могу иначе! Аминь».
Но ближе и роднее всего Маленькая Тереза к св. Иоанну Креста в том, что он называет «преисподним опытом», experientia abismal, и что пугало в нем св. Терезу Испанскую так, что это ей казалось иногда «искушением дьявола», – действительно страшной и небывалой ни у кого из святых воли к потере веры. В опыте этом та же у обоих, у св. Иоанна Креста и Маленькой Терезы, безграничная отвага.
«Сколько раз говорила я Богу… что ни откровений, ни видений, ни чудес я здесь, на земле, не хочу!» «Бога не видеть и не верить в Него я больше хотела, чем другие хотят все видеть и все понимать», – признается она почти накануне смерти. Если вдуматься как следует в эти слова: «В Бога я хотела не верить», – то кружится голова, как над самым краем зияющей пропасти. Но эта-то именно вольная потеря веры Маленькой Терезы, может быть, нужнее всех святых людям наших дней; в той же потере, но уже невольной – большое значение.
Кто-то из монахинь, чтобы утешить ее, тоже почти накануне смерти, говорил ей, что «душу ее вознесут на небо прекраснейшие, с лучезарными лицами, Ангелы». «Все эти образы мне не нужны; я хочу одной только истины, – ответила она. – Бог и Ангелы – чистейшие Духи: плотскими очами никто не может их видеть. Вот почему видений земных я никогда не желала; лучше я дождусь Видения вечного». «Вещие видения, откровения?.. Если бы вы только знали, как мало их у меня! Я ничего не знаю… знаю только то, что вижу и чувствую, но душа моя, и в этом случае неведения, совершенно спокойна». Но под этим наружным спокойствием скрывает она, чтобы не соблазнить верующих, то, что происходит у нее внутри.
«Я была, как в буре утлая ладья без кормчего. Я знаю, что спавший в ладье Иисус был и тогда со мной, но как могла бы я увидеть Его в такой темной ночи?.. О, если бы блеснула хоть молния… я бы Его увидела, моего Возлюбленного! Но и молнии не было, а была только черная-черная тьма, совершенная богоотверженность, безнадежная смерть. Чувствовала я себя такой же одинокой, как Иисус в Гефсиманской ночи, и так же, как Он, не находила себе утешения ни на земле, ни на небе».
Теми же почти словами, как и св. Иоанн Креста о Темной Ночи Духа, Noche Oscura del Espiritu, говорит здесь и Маленькая Тереза.
«Господи, Ты знаешь, что я всегда хотела одной только истины». – «Рук я никогда не умывала, как Пилат, но всегда говорила: „Господи, скажи мне, что есть истина!“ „Пусть же идут ко мне лишь те, кто хочет знать истину“, – говорит она уже после потери веры; после той же потери мог бы это сказать и св. Иоанн Креста, сделавший для критики чистой мистики то же, что сделал Кант для критики чистого разума. Но если бы даже математически было доказано, что Христос ошибался, то Маленькая Тереза и св. Иоанн Креста были бы все-таки с Ним; в этом их коренное отличие от Канта.
7
«Кто такой Иоанн Креста? Довольно плохой монах!» – говорили о св. Иоанне Креста. «Это больше всего поразило меня в его житии», – вспоминает Маленькая Тереза, тоже накануне смерти и тоже после потери веры, может быть, думая, что и о ней самой могли бы сказать: «Кто Маленькая Тереза Младенца Иисуса? Довольно плохая монахиня, да и католичка иногда довольно сомнительная!»
«Бог не нуждается в наших добрых делах». «Хочет Бог спасти нас даром». Кто это говорит? «Я хочу не верить в Бога». «В наших добрых делах не нуждается Бог». – Лютер или Кальвин? Нет, св. Тереза Лизьеская.
Меньшего было бы достаточно, чтобы в XIX веке отлучить ее от Церкви, а в XVI – сжечь на костре, как св. Терезу Испанскую и св. Иоанна Креста. Римской Церкви надо было сделать выбор для Маленькой Терезы: или отлучить ее, или увенчать венцом святости. Если Церковь выбрала последнее, то, может быть, только потому, что к этому ее принудил погибающий мир, который понял, или когда-нибудь поймет, что без Маленькой Терезы ему не спастись.
Вот что, может быть, угадал папа Лев XIII, пристально вглядываясь пронзительно острыми глазами в страшное и чудесное лицо четырнадцатилетней девочки, будущей великой Святой, которая целовала ему туфлю на аудиенции; вот почему принял он, в этом лице, может быть, за багровый свет адского пламени розовеющий свет восходящего солнца Трех.
Мучилась она от невидимого ей самой и непонятного выхождения из Церкви так, что от этой муки и умерла или, по крайней мере, больше всего умерла от нее.
Самое страшное в муке этой было то, что умирающая сама не знала, вышла ли она из Церкви, и если вышла, то в какую тьму кромешную, к дьяволу, или в какой свет лучезарный, к Богу. Этого не знала она до последнего вздоха во времени, но узнала в вечности, когда начала спасать души отдельных людей и душу всего человечества так, как, может быть, не спасал никто после Христа. Если когда-нибудь люди выйдут в Церковь Вселенскую, начало Царства Божия здесь уже, на земле, то потому, что Маленькая Тереза приняла эту муку за них и за Церковь. Большую муку, может быть, принял только один Человек на земле, Тот, Кто в Гефсиманской ночи был в смертном борении до кровавого пота.
Но чтобы понять и пережить (потому что иначе понять нельзя), как и за что Маленькая Тереза умирала, надо сначала узнать, как и для чего она жила.
8
Жизнь свою, от самого раннего детства до предсмертной болезни, рассказала она в книге, озаглавленной «История одной души». Книгу эту она могла бы озаглавить и так, как св. Тереза Испанская озаглавила свою: «Моя Душа», «Mi Alma». Это она почти и сделает, когда, накануне смерти, скажет: «То, что в этих тетрадях записано, есть, воистину, моя душа».
Как-то раз, во время уставного отдыха, тихо беседуя с двумя своими младшими сестрами, вспоминала она детские годы свои так хорошо, что одна из любимых подруг ее, сестра Мария-Св. Сердца, восхитилась и, обращаясь к одной из двух сестер ее, Полине, в монашестве Агнессе, бывшей тогда игуменьей, воскликнула: «Вам бы следовало, матерь моя, приказать, чтобы она записала все это!»
Так и сделала Агнесса. Нехотя, только по долгу святого послушания, согласилась на это Тереза, может быть, потому, что чувствовала в этих воспоминаниях о далеком прошлом те искушения, которых все еще не победила.
Каждую ночь, в ледяной келье своей садилась она на скамейку у соломенной койки, ставила себе на колени старенький аналойчик, клала на него школьную тетрадку и мелким, четким, бисерным почерком начинала писать воспоминания свои очень быстро, почти без помарок.
Это продолжалось в течение целого года. Кончив писать, в последние дни 1894 года, отдала она тетрадки игуменье Агнессе, а та, передавая их новой игуменье Марии Гонзага, при этом сказала: «Это очень мило, но многого отсюда извлечь нельзя!» «C'est gentil, mais vous ne pourrez pas en tirer grand-chose».
Этому поверила Гонзага и за два года не удосужилась прочесть тетрадки, так что книга эта, одна из величайших и нужнейших человечеству книг, могла бы истлеть где-нибудь в сыром углу монашеской кельи, если бы однажды ночью, в 1897 г., не вспомнила о ней Агнесса-Полина, не испугалась, что книга пропадет, потому ли, что пожалела столько «милого» в ней, или потому, что лучше поняла ее, за эти два года; если бы от этого страха не вскочила с постели, не побежала, несмотря на неурочный час, к матери игуменье, не напомнила и ей о книге и не сказала, кстати, какая будет потеря, если останется она неконченной, потому что Тереза довела воспоминания свои только до пострига, главная же часть жизни ее, в Братстве Кармеля, осталась незаписанной.
Матерь игуменья, на следующее же утро, велела Терезе продолжать воспоминания, что было для той теперь, может быть, тяжелее, чем прежде, не только потому, что она была тогда уже смертельно больна, но и потому, что те искушения, которых боялась она в прошлой жизни своей, теперь усилились у нее так, как еще никогда. Но опять, по обету святого послушания, принялась она писать, лежа в постели, сначала пером, а когда уже не имела сил макать перо в чернильницу, карандашом. Так написала страниц пятьдесят, пока, наконец, и карандаш из ослабевших рук ее не выпал. Но кажется, если бы и могла дописать книгу физически, то не могла бы нравственно, по той же причине, по какой не могли быть дописаны три книги, внешне очень далекие от этой, но внутренне ближайшие к ней: Книга Иова (конченная не теми, кто начал ее), «Темная ночь» св. Иоанна Креста и «Мысли» Паскаля; по той же причине, по которой, может быть, самые глубокие и нужные людям книги – неоконченные, бесконечные.
«Книгу эту люди будут читать, пока есть у них глаза», – верно заметил кто-то об «Истории одной души». Кажется, в самом деле книга эта, после Евангелия, наиболее читаемая сейчас на всех языках и во всех странах, от Нормандии до Внутренней Африки, и оказывающая на души человеческие наибольшее действие.
9
Книга – бездонно-ясная, бездонно-темная, как звездное небо, чем глубже заглядываешь в нее, тем она бездоннее. Детски ангельски просто и райски невинно, райски блаженно все на поверхности, а в глубине – ужас «преисподнего опыта», такой же, или даже еще больший, чем в Терезе Испанской и св. Иоанне Креста, главный невыносимейший, душу человеческую уничтожающий ужас этого опыта в противоречии того, чем жизнь начинается, – идущей от Отца радости, благословения земли, бесконечного и того, чем жизнь кончается, – от Сына идущей скорби, такого же, той же земли проклятия бесконечного, как будто Сын против Отца и Отец против Сына, – как будто, или действительно, – в этом «или» незримое и ядовитейшее жало книги. Этими-то именно согласнейшими противоположностями, противоположнейшими согласиями, или (опять «или» – жало смерти опять) несогласуемыми противоречиями, сердце человеческое раздирающими антиномиями, книга эта ближе всего к темной половине Евангелия, к Распятию до Воскресения и к Гефсиманской ночи особенно, к неисполненной, или неисполнимой Отцом, молитве Сына: «Да идет чаша сия мимо Меня», к смертному борению Сына – с кем? – только ли с самим Собою, или также с Отцом? Между этими «или – или» бесконечными душа человека и всего человечества, как на исполинских Божеских или диавольских качелях, качается; с каждым размахом все выше и выше, до самого неба, взлетает, все ниже и ниже, до самого ада, падает. «Чем же это кончится и где, – с ужасом думает кающийся, – на небе или в аду, у Бога или у диавола?» Эту муку раздвоения знают более или менее все люди, но святые – больше всех; чем больше святость, тем и мука эта больше. Именно о ней-то и говорит Черт Ивана Карамазова на подлом и как будто плоском, а на самом деле страшно глубоком языке своем:
«Весь мир и миры забудешь, а к одному этакому (святому) прилепишься, потому что бриллиант-то уж очень драгоценен; ведь стоит иной раз одна такая душа целого созвездия – у нас ведь своя арифметика… И ведь иные из них, ей-Богу, не ниже тебя по развитию, хоть ты этому и не поверишь: такие бездны веры и безверия могут созерцать в один и тот же момент, что, право, иной раз кажется, только бы еще один волосок – и полетит человек „вверх тормашки“, как говорит актер Горбунов» (Достоевский. Братья Карамазовы, кн. XI, гл. IX. «Черт. Кошмар Ивана Федоровича»).
Вот какие пропасти зияют в этой книге Маленькой Терезы, как будто простейшей и наивнейшей, а на самом деле одной из глубочайших и неразгаданнейших, когда-либо рукой человеческой написанных книг. Если прочесть ее как следует, то, может быть, не в уме, а где-то в самой темной глубине сердца зашевелится безумный и невыносимо кощунственный, но незаглушимый вопрос: а что, если грешная-святая Тереза Неизвестная – отравительница колодцев? И вопрос, еще более безумный и кощунственный, – такой, что, может быть, и произносить его нельзя? Нет, можно и должно, потому что такое Существо, как Иисус, кем бы ни было Оно, всей Божеской и человеческой правды достойно, – зашевелится еще более кощунственный, душу человеческую уничтожающий вопрос: что, если и Он, и Он, Иисус Неизвестный, – тоже Отравитель колодцев? «Боже мой, Боже мой! Для чего Ты меня оставил?» – этот вечный вопрос без ответа, в устах Человека и Человечества Распятого, слишком понятен. Можно сказать, что вся жизнь и еще более смерть Маленькой Терезы есть не что иное, как повторение этого вопроса, с таким отчаянием и с такой надеждой, которая, кажется, все-таки больше отчаяния, что будет ответ, как еще никогда.
«Право, я не знаю, что можно будет сказать о ней после смерти ее, потому что она ничего не сделала, о чем бы стоило вспоминать» – эти слова одной из сестер, сказанные в соседней комнате, услышала Маленькая Тереза с больничной койки за несколько дней до смерти и обрадовалась им так же, как тому, что люди говорили о «довольно плохом монахе» св. Иоанне Креста.
Внешняя жизнь ее, в самом деле, так коротка и проста, что сводится к двум-трем строкам: маленькая девочка из благочестивой мещанской семьи, любившая отца, мать и сестер, в пятнадцать лет постригается в монахини и через девять лет умирает от чахотки, – затворилась за нею дверь обители, как внешняя жизнь ее кончилась и началась внутренняя; та – кратчайшая, а эта – бесконечная.
«Было мне только тогда хорошо, если никто не видел и не слышал меня», – вспоминает она о самом начале жизни своей и в день пострижения молится: «Сделай так, Иисус, чтобы я была людьми забыта, как песчинка пыли!» И в самом конце жизни скажет: «Я хотела одного, чтобы лицо мое, так же как лицо Иисуса, скрыто было от всех человеческих глаз и чтобы никто в мире не знал обо мне; я жаждала забвения» (R. Zeller, L'Evangeliste de Lisieux, 1937, p. 13, 33).
Жажда эта утолится, но не так, может быть, думала она, – не в глубочайшем мраке забвения, а в ярчайшем свете славы. «Маленький Цветок» – лицо ее – увеется такою бурею славы, что его самого уже совсем не видно будет, будет видно только, чем оно казалось людям, но не чем было для нее самой и для Бога. Тайна Терезы Неизвестной так же не разгадана, как и тайна Иисуса Неизвестного, Неузнанного:
В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не узнал (Ио., 1, 10).
«Многие страницы этой книги останутся здесь, на земле, навсегда неизвестными». Вспоминая эти слова Маленькой Терезы, сестра ее, Полина-Агнесса, объясняет их так: «Есть у святых такие страдания, которых не должно людям открывать здесь, на земле, потому что Бог хранит их в тайне, чтобы открыть только тогда, когда все тайны будут открыты». Но только ли самые святые страницы книги этой остались неизвестными? Не самые ли грешные тоже? Кажется, уже и в те дни, когда книга писалась, тот же страх удерживал писавшую от последних признаний, как и в предсмертные дни: «Все, что я говорю о моих искушениях, слишком слабо, по сравнению с тем, что я чувствую, но я не хочу больше говорить; я боюсь, что и так я слишком много сказала; я боюсь кощунства». Кажется, «кощунство» это связано все с тем же невыносимым, душу человеческую уничтожающим ужасом: что, если Иисус не Утолитель всех жажд, а Отравитель всех колодцев; не Врач всех болезней, а сам – Больной, Прокаженный? «Некогда божественное Лицо Твое сделалось для меня теперь как лицо прокаженного», – молится Маленькая Тереза Тому, о Ком сказано:
был обезображен больше всякого человека лик Его, и вид Его – больше сынов человеческих (Ис., 52, 14).
Но и в этом ужасе она не помнит Его: если Он – Отравитель колодцев, то и она; если Он – Прокаженный, то и она. Только такая бесконечная, такой ужас преодолевающая отвага любви достойна Возлюбившего нас так, что «сделался Он за нас проклятием», потому что «проклят висящий на древе», Распятый (Гал., 3, 13). Будет до конца Маленькая Тереза с Ним, Иисусом Проклятым, Прокаженным, Отравителем колодцев, потому что больше, чем верит, – знает она, или узнает, если не в жизни, во времени, то в вечности, что мнимое проклятие Его – Благословение, мнимая проказа Его – исцеление, – «язвами Его мы исцелились (Ис., 53, 5), мнимая отрава – противоядие от сильнейшего из всех ядов – смерти».
Если этот религиозный опыт свой могла она сообщить в тех ненаписанных, может быть, не самых святых, а самых грешных страницах книги своей, то это вознаградимая потеря для нас, все еще погибающих от того, от чего она уже спаслась. Но, может быть, умолчанное ею здесь, на земле, во времени, она могла говорить нам из вечности, и если бы мы ее только услышали, то могли бы спастись так же и тем же, как и чем она спаслась.
* * *
Так же как в спектральном анализе по лучу бесконечно от нас далекой звезды мы узнаем ее химический состав, но возможная на ней органическая и тем более духовная жизнь ее обитателей остаются для нас неизвестными, так по словам и делам Маленькой Терезы мы узнаем, чем была святость ее во времени, но что она такое в вечности, этого мы никогда не узнаем.
Чувственно люди живут во времени, а о вечности лишь отвлеченно мыслят. Но Маленькая Тереза в этом совсем иное, на людей непохожее, двуестественное существо, амфибия, живущая в воде и в воздухе – во времени и в вечности. Вот почему самые близкие к ней люди – отец, мать, сестры – так же далеки от нее, как обитатели другой планеты: видят и слышат ее, но не понимают и не чувствуют; она проходит сквозь них, как дух сквозь вещество (стену); между нею и ними такая же непереступная черта, как между тем миром и этим. Вот почему и внутренняя жизнь ее непонятна для нас; мы ее не видим, не слышим и только иногда осязаем, как движущееся тело сквозь ткань. В славе своей величайшей остается она не только для мира, но и для Церкви, вечною тайною, которая, может быть, откроется людям только в будущей Церкви Вселенской.
10
Предки Маленькой Терезы вышли из того благополучного и благочестивого мещанства, которые были всегда непоколебимым оплотом Церкви и государства во Франции. Дед ее с отцовской стороны, капитан наполеоновской армии, Франсуа Мартэн, доблестно участвовал во всех походах императора и сыну своему, Луи, отцу Терезы, завещал пламенную веру и преданность католической Церкви. Так же благочестив был и дед ее, со стороны матерней, Исидор Герен, сначала тоже солдат наполеоновской армии, а потом жандармский офицер (Archives de la famille Guérin, d'après Laveille, 3 – 9; 449. Ghéon, 26 – 28).
Луи Мартэн, часовщик и ювелир, имевший в Алансоне доходную лавку, на двадцатом году захотел принять иноческий чин в Августинской обители, затерянной среди ледников Сэн-Бернара, и только по незнанию требуемого уставом Братства латинского языка не был пострижен, но и в миру жил, как монах, до тридцати пяти лет, когда случайно увидел в Алансоне, на улице, молодую девушку, дочь отставного жандармского офицера, Зелию Герен, которая тоже хотела постричься, тоже не могла этого сделать и жила в миру, как монахиня, занимаясь плетением кружев. Встретившись случайно на улице, – раньше никогда друг друга не видели, – светский монах-часовщик и кружевница, светская монахиня, обменялись только взглядами, но и этого было достаточно, чтобы он узнал в ней жену богоданную, а она в нем мужа богоданного. Очень скоро женились они, но первый год супружества прожили, по обоюдному согласию, как брат и сестра, в совершенном девстве. Можно было бы в этом усомниться, потому что такое девство в браке напоминает жития святых, если бы не было оно доказано непреложными историческими свидетельствами (Ghéon, 31. Laveille, 11).
Девство нарушили только потому, что сделаться матерью великого святого было такою страстною мечтою Зелии Герен, что она и мужа ею заразила. Девять человек детей родилось у них. Двое мальчиков и две девочки умерли до шестилетнего возраста; все же пять оставшихся в живых дочерей постригутся в монашество, захотят быть святыми, но будет ею только одна последняя, Тереза, родившаяся 3 января 1873 г. (Ghéon, 32).
Будущей великой святой отец – часовщик, а мать – кружевница. Точная механика часов требует такой же тончайшей работы, как и плетение драгоценных алансонских кружев. Этой внешней утонченности плоти соответствует у обоих и внутренняя утонченность духа. Более тонкой работы, чем Тереза Мартэн, никогда еще не выходило из рук Великого Мастера, строящего механику человеческих тел и плетущего кружево человеческих душ.
Слабой и больной родилась Тереза. Врач настаивал, чтобы отдали ее испытанной на других детях кормилице, нормандской крестьянке Розе Тайэ. Но мать, как это часто бывает, ревнуя дитя свое к другой женщине, захотела ее сама кормить и этим едва не погубила. Когда, видя, что ребенку плохо, пригласила, наконец, кормилицу, та, взяв девочку на руки и вглядевшись в лицо ее, только покачала головой так безнадежно, как будто хотела сказать: «Поздно!» – и положила ее к себе на колени, где лежала она с закрытыми глазами и с таким помертвелым лицом, что обе женщины с минуты на минуту ждали конца. Мать, уже не смея молиться о жизни ее, только благодарила Бога за то, что девочка тихо умрет. Но когда, кончив молитву, взглянула на нее, то увидела, что она, открыв глаза, улыбается, и, по этой улыбке поняв, что она спасена, обрадовалась так, как будто уже знала, чем Тереза будет для мира.
В тот же день Роза Тайэ, у которой были собственные дети, так что она не могла остаться в доме Мартэнов, унесла девочку к себе на ферму, находившуюся в двух-трех километрах от Алансона. Ферма эта, как большинство нижненормандских ферм, была довольно большою, под соломенной крышей, мазанкой, с одной комнатой-кухней, столовой и спальней вместе, где пахло печеным хлебом, подвешенными к стропилам потолка копчеными окороками и лавандой из бельевых шкапов, а больше всего навозом с находившегося под самыми окнами скотного двора. Маленькую Терезу брала кормилица, вместе со своими четырьмя детьми, на полевые работы и клала на землю, в прозрачно-золотистой тени от высоких пшеничных и ячменных колосьев. Тепло-медвяный запах, в котором слышится как бы запах сладчайшего, с неба на землю текущего меда-солнца, пропитывал не только пеленки, но и самое тельце Терезы. Запах этот, оставшись на ней и под черной монашеской рясой, будет слышен и сквозь запах церковного ладана.
«Маленькую Терезу привезла к нам кормилица, но девочка не хочет оставаться с нами и, только что не видит ее, пронзительно кричит и плачет; когда же увидит опять, затихает и смеется», – вспоминает мать, может быть, с мучительной ревностью к Розе Тайэ, но и с благодарностью за то, что она спасла дитя ее от смерти (Laveille, 29 – 34. Ghéon, 35).
Если бы надо было определить духовное существо Терезы одной из тех математически точных формул, которые так любит Паскаль, то можно бы свести ее к четырем словам: небесная любовь к земле. Сколько бы ни восходила св. Тереза на небо, будет спускаться к земле; будет любить и родную землю не меньше, чем родное небо. Вот чему научилась она на груди нормандской крестьянки и на лоне Матери Земли.
11
Через год вернулась девочка домой и хотя все еще тосковала о кормилице, но уже меньше, чем прежде, как будто только теперь полюбила отца и мать.
Выздоровела и пополнела, так что весила четырнадцать фунтов. «Долго держать ее на руках я не могу, такая она тяжелая», – радовалась мать (Laveille, 35). На пятнадцатом месяце могла уже ходить, держась за стул. «Что-то все лепечет с утра до вечера и даже напевает песенки, но надо к ним привыкнуть, чтобы их понимать». «Все улыбается, и в этой улыбке – Предназначение», – радуются оба, отец и мать, потому что все больше надеются, что заветная мечта их исполнится, хотя и не совсем так, как думали они сначала: будет не сын их великим святым, а дочь – великой святой. «Маленькой королевой» называл ее отец, потому что в лице ее было свойственное иногда маленьким детям царственное величие, как бы упавший на их лица в вечности и еще не успевший сойти с них во времени отблеск Величества Божия.
Каждая мелочь в жизни ребенка кажется отцу и матери вещими знамениями будущей святости. Сонная, однажды упала с такой высокой постели, что могла бы убиться до смерти, если бы рядом не было стула, на который и упала так счастливо, что даже не проснулась. «Ангел Хранитель спас ее и души Чистилища, которым я молюсь за нее каждый день», – говорит отец (Laveille, 38). Эти «души Чистилища» в XIX веке напоминают XVI-й. Важен будет для всей жизни Терезы этот неподвижно застывший в доме воздух средних веков.
«Слышала я иногда, как Полина (сестра ее) говорила: „Я буду монахиней!“ – и, сама еще хорошенько не зная, что это значит, я думала: „Я тоже буду монахиней!“ Это одно из первых воспоминаний моих, но я уже с тех пор этого решения не изменяла». Трудно поверить, чтобы она могла это помнить, потому что ей было тогда два года; но еще труднее заподозрить ее во лжи. Может быть, это не ложь, а ей самой непонятная истина – платоновский анамнезис – идущее от вечности и вспыхивающее во времени, как зарница в ночи, «знамение-воспоминание», не о том, что было, как в естественной памяти, а о том, что будет. Святость знала Маленькая Тереза тем же первичным «знамением-воспоминанием», каким Паскаль знал геометрию и Моцарт – музыку. «Был он всю жизнь святым», – говорит св. Тереза Испанская о св. Иоанне Креста; можно бы сказать и о Маленькой Терезе: «Всю жизнь была святой».
«Трудно сказать, что выйдет из этого маленького хорька – такая шалунья, – уже не радуется, или не только радуется, но и боится мать. – Девочка очень умна, но странно упряма. Если скажет „нет!“, то с ней уже ничего не поделаешь; можно ее запереть на целый день в погреб, – все равно не скажет „да“ (Mardrus, 50).
« – Спрашивала она намедни, будет ли в раю.
– Да, если будешь умненькой девочкой, – ответила я.
– А если не буду, в ад пойду? – еще спросила она и, немного подумав, прибавила:
– А знаешь, мама, что я сделаю? Вместе с тобой на небо полечу и буду тебя крепко-крепко держать. Как же Бог отнимет меня у тебя?» (Б. К., 9).
Вот так любит мать, а отца, может быть, еще больше, но стыдится об этом говорить, как это часто бывает с детьми, когда они очень сильно кого-нибудь любят. Тем удивительнее то, чего она им обоим желает.
«Маленький хорек мой, ласкаясь ко мне, говорил:
– О как бы я хотела, чтобы ты умерла, моя бедная мамочка.
Все за это бранили ее, но она удивилась:
– Я ведь только хочу, чтобы ты поскорее была в раю, а ты же сама говоришь, что для этого надо умереть!
Смерти желает она и отцу, в те минуты, когда сильнее всего любит его».
Взрослым людям кажется это невинною, хотя и странною, детской выходкой, но взрослые люди ошибаются. Смерти отцу и матери Маленькая Тереза желает, в самом деле, как будто невинно; но, пристально вглядевшись в лицо ее, может быть, они ужаснулись бы, потому что прямо в глаза их заглянуло бы существо иного мира.
Если бы в Ветхом Завете Отца, в первом эоне, веке-векости мира, пожелала Ревекка смерти отцу своему, Лавану, или Ифигения – отцу своему, Агамемнону, это было бы невообразимо-чудовищно или просто безумно. Но во втором эоне, в Новом Завете Сына, с этого только все и начинается: «Кто не возненавидит отца своего и матери своей… не может быть Моим учеником». А ненависть к отцу и матери есть уже начало их убийства. Это именно и происходит в маленькой девочке Терезе, будущей великой святой. С точки зрения научной, психиатрической, недостаточной, конечно, но необходимой для понимания того, что здесь происходит, это как будто беспричинное и внезапное, но страшно глубокое извращение нравственного чувства, на низшей ступени, заставляет иногда и самых добрых детей обрывать у бабочек крылья или прокалывать стрекоз булавками, чтобы наслаждаться их муками, а на ступени высшей, делает из мальчиков лет тринадцати-четырнадцати (кажется, недаром именно к началу половой зрелости) поджигателей, воров и даже убийц. Если и в первом эоне мира, в Ветхом Завете Отца, такие извращения возможны, то все же в меньшей мере, чем в эоне втором, в Новом Завете Сына, где начинаются те двусмысленные сумерки, в которых Сын Единородный, возлюбленный, иногда почти неотделим от Сына ненавистного, проклятого.
Прежде Денницы (Утренней звезды, Люцифера) – подобно росе, рождение Твое (Пс., 109, 3).
О ком это сказано, о Сыне Единородном, возлюбленном, или о ненавистном, проклятом? Мир погибает именно потому, или спасается именно тем, что в этом противоречии между двумя Заветами, Отчим и Сыновним, мелется, как пшеница Господня, между двумя жерновами.
Вот какие необозримые для мира последствия может иметь то, что скрыто в ней, как будто невинной и смешной, а на самом деле, страшной выходке маленькой Терезы, потому что и она уже находится в тех же двусмысленных сумерках, где Сатана почти неотличим иногда от Отца Святого, и Христос от Велиара; потому что и ей прежде, чем достигнуть вершины святости, надо будет пройти сквозь такую же Темную Ночь Духа, сквозь какую прошли и св. Тереза Испанская и св. Иоанн Креста. Сумерки Ночи этой уже наступили во дни тех, а во дни этой сгустились в такую кромешную тьму, что в ней уже почти неразличим Тот, Кто говорит осужденным: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу!» – от того, кто им говорит: «Идите ко мне, благословенные, в радость вечную!»
В этом-то противоречии или согласной противоположности двух Заветов и начинается иногда опаснейший, но драгоценнейшие плоды дающий, религиозный опыт христианства, ведущий к тому, что за христианством – к Третьему Завету Трех. Опыт этот сделает Маленькая Тереза, с таким дерзновением, как, может быть, никто из святых.
12
«Как-то раз, желая знать, до чего дойдет гордость моя, матушка сказала мне: „Если ты поцелуешь землю, Тереза, я дам тебе копеечку“. Целым богатством казалась мне тогда копеечка, и я была еще такая маленькая, что не надо было мне с большой высоты наклоняться, чтобы поцеловать землю. Но гордость моя возмутилась, и я сказала: „Нет, мама, я не хочу, не надо мне твоей копеечки!“
Смертный грех гордости соблазняет ее и в другом вещем знамении-видении будущего. Как-то раз, гуляя в саду алансонского дома, увидела она двух бесенят, с чудесною ловкостью плясавших на бочке с известью. Но, вдруг заметив ее, испугались они и спрятались в бочку, а потом убежали в прачечную. Девочка к ней подошла и заглянула в окно, чтобы увидеть, что бесенята делают там: бедные по столу бегали, не знали, куда от нее спрятаться (Ghéon, 39).
Но, может быть, вообразив в эту минуту, что победит и самого великого диавола с такою же легкостью, как этих бесенят, испытала она впервые ту «волю к могуществу», которая будет главною волей и опаснейшим соблазном всей жизни ее.
Тот же соблазн предсказан и в этом вещем знамении будущего. «Как-то раз Леония (старшая сестра ее), уже выросшая так, что больше не играла в куклы, подойдя к нам (к другой сестре, Селине, и к Терезе) с корзинкой, где лежала кукла на множестве хорошеньких шелковых лоскутьев и кружев, сказала: „Выберите, что вам понравится“.
Селина посмотрела и выбрала, а я, немного подумав, протянула руку и сказала: «Я выбираю все!»
И, схватив корзину, убежала. Этим маленьким случаем из детства моего предсказана вся моя жизнь… Я поняла впоследствии… что в святости есть много ступеней… и что каждая душа свободна делать между ними выбор… и сказала Богу: «Я выбираю все!» Полусвятости, полухристианства не хочет она; так же, как тогда, в выборе шелковых лоскутков, хочет всего.
Эта воля ко всему, к совершенству бесконечному, может быть началом или высшей святости, или все того же смертного греха – гордыни. Необходимый между этими двумя возможностями выбор предсказан и в этом знамении будущего: как-то раз, гуляя ночью с отцом, маленькая Тереза долго смотрела на звездное небо, точно искала в нем чего-то; как вдруг, увидев те шесть звезд в Щите Ориона, которые образуют большое латинское Т, первую букву имени «Тереза», воскликнула радостно:
«Видишь, папа, видишь, имя мое на небе написано!»
Страшным желанием смерти отцу и матери, гордым отказом поцеловать землю за грошик и жадным выбором всего в кукольной корзине с лоскутками – этими тремя знамениями здесь, на земле, предсказана вся будущая судьба ее, так же как и теми шестью – дважды тремя (дважды, может быть, потому, что надо ей будет сделать выбор между двумя путями, грешным и святым), дважды тремя звездами, которыми написано имя ее на небе.
13
Пятый год шел Терезе, когда умерла ее мать.
«Помню, как на следующий день по смерти матушки отец, взяв меня на руки, сказал:
«Поцелуй ее в последний раз!»
И я прижала губы к ее холодному лбу. Все эти дни я очень мало плакала и никому не говорила о том, что переполняло сердце мое, но слышала и видела все, что от меня хотели скрыть».
Как-то раз, оставшись в коридоре, увидела она длинный и узкий черный ящик, прислоненный к стене, и, остановившись перед ним, долго на него смотрела. Ростом была так мала, что должна была подняться на цыпочки, чтобы его увидеть весь. Страшно большим и зловещим показался он ей. Гроба никогда не видела, но вдруг поняла, что это он: может быть, поняла и то, что не надо было желать смерти матери, и, поняв, ужаснулась: точно сглазила мать, убила ее этим желанием.
Кончилось с этой минуты детство ее. Счастливо было оно, как у немногих детей: «Все улыбалось мне на земле; с каждым шагом я находила под ногами моими только цветы. Но очень скоро все изменилось: чтобы сделаться так рано невестой Христовой (монахиней), нужно мне было страдать с самого раннего детства.
После кончины матушки я совсем изменилась: прежде я была веселой и общительной, а теперь сделалась робкой, тихой и такой болезненно-чувствительной, что взгляда одного иногда было довольно, чтобы я расплакалась. Я не хотела, чтобы на меня обращали внимание, и терпеть не могла чужих людей, только со своими было мне хорошо».
Жало смерти, войдя в душу ее, отравило ее медленным ядом. Девять лет будет длиться это отравление, как вошедшая внутрь тяжелая болезнь, пока, наконец, не разразится таким припадком, что больная будет на волосок от смерти.
Тотчас же почти после кончины жены Луи Мартэн с пятью дочерьми переселился в соседний нормандский городок Лизье. В этом захолустном городке, каких много везде, а во Франции двух последних веков больше, чем где-либо, господствовало то бесконечное мещанство и скопидомство, дошедшее до скаредности, которое имеет надо всеми людьми, умными и глупыми, добрыми и злыми одинаково, неодолимую, как бы не человеческую, а божескую власть, и веяла над всем такая же неодолимая скука. В летние жаркие дни, когда и цепные собаки не лаяли от лени на редких прохожих, слышался в мертвой тишине пустынных улиц, сквозь плотно запертые ставни, только храп или убийственная, до вывиха челюстей, зевота. Вместо искусства господствовала здесь дешевая под него подделка самого дурного вкуса; вместо науки – одобренная министерством Народного просвещения школьная программа, а вместо религии – точное исполнение церковных обрядов. Было и в этом во всем то благоразумное, благополучное и благочестивое мещанство, которое есть не что иное, как самая страшная из всех смертей – смерть заживо.
Двадцать лет проведет Тереза в этом городке. Если Алансон был ее Назаретом, то Иерусалимом и Голгофой будет Лизье.
14
После смерти матери еще больше полюбила она отца. Странной иногда кажется эта любовь: что-то в ней напоминает влюбленность, как благоухание цветущих лоз напоминает вино, точно здесь, на земле, были они отцом и дочерью, а в вечности будут женихом и невестой перед людьми, а перед Богом – отцом и дочерью.
«Маленькой королевой своей» называл Терезу отец и действительно служил ей, как верноподданный: только что она чего-нибудь желала, как он уже угадывал и исполнял ее желание. Счастлив был бы умереть за нее и, может быть, действительно умер, если, как очень похоже на то, вечная с ней разлука, на которую он должен был согласиться, уже тяжелобольной, когда она пожелала постричься в монахини, убила его.
«Выразить я не могу, как я полюбила отца, – вспоминает она. – Все в нем восхищало меня. Когда он говорил со мной о чем-нибудь, как со взрослой, я отвечала ему простодушно:
«Ах, папа, если бы важные люди только знали тебя, то сделали бы королем, и Франция была бы такой счастливой, как никогда! Но ты был бы несчастен, потому что такова участь всех королей, и ты уже не был бы тогда моим королем единственным…»
Есть такая сила любви, которая уводит любящего из здешнего мира в иной и дает ему то, что можно бы назвать «чудом второго зрения». Кажется, именно такая любовь была у Терезы к отцу, потому что ею только можно объяснить такой случай «второго зрения», как этот. «Видя отца счастливым, я не предчувствовала, какое великое испытание ожидало его. Но однажды Господь показал мне это в чудесном видении. Папа путешествовал и должен был еще не скоро вернуться. Было два часа пополудни. Солнце ярко светило, и вся природа, казалось, ликовала. Я сидела у окна, выходящего в сад, и думала о чем-то веселом, как вдруг увидела в саду, у прачечной, человека, одетого совсем как папа, такого же высокого и с такой же поступью, но сгорбленного и старого. Я говорю „старого“, чтобы описать общий вид его, потому что голова его была чем-то покрыта, так что я лица его не видела. Медленно шел он мерным шагом. Вдруг сверхъестественный ужас охватил меня, и я закричала:
«Папа! Папа!»
Но он, как будто не слыша меня, прошел мимо, не оборачиваясь, к соснам, разделявшим надвое главную аллею сада. Я думала, что он выйдет из-за них, но он вдруг исчез.
Все это произошло мгновенно, но в памяти моей запечатлелось так, что и сейчас, после стольких лет, я помню это, как будто видела только что… Часто потом думала я об этом видении, стараясь понять, что оно значит… и сейчас думаю: зачем оно послано было маленькой девочке, которая, если бы поняла его, умерла бы от горя?.. Вот одна из тех непроницаемых тайн, которые мы постигаем только на небе». А здесь, на земле, поняла она лишь тогда, когда все уже исполнилось, что видение это предвещало медленную, страшную болезнь и еще более страшную, в полубезумии, смерть отца. Может быть, в чувстве того сверхъестественного ужаса, который она испытала тогда, был и ужас естественной необходимости – смерти. Думала, может быть, всю жизнь о том, что впервые, тогда еще, маленькой девочкой, без мыслей, без слов, только сердцем почувствовала, как страшный и все решающий вопрос: что сильнее, смерть или вера в Того, Кто сказал: «Верующий в Меня не увидит смерти вовек». Чувствовала, что ответ должен быть дан не в будущей жизни, на небе, а здесь еще, на земле. Вся ее жизнь будет ответом на этот вопрос – узел всех терзающих сердце человеческое тайн: кто победит, смерть или Он?
15
Было ей восемь лет с половиной, когда отец отдал ее приходящей ученицей в школу женской обители Св. Бенедикта в Лизье, находившейся в древнем аббатстве XI века, похожем на крепость или тюрьму, холодном и мрачном даже в самые жаркие и светлые, летние дни. В школе, среди чужих людей, почувствовала она себя, как птенец, выпавший из теплого и мягкого, родного гнезда на жесткую и холодную землю. Но это соприкосновение с внешним миром было ей необходимо. До сих пор чужие люди мелькали мимо нее, как тени и призраки; только родные существовали для нее действительно; а здесь, в школе, поняла она, что и чужие существуют и могут делать ей добро и зло. Радоваться ли ей или огорчаться оттого, что мир обогатился таким множеством новых людей, она еще не знала, но уже чувствовала, что надо ей будет с этим считаться и что, смотря по тому, будет ли и сама она делать людям добро или зло, погибнет она или спасется. Если от горя о смерти матери выросла внутренне, лично, то от этого школьного опыта выросла и внешне, общественно.
Так хорошо училась всем наукам (кроме математики; в школе иной, высшей, будет учиться сама и учить других математике высшей), так хорошо училась, что скоро сделалась первой ученицей, что возбуждало зависть в сверстницах ее, а от зависти, как это всегда бывает, рождалась и ненависть. Была и другая причина этой ненависти, более глубокая, чем школьная зависть. Будущему избраннику Божьему, святому или герою, люди никогда не прощают того, чем он будет. Верным чутьем угадывая в нем существо иной, высшей природы, люди ненавидят его: так на птичьем дворе домашние утята ненавидят попавшего к ним дикого утенка и рады были бы заклевать его до смерти; или на псарне щенки ненавидят волчонка и рады были бы загрызть его до смерти. Чувствуя и в Терезе нечто подобное, школьницы делали ей зло, какое только могли: дразнили ее, смеялись над ней и наблюдали, не сделает ли она чего-нибудь, на что можно было донести матери игуменье. Это видела Тереза и тяжело страдала. Только одно могло бы утешить ее – что учительницы за доброе поведение и быстрые успехи в науках полюбили ее, как родную. Но и они чувствовали в ней иногда что-то странное, чужое, как бы существо иного мира, больше всего тогда, когда она задавала им такие вопросы, как эти:
«Почему Бог некрещеных, никакого зла не сделавших младенцев осуждает на вечные муки?»
«Может ли Бог принудить всех людей спастись и если может, то почему же этого не делает?»
Не только школьные учительницы, но и все учителя Церкви не могли бы ответить на эти два вопроса и если бы услышали их из уст маленькой Терезы, то удивились бы им так же, как в Иерусалимском храме учителя Израиля удивлялись тому, что им отвечал и о чем их спрашивал Отрок Иисус.
16
Вместе с бременем школьного горя пало на слабые плечи ее бремя нового горя, тягчайшего, от которого она едва не погибла.
В первые дни по смерти матери любимая сестра Терезы Полина, взяв ее к себе однажды на колени, утешала без слов, только тихонько баюкая, совсем как мать, потому что больше всех остальных дочерей не только лицом, но и всеми движениями была похожа на мать. Это почувствовав и крепко прижавшись к груди ее, как прижималась только к груди матери, Тереза шепнула ей на ухо:
«Ты будешь мамой моей, хочешь?»
Полина ничего не ответила ей, крепче только прижала ее к себе. И, ощутив слезы ее на лице своем, Тереза тоже заплакала в первый раз по смерти матери утоляющими горе слезами и в первый раз почувствовала, что все еще любит умершую мать, как живую, и что все еще любит ее и та, как живая. Эту минуту вспоминала она потом всю жизнь каждый раз, когда повторяла слова Победившего смерть: «Верующий в Меня не увидит смерти вовек».
Только что начала она помнить себя, как решила идти в монастырь вместе с Полиной, чтобы никогда не разлучаться с ней. Это желание еще усилилось, когда Полина сделалась ее второй матерью. Однажды Тереза спросила ее, хочет ли она идти вместе с ней в монастырь. Та ответила, что хочет, и обещала подождать, пока она вырастет. На семь лет Полина была старше ее – разница возрастов достаточная для того, чтобы старшая считала младшую ребенком. Так и Полина считала ребенком Терезу, но ошибалась: возрастом духовным была она ей не только ровесница, но и старше ее. Очень неосторожно обещала ей Полина то, чего не хотела исполнить. Свято поверила Тереза в ее обещание, а когда узнала, что сестра обманула ее и ждать ее не будет, то пришла в такое отчаяние, что едва не стоило ей жизни. «Я была тогда еще так бесконечно слаба, что считаю великою милостью Божьей, что вынесла это непосильное для меня испытание и не умерла», – вспоминает она. Мучилась больше всего потому, что ранее шестнадцати лет не могла, по уставу Кармеля, постричься, а так как ей было только девять, то должна была разлучиться с Полиной на семь лет, что казалось ей вечностью. Мысль, что и вторая мать умрет для нее так же, как первая, была для нее убийственной. Смертью матери нанесенная душе ее и заживать уже начинавшая рана снова открылась, и кровь из нее хлынула так, что она умерла бы, если бы только чудом не спаслась.
Трудно ей было простить Полину, но еще труднее Того, Кто их разлучил. Если умом еще не понимала она, то уже чувствовала сердцем, что две равновеликие и противоречивые любви – земная, к Полине, и небесная, ко Христу, – раздирают ей сердце; что надо сделать между ними выбор и принести в жертву одну любовь другой. Но чем больше хотела выбрать, тем меньше могла. «Девочка эта страшно упряма; если скажет „нет!“, то с ней уже ничего не поделаешь; можно запереть ее на целый день в погреб, – все равно не скажет: „Да!“ – говорила о трехлетней Терезе мать. Так и теперь: если бы сказала: „Я люблю Полину больше Христа!“ – то можно бы запереть ее не на целый день в погреб, а на целую вечность в ад; все равно не сказала бы: „Я люблю Христа больше Полины!“ Впрочем, ад для нее уже наступил. Лучше было бы ей умереть или сойти с ума, чем мучиться в этом аду теми вечными муками здесь еще, на земле, которые св. Иоанн Креста называет „Темною Ночью Духа“. В первый раз сошла она в этот ад после разлуки с Полиной; будет сходить в него еще много раз, все глубже и глубже, все с меньшей надеждой выйти из него когда-нибудь.
Мучилась два года в этом аду и, наконец, заболела, но скрывала ото всех, чтобы не начали ее расспрашивать о причинах болезни, что муки ее только бы усилило.
17
Страшный день наступил: 2 октября 1882 года Полина произнесла первый монашеский обет, и двери Кармельской обители закрылись за ней навсегда; родная Полина сделалась для Терезы чужою Агнессой Иисуса.
Если кто не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер… тот не может быть Моим учеником (Лк., 14, 26), —
резали эти слова, как ножи, сердце Терезы, когда прощалась она с Полиной сквозь железную решетку Кармельской обители и плакала над ней, живой, как над мертвой.
Скоро наступил для нее еще более страшный день пострижения Полины: «В гроб легла она, когда произносила обет, а когда постригут ее, то заколотят гроб», – думала Тереза. В этот день лежала она, больная, но встала через силу, отправилась в обитель и присутствовала на пострижении Полины, а после него пошла на свидание с нею. Так же как тогда, в первые дни по смерти матери, Полина взяла ее к себе на колени; так же крепко прижав к груди, утешала ее без слов, только тихонько баюкая, совсем как мать; так же плакала Тереза, но теперь уже иными, безнадежными и не утоляющими горя слезами. Между ней и Полиной были те страшные, как прутья решетки, слова: «Если кто не возненавидит…» Облачно-белые, легкие одежды Невесты Христовой жгли Терезу, как железо, раскаленное добела. Как ни ужасалась того, что чувствовала, и как с этим ни боролась, лютою ревностью ревновала она Невесту к Жениху.
После этого второго свидания с Полиной болезнь Терезы усилилась так, что врач хотя и успокаивал родных, но про себя думал, что больная не выживет. Хуже всего было то, что болезнь ее была врачу непонятна, и он не знал, как ее лечить, потому что не видел, что не в теле причина ее болезни, а в душе. Страшные припадки этой болезни напоминали те, какие бывают у одержимых.
«Страшной болезни моей я не могу описать, – вспоминает Тереза. – Я говорила то, чего не думала, и делала то, чего не хотела; я почти всегда была, как в бреду, а между тем я уверена, что была в полной памяти. Целыми часами длились у меня частые обмороки, такие глубокие, что я не могла пошевелиться, но и в них я очень ясно слышала все, что вокруг меня говорили даже тихим голосом, и до сих пор я это хорошо помню. О, какой ужас внушал мне диавол! Я боялась всего: мне казалось, что постель моя окружена безднами, и гвозди в стене казались мне такими страшными обугленными пальцами, что я кричала от ужаса». Когда в комнату больной вошел однажды отец ее, держа шляпу в руке, ей почудилось вдруг какое-то неземное страшилище в ней, и она закричала от испуга так, что отец выбежал из комнаты, рыдая.
Дней через пять после второго свидания с Полиной Тереза в той же комнате лежала на постели; сестра ее, Леония, читала у окна; тут же была и другая сестра, Селина, а третья, Мария, вышла в сад.
«Мария! Мария!» – позвала больная тихим голосом.
Леония не обратила на это внимания, потому что привыкла к тому, что Тереза, в беспамятстве, часто звала Марию. Но вдруг она закричала так громко «Мария! Мария!», что та услышала из сада, прибежала, наклонилась над ней и сказала:
«Я здесь, Тереза, я здесь!»
Но, глядя прямо в лицо ее, больная не узнавала ее и продолжала звать:
«Мария! Мария!»
Может быть, звала Марию не земную, а небесную, чье изваяние стояло у изголовья постели. Что-то было в лице и голосе ее такое страшное, что сестры подумали, что она умирает, и сначала Мария, а потом Леония с Селиной, кинувшись к подножью изваяния, начали со слезами молиться:
«Помоги, спаси, помилуй, Милосердная!»
Дрогнуло что-то в лице Терезы, как в лице четырехдневного Лазаря, когда услышал он плач над собой Иисуса, Творца над тварью, а потом повелевающий голос, тот самый, которым вызвано было из не-сущего сущее, из хаоса мир: «Лазарь, изыди!» Дрогнуло что-то в лице ее, и медленно-медленно, с бесконечным усилием, остановила она взор на молящихся и, как будто вдруг что-то поняла, зашептала молитву все громче и громче; требовала, повелевала, потому что всякая настоящая молитва есть повеление, чтобы смерть сделалась жизнью и чтобы то, чего не было, было, чтобы совершилось чудо.
И чудо совершилось: ожило вдруг изваяние; задешево купленный в лавке благочестивых игрушек, жалкий, мертвый, кощунственный идол сделался Матерью жизни, Царицей цариц; так же медленно, как двигалась Тереза, сошла Она с подножья, приблизилась к больной и наклонилась над ней, с улыбкою такой нездешней благости и прелести, что сердце Терезы растаяло, как лед под вешним солнцем, и хлынули из глаз ее те блаженные слезы, которыми всякая земная печаль утоляется. «Буду жива!» – подумала она и не ошиблась: к вечеру ей сделалось легче, а к утру была она уже совсем здорова.
Чудом казалось это исцеление не только родным, но и врачу, – так оно было внезапно.
18
Чудо подобно благоуханию от одежды пролетевшего Ангела: надо человеку дышать осторожнее, чтобы это едва уловимое благоухание не рассеялось в воздухе.
Самое в мире стыдливое есть чудо: пристального взгляда довольно, чтобы оно исчезло так, что уже неизвестно, было оно, или не было. Это чувствовала Тереза. «Дева Мария улыбнулась мне, какая радость! Но я никому об этом не скажу – иначе все исчезнет», – думала она и никому ничего не говорила. Тайну скрывать от Марии было ей труднее всего, потому что, как она узнала от Селины и Леонии, первая начала молиться о ней и вымолила чудо Мария и потому что чувствовала Тереза, что жестоко обидит ее, если не скажет ей всего; да и видно было по тому, как Мария расспрашивала ее, что уже догадывалась почти обо всем.
«Подошла к тебе, наклонилась, и что же потом? – спросила она и посмотрела на Терезу с надеждой и страхом, что она утаит, не скажет всего.
«Подошла ко мне, наклонилась», – начала Тереза и не кончила.
«Ну, и что же?» – повторила Мария с большей еще надеждой и большим страхом.
«И улыбнулась», – кончила Тереза и почувствовала с ужасом, что выдала тайну, именно ту, которую надо было сохранить больше всего, и что случилось то, чего она боялась: сказала все, и все исчезло, только что была богаче богачей, и вот, нищая.
То же чувствовала она, с еще большей силою, на следующий день, в Кармельской обители, где уже сестры знали от Марии все и, набросившись на Терезу, как мухи на мед, начали ее расспрашивать о чуде с тем жадным и грубым любопытством, которое свойственно всем людям, а благочестивым особенно: был ли на руках Девы Марии Младенец Иисус и на голове Ее венец из звезд, и под ногами лунный серп; и какого цвета были одежды Ее, и хорошо ли пахло от них? и прочее, и прочее. Каждый новый вопрос был все грубее, кощунственней. Пресвятая Дева Мария, Матерь жизни, снова сделалась мертвым идолом. Очень хотелось Терезе убежать, но так ослабела от страха перед тем, что происходило в других и в ней самой, что не могла бежать: ноги отяжелели и не двигались, как в страшном сне. Нехотя отвечала она на самые нелепые вопросы, что не помнит. И одни из сестер сердились на нее, думая, что самое любопытное она скрывает от них, а другие начали сомневаться, было ли чудо. С ужасом чувствовала Тереза, что и она сомневается в нем; чем больше говорила о нем, тем меньше верила в него и тем больше казалось ей, что лжет и обманывает всех, потому что никакого чуда не было, а если и было, то она своими руками убила его.
Веру, может быть, потеряла не только в это чудо, но и во все чудеса и в Того, Кто их делает. Если так, эта потеря веры – та самая, что и в религиозном опыте св. Иоанна Креста постигает человека, погруженного в «Темную Ночь Духа». Хуже, чем у явных безбожников, это неверие святых, потому что те сами не знают, что делают, отрицая веру, а эти знают и все-таки делают.
«Господи, Ты один знаешь, как я страдала!» – вспоминает Тереза. Мало говорит она об этих первых муках от потери веры, но по тому, что говорит о позднейших, можно судить и об этих. «Сухость и сон, вот теперь единственные чувства мои к Иисусу». «Горькая сухость души была для меня хлебом насущным». Сердце у нее так сухо, как будто высушено было на адском огне (Ghéon, 122 – 123). «О, если бы вы знали, какие страшные мысли мучат меня! Это мысли отъявленных безбожников» (Laborda, 113). «Все, что я говорю о моих сомнениях, слишком слабо по сравнению с тем, что я чувствую; но я не хочу больше говорить об этом; я боюсь, что уже и так я слишком много сказала: я боюсь кощунства (Mardrus, 142). «Похули Бога и умри» – как говорит жена Иова, – вот чего боится Тереза: таков возможный конец ее «преисподнего опыта».
Кажется, в детстве были у нее три потери веры: первая – после смерти матери; вторая – после пострижения Полины, и третья – эта, после чуда исцеления. Будут и другие потом; каждая следующая хуже предыдущей, и хуже всех последняя, в смертный час.
Летчики знают, как опасны провалы в «воздушные ямы», такие внезапные, что если авион не выправить вовремя, то он падает в яму и разбивается о землю. Есть и в религиозном опыте Терезы, так же как у всех святых, такие «воздушные ямы» – потери веры. Каждый раз в последнюю минуту перед самым падением выправляет она не чужие, мертвые, как у летательной машины, а свои, живые, как у Ангела, крылья и, проносясь так близко к земле, что почти касается ее крылом, взлетает снова к небу, как ласточка. Чем больше ужас падения, тем упоительнее радость взлета. Но перед каждым падением помнит она, что может быть когда-нибудь и такое, что уже не взлетит, а упадет на землю и разобьется до смерти.
Что спасло ее в этом детском падении после чуда исцеления? То же, что будет спасать и во всех остальных, – смирение. «Дева Мария послала мне эту муку (потерю веры) для моего же блага: иначе гордость могла бы закрасться в мое сердце, между тем как в моем унижении я не могла смотреть на себя без отвращения и ужаса».
Главной движущей силой во всем ее религиозном опыте и будет смирение, понятое по-новому, не так, как понималось оно во всей бывшей до нее христианской святости, не как отрицание, а как утверждение человеческой личности в Боге. Здесь же начинается и сделанное ею великое, но все еще не понятое как следует, потому что не примененное к церковно-общественному действию, – открытие – «Маленький Путь Детства», который и есть не что иное, как это новое, личность не отрицающее, а утверждающее смирение.
19
В 1885 году, когда минуло ей четырнадцать лет, наступил для нее полдень, разделяющий короткую, двадцатичетырехлетнюю жизнь ее на две половины: в первой – направляла она волю свою только внутрь, на себя, а во второй – будет направлять ее и вовне, на души; в первой чудом только спаслась сама, а во второй будет спасать и других.
С маленького все начинается и здесь, как везде в жизни ее, – с маленького, впрочем, только физически, а духовно – огромного, как мир.
«Как-то раз, в конце обедни, когда вложенная между страницами молитвенника моего, изображавшая распятого Господа картинка выставилась так, что я могла видеть только одну из рук Его, пронзенную гвоздем и окровавленную, всю меня охватило вдруг новое, несказанное чувство: видом драгоценной, стекавшей на землю и никому не нужной Крови Его, сердце мое было растерзано так, что я решила вечно стоять у креста и собирать эту божественную росу, чтобы души людские ею орошать и спасать».
Маленькая французская мещаночка хочет (и будет) стоять на этом месте, самом святом и страшном в мире, у подножия Креста, рядом с Царицей Небесной, потому что верит и любит так, что ничего не боится ни на земле, ни на небе.
Первого спасает великого злодея Пранцини, осужденного за ужасные убийства на смертную казнь и такого нераскаянного, что он обрекает себя на вечную гибель. «Я хотела спасти его и, зная, что сама не могу этого сделать, предлагала, как выкуп за него, бесконечные заслуги Христа… и молилась так: „Господи, я верю, что Ты его простишь, и, если бы даже он до конца остался нераскаянным, я бы все-таки верила в это… Но так как в будущей борьбе моей за человеческие души это мой первый грешник, то я молю у Тебя только знака для моего утешения!“ И эта молитва моя была услышана.
Отец никогда не позволял нам, детям, читать газеты… но я, не боясь непослушания, все-таки читала в них все, что относилось к Пранцини. На следующий день после казни его я открыла газету «Крест» и что же увидела? Слезы выдали меня, так что я принуждена была убежать из комнаты. Я прочла, что Пранцини, отказавшись от исповеди, взошел на эшафот, и палачи уже влекли его на плаху, когда он вдруг обернулся и, схватив распятие, которое предлагал ему священник, трижды поцеловал святые раны Господни. Так получила я знак, о котором молилась, и это было для меня великою радостью. Жажда спасать человеческие души не проникла ли в сердце мое так же точно, как раскаяние – в сердце этого великого злодея, когда те же раны и ту же из них текущую кровь увидела и я, как он. Души людские я хотела напоить Святою Кровью, чтобы очистить их от греха, и вот уста первого же духовного сына моего прильнули к Божественным Ранам. О, какой это был несказанный ответ на мою молитву, и как с тех пор желание мое спасать человеческие души росло с каждым днем! «Дай мне пить», – слышала я тихий голос Иисуса у колодца Иакова; и вот какой обмен любви происходил между нами: я лила за души человеческие Кровь Его и возвращала их Ему, уже освеженные этою росою Голгофы, чтобы жажду его утолить; но чем больше я утоляла ее, тем собственная маленькая душа моя неутолимее жаждала, и сладчайшей для меня наградой была эта жажда».
Если понять как следует это милое детское чудо Маленькой Терезы, то нельзя не полюбить ее, как родную. Кто из нас, в самом деле, не был, хотя бы на миг, в самых тайных и безумных желаниях своих, великим злобным Пранцини; кто не отталкивал поданного ему распятия и не нуждался в такой молитве, какой молилась за этого злодея Маленькая Тереза?
20
Вымолить у Бога всех – всех спасти, не только добрых, но и злых, да будет «Восстановление всего», Apokatastatis pantôn, по слову Оригена и по слову Павла, «Да будет Бог все во всем» – вот главная движущая воля в религиозном опыте Маленькой Терезы.
Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино (Ио., 17, 21); эту молитву Сына к Отцу исполнит Мать Христа земная, ведущая к Матери Его Небесной – Духу. Всех скорбящих Матерь хочет спасти, всех добрых и злых одинаково. Главное орудие этого спасения – Кармель, «Братство совершенно Мариино», ordo totus Marianus, как называли его уже при основании Кармеля и будут называть всегда. Вот почему теперь, когда и в сердце Маленькой Терезы загорелось желание спасти всех (если даже такой злодей, как Пранцини, мог быть спасен, то могут быть спасены и все), – вот почему теперь бывшее у Терезы с самого раннего детства желание идти в Кармель, к Пресвятой Деве Марии, спасающей всех, усилилось так, как еще никогда. Но, чтобы исполнить это желание, нужно было согласие отца.
Духов день выбрала она, чтобы с ним говорить об этом. Выбор этого дня, может быть, не случаен, потому что Покровительница Кармеля, Пресвятая Дева Мария, Божия Матерь земная есть знамение Матери Его Небесной – Духа.
Был вечер ясного летнего дня. В главной аллее Бьюссонетского сада, той самой, где некогда явился ей призрак отца, старого, больного, сгорбленного, как под непосильной тяжестью, с невидимым лицом, которое закрыто было во что-то длинное и темное, страшное, – в этой самой аллее он сидел на скамье, один, и, глядя, как тихий свет вечерний гас на верхушках деревьев, сам похож был на этот тихий свет, потому что главное во всем существе его, так же как в существе Терезы, была тишина. Издали увидев его, вспомнила она почему-то об этом призраке так живо, как будто снова увидела его; подошла к отцу и стала рядом. Странно было видеть эти два лица вместе, так были они схожи, несмотря на различие возрастов: сорокалетний отец казался иногда моложе четырнадцатилетней дочери.
Он ничего не сказал, только тихо улыбнулся и, опять подняв глаза, начал смотреть то на верхушки деревьев, озаренные тихим светом вечерним, то на небо, как будто молился.
Долго молчали оба: любили так молчать вместе, потому что лучше понимали друг друга в молчании, чем в словах. Но теперь она молчала и потому, что боялась того, что должна была ему сказать, и очень жалела его. Любящая рука смертельно ранит любимого. Вспомнила, что жизни едва ей не стоила вечная разлука с Полиной, ушедшей в Кармель. «Выжила я, а что если он?..» – начала она думать и не кончила от страха и жалости. Заплакала, сама того не замечая.
Быстро повернулся он к ней, тихо привлек ее к себе и прижал голову ее к сердцу своему.
«Что ты, родная, о чем? – спросил он и прибавил с тою бесконечно тихою ласкою, с какой всегда произносил эти слова: – Маленькая королева моя…»
И она ему сказала все. Выслушал он ее спокойно, как будто знал, что она это скажет и, когда кончила, проговорил все так же спокойно:
«Очень ты молода и не так здорова, а как тяжел устав Кармеля, ты знаешь. Сможешь ли вынести? Хорошо ли ты все обдумала?»
Молча кивнула она головой. Он чуть-чуть побледнел, отвернулся и тихо заплакал, но тотчас улыбнулся ей сквозь слезы и сказал:
«А если так, с Богом ступай, и все хорошо будет!»
Очень удивилась она, что он так легко согласился, но не обрадовалась, а больше еще испугалась, чем если бы он отказал.
Маленькую, как от укола булавки, красную точку оставляет на теле человека жало змеи, но точка эта, может быть, смерть. Не было ли то, что промелькнуло в лице его, когда он сказал: «С Богом ступай!» – такою же смертельною точкою? «Выжила я, а что если он умрет?» – кончила она давешнюю мысль, и вдруг увидела его больного, старого, сгорбленного, как под непосильной тяжестью, с лицом, закутанным во что-то темное, страшное, и только теперь поняла или только начала понимать, что предвещал этот призрак.
Как это часто между ними бывало, он угадал без слов, что она думала, и пристально взглянул на нее.
«Что бы то ни было, помни: ты ни в чем передо мной не виновата. Не думай же обо мне, – думай только о себе; так и мне лучше будет», – проговорил он и опять улыбнулся ей, но так безнадежно, что вся душа ее изныла вдруг от невыносимой жалости. «Если не сейчас, то никогда не уйду от него», – подумала. «От отца уйти – отца убить; это ли значит: „Кто не возненавидит отца?..“ Но если и это, – не остановится, – перешагнет…» Остановилась, так же опять, как давеча, не кончила мысли от страха и жалости. Упала на колени и зарыдала так, что слезы ее были, как из нанесенной только что раны льющаяся кровь.
Он наклонился к ней, снова прижал ее голову к сердцу своему (по тому, как оно билось, поняла она, что он так же за нее боится и жалеет ее, как она – его) и начал что-то говорить. Слов его она уже не понимала, но чувствовала силу их, как утопающий – силу того, кто спасает его.
Чем он успокоил и утешил ее, вспомнит она только четырьмя словами: «Он говорил, как святой». Будущая великая святая была в эту минуту грешной и слабой, а отец ее – святым и сильным. Сильный подымает слабого, грешит – святой: так поднял Терезу отец ее. Сделал он это, может быть, теми же, давеча уже сказанными словами: «С Богом ступай в Кармель!» – но теперь повторенными с тою нездешнею силою, которая побеждает все земные страдания, и с такою царственною властью, что в эту минуту он был, в самом деле, похож на «короля», как называла его Тереза и как однажды сказала ему: «Если бы люди знали тебя, то сделали бы тебя королем!» Люди не знали его, но знал Тот, Кто один венчает не мнимых, а настоящих королей – святых. Маленький лизьеский часовщик, Луи Мартэн, был, может быть, таким же святым, как дочь его, Тереза. Скажет она и сделает многое; столько же и он сделает молча, хотя бы уже тем, что родил ее дважды – сначала в мир, а потом – в Кармель. Мир, может быть, только и держится и спасается тем, что были, есть и будут в нем всегда такие неизвестные великие святые, как отец Терезы.
21
Главное, что оба они поняли из этой беседы, было то, что надо обоим спешить, чтобы не сойти с ума в этом страшном поединке любви, где убивший погиб, а убитый спасен.
Знала Тереза всегда, что жизнь ее будет коротка, и что ей надо спешить, чтобы сделать все, что нужно. Никогда ни с чем не спешила так, как теперь с уходом в Кармель, но чем больше спешила, тем больше перед ней вставало преград. Увалень, владыка вещества, дьявол косности то каменные глыбы подкатывал ей под ноги, то гнилые доски подкидывал, то зыбучие пески рассыпал, то разводил топкую грязь. Был он сначала один, а потом разделился на множество лиц.
Увальнем первым – каменных глыб – оказался дядя Терезы, благочестивый и благоразумный лизьеский аптекарь Мартэн. «Слабенькой пятнадцатилетней девочке идти в обитель Кармеля, с таким суровым уставом, что и взрослым и крепким людям он едва под силу, значит идти на верную смерть», – объявил он и в согласии своем отказал наотрез. Бедной Терезе казалось, что узкий путь ее завалила вдруг такая огромная каменная глыба, что ее не сдвинуть, не обойти.
Увальнем вторым – липкой грязи – оказался игумен мужской обители Кармеля в Лизье, от которой зависела и женская, куда хотела она поступить. Долго мямлил он, ходил вокруг да около, как это свойственно многим церковным чиновникам, так что Терезе казалось, что мысли и чувства ее увязают в этом мямлении, как в липкой грязи. Только когда отец ее спросил его в упор, сколько именно лет придется ей ждать его разрешения вступить в Кармель, он, наконец, ответил, что не разрешит ей этого сделать до совершеннолетия, что значило бы ждать шесть лет – шесть вечностей, и было для нее почти так же невозможно, как совсем отказаться от монашества. Бедная Тереза почувствовала, что поскользнулась на грязи и прямо лицом упала в нее; хороша подымется, если только эта грязь не окажется трясиной и не засосет ее с головой.
Третий увалень – досок гнилых – явился ей под видом генерального викария при Байеском епископе, аббата Реверони.
«Вижу алмазы в ваших глазах, но их не надо Монсеньеру показывать!» – воскликнул он, увидев слезы на глазах Терезы, когда вводил ее с отцом в великолепную, но ледяную приемную епископского дворца. В ласковом голосе аббата Реверони была та опасная мягкость, которая свойственна доскам гнилых половиц: ступишь – провалишься.
Увальнем четвертым – зыбучих песков – оказался сам Байеский епископ, человек умный и добрый, но с тою, свойственной многим князьям Римской Церкви, уклончивой любезностью, которая больше обещает, чем дает. Долго и ласково убеждал он Терезу в том, в чем ее убеждали все, – в чрезмерной молодости ее для сурового устава Кармеля. Думая в этом найти поддержку в отце ее, он обратился к нему; когда же тот оказался на ее стороне, очень удивился и не мог понять, кто они такие – малые ли дети оба, несмотря на все различие возраста, или полоумные. И больше еще удивился, узнав, что если раньше не добьются они того, о чем просят, то поедут в Рим, чтобы ходатайствовать о том же у папы. Но, скрыв удивление свое, монсеньор простился с ними все так же любезно и сказал Терезе на прощанье так ласково, что бедная не знала, где глубже провалилась, на гнилых ли досках аббата Реверони или в зыбучих песках епископа Байеского:
«Я очень рад, дитя мое, что вы едете в Рим, где утвердится, надеюсь, ваше святое призвание к монашеству», – сказал он горько плакавшей Терезе и благословил ее пухлой и белой, как у женщины, рукой с аметистовым перстнем.
«К папе, к папе, в Рим! Он поймет, что мы правы, и сделает по-нашему!» – повторял отец Терезы. «Мы» и «по-нашему» говорил он так, как будто и он вместе с нею хотел постричься в монашество.
Чувствовала она, что и его заразила своим нетерпением. «Бедный! На какую муку спешит, как голодный на хлеб и жаждущий на воду!» – думала она с такою же невыносимою жалостью, как тогда, во время вечерней беседы в Бьюссонетском саду.
Снова, в эти дни, провалилась она в «воздушную яму», потерю веры; снова вышла в Темную Ночь Духа. Но вышла из нее, когда поняла, что если дьявол косности, – в эти дни как бы глазами видела его, невидимого, телом осязала бестелесного, – если с таким неутолимым упорством преграждает ей Увалень путь в Кармель, то значит это верный путь к великой цели, и, это поняв, решила она ответить упорством на упорство дьявола и, во что бы то ни стало, его победить.
4 ноября 1887 года, в три часа ночи, Тереза с отцом и последнею, не постригшеюся в монахини сестрою Селиною выехали в Рим. «Чувствовала я, что иду к неизвестному и что великое ждет меня в Риме», – вспоминает она. Это «великое» было решение вечных судеб, может быть, не только ее, но и всего христианского человечества.
С тою же надеждой и тем же страхом, как будущая великая святая Римской Церкви, Тереза Лизьеская, та, которой суждено было начать вторую, внутреннюю Реформу этой Церкви (первую начали св. Тереза Испанская и св. Иоанн Креста), шел, четыре века назад, туда же в Рим, тот, кому суждено было начать первую, внешнюю Реформу, будущий великий ересиарх, Лютер. Оба они на пути в Рим думали, может быть, об одном, каждый по-своему: в предстоявшей им великой борьбе с дьяволом косности, торжествующим в миру и в Церкви, слугою Антихриста, будет ли с ними, или против них Римский Первосвященник, Наместник Христа для них обоих, почти Христос?
Маленький намек на великое дело – Соединение Церквей, – то, что оба они, ересиарх и святая Западной Церкви, не чувствовали невыносимого для верующих православной Церкви кощунства в этих трех словах: Папа – почти Христос.
22
«Рим! Рим!» Этот радостный крик нормандских паломников услышала Тереза ночью, в вагоне, с такою же великою надеждой, с какой, четыре века назад, его услышал и Лютер, входя в Вечный Город. «В Риме надеялась я найти утешение, но, увы, нашла в нем только крест», – скажет Тереза; то же мог бы сказать и Лютер.
В первый же день по приезде посетила она Колизей. В то же время делались в нем раскопки, чтобы найти то место, где умирали мученики первых веков христианства.
К ужасу отца своего Тереза сбежала, точно упала или на крыльях слетела, между бревнами и досками строительных лесов, по срывавшимся из-под ног ее камням развалин, к указанной проводником гладкой и круглой площадке, где умирали эти мученики, припала губами к свежеразрытой, влажной, как будто святою кровью только что напитанной земле и целовала, целовала ее с ненасытной жадностью.
«Мученицей быть и мне, и мне дай, Господи!» – молилась она и чувствовала, что молитва ее будет исполнена.
Ту же ли муку примет и она, как те исповедники первых веков? Нет, иную, большую: лютый зверь не загрызет ее, палач не замучает, как тех; сама с собой она это сделает, и будет это мученичество внутренне страшнее, больнее внешнего; но чем больнее, тем упоительней. Знала, может быть, уже и тогда, что это сделает, когда холодная земля на той разрытой площадке согревалась от поцелуев ее так же, как некогда от горячей крови мучеников.
Землю, где оставили следы ноги их, целует сначала, а потом – ноги Папы. Между этими двумя целованиями – весь двухтысячелетний путь христианства с вечным вопросом Петра: «Господи, куда идешь? Domine, quo vadis?» – и вечным ответом Христа: «В Рим иду, чтобы снова распяться. Vado Roman iteram crucifigi». Может быть, Тереза об этом не думает, но сердцем это чувствует. Мукой, идущей от этого вопроса, будет вся ее жизнь и святость. «Страшны мне дела Рима», – могла бы сказать и она, как св. Тереза Испанская, да почти и говорит: «Я очень рада, что была в Риме, но понимаю тех, кто думал, что отец повез меня в Рим, чтобы изменить мысли мои о религии: в Риме, действительно, было то, что могло поколебать недостаточно твердое призвание к монашеству». Это для Маленькой Терезы значит: «В Риме можно потерять веру». Это и Лютер почувствовал и потерял веру в того, кто был для него до Рима «почти Христом», – в Папу. Кажется, и у Терезы вера эта была уже поколеблена.
«Шесть дней мы осматривали великие чудеса Рима, а на седьмой увидели величайшее из них, папу», – вспоминает она. «После обедни (в Сикстинской капелле) началась аудиенция. Папа сидел на высоком кресле, в очень простой белой сутане и в скуфейке того же цвета. Около него стояли кардиналы и другие князья Римской Церкви. Каждый богомолец, согласно с церемониалом, становился на колени, целовал сначала руку Его Святейшества, а потом ногу его и тотчас же, по знаку двух офицеров Апостолической гвардии, выходил в соседнюю залу, чтобы дать место следующему за ним по очереди. Все это делали молча. Но я твердо решила говорить, как вдруг стоявший справа от Его Святейшества аббат Реверони сказал нам громко, что запрещает говорить. Страшно забилось сердце мое, и, обернувшись к Селине, я ее спросила, молча, взглядом, и она ответила мне тоже взглядом: „Говори!“
«Ваше Святейшество, молю вас о великой милости», – начала я, и тотчас же Папа склонил лицо свое к моему так близко, что почти коснулся его. Черные-черные, глубокие глаза его как будто хотели проникнуть к самую глубину души моей.
«Ваше Святейшество, мне всего пятнадцать лет, но молю вас, в честь юбилея вашего, разрешите мне вступить в святую обитель Кармеля…» «Ваше Святейшество, – перебил меня главный викарий Байеский (аббат Реверони), очень удивленный и недовольный, – девочка эта желает вступить в Кармель, но старшие в Братстве еще не решили».
«Будьте же, дочь моя, послушны воле старших», – ответил мне Папа.
Тогда, сложив руки и опираясь ими о колени его, я сделала еще последнюю попытку:
«Ваше Святейшество, если бы вы только сказали: „да“, то все бы согласились…»
«Полно, полно, дочь моя, вы вступите в Кармель, если Богу будет угодно», – проговорил он, отчеканивая каждое слово и глядя на меня все так же пристально.
Все еще хотела я говорить, когда два офицера Апостолической гвардии, видя, что я продолжаю стоять со сложенными на коленях Его Святейшества руками, взяли меня под руки и подняли, а когда подымали, то Папа встал, благословил меня и долго еще провожал меня глазами».
Горе ее было так сильно, что она ничего не видела, не слышала и, казалось, была в беспамятстве, когда те два офицера очень вежливо, но беспощадно уводили ее под руки, как больную или пьяную. «Боже мой, какой позор для меня и для Монсеньора де Байе!» – думал в отчаянии аббат Реверони.
Как ни сильно было горе маленькой Терезы, может быть, еще сильнее был ужас ее, когда и в этом сухоньком, тоненьком, как будто из слоновой кости точенном, быстром и легком старичке, Льве XIII, вдруг почудился ей все тот же грозный Увалень, и, когда показалось ей, что разделившийся там, в Лизье, на четыре лица – первое – каменных глыб, второе – гнилых половиц, третье – топких грязей и четвертое – зыбучих песков – снова соединился он здесь, в Риме, в одно лицо непобедимого, в миру и в Церкви торжествующего диавола косности.
Сделаться мученицей – эта молитва ее в Колизее исполнится скорее, чем она могла надеяться, здесь же, в Риме, потому что главная мука всей жизни ее и будет борьба с бесконечною косностью мира и Церкви.
«Главной цели Кармеля – молиться за священников – я, до путешествия в Рим, не понимала, – вспоминает Тереза. – Радостно мне было молиться за грешных людей в миру, но не за священников, чьи души казались мне такими чистыми; только в Риме я поняла, зачем нужны эти молитвы». Здесь только, в Риме, поняла она, что молитвы за грешных священников нужнее, чем за грешных людей в миру, а за грешного Папу, может быть, нужнее всего.
23
Данте в раю, в небе Неподвижных Звезд, видит четыре пламенеющих факела – апостолов, Петра, Иакова, Иоанна, и первого человека, Адама. Вдруг белое пламя Петра
Так, разгораясь, начало краснеть, Как если бы свой белый свет Юпитер Во рдеющий свет Марса изменил.Хор блаженных умолк, и, в наступившей тишине,
Сказал мне Петр: «Тому, что я краснею, Не удивляйся: ты сейчас увидишь, Как покраснеют все от слов моих. Престол, престол, престол мой, опустевший, Похитил он и, пред Лицом Господним, Мой гроб, мой гроб помойной ямой сделал, Где кровь и грязь – на радость Сатане!»Кто это «он»? Только ли Папа Бонифаций VII, гонитель Данте? Нет, и тот, кто за Папой, – «Антихрист», как сказал бы Лютер.
Тогда все небо покраснело так, Как на восходе иль закате солнца Краснеет густо грозовая туча.Заревом ада краснеет небо от стыда за Римскую Церковь. Самое страшное в этом Страшном суде над нею – то, что он так несомненен: кто в самом деле усомнится, что если бы Петр увидел то, что происходило в Римской Церкви за тринадцать веков до времени Данте и в последующих веках, то покраснел бы от стыда и сказал бы, что говорит у Данте:
Какого славного начала Какой позорнейший конец!Большего на нее восстания не будет ни у Лютера, ни у Кальвина, чем было у Данте, правоверного католика и вместе с тем первого великого «протестанта», в глубоком и вечном смысле этого слова: prutesto, «противлюсь», «восстаю».
Восстань, Боже, суди землю! (Пс., 82, 8).
«Слушаться Папы должны мы не так, как Христа (Бога), а лишь так, как Петра (человека), – учит Данте, и будет учить Лютер: вот Архимедов рычаг, которым низвергается земное владычество Папы в ложном Римском „Боговластии“, „Теократии“.
«Где Церковь, там Христос, ubi Ecclesia, ibi Christus: так для св. Франциска Ассизского и для всех святых после первых веков христианства, а для Данте наоборот: „Где Христос, там Церковь“, ubi Christus, ibi Eccelesia.
Данте, в своем восстании на Римскую Церковь, сильнее, чем Лютер: только одно отрицание старого – обращение к Римской Церкви, голое «нет» – у Лютера, а у Данте – «нет» и «да», отрицание старого и утверждение нового. Лютер побеждает Римскую Церковь только частично и временно, а если бы победил Данте, то победа его была бы вечной и полной. Тихое восстание его, для мира и для самого восстающего не видимое, страшнее для Римской Церкви, потому что не внешне, а внутренне мятежнее, революционно-взрывчатее буйного и шумного восстания Лютера. Тише еще и невидимее будет восстание св. Иоанна Креста и св. Терезы Испанской. Самое же тихое и невидимое – у св. Терезы Лизьеской.
Стоит только сравнить то состояние, в каком находилась Римская Церковь за два с половиною века от Данте до Лютера, с тем, в каком состоянии находится она сейчас, чтобы понять необходимость для нее и спасительность обеих Реформ – внешней, Лютера, идущей против Церкви, и внутренней, идущей за Церковью, Реформ св. Иоанна Креста и св. Терезы Испанской и св. Терезы Лизьеской. Страшная «помойная яма» закрыта; все вычищено, вымыто. Но в этом очищении нравственном чувствуется тот же религиозный холод, как в пустыне и голых стенах протестантских церквей. Эту пустоту наполнить и от этого холода согреть не мог бы христианский социализм папы Льва XIII.
Се, оставляйте — дом ваш пуст, —страшное слово это еще не прозвучало над Римской Церковью, но ей надо помнить его навсегда.
Как ни проницателен был папа Лев XIII, тайны пятнадцатилетней девочки, Терезы Мартэн, он не угадал; не увидел того, что не вся она будет в Римской Церкви, что главная часть ее будет в Церкви Вселенской; не увидел и того, что тишайшее, не только другим, но и ей самой невидимое восстание ее на Римскую Церковь, может быть опаснее для этой Церкви, чем буйное и шумное восстание Лютера.
«Дело это да отложится, causa reponatur» – этим любимым словом торжествующего в миру и в Церкви дьявола косности ответил папа Пий X, в 1914 году, на вопрос об увенчании Жанны д'Арк венцом святости; тем же словом мог ответить и папа Лев XIII на просьбу маленькой Терезы Мартэн, будущей великой святой, на просьбу ее о вступлении в Кармель. Жанну д'Арк, прежде чем объявить святой, Церковь сожгла, а Маленькую Терезу заморозила: лютая до смерти мука холода ждала ее в стенах Кармельской обители, тотчас же после свидания с папой.
24
Новая Церковь этих двух слов, нужнейших для нее, потому что в главном деле жизни ее – Реформе – все решающих слов св. Тереза Лизьеская не произнесет никогда. Слышала ли она что-нибудь о великом полуосужденном, полуоправданном Церковью великом пророке Духа Св. Иоахиме Флорском, жившем в Калабрии, в XII веке, и о предсказанном им «основании Новой Церкви, Novae Ecclesiae Fundatione, в Третьем Царстве Духа»? «Нынешнее состояние Церкви изменится, commutandus est states istae Ecclesiae», – учит Иоахим. «Дни Римской Церкви сочтены: новая Вселенская Церковь воздвигнута будет на развалинах старой Церкви Петра» (Данте, 114). Если бы Маленькая Тереза и слышала об этом (что маловероятно), то забыла бы или приняла бы только в память, а не в сердце, как и все, не проверенные собственным опытом ее, книжные сведения; и уж во всяком случае, если бы ей сказали, что из старой Римской Церкви перешла она в новую Церковь Вселенскую, то она, вероятно, не поняла бы, что это значит, потому что Римская Церковь и была для нее Вселенскою. Но вот что знаменатально, хотя никем, ни даже самой Терезой не понято как следует: в те именно дни, когда готовилась к важнейшему событию, если не внутренней, то внешней жизни своей – к свиданию с Папой, вспомнила она эти не понятые и даже как будто не услышанные Церковью слова Апокалипсиса (2, 17):
…дам побеждающему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает.
В Старой Церкви не может быть дано «новое имя» ни Христу, ни побеждающему во имя Христа; только в Новой Церкви может быть дано и это «новое имя».
«Новое имя» Христа Маленькая Тереза могла бы знать не в старой Церкви Римской, а только в Новой Вселенской. Но если так, то вся разница между Иоахимом и Терезой лишь в том, что для нее на земле существует только Церковь Воинствующая, Ecclesia Militans, a торжествующая, Triumphans, только на небе, тогда как для Иоахима обе Церкви существуют на земле одинаково, потому что воля Божия исполняется лишь в Церкви, а если бы не было и на земле, как на небе, Торжествующей Церкви, то не могло бы исполниться второе прошение молитвы Господней:
Да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
«Было первое Царство Одного – Отца; есть второе Царство Двух – Отца и Сына; будет третье Царство Трех – Отца, Сына и Духа», – учит Иоахим. Этим-то третьим Царством Трех и будет торжествующая на земле Церковь – Царство Божие.
«Многое можно знать бессознательно», по великому открытию Достоевского, имеющему наибольшее значение в религиозном опыте, где самое глубокое и наиболее человека подводящее к Богу совершается бессознательно. Можно не только многое знать, но и во многом быть бессознательно. Наше сознание запредельное (то, что Достоевский называет «бессознательным») от сознания предельного, «душу ночную» от «дневной», наше бодрствование от подобного глубочайшему обмороку сна, отделяет лишь один волосок, но не переступаемый для нас, как бездна. Переход из одного порядка бытия в другой, из сознательного, «дневного», в бессознательный, «ночной», внезапен, как молния. Между этими двумя порядками находится то, что в математике называется «прерывом», а в религии – «чудом». Этим-то «чудом-прерывом» Маленькая Тереза, сама того не сознавая, и перешла из старой Церкви Римской в новую, Вселенскую. Первая точка этого перехода и есть свидание с Папой. Здесь же начинается и путь ее к тому великому делу всей жизни ее и святости, в котором силою тишайшей, не только миру, но и ей самой неслышимой, невидимой, изменит она круговращение земли так, что взойдет над нею новое солнце – Третье Царство Трех.


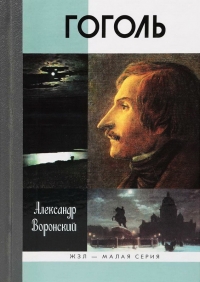




Комментарии к книге «Маленькая Тереза», Дмитрий Сергеевич Мережковский
Всего 0 комментариев