Валентин БЕРЕЖКОВ СТРАНИЦЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ Издание четвертое
Миссия в Берлин
ПЕРЕГОВОРЫ НА ВИЛЬГЕЛЬМШТРАССЕ
Специальный поезд
Вечером 9 ноября 1940 г. от перрона Белорусского вокзала в Москве вне расписания отошел необычный поезд. Он состоял из нескольких вагонов западноевропейского образца. Его пассажирами были члены и сотрудники советской правительственной делегации, направлявшейся в Берлин для переговоров с германским правительством.
Сейчас Советский Союз поддерживает прямое железнодорожное сообщение со многими государствами. Но перед второй мировой войной советские составы шли только до нашей Западной границы. Там пассажиры переходили в поезд, который доставлял их до первой зарубежной станции, где снова надо было пересаживаться в состав, шедший в Западную Европу. Эти сложности вызывались разницей в колее, а смена тележек под вагонами в то время широко не практиковалась. В этом отношении поезд, поданный, для советской делегации, был также необычным. Ему предстояло пройти весь путь от Москвы до Берлина: на границе его ожидали тележки западноевропейского типа.
Не спеша поужинав в вагоне-ресторане, я вернулся в свое купе и растянулся на постели. Однако сон долго не приходил — очень уж взбудоражили меня события этого дня. Только утром я узнал о предстоящей поездке. Надо было… закончить дела на работе, пройти через все формальности, связанные с получением заграничного паспорта, наскоро собраться и быть на вокзале за час до отъезда.
Это была не первая моя поездка за рубеж. Весну и лето 1940 года я проработал в советском торгпредстве в Берлине и основательно поколесил не только по Германии, но и побывал в Бельгии, Голландии, Польше. Поскольку моя специальность инженера-технолога дополнялась хорошим знанием немецкого языка, меня, часто привлекали к участию в ответственных экономических переговорах. В тех случаях, когда нарком внешней торговли А. И. Микоян лично вел переговоры с немецкими, экономическими делегациями, я выполнял роль переводчика.
По роду своей работы я знал, что в последние месяцы германская сторона задерживала поставки Советскому Союзу важного оборудования и в то же время, настойчиво требовала увеличения советских поставок нефти, зерна, марганца и других материалов. Можно, было ожидать, что все эти вопросы будут обсуждаться в Берлине. Но состав советской делегации, в которую входили дипломатические и военные эксперты (она возглавлялась народным комиссаром иностранных дел В. М. Молотовым), давал основание полагать, что прежде всего предстоят, политические переговоры. Видимо, было сочтено, что на этих переговорах я могу быть полезен. Так я оказался в числе пассажиров специального поезда.
Международная обстановка в то время была весьма сложной. Предпринимавшиеся на протяжении ряда лет попытки Советского правительства договориться с Англией и Францией о совместном отпоре гитлеровской агрессии не увенчались успехом. Летом 1939 года стало очевидным, что западные державы думают лишь о том, как бы изолировать Советский Союз и направить агрессию «третьего рейха» против нашей страны. В этих условиях правительство. СССР сочло необходимым принять предложение Берлина и заключить пакт о ненападении с германским правительством. Это давало возможность Советскому Союзу на какое-то время отвратить от своего народа опасность войны, выиграть время для подготовки к отпору фашистской агрессии в будущем.
Идя на заключение договора с Германией, Советский Союз тем самым срывал вынашивавшиеся в реакционных кругах Запада планы объединения англо-французской реакций с германским фашизмом в общий антисоветский фронт. Предотвращение такого объединения — основной положительный результат этого договора.
Важное значение имело и то, что в результате воссоединения западных областей Украины в одно государство с Советской Украиной и Западной Белоруссии с Советской Белоруссией, а также вступления в состав Советского Союза прибалтийских республик — Литвы, Латвии и Эстонии — значительно отодвинулась на Запад государственная граница нашей страны.
Между тем война в Западной Европе стала фактом. Одна за другой следовали операции гитлеровского «блицкрига»: оккупация Польши, Дании, Норвегии, Голландии, Бельгии, и, наконец, Франции, правительство которой, подписав в Компьене капитуляцию, перебралось в маленький курортный городок Виши. После этого план. «Морской лев», предусматривавший вторжение на Британские острова, пылился на полках германского генерального штаба. Военные операции происходили лишь в Северной Африке. В остальном вторая половина лета и осень 1940 года прошли довольно спокойно.
Всех нас, конечно, тревожил вопрос: что же дальше? Как долго еще будет соблюдать Гитлер свои обязательства по советско-германскому пакту о ненападении? Не повернет ли он на Восток? К осени 1940 года Берлин, предпринял ряд акций, осложнивших советско-германские отношения. В Финляндии высадились германские войска, в Румынию прибыла германская военная миссия. Берлин оказывал нажим на Болгарию. Сроки поставок немецкого оборудования Советскому Союзу систематически срывались. Важно было прощупать подлинные намерения Гитлера, и это была одна из целей дипломатической миссии, отправившейся в Берлин в ноябре 1940 года по приглашению германского правительства.
На следующее утро в специальном поезде начался обычный трудовой день. Мы были связаны по радио с Москвой и внимательно следили за международными событиями. О поездке советской правительственной делегации в Германию было уже объявлено, и мировая пресса широко комментировала ее.
В вагоне референтов систематизировалась вся информация, готовились краткие сводки для членов делегации. Машинистки тут же отстукивали их в нескольких экземплярах. У экспертов были свои заботы. Они еще раз просматривали взятую с собой документацию по истории русско-германских и советско-германских отношений, отмечали то, что может понадобиться для подкрепления нашей аргументации при переговорах.
За окном вагона мелькали осенние белорусские леса. В этих краях было еще тепло. Сквозь рваные тучи проглядывало солнце, поблескивала влажная трава. Через равные промежутки в четыреста-пятьсот метров у насыпи появлялась одинокая фигура красноармейца: в руках — винтовка с примкнутым штыком. Железнодорожное полотно по маршруту нашего поезда специально охранялось. Но лишь немногие из этих часовых стояли по стойке «смирно». Большей частью они сидели на пеньках, покуривая, или, раскинув шинель на траве, лежали, жуя соломинку и с любопытством поглядывая на мчавшийся мимо них состав с необычными вагонами…
Смысл пакта
Внезапный приезд в августе 1939 года германского министра иностранных дел Риббентропа в Москву и заключение в результате состоявшихся переговоров договора о ненападении между Советским Союзом и Германией — государствами, которые до того находились в весьма натянутых, если не сказать во враждебных, отношениях, вызвали в свое время сенсацию. Многие тогда не поняли смысла этого пакта. Не было недостатка и во всякого рода клеветнических выпадах в адрес Советского Союза: они были рассчитаны на то, чтобы в глазах мировой общественности очернить политику единственного в то время в мире социалистического государства, изобразить дело так, будто Москва совершила чуть ли не «предательство», пойдя на соглашение с Берлином. Особенно большую шумиху поднимала в этой связи буржуазная пропагандистская машина Англии и Франции. А между тем именно правящие круги этих стран несли ответственность за такой оборот событий. Именно по их вине упорная борьба Советского государства за систему коллективной безопасности в Европе, за совместный отпор фашистским агрессорам не увенчалась успехом.
Впрочем, и сейчас, по прошествии более чем четырех десятилетий, слышится старый пропагандистский мотив о том, будто Советский Союз, заключив в 1939 году пакт с гитлеровской Германией, нанес удар в спину силам демократии. До сих пор кое-кто уверяет, что Москва, дескать, «внезапно» и «без всяких причин» отказалась от союза с западными державами — Англией и Францией и, преследуя какие-то «зловещие цели», пошла на соглашение с Берлином. Этот мотив напевают обычно те, кто отлично понимает, в чем суть дела. Они стремятся использовать старую погудку о советско-германском пакте 1939 года лишь для того, чтобы подкрепить вполне современные расчеты: попытаться набросить тень на миролюбивую политику Советского Союза и других социалистических стран, помешать их борьбе за всеобщую безопасность, за торжество принципов мирного сосуществования между государствами с различными, общественными системами. Те, кто ведет свое политическое родство от мюнхенцев 30-х годов, сорвавших накануне второй мировой войны советские предложения о коллективной безопасности в Европе, пытаются вернуть былой накал антисоветской истерии, отравить международную атмосферу, в частности путем искажения исторических фактов.
Вместе с тем есть и люди, которые, обращаясь к историческим событиям прошлого, действительно хотят разобраться в смысле событий тех лет. Им это порой нелегко сделать, ибо вокруг вопроса о советско-германском пакте 1939 года нагромождены целые горы дезинформации.
Приходится, например, слышать такие вопросы: а была ли вообще необходимость заключать пакт о ненападении с гитлеровской Германией? Не правильнее ли было бы отвергнуть даже идею такого пакта? Эти вопросы задают чаще всего люди молодого поколения, которые недостаточно знают факты и, по сути дела, не представляют себе, какова была международная обстановка того времени.
В 1939 году правящие круги Англии и Франции видели свою задачу прежде всего в том, чтобы направить агрессию Гитлера против Советского Союза. Они рассчитывали с помощью нацистов добиться ликвидации ненавистной им социалистической державы, уничтожить большевизм. Одновременно ставилась и другая альтернативная задача: поскольку в ходе такой борьбы, даже независимо от ее исхода, обе стороны были бы ослаблены, Лондон и Париж лелеяли надежду выступить на заключительной стадии конфликта в качестве арбитров и навязать условия «мира», выгодные англо-французскому империализму. За эту близорукую политику пришлось в конечном счете жестоко поплатиться прежде всего Франции. На краю катастрофы оказалась и Англия.
Напомним кратко события того периода. Весной и летом 1939 года в Москве проходили переговоры между делегациями Англии, Франции и Советского Союза. Советское правительство последовательно выступало с требованием о создании системы коллективной безопасности и организации совместного отпора фашистской агрессии. Между тем западные державы неизменно уклонялись от соглашения и ставили всякого рода препоны, стремясь не допустить договоренности, хотя обстановка в Европе все более осложнялась.
Было очевидно, что угроза гитлеровского нападения нависла прежде всего над Советским Союзом, поэтому перед Советским правительством стояла неотложная задача — предотвратить или, по крайней мере, максимально оттянуть нападение гитлеровской Германии на СССР. Однако Англия и Франция ставили такие условия, которые, по существу, открывали путь для марша гитлеровских полчищ на Восток через Прибалтику.
Согласно английскому проекту, Советский Союз должен был оказать помощь, а иными словами — обязан был воевать против агрессора в случае его нападения на кого-либо из европейских соседей СССР, при условии, что советская помощь «окажется желательной». Европейскими соседями СССР являлись в то время Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния. Последние две страны имели английские и французские гарантии. Следовательно, оказывая им помощь, Советский Союз мог рассчитывать, что будет воевать против агрессора в союзе с Англией и Францией. Однако в случае нападения фашистской Германии через Финляндию или прибалтийские государства английский проект не давал Советскому Союзу никаких оснований рассчитывать на поддержку со стороны двух великих западных держав. К тому же Польша отказалась дать разрешение на пропуск советских войск через свою территорию. Это послужило одной из причин срыва соглашения.
Английские и французские предложения фактически подсказывали Гитлеру, как он мог бы вынудить Советский Союз вступить в войну в условиях полной изоляции. От Советского Союза требовали односторонних гарантий помощи Англии и Франции и некоторым их союзникам без каких-либо ответных обязательств этих стран прийти на помощь Советскому государству в случае нападения на него гитлеровской Германии.
Что касается Советского Союза, то он хотел заключить эффективный военный союз, способный защитить интересы всех европейских стран, обеспечить мир и безопасность на нашем: континенте. 17 апреля 1939 г. Советское правительство вручило английскому, а 19 апреля и французскому правительствам предложения, предусматривавшие заключение между тремя державами равноправного договора о действенной взаимной помощи против агрессора. В советском проекте говорилось:
«1. Англия, Франция, СССР заключают между собою соглашение сроком на 5 — 10 лет о взаимном обязательстве оказывать друг другу немедленно всяческую помощь, включая военную, в случае агрессии в Европе против любого из договаривающихся государств.
2. Англия, Франция, СССР обязуются оказывать всяческую, в том числе и военную, помощь восточноевропейским государствам, расположенным между Балтийским и Черным морями и граничащим с СССР, в случае агрессии против этих государств».
Ответ английского правительства, который был получен только 8 мая, свидетельствовал о том, что по существу позиция Лондона не изменилась. Только 1 июля английское правительство дало наконец согласие на советское предложение о предоставлении гарантий прибалтийским государствам и Финляндии. Но практически эту договоренность уже нельзя было реализовать. 7 июля Эстония и Латвия подписали договор с гитлеровской Германией.
Свое нежелание идти на серьезное соглашение с Советским Союзом англичане и французы продемонстрировали и тем, что прислали в Москву для переговоров второстепенных чиновников, к тому же не имевших письменных полномочий на подписание пакта. Так, с английской стороны ведение переговоров было поручено третьестепенному сотруднику Форин оффис Уильяму Стрэнгу, известному своим патологическим антикоммунизмом. В то время как тучи войны в Европе все более сгущались и для организации отпора агрессору был дорог каждый час, английская военная делегация, возглавлявшаяся давно находившимся не у дел адмиралом Драксом, отплыла из Лондона на тихоходном товаро-пассажирском пароходе. (Здесь уместно напомнить, что осенью 1938 года английский премьер Чемберлен счел нужным воспользоваться самолетом, отправляясь заключить с Гитлером мюнхенскую сделку, означавшую предательство Чехословакии). Советская же делегация возглавлялась наркомом иностранных дел В. М. Молотовым, а на стадии обсуждения военных проблем — наркомом обороны маршалом К. Е. Ворошиловым и имела необходимые полномочия для подписания соответствующего соглашения.
Анализируя коварные, маневры англо-французской дипломатии, продиктованные интересами реакционных кругов Лондона и Парижа, тогдашний посол США в Москве Джозеф Дэвис, известный своими антинацистскими взглядами, докладывал в Вашингтон: «По непонятным причинам европейские демократии не хотят укрепить своих позиций, опираясь на мощь Москвы… Вместо этого Англия и Франция делают прямо противоположное, подыгрывая целям нацистов и фашистов».
Но то, что послу Дэвису казалось непонятным, вполне укладывалось в рамки антисоветского курса «европейских демократий», курса на сговор с державами оси против Советского Союза.
Теперь посмотрим, какие альтернативы были у Советского Союза в конце лета 1939 года, когда переговоры с англичанами и французами зашли в тупик и стало совершенно очевидным, что Лондон и Париж вовсе и не собирались идти на соглашение с Москвой. Именно в это время из Берлина поступило предложение о заключении германо-советского пакта о ненападении.
Надо иметь в виду, что в то время германское правительство сознавало огромную опасность войны против Советского Союза. Оно еще не располагало теми ресурсами, которые к 1941 году ему обеспечил захват почти всего западноевропейского континента. Гитлеровцам еще не вскружили голову легкие победы на Западе. Они не решались удовлетворять свои захватнические цели посредством войны с таким сильным противником, как Советский Союз. Из опубликованных в последнее время документов явствует, что Гитлер даже готов был сам отправиться в Москву, если бы миссия Риббентропа ни к чему не привела. В Берлине тогда вполне определенно считали, что на первое время Германии целесообразнее поискать добычу в других направлениях.
Германское правительство еще в начале 1939 года предложило СССР заключить торговое соглашение. В обстановке крайней враждебности германской политики в отношении СССР развитие экономических отношений с Германией представлялось Советскому правительству затруднительным. На это обстоятельство народный комиссар иностранных дел и указал 10 мая 1939 г. германскому послу; 30 мая 1939 г. статс-секретарь германского МИД фон Вейцзеккер в беседе с советским поверенным в делах в Берлине Г. А. Астаховым зондировал возможность переговоров об улучшении отношений. Еще более определенно говорил об этом германский посол в СССР Шуленбург при встрече с Астаховым 17 июня 1939 г. в Берлине. Ответственный чиновник германского МИД посланник Шнурре, ссылаясь на свои беседы с Риббентропом, заявил 25 июня Астахову «о необходимости улучшения политических отношений между СССР и Германией». Все эти зондажи германской стороны Советское правительство оставляло без внимания. «Мое впечатление таково, — доносил в Берлин германский посол в Москве 4 августа 1939 г., — что в настоящее время Советское правительство решило заключить договор с Англией и Францией, если они выполнят некоторые советские пожелания». Однако последующий ход переговоров с Англией и Францией отнял у Советского правительства надежду на возможность удовлетворительного соглашения. Как же следовало поступать дальше?
Советское правительство могло, конечно, отклонить предложение Германии о пакте; но в таком случае Гитлер изобразил бы отказ как свидетельство «агрессивных намерений» Москвы. Он заявил бы немцам, что его, фюрера, стремление к примирению «грубо отвергнуто» и у Германии, дескать, не остается иного выхода, кроме «упреждающего» удара по Советскому Союзу. В таком случае мюнхенцы, возглавлявшие тогда правительства Англии и Франции и питавшие дикую ненависть к Стране Советов, потирали бы только руки. Их мечта толкнуть Гитлера против СССР была бы близка к осуществлению.
Мог ли Советский Союз в то время рассчитывать на помощь Лондона, Парижа или Вашингтона в единоборстве с вооруженной до зубов гитлеровской Германией? Все говорит о том, что мы вряд ли могли бы рассчитывать даже на нейтралитет западных держав. Скорее всего, дело обернулось бы так, что в начале 40-х годов вместо антигитлеровской коалиции возникла бы антисоветская коалиция империалистических держав. Советский Союз должен был бы один отражать натиск гитлеровской Германии, причем западные державы, если бы они даже не участвовали непосредственно своими вооруженными силами в этой войне, наверняка помогали бы Гитлеру сырьем, стратегическими материалами, вооружением. Ведь даже после того, как в 1941 году Советский Союз и Англия оказались в одном анти — гитлеровском лагере, влиятельные круги в Лондоне и Вашингтоне не хотели видеть советский народ победителем. При таких настроениях нетрудно было предвидеть, на чьей стороне были бы симпатии тогдашних правящих кругов западных держав, если бы Гитлер еще в 1939 году напал на Советский Союз. Вряд ли можно было рассчитывать и на бездействие японских милитаристов. Они ведь давно точили зубы на советский Дальний Восток.
Нельзя забывать, что в это время японские милитаристы проявляли особую агрессивность. Вторжение японских войск в. МНР явилось практически прощупыванием советского военного могущества. Агрессивные замыслы. Японии, а также попытки западных держав толкнуть гитлеровскую Германию к нападению на Советский Союз создавали угрозу войны Советского Союза на два фронта. Советско-германский договор если не устранял полностью, то, во всяком случае, отодвигал эту угрозу.
Если бы поход Гитлера против Советского Союза начался не в июне 1941 года, а почти на два года раньше, наша страна оказалась бы в весьма неблагоприятном положении. Только в 1940–1941 годах в Советском Союзе были запущены в производство некоторые важные современные виды оружия: противотанковые орудия, танк Т-34, пикирующие бомбардировщики и т. д. Нельзя не учитывать и значение опыта зимней войны с Финляндией.
Имел также значение район возможного нападения гитлеровцев в 1939 году. Граница с враждебной нам панской Польшей проходила совсем недалеко от Минска и Киева, белофинны находились вблизи Ленинграда, а королевская Румыния непосредственно граничила с Одессой. Причем в этой ситуации вполне могло оказаться, что союзниками Гитлера были бы не только Финляндия и Румыния, как в 1941 году, но и панская Польша, да и прибалтийские буржуазные государства.
Можно не сомневаться, что и в этих весьма неблагоприятных условиях советский народ в конечном счете вышел бы победителем из единоборства с фашистской Германией. Но жертвы и потери такого конфликта были бы еще более чудовищны и война могла бы продлиться гораздо дольше. Но если на мгновение предположить, что Советский Союз не выдержал бы под ударами фашистских полчищ — ведь именно этого и хотели «западные демократии», — тогда Гитлер без труда разгромил бы Францию и Англию, а затем, совместно с Японией, обрушился бы на США. История нашей планеты была бы отброшена назад на несколько веков. Вот чем была чревата близорукая политика западных держав!
Наконец, надо иметь в виду и следующее: из германского предложения Советскому Союзу заключить пакт о ненападении можно было сделать вывод, что Гитлер избрал себе поначалу другие жертвы: А отсюда вытекало, что предстоит длительная война в Западной Европе. Ведь тогда трудно было предположить, что Франция рухнет так быстро, не выдержав и нескольких месяцев схватки с Германией, а Великобритания предпочтет унизительное бегство из Дюнкерка, лишь бы сохранить свою живую силу и окопаться на Британских островах, за Ла-Маншем. Напротив, были все основания ожидать затяжного конфликта между империалистическими державами, от которого Советский Союз — единственное в то время социалистическое государство — мог бы на какое-то время, если не на весь период войны, остаться в стороне. Такой расчет также мог повлиять на решение принять предложение Берлина о пакте в 1939 году.
Все эти обстоятельства надо было тщательно проанализировать, взвесить, прежде чем решить, какой же надлежало дать ответ на последовавшее из Берлина предложение о заключении пакта о ненападении между Советским Союзом и Германией. Следует учесть и то, что согласие Советского Союза на этот пакт давало ему такое важнейшее преимущество, как дополнительное время для подготовки отпора агрессору. Кроме того, всему человечеству вновь было показано последовательное миролюбие Советского государства.
Стоит в связи с этим напомнить, как объяснял смысл пакта И. В. Сталин в речи, переданной по радио 3 июля 1941 г.: «Могут спросить: как могло, случиться, что Советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны Советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами. Именно такой пакт предложила нам Германия в 1939 году. Могло ли Советское правительство отказаться от такого предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может отказаться от мирного соглашения с соседней державой, если во главе этой державы стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И это, конечно, при одном непременном условии — если мирное соглашение не задевает ни прямо, ни косвенно территориальной целостности, независимости и чести миролюбивого государства. Как известно, пакт о ненападении между Германией и СССР является именно таким пактом.
Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? Мы обеспечили нашей стране мир в течение полутора лет и возможность подготовки своих сил для отпора, если фашистская Германия рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. Это определенный выигрыш для нас и проигрыш для фашистской Германии.
Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, вероломно разорвав пакт и совершив нападение на СССР? Она добилась этим некоторого выигрышного положения для своих войск в течение короткого срока, но она проиграла политически, разоблачив себя в глазах всего мира как кровавого агрессора. Не может быть сомнения, что этот непродолжительный военный выигрыш для Германии является лишь эпизодом, а громадный политический выигрыш для СССР является серьезным и длительным фактором, на основе которого должны развернуться решительные военные успехи Красной Армии в войне с фашистской Германией».
В последние годы было предано гласности немало документов, раскрывающих подлинные замыслы западных политиков в конце 30-х годов. В частности, много интересных признаний содержится в опубликованных недавно Лондоном официальных материалах Форин оффис. Они еще раз подтверждают то, что было известно и ранее: западные политики не хотели договариваться с Советским Союзом об отпоре Гитлеру. Напротив, они делали все, чтобы толкнуть гитлеровскую Германию против СССР, а сами рассчитывали остаться в стороне.
В такой обстановке Советскому правительству не оставалось ничего иного, как принять немецкое предложение и заключить с Германией пакт о ненападении.
Конечно, Советское правительство не рассчитывало и не могло рассчитывать на верность гитлеровцев своим обязательствам. И все же даже временное продление мира было чрезвычайно важным для нашей страны. Обстановка была крайне неблагоприятной, поскольку летом 1939 года война могла бы начаться в самых невыгодных для СССР обстоятельствах. Как уже сказано, наша страна оказалась бы в состоянии изоляции, имея противников сразу на двух фронтах: Германию и Японию.
Избавляя советский народ от войны в столь тяжелой обстановке, правительство выполняло свой долг не только перед ним, но и перед международным пролетариатом: оно прибегло к единственному остававшемуся в его распоряжении способу обеспечения безопасности СССР.
По вине западных держав развитие событий в 1939 году пошло не по пути создания коллективной безопасности, на чем настаивал Советский Союз. Однако оно не пошло и по тому пути, на который его хотели направить мюнхенцы, — по пути войны империалистических государств против страны социализма. Гитлеровцы пришли к выводу, что воевать против Англии, Франции и Польши им легче, чем против СССР. Поэтому-то они и предпочли развязать войну именно, против них. Война началась внутри капиталистического мира, между двумя антагонистическими группировками империалистических держав.
Отсрочка вовлечения СССР во вторую мировую войну дала время для дальнейшего укрепления обороноспособности страны, развертывания вооруженных сил, повышения боевой подготовки, усовершенствования вооружения. Известно, что это время было использовано в отношении военной подготовки далеко не в полной мере. Но с точки зрения внешнеполитической выигрыш был очень велик. Международная обстановка начального периода второй мировой войны сложилась таким образом, что, когда СССР в 1941 году был вынужден вступить в войну, ему уже не угрожала внешнеполитическая изоляция, как это могло быть летом 1939 года. Англия теперь воевала с Германией, а империалистические противоречия между США, с одной стороны, Германией и Японией — с другой, настолько обострились, что возможность сговора правительства США с фашистскими агрессорами становилась нереальной. Так создавались объективные предпосылки для объединения в антифашистскую коалицию крупнейших государств мира — Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Англии.
В имперской канцелярии
Утром 13 ноября поезд подошел к Ангальтскому вокзалу Берлина. Моросил дождь. На перроне среди встречавших находились министр иностранных дел Риббентроп и фельдмаршал Кейтель. По окончании официальной церемонии все разместились в черных «мерседесах», и кортеж, сопровождаемый мотоциклистами в стальных шлемах, помчался по немноголюдным улицам города к отелю «Бельвю», где все было готово к приему советской делегации. Это был старинный дворец, предназначенный для гостей германского правительства. После завтрака советские делегаты в сопровождении экспертов сразу же отправились в имперскую канцелярию, где должна была состояться первая встреча с Гитлером. Переводить и протоколировать эту беседу было поручено В. Н. Павлову — в то время первому секретарю нашего посольства в Берлине — и мне.
Вереница черных лимузинов, эскортируемых мотоциклистами, выехала из парка на Шарлотенбургское шоссе, миновала Бранденбургские ворота и, свернув на Вильгельмштрассе, помчалась дальше. Здесь публики было побольше. В некоторых местах берлинцы заполнили весь тротуар. Они молча смотрели на красный флажок с золотым серпом и молотом, укрепленный на радиаторе первого лимузина. Кое-кто несмело махал рукой.
Сбавив скорость, машины въехали во внутренний двор новой имперской канцелярии. Это здание, выстроенное в нацистском стиле, представлявшем собой смесь классики, готики и древних тевтонских символов, выглядело отнюдь не привлекательно. Квадратный мрачный двор походил скорее на плац казармы или тюрьмы. Он был обрамлен высокими колоннами из темно-серого мрамора и устлан такими же серыми гранитными плитами. Распростертые орлы со свастикой в лапах, нависший над колоннами гладкий портик, застывшие фигуры часовых в серо-зеленых шлемах — все это производило какое-то зловещее впечатление.
Высокие, украшенные бронзой двери вели в просторный вестибюль, а, дальше открывалась анфилада тускло освещенных комнат и переходов без окон. Вдоль стен шпалерами стояли люди в разнообразной форме. Словно автоматы, они выбрасывали вверх правую руку в нацистском приветствии и гулко щелкали каблуками. У входа нас встретил статс-секретарь Отто Мейснер. Он повел нас дальним путем, чтобы произвести впечатление всем этим декорумом.
Наконец мы очутились в круглом, ярко освещенном вестибюле. В центре стоял стол с прохладительными напитками и закусками. Вдоль стен — длинные диваны. Тут находились немецкие чиновники, эксперты, офицеры охраны. Между ними бесшумно двигались официанты. Здесь же остались и эксперты нашей делегации. В примыкавший к круглому залу кабинет Гитлера прошли только глава советской делегации В. М. Молотов, его заместитель и переводчики.
Этот момент гитлеровцы обставили со всей присущей им дешевой театральностью: два высоких перетянутых в талии ремнями белокурых эсэсовца в черной форме с черепами на фуражках щелкнули каблуками и хорошо отработанным жестом распахнули высокие, уходящие почти под потолок двери. Затем, став спиной к косяку двери и подняв правую руку, они как бы образовали живую арку, под которой мы должны были пройти в кабинет Гитлера — огромное помещение, походившее скорее на банкетный зал, чем на кабинет. Стены украшали гигантские гобелены. Центральную часть закрывал толстый ковер. Справа от входа располагалась как бы гостиная — низкий стол, диван, несколько кресел. Слева, в противоположном конце зала, стоял громадный полированный письменный стол. В углу на массивной подставке из черного дерева был укреплен большой глобус.
Гитлер сидел за письменным столом, и в этом огромном зале его небольшая фигура в гимнастерке зеленовато-мышиного цвета была едва заметна. Рукав его гимнастерки охватывала красная повязка с черной свастикой на круглом просвете. На груди красовался железный крест.
Раньше я уже видел Гитлера — на парадах и митингах. Теперь же мог рассмотреть его поближе. Когда мы вошли, фюрер молча посмотрел на нас, затем резко поднялся и быстрыми мелкими шагами вышел на середину комнаты. Здесь он остановился, поднял руку в фашистском салюте, как-то неестественно загнув при этом ладонь. Не произнося по-прежнему ни слова, он подошел к нам вплотную, поздоровайся со всеми за руку. Его холодная влажная ладонь напоминала прикосновение лягушки. Здороваясь, он как бы сверлил каждого буравчиками лихорадочно горевших зрачков. Над коротко подстриженными усиками нелепо торчал острый угреватый нос.
Сказав несколько слов о том, что он рад приветствовать советскую делегацию в Берлине, Гитлер предложил расположиться за столом в той части кабинета, которая представляла собой гостиную. В это время в противоположном углу комнаты из-за драпировки, видимо, скрывавшей еще один вход, появился министр иностранных дел Риббентроп. За ним шли личный переводчик Гитлера Шмидт и хорошо знавший русский язык советник германского посольства в Москве Хильгер. Все расположились вокруг стола на диване и в креслах, обтянутых пестрой тканью.
Смысл рассуждений Гитлера сводился к тому, что Англия уже разбита и что ее окончательная капитуляция — лишь вопрос времени. Скоро, уверял Гитлер, Англия будет уничтожена с воздуха. Затем он сделал краткий обзор военной ситуации, подчеркнув, что германская империя уже сейчас контролирует всю Западную Европу. Вместе с итальянскими союзниками, продолжал фюрер, германские войска ведут успешные операции в Африке, откуда англичане вскоре будут окончательно вытеснены. Из всего сказанного, заключил Гитлер, можно сделать вывод, что победа держав оси предрешена. Поэтому, мол, настало время подумать об организации мира после победы.
Тут Гитлер стал развивать такую идею: в связи с неизбежным крахом Великобритании останется ее «бесконтрольное наследство» — разбросанные по всему земному шару осколки империи. Надо распорядиться этим имуществом. Германское правительство, заявил фюрер, уже обменивалось мнениями с правительствами Италии и Японии и теперь хотело бы узнать соображения Советского правительства. Более конкретные предложения на этот счет он намерен сделать в дальнейшем.
Когда Гитлер заговорил о «разделе британского наследства», Риббентроп стал одобрительно кивать головой и делать какие-то пометки в своем блокноте. Вообще же он сидел почти неподвижно, скрестив руки на груди и глядя на Гитлера. Лишь изредка он клал обе руки на стол, слегка постукивая по нему пальцами, а потом, обведя всех ничего не говорившим взглядом, снова принимал прежнюю позу.
Когда Гитлер окончил речь, которая вместе с переводом заняла около часа, слово взял Молотов. Не вдаваясь в обсуждение предложений Гитлера, он заметил, что следовало бы обсудить более конкретные практические вопросы. В частности, не разъяснит ли рейхсканцлер, что делает германская военная миссия в Румынии и почему она направлена туда без консультации с Советским правительством? Ведь заключенный в 1939 году советско-германский пакт, о ненападении предусматривает консультации по важным вопросам, затрагивающим интересы каждой из сторон. Советское правительство также интересует вопрос о том, для каких целей направлены германские войска в Финляндию? Почему и этот серьезный шаг предпринят без консультации с Москвой?
Эти вопросы подействовали на Гитлера, как холодный душ. Несмотря на актерские способности, фюреру не удалось скрыть растерянности. Скороговоркой он объявил, что немецкая военная миссия направлена в Румынию по просьбе правительства Антонеску для обучения румынских войск. Что касается Финляндии, то там германские части вообще не собираются задерживаться: они лишь переправляются через территорию этой страны в Норвегию.
Однако это объяснение не удовлетворило советскую делегацию. У Советского правительства, заявил Молотов, на основании сообщений его представителей в Финляндии и Румынии создалось совсем иное впечатление. Войска, высадившиеся на южном побережье Финляндии, никуда дальше не двигаются и, видимо, собираются надолго задержаться в этой стране. В Румынии дело также не ограничилось одной лишь военной миссией. Туда прибывают все новые германские воинские части. Их уж слишком много для одной миссии. Какова же цель этих перебросок германских войск? В Москве подобные мероприятия не могут не вызвать беспокойства, и германское правительство должно дать четкий ответ на эти вопросы.
Тут Гитлер предпринял испытанный дипломатический маневр: сослался на свою неосведомленность. Пообещав поинтересоваться вопросами, поставленными советской стороной, Гитлер заявил, что считает все эти дела второстепенными. Сейчас, сказал он, возвращаясь к своей первоначальной теме, настало время обсудить проблемы, вытекающие из скорой победы держав оси.
Затем Гитлер стал снова развивать свой фантастический план раздела мира. Англия, уверял он, в ближайшие месяцы будет разбита и оккупирована германскими войсками, а Соединенные Штаты еще многие годы не смогут представлять угрозу для «новой Европы». Поэтому пора подумать о создании «нового порядка» на всем земном шаре. Что касается германского и итальянского правительств, продолжал фюрер, то они уже наметили сферу своих интересов. В нее входят Европа и Африка. Японию интересуют районы Восточной Азии. Исходя из этого, пояснил далее Гитлер, Советский Союз мог бы проявить заинтересованность к югу от своей государственной границы в направлении Индийского океана. Это открыло бы Советскому Союзу доступ к незамерзающим портам…
Здесь Молотов перебил Гитлера, заметив, что он не видит смысла обсуждать подобного рода комбинации. Советское правительство заинтересовано в обеспечении спокойствия и безопасности тех районов, которые непосредственно примыкают к границам Советского Союза.
Гитлер, никак не реагируя на это замечание, снова стал излагать свой план раздела британского «бесконтрольного наследства». Беседа стала приобретать какой-то странный характер, немцы словно не слышали, что им говорят. Советский представитель настаивал на обсуждении конкретных вопросов, связанных с безопасностью Советского Союза и других независимых европейских государств, и требовал от германского правительства разъяснения его последних акций, угрожающих самостоятельности стран, непосредственно граничащих с советской территорией. А Гитлер вновь и вновь пытался перевести разговор на выдвинутые им проекты передела мира, всячески стараясь связать Советское правительство участием в обсуждении этих сумасбродных планов.
Беседа длилась уже два с половиной часа. Вдруг Гитлер посмотрел на часы и, сославшись на возможность воздушной тревоги, предложил перенести переговоры на следующий день.
Гитлер пожелал советским представителям хорошо провести время в Берлине. Молотов напомнил, что вечером в посольстве будет прием, и пригласил Гитлера. Тот неопределенно ответил, что постарается прийти.
Вечером в особняке посольства СССР на Унтер ден Линден был устроен большой прием по случаю пребывания в Берлине советской правительственной делегации. В мраморном зале стоял стол в виде огромной буквы «П». Его украшали яркие гвоздики и старинное серебро. Был извлечен сервиз на 500 персон, с незапамятных времен хранившийся в посольстве для особо торжественных случаев. Гитлер не явился на прием, из этого делали вывод, что он «недоволен» ходом переговоров. Зато присутствовали многие другие высокопоставленные нацисты во главе с рейхсмаршалом Герингом. Его грузная фигура, напоминавшая огромного разукрашенного павлина, привлекала всеобщее внимание. Пристрастие. Геринга к мишуре, показной роскоши и театральности было поистине невероятным. Получив чин рейхсмаршала — единственный в «третьем рейхе», — он придумал для себя специальную форму из серебряной ткани. От плеч и по пояс его грудь украшали ордена, медали и пестрые ленты, на каждом пальце его рук красовалось по нескольку колец с драгоценными камнями. Рассказывали, что дома он любил одеваться в римскую тогу и носил сандалии, украшенные брильянтами. Его многочисленные виллы поражали своей роскошью.
Экстравагантность Геринга придавала, ему своеобразную «респектабельность» в глазах западных политиков. Его считали «спортсменом» и «человеком света», что облегчало Чемберлену и другим мюнхенцам распространять на Западе перед войной версию о том, будто в нацизме есть нечто «порядочное».
Между тем Геринг был одним из подлейших нацистских преступников. Наркоман и психически неуравновешенный человек, он до прихода Гитлера к власти провел несколько лет в психиатрической больнице. Когда же нацистский переворот вознес его на вершину власти, Геринг дал волю своим причудам и низменным страстям. Именно он был создателем концентрационных лагерей в первые годы нацистского «рейха». Уже позднее их передали в ведение Гиммлера. Инициатива использования, иностранных рабочих в качестве рабов на немецких предприятиях также принадлежала Герингу…
На приеме в посольстве присутствовал также Рудольф Гесс, считавшийся третьим человеком в «рейхе» после Гитлера и Геринга (в начале войны Гитлер объявил, что в случае его гибели наследником становится Геринг, а если и он погибнет, то фюрером будет Гесс).
Едва были произнесены первые тосты, как послышался рев сирен. Воздушная тревога возвещала о приближении к Берлину английских бомбардировщиков.
В здании посольства не было убежища, и гости стали поспешно тесниться к выходу. Первыми покинули посольство высокопоставленные нацисты. Прощаясь с советскими представителями, Геринг, несмотря на весь своей апломб, явно испытывал неловкость. Ведь он столько раз хвастал, что находящиеся под его началом «люфтваффе» сотрут Англию с лица земли. Между тем английская авиация все чаще подвергала бомбежке Германию. А нынешний налет на Берлин был особенно неприятен нацистским заправилам, поскольку они всячески пытались создать впечатление, будто с Англией покончено.
В сопровождении своих адъютантов Геринг, Гесс и Риббентроп второпях спустились по широкой мраморной лестнице к посольскому подъезду, где их ожидали машины. Когда они укатили, ушли и другие гости. Советская делегация возвратилась в отель «Бельвю», где в подвалах было оборудовано комфортабельное бомбоубежище.
Продолжение переговоров
На следующий день состоялась вторая встреча с Гитлером. К тому времени из Москвы уже поступила шифрованная депеша. Отчет о вчерашней беседе был рассмотрен, и делегация получила инструкции на дальнейшее. Советское правительство со всей категоричностью отвергало германское предложение, отклонив попытку Гитлера втянуть нас в дискуссию по поводу раздела «британского имущества». При этом вновь подтверждалось указание настаивать на том, чтобы германское правительство дало разъяснение по вопросам, связанным с проблемой европейской безопасности, и по другим вопросам, непосредственно затрагивающим интересы Советского Союза.
На этот раз беседа с Гитлером длилась почти три часа, причем порой принимала весьма острый характер. В соответствии: с указаниями, полученными из Москвы, Молотов изложил позицию Советского правительства, а затем перешел к вопросу о пребывании германских войск в Финляндии. Советское правительство, сказал он, настаивает на том, чтобы ему были сообщены истинные цели посылки германских войск в страну, расположенную поблизости от такого крупного промышленного и культурного центра, как Ленинград. Что означает фактическая оккупация Финляндии германскими войсками? По имеющимся у советской стороны данным, немецкие войска не собираются передвигаться оттуда в Норвегию. Напротив, они укрепляют свои позиции вдоль советской границы. Поэтому Советское правительство настаивает на немедленном выводе германских войск из Финляндии.
Теперь, спустя сутки после того как этот вопрос был перед ним впервые поставлен, Гитлер уже не мог отговориться ссылками на неосведомленность. Тем не менее он продолжал голословно утверждать, будто речь идет лишь о транзитной переброске воинских частей в Норвегию. Затем, прибегнув к старому способу, согласно которому лучшая защита — это нападение, Гитлер попытался изобразить дело так, будто бы Советский Союз угрожает Финляндии.
— Конфликт в районе Балтийского моря, — заявил он, — осложнил бы германо-русское сотрудничество…
— Но ведь Советский Союз вовсе не собирается нарушать мир в этом районе и ничем не угрожает Финляндии, — возразил советский представитель. — Мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить мир и подлинную безопасность в данном районе. Германское правительство должно учесть это обстоятельство, если оно заинтересовано в нормальном развитии советско-германских отношений.
Гитлер уклонился от прямого ответа и вновь повторил, что принимаемые меры направлены на обеспечение безопасности в Норвегии и что конфликт в районе Балтики повлек бы за собой «далеко идущие последствия». Здесь уже звучала прямая угроза, которую нельзя было оставлять без ответа.
— Похоже, что такая позиция вносит в переговоры новый момент, который может серьезно осложнить обстановку, — заявил Молотов.
Тем самым Гитлеру было дано понять, что Советский Союз намерен и дальше настаивать на своем требовании о выводе из Финляндии германских войск.
Были веские основания ставить этот вопрос с такой настойчивостью. Правящие круги Финляндии в то время откровенно заявляли, что считают мир, заключенный с Советским Союзом в марте 1940 года, лишь «перемирием», передышкой, которую, дескать, следует использовать для подготовки к новой войне против Советской страны, причем на этот раз уже совместно с гитлеровской Германией.
По имевшимся у Советского правительства сведениям, в октябре 1940 года правительство Рюти — Таннера заключило с Берлином соглашение о размещении германских войск на финляндской территории. В это же время в Финляндии начала осуществляться кампания по вербовке щюцкоровцев. Их отправляли в Германию, где в дальнейшем предполагалось сформировать так называемый «финский эсэсовский батальон».
Все эти приготовления давали основание считать, что Гитлер при пособничестве тогдашних правителей Финляндии хочет использовать эту страну в качестве плацдарма для операций против Советского Союза. Действительно, к моменту нападения гитлеровской Германии на Советский Союз на севере Финляндии была сосредоточена армия в составе четырех немецких и двух финских дивизий. Ее задача заключалась, в том, чтобы оккупировать Мурманск. Южнее — от озерной системы Оулуярви до побережья Финского залива — были развернуты Карельская и Юго-Восточная финские армии в составе 15 пехотных дивизий (одна из них немецкая), двух пехотных и одной кавалерийской бригад. Эти армии продвижением к Ленинграду и реке Свирь должны были содействовать немецкой группе армий «Север» в захвате Ленинграда. Когда Гитлер вероломно вторгся в пределы Советского Союза, германские войска вместе с финскими «братьями по оружию» пересекли советскую государственную границу и с территории Финляндии…
Но вернемся к переговорам в имперской канцелярии. Дискуссия вокруг германских войск, размещенных в Финляндии, накалила атмосферу, что никак не входило в расчеты гитлеровцев. Риббентроп, считая, видимо, нужным как-то разрядить обстановку, несколько раз порывался вставить слово, но не решался перебить Гитлера. Он то и дело привставал с кресла, чтобы обратить на себя внимание. Наконец Гитлер заметил беспокойство рейхсминистра и сделал жест рукой, как бы приглашая его включиться в беседу.
— Разрешите, мой фюрер, высказать соображение на этот счет, — начал Риббентроп.
Гитлер утвердительно кивнул и, вынув из кармана большой платок, провел им по верхней губе. Риббентроп продолжал:
— Собственно, нет оснований делать из финского вопроса проблему. По-видимому, здесь произошло какое-то недоразумение.
Гитлер воспользовался этим замечанием и быстро переменил тему. Он предпринял еще одну попытку вовлечь советскую делегацию в дискуссию о разделе сфер влияния.
— Давайте лучше обратимся к кардинальным проблемам современности, — сказал он примирительным тоном. — После того как Англия потерпит поражение, Британская империя превратится в гигантский аукцион площадью в 40 миллионов квадратных километров. Здесь для России открывается путь к действительно теплому океану. До сих пор меньшинство в 40 миллионов англичан управляло 600 миллионами жителей империи. Надо покончить с этой исторической несправедливостью. Государствам, которые могли бы проявить интерес к этому имуществу несостоятельного должника, не следует конфликтовать друг с другом по мелким, несущественным вопросам. Нужно без отлагательства заняться проблемой раздела Британской империи. Тут речь может идти прежде всего о Германии, Италии, Японии, России…
Молотов заметил, что все это он уже слышал вчера, что в нынешней обстановке гораздо важнее обсудить вопросы, ближе стоящие к проблемам европейской безопасности. Помимо вопроса о германских войсках в Финляндии, на который Советское правительство по-прежнему ждет ответа, нам хотелось бы знать о планах германского правительства в отношении Турции, Болгарии и Румынии. Советское правительство считает, что германо-итальянские гарантии, предоставленные недавно Румынии, направлены против интересов СССР. Эти гарантии должны быть аннулированы.
Гитлер тут же заявил, что это требование невыполнимо. Тогда Молотов поставил такой вопрос:
— Что сказала бы Германия, если Советский Союз, учитывая свою заинтересованность в безопасности района, прилегающего к его юго-западным границам, дал бы гарантии Болгарии, подобно тому, как Германия и Италия дали гарантии Румынии?
Это замечание вывело Гитлера из равновесия. Он визгливо прокричал:
— Разве царь Борис [Болгарский царь Борис впоследствии погиб при таинственных обстоятельствах. Возвращаясь самолетом в Софию из Берлина, где он вел переговоры с Гитлером, царь Борис скоропостижно умер, когда, ему дали кислородную маску. Полагают, что он был отравлен агентами гестапо: в кислородной маске оказался быстродействующий яд. ] просил Москву о гарантиях? Мне ничего об этом неизвестно. И вообще об этом я должен посоветоваться с дуче. Италия тоже заинтересована в делах этой части Европы. Если бы Германии понадобилось искать повод для трений с Россией, то ей для этого можно было бы найти такой повод в любом районе, — угрожающе добавил Гитлер.
Молотов возразил, что долг каждого государства — заботиться о безопасности своего народа так же, как и о безопасности соседних дружественных стран. Именно из этого исходит Советское правительство в своей внешней политике, будучи, в частности, обеспокоено и тем, чтобы связанная историческими узами с нашей страной Болгария сохранила свою самостоятельность и не была бы втянута в опасный конфликт. Тем самым советский представитель недвусмысленно давал понять Гитлеру, что Советское правительство выступает в защиту Болгарии от уже нависшей над ней тогда угрозы фашистской оккупации.
Затем Молотов сказал, что в Москве весьма недовольны задержкой с поставками важного германского оборудования для Советского Союза. Такая практика тем более недопустима, поскольку советская сторона точно выполняет обязательства по советско-германским экономическим соглашениям. Срыв ранее согласованных сроков поставки германских товаров создает серьезные трудности.
Гитлер снова стал изворачиваться. Он заявил, что германский рейх ведет сейчас с Англией борьбу «не на жизнь, а на смерть», что Германия мобилизует все свои ресурсы для этой окончательной схватки с британцами.
— Но мы только что слышали, что Англия фактически уже разбита. Какая же из сторон ведет борьбу на смерть, а какая — на жизнь? — спросил Молотов.
Воцарилась напряженная тишина. Риббентроп заерзал в кресле и с беспокойством посмотрел на Гитлера. Потом перевел сосредоточенный взгляд на свои руки, лежавшие на столе. Пальцы его слегка вздрагивали. Хильгер, весь вытянувшись, замер в кресле. Шмидт перестал писать, но так и застыл, склоненный над листом бумаги. Видимо, все они ждали истерического взрыва Гитлера. Но тот овладел собой и сделал вид, что не замечает иронии. Однако в его голосе чувствовалось еле сдерживаемое раздражение, когда он ответил:
— Да, это так, Англия разбита, но еще надо кое-что сделать…
Затем Гитлер заявил, что, по его мнению, тема беседы исчерпана и что, поскольку вечером он будет занят другими делами, завершит переговоры рейхсминистр Риббентроп.
Так закончилась последняя встреча советской делегации с Гитлером. Итак, Гитлер не пожелал считаться с законными интересами Советского Союза, диктовавшимися требованиями безопасности СССР и мира в Европе. Более того, гитлеровское правительство задолго до берлинской встречи приняло решение напасть на Советский Союз и вело практическую подготовку к этому.
Из секретных архивов германского правительства, а также из дневников высокопоставленных нацистских чиновников и документов Нюрнбергского процесса над гитлеровскими военными преступниками мы теперь знаем, что и после заключения осенью 1939 года советско-германского пакта о ненападении Гитлер продолжал вынашивать планы войны против Советского Союза. Через два месяца после того, как был подписан этот пакт, Гитлер дал указание командованию вооруженных сил рассматривать оккупированные Германией польские районы как «плацдарм для будущих германских операций». Об этом имеется соответствующая запись в дневнике начальника штаба германских сухопутных сил генерала Гальдера от 18 октября 1939 г.
23 ноября 1939 г., выступая перед своими генералами с пространной речью о новых операциях на Западе, Гитлер коснулся также и операции против Советского Союза. Он заявил: «Мы сможем выступить против России только после того, как развяжем себе руки на Западе…»
В то время Гитлер обусловливал начало агрессии против Советского Союза победой на Западе, то есть разгромом не только Франции, но и Англии. Но война с Советским Союзом была для него делом решенным. Как свидетельствует в своем дневнике начальник генерального штаба германской армии генерал Йодль, «еще во время похода на Запад Гитлер изложил свое принципиальное решение… напасть на Советский Союз весной 1941 года». 29 июля 1940 г. на совещании представителей командования вооруженных сил Гитлер заявил, что намерен выступить против Советского Союза весной 1941 года, причем уже не делал прежних оговорок. Наоборот, он стал склоняться к тому, чтобы напасть на Советский Союз до окончательного разгрома Англии. 31 июля 1940 г. в своей резиденции в Бергхофе Гитлер при встрече с представителями вермахта объявил о решении, отложить высадку на английских островах. Он заявил:
— Все надежды у Англии на Россию и Америку. Если надежда на Россию отпадает, то отпадает и надежда на Америку, поскольку выход России из строя в огромной степени изменит роль Японии в Восточной Азии. Когда Россия будет, разбита, рухнет последняя надежда Англии…
Генерал Гальдер в своем дневнике следующим образом подытожил это совещание. «Постановили: для того чтобы решить проблему, Россия должна быть уничтожена весной 1941 года. Чем скорее мы разобьем Россию, тем лучше».
После этого, то есть за три месяца до берлинской встречи, начались тайные приготовления к агрессивному походу против Советского Союза. Угроза, нависшая над Англией, миновала.
Таким образом, уже сам факт существования мощной социалистической державы — Советского Союза — отвратил от Англии опасность германского вторжения. Гитлер решил сперва покончить с Советским Союзом, а потом уничтожить Англию. Но он просчитался. Героическое сопротивление советского народа фашистской агрессии и последующий разгром «третьего рейха» навсегда похоронили эти планы.
Итак, Гитлер вел двойную игру. Уже приняв решение о нападении на Советский Союз, он вместе с тем, стараясь выиграть время, пытался создать у Советского правительства впечатление, будто готов обсудить вопрос о дальнейшем мирном развитии советско-германских отношений.
Видимо, в представлении нацистов, этим же целям должна была послужить и встреча в Берлине, к которой гитлеровское правительство проявляло большой интерес начиная с лета 1940 года.
В переписке, которая в те месяцы велась между Берлином и Москвой, немцы делали намеки на то, что было бы неплохо обсудить назревшие вопросы с участием высокопоставленных представителей обеих стран. В одном из немецких писем указывалось, что со времени последнего визита Риббентропа в Москву произошли серьезные изменения в европейской и мировой ситуации, а поэтому было бы желательно, чтобы полномочная советская делегация прибыла в Берлин для переговоров. В этих условиях Советское правительство, которое неизменно выступало за мирное урегулирование международных проблем, ответило положительно на германскую инициативу о проведении в ноябре 1940 года совещания в Берлине.
В бункере Риббентропа
Вечером того же дня, когда закончились переговоры с Гитлером, состоялась встреча в резиденции Риббентропа на Вильгельмштрассе. Его кабинет, значительно меньший, чем у Гитлера, был обставлен с роскошью. Узорчатый паркетный пол так блестел, что в нем, словно в зеркале, отражались все предметы. На стенах висели старинные картины, окна обрамляли портьеры из дорогой гобеленовой ткани, вдоль стен на подставках стояли статуэтки из бронзы и фарфора.
Державшийся в присутствии Гитлера в тени Риббентроп вел себя теперь совсем по-иному. Он разыгрывал вельможу-аристократа, но манеры его были скорее развязными, нежели величественными. Его окружали многочисленная свита и фоторепортеры, перед которыми он охотно позировал. Во время взаимных приветствий и общей беседы, длившейся несколько минут Риббентроп стоял посреди комнаты, вытянувшись во весь рост, со скрещенными на груди руками. Наконец он сказал, обращаясь к свите и репортерам:
— Господа, вам придется нас покинуть. Нам предстоят еще важные дела. Надеюсь, вы нас извините…
Все быстро откланялись и вышли из кабинета.
Риббентроп пригласил участников беседы к стоявшему в углу кабинета круглому столу, украшенному бронзовыми фигурками и греческим орнаментом, и, когда все уселись, заявил, что, в соответствии с пожеланием фюрера, было бы целесообразно подвести итоги переговоров и договориться о чем-то «в принципе». Затем он вынул из нагрудного кармана своего серо-зеленого кителя сложенную вчетверо бумажку и, медленно развернув ее, сказал:
— Здесь набросаны некоторые предложения германского правительства…
Держа листок перед собой, Риббентроп зачитал эти предложения. Смысл их сводился все к тем же хвастливым рассуждениям о неизбежном крахе Великобритании и к тому, что теперь, дескать, настало время подумать о дальнейшем переустройстве мира. В связи с этим германское правительство предлагало, чтобы Советский Союз присоединился к пакту трех, заключенному между Германией, Италией и Японией. При этом Германия, Италия, Япония и Советский Союз должны дать обязательство взаимно уважать интересы друг друга. Все четыре державы должны также дать обязательство не поддерживать никаких группировок держав, направленных против одной из четырех стран. В дальнейшем участники пакта, с учетом взаимных интересов, должны будут решить вопрос об окончательном устройстве мира…
Молотов, выслушав это заявление, сказал, что нет смысла возобновлять дискуссии на эту тему. Но нельзя ли получить зачитанный текст? Риббентроп ответил, что у него только один экземпляр, что он не имел в виду передавать эти предложения в письменном виде, и поспешно спрятал бумажку в карман.
Неожиданно завыл сигнал воздушной тревоги. Все переглянулись, наступило молчание. Где-то поблизости раздался глухой удар, в высоких окнах кабинета задрожали стекла.
— Оставаться здесь небезопасно, — сказал Риббентроп. — Давайте спустимся вниз, в мой бункер. Там будет спокойнее…
Мы вышли из кабинета и по длинному коридору дошли до витой лестницы, по которой спустились в подвал. У входа в бункер стоял часовой-эсэсовец. Он открыл перед нами тяжелую дверь и, когда все участники переговоров вошли в убежище, плотно закрыл и запер дверь изнутри.
В одном из помещений был оборудован подземный кабинет Риббентропа. На полированном письменном столе находилось несколько телефонных аппаратов. В стороне стояли круглый столик и глубокие мягкие кресла.
Когда беседа возобновилась, Риббентроп снова стал распространяться о необходимости изучить вопрос о разделе сфер мирового влияния. Есть все основания считать, добавил он, что Англия фактически уже разбита. На это Молотов возразил:
— Если Англия разбита, то почему мы сидим в этом убежище? И чьи это бомбы падают так близко, что разрывы их слышатся даже здесь?
Риббентроп смутился и промолчал. Чувствуя неловкость положения, он вызвал адъютанта и велел принести кофе. Когда официант, поставив на стол кофейный прибор и разлив кофе, ушел, советский представитель поинтересовался, скоро ли можно получить разъяснения относительно целей пребывания германских войск в Румынии и Финляндии.
Риббентроп, не скрывая раздражения, ответил, что если Советское правительство продолжают интересовать эти, как он выразился, «несущественные вопросы», то их следует обсудить, используя обычные дипломатические каналы.
Снова воцарилось молчание. Все вопросы были исчерпаны, но приходилось оставаться в бункере: английские самолеты продолжали массированный налет на Берлин. Только глубокой ночью, после отбоя, мы смогли вернуться в отель «Бельвю». Наутро советская делегация покинула Берлин.
Тайные цели нацистов
Каков был смысл разглагольствований Гитлера и Риббентропа насчет планов дальнейшего сотрудничества с Советским Союзом? Действительно ли германское правительство исходило тогда из предпосылки, что между Германией и Советским Союзом на протяжении длительного периода не возникнет конфликта? Могло ли быть, что Гитлер решил на какое-то время отказаться от планов агрессии против СССР, провозглашенных в его книге «Майн кампф»? Конечно, нет.
Гитлер рассматривал совещание в Берлине лишь как очередной отвлекающий маневр. Об этом говорит, в частности, секретное распоряжение № 18, которое он издал 12 ноября 1940 г., то есть накануне прибытия в Берлин советской правительственной делегации. В этом распоряжении говорилось: «Политические переговоры с целью выяснить позицию России на ближайшее время начинаются. Независимо от того, какой будет исход этих переговоров, следует продолжать все уже предусмотренные ранее приготовления для Востока. Дальнейшие указания на этот счет последуют, как только мною будут утверждены основные положения операционного плана».
О каких «приготовлениях для Востока» шла речь, мы уже знаем.
Что касается Советского Союза, то его цель была ясна. Советское правительство, последовательно проводящее политику мира, стремилось предотвратить войну или, по крайней мере, как можно дальше оттянуть столкновение с гитлеровской Германией. Речь шла о том, чтобы еще на какой-то срок сохранить мирную жизнь для советского народа, получить дополнительное время для укрепления экономической и военной мощи социалистического государства. К тому же в то время тайные намерения Гитлера не были ясны, и в Москве исходили из следующего: нужно попытаться хоть на какое-то время навязать Германии мир, не дать Гитлеру повода для оправдания антисоветской агрессии. Видимо, играло роль и то, что Сталин верил в подпись Риббентропа под пактом о ненападении. Это может казаться удивительным, но он считал, что Гитлер не решится уже в 1941 году начать войну.
Советское правительство продолжало поддерживать дипломатический контакт с германским правительством и зондировать его намерения. 26 ноября 1940 г., то есть менее чем через две недели после берлинской встречи, германскому послу в Москве Шуленбургу было сообщено, что для продолжения переговоров, начатых в Берлине, германская сторона должна обеспечить выполнение ряда условий, в частности: немецкие войска должны немедленно покинуть Финляндию; в ближайшие месяцы должна быть обеспечена безопасность Советского Союза путем заключения пакта о взаимопомощи между Советским Союзом и Болгарией.
Шуленбург обещал немедленно передать советское заявление своему правительству. Но ответа из Берлина не поступило. Уже тогда это молчание казалось многозначительным. Теперь мы знаем его причину. Ознакомившись с советскими требованиями, Гитлер отверг их и вплотную занялся подготовкой агрессии против нашей страны. В дневнике генерала Гальдера воспроизводятся следующие слова Гитлера, сказанные по поводу телеграммы Шуленбурга:
— Россию надо поставить на колени как можно скорее…
Гитлер предложил генеральному штабу ускорить представление конкретного плана нападения на Советский Союз. 5 декабря, после длившегося четыре часа совещания с главнокомандующим сухопутными силами фельдмаршалом Браухичем и генералом Гальдером, Гитлер утвердил этот план. 18 декабря Гитлер подписал директиву № 21, озаглавленную «План Барбаросса». Директива эта начиналась следующими словами:
«Германские вооруженные силы должны быть готовы еще до окончания войны против Англии разбить Советскую Россию в стремительном походе. Для этого армия должна пустить в действие все находящиеся в ее распоряжении соединения, за исключением лишь тех, которые необходимы, чтобы оградить оккупированные районы от каких-либо неожиданностей. Приготовления должны быть закончены до 15 мая 1941 года. Особое внимание надо уделить тому, чтобы подготовку этого нападения было невозможно обнаружить».
Вспоминая сейчас ход советско-германских переговоров, состоявшихся в Берлине осенью 1940 года, нельзя не остановиться на тех инсинуациях, которые распространялись, да и сейчас еще появляются в западной прессе по поводу этой встречи. Уверяют, например, будто тогда в Берлине советская сторона выдвигала какие-то «территориальные претензии в направлении Индийского океана», будто Советский Союз был готов в этой связи заключить «новый пакт» с Германией и т. д. Все это — либо плод досужей фантазии, либо заведомая злобная фальсификация, имеющая целью бросить тень на политику Советского государства.
В действительности берлинская встреча 1940 года рассматривалась советской стороной как возможность прощупать позицию германского правительства, выяснить дальнейшие планы «третьего рейха».
Позиция Гитлера на этих переговорах, в частности его упорное нежелание считаться с естественными интересами безопасности Советского Союза в Восточной Европе, его фактический отказ вывести войска с территории Финляндии и Румынии, показывала, что, несмотря на все широкие жесты в отношении «глобальных интересов» Советского Союза, Германия практически была занята подготовкой восточноевропейского плацдарма против Советского Союза. Не может быть сомнений, что Гитлер добивался берлинской встречи, стремясь использовать переговоры с советскими представителями для того, чтобы поставить Советское правительство в неблагоприятные условия, которые в дальнейшем связали бы ему руки, предоставив в то же время свободу действий Германии, включая и возможное заключение соглашения с Англией.
КАНУН ВОЙНЫ В СТОЛИЦЕ «ТРЕТЬЕГО РЕЙХА»
Новогодний вечер в Грюневальде
Вскоре после возвращения в Москву я был направлен на работу в Наркоминдел референтом по германским проблемам. В это время в советско-германских отношениях наступило заметное затишье. В Москве между советскими представителями и германским послом Шуленбургом не было почти никаких контактов. Время от времени Шуленбург обращался с запросами о могилах немцев в разных районах СССР и по другим делам, которые могли интересовать скорее всего военную разведку вермахта, уточнявшую данные о театре намечавшихся военных действий. Естественно, что на это «любопытство» германской стороны давались уклончивые или отрицательные ответы. Ничего существенного не поступало и от нашего посольства в Берлине, если говорить о сфере официальных отношений. В этой сфере господствовал холод.
Между тем из сообщений зарубежной прессы и донесений советских дипломатов было видно, что германское правительство развивает большую активность по вербовке новых союзников и привлечению их к пакту трех держав. Одно за другим следовали сообщения о «торжественном» подписании соответствующих документов. Перед Гитлером склоняли голову реакционные правители Венгрии, Румынии, Болгарии. Берлин торопился укрепить свои позиции в Юго-Восточной Европе.
В последних числах декабря мне предложили отправиться на работу в Берлин первым секретарем посольства.
Днем 31 декабря я вышел из вагона на перрон вокзала Фридрихштрассе в Берлине. Жилье мне было приготовлено в помещении нашего посольства на Унтер ден Линден. Здание это было построено еще в начале прошлого века и оставалось в своем первозданном виде (оно было разрушено во время одного из воздушных налетов на Берлин в конце войны). Большие залы посольства и зимний сад с экзотическими растениями отапливались с помощью калориферной системы, а в жилом корпусе высились белые кафельные печи. В моей комнате было тепло и по-домашнему уютно.
Я решил погулять по вечерним улицам Берлина, а затем встретить Новый год в какой-либо «бирштубе» — пивной. Но, спустившись в вестибюль, я наткнулся на одного старого знакомого, который, узнав о моих скромных намерениях, предложил присоединиться к нему:
— Мы целой компанией едем в Грюневальд к нашему военно-морскому атташе адмиралу Воронцову. У него там большой особняк. Хорошо проведем время…
Я охотно согласился. Конечно, это было куда приятней, чем сидеть за кружкой пива в прокуренной пивной. К тому же мне представлялась возможность сразу познакомиться со многими из моих коллег.
Как и все дома в затемненном Берлине, особняк нашего военно-морского атташе снаружи казался нежилым. Но внутри было светло, тепло и оживленно. Хозяйка дома — высокая стройная брюнетка — подносила каждому новому гостю, зябко ежившемуся после промозглой берлинской погоды, чарку водки. Кое-кто, видимо, уже успел повторить эту процедуру: в комнате становилось шумно. Все чувствовали себя непринужденно, а в соседней комнате гостей ждал длинный, по-праздничному убранный стол.
Радио было настроено на Москву. Михаил Иванович Калинин поздравил советских людей с Новым годом. Мы сели за стол. Раздалось хлопанье пробок шампанского… В эти минуты все, казалось, забыли о повседневных делах и заботах. Отовсюду сыпались остроты, сопровождавшиеся взрывами смеха. Мы поздравляли друг друга с Новым годом, провозглашали тосты за то, чтобы наступающий год был для нашей Родины еще одним мирным годом. Мы не знали тогда, что в уже наступившем 1941 году начнется самая тяжелая и кровопролитная война в истории нашего народа. В ту ночь война, казалось, была где-то далеко.
Дипломатические рауты
Большой прием, который германское правительство устраивало для дипломатического корпуса в первый день нового года, был на этот раз «по случаю войны» отменен. Вместо этого 1 января дипломаты, аккредитованные в Берлине, расписывались в специальной книге в имперской канцелярии, где их от имени рейхсканцлера приветствовал сухой и длинный, как жердь, начальник канцелярии Ганс Ламмерс.
Однако в посольствах, находившихся в Берлине, число дипломатических раутов не уменьшилось. Дипломаты старались воспользоваться любым поводом для встречи со своими коллегами, чтобы обменяться информацией, слухами и прогнозами на будущее. А слухов в первые месяцы 1941 года ходило по Берлину невероятное множество. Они были связаны прежде всего с перспективами дальнейшего хода войны. Кто окажется следующей жертвой германской агрессии? Когда начнется вторжение в Англию? Скоро ли вступят в войну Соединенные Штаты? Куда двинется Япония? Будет ли нарушен нейтралитет Швеции и Турции? Захватят ли немцы нефтеносные районы Ближнего Востока? Все эти и другие вопросы были предметом споров, догадок, пророчеств и пересудов.
На больших приемах какой-нибудь новый слух облетал всех с молниеносной быстротой, хотя его, конечно, передавали под «строгим секретом». Тут можно было познакомиться с крупными промышленниками, высшими представителями нацистской иерархии, с такими тогдашними кинознаменитостями, как Ольга Чехова, Полла Негри, Вилли Форст. На таких приемах всегда было людно и шумно, и, чтобы пересечь зал, приходилось протискиваться между гостями, а порой и работать локтями. Но разговоры здесь носили скорее светский характер.
Куда интереснее бывали встречи в более узком кругу, где собеседники обычно старались выудить друг у друга очередную сенсацию, хотя порой такой «сенсации» была грош цена.
Распространять подобные «новости» особенно любил турецкий посол Гереде. Впрочем, он никогда не настаивал на достоверности своей информации и обычно приговаривал:
— Не могу поручиться, что это так, но все может быть, и потому я решил вас проинформировать конфиденциально…
Посол Гереде был высокий, всегда щегольски одетый мужчина с черными густыми бровями и тяжелым носом. Он угощал душистым турецким кофе, таким густым, что в чашке чуть ли не торчком стояла ложка, рахат-лукумом и знаменитым измирским ликером. Гереде был поразительно разговорчивым человеком, и чаще всего встреча с ним выливалась в его монолог. В его посольском кабинете висела карта Ближнего Востока, а его излюбленной темой был разбор возможных вариантов операций немцев по захвату нефтяных районов Ирака и Саудовской Аравии.
— Турция, — начинал свои рассуждения Гереде, — не раз заявляла, что она не пропустит немцев через свою территорию. Если Германия попытается что-либо предпринять в этом отношении, мы будем сопротивляться. Они это знают…
— Значит, они уже обращались к вам с таким предложением?
— Что вы! Я этого не говорил. Просто им известно, что мы их не пропустим. Но им нужно позарез горючее для танков, авиации, подводных лодок. Следовательно, им придется высадить парашютный десант, чтобы захватить Мосул. А для этого нужны базы — Греция, острова в Эгейском море, Египет. Если немцы высадятся в Ираке, Турция будет зажата с двух сторон. Тогда нам будет трудно, очень трудно…
— Вы хотите сказать, что в таком случае Турция пойдет на уступки Берлину?
— Я этого не говорил. Мы не хотим ни с кем ссориться. Англичане — наши друзья, немцы — наши друзья. Англичане говорят, что ради захвата Ирака немцы готовы потребовать у вас согласия на их проход через Кавказ. Это — чепуха. Вы на такое дело не пойдете. И они ничего не сделают. У вас с Гитлером пакт о ненападении, и я знаю из авторитетных источников, что он твердо намерен его соблюдать. Тут все ясно. На нас немцам тоже нет смысла нападать. Поверьте мне — они теперь сосредоточатся на Египте, помогут Муссолини овладеть Грецией, а затем высадят десант в Ираке. Вот каковы их планы…
Развивая свою мысль, Гереде то и дело подходил к карте, старался убедить собеседника, что десант в Мосуле — это наиболее вероятный дальнейший шаг Гитлера. Прощаясь, он говорил:
— Если услышите что-либо о планах немцев на Ближнем Востоке, сообщите мне. Это очень важно.
Посол Гереде вовсе не был таким простаком, каким мог показаться с первого взгляда. Он поддерживал весьма близкие связи с нацистской верхушкой. Возможно, по уговору с Вильгельмштрассе, он даже играл определенную роль в гитлеровской кампании дезинформации: разговорами о предстоящих операциях на Ближнем Востоке отвлекать внимание от подлинных намерений Берлина.
Весьма своеобразной фигурой дипломатического корпуса был японский посол в Берлине генерал Хироси Осима. Хотя он всегда одевался «по протоколу» и даже носил цилиндр, это не могло скрыть его военной выправки. Плотный, низенького роста, он говорил отрывисто, словно подавал воинскую команду. При этом Осима сопровождал свою речь резкими движениями правой руки, как бы рубил невидимого противника самурайским мечом.
Осима не скрывал своих симпатий к нацистам. Гитлеровцы использовали это в своих целях. Они часто возили японского посла-генерала по местам недавних сражений на Западе, и, возвращаясь в Берлин, он не уставал превозносить в беседах со своими коллегами «подвиги» германской армии. Не менее восторженно отзывался Осима и о гитлеровском «новом порядке в Европе».
— Гитлер, — заявлял он, — умеет держать в узде завоеванные страны. Это залог успеха планов переустройства мира, разрабатываемых державами оси…
В беседах с советскими дипломатами Осима не упускал случая напомнить, что в прошлом он служил в Квантунской армии и хорошо знает Дальний Восток. В этой связи он старался внушить мысль о том, что Советскому Союзу нет необходимости держать крупные соединения на границе с Маньчжурией, оккупированной в то время японцами. Осима следующим образом аргументировал эту идею:
— Я уже писал своему правительству, — говорил он, — что полезно было бы сократить численность армий и отвести их в глубь территории, подальше от границы, чтобы они не соприкасались. Я бы и вам советовал высказать эти соображения своему правительству, чтобы оно как можно скорее предприняло шаги в этом направлении…
При каждой встрече с нами Осима возвращался к этой теме. Какую он мог преследовать цель? Быть может, он полагал, что его идея, в случае ее осуществления, позволит Японии высвободить силы для планировавшихся уже тогда в Токио операций в Юго-Восточной Азии? А может быть, Осима рассчитывал перехитрить Советский Союз, побудить его ослабить свою оборону на Дальнем Востоке, чтобы затем Япония в подходящий для нее момент могла неожиданно напасть на Советский Союз? В любом случае трудно поверить, что Осима всерьез рассчитывал на успех своей весьма примитивной агитации. Но он не переставал пропагандировать свой план взаимного отвода войск на Дальнем Востоке, несмотря на его нереальность и даже наивность в условиях того времени. От обсуждения дальнейших военных акций Гитлера он обычно уклонялся, хотя, несомненно, знал о них больше, чем другие члены дипломатического корпуса.
Хочу также рассказать о встрече с югославским посланником Андричем, которая мне особенно запомнилась. Его резиденция находилась в Тиргартене, в новом районе, отведенном под дипломатические представительства. Район этот еще только застраивался. Уже было почти готово помпезное здание итальянского посольства, заканчивалось строительство японского представительства. Но дом югославской миссии с прилегающей к нему территорией был полностью готов. Построенный по проекту белградских архитекторов, он, как снаружи, так и внутри, производил очень приятное впечатление строгостью линий и современностью отделки и меблировки.
Встреча с Андричем состоялась в самых первых числах апреля. В те дни нацистская пресса развернула бешеную антиюгославскую кампанию. Каждый день «Фёлькишер беобахтер» и другие гитлеровские газеты писали о «преследованиях» немецкого меньшинства в Сербии, помещали фотографии, на которых были изображены группы «беженцев», или, как их называли авторы статей, «жертвы югославского террора». На самом деле никто не преследовал немцев в Югославии. Это была очередная гитлеровская провокация. Инциденты в Югославии и бегство из страны немецких граждан были специально организованы нацистской агентурой. Гитлер собирался под предлогом «защиты» немецкого меньшинства вторгнуться в Югославию. Несомненно, что главная цель, которую Гитлер преследовал нападением на «строптивую» Югославию, заключалась в том, чтобы обеспечить свой тыл в Юго-Восточной Европе перед вторжением в Советский Союз.
В конце марта югославское правительство, возглавлявшееся Цветковичем, подписало в Вене документ о присоединении Югославии к пакту трех. Сразу же после этого в Белграде произошел государственный переворот, и, хотя новое правительство генерала Симовича предложило заключить с Берлином пакт о ненападении, Гитлер, уже не доверяя Белграду, решил оккупировать Югославию, а заодно помочь Муссолини справиться с Грецией.
Посланник Андрич, всегда сдержанный и внешне спокойный, на этот раз не мог скрыть волнения. Он понимал, что замышляют гитлеровцы и что не сегодня-завтра его страна подвергнется нападению.
— Что им еще от нас нужно? — с горечью говорил Андрич. — Мы их не трогаем. Вся эта история с «преследованием» немецкого меньшинства подстроена от начала до конца. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Но им мало того, что они уже захватили в Европе. Они жаждут и нашей крови. Но немцы напрасно рассчитывают, что им это сойдет с рук. Наш народ не покорится. Мы не прекратим борьбу, даже если им удастся оккупировать нашу страну. Они дорого за это заплатят…
Гитлеровские провокации вызвали в Югославии всеобщее возмущение. В стране спешно принимались меры по отпору германской агрессии. 5 апреля в Москве был подписан советско-югославский договор о дружбе и ненападении. Это вызвало взрыв истерии в гитлеровских кругах Берлина. Правда, практической помощи Советский Союз в тот момент уже не мог оказать югославскому народу. В ночь на 6 апреля германские войска вероломно вторглись в Югославию, сея на своем пути смерть и разрушение.
Запомнившиеся мне слова посланника Андрича оказались пророческими. Югославский народ не покорился. Перейдя к методам партизанской борьбы, он наносил все возрастающие удары по фашистским захватчикам…
В один из последних дней апреля меня пригласил на коктейль первый секретарь посольства США в Берлине Паттерсон. Он слыл весьма состоятельным человеком, снимал за свой счет роскошный трехэтажный особняк в районе Шарлотенбурга.
В большой гостиной было людно. Гости уже разбились на группы и оживленно беседовали. Поздоровавшись со мной, Паттерсон сказал:
— Тут у меня есть один человек, с которым я хотел вас познакомить…
Он взял меня под руку и повел к камину, где, окруженный знакомыми мне американскими дипломатами, стоял со стаканом виски в руке какой-то высокий сухощавый офицер в форме майора германских военно-воздушных сил. Бросалось в глаза его загорелое лицо.
— Познакомьтесь, — представил нас друг другу Паттерсон. — Майор только что приехал на побывку из Африки…
Майор производил впечатление бывалого боевого летчика. Он охотно рассказывал об операциях в Западной Европе и Северной Африке. При этом не скрывал, что на африканском театре военных действий вопреки всем победным реляциям командования вермахта немцам приходится туго.
В конце вечера мы оказались с немецким майором на какое-то время вдвоем, в стороне от других гостей, и он, раскуривая сигару и глядя мне прямо в глаза, сказал, несколько понизив голос:
— Паттерсон хочет, чтобы я вам сообщил одну вещь. Дело в том, что я тут не на побывке. Моя эскадрилья отозвана из Северной Африки, и вчера мы получили приказ передислоцироваться на Восток, в район Лодзи. Возможно, в этом нет ничего особенного, но мне известно, что и многие другие части в последнее время перебрасываются к вашим границам. Я не знаю, что это может означать, но лично мне не хотелось бы, чтобы между моей и вашей страной что-либо произошло. Разумеется, я сообщаю вам об этом доверительно.
На какое-то мгновение я даже растерялся. Это был беспрецедентный случай: офицер гитлеровского вермахта передал советскому дипломату информацию, которая, если она отвечала действительности, несомненно, была сверхсекретной. За разглашение ее он рисковал головой. Мы опасались, как бы не стать жертвой провокации. К тому же я не знал, насколько можно доверять майору, и поэтому решил ответить сдержанно и стереотипно:
— Благодарю вас, господин майор, за эту информацию. Она весьма интересна. Но я полагаю, что Германия будет соблюдать пакт о ненападении. Наша страна заинтересована в том, чтобы мир между нами был сохранен. Будем надеяться на лучшее…
— Смотрите, вам виднее, — улыбнувшись сказал мой собеседник.
Вскоре он стал прощаться и уехал.
Конечно, этот разговор, как и все другое, что представляло интерес в наших беседах на дипломатических раутах, был включен в очередное посольское донесение. Их мы регулярно посылали телеграфом в Москву.
Посольские будни
Наши контакты с политическими деятелями «третьего рейха» носили сугубо официальный характер и были крайне ограничены. На приемы, которые устраивало посольство, из высокопоставленных нацистов являлся, и то далеко не всегда, лишь Риббентроп. Иногда бывали фельдмаршалы Кейтель и Мильх. Задерживались они в посольстве недолго и вскоре уезжали, обычно ссылаясь на занятость. Только два человека приходили к нам регулярно: статс-секретарь Отто Мейснер, которого считали близким к Гитлеру человеком из «старой школы» (он занимал этот же пост еще при Гинденбурге), и некий остзейский барон фон Чайковски, на визитной карточке которого значилось «дипломат в отставке». Хотя фон Чайковски не занимал официального поста, он слыл весьма информированным человеком — доверенным лицом Вильгельмштрассе. Оба они, и Мейснер и фон Чайковски, все время твердили о необходимости дальнейшего улучшения советско-германских отношений. По их словам, германское правительство только и думает, как бы сделать отношения между нашими странами более тесными и искренними.
Обедая в посольстве в начале июня 1941 года, то есть за какие-нибудь две недели до начала войны, Мейснер намекал, что в имперской канцелярии, дескать, разрабатываются новые предложения по укреплению советско-германских отношений, которые фюрер собирается вскоре представить Москве. Это, конечно, была гнуснейшая дезинформация. Мейснер и фон Чайковски преследовали цель притупить бдительность советских людей.
Тесные связи с посольством поддерживали деловые люди Германии. К нам нередко приходили директора таких фирм, как «АЭГ», «Крупп», «Маннесман», «Сименс — Шуккерт», «Рейн-металл — Борзиг», «Цейс — Икон», «Телефункен» и др. Представители посольства получали приглашения посетить предприятия этих фирм в различных районах Германии. Мне лично пришлось побывать на заводах Круппа в Эссене, на судостроительных верфях Бремена, на предприятии фирмы «Маннесман» в Магдебурге. Конечно, советским дипломатам показывали далеко не все.
Нельзя исключать, что некоторые из этих посещений устраивались в рамках гитлеровской кампании дезинформации. Но я уверен, что многие из наших собеседников-промышленников были действительно убеждены в том, что в экономическом отношении Советский Союз и Германия во многом дополняют друг друга и что развитие торговых связей на пользу обеим нашим странам.
Частым гостем в советском посольстве был один из директоров фирмы «Маннесман» — Гаспар. Это был высокий, всегда элегантно одетый господин средних лет, пользующийся большим весом в деловом мире.
Как раз в то время советское торгпредство сделало большой и выгодный заказ фирме «Маннесман» на партию стальных труб, и это лишний раз показывало директорам фирмы, что с Советским Союзом можно вести крупные дела.
— Я очень хотел бы, — говорил Гаспар во время одного из визитов в посольство, — чтобы отношения между нашими странами всегда складывались благоприятно. Наша фирма искренне в этом заинтересована. Но, к сожалению, в Германии действуют силы, которые не понимают, в чем заключаются подлинные интересы нашей нации. Они могут снова привести страну на край катастрофы…
Между прочим, Гаспар принадлежал к числу тех немногих деловых людей «третьего рейха», которые предупреждали нас о нависшей опасности, о необходимости бдительности и осторожности, хотя и не говорили ничего конкретного о скором нападении Гитлера на Советский Союз.
Мы старались использовать временную нормализацию отношений с гитлеровской Германией, чтобы вырвать из лап гестапо прогрессивных писателей, ученых, видных антифашистов, деятелей коммунистического движения.
Однако добиваться этого порой приходилось месяцами и притом не всегда успешно. Мы, например, так и не смогли получить от немцев согласия на отправку в Советский Союз всемирно известного французского физика Поля Ланжевена. В 1935 году Ланжевен участвовал в Народном фронте во Франции, был избран почетным членом Академии наук СССР и никогда не скрывал своих антифашистских убеждений. Этого гитлеровцы ему не простили. На наши многократные запросы министерство иностранных дел Германии сперва отвечало, будто Ланжевена не могут разыскать, а затем откровенно заявило, что, поскольку Ланжевен занимался не только наукой, но и «враждебной Германии» деятельностью, компетентные германские власти отказываются его нам передать. Чтобы добиться освобождения Ланжевена, мы даже задержали какого-то субъекта, выдачи которого настойчиво требовали немцы. Но и это не помогло. Ланжевен так и остался в руках гитлеровцев. В конце 1941 года он был арестован и брошен в тюрьму, а позднее отправлен в город Труа под надзор гестапо. Его жизнь могла окончиться трагически, но с помощью бойцов движения Сопротивления Ланжевену удалось бежать в нейтральную Швейцарию.
Длительные переговоры, которые наше посольство в Берлине вело в начале 1941 года с целью освободить Жана-Ришара Блока — видного французского писателя-коммуниста, увенчались успехом. Помню, как я был взволнован, когда ранней весной 1941 года встретил Ж.-Р. Блока на вокзале Фридрихштрассе в Берлине. Перед моим взором и сейчас стоит невысокая фигура сильно исхудавшего человека с коричневым саквояжем и пледом в руке. Высокий лоб, выразительные глаза, подвижное лицо и печальная улыбка — таким я увидел его, когда он сделал свой первый шаг на свободу. Сопровождавший Блока агент гестапо в штатском сдал его мне, как говорится, с рук на руки и деловито попросил расписаться на квитанции, словно речь шла о багаже. Мы отвезли Ж.-Р. Блока в посольство, а на следующий день группа советских дипломатов провожала его в Москву. Он шутил, смеялся, был рад, что уезжает в Советский Союз.
Жан-Ришар Блок — большой друг Ромена Роллана и Луи Арагона, находясь во время войны в Советском Союзе, многое сделал для мобилизации мировой прогрессивной общественности на борьбу против фашистской чумы. Он публиковал в советской и зарубежной прессе страстные обличительные статьи, выступал по радио с призывами к бойцам Сопротивления усилить удары по врагу.
Тревожные сигналы
На протяжении нескольких месяцев мы, работники посольства, видели, как в Германии неуклонно проводятся мероприятия, явно направленные на подготовку операций на Восточном фронте. Об этих приготовлениях свидетельствовала информация, поступавшая в посольство из разных источников.
Прежде всего ее доставляли нам наши друзья в самой Германии. Мы знали, что в нацистском «рейхе», в том числе и в Берлине, в глубоком подполье действуют антифашистская группа «Красная капелла», группа Раби и др. Преодолевая невероятные трудности, порой рискуя жизнью, немецкие антифашисты находили пути, для того чтобы предупредить Советский Союз о нависшей над ним опасности. Они передавали важную информацию, говорившую о подготовке нападения гитлеровской Германии на нашу страну.
В середине февраля в советское консульство в Берлине явился немецкий типографский рабочий. Он принес с собой экземпляр русско-немецкого разговорника, печатавшегося массовым тиражом. Содержание разговорника не оставляло сомнения в том, для каких целей он предназначался. Там можно было, например, прочесть такие фразы на русском языке, но набранные латинским шрифтом: «Где председатель колхоза?», «Ты коммунист?», «Руки вверх!», «Буду стрелять!», «Сдавайся!» и тому подобное. Разговорник был сразу же переслан в Москву.
После того как гитлеровцы оккупировали Польшу, в бывшем посольстве СССР в Варшаве остался только комендант здания Васильев, который должен был заботиться и о советском имуществе на территории всего «генерал-губернаторства», как немцы называли тогда захваченные ими польские земли. В связи с этим ему приходилось посещать районы, примыкавшие к границе Советского Союза. Приезжая по делам в Берлин, Васильев, конечно, рассказывал нам о своих наблюдениях.
Разумеется, гитлеровцы старались ограничивать возможность передвижения Васильева и вообще тщательно скрывали свои агрессивные приготовления на Востоке. Но Васильев не мог не заметить, что железные дороги забиты воинскими эшелонами, а польские города наводнены солдатами вермахта, причем бросалось в глаза, что концентрация военщины на территории Польши все более усиливается. Сообщения Васильева давали нам дополнительный материал, подтверждавший имевшиеся у нас сведения из других источников.
Согласно заведенному в посольстве порядку, каждое утро пресс-атташе (им был А. А. Смирнов, а после его отзыва в Москву и назначения послом СССР в Иране — И. М. Лавров) делал для дипломатического состава краткий доклад о сообщениях немецкой и мировой печати. В первые месяцы 1941 года он все чаще обращал внимание на сетования немецких газет по поводу сообщений мировой прессы о «военных приготовлениях» Советского Союза на германской границе. Нетрудно было проследить, из каких источников черпалась эта информация. Обычно она сначала появлялась в американской реакционной печати, причем нередко со ссылкой на немецкие источники в нейтральных странах. Несомненно, тут мы имели дело с провокационной дезинформацией, инспирированной германской агентурой. Не располагая никакими реальными фактами — их не было в природе — о «советской угрозе» Германии, гитлеровская пропаганда фабриковала вымышленные сведения о «военных приготовлениях» СССР на его западных границах, подсовывала эти насквозь лживые сведения информационным агентствам и органам печати других стран. Когда же их печатали американские и другие газеты, на них ссылалась германская пресса, ханжески жалуясь, что такие сообщения, дескать, «омрачают» советско-германские отношения. Вся эта возня также показывала, что германские власти заинтересованы в распространении по всему миру ложного представления о том, будто Советский Союз «угрожает» Германии.
В то же время в германской прессе стали чаще появляться ссылки на книгу Гитлера «Майн кампф», которые почти исчезли со страниц газет в первые месяцы после подписания советско-германского договора о ненападении в 1939 году. Правда, это евангелие нацизма, написанное Гитлером еще в 1924–1926 годах, никогда не подвергалось в «третьем рейхе» сомнению. Книга «Майн кампф» с фотографией Гитлера на обложке красовалась в витринах всех книжных магазинов и ежегодно издавалась огромными тиражами, приносившими Гитлеру гонорар в миллионы марок. Но теперь нацистские пропагандисты снова стали все чаще ссылаться на нее, рассуждая о дальнейших планах «Великой Германии».
В «Майн кампф» агрессивные цели и планы Гитлера были изложены с предельной ясностью. Там указывалось, что Германия не должна ограничиваться требованием восстановления границ 1914 года. Ей нужно куда большее жизненное пространство. В своей книге Гитлер указывал, что в Европе насчитывается 80 миллионов немцев. Менее чем через сто лет на континенте их будет 250 миллионов, заявлял он. Поэтому другие народы должны потесниться, чтобы дать место немцам. Вот что Гитлер писал в «Майн кампф» черным по белому: «Только достаточно большое пространство на нашей планете обеспечивает свободу существования любой нации… Поэтому национал-социалистское движение должно, не обращая внимания на „традиции“ и предрассудки, найти в себе мужество мобилизовать нашу нацию и ее силу для похода по тому пути, который выведет нас из нынешней ограниченности жизненного пространства этой нации к новым землям и тем самым навсегда освободит нас от опасности исчезнуть с лица земли или превратиться в нацию рабов, которые должны будут находиться в услужении другим. Национал-социалистское движение должно устранить несоответствие между численностью нашей нации и размерами нашей территории. Мы должны неотступно придерживаться нашей внешнеполитической цели, а именно: обеспечить немецкой нации подобающие ей на этой планете земли».
Такова была, так сказать, общая принципиальная установка Гитлера. Не менее четко и откровенно были сформулированы в его книге и практические шаги к достижению этой «внешнеполитической» цели. В своей книге Гитлер называл Францию «смертельным врагом немецкой нации». Он писал о «решающей схватке» с Францией, но при условии, что «Германия видит в уничтожении Франции лишь одно из средств, с помощью которого можно будет вслед за этим предоставить, наконец, нашей нации возможность расширения в другом направлении…»
В каком именно? На это в «Майн кампф» тоже давался вполне определенный ответ. Сначала, писал Гитлер, должны быть захвачены районы на Востоке с преобладающим немецким населением — Австрия, Судеты, западные провинции Польши, включая Данциг…
Все эти захваты к началу 1941 года были уже осуществлены, хотя в несколько иной последовательности, но зато в большем масштабе. Что же следовало ожидать после этого? «Майн кампф» давала недвусмысленный, хотя и бредовый ответ: нападение на Советский Союз!
«Если мы хотим иметь новые земли в Европе, — писал Гитлер, — то их можно получить на больших пространствах только за счет России. Поэтому новый рейх должен вновь встать на тот путь, по которому шли рыцари ордена, чтобы германским мечом завоевать германскому плугу землю, а нашей нации — хлеб насущный!»
И далее:
«Мы, национал-социалисты, начинаем движение с того пункта, где оно закончилось шесть столетий назад. Мы приостанавливаем извечное движение германцев на юго-запад Европы и обращаем взгляд на земли на Востоке… И если мы сегодня в Европе говорим о новых землях, то мы можем в первую очередь думать только о России и о подвластных ей окраинных государствах…»
Ни одно из этих рассуждений не было ни опровергнуто, ни изменено. Намеченные в «Майн кампф» разбойничьи цели оставались в силе, и их, конечно, имели в виду нацистские пропагандисты, принявшиеся весной 1941 года, как по команде, восхвалять гитлеровское евангелие…
В середине мая Берлин был взбудоражен сообщением о неожиданном полете в Англию Рудольфа Гесса — первого заместителя Гитлера по руководству нацистской партией. Гесс, который сам пилотировал самолет «Мессершмитт-110», вылетел 10 мая из Аугсбурга (Южная Германия), взяв курс на Даунгавел Касл — шотландское имение лорда Гамильтона, с которым он был лично знаком. Однако Гесс ошибся в расчете горючего и, не долетев до цели 14 километров, выбросился с парашютом в районе Иглшэма, где был задержан местными жителями и передан властям. Несколько дней английское правительство хранило молчание по поводу этого события. Ничего не сообщал об этом и Берлин. Только после того как британское правительство предало этот полет гласности, германское правительство поняло, что секретная миссия, возлагавшаяся на Гесса, не увенчалась успехом. Тогда-то в штаб-квартире Гитлера в Берхофе решили преподнести публике полет Гесса как проявление его умопомешательства. В официальном коммюнике о «деле Гесса» говорилось: «Член партии Гесс, видимо, помешался на мысли о том, что посредством личных действий он все еще может добиться взаимопонимания между Германией и Англией». В явно инспирированных комментариях германская пресса пошла еще и дальше, указывая, что этот нацистский лидер «был душевно больным идеалистом, страдавшим галлюцинациями вследствие ранений, полученных в первой мировой войне». Авторы этих комментариев, видимо, не усматривали убийственной иронии в том, что этот «сумасшедший» до последнего дня был вторым после Гитлера человеком в нацистской партии. Более того, согласно завещанию Гитлера, в случае его внезапной смерти и гибели Геринга Гесс должен был стать «фюрером германской нации».
Гитлер понимал, какой моральный ущерб причинил ему и его режиму неудачный полет Гесса. Чтобы замести следы, он распорядился арестовать приближенных Гесса, а его самого снял со всех постов и приказал расстрелять, если он вернется в Германию. Тогда же заместителем Гитлера по нацистской партии был назначен Борман.
Нет сомнения, однако, что гитлеровцы возлагали на полет Гесса немалые надежды. Германский империализм рассчитывал, что ему удастся привлечь к антисоветскому походу также и противников Германии, и прежде всего Англию. Гитлеровцы стремились превратить планировавшееся ими нападение на Советский Союз в «крестовый поход» против «большевистской опасности».
Из документов Нюрнбергского процесса и других материалов, опубликованных после разгрома гитлеровской Германии, известно, что с лета 1940 года Гесс состоял в переписке с видными английскими мюнхенцами. Эту переписку помог ему наладить герцог Виндзорский — бывший король Англии Эдуард VIII, которого под предлогом его увлечения разведенной американской миллионершей вынудили отречься от престола.
Герцог Виндзорский был известен своими пронацистскими симпатиями, и одно время Гитлер рассчитывал использовать его в целях деморализации английского народа и склонения британского правительства к сепаратному миру с Германией. Когда герцог Виндзорский по пути в добровольное изгнание на Багамские острова (он был назначен туда губернатором) остановился в Португалии, туда был послан бригаденфюрер СС Вальтер Шелленберг, занимавший пост начальника VI отдела главного управления имперской безопасности. Шелленбергу было поручено убедить герцога Виндзорского отправиться в Берлин и выступить оттуда по радио с призывом к английскому народу пойти на мировую с Германией. За эту услугу Гитлер предлагал герцогу 50 миллионов швейцарских франков. На крайний случай Шелленберг должен был похитить бывшего короля Англии и доставить его к Гитлеру. Однако гитлеровскому эмиссару не удалось выполнить этого поручения: бывший монарх усиленно охранялся агентами английской секретной службы, и Шелленберг не смог установить с ним контакт.
Используя свои связи, Гесс заранее договорился о визите в Англию. Первоначально это должно было произойти в декабре 1940 года, но затем визит был отложен до завершения гитлеровских захватов в Юго-Восточной Европе. Когда, наконец, в мае
1941 года Гесс прилетел в Англию и начал переговоры с высокопоставленными британскими представителями, положение в этой стране, да и вся международная обстановка не позволили мюнхенцам осуществить свой план сговора с нацистами.
Наиболее дальновидные политические деятели Англии и США понимали, что мир с ними Гитлеру нужен лишь для того, чтобы потом напасть на них в более подходящий для нацистов момент. Правящие круги Англии уже тогда отчетливо видели, какую угрозу несет их позициям и интересам германский империализм, стремившийся подчинить себе весь мир. Поэтому они остерегались новых сделок с Германией, тем более что в прошлом подобные политические эксперименты всегда оборачивались против них же самих.
В итоге миссия Гесса провалилась, а сам он после войны предстал перед Нюрнбергским трибуналом в числе главных нацистских преступников. Он, впрочем, избежал виселицы — медицинская экспертиза признала его ненормальным — и был приговорен к пожизненному тюремному заключению.
Тогда, в мае 1941 года, мы, конечно, не могли знать всей подоплеки полета Гесса в Англию. Но то, что это была попытка договориться с Лондоном против Советского Союза, не оставляло сомнения. Знаменателен и такой факт. Как-то, придя в начале мая по текущим делам на Вильгельмштрассе, я увидел, что в приемной министерства иностранных дел на столиках разложены журналы и брошюры, изданные еще до войны и прославляющие «англо-германскую дружбу» и ее значение для судеб Европы и всего мира (одно время, в период Мюнхена, гитлеровцы носились с этой идеей). Все дипломаты, приезжавшие на Вильгельмштрассе, конечно, сразу обратили внимание на эти брошюры, расценив их появление как некий жест по отношению к Англии. Подобная демонстрация была предметом догадок, пересудов и спекуляций. Совпавший с ней подозрительный полет «сумасшедшего» Гесса в сочетании с фактами усиления военных приготовлении Германии на Восточном фронте не мог не привлечь к себе внимания.
Все более тревожные сведения концентрировались в этот период также у нашего военного атташе генерала Туликова и военно-морского атташе адмирала Воронцова. Согласно их информации, с начала февраля 1941 года на Восток стали направляться эшелоны с войсками и боевой техникой. В марте — апреле уже непрерывным потоком туда шли составы с танками, артиллерией, боеприпасами, а к концу мая, по всем данным, в пограничной зоне были сосредоточены крупные немецкие соединения и военная техника.
В то же время гитлеровцы нагло и откровенно прощупывали советскую оборону вдоль государственной границы Советского Союза. Особенно усилились немецкие провокации на советско-германской границе в конце мая — начале июня. Чуть ли не каждый день посольство получало из Москвы указание заявить протест по поводу очередных нарушений на советской границе. Не только германские пограничники, но и солдаты вермахта систематически вторгались на советскую территорию, открывали огонь по нашим пограничникам. При этом были человеческие жертвы. Самолеты со свастикой нахально летали в глубь советской территории. Обо всех этих фактах, с точным указанием места и времени, мы сообщали германскому МИД, но на Вильгельмштрассе, принимая наши заявления, сначала обещали произвести расследование, а затем уверяли, будто «эти сведения не подтвердились».
Знаменателен и такой эпизод. Неподалеку от посольства, на Унтер ден Линден, находилось роскошное фотоателье Гофмана — придворного фотографа Гитлера. В этом ателье когда-то работала натурщицей Ева Браун, ставшая впоследствии любовницей Гитлера. С начала войны в одной из витрин ателье над портретом Гитлера обычно вывешивалась большая географическая карта. Стало привычным, что каждый раз карта показывала ту часть Европы, где происходили или намечались очередные военные действия. Ранней весной 1940 года это был район Голландии, Бельгии, Дании и Норвегии, затем довольно долго висела карта Франции. В начале 1941 года прохожие уже останавливались перед картой Югославии и Греции. И вдруг в конце мая, проходя мимо фотоателье Гофмана, я увидел большую карту Восточной Европы. Она включала Прибалтику, Белоруссию, Украину — весь обширный район Советского Союза от Баренцева до Черного моря. Меня это ошеломило. Гофман без стеснения давал понять, где развернутся следующие события. Он как бы говорил: теперь пришел черед Советского Союза!..
Начиная с марта по Берлину поползли настойчивые слухи о готовящемся нападении Гитлера на Советский Союз. При этом фигурировали разные даты, которые, как видно, должны были сбить нас с толку: 6 апреля, 20 апреля, 18 мая и, наконец, 22 июня.
Обо всех этих тревожных сигналах посольство регулярно докладывало в Москву, а основной вывод состоял в том, что практическая подготовка Германии к нападению на Советский Союз закончена и масштабы этой подготовки не оставляют сомнения в том, что вся концентрация войск и техники завершена. Из этого документа со всей определенностью следовало, что можно в любой момент ждать нападения Германии на Советский Союз.
Мы, сотрудники советского посольства в Берлине, находились в состоянии какой-то раздвоенности. С одной стороны, мы располагали недвусмысленной информацией, свидетельствовавшей о том, что война вот-вот разразится. С другой стороны, ничего особенного как будто не происходило. Жен и детей работников советских учреждений в Германии и на оккупированной территории на Родину не отправляли. Более того, из Советского Союза почти каждый день прибывали новые сотрудники с многочисленными семьями и даже с женами, находившимися на последних месяцах беременности. Продолжались бесперебойные поставки в Германию советских товаров, хотя немецкая сторона почти совсем прекратила выполнение своих торговых обязательств. 14 июня (за неделю до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз!) советская печать опубликовала сообщение ТАСС, в котором говорилось, что, «по данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерениях Германии порвать пакт и предпринять нападение на Советский Союз лишены всякой почвы…».
Этим заявлением, текст которого был накануне передан германскому послу в Москве Шуленбургу, Сталин, видимо, стремился еще раз проверить намерения германского правительства. Но какие бы внешнеполитические цели ни преследовало это сообщение ТАСС, его опубликование за несколько дней до начала войны могло только притупить у нашего народа чувство бдительности. Берлин ответил на заявление ТАСС молчанием. Ни в одной германской газете не появилось даже упоминания об этом.
21 июня, когда до нападения гитлеровской Германии на СССР оставались считанные часы, посольство получило предписание сделать германскому правительству еще одно заявление, в котором предлагалось обсудить состояние советско-германских отношений.
Советское правительство давало понять германскому правительству, что ему известно о концентрации немецких войск на советской границе и что военная авантюра может иметь опасные последствия. Но содержание этой депеши говорило и о другом: в Москве еще надеялись на возможность предотвратить конфликт и были готовы вести переговоры по поводу создавшейся ситуации.
Ночь на 22 июня
В субботу 21 июня из Москвы пришла срочная телеграмма. Посольство должно было немедленно передать германскому правительству упомянутое выше важное заявление.
Мне поручили связаться с Вильгельмштрассе и условиться о встрече представителей посольства с Риббентропом. Дежурный по секретариату министра ответил, что Риббентропа нет в городе. Звонок к первому заместителю министра, статс-секретарю Вейцзеккеру также не дал результатов. Проходил час за часом, а никого из ответственных лиц найти не удавалось. Лишь к полу-Дню объявился директор политического отдела министерства Верман. Но он только подтвердил, что ни Риббентропа, ни Вейцзеккера в министерстве нет.
— Кажется, в ставке фюрера происходит какое-то важное совещание. По-видимому, все сейчас там, — пояснил Верман. — Если у вас дело срочное, передайте мне, а я постараюсь связаться с руководством…
Я ответил, что это невозможно, так как послу поручено передать заявление лично министру, и попросил Вермана дать знать об этом Риббентропу…
Из Москвы в этот день несколько раз звонили по телефону. Нас торопили с выполнением поручения. Но сколько мы ни обращались в министерство иностранных дел, ответ был все тот же: Риббентропа нет, и когда он будет, неизвестно. Часам к семи вечера все разошлись по домам. Мне же пришлось остаться в посольстве и добиваться встречи с Риббентропом. Поставив перед собой настольные часы, я решил педантично, каждые 30 минут, звонить на Вильгельмштрассе.
На столе у меня лежала большая пачка газет — утром удалось лишь бегло их просмотреть. Теперь можно было почитать повнимательнее. В нацистском официозе «Фёлькишер беобахтер» в последнее время было напечатано несколько статей Дитриха — начальника пресс-отдела германского правительства.
В этих явно инспирированных статьях Дитрих все время бил в одну точку. Он говорил о некоей угрозе, которая нависла над германской империей и которая мешает осуществлению гитлеровских планов создания «тысячелетнего рейха». Автор указывал, что германский народ и правительство вынуждены, прежде чем приступить к строительству такого «рейха», устранить возникшую угрозу. Эту идею Дитрих, разумеется, пропагандировал неспроста. Вспомнились его статьи накануне нападения гитлеровской Германии на Югославию в первые дни апреля 1941 года. Тогда он разглагольствовал о «священной миссии» германской нации на юго-востоке Европы, вспоминал поход принца Евгения в XVIII веке в Сербию, оккупированную в то время турками, и довольно прозрачно давал понять, что ныне этот же путь должны проделать германские солдаты. Теперь в свете известных нам фактов о подготовке войны на Востоке статьи Дитриха о «новой угрозе» приобретали особый смысл. Трудно было отделаться от мысли, что ходивший по Берлину слух, в котором фигурировала последняя дата нападения Гитлера на Советский Союз — 22 июня, на этот раз, возможно, окажется правильным. Казалось странным и то, что мы в течение целого дня не могли связаться ни с Риббентропом, ни с его первым заместителем, хотя обычно, когда министра не было в городе, Вейцзеккер всегда был готов принять представителя посольства. И что это за важное совещание в ставке Гитлера, на котором, по словам Вермана, находятся все нацистские главари?..
Вновь и вновь звонил я на Вильгельмштрассе, но безрезультатно.
Тем временем в Москве в половине десятого вечера 21 июня народный комиссар иностранных дел Молотов по поручению Советского правительства пригласил к себе германского посла Шуленбурга и сообщил ему содержание советской ноты по поводу многочисленных нарушений границы германскими самолетами. После этого нарком тщетно пытался побудить посла обсудить с ним состояние советско-германских отношений и выяснить претензии Германии к Советскому Союзу. В частности, перед Шуленбургом был поставлен вопрос: в чем заключается недовольство Германии в отношении СССР, если таковое имеется? Молотов спросил также, чем объясняется усиленное распространение слухов о близкой войне между Германией и СССР, чем объясняется массовый отъезд из Москвы в последние дни сотрудников германского посольства и их жен. В заключение Шуленбургу был задан вопрос о том, чем объясняется «отсутствие какого-либо реагирования германского правительства на успокоительное и миролюбивое сообщение ТАСС от 14 июня». Никакого вразумительного ответа на эти вопросы Шуленбург не дал…
Пока я продолжал тщетно дозваниваться на Вильгельмштрассе, из Москвы поступила новая депеша. Это было уже около часа ночи. В телеграмме сообщалось содержание беседы наркома иностранных дел с Шуленбургом и перечислялись вопросы, поставленные советской стороной в ходе этой беседы. Советскому послу в Берлине вновь предлагалось незамедлительно встретиться с Риббентропом или его заместителем и поставить перед ним те же вопросы. Однако мой очередной звонок в канцелярию Риббентропа был так же безрезультатен, как и прежние.
Внезапно в 3 часа ночи, или в 5 часов утра по московскому времени (это было уже воскресенье 22 июня), раздался телефонный звонок. Какой-то незнакомый голос сообщил, что рейхс-министр Иоахим фон Риббентроп ждет советских представителей в своем кабинете в министерстве иностранных дел на Вильгельмштрассе. Уже от этого лающего незнакомого голоса, от чрезвычайно официальной фразеологии повеяло чем-то зловещим.
Выехав на Вильгельмштрассе, мы издали увидели толпу у здания министерства иностранных дел. Хотя уже рассвело, подъезд с чугунным навесом был ярко освещен прожекторами. Вокруг суетились фоторепортеры, кинооператоры, журналисты. Чиновник выскочил из машины первым и широко распахнул дверцу. Мы вышли, ослепленные светом юпитеров и вспышками магниевых ламп. В голове мелькнула тревожная мысль — неужели это война? Иначе нельзя было объяснить такое столпотворение на Вильгельмштрассе, да еще в ночное время. Фоторепортеры и кинооператоры неотступно сопровождали нас. Они то и дело забегали вперед, щелкали затворами. В апартаменты министра вел длинный коридор. Вдоль него, вытянувшись, стояли какие-то люди в форме. При нашем появлении они гулко щелкали каблуками, поднимая вверх руку в фашистском приветствии. Наконец мы оказались в кабинете министра.
В глубине комнаты стоял письменный стол, за которым сидел Риббентроп в будничной серо-зеленой министерской форме.
Когда мы вплотную подошли к письменному столу, Риббентроп встал, молча кивнул головой, подал руку и пригласил пройти за ним в противоположный угол зала за круглый стол. У Риббентропа было опухшее лицо пунцового цвета и мутные, как бы остановившиеся, воспаленные глаза. Он шел впереди нас, опустив голову и немного пошатываясь. «Не пьян ли он?» — промелькнуло у меня в голове. После того как мы уселись и Риббентроп начал говорить, мое предположение подтвердилось. Он, видимо, действительно основательно выпил.
Советский посол так и не смог изложить наше заявление, текст которого мы захватили с собой. Риббентроп, повысив голос, сказал, что сейчас речь пойдет совсем о другом. Спотыкаясь чуть ли не на каждом слове, он принялся довольно путано объяснять, что германское правительство располагает данными относительно усиленной концентрации советских войск на германской границе. Игнорируя тот факт, что на протяжении последних недель советское посольство по поручению Москвы неоднократно обращало внимание германской стороны на вопиющие случаи нарушения границы Советского Союза немецкими солдатами и самолетами, Риббентроп заявил, будто советские военнослужащие нарушали германскую границу и вторгались на германскую территорию, хотя таких фактов в действительности не было.
Далее Риббентроп пояснил, что он кратко излагает содержание меморандума Гитлера, текст которого он тут же нам вручил. Затем Риббентроп сказал, что создавшуюся ситуацию германское правительство рассматривает как угрозу для Германии в момент, когда та ведет не на жизнь, а на смерть войну с англосаксами. Все это, заявил Риббентроп, расценивается германским правительством и лично фюрером как намерение Советского Союза нанести удар в спину немецкому народу. Фюрер не мог терпеть такой угрозы и решил принять меры для ограждения жизни и безопасности германской нации. Решение фюрера окончательное. Час тому назад германские войска перешли границу Советского Союза.
Затем Риббентроп принялся уверять, что эти действия Германии являются не агрессией, а лишь оборонительными мероприятиями. После этого Риббентроп встал и вытянулся во весь рост, стараясь придать себе торжественный вид. Но его голосу явно недоставало твердости и уверенности, когда он произнес последнюю фразу:
— Фюрер поручил мне официально объявить об этих оборонительных мероприятиях…
Мы тоже встали. Разговор был окончен. Теперь мы знали, что снаряды уже рвутся на нашей земле. После свершившегося разбойничьего нападения война была объявлена официально… Тут уже нельзя было ничего изменить. Прежде чем уйти, советский посол сказал:
— Это наглая, ничем не спровоцированная агрессия. Вы еще пожалеете, что совершили разбойничье нападение на Советский Союз. Вы еще за это жестоко поплатитесь…
Мы повернулись и направились к выходу. И тут произошло неожиданное. Риббентроп, семеня, поспешил за нами. Он стал скороговоркой, шепотком уверять, будто лично он был против этого решения фюрера. Он даже якобы отговаривал Гитлера от нападения на Советский Союз. Лично он, Риббентроп, считает это безумием. Но он ничего не мог поделать. Гитлер принял это решение, он никого не хотел слушать…
— Передайте в Москве, что я был против нападения, — услышали мы последние слова рейхсминистра, когда уже выходили в коридор…
По дороге в посольство мы молчали. Но моя мысль невольно возвращалась к сцене, только что разыгравшейся в кабинете нацистского министра. Почему он так нервничал, этот фашистский головорез, который так же, как и другие гитлеровские заправилы, был яростным врагом коммунизма и относился к нашей стране и к советским людям с патологической ненавистью? Куда девалась свойственная ему наглая самоуверенность? Конечно, он лгал, уверяя, будто отговаривал Гитлера от нападения на Советский Союз. Но все же, что означали его последние слова? Тогда у нас не могло быть ответа. А теперь, вспоминая обо всем этом, начинаешь думать, что у Риббентропа в тот роковой момент, когда он официально объявил о решении, приведшем в конечном итоге к гибели гитлеровского «рейха», возможно, шевельнулось какое-то мрачное предчувствие… И не потому ли он принял тогда лишнюю дозу спиртного?..
Подъехав к посольству, мы заметили, что здание усиленно охраняется. Вместо одного полицейского, обычно стоявшего у ворот, вдоль тротуара выстроилась теперь целая цепочка солдат в эсэсовской форме.
В посольстве нас ждали с нетерпением. Пока там наверняка не знали, зачем нас вызвал Риббентроп, но один признак заставил всех насторожиться: как только мы уехали на Вильгельмштрассе, связь посольства с внешним миром была прервана — ни один телефон не работал…
Гитлеровские войска на берегу р. Буг перед нападением на СССР в ночь на 22 июня 1941 г.
В 6 часов утра по московскому времени мы включили приемник, ожидая, что скажет Москва. Но все наши станции передали сперва урок гимнастики, затем пионерскую зорьку и, наконец, последние известия, начинавшиеся, как обычно, вестями с полей и сообщениями о достижениях передовиков труда. С тревогой думалось: неужели в Москве не знают, что уже несколько часов как началась война? А может быть, действия на границе расценены как пограничные стычки, хотя и более широкие по масштабу, чем те, какие происходили на протяжении последних недель?..
Поскольку телефонная связь не восстанавливалась и позвонить в Москву не удавалось, было решено отправить телеграфом сообщение о разговоре с Риббентропом. Шифрованную депешу поручили отвезти на главный почтамт вице-консулу Г. И. Фомину в посольской машине с дипломатическим номером. Это был громоздкий «ЗИС-101», который обычно использовался для поездок на официальные приемы. Машина выехала из ворот, но через 15 минут Фомин возвратился пешком один. Ему удалось вернуться лишь благодаря тому, что при нем была дипломатическая карточка. Их остановил какой-то патруль. Шофер и машина были взяты под арест.
В гараже посольства, помимо «зисов» и «эмок», был желтый малолитражный автомобиль «опель-олимпия». Решили воспользоваться им, чтобы, не привлекая внимания, добраться до почтамта и отправить телеграмму. Эту маленькую операцию разработали заранее. После того как я сел за руль, ворота распахнулись, и юркий «опель» на полном ходу выскочил на улицу. Быстро оглянувшись, я вздохнул с облегчением: у здания посольства не были ни одной машины, а пешие эсэсовцы растерянно глядели мне вслед.
Телеграмму сразу сдать не удалось. На главном берлинском почтамте все служащие стояли у репродуктора, откуда доносились истерические выкрики Геббельса. Он говорил о том, что большевики готовили немцам удар в спину, а фюрер, решив двинуть войска на Советский Союз, тем самым спас германскую нацию.
Я подозвал одного из чиновников и передал ему телеграмму. Посмотрев на адрес, он воскликнул:
— Да вы что, в Москву? Разве вы не слышали, что делается?..
Не вдаваясь в дискуссию, я попросил принять телеграмму и выписать квитанцию. Вернувшись в Москву, мы узнали, что эта телеграмма так и не была доставлена…
Когда, возвращаясь с почтамта, я повернул с Фридрихштрассе на Унтер ден Линден, то видел, что около подъезда посольства стоят четыре машины защитного цвета. По-видимому, эсэсовцы уже сделали вывод из своей оплошности.
В посольстве на втором этаже несколько человек по-прежнему стояли у приемника. Но московское радио ни словом не упоминало о случившемся. Спустившись вниз, я увидел из окна кабинета, как по тротуару пробегают мальчишки, размахивая экстренными выпусками газет. Я вышел за ворота и, остановив одного из них, купил несколько изданий. Там уже были напечатаны первые фотографии с фронта: с болью в сердце мы разглядывали наших советских бойцов — раненых, убитых… В сводке германского командования сообщалось, что ночью немецкие самолеты бомбили Могилев, Львов, Ровно, Гродно и другие города. Было видно, что гитлеровская пропаганда пытается создать впечатление, будто война эта будет короткой прогулкой…
Снова и снова подходим к радиоприемнику. Оттуда по-прежнему доносится народная музыка и марши. Только в 12 часов московского времени по радио выступил Молотов. Он зачитал заявление Советского правительства:
— Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну… Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
«…Победа будет за нами… Наше дело правое…» Эти слова доносились с далекой Родины к нам, оказавшимся в самом логове врага.
В опубликованных партийных документах, так же как и в мемуарной литературе, дана принципиальная оценка ситуации, сложившейся в канун Великой Отечественной войны. Партия видела нарастающую угрозу военного нападения фашистской Германии и стремилась всеми силами предотвратить войну, выиграть время для повышения обороноспособности страны. Однако целый ряд факторов, возникших к моменту вторжения нацистов, предопределил их временные преимущества. Сыграли свою роль и просчеты, допущенные в оценке возможного времени нападения на нас Германии, и упущения в подготовке к отражению первых ударов. В многотомной «Истории Коммунистической партии Советского Союза» указывается, что «И. В. Сталин, возглавлявший руководство партией и страной, стремясь оттянуть военное столкновение с гитлеровской Германией, чтобы использовать время для подготовки армии и страны к войне, не давал согласия на приведение войск пограничных округов в полную боевую готовность, считая, что этот шаг может быть использован фашистскими правителями как предлог для войны».
Такой видный военный авторитет, как генерал С. М. Штеменко, в своей работе «Генеральный штаб в годы войны» (книга вторая) называет неудачу с точным определением срока нападения Гитлера на СССР «горестным примером большого просчета Верховного командования и лично И. В. Сталина». Далее он пишет: «О том, что нападение произойдет, знали и целеустремленно готовили страну к отражению агрессии, принимая все возможные меры повышения обороноспособности страны. Об этом много написано и сказано, в том числе и в первой книге „Генеральный штаб в годы войны“. Начала военных действий в июне, однако, не ждали. Считали, что Гитлер нападет на СССР гораздо позже этого времени. Срок нападения врага старались отдалить и принимали к тому самые разнообразные меры… Однако выполнить намерение не удалось, и нападение совершилось».
К этой оценке хотелось бы добавить некоторые соображения, связанные с дипломатическими аспектами, причем я, разумеется, вовсе не претендую на то, чтобы дать исчерпывающий ответ по этой проблеме, требующей дальнейшего изучения и анализа. Прежде всего тут надо выделить два момента. Во-первых, то обстоятельство, что Сталин очень не хотел войны и, по-видимому, это желание стало, как говорится, отцом мысли, то есть в какой-то мере повлияло на ход умозаключений при оценке создавшейся тогда внешнеполитической ситуации. Во-вторых, судя по всему, Сталин, считая Гитлера вероломным и авантюристичным игроком и предупреждая против недооценки этих его качеств, вместе с тем видел в нем хитрого буржуазного политика, умеющего ориентироваться в сложных дипломатических перипетиях и добиваться поставленных целей с наибольшими для себя выгодами. Конечно, в значительной мере успехи Гитлера в предвоенные годы были связаны с тем, что ему подыгрывали Англия и Франция, прощая фашистам все во имя осуществления провозглашенных ими планов войны против Советского Союза. Но вместе с тем нельзя было не видеть, что фашистский фюрер весьма умело использовал складывающуюся обстановку.
Еще в 1939 году И. В. Сталин хорошо понимал опасность военного конфликта с гитлеровской Германией, если наша страна станет первым объектом нацистской агрессии. Весьма знаменательно в этом отношении свидетельство бывшего посла Югославии в СССР Н. Гавриловича о его беседе с И. В. Сталиным. Об этой беседе посол рассказал 19 июня 1941 г. на обеде в американском посольстве в Анкаре. Запись высказываний Гавриловича была сделана первым секретарем посольства США в Турции Келли, и выдержка из нее содержится в первой части «Истории внешней политики СССР».
«Г-н Гаврилович сказал, — пишет Келли, — что во время его беседы со Сталиным последний сослался на переговоры с союзниками, предшествовавшие подписанию пакта о ненападении между Советским Союзом и Германией. Сталин заявил, что тот факт, что представители союзников на переговорах были второстепенными чиновниками, не облеченными полномочиями, позиция Польши, отказавшейся дать свое согласие на проход русских войск через Польшу и на перелет русских самолетов через нее, позиция французских военных, которая указывала на то, что Франция собирается остаться за линией Мажино и не предпринимать наступательных операций против Германий, ясно показали Советскому правительству, что всякое заключение пакта с союзниками привело бы к тому, что Советскому Союзу пришлось бы нести бремя германского нападения в момент, когда Советский Союз не мог бы справиться с германским нападением».
После молниеносных побед гитлеровской Германии в Европе и Африке Сталин, видимо, все больше стремился избежать военного столкновения с Германией или хотя бы оттянуть конфликт. В тот период Сталин, как известно, неоднократно подчеркивал, что надо готовиться к вооруженному конфликту с гитлеровской Германией, но вместе с тем он старался не допустить никаких действий, которые Берлин мог бы воспринять как «провокацию» и использовать в качестве повода для нападения на Советский Союз.
Весной 1941 года стало очевидным, что Германия не собирается совершать вторжение на Британские острова. Это, конечно, настораживало. Однако, с другой стороны, нельзя исключать, что, по мнению Сталина, прежде чем ввязаться в войну на Востоке, Гитлер должен был постараться понадежнее обеспечить свой тыл на Западе. Дальнейший ход событий показал, что отсутствие германо-английского политического сговора привело к тому, что правящие круги Лондона сочли более выгодным объединиться с Советским Союзом против «третьего рейха». Это сделало войну для Германии на два фронта реальностью. Однако, исходя из представления о Гитлере как о деятеле, умело планирующем свои дипломатические ходы, Сталин мог предположить, что он попытается оформить такой сговор за счет Советского Союза. На это, конечно, требовалось определенное время. Полет заместителя фюрера Рудольфа Гесса в Англию указывал именно на такое стремление берлинского руководства. Но миссия Гесса дала осечку, и можно было ожидать дальнейших попыток в том же направлении, причем подобного рода зондажи и переговоры могли бы тянуться многие месяцы, особенно учитывая внутриполитическую борьбу в самой Англии и сильные антигитлеровские настроения широких кругов британской общественности. Ее надо было как-то нейтрализовать, прежде чем реакционные силы Британии решились бы пойти на сделку с Гитлером.
Все это, возможно, подводило к выводу, что Гитлер не решится напасть на Советский Союз в ближайшее время, а скорее начнет войну лишь весной или летом 1942 года. Имело, по-видимому, значение и то, что ранее называвшиеся даты гитлеровского вторжения в нашу страну (в апреле и мае 1941 г.) проходили одна за другой, а нападения не состоялось. Миновала весна, наступило лето — гитлеровцы потеряли несколько благоприятных для них месяцев и вряд ли решатся начать военные действия, когда осень уже не за горами. На такого рода вывод накладывалось, как уже сказано, и страстное стремление Сталина избежать войны, побуждавшее все больше склоняться к данной версии. Именно исходя из всего этого Сталин, видимо, и утвердился во мнении, что в июне 1941 года, когда Англия еще твердо стояла на ногах и ее поддерживала мощь США, гитлеровского нападения на Советский Союз не будет. Об этом он сам впоследствии говорил Гопкинсу. Сталин допускал, что войны хотят генералы вермахта, что они пытаются нас спровоцировать, но, по-видимому, полагал, что Гитлер не пойдет на столь самоубийственную акцию, как война на два фронта. В действительности дело произошло по-иному.
В своих воспоминаниях маршал Г. К. Жуков подчеркивает, что просчет в оценке возможного времени нападения фашистской Германии на Советский Союз крайне негативно сказался на положении нашей страны. Этот отрицательный фактор, пишет Жуков, «действовал, постепенно затухая, но крайне остро, усугубив объективные преимущества врага, добавил к ним преимущества временные и обусловил тем самым наше тяжелое положение в начале войны». Маршал Жуков признает также, что «в период назревания опасной военной обстановки мы, военные, вероятно, не сделали всего, чтобы убедить И. В. Сталина в неизбежности войны с Германией в самое ближайшее время и доказать необходимость проведения в жизнь срочных мероприятий, предусмотренных оперативным и мобилизационным планами». Вместе с тем Жуков указывает, что в донесениях начальника разведывательного управления генерала Ф. И. Голикова и народного комиссара военно-морского флота адмирала Н. Г. Кузнецова, основывавшихся, в частности, на информации военного атташе советского посольства в Берлине генерала Туликова и военно-морского атташе капитана 1-го ранга Воронцова, содержались исключительной важности сведения относительно сроков вторжения гитлеровской Германии на территорию нашей страны. Однако выводы, которые делались из этих донесений, по существу, снимали все их значение, ибо приписывали приводимую информацию измышлениям «гитлеровской разведки», распространяемым с целью дезинформации и дезориентации советской стороны.
Даже в самый последний момент, вплоть до фактического начала гитлеровского вторжения в ночь на 22 июня 1941 г., Сталин не хотел верить, что война неизбежна, и, судя по всему, продолжал считать, что военные провокации исходят от генералов-милитаристов, а не от Гитлера. Когда вечером 21 июня Сталину доложили о сообщении немецкого перебежчика о том, что германское наступление начнется на рассвете, он засомневался:
— А не подбросили ли немецкие генералы этого перебежчика, чтобы спровоцировать конфликт?
После начала вторжения, прежде чем подписать приказ об ответных действиях, Сталин распорядился связаться с германским послом в Москве графом Шуленбургом. Он все еще надеялся, что действия на границе и налеты авиации на советские города — это провокация немецкой военщины и что разговор с послом, связанным непосредственно с германским правительством, прояснит ситуацию. Но ответ посла был не тот, какого ждал Сталин. Вернувшись после разговора с Шуленбургом, нарком иностранных дел Молотов мог сказать только одно:
— Германское правительство объявило нам войну…
Маршал Г. К. Жуков, описавший эту сцену, добавляет: «И. В. Сталин опустился на стул и глубоко задумался. Наступила длительная, тягостная пауза».
Впоследствии Сталин только один раз публично, хотя и несколько в косвенной форме, признал, какой удар был тогда нанесен его планам, сколь сильным было потрясение, испытанное им при известии о гитлеровском вторжении, какие опасения обуревали его в первый период Отечественной войны. Он сделал это признание лишь тогда, когда советский народ торжествовал победу над гитлеровской Германией. Выступая на приеме в Кремле 24 мая 1945 г. в честь командующих войсками Советской Армии и поднимая тост за здоровье русского народа, Сталин сказал: «У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941–1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода…»
В этих словах, произнесенных и напечатанных в «Правде» спустя четыре года после нападения гитлеровцев на нашу страну, при всей их сдержанности чувствуется отголосок того огромного потрясения, которое испытал Сталин в первые дни гитлеровского вторжения.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
В логове врага
Сразу же после нашего возвращения с Вильгельмштрассе были приняты меры по уничтожению секретной документации. С этим нельзя было медлить, так как в любой момент эсэсовцы, оцепившие здание, могли ворваться внутрь и захватить архивы посольства. Консульские работники занялись уточнением списков советских граждан, находившихся как в самой Германии, так и на территориях, оккупированных гитлеровцами.
В первой половине дня 22 июня в посольство смогли добраться только те, кто имел дипломатические карточки, то есть, помимо дипломатов, находившихся в штате посольства, также и некоторые работники торгпредства. Заместитель торгпреда Кормилицын по дороге из дома заехал в помещение торгпредства — оно находилось на Лиценбургерштрассе, но внутрь его не впустили. Здание торгпредства уже захватило гестапо, и он видел, как прямо на улицу полицейские выбрасывали папки с документами. Из верхнего окна здания валил черный дым. Там сотрудники торгпредства, забаррикадировав дверь от ломившихся к ним эсэсовцев, сжигали документы.
Уже много позднее один из участников этого эпизода рассказывал мне, что происходило в торгпредстве на Лиценбургерштрассе. В ночь на 22 июня там дежурили К. И. Федечкин и А. Д. Бозулаев. Сначала все шло как обычно, но к полуночи внезапно прекратилось поступление входящих телеграмм, чего никогда раньше не наблюдалось. Это был как бы первый сигнал, который насторожил сотрудников. Второй сигнал прозвучал уже не в переносном, а в самом прямом смысле: когда первые лучи солнца начали пробиваться сквозь ставни, которыми были прикрыты окна комнаты, раздался резкий сигнал сирены. Федечкин снял трубку телефона, связывавшего помещение с дежурным у входа в торгпредство.
— Почему дан сигнал тревоги? — спросил он.
— Толпа вооруженных эсэсовцев ломится в двери, — взволнованно сообщил дежурный. — Произошло что-то необычное. Я не открываю им двери. Они стучат и ругаются и могут в любой момент сюда ворваться.
Сотрудники знали, что стеклянные входные двери торгпредства не выдержат серьезного натиска. Предохранительная металлическая сетка тоже не служила надежным препятствием. Следовательно, гитлеровцы могли ворваться в помещение в любой момент. В считанные минуты они оказались бы у закрытой двери помещения, которая лишь одна была способна задержать эсэсовцев на какое-то время. Нельзя было терять ни минуты. Федечкин вызвал своих коллег Н. П. Логачева и Е. И. Шматова, квартиры которых находились на том же этаже, что и служебное помещение. Все четверо, плотно закрыв дверь, принялись уничтожать секретную документацию.
Печка в комнате была маленькая. В нее вмещалось совсем немного бумаг, и пришлось разжечь огонь прямо на полу, на большом железном листе, на котором стояла печка. Дым заволакивал комнату, но работу нельзя было прекратить ни на минуту — фашисты уже ломились в дверь.
Железный лист накалился докрасна, стало невыносимо жарко и душно, начал гореть паркет, но сотрудники продолжали самоотверженно уничтожать документы — нельзя было допустить, чтобы они попали в руки фашистов. Время от времени кто-либо подбегал к окну, чтобы глотнуть свежего воздуха, и тут же возвращался к груде обгоревших бумаг, медленно превращавшихся в пепел…
Когда эсэсовцы взломали, наконец, дверь и с ревом ворвались в помещение, все было кончено. Они увидели лишь груду пепла. Вскоре прибыл закрытый черный фургон, в него втолкнули всех четырех сотрудников и повезли в гестапо. Там их бросили в одиночную камеру. По нескольку раз в день их вызывали на допрос, били, пытаясь выведать секретную информацию, заставляли подписать какие-то бумаги. Так продолжалось десять дней. Но советские люди держались стойко, и фашисты ничего не добились. Их освободили только в день нашего отъезда из Берлина и доставили прямо на вокзал. Они еле держались на ногах. Когда я увидел хорошо знакомого мне прежде по работе в торгпредстве Логачева, то еле узнал его — он был весь в кровоподтеках…
В тот же день, 22 июня, около двух часов дня в канцелярии посольства внезапно зазвонил телефон. Из протокольного отдела министерства иностранных дел сообщали, что впредь до решения вопроса о том, какая страна возьмет на себя защиту интересов Советского Союза в Германии, наше посольство должно выделить лицо для связи с Вильгельмштрассе.
Поддерживать связь с Вильгельмштрассе было поручено мне, и об этом представителю протокольного отдела сообщили через полчаса, когда он снова позвонил в посольство. Записав мое имя, чиновник сказал: всем находящимся в посольстве лицам категорически запрещается выходить за пределы территории посольства. Представитель посольства, уполномоченный для связи с Вильгельмштрассе, может выезжать только для переговоров в министерство иностранных дел, каждый раз договариваясь об этом заранее, причем в сопровождении начальника охраны посольства — старшего лейтенанта войск СС Хейнемана. Через Хейнемана посольство в случае необходимости может связаться с министерством иностранных дел.
Как мы тут же выяснили, телефонная связь была односторонней: когда мы снимали трубку, аппарат по-прежнему молчал.
К вечеру 22 июня двор посольства походил на цыганский табор. С узлами и чемоданами сюда съехались работники посольства с семьями. Вокруг было много детей самого различного возраста — от грудных до школьников. В жилом корпусе места всем не хватило. Многие разместились в служебных кабинетах. Но это была лишь небольшая часть всей советской колонии, о которой мы должны были позаботиться. По уточненным спискам оказалось, что вместе с членами семей в Германии и на оккупированных территориях находится около тысячи советских граждан.
Спор на Вильгельмштрассе
Утром следующего дня мне было предложено явиться на Вильгельмштрассе для предварительных переговоров. Об этом сообщил нам обер-лейтенант Хейнеман, который сопровождал меня в машине до министерства.
Принявший меня чиновник протокольного отдела заявил, что ему поручено обсудить вопрос о советских гражданах в Германии и на оккупированных территориях. Он уже подготовил список, который, как я заметил, в основном совпадал с нашими данными. Чиновник сообщил, что все советские граждане интернированы. Однако, заявил он, проблема заключается в том, что в настоящее время в Советском Союзе находится только 120 германских граждан. Это главным образом сотрудники посольства и других германских учреждений в Москве.
— Германская сторона, — продолжал чиновник, — предлагает обменять этих лиц на такое же число советских граждан. Конкретные кандидатуры посольство может отобрать по своему усмотрению.
Я сразу же заявил решительный протест против подобного подхода к делу. Ведь именно тот факт, что в Советском Союзе осталось лишь 120 германских граждан, тогда как здесь находилось около тысячи советских людей, наглядно показывает, что не Советский Союз, как это утверждала германская пропаганда, а Германия заранее готовилась к нападению на нашу страну. Решив начать войну против Советского Союза, германские власти позаботились о том, чтобы отправить из Советского Союза в Германию как можно больше своих граждан и членов их семей. Я сказал, что доложу послу о германском предложении по обмену, но уверен, что мы не тронемся с места, пока всем советским гражданам не будет предоставлена возможность вернуться на Родину.
— Дискуссию об этом я вести не могу, — заявил чиновник, — я лишь передал то, что мне поручено. Должен также сказать, что германское правительство конфисковало в качестве военных трофеев все советские суда, оказавшиеся в германских портах.
Я поинтересовался, о каком числе кораблей идет речь.
— Точно не знаю, — сказал он и тут же, злорадно улыбаясь, добавил: — Кажется, в советских портах нет ни одного германского судна…
Впоследствии, уже вернувшись в Москву, мы узнали, что 20 и 21 июня германские суда, стоявшие в советских портах Балтийского и Черного морей, в срочном порядке, даже не закончив погрузки, ушли из советских территориальных вод.
Реакция всех наших дипломатов, когда они узнали о предложении гитлеровцев, была единодушной: мы решили категорически отклонить обмен на равное число лиц. При следующей встрече в министерстве мне было поручено заявить, что мы решительно настаиваем на том, чтобы всем советским гражданам было разрешено покинуть Германию. Лица, интернированные вне германской столицы, должны быть доставлены в Берлин и переданы нашему консулу.
На протяжении нескольких дней оставалось невыясненным, какая страна будет представлять интересы Советского Союза в Берлине. Между тем нельзя было терять времени, так как мы прекрасно понимали, какая трагическая судьба постигнет советских граждан, если им не удастся вернуться на Родину вместе с дипломатическим составом посольства. Надо было найти путь для связи с Москвой.
У некоторых из сотрудников посольства были среди немецких антифашистов хорошие друзья. Через них можно было передать информацию о создавшемся положении советскому посольству в какой-либо нейтральной стране. Связаться с ними было поручено работнику посольства Александру Михайловичу Короткову и мне. Но как это осуществить? Ведь теперь посольство было наглухо отрезано от внешнего мира. Ни одному человеку не разрешалось выйти за ворота. А за мной неотступно следовал обер-лейтенант Хейнеман, да и вообще я мог выезжать из здания только по вызову с Вильгельмштрассе.
Мы долго ломали себе голову над тем, каким образом кто либо из нас мог бы прорваться сквозь цепь эсэсовцев, окружавших здание посольства. Разведав обстановку, мы убедились, что попытка выбраться из посольства тайком, под покровом ночи, тоже не сулит успеха. К вечеру охрана усиливалась и фасад здания ярко освещался прожектором. За стеной дома, примыкавшего к зданию посольства, также патрулировали эсэсовцы с овчарками. Но все же надо было найти какой-то выход…
Эсэсовский офицер помогает большевикам
Обер-лейтенант войск СС Хейнеман был высокий, грузный и уже немолодой человек. Он оказался на редкость разговорчивым. На второй день нашего знакомства я уже знал, что у него больная жена, что брат его служит в охране имперской канцелярии, а сын Эрих заканчивает офицерскую школу, после чего должен отправиться на фронт: оказывается, это не очень-то устраивает Хейнемана, и он просит брата пристроить молодого Хейнемана где-нибудь в тылу.
Такие разговоры эсэсовского офицера, да к тому же еще и начальника охраны, с работником посольства в условиях войны несколько настораживали. Не хотел ли Хейнеман спровоцировать нас на доверительный разговор? А может быть, он в глубине души не относится к нам враждебно и — кто знает, — возможно, даже готов нам помочь? Во всяком случае стоило к нему повнимательнее присмотреться. Посоветовавшись, мы решили, что нужно попытаться наладить «дружеские» отношения с Хейнеманом, проявляя при этом величайшую осторожность, так как любой неверный шаг мог бы лишь осложнить положение посольства и дать повод гитлеровцам для провокации.
Как-то вечером, когда Хейнеман, обойдя вверенный ему караул, зашел в посольство спросить, не хотим ли мы что-либо передать на Вильгельмштрассе, я пригласил его отдохнуть в гостиной.
— Не согласитесь ли немного перекусить, — обратился я к Хейнеману. — За день вы, верно, устали, да и после обеда прошло много времени.
Хейнеман сперва отказался, ссылаясь, что это не положено при несении службы, но в конце концов согласился поужинать со мной.
В тот вечер у нас завязалась довольно откровенная беседа. После нескольких рюмок Хейнеман стал рассказывать, что, по сведениям его брата, в имперской канцелярии Гитлера весьма озабочены тем неожиданным сопротивлением, на которое германские войска наталкиваются в Советском Союзе. Во многих местах советские солдаты обороняются до последнего патрона, а затем идут врукопашную. Нигде еще за годы этой войны германские войска не встречали такого отпора и не несли таких больших потерь. На Западе, продолжал Хейнеман, все обстояло совсем по-другому — там была не война, а прогулка. В России — не то, и даже в имперской канцелярии кое-кто начинает сомневаться, стоило ли начинать войну против СССР.
Это уже походило на оппозицию, чего никак нельзя было ожидать от эсэсовского офицера. Может быть, подумалось мне, Хейнеман не до конца отравлен нацистским фанатизмом? Не скрывал мой собеседник и того, что в связи с сообщениями с Восточного фронта его особенно беспокоила судьба сына.
— Если его отправят на Восточный фронт, — несколько раз повторил Хейнеман, — мало шансов, что он выберется оттуда живым…
Будучи все еще не уверен в Хейнемане, я молча слушал. Лишь когда он заговорил о своем сыне, я заметил, что этой войны могло бы вообще не быть и что тогда был бы в безопасности не только его Эрих, но была бы сохранена жизнь многим другим немцам.
— Вы совершенно правы, — ответил Хейнеман, — зачем эта война?
Наш ужин продолжался около двух часов, и у меня с Хейнеманом установился неплохой контакт.
На следующий день я пригласил Хейнемана позавтракать. На этот раз он и не думал отказываться. Мне хотелось выяснить, насколько он может оказаться нам полезен. Нужно было лишь найти подходящий для такого обращения повод, который в случае отрицательной реакции можно было бы обратить в шутку.
Порассуждав по поводу сообщений с фронта, Хейнеман снова коснулся больной для него темы:
— В ближайшие дни, — начал он, — Эрих закончит офицерскую школу, а по существующему в Германии обычаю мне придется за свой счет заказать ему парадную форму и личное оружие. А тут еще болезнь жены, пришлось истратить почти все сбережения…
Заговорив о деньгах, Хейнеман сам сделал первый шаг в нужном направлении. Я решил этим воспользоваться. Конечно, тут был немалый риск. Если Хейнеман понял, что мы хотим получить от него какую-то услугу, то, естественно, должен был возникнуть вопрос о вознаграждении. И он мог заговорить о деньгах, чтобы прощупать нас. Не провокация ли это? Ведь «попытка подкупа» начальника охраны советского посольства оказалась бы для гитлеровской пропаганды как нельзя кстати. Но решение надо было принимать немедленно. Такой случай мог больше не представиться, а нам необходимо было как можно скорее прорваться сквозь эсэсовский кордон.
— Я был бы рад вам помочь, г-н Хейнеман, — заметил я небрежным тоном, — я довольно долго работаю в Берлине и откладывал деньги, чтобы купить большую радиолу. Но теперь это не имеет смысла, и деньги все равно пропадут. Нам не разрешили ничего вывозить, кроме одного чемодана с личными вещами и небольшой суммы на карманные расходы. Мне неловко вам делать такое предложение, но, если хотите, я могу вам дать тысячу марок.
Хейнеман пристально посмотрел на меня и ничего не сказал. Видимо, он тоже думал над тем, стоит ли делать следующий шаг. Помолчав, Хейнеман сказал:
— Я очень благодарен за это предложение. Но как же я могу так, запросто взять столь крупную сумму?
— Ведь я вам сказал, что деньги эти все равно пропадут. Вывезти их не разрешат. Их конфискует ваше правительство вместе с другими суммами, имеющимися в посольстве. Для «третьего рейха» какая-то тысяча марок не имеет никакого значения, а вам она может пригодиться. Впрочем, решайте сами, мне в конце концов все равно, кому достанутся эти деньги…
Хейнеман закурил и, откинувшись на спинку кресла, несколько раз глубоко затянулся. Чувствовалось, что в нем происходит внутренняя борьба.
— Что ж, пожалуй, я соглашусь, — сказал он, наконец. — Но вы понимаете, что ни одна живая душа не должна об этом знать!
— Это мои личные сбережения, — успокоил я Хейнемана. — Никто не знает, что они у меня есть. Я их вам передам — и дело с концом.
Я вынул бумажник и, отсчитав тысячу марок, положил их на стол. Хейнеман медленно потянулся за купюрами. Он вынул из заднего кармана брюк большое портмоне и, аккуратно расправив банкноты, спрятал их в одно из отделений. Затем вернул портмоне на свое место, вздохнул.
Итак, первый шаг был сделан.
Хейнеман сказал:
— Еще раз хочу поблагодарить вас за эту услугу. Я был бы рад, если бы имел возможность быть вам чем-либо полезным…
Можно было бы тут же воспользоваться этим предложением, но, подумав, я решил, что на сегодня хватит. Лучше сейчас не делать следующего шага, а просто закрепить завоеванные позиции.
— Мне ничего не нужно, — ответил я. — Вы просто мне симпатичны, и я рад вам помочь. Тем более, что фактически мне это ничего не стоит: все равно эти деньги я использовать не могу.
Мы еще посидели некоторое время, а когда Хейнеман стал прощаться, я пригласил его зайти днем, чтобы вместе пообедать.
В течение десяти дней нашей жизни в Берлине на положении интернированных посольство снабжал всем необходимым хозяин небольшой бакалейной лавки, у которого мы и раньше покупали продукты. Флегматичный, толстый и ворчливый, он неизменно стоял за прилавком в грязном лоснящемся фартуке. Теперь он каждое утро приезжал к нам на своем автофургоне в коричневой форме СА. Жены сотрудников посольства организовали поварскую бригаду и под руководством повара Лакомова готовили завтраки, обеды и ужины для всех, кто оказался в посольстве. Но на этот раз Лакомов был всецело занят обедом для Хейнемана. К его приходу стол в небольшой гостиной на первом этаже был накрыт. Продукты, привезенные лавочником-штурмовиком, дополняли русские закуски. И, конечно, — коньяк, вино и пиво. Я готовился не только хорошо угостить Хейнемана, но и собирался сделать ему соответствующее предложение. Об этом мы заранее посоветовались и наметили ход действий. Когда за десертом Хейнеман вернулся к утреннему разговору и вновь высказал пожелание оказать мне какую-либо услугу, я ответил:
— Видите ли, г-н Хейнеман, мне лично ничего не нужно. Но один из работников посольства, мой приятель, просил меня об одной услуге. Это чисто личное дело, и я даже не обещал, что поговорю с вами. Он, конечно, ничего не знает о наших отношениях, — успокоил я Хейнемана.
— А о чем идет речь? — поинтересовался Хейнеман. — Может быть, мы вместе подумаем, можно ли помочь вашему приятелю.
— Он подружился тут с одной немецкой девушкой, а война началась так внезапно, что он даже не успел с ней попрощаться. Ему очень хочется получить возможность хотя бы на часок выбраться из посольства, чтобы увидеть ее в последний раз. Ведь вы сами понимаете, что означает война. Эти молодые люди, возможно, больше никогда не увидятся. Вот он и просил меня помочь. Но ведь всем нам строго запрещено покидать посольство. Видимо, придется его разочаровать…
— Надо подумать, — возразил Хейнеман.
Закурив сигарету, он задумался. Несколько минут он молчал. Затем, как бы рассуждая вслух, сказал:
— Мои ребята, охраняющие посольство, знают, что я выезжаю вместе с вами, когда надо ехать на Вильгельмштрассе. Они уже привыкли к тому, что мы выезжаем вместе. Это для них обычное дело. Вряд ли они обратят внимание, если мы посадим сзади вашего товарища, выедем в город и где-либо высадим его, а затем через час подберем его и возвратимся в посольство. Пожалуй, такой вариант вполне реален, как вы думаете?
Из соображений предосторожности я сперва принялся уверять Хейнемана, что ему нет смысла идти на риск из-за такого пустячного дела. В конце концов мой товарищ как-нибудь переживет разлуку, не попрощавшись со своей девушкой. Но Хейнеман все более энергично настаивал на своем плане, и в конце концов я дал себя убедить в том, что эту операцию можно осуществить.
— Если все хорошо продумать и заранее подготовить, — убеждал меня Хейнеман, — то операция пройдет благополучно.
Конечно, полной уверенности в том, что эсэсовский лейтенант искренне согласился помочь большевикам, у нас не было. Оказавшись с нами за воротами посольства, он запросто мог арестовать нас, препроводить в гестапо и поднять шум вокруг «подкупа» офицера войск СС. Надо было по-прежнему проявлять осторожность. Прощаясь с Хейнеманом, я сказал, что все еще не уверен, стоит ли осуществлять его предложение. Я пригласил обер-лейтенанта зайти вечером.
Когда Хейнеман ушел, мы стали совещаться, нужно ли идти до конца. Ведь с этим был связан большой риск, чреватый немалым политическим ущербом. В то же время перед нами открывалась возможность связаться с Москвой. После долгой дискуссии и взвешивания всех «за» и «против» было все же решено пойти на эту операцию.
Обер-лейтенант Хейнеман был, как всегда точен. Мы ожидали его вместе с Коротковым, которого и надо было вывезти в город. Когда Хейнеман вошел, я представил своего друга:
— Знакомьтесь, Саша…
Они поздоровались за руку, и Хейнеман сказал:
— Так это вас обворожила наша девушка? Что же, я рад вам помочь.
Мы сели за стол. Хейнеман находился в отличном расположении духа. Он много шутил, рассказывал о своем сыне, о том, как они до войны ездили на лето в Баварские Альпы, где весело проводили время. Хейнеман то и дело подтрунивал над Сашей, вспоминая о том, как еще после первой мировой войны он, оказавшись в плену во Франции, влюбился в одну француженку, а потом должен был с ней расстаться.
— Хотя я уже и не молод, — сказал Хейнеман, — но я понимаю, что для вас означает возможность еще раз увидеться с этой девушкой.
Условились, что проведем намеченную операцию на следующее утро в 11 часов, когда Хейнеман после обхода караула зайдет в посольство. Предусмотрели мы и такую деталь: воспользоваться автомобилем «опель-олимпия», чтобы не привлекать к себе внимания на улицах Берлина. Хейнеман сказал, что заранее свяжется с министерством иностранных дел, чтобы выяснить, не собираются ли меня вызвать в утренние часы на Вильгельмштрассе. Помимо обсуждения этих деталей, все выглядело так, будто речь идет о каком-то невинном пикнике. Может быть, Хейнеман и в самом деле поверил в нашу версию о девушке, а если нет, то он умело делал вид, что помогает свиданию влюбленных. Но у нас на душе все же скребли кошки. Мы распрощались с Хейнеманом довольно поздно, все еще не будучи полностью уверены в том, как он поведет себя завтра и что вообще принесет нам следующий день.
Окно на волю
В назначенное время Хейнеман не появился. Это нас встревожило. Что будет, если он нас обманул и гестапо уже узнало о нашей с ним договоренности? Легко понять то нервное напряжение, в котором все мы находились, когда около двух часов дня у ворот раздался звонок. То был Хейнеман. Он извинился за опоздание: внезапно ухудшилось состояние здоровья его жены, и он был вынужден задержаться дома. Зато он договорился с министерством иностранных дел о том, чтобы из-за его личных дел сегодня никаких встреч на Вильгельмштрассе не назначали. Таким образом, мы можем спокойно осуществить наш план.
Мы зашли в приемную. Пока Саша угощал Хейнемана водкой, я отправился в гараж и выкатил к подъезду «опель». Хейнеман забрался на переднее сиденье рядом со мной. На заднем сиденье уже находился Саша. Курьер охраны распахнул ворота, Хейнеман козырнул эсэсовцам, и мы оказались на воле. Посмотрев в зеркало, я убедился, что за нами никто не увязался.
Мы заранее условились, что высадим Сашу у большого универсального магазина, где было легко затеряться в толпе. Спустя два часа мы должны были подобрать Сашу в другом месте. Когда машина остановилась, наш пассажир быстро вышел и тут же исчез в толпе. Мы сразу же двинулись дальше и долго кружили по улицам без всякой цели.
По Шарлотенбургскому шоссе мы направились к знаменитому берлинскому «функтурму» — радиомачте. Днем в этом излюбленном месте вечерних прогулок берлинцев было обычно пустынно, и мы решили там скоротать время. Сначала немного погуляли в парке, окружавшем радиомачту. В одном из его отдаленных уголков, около ящиков для отбросов, стояли две скамейки, выкрашенные в ядовито-желтый цвет. На спинках скамеек ярко выделялась черная буква «J» — первая буква слова «Jude». Как и во всех скверах и парках гитлеровской Германии, скамейки около мусорных ящиков были специально отведены для евреев.
В летнем кафе у подножия радиомачты Хейнеман решил проявить ко мне внимание и заказал две кружки мюнхенского пива. Он почти все время молчал в машине, после того как мы выехали из посольства, — видимо, тоже нервничал. Теперь к нему вернулась болтливость, и он без умолку рассказывал всякие забавные истории. Я слушал его рассеянно, думая о том, все ли сложится благополучно у Саши.
Наконец, настало время отправляться в условленное место. Подъезжая к Ноллендорфплатц, я издали увидел Сашу. Он стоял у витрины и, казалось, всецело был поглощен разложенными там товарами. Но краем глаза он следил за нами. Когда я притормозил, Саша подошел к краю тротуара, непринужденно помахал нам рукой и, сказав несколько приветственных слов, не спеша забрался в машину. Если кто и наблюдал за нами, то должен был подумать, что произошла случайная встреча друзей. Усаживаясь на заднее сиденье, Саша крепко сжал мое плечо. У меня весело екнуло сердце — значит, его миссия увенчалась успехом.
— Ну, как девушка? — спросил Хейнеман.
— Все в порядке, благодарю вас. Она так была рада меня увидеть, — последовал ответ.
Хейнеман стал отпускать какие-то шуточки, но мы слушали его невнимательно. Покружив немного по улицам, я подъехал к зданию посольства и нажал на клаксон. Ворота открылись. Оказавшись во дворе, мы вздохнули с облегчением.
Когда Хейнеман ушел, посвященные в эту операцию обсудили итоги. Она прошла успешно: нашим друзьям было передано короткое сообщение о сложившейся обстановке. Если не произойдет что-либо непредвиденное, то уже к вечеру наше послание будет в Москве. Но нам важно было знать это наверное, а также получить из Москвы подтверждение правильности нашей позиции. Поэтому было решено еще раз сделать вылазку, воспользоваться лазейкой на волю, открытой для нас обер-лейтенантом Хейнеманом.
Тост за победу
На следующий день я и Саша угощали Хейнемана завтраком. Он сообщил нам последние новости с фронта, циркулировавшие в имперской канцелярии и резко отличавшиеся от победных реляций, публиковавшихся немецкими газетами. В действительности положение на советско-германском фронте складывалось совсем не так, как это изображала гитлеровская пропаганда. Советские части оказывали ожесточенное сопротивление. Многие укрепленные районы, в том числе Брестская крепость, продолжали стойко держаться. Германские войска несли огромные потери. Все это, по словам Хейнемана, вызывает серьезную озабоченность в кругах имперской канцелярии.
Затем разговор зашел о нашей вчерашней вылазке в город. Хейнеман шутя спросил, не хочет ли Саша еще раз повидать свою приятельницу. Это нам и было нужно.
— Конечно, хотел бы, — сказал Саша. — Но мне неловко снова утруждать вас…
Хейнеман заметил, что хотя это и связано с некоторым риском, но еще раз, пожалуй, можно повторить.
— Если уж вы соглашаетесь, — сказал Саша, — то мне бы хотелось на этот раз иметь немного больше времени, часа три или четыре.
— Вижу, у вас, как говорят французы, аппетит приходит во время еды, — сказал Хейнеман. — Но я вас понимаю. Завтра — воскресенье, министерство иностранных дел закрыто, туда не вызовут, и весь день в нашем распоряжении. Давайте выедем часов в 10 и к обеду вернемся.
На следующее утро к назначенному часу «опель» уже стоял у ворот во внутреннем дворе посольства. Хейнеман пришел на десять минут раньше. Мы вышли во двор и сели в машину в том же порядке, что и в прошлый раз. Выехав за ворота, мы направились к метро на Уланштрассе. Там тоже всегда было людно. Я притормозил. Саша вышел из машины и исчез в подземке. Здесь же мы должны были встретиться без четверти два. Времени было много, и мы решили выехать за кольцевую автостраду. Остановились мы в лесу и, немного погуляв, вернулись в город. Хейнеман предложил куда-нибудь зайти перекусить. Оставив машину у ресторана на углу Курфюрстендам, мы прошли в просторный зал и стали подбирать подходящий столик. Вдруг раздался возглас:
— Эй, Хейнеман! Иди сюда.
За большим столом сидело шестеро офицеров-эсэсовцев. Стол был уставлен пивными кружками. Несомненно, эта компания хорошо знала Хейнемана. Эсэсовцы махали ему, приглашая за их столик. Что же делать? Не очень-то будет приятно, если обнаружится, что вместе с Хейнеманом по Берлину разгуливает интернированный советский гражданин. Но тут я услышал торопливый шепот Хейнемана:
— Я вас представлю как родственника жены из Мюнхена. Вы работаете на военном заводе и потому не распространяетесь о делах. Вас зовут Курт Хюскер. Будьте осторожны. Пойдемте…
Мы подошли к столику, где эсэсовцы — кто поднявшись во весь рост, а кто только едва привстав со стула — приветствовали нас возгласами «Хайль Гитлер!».
После того как Хейнеман представил меня, мы расселись и заказали всем по кружке пива. Разговор шел, конечно, о военных действиях на советско-германском фронте, о ночных налетах на Берлин, которые возобновила английская авиация. Эсэсовцы говорили об ожесточенных боях на советско-германском фронте, о сопротивлении, оказываемом советскими войсками, таком ожесточенном, какого немцы еще ни разу не встречали за всю войну. Я не сомневался, что знание языка, закрепленное за время работы в Германии, меня не подведет, и был благодарен Хейнеману за его выдумку насчет военного завода в Мюнхене. Это давало мне повод больше отмалчиваться. Во всяком случае, никто из эсэсовцев не заподозрил, что я не тот, за кого себя выдаю.
Один из эсэсовцев произнес короткую речь во славу «Великой Германии», фюрера и немецкого оружия, закончив ее словами:
— За нашу победу…
Все встали. Я тоже поднялся и, осушая кружку, думал о нашей победе над гитлеровскими захватчиками, вероломно напавшими на мою Родину. И, ставя кружку на стол, сказал:
— За нашу победу…
Хейнеман посмотрел на часы. Нам было пора ехать. На Уланштрассе Саша уже ждал нас. Сев в машину, он снова пожал мне плечо, и я понял, что его вылазка и на этот раз прошла успешно. Мы без помех вернулись в посольство.
Последняя встреча с Хейнеманом произошла 2 июля, в тот день, когда мы покидали Берлин. Прощаясь, он довольно откровенно дал понять, что понимает подлинный смысл проведенной с его помощью операции.
— Возможно, — сказал он, — когда-либо случится так, что мне придется сослаться на эту услугу, оказанную мной советскому посольству. Надеюсь, что это не будет забыто… Что потом сталось с Хейнеманом, мне неизвестно.
По оккупированной Европе
Вылазка, осуществленная с помощью обер-лейтенанта Хейнемана, дала нам возможность еще более решительно настаивать на нашей позиции в переговорах с германским министерством иностранных дел. Нажим, который продолжали на нас оказывать представители Вильгельмштрассе, оставался безрезультатным. Мы требовали эвакуации всей советской колонии, так как знали, что немецких дипломатов не выпустят из Москвы, пока наше требование не будет удовлетворено. Так проходил день за днем, а вопрос об эвакуации оставался открытым.
Когда в очередной раз меня вызвали на Вильгельмштрассе, я заметил, что чиновник протокольного отдела чем-то очень раздражен.
— Ну как, вы отобрали, наконец, тех, кому вы хотите дать возможность эвакуироваться? — спросил он резким тоном. Я ответил отрицательно.
— Напрасно вы с этим тянете. Рейхсминистр фон Риббентроп очень недоволен этим. Мы не можем допустить дальнейших оттяжек. К тому же мы заинтересованы в скорейшем выезде из Москвы персонала немецкого посольства…
Итак, подумал я, посол Шуленбург и его сотрудники никуда не выехали из Москвы. А раздраженный тон риббентроповского чиновника — еще одно подтверждение тому, что в Москве не собираются приступать к эвакуации германской колонии. Из всего этого можно было сделать только один вывод: надо держаться твердо и настаивать на своем. И я спокойно ответил:
— Никого отбирать не собираемся. Наша позиция неизменная: всем советским гражданам должен быть разрешен выезд на Родину. Ни на какую сделку мы в этом вопросе не пойдем, и если вы будете снова нас уговаривать, то зря потеряете время. Мы не тронемся с места, пока наше требование не будет выполнено.
Мой собеседник вновь стал уверять, что германская сторона на это не согласится, что в Советский Союз должно быть возвращено столько же советских граждан, сколько германских граждан находится в настоящее время в Москве. Их там 120. Следовательно, из Берлина смогут выехать тоже только 120 советских граждан. Их список советское посольство должно без промедления представить в министерство, и тогда можно будет договориться о деталях эвакуации.
Мне ничего не оставалось, как вновь повторить, что посольство придерживается своей точки зрения: все советские граждане должны вернуться на Родину. Все они находились здесь в служебных командировках в соответствии с советско-германскими соглашениями. Мы требуем отправки их на Родину.
Чиновник угрожал, что если посольство не согласится с германским требованием, то германские власти сами составят список из 120 человек, подлежащих эвакуации, и найдут способ заставить нас подчиниться. Тогда я порекомендовал ему не забывать о том, что соответствующие меры могут быть приняты и в отношении германских представителей, находящихся в Москве. Так мы и расстались, ни о чем не договорившись.
Возвращаясь после разговора на Вильгельмштрассе, я думал о том, что дело может принять неприятный оборот и что нам нелегко будет добиться своего, особенно в условиях отсутствия постоянной связи с Москвой. Но в посольстве меня ждало приятное известие. Товарищи, слушавшие английское радио, узнали, что достигнута договоренность относительно того, что советские интересы в Германии будет представлять Швеция, а германские в Москве — Болгария. Любопытно, что чиновник протокольного отдела, безусловно, уже знавший об этой договоренности, ни словом не обмолвился о ней. Может быть, он потому и оказывал на меня усиленное давление в вопросе об обмене, так как знал, что, когда посредники приступят к своим обязанностям, нам будет легче настаивать на своей позиции.
Когда в наше посольство явился шведский посредник, мы вручили ему текст телеграммы для передачи в Москву. Там говорилось о предпринятых нами шагах с целью добиться полной эвакуации из Германии советских граждан. К вечеру был получен ответ: нам сообщали, что посольство поступило правильно, настаивая на возвращении всех советских людей, и это должно быть осуществлено в порядке обмена на немецкую колонию, находящуюся в Советском Союзе. Уже на следующий день, как нам сообщил шведский представитель, в нейтральной прессе появились весьма нелестные для Берлина сообщения о попытке немцев задержать часть советской колонии. Теперь уже гитлеровцам стало ясно, что придется уступить. В министерстве иностранных дел согласились, наконец, принять составленные посольством списки советских работников и членов их семей, интернированных в Германии и на оккупированных территориях. Нам сообщили также, что все они, включая и шофера, задержанного в первый день войны, будут в ближайшие день-два доставлены в Берлин, где к ним будет допущен советский консул в сопровождении шведского представителя.
Действительно, через день это обещание было выполнено. Всех интернированных предъявили нам в лагере на окраине Берлина. Размещенные в бараках, окруженных колючей проволокой, они были голодны и плохо одеты, большей частью только в пижамах, в домашних туфлях, а то и босые.
Теперь мы узнали, что в ночь на 22 июня гестаповцы врывались в квартиры советских граждан, вытаскивали их прямо из постелей. Им не разрешали брать с собой ничего из вещей. Под конвоем они сразу же были отправлены в концентрационный лагерь.
Мы обеспечили интернированных советских граждан питанием, но экипировать их гитлеровцы не разрешили. Так, полуодетые, они и были погружены в общие сидячие вагоны специального состава, который, как нас заверили немцы, должен был следовать за поездом с советскими дипломатами.
Условия в поезде интернированных были очень тяжелые. Люди терпели неудобства, прежде всего из-за страшной скученности. Один мог прилечь только тогда, когда остальные трое, располагавшиеся на этой же скамейке, стояли. Питание было крайне скудное. Из-за отсутствия теплой одежды многие простудились: временами — особенно при переезде через Альпы — в вагонах было очень холодно.
Выезд советской колонии из Берлина был по соглашению, достигнутому через посредничество шведов, назначен на 2 июля. Дипломаты и сотрудники посольства эвакуировались в нормальных условиях. Им был предоставлен специальный поезд из спальных вагонов с мягкими двухместными купе. Наш маршрут шел через Прагу, Вену, Белград, Софию.
Согласно договоренности, обмен осуществлялся в следующем порядке: советская колония должна была перейти из Болгарии в Турцию, а немецкая — из Советского Закавказья также на турецкую территорию. Это должно было произойти одновременно и под наблюдением посредников. Но когда мы проехали Югославию и были уже на болгарской территории, представитель протокольного отдела германского МИД барон фон Ботман (он, как и большая группа вооруженных до зубов эсэсовцев, сопровождал нас на всем пути) сообщил нам, что получил из Берлина указание производить обмен не на болгаро-турецкой, а на югославско-болгарской границе.
— Ведь Болгария, — сказал он, — не является оккупированной страной, она находится в союзе с Германией. Поэтому, переезжая в Болгарию, советская колония покидает контролируемую рейхом территорию. Поскольку, однако, поезд с германскими представителями, эвакуирующимися из Москвы, еще не прибыл на советско-турецкую границу, оба состава с советскими гражданами не будут следовать дальше. Их возвращают назад, в югославский город Ниш, где они будут находиться в ожидании дальнейших указаний…
Мы заявили протест, но практически ничего не могли сделать.
Вскоре поезд остановился на каком-то полустанке, паровоз прицепили с противоположной стороны, и состав двинулся в обратном направлении. На подъездных путях всех станций к приходу нашего поезда выстраивались вооруженные эсэсовцы. Они же нас встретили и по прибытии в Ниш. Эсэсовцы, как обычно, стояли лицом к поезду, расставив ноги, в касках и с автоматами на груди. А за их спиной югославские железнодорожники потихоньку приветствовали нас, махая красными флажками.
В Нише наш состав загнали на запасной путь. Выходить из вагонов не разрешали. Вскоре мы узнали, что в Ниш прибыл и второй состав с советскими гражданами. Его пассажиров из вагонов переправили в концентрационный лагерь, расположенный в помещении старой казармы. Только через несколько дней советскому консулу и еще двум сотрудникам посольства разрешили навестить интернированных в этом лагере. За пять дней пути люди еще больше похудели, одни были простужены, другие страдали от желудочных заболеваний. Никакой медицинской помощи им не оказывали. Только после наших настойчивых требований посольскому врачу разрешили посетить лагерь и осмотреть больных. Нам также удалось добиться некоторого улучшения питания интернированных.
Пробные шары барона Ботмана
В дни стоянки в Нише нас особенно беспокоило отсутствие связи с Москвой. Поскольку в Нише не было шведских представителей, мы не могли рассчитывать на их посредничество. Мы опасались, как бы по какому-либо недосмотру немецкая колония не была бы выпущена в Турцию. Тогда она оказалась бы на нейтральной территории, в то время как мы при переезде из Югославии в Болгарию фактически по-прежнему оставались бы в руках гитлеровцев. Болгария, будучи союзницей гитлеровской Германии, фактически находилась на положении оккупированной страны, там были размещены крупные контингенты германских войск.
Мне было поручено отправиться в вагон фон Ботмана и вновь, заявить ему протест против намерения немцев произвести обмен нашей колонии на югославско-болгарской границе. Мы потребовали также, чтобы к нам из Белграда или Софии был приглашен шведский представитель, через которого мы хотели связаться с Москвой.
Барон фон Ботман — высокий, поджарый пожилой человек с моноклем в правом глазу — был чрезвычайно любезен. Выслушав меня, он сказал, что немедленно передаст наше заявление в Берлин и запросит новых инструкций. Что же касается шведского представителя, то организовать здесь с ним встречу вряд ли удастся — в Нише его нет. Нельзя ожидать, что он сможет сюда приехать из Белграда или Софии. Ботман заявил, что он лично понимает наше беспокойство, но вынужден действовать в соответствии с полученными из Берлина инструкциями. Попросив меня немного задержаться, он вынул из шкафчика бутылку рейнского и два бокала.
— Я давно искал возможность поговорить с вами, но все как-то не получалось, — сказал он, разливая вино. — Может быть, посидим немного. Все равно делать нечего…
Поскольку было ясно, что Ботман собирался мне что-то сообщить, я согласился задержаться. Стоило узнать, чем вызвана его необычная любезность. Начал он издалека. Говорил о трудностях и сложностях нашего путешествия, уверял, что он лично всячески старается облегчить наше положение. Он охотно помог бы и тем интернированным советским гражданам, которые едут во втором составе, но сталкивается с упорством эсэсовского офицера, который командует охраной. Поэтому ему не удалось пока что облегчить участь советских граждан, которые едут не в дипломатическом поезде. Ботман стал говорить о последних сообщениях с фронта и сообщил, что германские войска встречают сильное сопротивление со стороны советских армий. Затем он спросил:
— Могу ли я быть с вами откровенным?
— Конечно, — ответил я.
— Видите ли, — сказал Ботман, — я всегда считал, что и для Германии, и для России лучше жить в мире, чем воевать. Войны между нами всегда приносили выгоду лишь другим, а наши страны от этого только теряли.
Я сказал, что придерживаюсь такого же мнения и что Советское правительство делало все, чтобы предотвратить конфликт. Агрессию совершила Германия, и на нее ложится вся ответственность.
— Не будем сейчас спорить об ответственности, — возразил Ботман. — Я хотел вам сказать о другом. В Германии есть люди, причем весьма влиятельные, которые не хотят этой войны. Сейчас, когда на фронте идут ожесточенные бои, подобные рассуждения могут показаться странными. Но в конце концов надо смотреть не назад, а вперед и думать о том, что будет дальше. Может настать такой момент, когда для обеих сторон будет лучше прекратить военные действия и полюбовно договориться…
Я повторил, что Советский Союз не несет ответственности за происходящую сейчас войну. Германия вероломно напала на нашу страну, занятую мирным трудом. И нам ничего не остается, как дать отпор захватчику. Мы уверены, что победим в этой войне, а те, кто совершил нападение на Советский Союз, горько об этом пожалеют. Поэтому мне непонятно, о каком мирном урегулировании можно сейчас говорить.
— Видите ли, — продолжал мой собеседник, — я говорю о таком моменте, который еще не наступил, но который может произойти. Вы заявляете, что уверены в победе. А фюрер считает, что быстро справится с Советским Союзом. В то же время в Германии есть влиятельные круги, которые думают по-иному: они полагают, что ни та, ни другая сторона не сможет одержать победу. Тогда наступит момент, и, возможно, это будет не так уж нескоро, когда обе стороны сочтут целесообразным мирно урегулировать конфликт на определенных условиях. Эти германские круги хотели бы, чтобы их точка зрения стала известна в Москве…
В ответ на эти рассуждения я сказал, что, как мне представляется, никакого серьезного разговора на поднятую Ботманом тему быть не может, пока германские войска не покинут советскую территорию, а на это вряд ли сейчас можно рассчитывать. Так что разговор, который затеял Ботман, мне кажется совершенно беспредметным.
Но я, конечно, доложил руководству о пробных шарах Ботмана, и по возвращении в Москву об этом была составлена докладная записка наркому иностранных дел.
Разговоры с бароном Ботманом на эту тему состоялись еще несколько раз за время нашего пути. Он вновь и вновь уверял, что не одобряет нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, и специально подчеркивал, что это не только его личное мнение, но и точка зрения влиятельных кругов в Берлине. Он повторял, что дальнейшее развитие событий на фронте может привести к такому моменту, когда для обеих сторон станет очевидной необходимость прекращения войны, и мирного урегулирования, и тогда те лица, на которых ссылается Ботман, смогут оказать соответствующее влияние.
По-видимому, Ботман действительно выполнял поручение каких-то людей в Германии. Иначе трудно объяснить те рискованные разговоры, которые он вел. Он даже осмеливался рассказывать анекдоты о гитлеровцах. Рассказал, например, такой анекдот, который, впрочем, я и раньше слышал в Берлине: Гитлер инспектирует сумасшедший дом. Выстраивают всех умалишенных, и, когда появляется фюрер, они поднимают руку в фашистском приветствии и выкрикивают: «Хайль Гитлер!» Только стоящий в стороне человек никак не реагирует на появление фюрера. К нему подбегает разъяренный Гитлер и спрашивает, почему он не приветствует его. Тот отвечает: «Простите, но я не сумасшедший, я здешний врач».
Тот факт, что уже в первые недели войны какие-то влиятельные немцы решили через барона Ботмана пустить эти пробные мирные шары, мне представлялся весьма знаменательным. Барон фон Ботман, несомненно, принадлежал к числу дипломатов «старой школы». Таких в германском министерстве иностранных дел осталось немало. Они исправно служили Гитлеру, были, разумеется, националистами и приветствовали победы вермахта, но в глубине души им претили введенные Риббентропом грубые методы нацистской дипломатии. Надо полагать, идеи, которые развивал фон Ботман, разделяли и многие другие политики старшего поколения, которые с большой тревогой восприняли решение Гитлера о нападении на Советский Союз. Это подтверждает, в частности, трагическая судьба бывшего германского посла в Москве графа фон дер Шуленбурга. Присутствовавший в Кремле в момент передачи Шуленбургом Советскому правительству официального объявления войны Павлов рассказывал, что Шуленбург сделал это заявление со слезами на глазах. От себя этот старый дипломат добавил, что считает решение Гитлера безумием. Позднее Шуленбург оказался причастным к неудавшемуся покушению на Гитлера и был казнен.
Возвращение в Москву
Простояв в Нише несколько дней, мы, наконец, снова двинулись в путь. Гитлеровцам не удалось осуществить свой маневр. Им пришлось вернуться к первоначальному варианту обмена советской колонии на болгаро-турецкой границе.
В турецком городке Эдирне нас ожидали новые железнодорожные составы. Здесь же нас встречали представители советского посольства в Турции и консульства в Стамбуле. Советскую колонию приветствовал также местный губернатор. Вечером он устроил прием в честь советских дипломатов. На следующий день группа советских дипломатов выехала поездом в Анкару, где нас ждал специальный советский самолет. Москва предстала перед нами в суровом военном облике.
Уже на Ленинградском шоссе бросился в глаза укрепленный на торце одного из зданий плакат — строгое лицо русской женщины, в поднятой руке — текст военной присяги и надпись: «Родина-мать зовет!» Несколько раз наша машина обгоняла нестройно марширующие ряды ополченцев. Фасады домов причудливо раскрашены зелеными и коричневыми разводами, оконные стекла заклеены крест-накрест полосками бумаги. Ночью всех жильцов нашего дома поднял на ноги воздушный налет. Женщины и дети поспешили в подвал, мужчины поднялись на крышу. Мои первые трофеи: две небольшие зажигательные бомбы, потушенные в ведре с песком.
Воздушная оборона Москвы.
На следующий день — воскресенье — с утра вызвали на работу в Наркоминдел. Надо было срочно разобрать привезенную нами дипломатическую почту. Каждый час курьер приносил из ТАСС бюллетени с сообщениями телеграфных агентств. Большинство из них касается положения на советско-германском фронте. Чувствуется, что весь мир, затаив дыхание, следит за титанической схваткой на бескрайних просторах от Баренцева до Черного моря. Перерыв удается сделать лишь вечером, а ночью продолжаем разбор почты, составляем справки и записки о последних днях пребывания советской колонии в Берлине. В четыре утра отправляюсь домой, а в 9 часов — снова на работу.
Из работников аппарата Наркоминдела формируется отряд ополченцев. Каждый вечер ходим в парк в Марьиной роще на военные учения. Стрелковые занятия проводим за городом. Трижды в неделю ездим на электричке за 40 километров по Ярославской дороге. Там на опушке небольшого леса — стрельбище. Лежа в окопчиках, стреляем из винтовок по фанерным мишеням.
На площади Революции, напротив входа в метро, выставили на всеобщее обозрение немецкий бомбардировщик «Юнкерс», сбитый на подступах к Москве. Прохожие останавливаются, смотрят на фашистский самолет с черными зловещими крестами. Слышатся замечания:
— Молодцы наши зенитчики, приземлили такую махину. Значит, можем мы бить гитлеровцев. Мы им еще покажем…
Но немцы не прекращают своих ночных налетов. Несмотря на упорное сопротивление наших войск, они все дальше продвигаются на Восток. В военных сводках Советского информбюро появляются новые названия городов, новые направления вражеских ударов. Фронт медленно приближается к Москве. Теперь все понимают, что война будет длительной, что предстоят долгие, долгие месяцы упорных боев.
Рождение коалиции
НАЧАЛО
Новые задачи
Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз коренным образом изменило всю международную обстановку. Завершился процесс превращения второй мировой войны, начавшейся как конфликт двух соперничавших группировок империалистических держав, в войну антифашистскую, освободительную. Создались реальные предпосылки для образования военно-политического союза в составе СССР, Англии и США. Однако возникновение такого союза не было единовременным актом. Если говорить о юридической стороне образования антигитлеровской коалиции СССР, США, Англии и других антифашистских государств, то оно происходило в несколько этапов и завершилось в первой половине 1942 года. На протяжении всего этого периода Советский Союз вел целеустремленную борьбу за создание боевого союза народов в войне против фашизма.
С первых же дней после нацистского вторжения перед советской дипломатией встали новые задачи. Главной целью советской внешней политики стало обеспечение наиболее благоприятных международных условий для организации отпора врагу, а в дальнейшем для освобождения оккупированной им советской территории и полной победы над фашистскими державами. Советская дипломатия прежде всего должна была позаботиться о том, чтобы буржуазные государства, уже воевавшие против гитлеровской Германии и фашистской Италии, стали как можно более прочными союзниками СССР. Для этого нужно было добиться создания и укрепления коалиции государств, воевавших против нацистской Германии, и скорейшего открытия второго фронта в Европе. Необходимо было также приложить все усилия к тому, чтобы предотвратить нападение государств, сохранявших в то время официальный нейтралитет в советско-германском вооруженном конфликте: Японии, Турции, Ирана и других. Это требовало немалого дипломатического искусства. Наконец, задачей внешней политики СССР в тот период было оказание всей возможной помощи народам Европы, порабощенным фашизмом, в борьбе за свободу и восстановление их суверенных прав.
Достижение этих задач осложнялось тем, что правительства Англии и США преследовали в войне, помимо разгрома фашистских держав, и иные цели. Они, конечно, тоже стремились разбить Германию и ее союзников, устранить опасность германской мировой гегемонии и отстоять свою независимость. Вместе с тем правящие круги Лондона и Вашингтона прежде всего думали об ослаблении Германии как своего империалистического соперника и опасного конкурента на мировом рынке. США и Англия намеревались использовать войну для распространения своего влияния на возможно большее число стран во всех частях земного шара и хотели установить в послевоенном мире англо-американское господство.
Эти империалистические мотивы усиливались в политике западных держав по мере того, как приближался разгром Германии. Черчилль, возглавивший с мая 1940 года английское правительство, рассчитывал, что война ослабит Советское государство и по окончании военных действий оно окажется в зависимости от Англии и США. Это подтверждает, например, письмо Черчилля Идену от 8 января 1942 г., в котором он писал: «Никто не может предвидеть, каково будет соотношение сил и где окажутся армии-победительницы к концу войны. Однако представляется вероятным, что Соединенные Штаты и Британская империя не будут истощены и будут представлять собой наиболее мощный по своей экономике и вооружению блок, какой когда-либо видел мир, и что Советской Союз будет нуждаться в нашей помощи для восстановления страны в гораздо большей степени, чем мы будем тогда нуждаться в его помощи».
Победы «третьего рейха» в Западной Европе и Северной Африке, разгром Франции, порабощение Греции, оккупация Югославии, продвижение войск держав «оси» через Балканы к нефтяным источникам Ближнего Востока — все это представляло настолько огромную опасность для британского империализма, что сторонникам Гитлера в Англии стало весьма трудно, если не невозможно, осуществить давно вынашиваемые ими планы сговора с фашизмом, организации совместного «похода против большевизма». Гитлер и Муссолини в своих агрессивных устремлениях зашли слишком далеко, нанесли столь сильный удар по жизненным центрам Британской империи, что возможность сговора правящих кругов Лондона с заправилами «третьего рейха» стала нереальной.
Гитлер, очевидно, думал, что война против Советского Союза спишет все его прегрешения перед «западными демократиями». Он, однако, жестоко просчитался. Путь к новому сговору с английскими мюнхенцами оказался для него закрытым. Уже в день нападения Германии на Советский Союз — 22 июня 1941 г. — английское правительство заявило, что целиком поддержит борьбу советского народа против вторгшегося на территорию СССР врага. В этом, несомненно, нашли отражение и усилия советской дипломатии. Советское правительство не дало себя втянуть в конце 1940 года в обсуждение идеи раздела «британского имущества», выдвинутой Гитлером на переговорах с советской делегацией в Берлине с целью рассорить СССР с Англией и тем самым затруднить в будущем возможность совместных советско-английских действий против Германии. Последовательно проводя ленинскую внешнюю политику, Советская страна избежала изоляции на международной арене и подготовила условия для сотрудничества с западными державами в борьбе против общего врага.
Зондаж Лондона
В период, непосредственно предшествовавший началу Великой Отечественной войны, отношения с Англией, да и с США были у нас весьма натянутыми. Наркоминдел, естественно, поддерживал контакт с английскими и американскими дипломатами, аккредитованными в Москве. Соответствующие контакты сохранялись советскими посольствами в Лондоне и Вашингтоне. Происходило, в частности, прощупывание взаимных позиций держав касательно перспектив отношений с Германией, а также возможного развития военных действий. 18 апреля 1941 г. при встрече с заместителем наркома иностранных дел СССР А. Я. Вышинским британский посол Стаффорд Криппс вручил памятную записку, в которой пространно излагались соображения о возможных акциях английского правительства на ближайшее будущее. В записке давалось понять, что выбор Лондоном той или иной альтернативы зависит от позиции Советского Союза. Авторы записки не упустили также случая напомнить, что в Англии имеются влиятельные силы, готовые пойти на сговор с Гитлером. В памятной записке указывалось: «Определенным кругам в Великобритании могла бы улыбнуться идея о заключении сделки на предмет окончания войны на той основе, вновь предложенной в некоторых германских кругах, при которой в Западной Европе было бы воссоздано прежнее положение. Германии, однако, не чинилось бы препятствий в расширении ее жизненного пространства в восточном направлении. Такого рода идея могла бы найти последователей и в Соединенных Штатах Америки. В связи с этим следует помнить, что сохранение неприкосновенности Советского Союза не представляет собой прямого интереса для правительства Великобритании, как, например, сохранение неприкосновенности Франции и некоторых других западноевропейских стран…»
Как видим, чиновники Форин оффис, составившие эту записку, называли вещи своими именами. Иден, которые раньше, скажем, в период Мюнхена, скрывались, теперь излагались без всякого стеснения. Далее в британском документе говорилось: «Казалось бы, что развитие событий в Восточной Европе могло происходить по одному из двух вариантов: Гитлер мог бы удовлетворить свои потребности двояким образом — либо путем соглашения с Советским Союзом, либо, если он не сможет заручиться заключением и выполнением такого соглашения, путем применения силы, чтобы попытаться захватить то, в чем он нуждается. Что касается первого варианта, то правительство Великобритании было бы, очевидно, поставлено перед необходимостью усилить свою блокаду везде, где это представляется возможным. При втором варианте у нас был бы обоюдный интерес… и в этом случае правительство Великобритании, исходя из своих собственных интересов, стремилось бы по мере сил помешать Гитлеру в достижении его целей… Мы приложили бы поэтому все старания, чтобы оказать содействие Советскому Союзу в его борьбе, причем помощь давалась бы нами в экономическом смысле или другими практическими способами, например координированной воздушной активностью…»
В заключение в памятной записке указывалось, что если события пойдут по второму варианту, то следовало бы приступить к улучшению отношений между Англией и СССР, что «послужило бы на пользу и той и другой стороне».
В какой мере высказанная в памятной записке возможность сделки Лондона с Берлином отвечала в то время подлинному положению дел вопрос особый. Вряд ли лидеры английского империализма могли рассчитывать, что Гитлер пошел бы с ними на мировую без далеко идущих требований. Скорее можно было полагать, что претензии Берлина носили неприемлемый для британских правящих кругов характер, что даже при всем желании договориться с Гитлером им пришлось бы трижды подумать, прежде чем пуститься на подобную авантюру. С другой стороны, сам факт такого зондажа в Москве в апреле 1941 года весьма знаменателен. Видимо, уже тогда в Лондоне понимали, что без Советского Союза западным державам очень трудно было бы противостоять Гитлеру. Отсюда — стремление английской дипломатии прощупать почву в Советском Союзе.
Однако Криппс не получил никакой возможности для умозаключений. Вскоре, впрочем, вероломное нападение гитлеровской Германии на Советский Союз дало ответ на вопросы, интересовавшие Лондон: Англия и СССР оказались по одну сторону фронта.
Вокруг полета Гесса
В момент гитлеровского вторжения на советскую территорию посол Криппс находился в Лондоне. Спустя несколько дней — 27 июня он возвратился в Москву во главе специальной военно-экономической миссии.
В тот же день нарком иностранных дел Советского Союза принял Криппса, который торжественно представил ему весь состав миссии. Посол зачитал декларацию, в которой выражалось сочувствие Советскому Союзу, подвергнувшемуся нападению, и содержались, правда весьма неопределенные, обещания насчет помощи.
После этого состоялась беседа между послом Криппсом и наркомом иностранных дел. В ходе ее нарком поинтересовался, как представляет себе английское правительство сотрудничество британской миссии с Советским Союзом. Криппс ответил, что члены военной миссии должны войти в контакт с представителями советских военных кругов. При этом он тут же подчеркнул, что военная часть миссии не будет зависеть от него. Что касается экономической стороны дела, то, по мнению посла, следовало бы установить контакт с А. И. Микояном. Бросалось в глаза, что Криппс при этом не упомянул ни о каких политических предпосылках для предстоящих бесед военной и экономической миссий.
С советской стороны было обещано быстро дать ответ на предложение Криппса и высказано пожелание, чтобы английская печать не поднимала шумиху вокруг приезда в Москву английской миссии. Криппс обещал принять меры.
Затем разговор перешел на другие темы. В частности, посла попросили проинформировать советских руководителей о деле Рудольфа Гесса и о цели его прилета в Англию. Криппс ответил, что в прошлом Гесс был связан с пронацистски настроенными кругами в Англии и потому полагал, что с этой группировкой можно договориться и заключить мир. Криппс высказал убеждение, что Гесс прибыл в Англию не без ведома Гитлера.
— В настоящий момент, — закончил посол, — Гессом в Англии не интересуются. Английское правительство поддерживало различные слухи о Гессе и не сделало сразу официального заявления, стремясь держать германских лидеров в неведении… В действительности Криппс мог бы сообщить о деле Гесса гораздо больше, ибо в Лондоне отнеслись к его полету вовсе не так индифферентно, как пытался изобразить британский посол. Это видно хотя бы по дневникам, которые вел в то время постоянный заместитель министра иностранных дел Англии Александр Кадоган, показывающим, что с «первым заместителем фюрера», внезапно объявившимся в Англии, велись весьма серьезные переговоры.
«Воскресенье, 11 мая 1941 г. В 5.30 утра мне позвонили и сообщили следующее: германский пилот приземлился недалеко от Глазго и спрашивал герцога Гамильтона. Последний так этим потрясен, что летит в Лондон и хочет встретиться со мной сегодня вечером. Назначил беседу на 9.15 вечера. Однако полчаса спустя узнал, что премьер-министр послал человека встретить герцога на аэродроме и привезти его к себе в Чекерс.
Понедельник, 12 мая (пишу 13-го). Все эти годы вел дневник, но никогда не был так перегружен, как сейчас. Главным образом из-за прилета Гесса, который занял все мое время. Я работал 48 часов подряд. Беседовал с Антони Иденом и герцогом Гамильтоном, который подтвердил, что это действительно Гесс. Гамильтон знал его еще перед войной. Решили направить Эвона Киркпатрика для встречи с Гессом. Он согласился. Встретился с Киркпатриком около 1.15 дня и дал ему соответствующие инструкции. В 3.15 встретился с Иденом и Киркпатриком. Герцог прибыл в 4 часа, взял свой самолет и они отправились в 5.30. В 9 часов германское радио передало сообщение о Гессе. Вместе с Иденом отправились к премьер-министру, который уже слыхал о германском сообщении, согласно которому Гесс прибыл в Англию на благо человечества. Это выглядит как предложение о мире. Но нас это сейчас не устраивает и мы, видимо, будем вести линию, согласно которой Гесс якобы поссорился с Гитлером.
Вторник, 13 мая. Очень тяжелый день, главным образом из-за Гесса. Беседовал с Киркпатриком и продиктовал его отчет о беседе с Гессом. Несомненно, это действительно Гесс.
Среда, 14 мая. Гесс по-прежнему занимает все мое время. Премьер-министр решил, что ему следует сделать в парламенте заявление по поводу Гесса. Он диктовал при мне свой текст очень медленно. Все, что он первоначально написал, по моему мнению, абсолютно не годилось. Он сообщал то, что сказал нам Гесс (предложение о мире и т. д.). Но ведь именно этого ожидали от нас немцы. Я сказал, что если премьер-министр сделает такое заявление, то Гитлер вздохнет с облегчением. Премьер-министр не принял во внимание мои соображения. Я связался с Иденом, который встал на мою сторону. В конце концов премьер-министр, выведенный из себя, заявил, что он не сделает никакого заявления. Это самое лучшее, что могло произойти.
Четверг, 15 мая. На заседании кабинета в 12 часов премьер-министр признал нашу точку зрения правильной. Позднее премьер-министр позвонил мне и спросил, имею ли я уже отчет о беседе Киркпатрика с Гессом сегодня. Я мог получить этот отчет только позже.
Суббота, 17 мая. Гесс благополучно прибыл в Лондон сегодня утром. Каким-то образом вся пресса знала об этом.
Понедельник, 19 мая. Премьер-министр снова носится с идеей своего заявления по поводу Гесса. Настоял на том, чтобы прочесть его всему кабинету. К счастью, все единодушно были против этого заявления и, как я думаю, премьер-министр вообще отказался от этой идеи. Киркпатрик прибыл с очередным докладом. Премьер-министр согласился со мной, что нам следует тянуть переговоры с Гессом, делая вид, что мы действительно хотим их вести.
Вторник, 10 июня. В беседе с лордом Саймоном Гесс изложил свои мысли на бумажках и объяснил, почему он приехал в Англию… Если Англия не придет сейчас к соглашению с Германией, то она будет обречена, хотя фюрер будет сожалеть об этом. Если бы они смогли прийти к соглашению, то Европа была бы сферой германских интересов, а Британия могла бы сохранить свою империю. Гесс сделал небольшой намек на предстоящее нападение Германии на Россию…»
В английском руководстве шла, как видим, серьезная борьба вокруг Рудольфа Гесса. На каком-то этапе британские политики были даже готовы объявить публично о цели его прилета в Англию: добиться соглашения между Лондоном и Берлином на базе антикоммунизма и твердого обязательства Гитлера осуществить поход против Советского Союза.
Заявление, которое, как указывает Кадоган, хотел сделать Черчилль, создало бы новую ситуацию для англо-германских маневров и возможного сговора между Англией и Германией. Однако вся международная обстановка, тот факт, что Англия уже находилась в войне с Германией, так же как и усилившиеся к тому времени антифашистские настроения английской общественности, крайне затрудняли подобный поворот. Черчилль колебался. Тем временем нападение гитлеровской Германий на Советский Союз кардинальным образом изменило обстановку. Правящие круги Лондона увидели, что перед ними открывается другая перспектива действуя совместно с Советским Союзом, не только отвратить от Англии нависшую угрозу нацистского порабощения, но и нанести поражение «третьему рейху», амбиции которого стали представлять серьезную угрозу для интересов Британской империи.
Советско-английское соглашение
В ходе беседы между послом Криппсом и наркомом иностранных дел СССР состоялся также обмен мнениями в отношении позиции Соединенных Штатов. Криппс заявил, что за неделю до нападения Германии на СССР он побудил Черчилля связаться с Рузвельтом и обсудить с ним возможность возникновения такой войны. Криппс доверительно сообщил, что вернувшийся из Америки посол США в Англии Вайнант, а также Криппс и Черчилль составили речь, которую британский премьер-министр произнес по радио 22 июня, как только стало известно о вторжении Германии на советскую территорию. Вайнант был полностью удовлетворен выступлением Черчилля, ибо оно, по его мнению, отражало взгляды Рузвельта. Молотов спросил, не предупредил ли Гесс англичан о начале войны против СССР. Криппс отрицал это, заявив, что Лондон получил сведения из других источников. Тут британскому послу трудно было поверить, а из дневника Кадогана мы теперь видим, что Гесс прямо сказал об этом в беседе с лордом Саймоном.
Вечером 27 июня состоялась вторая беседа наркома иностранных дел с Криппсом. Нарком сообщил, что, после того как он доложил Советскому правительству о предложениях посла, возник вопрос, каковы будут масштабы и размеры помощи, которую стороны могут оказать друг другу.
— Британское правительство, — ответил Криппс, — готово сделать все, чтобы начать сотрудничество между обеими странами. Я не вижу причин, которые ограничивали бы размеры возможной экономической помощи, и вообще не вижу предела помощи, необходимой для достижения обеими странами общей цели.
Молотов заметил, что взаимную помощь необходимо обусловить каким-то соглашением на определенной политической базе. На такой базе можно было бы осуществить военное и политическое сближение между обеими странами. Криппс ответил уклончиво, дав понять, что к политическому соглашению с СССР английское правительство не готово. Такой ответ не мог удовлетворить советскую сторону, считавшую, что в создавшейся обстановке, когда обе страны имели общего врага, следовало думать не только о конкретных текущих вопросах, но и о проблеме более широкого военно-политического сотрудничества. Советский представитель спросил, правильно ли он понял, что английское правительство считает возможным в настоящий момент наладить сотрудничество лишь по специальным вопросам и не ставит задачу военно-политического сотрудничества? Криппс ответил, что, по его мнению, сейчас более необходимо достичь сотрудничества по военным и экономическим вопросам, а это создаст базу и для политического сотрудничества.
29 июня 1941 г. Молотов снова принял Криппса. Ссылаясь на информацию, полученную из Лондона о недавней беседе советского посла И. М. Майского с членом английского военного кабинета лордом Бивербруком, нарком поставил вопрос об усилении действий английской авиации против Германии и вообще в Западной Европе, а также о высадке десанта во Франции. Именно о возможности таких операций говорил Бивербрук. Криппс, несомненно, уже был информирован о встрече Майского с Бивербруком и получил инструкцию о том, как держать себя в случае возникновения такого вопроса. Он, не задумываясь, ответил:
— В принципе английское правительство готово сделать все, чтобы помочь Советскому правительству. Однако английский флот не может взяться за какую-либо операцию, не зная, в чем, собственно, она будет состоять. Следовательно, сейчас нельзя сказать что-то определенное относительно действий английских вооруженных сил, которые облегчили бы положение на советском фронте.
Как видим, вопреки словесным заявлениям Черчилля и членов его кабинета о стремлении английского правительства оказать Советскому Союзу самую широкую помощь, на практике никаких конкретных шагов не предвиделось. Во время встречи с членами английской военной миссии 30 июня 1941 г. нарком иностранных дел СССР вновь заявил о желательности усиления активности британской авиации на западе Германии и на оккупированной территории Франции, а также высадки десанта в упомянутом Бивербруком районе. На этот раз слово взял генерал Макферлан и заявил, что его задача состоит в том, чтобы поскорее получить подробные сведения о действиях и планах советских войск. Тогда, мол, и английское командование выработает соответствующий план операций.
В конце концов Советскому правительству все же удалось побудить правительство Англии пойти на договоренность, которая носила не только технический характер. 12 июля 1941 г. в Кремле состоялось подписание «Соглашения между правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в войне против Германии». В соглашении указывалось:
1. Оба правительства обязуются оказывать друг другу помощь и поддержку всякого рода в настоящей войне против гитлеровской Германии.
2. Они далее обязуются, что в продолжении этой войны они не будут ни вести переговоров, ни заключать перемирия или мирного договора, кроме как с обоюдного согласия.
Это соглашение может рассматриваться как начало антигитлеровской коалиции.
Однако оно действительно было только началом. Как мы видели, английская сторона нехотя пошла на то, чтобы связать себя военно-политическими обязательствами. В значительной степени это вызывалось следующим: среди британских военных экспертов и многих политических деятелей преобладало мнение, что Советский Союз не выдержит ударов гитлеровской военной машины, опирающейся на промышленный потенциал почти всей Западной Европы. Военные специалисты в Лондоне считали, что Красная Армия сможет сдерживать натиск гитлеровских полчищ лишь на протяжении пяти-шести недель.
Ознакомительный визит Гарри Гопкинса
Аналогичные оценки возможности Советского Союза противостоять гитлеровской Германии делались и в США. Разница заключалась лишь в том, что вашингтонские военные стратеги называли еще меньшие сроки «русского сопротивления». Рузвельт не очень доверял таким прогнозам и, стремясь получить информацию из первых рук, решил направить в Москву в качестве своего специального представителя Гарри Гопкинса. В то время Гопкинс находился в Англии, и Рузвельт поручил ему отправиться в Советский Союз прямо оттуда. Совершив на английском самолете почти двухсуточный перелет из Шотландии в Архангельск, Гопкинс во второй половине дня 28 июля прибыл в Москву. За несколько дней, проведенных в Москве, он имел встречи с руководителями Советского правительства, получил обстоятельную информацию о положении на советско-германском фронте, увидел решимость советского народа вести войну до победного конца. Эта решимость произвела на него глубокое впечатление.
Вечером, в день приезда, Гарри Гопкинс был принят главой Советского правительства И. В. Сталиным. В документах Белого дома, составленных Гопкинсом, содержание состоявшейся беседы излагается следующим образом.
Гопкинс сказал, что прибыл в качестве личного представителя президента, который считает Гитлера врагом человечества и потому желает оказать помощь Советскому Союзу в его борьбе против Германии.
— Моя миссия, — продолжал Гопкинс, — не является дипломатической, поскольку я не уполномочен оформить какую-либо договоренность. Мне поручено лишь выразить убежденность президента в том, что самое важное сейчас — это нанести поражение Гитлеру и гитлеризму. Президент и правительство США полны решимости оказать любую возможную помощь Советскому Союзу, причем как можно скорее.
Далее Гопкинс рассказал о роли, которую он играет в вашингтонской администрации, и добавил, что только что встречался в Лондоне с Черчиллем, который просил передать Советскому правительству те же чувства, которые выразил президент.
— Таким образом, наши взгляды совпадают, — сказал в заключение И. В. Сталин.
Гопкинс коснулся далее вопроса о помощи Советскому Союзу, заметив, что данную проблему следует разделить на две части. Во-первых, — это вопрос о том, что срочно требуется России от Соединенных Штатов и что Соединенные Штаты могли бы немедленно поставить. Во-вторых, следует выяснить, каковы потребности России на длительный период войны.
Согласившись с таким разграничением, глава Советского правительства зачислил в категорию непосредственных потребностей прежде всего зенитные орудия среднего калибра с боеприпасами. Требуются также крупнокалиберные пулеметы и винтовки. Говоря о потребностях длительной войны, глава Советского правительства отметил прежде всего высокооктановый бензин, во-вторых, алюминий для строительства самолетов.
В ходе беседы обсуждался также вопрос о поставке американских самолетов в Советский Союз… Сталин заметил, что Советскому Союзу прежде всего нужны бомбардировщики ближнего действия.
В заключение Гопкинс сказал, что хотел бы подчеркнуть, как высоко ценит народ Соединенных Штатов блестящее сопротивление Красной Армии, и выразил еще раз решимость президента сделать все, чтобы помочь Советскому Союзу в его героической борьбе против германских захватчиков. Сталин попросил передать президенту Рузвельту благодарность Советского правительства.
На следующий день после переговоров с представителями Красной Армии Гопкинс имел встречу с послом Англии сэром Стаффордом Криппсом. Они обсуждали главным образом предстоящую встречу Рузвельта и Черчилля в свете развития событий на советско-германском фронте. Как отмечает в своих записях Гопкинс, оба деятеля высказали мысль, что было бы хорошо, если бы президент и премьер-министр направили совместное послание Сталину в конце конференции (на ней была разработана Атлантическая хартия). Такое послание было отправлено спустя две недели. В нем говорилось: «Мы воспользовались возможностью, которую предоставило нам ознакомление с докладом Гарри Гопкинса, сделанным после его возвращения из Москвы, для того, чтобы посоветоваться друг с другом относительно наиболее подходящей помощи, которую обе страны могли бы оказать Вашей стране в ее замечательной обороне, которую она противопоставляет нацистской атаке».
Во второй половине дня 31 июля Гарри Гопкинс и американский посол в СССР Штейнгарт встретились с наркомом иностранных дел в Кремле. Обсуждался главным образом вопрос о положении на Дальнем Востоке. Как отметил в своем дневнике Гарри Гопкинс, у него сложилось впечатление, что советская сторона стремится не осложнять положение на своих дальневосточных границах и, по возможности, оттянуть конфликт с Японией. Вместе с тем Гопкинс сделал из этой беседы вывод, что было бы желательно, чтобы Соединенные Штаты в какой-то форме предупредили Японию, что, если та совершит нападение на Советский Союз, Соединенные Штаты окажут помощь жертве агрессии.
Нужды фронта и перспективы войны
Вечером Гарри Гопкинс был снова принят главой Советского правительства И. В. Сталиным. Беседа, которую переводил M. M. Литвинов, продолжалась три с половиной часа.
Гопкинс передал просьбу президента Рузвельта, который хотел из первых рук получить информацию о военных действиях на советско-германском фронте. И. В. Сталин привел данные о численности германских и советских дивизий, подчеркнув, что немцы могут мобилизовать до 300 дивизий, тогда как советская сторона сможет противопоставить им 350 дивизий. Они будут готовы принять участие в весенней кампании, которая начнется в мае 1942 года. Серьезное беспокойство причиняют немцам партизанские отряды, которые сейчас формируются и в будущем окажут большое влияние на ход войны. Сталин добавил, что немцы недооценили силу Красной Армии, и хотя они используют большое количество войск, в конце концов им самим придется перейти к обороне. Они уже сейчас в ряде мест закапывают свои тяжелые танки, создавая линию обороны. Обнаружено около 50 таких позиций. Немцы явно обеспокоены тем, что им приходится держать слишком большое количество войск на советском фронте. Они оголили свои позиции на Западе. Что касается морального духа советских войск, продолжал Сталин, то он очень высок. Люди понимают, что защищают свою землю, свои дома, свой народ. К тому же они действуют на знакомой им территории. Немцы уже убедились, добавил Сталин, что передвигать механизированные войска по территории России гораздо труднее, чем по бульварам Бельгии и Франции. Сталин сказал далее, что Красная Армия подверглась внезапному нападению. Он сам полагал, что Гитлер не нанесет удара именно сейчас. Немцы не предъявляли никаких требований Советскому Союзу. Советское правительство все же принимало все необходимые меры предосторожности и готовило страну к возможному нападению. Тем не менее в результате внезапного вторжения Советской стране пришлось на ходу организовывать оборонительную линию. Сейчас Красная Армия контратакует во многих местах.
Сталин сказал, что крупные советские танки гораздо лучшего качества, чем немецкие, — они уже неоднократно показывали свое превосходство. Что касается авиации, то Сталин признал, что немцы располагают мощными воздушными силами, но качество многих германских самолетов не первоклассное. Советским летчикам не так уж трудно уничтожать немецкие самолеты.
Глава Советского правительства отметил, что значительная часть предприятий, производящих вооружение и боеприпасы, находилась в европейской части СССР. В настоящее время станки из многих районов переправляются на Восток — там налаживается бесперебойное производство. Он подчеркнул, что немцы имеют значительные резервы продуктов питания, людской силы, военных материалов и горючего. По его мнению, одна из слабостей англичан заключается в том, что они недооценивали противника, он же не собирается этого делать. Поэтому он считает, что, обладая большими людскими резервами, имея достаточное количество продуктов питания и горючего, германская армия способна провести зимнюю кампанию в Советском Союзе, но к тому времени линия фронта стабилизируется.
Далее Сталин снова подчеркнул, что Красной Армии прежде всего необходимы зенитные орудия, чтобы охранять линии коммуникаций от нападения низко летающих германских самолетов. Второе, что особенно необходимо, — это алюминий, который нужен для производства самолетов. Третье — это пулеметы, а также зенитные орудия для обороны городов.
Гопкинс спросил, видели ли русские на фронте какие-либо итальянские дивизии или добровольцев Франко, о чем сообщалось в газетах западных стран. Сталин воспринял этот вопрос с улыбкой, заметив, что советские солдаты не прочь встретить итальянцев или испанцев, которые особой опасности не представляют. Главный противник — это немецкие солдаты.
Гопкинс сказал, что правительства Великобритании и США хотели бы сделать все возможное в ближайшие недели для того, чтобы прислать необходимые России материалы. Но, во-первых, их нужно произвести, во-вторых, необходимо время для доставки. Поэтому вряд ли что-либо реальное может быть сделано до поздней осени. Легче делать планы на длительный период, войны. Но чтобы выполнить эти долгосрочные планы, правительству США важно знать не только о военном положении в России, но и о типах, количестве и качестве ее оружия, так же как и о ресурсах сырья и производственных мощностях. Гопкинс добавил при этом, что правительства США и Англии вряд ли начнут отправку тяжелого оружия, например танков, самолетов и зенитных орудий, на русский фронт до того, как состоится соответствующая конференция представителей трех правительств, в ходе которой соответствующие стратегические интересы на каждом фронте, а также интересы каждой из стран будут полностью и совместно изучены. Поскольку сейчас идут тяжелые бои на советско-германском фронте, Гопкинс полагает, что лично Сталин вряд ли сможет уделить время такой конференции, пока положение не стабилизируется. Сталин ответил, что, как он полагает, фронт будет стабилизирован не позднее 1 октября. В своем дневнике Гопкинс поясняет, что при сложившейся в то время ситуации на советско-германском фронте он считал нецелесообразным проводить указанную выше конференцию. Он хотел оттянуть срок ее начала и созвать ее лишь тогда, когда станет ясен исход происходящих на фронте сражений.
Таким образом, хотя Гопкинс и не разделял пессимистических прогнозов американского командования, сомневавшегося в способности Красной Армии противостоять натиску гитлеровских полчищ, он все же не был уверен в том, удастся ли Советскому Союзу в скором времени стабилизировать фронт. Поэтому он и высказывался за оттяжку конференции, не желая связывать США и Англию определенными обязательствами. В итоге была достигнута договоренность о проведении таких переговоров между 1 и 15 октября.
Составляя отчет о своих беседах со Сталиным, Гопкинс выделил специальную часть, которую отправил под грифом «лично для президента». В этом разделе сообщалось следующее: «Закончив обзор военного положения, Сталин сказал, что хотел бы передать президенту следующее личное послание. Он собирался изложить его в письменном виде, но полагает, что лучше передать его президенту через меня, Сталин сказал, что величайшая слабость Гитлера в том, что он подавил и угнетает большое число народов, а также в аморальности его правительства. Сталин, убежден, что угнетенные народы, а также миллионы из числа наций, еще не завоеванных фашистской Германией, ожидают поощрения своей борьбы и моральной поддержки для сопротивления Гитлеру. Поэтому важно, чтобы Соединенные Штаты заняли твердую позицию против Гитлера. По мнению Сталина, дело неизбежно придет к тому, что Соединенные Штаты столкнутся в военном конфликте с Гитлером. Вступление Соединенных Штатов в войну нанесло бы серьезный моральный удар Гитлеру и в конечном счете привело бы к его поражению. Сталин: сказал, что он убежден, что война будет тяжелой и, по-видимому, длительной. Он сказал, что если Соединенные Штаты вступят в войну, то американский народ, надо полагать, будет настаивать на том, чтобы его армия вступила на поле боя в вооруженный конфликт с германскими солдатами, и он хотел бы передать через меня президенту, что он приветствовал бы американские войска на любом из фронтов».
Обещая передать это послание президенту Рузвельту, Гопкинс заметил, что его миссия распространяется исключительно, на вопросы снабжения и он поэтому не может обсуждать проблему вступления США в войну, что, по сути дела, зависит от самого Гитлера, от того, насколько непосредственно он затронет интересы Соединенных Штатов.
Оценивая эту встречу в Кремле, Гопкинс записал, что считает свою поездку в СССР и беседы с главой Советского правительства поворотным пунктом в отношениях, сложившихся в военное время между Англией и Соединенными Штатами, с одной стороны, и Советским Союзом — с другой. «Теперь, — писал он, — англо-американские расчеты не могут больше основываться на возможности скорого крушения России. После этого весь подход к проблеме должен серьезно измениться».
Выступая на пресс-конференции 31 июля перед отлетом из Москвы, Гарри Гопкинс заявил, что при встрече с советскими руководителями обсуждалось положение в Советской стране в связи с войной с Германией и что он, по поручению Рузвельта, сообщил Сталину: «Тот, кто сражается против Гитлера, является правой стороной в этом конфликте… США намерены оказать помощь этой стороне».
После поездки в Москву Гопкинс пришел к выводу, что Советский Союз способен не только выдержать натиск врага, но и нанести ему в дальнейшем серьезные удары. Доклад Гопкинса правительству США и лично президенту во многом способствовал формированию последующего курса администрации Рузвельта по оказанию помощи Советскому Союзу в борьбе против фашистской агрессии.
Поездка Гопкинса открыла дорогу для практических шагов американского правительства в этом направлении. Но все же оказание реальной помощи, конкретные поставки начались далеко не сразу. Разумеется, в условиях того времени при учете огромных расстояний, а также военных действий в Атлантике, в Северном море и на европейском континенте налаживание поставок было не простым делом. Однако подготовка к этому заняла слишком уж длительное время, главным образом потому, что правящие круги западных держав все еще продолжали колебаться. Они присматривались к тому, как будут развиваться события на советско-германском фронте. Они не верили еще полностью в способность советского народа противостоять гитлеровской агрессии.
В этих условиях визит Гарри Гопкинса в Москву и его трезвый анализ обстановки сыграли положительную роль. Он способствовал в конечном счете благоприятному развитию событий в процессе формирования антигитлеровской коалиции.
Определенное значение имела и большая работа, проделанная в Англии и США делегацией советских военных экспертов во главе с генералом, впоследствии маршалом Советского Союза Ф. И. Голиковым.
Миссия генерала Голикова
Советская военная миссия направилась в Англию в начале июля 1941 года. Она возглавлялась генералом Ф. И. Голиковым, и в ее состав входили адмирал H. М. Харламов, полковник Н. Н. Пугачев, полковник В. М. Драгун, майор А. Ф. Сизов, военный инженер 2-го ранга П. И. Баранов. Позднее в Лондоне к миссии присоединились советский военный атташе полковник И. А. Скляров и его помощник майор Б. Ф. Швецов. Генерал Голиков занимал в то время пост заместителя начальника Генерального штаба Красной Армии. В дни подготовки миссии к отъезду он встречался с наркомом иностранных дел В. М. Молотовым, с начальником Генерального штаба Красной Армии Б. М. Шапошниковым, наркомом обороны С. К. Тимошенко, наркомом внешней торговли А. И. Микояном. Незадолго до отъезда генерал Голиков был принят Председателем Государственного комитета обороны И. В. Сталиным, Таким образом, миссия получила всеобъемлющие инструкции.
Как писал впоследствии в своих воспоминаниях маршал Ф. И. Голиков, речь шла прежде всего о том, чтобы договориться с английским правительством об организации совместных действий против общего врага. Миссия, должна была поставить вопрос о последовательном осуществлении следующих операций:
Операция № 1 — создание общего с англичанами фронта на севере Европы. На этот фронт англичане могли бы направить военно-морской флот, авиацию и несколько дивизий пехотных войск. Советское правительство считало целесообразным занятие союзниками в ближайшее время островов Шпицберген и Медвежий, что было необходимо для обеспечения морских коммуникаций между СССР и Англией, а также между СССР и США.
Операция №2 — высадка значительного контингента английских войск на севере Франции. Правительство СССР поручило военной миссии при обсуждении этого пункта передать правительству Англии, что оно считает особенно важным осуществление «французской операции», то есть высадки английских войск на французской территории если не сейчас, то хотя бы через месяц.
Операция № 3 — боевые действия английских войск на Балканах. По срокам и по выделенным силам эта операция должна была занимать второстепенное место.
На первом заседании в Форин оффис с участием министра иностранных дел А. Идена и его заместителя Кадогана Голиков сделал заявление о решимости Советского Союза довести войну против фашистской Германии до полной победы. Вместе с тем он подчеркнул значение максимальной помощи союзников в виде незамедлительного проведения совместных боевых действий Англии и СССР на севере Европы и в районе Заполярья. Самое же главное, подчеркнул Голиков, это открытие второго фронта в Европе, высадка значительного контингента английских войск во Франции.
Однако Иден не стал вдаваться в существо дела и предложил, чтобы миссия обсудила все вопросы с начальниками главных штабов английских вооруженных сил. Основные переговоры проводились между миссией и начальником генерального штаба английских вооруженных сил генералом Диллом, начальником штаба военно-воздушных сил вице-маршалом авиации Порталом и начальником штаба военно-морских сил адмиралом Паундом.
Англичане явно не хотели прийти ни к какой договоренности; они не верили в успех борьбы советского народа. Поэтому к вопросу о сотрудничестве английских вооруженных сил с Красной Армией английские военные руководители подходили прежде всего с точки зрения своих военных планов, сводившихся в то время лишь к тому, чтобы не допустить распространения военных действий за пределы Европы. Все же в результате настойчивой работы, проделанной советской военной миссией, британское правительство в конце июля 1941 года приняло решение передать Советскому Союзу 200 истребителей «томагавк» из числа тех, которые поставили Англии Соединенные Штаты. 140 из них были уже в Англии, а 60 оставлены в США. Советская миссия добивалась, чтобы английское правительство передало СССР также 700 истребителей «томагавк», находившихся в то время в Каире, но англичане отказывались, ссылаясь на недостаток английских боевых самолетов на Ближнем Востоке.
В середине июля генерал Голиков был вызван в Москву, где получил указание отправиться в Соединенные Штаты. Перед тем, как вылететь туда, он был снова принят Сталиным. Во время беседы речь шла о вопросах военно-политического характера, а также о приобретении в США вооружения и стратегических материалов. Важным был вопрос о предоставлении США займа Советскому Союзу, надобность в котором могла возникнуть.
Переговоры советской военной миссии в США проходили не без трудностей. Дело осложнялось тем, что Лондон всячески препятствовал позитивным решениям. Англичане опасались, что если Соединенные Штаты согласятся предоставить СССР необходимые военные материалы, то это может сказаться на американских поставках Англии. Генерал Голиков, а также советский посол в США Уманский вынуждены были доложить Советскому правительству о препятствиях, с которыми сталкивалась советская миссия в ходе переговоров с представителями военного ведомства и государственного департамента США.
Определенное позитивное значение имела состоявшаяся 31 июля беседа генерала Голикова с президентом Рузвельтом. Она помогла продвинуть вперед переговоры о военных поставках.
В целом советская военная миссия проделала в Англии и США большую, полезную работу, которая способствовала дальнейшему налаживанию и развитию отношений между союзниками.
ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ
Проблема Ирана
Молодая Советская республика с первых лет своего существования установила с Ираном отношения, основанные на принципах добрососедства, дружбы и равноправного сотрудничества. Но война осложнила эти отношения. Порой они довольно резко обострялись. Советское правительство делало все от него зависящее, чтобы нормализовать обстановку, прилагало усилия к тому, чтобы удержать правящие круги Ирана от опрометчивых шагов, на которые их подталкивала гитлеровская агентура, действовавшая, в частности, и в самом Тегеране. Важно было, чтобы Иран сохранил нейтралитет. В этой связи выработка совместной с Англией и США позиции по отношению к Ирану явилась, как мне представляется, одним из первых практических испытаний механизма сотрудничества трех держав антигитлеровской коалиции.
Дружественный нейтралитет Ирана мог сыграть важную роль в борьбе против фашистских агрессоров. В самом деле, участие Финляндии в войне на стороне гитлеровской Германии, захват Норвегии и Шпицбергена весьма осложняли возможность использования морских коммуникаций, ведущих в северные порты Советского Союза. Хотя Англия и располагала в то время сильнейшим флотом, она не всегда обеспечивала достаточно эффективную охрану конвоев, следовавших до Баренцева моря. Поэтому Иран с его незамерзающим Персидским заливом и пересекавшей почти всю страну с юга на север железнодорожной магистралью мог стать важным дополнительным путем для поставок в Советский Союз вооружения, необходимого оборудования и продовольствия.
Задача союзников состояла в том, чтобы решить проблему Ирана совместными усилиями. Но для этого надо было прежде всего выработать согласованную позицию, что в тех условиях было далеко не так просто. Проблема Ирана оказалась, пожалуй, первым важным вопросом международного характера, по которому участники антигитлеровской коалиции смогли договориться, несмотря на различие исходных позиций.
В прошлом, еще задолго до трагической гибели в Тегеране российского посла Грибоедова, в чем, как известно, весьма неблаговидную роль сыграла британская Ост-Индская компания, в Иране находился весьма чувствительный узел противоречий между Англией и Россией; англо-русские соглашения, которых в отдельных случаях удавалось достичь в этом районе, были неустойчивыми. Британские представители в Тегеране постоянно строили антирусские, а после Октябрьской революции антисоветские интриги. Установление по инициативе В. И. Ленина дружественных отношений Советской страны с Ираном в Лондоне встретили с неприязнью и подозрением. Однако угроза, перед которой оказалась Англия в результате гитлеровской агрессии, побудила лондонских политиков более трезво смотреть на жизнь. Так возникла почва для советско-английского сотрудничества в отношении Ирана.
Поскольку неоднократные попытки убедить тегеранские власти в необходимости принять решительные меры против подрывной деятельности гитлеровской агентуры в Иране оказались безрезультатными, было решено временно ввести в эту страну советские и английские войска. Советский Союз предпринимал эту акцию самообороны в соответствии со статьей 6 советско-иранского договора 1921 года. Советские части должны были занять северные районы страны, а английские — юго-западные.
С Вашингтоном же длительное время не удавалось найти общий язык. Помню частые приезды в то время в Наркоминдел, на Кузнецкий мост, посла США Штейнгардта. Он все вновь и вновь пускался в рассуждения о том, что по отношению к Ирану не следует принимать резких мер, что нужно постараться уговорить старого Реза-шаха пресечь деятельность гитлеровской агентуры и установить более тесные отношения с союзниками. Тогда, дескать, можно будет решить и все другие вопросы, в частности проблему налаживания транспортного пути через Иран от Персидского залива до советской границы.
Советские официальные лица объясняли американскому послу, что дело обстоит гораздо сложнее, чем это представляется Вашингтону. Отношения правящей верхушки Ирана с фашистскими державами, особенно с Германией, зашли слишком далеко. Немаловажное значение имели личные симпатии старого Реза-шаха к Гитлеру. К тому же проблема налаживания транспортировки грузов через Иран была куда более трудной, чем это могло показаться на первый взгляд. Трансиранская дорога требовала серьезной модернизации, кое-где надо было перешить путь, укрепить полотно, проложить новые пути, расширить станции и депо, значительно увеличить подвижной состав и т. д. Наконец, очень важно организовать охрану дороги и перевозимых по ней грузов. В ряде мест железнодорожное полотно проходит по пустынной и дикой местности, в горах и ущельях, в районах, по существу контролировавшихся враждующими с центральным правительством племенами. Шейхи некоторых из этих племен были подкуплены гитлеровской агентурой, и они могли устраивать по ее заданию диверсии и налеты на железную дорогу, особенно когда перевозка военных грузов по ней усилится. Центральные иранские власти даже при доброй воле не могли обеспечить безопасность перевозок.
В конце концов Вашингтон не стал возражать против советско-английской акции в Иране.
После того как операция по вводу советских и английских войск в Иран была успешно завершена, глава Советского правительства И. В. Сталин писал премьеру У. Черчиллю: «Дело с Ираном, действительно, вышло неплохо. Совместные действия британских и советских войск предрешили дело. Так будет и впредь, поскольку наши войска будут выступать совместно. Но Иран только эпизод. Судьба войны будет решаться, конечно, не в Иране». Он имел при этом в виду необходимость скорейшего открытия второго фронта во Франции.
За несколько недель до ввода войск проводилась дипломатическая подготовка этой акции. Иранского посла в Москве Мохаммеда Саеда часто приглашали в Наркоминдел, где его внимание обращали на факты подрывных действий германской агентуры в Иране. Насколько я могу сейчас судить, посол Саед был человеком здравых взглядов. Думаю, что его заверения в том, что развитие ирано-советской дружбы — цель его жизни, были искренними. Но как дипломат, как представитель тегеранского правительства он, разумеется, должен был выполнять соответствующие инструкции, а смысл их был прост: отрицать все и вся и уверять, будто у Советского Союза нет никаких оснований для беспокойства по поводу положения в Иране.
Саед много лет провел в Советском Союзе, отлично говорил по-русски (он получил высшее образование еще в Петербурге) и прекрасно понимал опасности, связанные с политической обстановкой в Иране. Его, несомненно, глубоко беспокоила напряженность, возникшая между Ираном и Советским Союзом. И когда он как лояльный представитель правительства своей страны передавал полученные из Тегерана инструкции, глаза его, умные и печальные, как бы говорили, что сам он знает подлинную цену этим малоубедительным заверениям.
Провозгласив бредовую идею мирового господства германской расы, Гитлер рассчитывал после порабощения Советского Союза захватить и страны, лежащие к югу от Кавказского хребта. С этой целью он заранее забросил свою подрывную агентуру в Иран. После нападения фашистов на Советский Союз эта агентура активизировалась. Она имела возможность действовать все более нагло, хотя правительство Ирана уже 26 июня 1941 г., то есть через четыре дня после нападения Гитлера на СССР, обязалось соблюдать «полный нейтралитет».
Советское правительство трижды — 26 июня, 19 июля и 16 августа 1941 г. — обращало внимание иранского правительства на опасность, которую представляла собой подрывная деятельность гитлеровской агентуры. Иранская сторона игнорировала предостережения Москвы. В этих условиях Советскому правительству ничего не оставалось, как прибегнуть к мерам, предусмотренным советско-иранским договором 1921 года. В советской ноте Ирану от 25 августа 1941 г. говорилось: «За последнее время и, особенно, с начала вероломного нападения на СССР гитлеровской Германии, враждебная СССР и Ирану деятельность фашистско-германских заговорщических групп на территории Ирана приняла угрожающий характер. Пробравшиеся на важные официальные посты более чем в 50 иранских учреждениях германские агенты всячески стараются вызвать в Иране беспорядки и смуту, нарушить мирную жизнь иранского народа, восстановить Иран против СССР, вовлечь его в войну с СССР».
Агенты германского рейха, говорилось далее в ноте, организовали диверсионные и террористические группы для переброски их в Советский Азербайджан и Советский Туркменистан, а также для подготовки военного переворота в Иране.
Нацистские агенты под руководством германского посольства в Тегеране создавали в ряде пограничных пунктов Ирана вооруженные банды для переброски в Баку и другие важнейшие пограничные советские пункты с целью организации диверсий на территории СССР. Германские агенты имели в своем распоряжении во многих районах Ирана склады оружия и боеприпасов. В частности, в северной части страны, в окрестностях Мианэ, они заготовили для своих преступных акций свыше 50 т взрывчатых веществ.
В окрестностях Тегерана они проводили военную подготовку своей агентуры. На иранские военные предприятия под видом инженеров и техников проникли десятки германских разведчиков. Среди них особенно крупную роль играли представители немецкой фирмы «Фридрих Крупп» в Иране, эсэсовец Ортель, директор представительства фирмы «Сименс», известный германский шпион фон Раданович, его заместитель Кевкин, служащий конторы «Иранэкспресс» в Пехлеви Вольф, являвшийся одновременно руководителем германской разведки на севере Ирана и на Каспийском побережье. «В своей преступной работе, — указывалось в советской ноте, — эти германские агенты самым грубым и беззастенчивым образом попирают элементарные требования уважения к суверенитету Ирана, превратив территорию Ирана в арену подготовки военного нападения на Советский Союз».
Далее в советской ноте говорилось, что «создавшееся в Иране, в силу указанных обстоятельств, положение чревато чрезвычайными опасностями. Это требует от Советского Правительства немедленного проведения в жизнь всех тех мероприятий, которые оно не только вправе, но и обязано принять в целях самозащиты, в точном соответствии со ст. 6 Договора 1921 г.».
В ноте от 25 августа 1941 г. Советское правительство разъясняло также, что эти меры никоим образом не направлены против иранского народа. «Советское Правительство, — подчеркивалось в ноте, — не имеет никаких поползновений в отношении территориальной целостности и государственной независимости Ирана. Принимаемые Советским Правительством военные меры направлены исключительно только против опасности, созданной враждебной деятельностью немцев в Иране. Как только эта опасность, угрожающая интересам Ирана и СССР, будет устранена, Советское Правительство, во исполнение своего обязательства по советско-иранскому Договору 1921 г., немедленно выведет советские войска из пределов Ирана».
После ввода советских и английских войск обстановка в Иране изменилась. Удалось сорвать гитлеровские планы в отношении Ирана и вообще Ближнего и Среднего Востока, обеспечить транспортный путь в СССР из Англии и США через Персидский залив и Трансиранскую дорогу.
30 января 1942 г. был подписан договор между СССР, Великобританией и Ираном. В договоре указывалось, что союзные государства «совместно и раздельно обязуются уважать территориальную целостность, суверенитет и политическую независимость Ирана» и что войска союзных государств должны быть выведены с иранской территории после прекращения всех военных действий между союзными государствами и Германией. Это обязательство, как известно, было выполнено.
В телеграмме, направленной Председателем Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталиным Председателю Совета министров Ирана М. А. Форуги по случаю подписания договора, выражалась твердая уверенность, что «новые союзные отношения между нашими странами укрепят узы дружбы между иранским народом и народами Советского Союза и будут успешно развиваться в интересах наших стран». В ответном послании, адресованном главе Советского правительства, иранский премьер высказал убеждение, что «этот договор будет способствовать укреплению дружественных связей и лучшему пониманию между нашими двумя странами и что Иран сможет извлечь выгоду из сотрудничества, основанного на уважении взаимных интересов».
Миссия Бивербрука-Гарримана
Важным этапом в развитии отношений между тремя главными участниками антигитлеровской коалиции стали переговоры, которые велись в конце сентября — начале октября 1941 года во время пребывания в Москве англо-американской миссии, возглавлявшейся лордом Бивербруком (Англия) и Авереллом, Гарриманом (США). По сути дела, это была первая трехсторонняя конференция, обсуждавшая практические проблемы англо-американо-советского сотрудничества и принявшая важные практические решения. Цель миссии Бивербрука и Гарримана состояла в том, чтобы выяснить, в каких конкретно материалах нуждается Советский Союз, и достичь с Советским правительством договоренности относительно возможных поставок.
В первый же день пребывания миссии в Москве Бивербрук и Гарриман были приняты главой Советского правительства. При этом Гарриман передал И. В. Сталину личное послание президента Рузвельта. Оно гласило:
«Уважаемый г-н Сталин,
это письмо будет вручено Вам моим другом Авереллом Гарриманом, которого я просил быть главой нашей делегации, посылаемой в Москву.
Г-ну Гарриману хорошо известно стратегическое значение Вашего фронта; и он сделает, я уверен, все, что сможет, для успешного завершения переговоров в Москве.
Гарри Гопкинс сообщил мне подробно о своих обнадеживающих и удовлетворительных встречах с Вами. Я не могу передать Вам, насколько мы все восхищены доблестной оборонительной борьбой советских армий.
Я уверен, что будут найдены пути для того, чтобы выделить материалы и снабжение, необходимые для борьбы с Гитлером на всех фронтах, включая Ваш собственный.
Я хочу воспользоваться этим случаем в особенности для того, чтобы выразить твердую уверенность в том, что Ваши армии в конце концов одержат победу над Гитлером, и для того, чтобы заверить Вас в нашей твердой решимости оказывать всю возможную материальную помощь.
Искренне Ваш
Франклин Д. Рузвельт»В ходе состоявшейся беседы, которая воспроизводится в документах госдепартамента, советская сторона подробно сообщила о положении на советско-германском фронте, а также изложила свои первоочередные потребности в военных материалах. Английский и американский представители высказали соображения о том, что конкретно можно было бы безотлагательно предоставить Советскому Союзу из английских и американских запасов.
Сделав обзор военного положения, И. В. Сталин добавил, что немцы будут добиваться превосходства в танках, поскольку без поддержки танков германская пехота слаба по сравнению с советской. Из необходимой Советскому Союзу боевой техники Сталин поставил на первое место танки, на второе — противотанковые орудия, затем средние бомбардировщики, зенитные орудия, истребители и разведывательные самолеты, а также колючую проволоку.
Обращаясь к лорду Бивербруку, глава Советского правительства особо подчеркивал значение более активных действий Англии и ее военного сотрудничества с Советским Союзом. Он высказал мысль, что англичане могли бы послать свои войска в СССР, чтобы присоединиться к советским и сражаться с ними на Украине. Бивербрук подчеркнул, что британские дивизии концентрируются в Иране и что эти войска могут быть в случае необходимости передвинуты на Кавказ.
Сталин отклонил это предложение, решительно заявив:
— На Кавказе нет войны, война идет на Украине.
Бивербрук предложил, чтобы советский и британский генеральные штабы обменялись мнениями о возможности различных стратегических решений. Гарриман поднял вопрос о состоянии сибирских аэродромов и о возможности поставок американских самолетов через Аляску. Сталин пообещал представить соответствующую информацию. Когда Гарриман предложил, чтобы поставляемые через Сибирь самолеты пилотировались американскими экипажами, Сталин возразил, сославшись на то, что это все еще недостаточно освоенный и слишком опасный маршрут.
Затем была затронута проблема послевоенного урегулирования. Сталин высказал мысль, что немцы должны возместить тот ущерб, который они причинили. Бивербрук уклонился от прямого ответа, заметив, что «сначала нужно выиграть войну».
Во время следующей встречи между главой Советского правительства и руководителями англо-американской миссии сложилась весьма острая ситуация. И. В. Сталин выразил недовольство тем, что Англия и США изъявили готовность поставить лишь совсем незначительное количество материалов и оборудования, необходимых Советскому Союзу, несущему главное бремя войны.
Бивербрук и Гарриман всячески оправдывались; пытаясь доказать, что Лондон и Вашингтон делают все возможное для оказания помощи Советскому Союзу. Каждая из сторон осталась при своем мнении.
После этой встречи Бивербрук и Гарриман отправились в английское посольство, где, видимо, обменивались мнениями относительно сложившейся ситуации. Каким-то образом произошла утечка информации. На следующий день гитлеровская пропагандистская машина распространила сообщение о том, что в ходе переговоров в Москве между Советским Союзом, с одной стороны, Англией и Соединенными Штатами — с другой, возникли серьезные противоречия. «Западные буржуазные страны, — уверяло берлинское радио, — никогда не смогут договориться с большевиками». Когда в тот же день в 6 часов вечера Бивербрук и Гарриман снова встретились со Сталиным, он упомянул о сообщении нацистской пропаганды и с юмором заметил, что теперь от них троих зависит доказать, что Геббельс лгун. Затем был рассмотрен перечень материалов, которые могли бы быть немедленно предоставлены Советскому Союзу Англией и США. Англичане и американцы взяли некоторые обязательства относительно дополнительных поставок. Бивербрук спросил Сталина, доволен ли он согласованным сейчас списком. Сталин ответил, что список его удовлетворяет.
Во время этой беседы глава Советского правительства подчеркнул также, что было бы желательно получить побольше автомашин, особенно так называемых «джипов». Он добавил, что в нынешней войне та страна, которая сможет производить наибольшее количество моторов, окажется в конечном счете победительницей.
Упомянув о том, что в ближайшем будущем отношения между США и СССР станут еще более тесными и деловыми, Гарриман сказал, что, как он надеется, Сталин будет без колебаний обращаться непосредственно к президенту Рузвельту по любому вопросу, который Советское правительство сочтет достаточно важным. Гарриман добавил, что Рузвельт будет приветствовать такой деловой обмен телеграммами, который уже установился между Рузвельтом и Черчиллем. Сталин ответил, что рад слышать это и готов, в случае необходимости, обращаться к президенту. Бивербрук сказал, что было бы очень важно, если бы Сталин и Черчилль встретились с глазу на глаз. Встреча закончилась в весьма дружественной атмосфере.
В ходе этих переговоров были приняты важные решения, способствовавшие дальнейшему сплочению держав — участниц антигитлеровской коалиции. Правда, Лондон по-прежнему отказывался предпринять активные военные действия против гитлеровской Германии, но логика совместной борьбы все более настоятельно требовала таких действий, приводя к серьезным разногласиям в правящей верхушке Англии.
Любопытно в этой связи письмо, которое лорд Бивербрук направил Гарри Гопкинсу вскоре после окончания московской встречи.
«После моего возвращения из России, — говорилось в письме, — примерно в середине октября 1941 года я поставил вопрос об открытии второго фронта с целью помочь России. Я считаю, что наши военные лидеры демонстрируют свое постоянное нежелание предпринять наступательные действия. Наше вступление в Иран — это незначительная, операция… Единственные операции, которые мы еще предприняли, — это бомбардировка на западе Германии и налет истребителей на территорию Франции, что никак не может помочь России и повредить Германии в нынешней кризисной ситуации.
Наша стратегия все еще основывается на давно устаревшей точке зрения на войну, не учитывающей срочные потребности и возможности настоящего момента. Не было никаких попыток использовать новые факторы, возникшие благодаря усиливающемуся русскому сопротивлению.
В настоящее время имеется, по сути дела, только одна военная проблема — как помочь русским. А именно по этому вопросу генштабисты ограничиваются заявлением, что ничего сделать нельзя. Они постоянно указывают на трудности, но не вносят никаких предложений о том, как эти трудности преодолеть.
Бессмысленно утверждать, что мы ничего не можем сделать для России. Мы можем сделать, как только мы решим пожертвовать долгосрочными прожектами, которые мы все еще лелеем, но которые стали абсолютно устаревшими в день, когда Россия подверглась нападению.
Сопротивление России предоставило нам новые возможности. По-видимому, оно оголило Западную Европу от германских войск и сделало невозможным для держав „оси“ предпринимать где-либо наступательные действия в других местах. Сопротивление России создало близкую к взрывной ситуацию в каждой оккупированной немцами стране, сделав западноевропейское побережье уязвимым для атаки британских войск.
Тем не менее создалось положение, при котором немцы могут безнаказанно передвигать свои дивизии на Восток. Произошло это потому, что континент все еще рассматривается нашими генералами как район, недоступный для британских войск. А восстания в оккупированных странах рассматриваются как преждевременные или заслуживающие порицания, когда они происходят, поскольку мы сейчас в таких восстаниях не заинтересованы.
Начальники штабов хотели бы, чтобы мы ждали, пока не будет пришита последняя пуговица к мундиру последнего солдата из тех, которых мы готовим для вторжения. Они полностью игнорируют открывающиеся ныне возможности.
Они при этом забывают, что вторжение немцев в Россию принесло нам новые опасности наряду с новыми возможностями. Ведь если мы не поможем России сейчас, может случиться, что она не выдержит натиска, и Гитлер, свободный от всякой угрозы с Востока, сконцентрирует все свои силы против нас на Западе. Он не будет ждать, пока мы подготовимся. И мы допускаем большую ошибку, ожидая чего-то сейчас. Мы должны нанести удар сейчас, пока не поздно».
Как известно, эта точка зрения не нашла поддержки ни в Лондоне, ни в Вашингтоне.
1 октября на заключительном заседании Московской конференции были подведены итоги проделанной работы. Глава советской делегации В. М. Молотов в своей речи сказал, что конференция в несколько дней «пришла к единодушному решению по всем стоявшим перед нею вопросам».
Подчеркивая политическое значение конференции, глава советской делегации отметил, что отныне против гитлеровцев создан мощный фронт свободолюбивых народов во главе с Советским Союзом, Англией и Соединенными Штатами Америки.
С таким мощным объединением государств Гитлер еще не имел дела. С советской стороны была выражена уверенность, что великий антигитлеровский фронт будет быстро крепнуть и что нет такой силы, которая сломила бы этот фронт; против гитлеризма создалось объединение таких государств, которые найдут пути и средства, чтобы стереть с лица земли нацистский гнойник в Европе.
От имени англо-американской миссии выступил Гарриман. Он сказал, что на конференции решено предоставить в распоряжение Советского правительства практически все то, в отношении чего были сделаны запросы советскими военными и гражданскими органами. Советское правительство снабжает Великобританию и Соединенные Штаты большим количеством сырьевых материалов, в которых эти страны испытывают неотложную нужду. В полной мере рассмотрен вопрос о транспортных возможностях и разработаны планы увеличения объема грузопотоков по всем направлениям.
Гарриман отметил сердечность, которой была проникнута конференция, что сделало возможным заключение соглашения в рекордно короткое время…
На этом же заседании В. М. Молотов, Аверелл Гарриман и лорд Бивербрук подписали протокол о поставках и было также согласовано коммюнике об окончании работы конференции. В нем говорилось, что конференция представителей трех великих держав — СССР, Великобритании и Соединенных Штатов Америки «успешно провела свою работу, вынесла важные решения в соответствии с поставленными перед нею целями и продемонстрировала полное единодушие и наличие тесного сотрудничества трех великих держав в их общих усилиях по достижению победы над заклятым врагом всех свободолюбивых народов». Миссия Бивербрука — Гарримана отбыла из Москвы 2 октября 1941 г. На следующий день глава Советского правительства направил премьер-министру Англии Черчиллю послание следующего содержания:
«Приезд в Москву британской и американской миссий и особенно личное возглавление этих миссий лордом Бивербруком и г. Гарриманом имели весьма благоприятное значение…
Не скрою от Вас, что наши теперешние потребности военного снабжения ввиду ряда неблагоприятных обстоятельств на нашем фронте и вызванной этим эвакуацией новой группы предприятий не исчерпываются согласованными на конференции решениями, не говоря уж о том, что ряд вопросов отложен до окончательного рассмотрения и решения в Лондоне и Вашингтоне, но и сделанная Московской конференцией работа обширна и значительна. Надеюсь, что Британское и Американское Правительства сделают все возможное, чтобы в будущем увеличить месячные квоты, а также чтобы уже теперь при малейшей возможности ускорить намеченные поставки, поскольку предзимние месяцы гитлеровцы постараются использовать для максимального нажима на СССР».
В послании Рузвельту говорилось:
«Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам глубокую благодарность Советского Правительства за то, что Вы поручили руководство американской делегацией столь авторитетному лицу, как г. Гарриман, участие которого в работах Московской конференции трех держав было так эффективно.
Я не сомневаюсь, что Вами будет сделано все необходимое для того, чтобы обеспечить реализацию решений Московской конференции возможно скоро и полно, особенно ввиду того, что предзимние месяцы гитлеровцы наверняка постараются использовать для всяческого нажима на фронте против СССР.
Как и Вы, я не сомневаюсь в конечной победе над Гитлером стран, которые теперь объединяют свои усилия для того, чтобы ускорить ликвидацию кровавого гитлеризма, для чего Советский Союз приносит теперь столь большие и тяжелые жертвы.
С искренним уважением
И. Сталин»Выступая 6 ноября 1941 г. с докладом на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся, И. В. Сталин высоко оценил значение переговоров с англо-американской миссией.
— Недавняя конференция трех держав в Москве при участии представителя Великобритании г. Бивербрука и представителя США г. Гарримана, — сказал он, — постановила систематически помогать нашей стране танками и авиацией. Как известно, мы уже начали получать на основании этого постановления танки и самолеты. Еще раньше Великобритания обеспечила снабжение нашей страны такими дефицитными материалами, как алюминий, свинец, олово, никель, каучук. Если добавить к этому тот факт, что на днях Соединенные Штаты Америки решили предоставить Советскому Союзу заем в сумме 1 миллиарда долларов, — то можно сказать с уверенностью, что коалиция Соединенных Штатов Америки, Великобритании и СССР есть реальное дело, которое растет и будет расти во благо нашему общему освободительному делу…
Приезд в Москву Бивербрука и Гарримана, их непосредственное знакомство с положением в Советском Союзе во многом способствовали развитию сотрудничества трех держав в борьбе против общего врага.
Наркоминдел переезжает в Куйбышев
Утром 16 октября я, как обычно, пришел в 9 часов на работу и занялся текущими делами. Поначалу ничто, казалось, не предвещало особых событий. Еще в первой декаде октября основной архив Народного комиссариата иностранных дел был отправлен в Куйбышев, где на случай осложнения ситуации под Москвой готовились помещения для Наркоминдела, а также для иностранных посольств и миссий, аккредитованных в Советском Союзе. Но в последние дни создавалось впечатление, что положение на фронте под Москвой стабилизировалось, и хотелось думать, что эвакуации еще оставшихся в столице правительственных учреждений не произойдет. Но все сложилось по-иному. Около 11 часов утра в отделе, где я работал, раздался телефонный звонок, и всем было передано распоряжение немедленно собрать дела и самые необходимые личные вещи и отправляться на Казанский вокзал. Хотя подсознательно мы этого ждали, но внезапно полученное указание покинуть Москву произвело впечатление грома среди ясного неба. Всех нас охватила тревога. Пока мы собирали последние бумаги, кто-то принес неприятное известие, что ночью гитлеровцам, несмотря на упорное сопротивление защитников Москвы, удалось прорваться на ближних подступах к столице и что именно этим вызвано решение о немедленной эвакуации.
У подъезда наркомата на Кузнецком мосту выстроились покрытые брезентом грузовики. Падал снег. Сотрудники носили в машины папки с бумагами. Здесь же толпились и те из членов семей, которые по различным причинам не эвакуировались раньше. Им было разрешено взять с собой лишь по чемоданчику. Разместились по машинам быстро и организованно. Вереница грузовиков, выехав на Садовое кольцо, направилась к Комсомольской площади. Прохожих было мало. Многие предприятия вместе со своим персоналом эвакуировались из столицы еще ранней осенью.
В высоком зале ожидания Казанского вокзала собралось довольно много пассажиров. Здесь уже находилась группа сотрудников аппарата Коминтерна во главе с Д. З. Мануильским. Они: тоже уезжали из Москвы. Посадка еще не была объявлена. Люди бродили по залу, собирались группами, обсуждали последние события. Я подошел к Мануильскому. В окружении нескольких человек он вел оживленную дискуссию. Я расслышал вопрос какого-то молодого человека, который допытывался, что означает внезапный отъезд из Москвы, — следует ли понимать, что столица оказалась под серьезной угрозой и, может быть, будет сдана врагу? Дмитрий Захарович решительно отрицал такое предположение.
— Положение, конечно, серьезное. Но дело не только в этом. Решение о переезде вовсе не следует понимать как свидетельство намерения сдать Москву. И ничего внезапного в этом нет. Все готовилось заранее. Теперь решили, что нужно создать более подходящие условия для нормальной работы правительственных учреждений, международных организаций и иностранных представительств, находящихся в Советском Союзе.
— А говорят, что немцы подошли совсем близко, — не унимался молодой человек.
— Я твердо уверен, — отвечал Мануильский, — что защитники столицы выполнят свой долг и гитлеровцы не пройдут. Но остается фактом, что фронт проходит очень близко и потому в городе должны остаться лишь самые необходимые органы управления. Вместе с тем важно, чтобы все организации и учреждения нормально функционировали. В нынешнее сложное время это особенно необходимо. Долг каждого из нас — взять себя в руки, быстро и организованно перебазироваться на новое место и продолжать работу…
В Куйбышеве Наркоминделу было предоставлено здание, где раньше помещался техникум. Жилье получили в доме поблизости — в помещении какого-то ликвидированного учреждения. И в том и в другом здании еще продолжался ремонт. Но мы все же разместились. Поначалу особенно было трудно без телефонов. Но вскоре их установили. Посольства в большинстве случаев обосновались в старых купеческих особняках.
Первые дни на новом месте были заняты в основном приведением в порядок архива и решением всевозможных текущих, главным образом технических, дел.
6 ноября по случаю 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в Куйбышевском оперном театре состоялся торжественный вечер. На нем присутствовал дипломатический корпус. Доклад сделал первый заместитель народного комиссара иностранных дел А. Я. Вышинский. На следующий день все узнали, что в Москве состоялось торжественное собрание, на котором с докладом выступил И. В. Сталин, а на Красной площади был проведен парад войск, уходивших прямо от Мавзолея В. И. Ленина на фронт защищать столицу нашей Родины.
Через два дня Б. Ф. Поддероб, В. Н. Павлов и я получили указание вернуться в Москву, где при остававшемся там наркоме иностранных дел В. М. Молотове была создана оперативная рабочая группа.
Рано утром 9 ноября мы вылетели на двухмоторном транспортном самолете из Куйбышева и к середине дня приземлились на аэродроме близ Ногинска. Из-за активности немецкой истребительной авиации. Центральный аэропорт и Внуково не принимали. Из Ногинска долго добирались на машине по заснеженному и обледенелому шоссе. Находясь в Москве, я стал свидетелем как тревожных дней конца ноября, так и ликования москвичей в связи с блестящей победой советских войск у ворот столицы в ходе контрнаступления, развернувшегося в начале декабря 1941 года.
Мы — участники оперативной группы при наркоме иностранных дел — ничего не знали о готовившемся контрнаступлении. Поэтому сообщение о поражении гитлеровских войск под Москвой было для нас приятной неожиданностью. Помню, как, придя утром в Кремль после нескольких часов сна в холодном подвале здания Наркоминдела на Кузнецком мосту и развернув еще пахнувшую типографской краской «Правду», я увидел это волнующее сообщение. Рядом были помещены фотографии: засыпанная снегом искореженная боевая техника врага, нацистские вояки с поднятыми руками, сдающиеся в плен. Все мы давно хотели услышать такое сообщение, ждали его, твердо верили, что враг будет остановлен у стен столицы и отброшен назад. И вот наконец это свершилось! Трудно передать чувство радости и душевного подъема, которое все мы испытали при этом известии.
США ВСТУПАЮТ В ВОЙНУ
Пёрл-Харбор
На рассвете 7 декабря 1941 г. без предупреждения японские самолеты, поднявшиеся с незаметно пересекших Тихий океан авианосцев, обрушились на американскую военно-морскую базу Пёрл-Харбор на Гавайских островах, где находилось крупное соединение военно-морского флота США. В результате бомбового удара несколько американских кораблей взорвалось и затонуло, большое число самолетов было выведено из строя. В Соединенных Штатах до сих пор продолжается спор о том, насколько японское нападение было тогда неожиданным для высшего руководства в Вашингтоне. Многие полагают, что в Белом доме знали за несколько дней и уж, во всяком случае, за несколько часов до начала атаки о намерениях Японии. Эта точка зрения подкрепляется, в частности, тем, что американская разведка раскрыла японский дипломатический код и расшифровала секретные телеграммы, поступавшие из Токио японскому послу в столице США.
В этой связи представляет интерес составленная одним из ответственных работников Белого дома Робертом Шервудом запись, где воспроизводится обстановка накануне японского нападения на Пёрл-Харбор.
В овальном кабинете Белого дома президент Ф. Д. Рузвельт и Гарри Гопкинс обсуждали текущие дела. В это время в кабинет вошел командор Шульц, бывший в то время помощником капитана Бардела, который, в свою очередь, был помощником президента по военно-морским делам. Шульц принес пакет с дешифрованной телеграммой японского правительства своему послу в Вашингтоне. Президент прочел телеграмму и передал ее Гопкинсу. Ознакомившись с текстом, Гопкинс вернул телеграмму Рузвельту. Как вспоминает Шульц, президент Рузвельт сказал при этом, обращаясь к Гопкинсу:
— Это означает войну.
Гопкинс высказал мнение, что, судя по всему, японцы произведут внезапную атаку. Президент согласился с этим и сказал, что американцы не могут нанести превентивный удар.
— Мы демократическая страна, — добавил Рузвельт. — Мы миролюбивый народ, но после японской атаки у нас будет неплохой послужной список.
Итак, в овальной комнате Белого дома было, принято решение ничего не предпринимать для упреждения японского нападения и ждать развития событий.
Комментируя эту сцену, Роберт Шервурд следующим образом охарактеризовал ситуацию. Рузвельт понимал, что нападение Японии неизбежно. Но он находился под давлением изоляционистов, обладавших прочными позициями в конгрессе. Даже нападение Японии на британские или голландские владения в районе Тихого океана не могло изменить положения. Для вступления Америки в войну должно было создаться положение, когда Соединенные Штаты оказались бы перед дулом пистолета, когда им надо было бы либо ответить ударом на удар, либо навсегда сойти со сцены как великая держава.
Нападение на территорию США было единственное, что японцы могли предпринять, чтобы помочь Рузвельту решить стоящую перед ним дилемму, и они сделали это одним ударом, причем столь вызывающим образом, что разобщенные и находившиеся в замешательстве американцы сразу же сплотились, обрели единство и уверенность.
Как впоследствии выяснилось, генеральный штаб также получил сведения о предстоящей японской атаке. Но генерал Маршалл, который в то время был начальником штаба, не связался сразу же после этого по телефону с командующим американскими военно-морскими силами в Гонолулу, хотя мог это сделать и соответствующий аппарат стоял у него на столе. В ходе расследования этого дела комиссией конгресса генерал Маршалл дал следующее объяснение: среди различных факторов, которые побудили его не пользоваться телефоном, было опасение того, что японцы дешифруют или во всяком случае установят факт объявления американским командованием тревоги на своих базах на Гавайях. Японцы могли бы ухватиться за это, использовав против правительства США ту часть американской общественности, которая занимала изоляционистские позиции, и изобразить дело так, будто Вашингтон готовится к каким-то действиям, которые могут заставить Японию напасть на США. Зато после японской атаки правительство смогло решительно потребовать от конгресса объявления войны Японии. Выступая по радио через два дня после японского нападения на Пёрл-Харбор, президент Рузвельт заявил:
— Мы должны признать, что наши враги осуществили блестящий акт дезинформации, отлично рассчитанный и выполненный с большой ловкостью. Это, конечно, было чрезвычайно бесчестным делом, но мы должны смотреть в лицо тому факту, что современная война, ведущаяся в манере нацистов, — вообще грязное дело. Мы не хотели ее, мы не хотели вступать в нее, но мы оказались втянутыми в нее и мы будем драться, используя средства, которыми мы располагаем.
Поступившие в Москву первые сообщения иностранных телеграфных агентств о катастрофе в Пёрл-Харборе были немногословны, но сразу же стало ясно: произошло одно из важнейших событий второй мировой войны. Удар по Пёрл-Харбору, несомненно, означал неизбежность вступления в войну Соединенных Штатов, правда, пока еще только с Японией, а не с Германией. Но уже и это существенным образом меняло соотношение сил в мировом конфликте. Теперь особенно важное значение имело то, как будет реагировать на случившееся гитлеровская Германия — союзница Японии.
Выступление Японии против США было вовсе не той акцией, какую ожидал Гитлер. Летом и осенью 1941 года Берлин всячески убеждал японское правительство напасть на Советский Союз. 10 июля, то есть в разгар немецкого наступления на советском фронте, министр иностранных дел Германии Риббентроп направил немецкому послу в Токио следующую телеграмму:
«Поскольку Россия, как об этом сообщает из Москвы японский посол, фактически находится на краю катастрофы… просто невозможно, чтобы Япония, как только она будет готова к этому в военном отношении, не решила проблемы Владивостока и сибирского пространства. Я прошу вас использовать все находящиеся в вашем распоряжении средства, чтобы побудить Японию как можно скорее выступить войной против России, ибо чем скорее это произойдет, тем лучше. Естественная цель должна и впредь заключаться в том, чтобы Япония и мы до наступления зимы подали друг другу руку на Транссибирской магистрали».
Однако японские правящие круги отказывались таскать для Гитлера каштаны из огня. Имея свой опыт «сибирского похода» в период интервенции 1918–1922 годов, помня об уроках, полученных в Халхин-Голе и на озере Хасан, японские политики опасались втягиваться в войну с СССР. Зато они со все большим вожделением поглядывали в сторону Юго-Восточной Азии и Тихого океана, где видели своего главного противника и конкурента в лице США. Такое направление японской экспансии не вполне устраивало Гитлера, и он оказывал на Токио нажим с тем, чтобы Япония как можно дольше избегала столкновения с Соединенными Штатами. Вместе с тем Гитлер опасался и какого-либо соглашения между Токио и Вашингтоном, так как считал, что в таком случае США «прикрыли бы себе спину» для действий в Европе против Германии.
Между тем японские милитаристы имели свои расчеты. Планируя нападение на США, правительство Японии зондировало почву в Берлине. Показательна в этой связи беседа, состоявшаяся 28 ноября 1941 г. между японским послом в Германии генералом Осима и Риббентропом. В ходе этой беседы Осима спросил, приведет ли конфликт Японии с Соединенными Штатами к объявлению Германией войны Америке? Гитлеровский министр уклонился от прямого ответа.
— Рузвельт — фанатик, — сказал он — поэтому нельзя предсказать, как он поступит…
Такая реакция не удовлетворила Осиму, и он прямо спросил, что намерена предпринять Германия в указанном случае? Тут уж Риббентропу пришлось заверить своего союзника по тройственному пакту в лояльности Берлина.
— Если Япония окажется втянутой в войну с Соединенными Штатами, — заявил он, — то Германия незамедлительно также объявит войну. Германия в такой ситуации ни в коем случае не пойдет на сепаратный мир с США. В этом вопросе фюрер занимает твердую позицию…
Разумеется, такая гарантия, данная гитлеровским правительством Японии, в то время держалась в строгой тайне. Вместе с тем из различных источников поступали сообщения, что в Токио на протяжении длительного времени идет борьба между различными группировками и что от ее исхода зависит, в каком направлении Япония нанесет удар. Все говорило о том, что в ходе этой борьбы гитлеровские дипломаты оказывают давление, стремясь побудить японское правительство выступить против Советского Союза. Между тем все чаще появлялась информация, согласно которой было видно, что Токио склоняется к удару в направлении Юго-Восточной Азии. Об этом, в частности, сообщал в Москву и Рихард Зорге.
Его информация подтвердилась. После того как японцы нанесли удар по крупнейшей военно-морской базе США, возникал, однако, вопрос: что предпримет гитлеровская Германия? Останется ли она верна своему союзнику или же, поскольку усилия Берлина направить Японию против Советского Союза не увенчались успехом, Гитлер предпочтет на какое-то время остаться в стороне от японо-американского конфликта?
Речь фюрера
После нападения на Пёрл-Харбор прошло несколько дней, а из Берлина все еще не поступало никаких сведений о позиции Германии. 11 декабря иностранные агентства сообщили, что вечером в рейхстаге Гитлер произнесет важную речь. Выступление должно было транслироваться по радио. Имелись основания предполагать, что именно на заседании рейхстага Гитлер объявит о своем решении.
Вечером в тот день меня вызвал к себе В. М. Молотов. Напомнив, что через несколько минут по берлинскому радио начнется передача речи Гитлера в рейхстаге, он сказал, что товарищ Сталин интересуется этой речью и хочет поскорее знать ее содержание. Я быстро настроил приемник на берлинскую волну. Сначала из громкоговорителя раздавались марши, затем посыпались выкрики «депутатов» рейхстага — видимо, Гитлер по своему обыкновению появился последним, когда все были в сборе, и в этот момент шел к сцене по проходу в партере здания Кроль-опер под истошные крики «зиг-хайль» назначенных фюрером «парламентариев».
Работая перед войной в советском посольстве в Берлине, я несколько раз бывал в дипломатической ложе во время торжественных заседаний в Кроль-опер — в бывшем оперном театре, ставшем резиденцией гитлеровского «парламента» после поджога здания рейхстага. Я во всех деталях помнил эти балаганные представления. Отдельные возгласы слились в сплошной рев. Так продолжалось несколько минут. Затем стало тише и послышался хриплый голос Геринга. Он открыл заседание рейхстага и предоставил слово «фюреру германского народа». Вновь раздались выкрики «хайль Гитлер» и «зиг-хайль». Гитлер несколько раз кашлянул в микрофон, воцарилась тишина, и он начал свою речь.
Поначалу Гитлер говорил спокойно и размеренно. Потом постепенно стал себя взвинчивать. В отдельных местах впадал в истерический тон, визжал фальцетом, причем аудитория в такие моменты неистовствовала, и тогда было трудно разобрать смысл отрывочных фраз оратора.
Спустя минут десять после того как Гитлер начал речь, на письменном столе зазвонил зеленый телефон — это был аппарат, по которому мог звонить только Сталин. Быстро подойдя к столу, Молотов снял трубку. Вопросов я, естественно, не слышал, но, хотя мое внимание было сосредоточено на приемнике, все же каким-то вторым слухом улавливал, что отвечал Молотов:
— Да, уже начал… пока общие фразы… Еще не ясно, что они решили…
Сталин с нетерпением ждал, что предпримут в Берлине в связи с японо-американским конфликтом. Ведь от этого зависело многое. Тем временем по эфиру из Берлина сюда, в кремлевский кабинет, продолжал доноситься голос нацистского диктатора. Он громил президента Рузвельта, называя его «главным виновником» войны. Побесновавшись вдоволь, Гитлер, наконец, перешел к существу вопроса. Заявив, что акция Японии «встречена немецким народом и порядочными людьми во всем мире с глубоким удовлетворением», Гитлер прокричал, что разрывает отношения с Соединенными Штатами и объявляет им войну. Эти слова были встречены новым приступом истерии «депутатов» рейхстага.
Как только я перевел последнюю фразу, Молотов подошел к зеленому телефону, набрал номер. Услышав ответ, сказал:
— Они объявили войну Соединенным Штатам… Как поступит Япония?.. Об этом ничего не говорил, но, конечно, вопрос важный… Я тоже думаю, что вряд ли. Немцы сейчас получили такой урок в Подмосковье, что в Токио трижды должны подумать, прежде чем решиться на действия против нас…
Вопрос о том, поддадутся ли японцы нажиму Берлина, требовавшего присоединения Токио к войне против Советского Союза, имел первостепенное значение. Этот нажим особенно усилился после объявления Германией войны США. Однако, как показали последующие события, в Токио предпочли действовать более осторожно. Провал гитлеровского «блицкрига» против Советского Союза становился все более очевидным, и японские политики не могли помышлять об авантюре в Сибири.
Между тем решение Гитлера присоединиться к Японии и объявить войну Америке означало, что Соединенные Штаты становятся полноценным участником антигитлеровской коалиции. Процесс формирования боевого сотрудничества трех великих держав в борьбе против общего врага продвинулся еще дальше.
Антони Иден в Москве
В начале декабря 1941 года я был включен в небольшую группу, которая готовила документацию к предстоящему визиту в Советский Союз министра иностранных дел Англии Антони Идена. Идея этого визита была выдвинута Лондоном и встретила положительный отклик советской стороны. Значительное расширение англо-советских отношений, задачи совместной борьбы против общего врага — все это делало не только желательным, но и необходимым проведение переговоров на высоком уровне. К тому же некоторые вопросы политического характера, которые поднимало Советское правительство в период формирования антигитлеровской коалиции, оставались открытыми.
Приезд Идена в Москву и его встречи с руководителями Советского правительства могли содействовать решению этих проблем.
Главное же заключалось в том, чтобы в ходе переговоров с британским министром иностранных дел подготовить соглашение между Англией и СССР о союзе в войне и послевоенном сотрудничестве. Наконец, в Москве рассчитывали обсудить с Иденом выдвинутое ранее советское предложение о посылке английских частей на советско-германский фронт для совместных действий с Красной Армией против гитлеровцев.
В послании премьера Черчилля Сталину от 22 ноября 1941 г. говорилось: «Мы готовы командировать в ближайшем будущем Министра Иностранных Дел Идена, с которым Вы знакомы. Он направится через Средиземное море для встречи с Вами в Москве или в другом месте. Его будут сопровождать высокопоставленные военные и другие эксперты, и он сможет обсудить любой вопрос, касающийся войны, включая посылку войск не только на Кавказ, но и на линию фронта Ваших армий на Юге. Ни наши судовые ресурсы, ни наши коммуникации не позволят ввести в действие значительные силы, и даже при этом Вам придется выбирать между войсками и поставками через Персию».
Таким образом, не отклоняя в принципе идею использования английских войск на советско-германском фронте, Черчилль, однако, заранее выдвигал определенные оговорки.
Встреча министра иностранных дел Великобритании Антони Идена на Белорусском вокзале в Москве в декабре 1941 г. В первом ряду: А. Иден, В. М. Молотов, И, М. Майский.
Далее в послании британского премьера выражалась готовность обсудить послевоенную организацию мира: «Когда война будет выиграна, в чем я уверен, мы ожидаем, что Советская Россия, Великобритания и США встретятся за столом конференции победы как три главных участника и как те, чьими действиями будет уничтожен нацизм. Естественно, первая задача будет состоять в том, чтобы помешать Германии, и в особенности Пруссии, напасть на нас в третий раз. Тот факт, что Россия является коммунистическим государством и что Британия и США не являются такими государствами и не намерены ими быть, не является каким-либо препятствием для составления нами хорошего плана обеспечения нашей взаимной безопасности и наших законных интересов. Министр Иностранных Дел сможет обсудить с Вами все эти вопросы».
Соглашаясь принять руководителя Форин оффис в Москве, глава Советского правительства в послании Черчиллю указывал: «Ваше предложение направить в ближайшее время в СССР Министра Иностранных Дел г. Идена я всемерно поддерживаю. Обсуждение вместе с ним и принятие соглашения о совместных действиях советских и английских войск на нашем фронте и осуществление этого дела в срочном порядке имели бы большое положительное значение. Совершенно правильно, что обсуждение и принятие плана послевоенной организации мира должно исходить из того, чтобы помешать Германии и прежде всего Пруссии снова нарушить мир и ввергнуть снова народы в кровавую бойню».
Антони Иден прибыл в Москву 15 декабря и провел в советской столице почти неделю. Его сопровождали постоянный заместитель министра иностранных дел Александр Кадоган, а также гражданские и военные эксперты. За это время Иден имел несколько встреч с И. В. Сталиным и В. М. Молотовым, в ходе которых состоялся обмен мнениями по проблемам совместного участия в войне против гитлеровской Германии.
Что касается отправки британских войск на советско-германский фронт, то этот вопрос уже имел свою историю. В ходе переписки между Москвой и Лондоном английское правительство предложило послать британские войска на Кавказ для «охраны нефтяных районов», а также в северную часть Ирана, с тем чтобы находившиеся там советские войска, как и высвобождавшиеся в таком случае советские гарнизоны на Кавказе, были использованы в действующей армии на советско-германском фронте. Это предложение вновь представило Черчилля в весьма неприглядном свете; получалось, что для ведения гарнизонной службы на советской и иранской территориях Англия могла выделить войска, а для боевых действий на советско-германском фронте войск «не оказалось». Советское правительство отклонило это сомнительное предложение, а переговоры с Иденом ничего нового в данный вопрос не внесли.
С Иденом в Москве обсуждалась также проблема западной границы Советского Союза, включая вопрос о прибалтийских республиках как составной части Советского государства. В 1940 году народы прибалтийских стран в результате их волеизъявления вступили в состав Советского Союза, что и было в свое время оформлено законодательными актами как государственных органов прибалтийских республик, так и Верховного Совета СССР.
Английское правительство уклонялось от официального признания факта восстановления Советской власти в прибалтийских государствах и вхождения их в состав СССР. Используя это обстоятельство, находившиеся в Лондоне осколки свергнутых буржуазных режимов Прибалтики проявляли все большую активность. Это, конечно, не могло не отравлять атмосферы отношений между союзниками. Естественно, что советская сторона была заинтересована в урегулировании данного вопроса.
Когда эта проблема была поднята в ходе переговоров в Москве, Иден всячески уклонялся от прямого ответа. Он уверял, что не может сказать ничего конкретного по данному поводу, пока вопрос не рассмотрит британское правительство. Иден повторил, в частности, заявление Черчилля о том, что никакие территориальные изменения, происшедшие в ходе этой войны, не признаются британским правительством.
— Возможно, — сказал Иден, — что как раз это конкретное изменение будет приемлемо, но я должен сперва проконсультироваться с английским правительством.
При этом он ссылался, в частности, на Атлантическую хартию и на содержащиеся в ней положения о непризнании территориальных изменений. Таким образом получалось, что Лондон присваивал себе право определять правомочность законодательных актов Советской власти.
— Действительно ли необходимо, чтобы вопрос о прибалтийских государствах был обусловлен решением британского правительства? — иронически спросил Сталин. — Мы ведем сейчас самую тяжелую войну и теряем сотни тысяч, людей, защищая общее дело вместе с Великобританией, которая является нашим союзником, и я полагаю, что такой вопрос следует рассматривать как аксиому, и тут не требуется никакого решения.
— Вы имеете в виду будущее прибалтийских государств после окончания войны? — спросил Иден, явно стараясь выиграть время.
— Да, — ответил Сталин. — Будете ли вы поддерживать стремление этих трех государств быть в конце войны в составе Советского Союза? Ведь все, что мы требуем, это восстановления нашей страны в ее прежних границах. Я хочу подчеркнуть то обстоятельство, что если вы откажетесь от этого, то это будет выглядеть так, как будто вы хотите создать какую-то возможность для расчленения Советского Союза. Я удивлен и поражен тем, что правительство г-на Черчилля занимает такую позицию. По существу это та же позиция, которую занимало правительство Чемберлена, и я должен снова подчеркнуть, что отношение британского правительства к проблеме наших границ меня очень удивляет…
Иден принялся уверять, что добьется решения этого вопроса еще до того, как советские войска вступят в Прибалтику.
— Я полагал, — продолжал Сталин, как бы не слыша слов Идена, — что Атлантическая хартия направлена против тех наций, которые пытаются установить свое мировое господство, но теперь дело выглядит так, как будто бы Атлантическая хартия направлена против Советского Союза.
— Нет, это, конечно, не так, — поспешил возразить Иден. — Просто речь идет о том, что вы ставите передо мной некоторые вопросы, связанные с вашими границами, а я не в состоянии вам немедленно ответить и прошу вас дать мне время для того, чтобы получить такой ответ от своего правительства…
По этому вопросу во время пребывания руководителя Форин оффис в Москве так и не было достигнуто договоренности. Проблема была урегулирована позднее, в ходе подготовки советско-английского договора о союзе в войне против, гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве после войны. Договор был подписан 26 мая 1942 г. и, наряду с другими документами того периода, в значительной мере способствовал укреплению антигитлеровской коалиции. В дни пребывания Идена в Москве отдельные положения и условия будущего договора были широко обсуждены.
Был также затронут вопрос о положении в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке. В частности, Иден сказал, что премьер-министр Черчилль хотел бы знать позицию Советского правительства в отношении Японии. Англичан интересовала перспектива вступления Советского Союза в войну на Дальнем Востоке.
— Если Советский Союз сейчас объявит войну Японии, — сказал Сталин, отвечая Идену, — то нам придется вести настоящую войну на суше, в воздухе и на море. Следовательно, мы должны тщательно взвесить и учесть те силы, которые будут включены в борьбу. Многое зависит от того, как развернется война против Германии. Если на немцев будет оказан сильный нажим, то не исключено, что они побудят японцев напасть на нас, и в этом случае нам придется сражаться. Но мы предпочли бы, чтобы это произошло возможно позже…
Тут содержался довольно прозрачный намек на то, что вся ситуация во многом зависит от готовности западных держав предпринять активные действия против гитлеровской Германии. Иден, видимо, понял это и решил не развивать неприятную для него тему. Во всяком случае, вопрос об отношениях Советского Союза и Японии на этих переговорах больше не поднимался.
В ходе бесед советских руководителей с Иденом состоялся также широкий обмен мнениями по проблемам послевоенного устройства, причем особое внимание было уделено мерам, которые исключили бы в будущем возможность новой германской, агрессии.
Иден пожелал побывать на фронте. Такая возможность была ему предоставлена, и он совершил поездку в район Клина, проехав по местам, откуда гитлеровцы были выбиты в начале декабря мощным контрнаступлением советских войск.
Вернувшись в Москву, Иден с восхищением отзывался о блестящей победе советских войск, поздравлял советских руководителей, высказывал пожелания дальнейших успехов. Но много позже в своих мемуарах он признался, что в действительности испытывал не столько удовлетворение по поводу побед Красной Армии, сколько тревогу за последствия для «британских интересов» неминуемого поражения гитлеровской Германии. Описывая поездку на подмосковный фронт, Иден рассказывает, как его поразили груды боевой техники, брошенной поспешно бежавшими гитлеровцами.
Приводимая им в мемуарах пространная выдержка из его же дневника содержит подробное описание того, что он увидел на советско-германском фронте в декабре 1941 года. Но он очень скупо упоминает о страданиях советских людей, переживших гитлеровскую оккупацию. Зато британский министр иностранных дел во всех подробностях описал свою встречу и разговор с тремя пленными гитлеровцами, которым Иден, судя по тону его высказываний, явно симпатизировал. Он даже выразил им сочувствие. О том, что они с оружием в руках пришли сюда порабощать советский народ, Иден, кажется, забыл.
Такой подход к оценке событий на советско-германском фронте в конце 1941 года, подобная реакция на мощные удары, нанесенные советскими войсками «непобедимому» до того времени вермахту, весьма характерны для Идена. Он усмотрел в этом угрозу для империалистических устремлений Великобритании и США. Он опасался, как бы победа Советской страны над гитлеровской Германией не изменила соотношения сил в мире. Иден записал в своем дневнике: «Кажется неизбежным, что, если Гитлер будет опрокинут, русские войска окончат войну, оказавшись гораздо дальше в глубине Европы, чем при ее начале в 1941 году. Поэтому представляется целесообразным как можно раньше связать Советское правительство соответствующими соглашениями».
Мне вспоминается диалог, происходивший во время одной из бесед Идена со Сталиным. Речь зашла о дальнейшем развитии событий на советско-германском фронте. Иден высказал мысль, что борьба с немцами будет трудной и длительной.
— Ведь сейчас, — добавил он, — Гитлер все еще стоит под Москвой и до Берлина далеко…
— Ничего, — спокойно возразил Сталин, — русские уже были два раза в Берлине, будут и в третий раз.
Уверенный тон главы Советского правительства был, надо полагать, не очень-то приятен Идену.
Упомянув о том, что русские два раза были в Берлине, Сталин имел в виду вступление русских войск в этот город в 1760 году в период Семилетней войны. Затем русские оказались в Берлине в 1813 году, когда войска царя Александра I заняли город, преследуя отступавшую от Москвы наполеоновскую армию.
Уже много позднее Аверелл Гарриман вспоминал, что во время Потсдамской конференции он сказал Сталину:
— А ведь вам, должно быть, очень приятно, что вы, после того что пришлось пережить вашей стране, находитесь сейчас здесь, в Берлине…
— Царь Александр, — невозмутимо заметил Сталин, — до Парижа дошел…
После завершения переговоров с Антони Иденом одновременно в Москве и Лондоне было опубликовано совместное англо-советское коммюнике. В нем говорилось:
«Беседы, происходившие в дружественной атмосфере, констатировали единство взглядов обеих сторон на вопросы, касающиеся ведения войны, в особенности на необходимость полного разгрома гитлеровской Германии и принятия после того мер, которые сделали бы повторение Германией агрессии в будущем совершенно невозможным. Обмен мнениями по вопросам послевоенной организации мира и безопасности дал много важного и полезного материала, который в дальнейшем облегчит возможность разработки конкретных предложений в этой области».
Московские беседы во время визита Идена знаменовали собой новый и важный шаг вперед в деле консолидации антигитлеровской коалиции.
Год 1942-й
Подходил к концу 1941 год, насыщенный эпохальными событиями. Советские люди, несмотря на тяжелейшие испытания, обрушившиеся на них, могли с законным удовлетворением подвести итог этому году. Гитлеровский план «блицкрига» против Советской страны провалился — к концу года это стало очевидным для всех. Хвастливые заявления фюрера о том, что он разместит своих вояк на зимних квартирах в Москве, оказались пустым звуком. Вместо этого хваленый вермахт получил у стен советской столицы сокрушительный удар. Тысячи гитлеровских завоевателей нашли свою гибель на полях Подмосковья.
Конечно, еще предстояла тяжелая борьба, враг еще оставался сильным и готовился к новому броску. Но было ясно: факторы, игравшие вначале на руку гитлеровцам, прежде всего связанные с внезапностью нападения, переставали действовать. Вступали в силу долговременные факторы, благоприятствовавшие Советскому Союзу: сплоченность советского народа, экономический и людской потенциал, преимущества социалистического строя, правильность советских стратегических концепций. Важное значение имело и укрепление антигитлеровской коалиции. Дальнейшей ее, консолидации содействовала подготовленная к тому времени Декларация Объединенных Наций. Торжественное ее подписание состоялось. 1 января 1942 г. Под декларацией поставили свои подписи представители четырех держав — СССР, Великобритании, США и Китая, а также 22 других государств. В декларации провозглашалось, что полная победа над фашистскими агрессорами необходима для защиты жизни, свободы и независимости народов. В ней содержалось обязательство употребить все ресурсы, военные и экономические, против тех членов берлинского пакта, с которыми данный участник декларации находится в войне. Каждый участник декларации обязывался сотрудничать с другими подписавшими ее правительствами и не заключать сепаратного перемирия или мира с врагами.
Хотя время было трудное, хотелось все же как-то проводить 1941 год и встретить год 1942-й, Работать тогда всем приходилось очень много. Никто из остававшихся в тылу, естественно, не имел тогда ни выходных, ни отпусков, ни даже праздничных свободных дней. Работники Наркоминдела находились на особо строгом режиме. По существу, весь день, кроме сна и времени на дорогу домой и обратно, люди были заняты на работе. Во всех случаях отлучки из дома в редкое свободное время надо было оставлять дежурному точные координаты, вплоть до ряда и номера места в театре. И нередко, когда удавалось пойти на спектакль, голос по радио объявлял, что такого-то срочно требуют на работу.
Однако новый, 1942 год нам все же удалось встретить небольшой компанией. Оперативная группа работников Наркоминдела, остававшихся в Москве после эвакуации основного аппарата в Куйбышев, получила рабочие места в одном из пустовавших кабинетов в здании Совнаркома в Кремле. Мы были связаны прямой телефонной линией с Куйбышевом и регулярно поддерживали связь с различными отделами наркомата, находившегося на берегах Волги. Здание же Наркоминдела на Кузнецком мосту практически пустовало — там была лишь небольшая ячейка хозяйственного отдела, самый необходимый справочный архив и служебная столовая. В подвале было устроено общежитие, являвшееся одновременно и бомбоубежищем. Там мы ночевали, никуда не уходя и во время бомбежек, которые бывали довольно часто в ноябре и декабре 1941 года. Впрочем, разгром немцев под Москвой в начале декабря оказался таким шоком для гитлеровского командования, что «люфтваффе» стала гораздо реже появляться над советской столицей. К концу месяца можно было уже перебраться из подвала.
Нам с И. С. Чернышевым, также входившим в оперативную группу, предоставили на третьем этаже комнату в пустовавшем служебном помещении, где мы поставили раскладушки, стол и несколько стульев. Здание Наркоминдела, как и почти вся Москва, не отапливалось. Нас спасал камин, который был в этом кабинете. Где-то раздобыли дров, и тот из нас, кто приходил раньше с работы, спешил развести огонь.
В этой комнате мы встретили Новый год, располагая в ту ночь двумя-тремя свободными часами. Наша компания помимо нас с Чернышевым состояла из Киселева, с которым мы подружились еще до войны, когда он работал вице-консулом в Кенигсберге и часто приезжал к нам в Берлин, а также Коптелова, бывшего третьего секретаря нашего посольства в Германии.
Коптелов работал в консульском отделе — он по своим делам приехал из Куйбышева на несколько дней. Киселев же появился совсем неожиданно. После возвращения из Германии он вместе со многими другими сотрудниками Наркоминдела пошел в ополчение, был ранен, лежал в госпитале и должен был снова возвращаться в действующую армию. Но к тому времени работа Наркоминдела стала вновь разворачиваться. Были также установлены консульские и дипломатические отношения со странами, с которыми раньше Советский Союз таких связей не имел. Понадобились опытные работники. Отдел кадров разыскивал бывших сотрудников и снова зачислял в Наркоминдел. Отыскался в госпитале и Киселев. Сначала он находился в Куйбышеве, а потом был вызван в Москву, где ждал назначения на новый пост — генконсулом в Нью-Йорк.
Собрались мы в начале двенадцатого. Камин уже пылал, излучая приятное тепло, — его растопил Чернышев, который пришел несколько раньше. Настроение было приподнятое. Только что по радио Левитан объявил об освобождении советскими войсками города Калуги — новогодний подарок Родине от героической Красной Армии. Год 1941-й кончался под знаком еще одной победы советских воинов. Уходящий год вся собравшаяся тут четверка встречала в столице Германии, еще не предполагая, что предстоит пережить нашей стране: горечь первых утрат и поражений, вынужденную сдачу врагу городов и сел, эвакуацию государственных учреждений из Москвы, бомбежки столицы, разрушения. Теперь 1941 год подошел к концу. Советский Союз выстоял, выдержал первый отчаянный натиск врага — это было самое главное. Красная Армия нанесла гитлеровцам немало сокрушительных ударов — под Тихвином, под Москвой, а только что освободила город Калугу.
И Михаил Иванович Калинин своим спокойным, несколько приглушенным голосом поздравлял по радио советских людей с Новым годом, с уже достигнутыми успехами и с грядущими победами…
В этот час мы вспоминали товарищей, которых уже не было с нами. Замечательный, душевный человек генерал Тупиков — наш военный атташе в Берлине — был убит на переправе под Киевом; заместитель торгпреда в Германии Кормилицын стал жертвой авиационной катастрофы в Иране, где он ведал транспортировкой союзнических поставок. Вспоминали мы и многих других наших товарищей, оказавшихся в числе первых жертв войны. Мы слушали рассказ Киселева о судьбе того отряда московского ополчения, где он служил. Эта часть, слабо вооруженная, противостояла мощному натиску гитлеровских танков и была почти вся истреблена…
Мы понимали, что впереди еще много трудностей, много жертв, но все же наступающий год встречали, как и все советские люди, с оптимизмом: было ясно, что гитлеровский «блицкриг» дал осечку и что, какие бы трудности ни предстояли, конечная победа Советского Союза несомненна…
Разошлись мы вскоре после 2 часов ночи. Чернышев, который должен был в 9 утра заступать на дежурство, остался немного отдохнуть, Киселев и Коптелов спустились в хозяйственную часть, где была устроена импровизированная гостиница для приезжих сотрудников Наркоминдела. Я сразу же вернулся на работу. Шел в Кремль по заваленным сугробами улицам: снег не убирали, и вместо тротуаров темнели протоптанные тропинки. В небе стояла полная луна, и, хотя улицы не освещались, от нее и от снега было очень светло. На Красной площади расчищали только проезжую часть вдоль ГУМа, а вокруг высились снежные горы, среди которых в разных направлениях вились тропинки. Я пошел по той, что шла наискосок от Исторического музея к Спасским воротам. На башне куранты пробили половину третьего. Наступал первый день 1942 года…
ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Некоторые аспекты отношении с США
До того как оформилась антигитлеровская коалиция, советско-американские отношения прошли через несколько этапов. Несомненно, в развитии этих отношений решающее значение имела позиция, которую правительство Рузвельта заняло после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз.
Как только в Вашингтоне стало известно, что 22 июня 1941 г. Гитлер вторгся в пределы Советской страны, государственный секретарь Корделл Хэлл (он рассказывает об этом в своих мемуарах) позвонил по телефону президенту Рузвельту, а затем своему заместителю Сэмнеру Уэллесу. Каждому из них он сказал:
— Мы должны оказать России всю возможную помощь. Мы неоднократно заявляли, что предоставим такую помощь, которую мы сможем оказать любому государству, сопротивляющемуся державам «оси». Нет никакого сомнения, что в настоящее время Россия подпадает под эту категорию…
На протяжении последующих недель эта концепция пробивала себе дорогу, однако не без труда. Как уже было сказано выше, многие вашингтонские военные эксперты заблуждались относительно истинной силы Красной Армии. Более реалистически мыслящие политики считали, что Соединенные Штаты, направляя в Советский Союз оружие и другое необходимое снаряжение, ничем не рискуют. Этой точки зрения придерживался и президент Рузвельт, который еще до нападения нацистов на СССР считал, что если Гитлер вторгнется в Советскую страну, то в конечном счете сломает себе шею.
Еще с начала 1941 года правительство Соединенных Штатов получило ряд сообщений о том, что Гитлер собирается напасть на Советский Союз. В январе 1941 года государственный секретарь Хэлл располагал конфиденциальным докладом С. Вудса, американского экономического атташе в Берлине. У Вудса был друг в Германии, который ненавидел нацистов, но был связан с гитлеровскими правительственными органами, а также с видными деятелями нацистской партии. В начале августа 1940 года этот друг информировал Вудса о том, что у Гитлера происходят совещания, посвященные подготовке войны против Советского Союза.
Вудс обычно встречал своего знакомого в одном из кинотеатров Берлина. Покупая заранее два билета, он посылал один из них другу, и таким образом тот сидел рядом с ним и в полутьме опускал в карман Вудса записку. Информация, поступавшая от Вудса, находилась в противоречии с публичными заявлениями гитлеровцев о том, что они планируют вторжение в Великобританию. Однако люди, связанные с другом Вудса, утверждали, что воздушные налеты на Англию служат лишь маскировкой подлинного намерения Гитлера, заключающегося в том, чтобы выступить против Советского Союза. Позднее друг Вудса информировал его также о том, что для подлежащих оккупации советских территорий подобран экономический штат и напечатаны банкноты фальшивых рублей.
На основании информации, полученной от лиц, работавших в генеральном штабе вермахта, Вудс передал в Вашингтон сведения о главных направлениях готовившегося гитлеровского наступления на севере, на юге и в центре, нацеленного непосредственно на Москву. Все приготовления, согласно этой информации, должны были закончиться к весне 1941 года.
Когда впервые эти данные попали в госдепартамент, Хэлл, как он сам впоследствии признал, счел их гитлеровской дезинформацией. Однако после перепроверки по другим источникам сведения, полученные от Вудса, подтвердились и были переданы президенту Рузвельту. Возможно, они сыграли свою роль, побудив Рузвельта предпринять шаги, облегчившие впоследствии сотрудничество Соединенных Штатов с Советским Союзом.
Так или иначе, еще до нападения гитлеровской Германии на СССР Вашингтон осуществил ряд акций в этом направлении. 21 января 1941 г. было отменено эмбарго в отношении торговли с Советским Союзом, установленное после начала советско-финской войны в декабре 1939 года. По существу, это ничего не меняло, поскольку товары, ранее подпадавшие под эмбарго, теперь были включены в систему лицензий на основании закона от 2 июля 1940 г. и их экспорт строго контролировался. Таким образом, принятая Соединенными Штатами в январе 1941 года мера была скорее рассчитана на психологический эффект. Но она сыграла роль в будущем.
Руководящие деятели США не сомневались, что Советский Союз в случае нападения на него будет обороняться и сделает все возможное для того, чтобы победить агрессора. Поэтому, хотя и в небольшом объеме, поставки некоторых американских товаров в Советский Союз не прекращались. Знаменательно, что это вызывало недовольство Лондона. Прибывший в то время в Вашингтон новый посол Великобритании лорд Галифакс предложил при первой же встрече с государственным секретарем ограничить американские поставки в Советский Союз. 5 февраля 1941 г. Галифакс заявил Хэллу, что Англия опасается, как бы значительное количество снабжения, поступающего из Соединенных Штатов, не попало в конечном счете в германские руки.
По этому поводу Галифакс даже вручил Хэллу специальный меморандум, в котором указывалось на значительно возросшие советские закупки в Соединенных Штатах. Хэлл ответил, что правительство США внимательно следит за американскими поставками в Советский Союз, и добавил:
— Независимо от того, что Советский Союз пока активно не участвует в войне, он все же остается чрезвычайно важным фактором, а также оказывает влияние на мир в целом как в Европе, так и в Азии…
Информация о состоявшейся беседе появилась в английской прессе. Это вызвало недовольство в Вашингтоне. Хэлл пригласил к себе Галифакса и заявил ему, что не следовало публиковать сообщение об английском требовании сократить американские поставки в СССР.
— Я полагаю, — сказал Хэлл, — что Англия слишком уж нажимает на одну чашу весов, когда позволяет, чтобы предложения о сокращении поставок в Советский Союз стали достоянием гласности.
Далее в своих мемуарах Хэлл указывает, что «в целом политика Соединенных Штатов по отношению к России была твердой, но дружественной». В действительности, однако, в отношениях между Соединенными Штатами и Советским Союзом имелись тогда значительные трудности. Положение особенно осложнялось систематической задержкой поставок различных важных материалов, о чем советский посол в США К. А. Уманский неоднократно делал представления американскому правительству. Так, 14 мая 1941 г. в ходе беседы с государственным секретарем советский посол вручил Хэллу памятную записку, в которой приводились конкретные случаи задержки грузов, следовавших в Советский Союз, а также указывалось на проявления враждебного отношения в Соединенных Штатах к Советскому правительству, что, конечно, ухудшало атмосферу взаимоотношений между обоими государствами.
Хэлл пытался возражать, уверяя, что правительство Соединенных Штатов не имеет ни малейшего чувства неприязни ни к Советскому Союзу, ни к его правительству; однако факты говорили о другом. Да и сам Хэлл косвенно признал это при изложении позиции США в отношении СССР. Он не мог также не согласиться с тем, что поставки в ряде случаев задерживаются, повторив при этом, по сути дела, те же аргументы, которые приводил в беседе с ним и Галифакс.
Здесь, как видим, проявилась определенная непоследовательность Хэлла. С одной стороны, он отклонил английский демарш, переданный ему послом Галифаксом, а с другой — оправдывал его же аргументами действия американских властей, сознательно задерживавших поставки в Советский Союз.
Впрочем, независимо от трений и трудностей, руководящие вашингтонские политики во главе с президентом Рузвельтом и государственным секретарем Хэллом считали Советский Союз решающей силой, способной противостоять агрессии гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Поэтому правительство США уже тогда приступило к формированию курса, направленного на оказание поддержки Советскому Союзу в возможном конфликте с гитлеровской Германией. Несомненно, тут сыграло роль то обстоятельство, что правящие круги США считали тогда для себя наиболее опасными империалистическими соперниками гитлеровскую Германию и милитаристскую Японию.
Следует, однако, иметь в виду, что в то время в Соединенных Штатах были еще очень сильны позиции изоляционистов. Кроме того, в Вашингтоне активно действовали пронацистские лоббисты, которые всячески обрабатывали американских законодателей, побуждая их сопротивляться включению США в европейский конфликт. Небезуспешно работала в США и тайная гитлеровская агентура. Рузвельту приходилось преодолевать серьезное сопротивление при проведении политики поддержки сил, выступавших против фашизма. На формировании позиции Рузвельта в то время, несомненно, сказывалась и его личная неприязнь к фашистам. Он называл гитлеровцев не иначе, как «гуннами», видимо, считая, что такая крайняя форма диктатуры буржуазии, как нацизм, слишком уж дискредитирует всю капиталистическую систему, убежденным сторонником которой он был.
Шаг за шагом Рузвельт подталкивал страну ко все более тесному сотрудничеству с воевавшими против фашистских держав странами. В январе 1941 года на узком совещании в Белом доме Рузвельт подчеркнул, что одна из важных целей его правительства заключается в том, чтобы «делать все возможное для продолжения поставок Великобритании», причем «военно-морской флот США должен быть готов конвоировать суда, идущие через Атлантику в Англию». Такая линия вызвала сопротивление изоляционистов. В конгрессе многие ораторы резко критиковали правительство. В письме к одному из сенаторов президент Рузвельт писал по этому поводу: «Пусть бог поможет мне понять, куда клонят те, кто затеял эту дискуссию в сенате. Зачем они оспаривают необходимость конвоев?»
Вступление Советского Союза в войну после вероломного нападения на него гитлеровской Германии придало новые силы тем американским политикам, которые видели первоочередную задачу в нанесении поражения Гитлеру, а заодно и германскому империализму, который стал угрожать интересам британского и американского капитала. Среди этих политиков особенно активную роль играли Гарри Гопкинс и Аверелл Гарриман. Не случайно, что именно Гопкинса, оказавшегося тогда в Лондоне, Рузвельт наметил для поездки в Москву в качестве своего личного представителя в июле 1941 года. Выше уже говорилось о побывавшей осенью того же года в Москве англо-американской миссии, возглавлявшейся лордом Бивербруком и Авереллом Гарриманом, о важных решениях, принятых в ходе их переговоров с руководителями Советского правительства.
Перед отъездом домой Гарриман оставил в Москве входившего в состав американской делегации полковника Файмонвилла. Он возглавил группу, наблюдавшую за ходом поставок военных материалов из США в Советский Союз. Это назначение вызвало недовольство в военном ведомстве в Вашингтоне, поскольку Файмонвилл был известен как сторонник активной помощи Советскому Союзу. Между тем в то время военный атташе посольства США в Москве майор Итон слал своему начальству крайне пессимистические телеграммы, которые полностью расходились с информацией, поступавшей в Вашингтон от полковника Файмонвилл а. Так, 10 октября 1941 г. майор Итон радировал за океан, что «конец русского сопротивления близок» и что посему «с поставками военных материалов в Советский Союз спешить не следует», ибо они «могут быть захвачены немцами». А на следующий день в Вашингтон пришла телеграмма от Файмонвилла, который, ссылаясь на сведения, полученные от Генерального штаба Красной Армии, сообщал, что советские войска пресекли попытки немцев окружить Москву и что положение на Южном фронте хотя и серьезное, но не безнадежное. Отсюда Файмонвилл делал вывод, прямо противоположный тому, что доносил майор Итон: он подчеркивал, что американские поставки в Советский Союз следует по возможности ускорить. Гарри Гопкинс отметил в своем дневнике, что он не поверил сообщению Итона и счел более достоверной информацию полковника Файмонвилла, которая в дальнейшем подтвердилась.
Оценка обстановки на советско-германском фронте полковником Файмонвиллом, несомненно, оказала свое влияние на выработку курса правительства США по отношению к Советскому Союзу в тяжелые первые месяцы Великой Отечественной войны. В Вашингтоне были предприняты соответствующие шаги, направленные на ускорение практической помощи нашей стране.
Через много лет, в 1955 году, мы случайно встретились с Файмонвиллом в Сан-Франциско. К тому времени он уже был на отдыхе — ушел в отставку в чине генерала, однако остался таким же энергичным и подвижным, как тогда, когда мы с ним познакомились впервые. Мы долго беседовали о прошлом, о его работе в Москве, о перспективах советско-американских отношений. Файмонвилл и в те трудные 50-е годы, в самый разгар «холодной войны», оставался другом Советского Союза. Некоторое время спустя до меня дошло печальное известие о его кончине.
Вскоре после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз президент Рузвельт распорядился разморозить блокированные советские фонды. В начале августа 1941 года исполняющий обязанности государственного секретаря Уэллес и посол Уманский обменялись письмами, в которых американская сторона обещала «оказать всю экономическую помощь, которая возможна, с целью усиления Советского Союза в его борьбе против вооруженной агрессии».
13 августа во время встречи в Атлантике президент США и британский премьер направили И. В. Сталину послание, в котором говорилось: «Мы в настоящее время работаем совместно над тем, чтобы снабдить Вас максимальным количеством тех материалов, в которых Вы больше всего нуждаетесь. Многие суда с грузом уже покинули наши берега, другие отплывают в ближайшем будущем».
Жизнь, однако, показала, что это заявление скорее было декларацией о намерениях западных союзников, нежели практическим делом.
Англо-американские поставки
После того как на совещании советских, английских и американских представителей в Москве осенью 1941 года был согласован в принципе вопрос о поставках западными державами военных материалов Советскому Союзу, между главой Советского правительства И. В. Сталиным и президентом США Франклином Д. Рузвельтом состоялся обмен письмами по этому вопросу. В письме Рузвельта от 30 октября 1941 г. указывалось:
«Я ознакомился с протоколами Московской конференции, и члены миссии обсудили со мною подробности. Все военное имущество и все виды вооружения мною одобрены, и я приказал по возможности ускорить доставку сырья. Приказано также немедленно приступить к поставке материалов, и эти поставки будут производиться по возможности в самых крупных количествах. Для того, чтобы устранить возможные финансовые затруднения, немедленно будут приняты меры, которые позволят осуществить поставки на сумму до 1 миллиарда долларов на основе закона о передаче взаймы или в аренду вооружения („ленд-лиз“). Если на это согласится Правительство СССР, я предлагаю, чтобы по задолженности, образовавшейся в результате этого, не взималось никаких процентов и чтобы Советское Правительство начало покрывать ее платежами через пять лет после окончания войны, с тем чтобы они были закончены на протяжении десятилетнего периода после этого. Я надеюсь, что Ваше Правительство примет специальные меры для того, чтобы продавать нам имеющиеся в его распоряжении сырьевые материалы и товары, в которых Соединенные Штаты могут испытывать срочную необходимость, на основе соглашения, по которому все поступления от этих продаж будут поступать в погашение счета Советского Правительства. Я пользуюсь случаем, чтобы передать Вам признательность Правительства Соединенных Штатов, за быстрое проведение Вами и Вашими сотрудниками Московской конференции по вопросам снабжения и заверить Вас, что мы до конца выполним все вытекающие из этой конференции обязательства. Я надеюсь, что Вы без колебаний будете непосредственно связываться со мной, если Вы этого пожелаете».
Как видим, правительство США предлагало в то время весьма широкую помощь Советскому Союзу, беря на себя также обязательство обеспечить доставку согласованных материалов в кратчайшие сроки. Такой подход встретил положительную оценку с советской стороны. На предложения президента США глава Советского правительства ответил следующим письмом от 4 ноября:
«Позвольте мне прежде всего выразить полное согласие с Вашей оценкой работ Конференции Трех Держав в Москве, что следует отнести в наибольшей мере к заслугам г-на Гарримана, а также г-на Бивербрука, сделавших все возможное для успешного завершения работ Конференции в кратчайший срок. За Ваше заявление о том, что постановления Конференции будут максимально выполнены, Советское Правительство выражает свою глубокую признательность.
Ваше решение, г-н Президент, о том, чтобы предоставить Советскому Союзу беспроцентный заем на сумму в 1 миллиард долларов на оплату поставок вооружения и сырьевых материалов Советскому Союзу, Советское Правительство принимает с искренней благодарностью, как исключительно серьезную поддержку Советского Союза в его громадной и трудной борьбе с нашим общим врагом, с кровавым гитлеризмом.
По поручению Правительства СССР я выражаю полное согласие с изложенными Вами условиями предоставления Советскому Союзу этого займа, платежи по которому должны начаться спустя 5 лет после окончания войны и будут производиться в течение 10 лет после истечения этого пятилетнего периода.
Правительство СССР готово сделать все необходимое, чтобы поставлять Соединенным Штатам Америки те товары и сырье, которые имеются в его распоряжении и в которых могут нуждаться Соединенные Штаты.
Что касается выраженного Вами, г-н Президент, пожелания, чтобы между Вами и мною был бы незамедлительно установлен личный непосредственный контакт, если этого потребуют обстоятельства, то я с удовольствием присоединяюсь к этому Вашему пожеланию и готов со своей стороны сделать все возможное для осуществления этого».
Этим обменом письмами было официально подтверждено соглашение о поставках, достигнутое в ходе московских переговоров с Бивербруком и Гарриманом. Тем самым еще дальше продвинулось советско-американское сотрудничество, подготовлявшее почву для образования военного союза между тремя главными партнерами — СССР, США и Великобританией.
Сразу же после вступления США в войну против Германии (11 декабря 1941 г.) государственный секретарь Хэлл сделал от имени американского правительства важное заявление, содержавшее обязательство и в новых условиях оказывать эффективную помощь Советскому Союзу. В заявлении подчеркивалось:
«Союз Советских Социалистических Республик ведет героическую борьбу против мощного нападения, столь предательски предпринятого против него общим врагом всех свободолюбивых народов мира. В этой связи я хотел бы напомнить всем о заявлениях, сделанных президентом Соединенных Штатов во время приема им нового советского посла (M. M. Литвинова) 8 декабря 1941 года — в день, когда мы объявили войну Японии. Президент при этом дал заверения, что правительство США твердо намерено продолжать осуществление своей программы по оказанию помощи Советскому Союзу в той борьбе, которую он ведет. События, происшедшие за последние несколько часов (речь идет об объявлении Германией войны Соединенным Штатам), еще больше укрепили эту решимость, и мы, со своей стороны, не сомневаемся в том, что правительство и народ Союза Советских Социалистических Республик полностью выполнят свою роль в борьбе против общей угрозы бок о бок со всеми миролюбивыми народами».
Не было в то время недостатка и в обещаниях Англии оказывать всю возможную помощь Советскому Союзу.
Однако практическое осуществление английских и американских обязательств оказалось весьма далеким от этих торжественных обещаний и заявлений. Претворение в жизнь достигнутой договоренности было сопряжено с немалыми трудностями, вызванными прежде всего тем, что США и Англия систематически нарушали свои обязательства.
Что касается обязательства Англии по московскому протоколу, то за октябрь, ноябрь и декабрь 1941 года из 800 самолетов которые она должна была поставить за эти месяцы в Советский Союз, фактически было поставлено 669, танков — 487 вместо 1000, танкеток — 330 вместо 600. Еще хуже обстояло дело с выполнением протокола Соединенными Штатами. Они обязались поставить с октября 1941 года по 30 июня 1942 г. 900 бомбардировщиков, 900 истребителей, 1125 средних и столько же легких танков, 85 тыс. грузовых машин и т. д. Фактически Советский Союз получил от США за это время только 267 бомбардировщиков (29,7 %), 278 истребителей (30,6 %), 363 средних танка (32,3 %), 420 легких танков (37,3 %), 16 502 грузовика (19,4 %). Все это, естественно, сильно затрудняло советскому командованию планирование военных операций. Практика, таким образом, показала, что никак нельзя было полагаться на обещания союзников.
В первые месяцы Великой Отечественной войны ни Англия, ни США не предпринимали никаких боевых действий против Гитлера. В этих условиях можно было ожидать, что их помощь Советскому Союзу поставками различных материалов, необходимых нашей стране для борьбы против общего врага, будет куда более существенной. Однако приведенные выше цифры говорят о другом.
В западной прессе до сих пор кочует легенда, согласно которой англичане и американцы выполняли, дескать, свои обязательства быстро и полностью. Действительность была весьма далека от подобного рода уверений западной пропаганды. Вооружение и другие материалы, торжественно обещанные западными союзниками, не поступали вовремя в Советский Союз, а если и поступали, то в значительно урезанных количествах. По своему качеству это оружие не отвечало требованиям, предъявлявшимся фронтом.
Нередко это было оружие устаревших образцов или имело серьезные конструктивные дефекты. Англия, например, длительное время направляла в СССР отжившие свой век самолеты «харрикейн», уклоняясь от поставок новейших английских истребителей «спитфайер». В ряде случаев не лучшим было и американское вооружение, поступавшее в Советский Союз.
Проблема качества оружия не раз становилась предметом переписки между руководителями трех держав. Так, 18 июля 1942 г. глава Советского правительства обращался к президенту США:
«Считаю долгом предупредить, что, как утверждают наши специалисты на фронте, американские танки очень легко горят от патронов противотанковых ружей, попадающих сзади или сбоку. Происходит это оттого, что высокосортный бензин, употребляемый американскими танками, образует в танке большой слой бензиновых паров, создающих благоприятные условия для загорания. Немецкие танки работают тоже на бензине, но бензин у них низкосортный, не дающий большого количества паров, ввиду чего они гораздо меньше подвержены загоранию. Наиболее подходящим мотором для танков наши специалисты считают дизель».
Рузвельт на это ответил:
«Я весьма ценю Ваше сообщение о трудностях, испытываемых на фронте с американскими танками. Нашим специалистам по танкам эта информация будет весьма полезна для устранения недостатков этого типа танков. Опасность пожара в будущих типах танков будет снижена, так как они будут работать на горючем с более низким октановым числом».
О низком качестве военных материалов, поступавших в Советский Союз из США и Англии, И. В. Сталин говорил также в беседе с посетившим в сентябре 1942 года Москву тогдашним лидером республиканской партии Уэнделлом Уилки. В присутствии послов США и Англии глава Советского правительства поставил вопрос:
— Почему английское и американское правительства снабжают Советский Союз некачественными материалами?
Сталин пояснил, что речь, прежде всего, идет о поставках американских самолетов П-40 вместо куда более современных «аэрокобр» и что англичане присылают никуда негодные самолеты «харрикейн», которые значительно хуже германских. Был случай, добавил Сталин, когда американцы собирались поставить Советскому Союзу 150 «аэрокобр», но англичане вмешались и забрали их себе.
— Советские люди, — продолжал Сталин, — отлично знают, что и американцы, и англичане имеют самолеты, равные или даже лучшие по качеству, чем немецкие машины, но по непонятным причинам некоторые из этих самолетов не поставляются в Советский Союз.
Заявление Сталина, сделанное находившемуся тогда в оппозиции к администрации Белого дома Уэнделлу Уилки, да к тому же в присутствии официальных представителей США и Англии, привело последних в замешательство. Американский посол, им был тогда адмирал Стендли, поспешил заверить, что не имеет никаких сведений на этот счет. Однако английский посол Арчибальд Кларк Керр признал, что он в курсе дела с «аэрокобрами», но принялся оправдывать их отправку в другое место тем, что эти 150 машин в руках англичан принесли, дескать, «гораздо больше пользы общему делу союзников, чем если бы они попали в Советский Союз».
Это объяснение английского посла было неправильным по существу и уж, во всяком случае, нетактичным по форме, поскольку основная борьба против общего врага по-прежнему шла на советско-германском фронте, а не в каком-то «другом месте». В ряде посланий главы Советского правительства английскому и американскому лидерам подчеркивалась важность ускорения отправки предназначенных Советскому Союзу материалов в полном объеме. 22 августа 1942 г. И. В. Сталин обратился к Рузвельту с такими словами:
«…Я хотел бы подчеркнуть нашу особую заинтересованность в данное время в получении из США самолетов и других видов вооружения, а также грузовиков в возможно большем количестве. Вместе с тем я надеюсь, что будут приняты все меры для обеспечения быстрейшей доставки грузов в Советский Союз, особенно северным морским путем».
Поскольку западные союзники, задерживая поставки, обычно ссылались на недостаток судов, Советское правительство выражало готовность временно пойти на уменьшение снабжения некоторыми видами вооружений при условии, что будет бесперебойно поставляться то, что особенно необходимо. 7 октября 1942 г. в послании главы Советского правительства президенту Рузвельту говорилось:
«Мы готовы временно полностью отказаться от поставки танков, артиллерии, боеприпасов, пистолетов и т. п. Но вместе с тем мы крайне нуждаемся в увеличении поставок самолетов-истребителей современного типа (например, „аэрокобра“) и в обеспечении при всех условиях некоторых других поставок. Следует иметь в виду, что самолеты „китигаук“ не выдерживают борьбы с нынешними немецкими истребителями».
На это настоятельное обращение Рузвельт ответил, что американские «неотложные военные нужды исключают в настоящий момент возможность увеличения количества „аэрокобр“ для Вас». Он лишь весьма неопределенно обещал «изучить» вопрос об увеличении поставок других видов вооружения, необходимого Советскому Союзу.
В тяжелый для Советского Союза период войны, когда летом и осенью 1942 года гитлеровские полчища рвались к Волге и Кавказу, американское и английское правительства полностью прекратили отправку конвоев северным маршрутом. 16 июля английский генерал Бэрнс, ведавший вопросами поставок в СССР, заявил советскому представителю, что «правительства США и Англии приняли решение прекратить направление судов с грузами для СССР в северные порты». Между тем через эти порты должно было направляться 3/4 всех поставок. В июле и августе 1942 года Англия не поставила Советскому Союзу ни одного самолета.
Одновременно английское правительство резко сократило военные перевозки для СССР по Трансиранской железной дороге. При этом оно ссылалось на заторы, хотя в прошлом неоднократно обещало увеличить пропускную способность железнодорожных путей в Центральном и Южном Иране. На 15 августа 1942 г. в портах Персидского залива скопилось 34 977 т неотправленных военных грузов.
Правительства США и Англии еще в начале марта 1942 года знали о масштабах предстоящих боев на советско-германском фронте. Они признавали, что именно на Восточном фронте решается исход войны. Так, в послании Рузвельту от 7 марта 1942 г. Черчилль писал: «Все предвещает возобновление весной в громадных масштабах германского вторжения в Россию». Причем британский премьер тут же добавил:
«Мы очень мало можем сделать, чтобы помочь этой единственной стране, ожесточенно сражающейся с германскими армиями».
Сокращение в летние месяцы до минимума поставок северным маршрутом Лондон и Вашингтон объясняли тем, что в период, когда за Полярным кругом светло, потери транспортов значительно возрастают. В этом, конечно, была доля истины. Но многое зависело и от действий англо-американского командования, от его готовности преодолевать возникшие в тот период трудности.
Известна история с конвоем «PQ-17», состоявшим из 34 транспортов и двух спасательных судов. Конвой вышел из Исландии в начале июня 1942 года. Несмотря на летний период, охрана судов была организована из рук вон плохо. Для прикрытия конвоя в различных пунктах по пути его следования английское адмиралтейство, осуществлявшее верховное командование в данном районе, сосредоточило крупные американские и британские военно-морские силы. Но когда возникла подлинная опасность (стало известно, что немецкий линкор «Тирпиц» вышел на перехват транспортных кораблей), начальник английского морского штаба адмирал Д. Паунд приказал всем силам прикрытия отойти на запад. Транспорты оказались без всякой защиты. Имея предельную скорость лишь в 9–10 узлов, они стали легкой добычей для немецких подводных лодок и авиации. В итоге из 34 транспортных судов погибло 24. Командование советского Северного флота приняло энергичные меры для поиска и спасения уцелевших транспортов, выслав для этого в район бедствия свои корабли и самолеты. Оставшиеся на плаву суда благополучно пришли под охраной советских кораблей в Архангельск.
По поводу этого трагического эпизода с конвоем «PQ-17» И. В. Сталин писал Черчиллю 23 июля 1942 г. следующее:
«Приказ Английского Адмиралтейства 17-му конвою покинуть транспорты и вернуться в Англию, а транспортным судам рассыпаться и добираться в одиночку до советских портов без эскорта наши специалисты считают непонятным и необъяснимым».
Советское правительство настаивало, чтобы намеченные поставки продолжали регулярно поступать в Советский Союз, в том числе и северным путем. Но Лондон и Вашингтон, ссылаясь на случай с конвоем «PQ-17», решили приостановить отправки транспортов в советские северные порты. Движение конвоев этим маршрутом возобновилось лишь в сентябре.
Говоря о поставках по «ленд-лизу», важно сравнить объем советского производства вооружения с тем, что поступило за годы войны из США и Англии. При этом, пожалуй, наиболее показательно обеспечение Красной Армии такими важнейшими видами оружия того времени, как самолеты и танки. По американским официальным данным, из США в СССР за весь период войны было отправлено 14 450 самолетов и около 7 тысяч танков. Из Англии с начала Великой Отечественной войны по 30 апреля 1944 г. было поставлено 3384 самолета и 4292 танка. 1188 танков были получены за тот же период из Канады. Советская же промышленность только в течение трех последних лет Великой Отечественной войны выпускала более 30 тыс. танков и самоходных орудий и до 40 тыс. самолетов ежегодно. В целом поставки в СССР промышленных товаров союзниками за всю войну составили 4 % объема советской промышленной продукции.
И все же советская сторона неизменно признавала, что военные материалы, которые СССР получал от союзников, оказали известную помощь Красной Армии в ее боевых операциях, особенно в первый период войны. Эта помощь была принята с признательностью советскими воинами, советским народом и правительством.
Проблема второго фронта
Совершая нападение на Советский Союз, Гитлер исходил из того, что с Запада в ближайший обозримый период ему ничто не угрожает. Франция была повержена, значительная ее часть находилась под пятой вермахта, а территорией, оставшейся под контролем Виши, управлял послушный Берлину коллаборационист маршал Петэн. Англия, пережив унижение поспешного бегства ее экспедиционных сил из Дюнкерка и подвергшаяся ожесточенным налетам люфтваффе осенью 1940 и весной 1941 года, что принесло серьезные разрушения Лондону, Ковентри и другим городам, все еще не могла оправиться от шока. В Атлантике пиратствовали немецкие подводные лодки, серьезно затруднявшие доставку из Соединенных Штатов на Британские острова вооружения, боеприпасов и другого снаряжения.
Летом 1941 года Гитлер все еще надеялся, что англичане будут по меньшей мере бездействовать, пока он займется «ликвидацией» ненавистного ему социалистического государства.
Исходя из таких расчетов, Гитлер сосредоточил против Советского Союза всю мощь «третьего рейха», экономический потенциал оккупированной им Западной Европы, а также своих сателлитов. Для вторжения в Страну Советов была сконцентрирована более чем пятимиллионная армия, располагавшая в изобилии самым современным оружием. Отсутствие активных военных действий на Западе позволило германскому командованию, по мере развертывания операций на Восточном фронте, бросать против Советского Союза все новые дивизии, танковые корпуса, авиаэскадрильи.
Поэтому важнейшая задача Советского правительства с самого начала формирования антигитлеровской коалиции заключалась в том, чтобы побудить ее западных участников открыть второй фронт в Западной Европе. Только так можно было наиболее эффективным образом сорвать замыслы гитлеровского командования, подорвать моральный дух противника и снять хотя бы часть бремени с Красной Армии, героически сопротивлявшейся наступавшим фашистским полчищам.
Между тем Англия, а затем после Пёрл-Харбора и США из месяца в месяц, из года в год оттягивали открытие второго фронта, систематически нарушали собственные обещания осуществить операцию через Ла-Манш сначала в 1941, затем 1942 и 1943 годах. Это явилось одним из наиболее важных факторов, осложнявших отношения между участниками антигитлеровской коалиции. Нельзя было не видеть, что Лондон и Вашингтон умышленно затягивали открытие второго фронта. В Великобритании и США имелись влиятельные круги, которые не скрывали своих расчетов обескровить на советско-германском фронте обе сражающиеся стороны, с тем чтобы выступить на последнем этапе войны арбитрами и продиктовать свою волю. Подобные цели не имели, разумеется, ничего общего с союзническими обязательствами, с задачей обеспечения скорейшей победы над врагом человечества — фашизмом.
Проблема второго фронта постоянно затрагивалась как в переговорах между представителями стран — участниц антигитлеровской коалиции на различных уровнях, так и в переписке руководителей трех великих держав — Советского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании. Особенно острая дискуссия происходила в 1942 и 1943 годах. В тот период отношения между Советским Союзом, с одной стороны, Англией и США — с другой, были весьма сложными из-за затяжки с открытием второго фронта.
Весной 1942 года президент Рузвельт сообщил главе Советского правительства, что считает целесообразным обменяться мнениями с авторитетным советским представителем по ряду важных вопросов ведения войны против общего врага. В личном и секретном послании, полученном в Москве 12 апреля 1942 г., президент США писал:
«К несчастью, географическое расстояние делает нашу встречу практически невозможной в настоящее время. Такая встреча, дающая возможность личной беседы, была бы чрезвычайно полезна для ведения войны против гитлеризма. Возможно, что, если дела пойдут так хорошо, как мы надеемся, мы с Вами сможем провести несколько дней вместе будущим летом близ нашей общей границы возле Аляски. Но пока что я считаю крайне важным с военной и других точек зрения иметь что-то максимально приближающееся к такому обмену мнениями».
Далее Рузвельт пояснял, что имеет в виду обсудить на достаточно высоком уровне весьма важное военное предложение, связанное с использованием американских вооруженных сил таким образом, чтобы облегчить критическое положение на советско-германском фронте. Подчеркнув, что этой цели он придает огромное значение, президент продолжал:
«Я хотел бы, чтобы Вы обдумали вопрос о возможности направить в самое ближайшее время в Вашингтон г-на Молотова и доверенного генерала. Время имеет большое значение, если мы должны оказать существенную помощь…»
Послание это было знаменательным. Ведь на протяжении почти целого года после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз западные державы под тем или иным предлогом отказывались даже обсуждать вопрос об открытии второго фронта. Теперь же в обращении президента США содержался весьма недвусмысленный намек на то, что, во всяком случае, Вашингтон готов предпринять своими вооруженными силами определенные военные акции с целью «облегчить положение на советско-германском фронте» и хочет в связи с этим посоветоваться с советской стороной перед принятием «окончательного решения».
Поэтому, давая положительный ответ на предложение президента США, советская сторона сочла необходимым подчеркнуть свою заинтересованность прежде всего в скорейшем открытии второго фронта в Европе.
20 апреля И. В. Сталин отправил Рузвельту послание, в котором говорилось:
«Советское правительство согласно, что необходимо устроить встречу В. М. Молотова с Вами для обмена мнений по вопросу об организации второго фронта в Европе в ближайшее время. В. М. Молотов может приехать в Вашингтон не позже 10–15 мая с соответствующим военным представителем…»
В этой поездке наркома иностранных дел сопровождал в качестве переводчика В. Н. Павлов. Их группа отправилась в переоборудованном для этой цели советском бомбардировщике дальнего действия через Шотландию в Лондон, а затем через Исландию в Вашингтон. Чтобы сбить с толку вездесущих английских и американских репортеров, делегация фигурировала под названием «миссия мистера Брауна». Как потом выяснилось, кое-какая информация о действительном руководителе этой миссии все же просочилась в довольно широкие круги Вашингтона через официального американского переводчика. Тем не менее в прессе об этом не появлялось сообщений, пока советская делегация не возвратилась домой.
Как уже сказано, наиболее важное место в ходе переговоров советской делегации в Лондоне и Вашингтоне занимал вопрос об открытии второго фронта.
В Лондоне между советскими и британскими представителями состоялись переговоры и по другим важнейшим вопросам, в частности об англо-советском договоре, который был тогда заключен.
Что же касается открытия второго фронта, то английское правительство поначалу уклонялось от определенных обязательств на этот счет. В ходе последующих переговоров наркома иностранных дел в Вашингтоне было все же достигнуто конкретное соглашение. После этого Лондон не мог уже оставаться в стороне. Английскому правительству пришлось подписать англосоветское коммюнике, в котором повторялась согласованная ранее советско-американская формулировка: «достигнута договоренность в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 году».
Между тем британское правительство, подписывая это коммюнике, вовсе не собиралось выполнять свое обязательство. В меморандуме от 10 июня 1942 г. оно сделало оговорки, открывавшие лазейку для уклонения от выполнения союзнического долга, требовавшего открытия второго фронта. При этом английское правительство заявляло, что если второй фронт не удастся почему-либо открыть в 1942 году, то вторжение во Францию обязательно начнется в следующем, 1943 году с участием английских и американских войск численностью до 1,5 млн. человек.
Далее события развивались следующим образом. Сразу же после завершения этих переговоров в Лондоне и Вашингтоне Уинстон Черчилль принялся убеждать правительство Соединенных Штатов в необходимости отказаться от только что достигнутой договоренности об открытии второго фронта в Европе в 1942 году (операция «Следжхэммер»). Он категорически заявил Рузвельту, что о высадке во Франции в ближайшее время не может быть и речи. Вместо этого Черчилль предложил изучить возможность военной операции, получившей в дальнейшем кодовое название «Факел» и имевшей целью освобождение Северной Африки. Поначалу американские военные, в том числе генерал Маршалл, возражали против «Факела», считая, что осуществление этой операции потребует такого количества времени, сил и средств, что сделает невозможным высадку крупных союзных сил во Франции не только в 1942, но и в 1943 году. Такого же мнения придерживался и Рузвельт, продолжавший настаивать на вторжении в Северную Францию осенью 1942 года. Британский премьер, однако, упорно стоял на своем.
8 июля он послал президенту Рузвельту телеграмму, в которой говорилось: «Ни один ответственный английский генерал, адмирал или маршал авиации не считает возможным рекомендовать „Следжхэммер“ в качестве практически осуществимой операции в 1942 году. Лично я уверен, что оккупация французской Северной Африки является лучшим способом облегчить положение на русском фронте в 1942 году».
В Лондоне состоялось совещание английских властей и американских представителей во главе с Гопкинсом, на котором обсуждался вопрос, какой операции отдать предпочтение: «Факелу» или «Следжхэммеру». Черчилль доказывал неосуществимость операции во Франции и требовал подготовки к захвату Северной Африки. Переговоры поначалу зашли в тупик. Гопкинс апеллировал к Рузвельту, но тот не сделал никакой попытки спасти американский план и выполнить взятые перед Советским Союзом обязательства.
Рузвельт даже не счел нужным обратиться в решающий момент к Черчиллю, хотя постоянно поддерживал с ним личную переписку. Президент США попросту принял оппозицию англичан «Следжхэммеру» как непреложный факт и телеграфировал Гопкинсу и Маршаллу, находившимся в Лондоне, что им следует найти «какие-либо другие наземные операции против немецких войск, в которых американские солдаты приняли бы обязательное участие в 1942 году». В качестве таких возможных операций президент, в частности, упомянул действия в Северной Африке или на Среднем Востоке. Получив такие директивы, Гопкинс и Маршалл быстро договорились с англичанами: вопрос о вторжении во Францию был снят с повестки дня.
Итак, Черчилль настоял на своем. Англия и США согласились, что в 1942 году второго фронта в Европе не будет и что англичане и американцы проведут операцию «Факел» в Северной Африке. Вместе с тем оба правительства заявили, что подготовка к осуществлению крупной операции по высадке в Северной Франции в 1943 году будет продолжаться. Суть дела заключалась в том, что уже тогда Черчилль готовил почву для отказа от вторжения во Францию и в 1943 году. Впоследствии он писал в своих мемуарах: «Общее мнение американских военных сводилось к тому, что решение в пользу „Факела“ исключает всякую возможность крупной операции через Ла-Манш для оккупации Франции в 1943 году. Я тогда еще не мог согласиться с этим».
Тут британский премьер явно пытается выгородить себя задним числом. Ведь именно он был инициатором «Факела», а следовательно, не только отказа открыть второй фронт в Европе в 1942 году, но и создания условий, которые делали невозможной высадку во Франции и в 1943 году. Изображая впоследствии дело так, будто он не мог поначалу согласиться с мнением «американских военных», Черчилль, мягко говоря, грешил против истины. Маршал Монтгомери писал в своих воспоминаниях: «Когда североафриканский проект („Факел“) был одобрен, все понимали, что это означает не только отказ от всяких операций в Западной Европе в 1942 году, но и утрату возможности подготовить в Англии военные силы для атаки через Ла-Манш в 1943 году».
Как уже сказано выше, весьма двусмысленную роль в данном вопросе сыграл президент Рузвельт. В период второй мировой войны, да и после нее, многие были склонны слишком уж идеализировать Рузвельта. О нем говорили как об убежденном антифашисте, горячем стороннике самоопределения наций. Между тем Рузвельт не совсем походил на этот приукрашенный портрет. Нельзя забывать, что он был прежде всего сыном своего класса. Вопреки воле наиболее твердолобых представителей крупной американской буржуазии, но стремясь, разумеется, действовать в интересах американского капитализма в тяжелейший для него период — во время мирового кризиса 1929–1933 годов, он прибегал к мерам, выглядевшим иногда радикально. Однако он всегда был и до конца оставался представителем господствующей верхушки Соединенных Штатов. Его «новый курс» имел целью одно — содействовать укреплению американского капитализма.
Эта сущность Рузвельта как государственного деятеля проявлялась и в его внешнеполитических акциях. Вступив в военный союз с Советской страной во имя победы над общим врагом, Рузвельт в главных вопросах того времени проводил курс, отвечавший глобальным интересам американского империализма. Стоит в этой связи привести выдержку из книги сына президента — Эллиота Рузвельта «Его глазами». В ней воспроизводятся следующие слова, характеризующие позицию президента Рузвельта и понимание им роли, которую должны были сыграть Соединенные Штаты во второй мировой войне. Президент говорил своему сыну:
— Ты представь себе, что это футбольный матч. А мы, скажем, резервные игроки, сидящие на скамье. В данный момент основные игроки — это русские, китайцы и в меньшей степени англичане. Нам предназначена роль игроков, которые вступят в игру в решающий момент… Я думаю, что момент будет выбран правильно…
Эта точка зрения не раз находила свое выражение в позиции Рузвельта по проблеме второго фронта. Когда вопрос встал ребром: выполнять ли обязательства перед Советским Союзом или совместно с другим буржуазным политиком — Черчиллем разработать тактику, которая в то время казалась правящим кругам Лондона более подходящей, Рузвельт склонился на сторону британской империалистической политики.
Договорившись с Рузвельтом, Черчилль объявил, что лично объяснит Сталину причины, по которым Англия и США отказываются от ранее данного обещания открыть второй фронт в 1942 году. 18 июля он направил главе Советского правительства послание, в котором впервые официально сообщалось о решении западных союзников не осуществлять вторжение во Францию в 1942 году.
Послание Черчилля вызвало, естественно, резко отрицательную реакцию советской стороны. В ответном письме Черчиллю от 23 июля Сталин подчеркивал, что решение Англии и США принято, «несмотря на известное согласованное Англо-Советское коммюнике о принятии неотложных мер по организации второго фронта в 1942 году». Сталин далее писал: «Исходя из создавшегося положения на советско-германском фронте, я должен заявить самым категорическим образом, что Советское Правительство не может примириться» с этим.
Понимая, что сложившаяся ситуация может осложнить отношения с СССР, Черчилль поспешил отправиться в Москву.
Уинстон Черчилль в Москве
Когда в первые годы существования Советской власти Уинстон Черчилль, бывший тогда членом британского кабинета, выступил вдохновителем антибольшевистского похода четырнадцати буржуазных государств, он, конечно, не мог подозревать, что спустя два десятка лет ему придется ехать в качестве эмиссара правящих кругов Англии и США в Москву — столицу советской державы, союзницы Великобритании. К тому же он вынужден был играть незавидную роль политика, которому приходится оправдываться и маневрировать в связи с нарушением торжественно принятого ранее обязательства открыть второй фронт.
Надо полагать, во время своего первого полета в Москву летом 1942 года Черчилль не мог не задуматься над поучительным уроком, преподанным ему историей. Во всяком случае, когда британский премьер во второй половине дня 12 августа спускался по трапу самолета, только что приземлившегося в Центральном аэропорту в Москве, он имел весьма озабоченный вид. И хотя официальная церемония встречи соблюдалась по всем правилам, включая исполнение национальных гимнов и обход почетного караула, атмосфера царила довольно холодная.
Советские официальные лица вели себя сдержанно. Обходя почетный караул, Черчилль, втянув голову в плечи, пристально всматривался в каждого солдата, как бы взвешивая стойкость советских воинов, сдерживавших отчаянный натиск гитлеровцев на гигантском фронте, пересекавшем советскую землю от Ледовитого океана до Черного моря.
Вместе с Черчиллем в Москву прибыли Гарриман в качестве личного представителя президента Соединенных Штатов на предстоявших переговорах, а также группа военных.
Прямо с аэродрома Черчилля отвезли в отведенную ему загородскую резиденцию в Кунцево, а Гарримана — в предоставленный в его распоряжение особняк в переулке Островского. Остальные члены делегации поселились в гостинице «Националь». Для отдыха у гостей оставалось мало времени: вечером Черчилль и Гарриман должны были встретиться с главой Советского правительства И. В. Сталиным. На этой беседе присутствовали также В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов и британский посол Арчибальд Кларк Керр.
Во время переговоров в Кремле летом 1942 г. Слева направо: У. Черчилль, А. Гарриман, И. В. Сталин.
Это была первая встреча главы Советского правительства с лидером Британской империи. Черчилль был явно взволнован. Его выдавала излишняя суетливость. Премьер уверял, что его радости по случаю прибытия в героическую Москву нет предела. Сталин, напротив, держался очень сдержанно.
Черчилль, начав беседу, поинтересовался положением на советско-германском фронте. Сталин сказал, что ситуация вокруг Москвы сравнительно нормальная. Но на южных фронтах дело обстоит сложнее. В направлении Баку и Сталинграда нацисты наступают с большей силой, чем ожидалось. Им удалось кое-где прорвать линию фронта Красной Армии. Сталин заметил, что ему просто непонятно, как Гитлер сумел собрать в один кулак такое большое количество войск и танков.
— Думаю, — продолжал Сталин, — что Гитлер выкачал все, что возможно, из Европы. Но мы полны решимости удержать Сталинград. Красная Армия готовится предпринять серьезную атаку севернее Москвы, чтобы отвлечь нацистские силы с южных фронтов…
Черчилль заметно помрачнел. Получив информацию о сложном положении на советско-германском фронте, он должен был теперь обосновывать, почему обещание об открытии в 1942 году в Европе второго фронта не будет выполнено, почему вновь откладывается вторжение через Ла-Манш.
Черчилль начал издалека. Сначала принялся многословно рассказывать, как проходит концентрация значительных контингентов войск Англии и Соединенных Штатов, а также боеприпасов и вооружений на Британских островах. Затем стал говорить о возможности сосредоточения значительных германских войсковых соединений на Западе, из-за чего операции союзников в Нормандии связаны, дескать, с большим риском. Наконец, он, как бы невзначай, сказал, что приготовления к высадке будут закончены в следующем году.
Сталин решительно возразил против такого плана. Он опроверг приведенные Черчиллем цифры относительно численности германских войск, якобы находившихся в Западной Европе. Глава Советского правительства утверждал, что в действительности этих войск значительно меньше, а те дивизии, что имеются, не в полном составе. Что же касается риска, в котором упомянул Черчилль, то, по мнению Сталина, любой человек, который не хочет рисковать, не может выиграть войну. Черчилль нехотя согласился с этим в принципе, но сказал, что бессмысленно жертвовать войсками, которые будут так необходимы к следующему лету.
Последовала острая дискуссия, в ходе которой Сталин подчеркивал, что никак не может принять заявление Черчилля, хотя понимает, что не в состоянии заставить британское правительство поступить по-иному. Он вновь сказал, что Советское правительство самым решительным образом не согласно с этим. В свою очередь Черчилль, стремясь отойти от этой неприятной темы, перевел разговор на другую проблему. Он принялся излагать план операции «Факел» — вторжения в Северную Африку, которое намечалось осуществить в октябре 1942 года. Черчилль высказывал мысль, что эта операция выведет Италию из войны.
Гарриман поддержал план Черчилля, добавив, что, насколько он знает, президент Рузвельт хочет предпринять операцию в Северной Африке возможно скорее.
Сталин терпеливо выслушал сообщения об операции в Северной Африке и задал ряд конкретных вопросов. В частности, он поинтересовался политической реакцией на эту операцию во Франции и Испании. Черчилль ответил, что, как он полагает, во Франции будет положительная реакция. Что же касается Испании, то это его мало интересует.
Затем разговор снова вернулся к проблеме второго фронта в Западной Европе, причем Черчилль несколько раз подчеркивал важность операции в районе Балкан, которая станет, дескать, возможной после успешной высадки англо-американских войск в Северной Африке. Беседа закончилась поздно, но Черчилль так и не получил согласия советской стороны на изменение первоначально согласованного между тремя державами плана высадки западных союзников в Нормандии в 1942 году.
Балканский вариант
Высказанная Черчиллем идея развертывания операций из Северной Африки против «мягкого подбрюшья Европы» показывает, что уже тогда британский премьер вынашивал планы высадки англо-американских войск на Балканах, чтобы вступить в страны Юго-Восточной Европы раньше прихода туда Красной Армии. Суть дела заключалась в том, чтобы, сохранив в граничащих с Советским Союзом государствах реакционные режимы, возродить так называемый «санитарный кордон» против большевизма, повторив тем самым операцию, которую державы Антанты осуществили после первой мировой войны.
Позднее Черчилль в своих мемуарах отрицал тот факт, что он хотел заменить высадку во Франции вторжением на Балканы. Но его изобличают факты и свидетельства современников. Так, известный политический деятель того времени Оливер Литлтон пишет в своих воспоминаниях: «Черчилль все вновь и вновь обращал внимание на преимущества, которые могли быть получены, если бы западные союзники, а не русские, оказались освободителями и оккупировали некоторые столицы, такие как Будапешт, Прага, Вена, Варшава…»
В записке, адресованной министерству иностранных дел Англии, сам Черчилль высказывался вполне определенно. «Вопрос стоит так, готовы ли мы примириться с коммунизацией Балкан и, возможно, Италии?.. Наш вывод должен состоять в том, что нам следует сопротивляться коммунистическому проникновению и вторжению».
Балканская авантюра Черчилля в конечном счете сорвалась из-за решительного сопротивления Советского Союза, а также позиции президента Рузвельта. Он, видимо, понимал, что британская стратегия имеет и антиамериканскую направленность, поскольку установление английского господства в Юго-Восточной Европе никак не соответствовало замыслам Вашингтона, который рассчитывал расширить свое влияние и в этом районе.
Характерно, однако, что даже после отклонения плана операции на Балканах Черчилль пытался оказать давление на тогдашнего командующего англо-американскими экспедиционными силами генерала Эйзенхауэра, с тем чтобы США поддержали балканскую стратегию Лондона. В своих воспоминаниях Эйзенхауэр подчеркивал, что, по мнению Черчилля, «послевоенное положение, когда западные союзники имели бы больше сил на Балканах, было бы более благоприятным для создания устойчивого мира… чем если бы русские армии оккупировали этот район». «Я отлично понимал, — писал далее Эйзенхауэр, — что стратегия может быть подчинена политическим соображениям, если президент и премьер-министр решат, что имеет смысл продлить войну и увеличить таким образом людские и материальные потери. Если это делается для того, чтобы добиться политических целей, которые им представляются необходимыми, я был бы готов незамедлительно и со всей лояльностью пересмотреть соответствующим образом свои планы. Но поскольку Черчилль приводил аргументы военного характера, я не мог с ним согласиться».
Это свидетельство Эйзенхауэра убедительно вскрывает подлинный смысл намерений Черчилля. Что касается замечания лидера британских тори насчет «устойчивого мира» в случае оккупации Балкан западными союзниками, то смысл его понять нетрудно: он имел в виду прежде всего «устойчивость» британского контроля в этой части Европы. Добиваясь такого курса, он, по сути дела, грубо нарушал ранее данное им же обязательство. И это его нисколько не смущало. Впрочем, он сам как-то с предельным цинизмом изложил свое кредо: «Было бы просто катастрофичным, если бы мы твердо соблюдали все свои соглашения».
Идею балканской операции Черчилль с особой настойчивостью проталкивал в конце 1943 года во время Тегеранской конференции руководителей трех великих держав. Это было после того, как Англия и США вновь отказались выполнить свое обязательство о высадке в Северной Франции. Знаменательно, что год назад, будучи в Москве, он зондировал почву насчет балканского варианта. Следовательно, его идея высадки англоамериканских войск в Юго-Восточной Европе имела давнюю историю. Отсюда ясно, что победу над общим врагом Черчилль ставил на второй план. Главное, к чему он стремился, — это закрепить империалистические позиции Великобритании в Европе, ставя при этом во главу угла борьбу против коммунизма.
Характерно, что эти мысли занимали премьер-министра Англии тогда, когда Красная Армия вела кровопролитные бои с гитлеровскими полчищами, защищая не только свою землю, но и все человечество от фашистского порабощения. В летние месяцы 1942 года мы с тревогой следили за ходом боев на Южном фронте, где враг, несмотря на огромные потери, упорно продвигался к Волге и предгорьям Кавказа. Советские люди, напрягая до предела свои силы, делали все, чтобы помочь фронту. Тысячи и тысячи воинов, не щадя жизни, грудью преграждали путь врагу. В то время Советская страна особенно остро нуждалась в эффективной помощи союзников. Самое решающее значение имела бы тогда высадка англо-американских войск во Франции — именно этого ждала советская общественность. Но в Лондоне и Вашингтоне все вновь откладывали эту операцию, руководствуясь мотивами, ничего общего не имевшими с задачей сокращения сроков войны.
Два меморандума
На следующий день, 13 августа, в 11 часов вечера переговоры между главой Советского правительства и британским премьером возобновились. Сталин вновь упрекнул западные державы в том, что они не выполняют взятых на себя обязательств. Он напомнил, что всего лишь два месяца назад, когда Молотов был в Лондоне, там договорились об открытии второго фронта в 1942 году. Поскольку теперь выясняется, что эта операция не состоится, Красная Армия может оказаться в сложном положении. Глава Советского правительства далее подчеркнул, что совершенно необходимо, чтобы второй фронт в Северной Франции был открыт именно в 1942 году. Перенесение этой операции на следующий год может сделать ее еще более трудной. Сталин вручил Черчиллю меморандум, в котором подробно излагалась позиция Советского правительства. В нем, в частности, отмечалось:
«В результате обмена мнений в Москве, имевшего место 12 августа с. г., я установил, что Премьер-Министр Великобритании г. Черчилль считает невозможной организацию второго фронта в Европе в 1942 году.
Как известно, организация второго фронта в Европе в 1942 году была предрешена во время посещения Молотовым Лондона и она была отражена в согласованном англо-советском коммюнике, опубликованном 12 июня с. г…
Вполне понятно, что Советское Командование строило план своих летних и осенних операций в расчете на создание второго фронта в Европе в 1942 году.
Легко понять, что отказ Правительства Великобритании от создания второго фронта в 1942 году в Европе наносит моральный удар всей советской общественности, рассчитывающей на создание второго фронта, осложняет положение Красной Армии на фронте и наносит ущерб планам Советского Командования.
Я уже не говорю о том, что затруднения для Красной Армии, создающиеся в результате отказа от создания второго фронта в 1942 году, несомненно, должны будут ухудшить военное положение Англии и всех остальных союзников.
Мне и моим коллегам кажется, что 1942 год представляет наиболее благоприятные условия для создания второго фронта в Европе, так как почти все силы немецких войск, и притом лучшие силы, отвлечены на Восточный фронт, а в Европе оставлено незначительное количество сил, и притом худших сил. Неизвестно, будет ли представлять 1943 год такие же благоприятные условия для создания второго фронта, как 1942 год…»
Ознакомившись с меморандумом, Черчилль, вопреки фактам, принялся уверять, что никакого определенного решения об открытии второго фронта в 1942 году якобы вообще не было. В конце концов он заявил, что ответит на этот меморандум в письменном виде.
Затем британский премьер стал распространяться о том, что планы высадки в Северной Африке это, по его мнению, наилучшая возможность помочь Советскому Союзу. Обращаясь к Гарриману, Черчилль предложил ему высказать свое мнение.
Гарриман поддержал премьер-министра Англии и заявил, что принятое сейчас в Лондоне и Вашингтоне решение является результатом серьезного взвешивания всех обстоятельств.
— Я хочу доложить, сказал Гарриман, что, по мнению президента Рузвельта, намеченное мероприятие отвечает интересам Советского Союза. К тому же эти действия обещают нам успех…
Все эти доводы не поколебали Сталина. Он повторил, что западные союзники пренебрегают необходимостью поддержать Советский Союз именно сейчас, когда это особенно важно. Обращаясь к Черчиллю, он не без иронии сказал:
— Британская армия не должна так сильно бояться немцев…
Черчилль вспылил: он-де возмущен таким обвинением и может простить это только потому, что восхищается героической борьбой Красной Армии. Немного успокоившись, Черчилль добавил, что Сталин не должен упускать из виду существование такой водной преграды, как Ла-Манш. Затем Черчилль стал распространяться о том, что на протяжении первого периода войны Англия, дескать, одна стояла против немецких армий, хотя, как известно, основная акция британской армии в то время заключалась в поспешной эвакуации с европейского континента через Дюнкерк. Далее Черчилль скороговоркой повторил все те же аргументы против вторжения во Францию в 1942 году, не давая переводчику возможности воспроизвести его слова по-русски. Когда, наконец, Черчилль сделал паузу и переводчик с трудом попытался изложить то, что он говорил, Сталин прервал его.
— Дело не в том, — сказал он, — какие слова произнес премьер-министр, а в том, что он продемонстрировал нам здесь свою решимость и боевой дух…
Это замечание несколько разрядило обстановку. Разговор перешел на другие темы. Сталин выразил беспокойство по поводу приостановки конвоев, идущих в Мурманск и Архангельск. Катастрофа с конвоем «PQ-17», сказал он, не должна привести к задержке поставок. Гарриман в принципе согласился с этим, но подчеркнул необходимость более широкого использования южного маршрута через Персидский залив и Трансиранскую железную дорогу, а также пути, ведущего из Аляски в Сибирь.
Черчилль снова поднял вопрос о посылке британских войск после осуществления операции «Факел», чтобы «помочь Красной Армии» несением гарнизонной службы на Кавказе. Сталин не проявил интереса к этому предложению.
Совместное коммюнике
В 8 часов вечера Сталин, принимая гостей, собравшихся на обед в Екатерининском зале Кремлевского дворца, был в отличном настроении. Как будто и не было накануне неприятного разговора с Черчиллем и Гарриманом по поводу второго фронта. Но Черчилль в начале вечера явно был не в своей тарелке после резкого разговора со Сталиным, нервно дымил сигарой и часто прикладывался к коньяку.
Между Черчиллем и Сталиным вскоре завязался оживленный разговор — начиная от военной тактики и кончая проблемами послевоенного устройства. Время от времени к беседе подключался Гарриман. В частности, он поднял вопрос о возможности встречи между премьером Сталиным и президентом Рузвельтом, спросив, когда и где такая встреча могла бы состояться. Сталин заметил, что эта встреча имела бы очень важное значение, и предложил провести ее как-нибудь зимой, когда он не будет столь сильно загружен делами фронта. Что касается места встречи, то назывались различные пункты — от Алеутских островов до Исландии.
Затем Сталин перешел к текущим вопросам. Он выразил недовольство задержкой с отправкой конвоев в северные порты Советского Союза и высказал пожелание, чтобы правительства Англии и США приняли меры к ускорению поставок. Черчилль и Гарриман обещали это учесть.
К концу обеда Сталин стал произносить тосты в честь различных родов войск Красной Армии, подходя соответственно к каждому из маршалов и генералов, командующих этими войсками. Из иностранцев тоста Сталина удостоился только президент Рузвельт. Черчилль был явно обижен, но молча проглотил эту пилюлю.
Кофе пили за маленьким столом в комнате, примыкавшей к Екатерининскому залу. Здесь продолжался непринужденный разговор. Сталин и Черчилль обменивались воспоминаниями о различных периодах советско-английских отношений. Заговорили, в частности, о поездке леди Астор в Москву в тридцатые годы. Сталин сказал, что леди Астор уверяла, будто Черчилль конченый человек, что он никогда не будет играть никакой роли на политической сцене. Но Сталин был тогда иного мнения. Он сказал леди Астор:
— Если произойдет война, Черчилль станет премьер-министром.
Черчилль поблагодарил Сталина за такую оценку его качеств политического деятеля.
— При этом, — заметил Черчилль, — я сам должен признать, что далеко не всегда относился дружественно к Советскому Союзу, особенно сразу же после первой мировой войны.
Сталин примирительно сказал:
— Я это знаю. Уж в чем вам нельзя отказать, так это в последовательности в отношении вашей оппозиции к советскому строю.
— Можете ли вы простить мне все это? — спросил Черчилль.
Сталин немного помолчал, посмотрел на Черчилля, прищурив глаза, и спокойно ответил:
— Не мое дело прощать, пусть вас прощает ваш бог. А в конце концов нас рассудит история.
Во время этого обеда произошел инцидент, который вначале всполошил, а потом изрядно рассмешил всех присутствовавших. Как раз тогда, когда за пломбиром и кофе между Сталиным, Черчиллем и Гарриманом шел оживленный разговор, неподалеку от их столика вдруг раздался грохот. Внимание всех привлекли резкий звон разбитой посуды, возбужденные возгласы. Обернувшись, мы увидели распростертого на полу человека. Рядом валялись черепки фарфора, бутылки и осколки стекла. Казалось, случилось несчастье. Вокруг упавшего уже собирались другие гости, загораживая его от нас.
Когда к месту происшествия подошли Сталин, Черчилль и Гарриман в сопровождении переводчиков, все расступились, и мы увидели, что лежавший на полу человек с налитым кровью лицом и глупо моргавшими глазами был личный телохранитель и дворецкий британского премьера командор Томпсон, или Томми, как его ласково называл не чаявший в нем души Черчилль. Рядом с ним стоял во весь свой незаурядный рост посол его величества Арчибальд Кларк Керр в парадном, расшитом золотом сюртуке с муаровой орденской лентой через плечо и палашом, украшенным драгоценными камнями. Но что у него был за вид! По сюртуку и муаровой ленте расползался розовый пломбир, палаш был испачкан кофейной гущей, а сам Керр с трудом старался преодолеть растерянность, готовясь ответить на недоуменный и тревожный взгляд Черчилля.
— Объясните, что здесь произошло? — спросил британский премьер.
Посол Керр, наконец, овладел собой и скороговоркой произнес:
— Вы же знаете, ваше превосходительство, Томми может выпить уйму вина и никогда не пьянеет…
— За это я его и ценю, — вставил Черчилль и улыбнулся, уже догадываясь, что ничего страшного не случилось.
— Но на этот раз он переоценил свои возможности, соревнуясь с русскими коллегами, — продолжал Керр. — И надо же было, чтобы в этот момент ему почудилось, что вы, ваше превосходительство, нуждаетесь в его защите. Он резко вскочил, но не смог сохранить равновесие, схватился за скатерть… и вот видите…
Керр показал рукой на свой перепачканный сюртук, а потом на все еще лежавшего на полу Томпсона. Все весело рассмеялись. Томпсона быстро поставили на ноги и под руки увели за дверь. Инцидент был исчерпан.
На рассвете Черчилль, Гарриман и сопровождающие их лица, включая весьма помятого, но уже вполне трезвого Томпсона, прибыли на Центральный аэродром. В 5 часов утра, после официальной церемонии проводов, они вылетели в Тегеран, а оттуда дальше — в столицы своих стран. Уже после того как они прибыли к месту назначения, 18 августа было опубликовано англо-советское коммюнике о переговорах премьер-министра Великобритании г. Черчилля с Председателем Совнаркома СССР И. В. Сталиным.
В нем, разумеется, не было и тени намека на серьезные разногласия между союзниками в вопросе об открытии второго фронта и на острые дискуссии. Это было естественным для того периода. Ведь шла жестокая война, и перед лицом коварного врага союзники должны были предстать едиными и непоколебимыми в их решимости добиться победы.
Тревожные месяцы
Лето 1942 года выдалось сухим и жарким. Стояли душные дни, и, когда удавалось хотя бы на несколько часов выбраться за город, с особой силой ощущалась прелесть подмосковной природы. Жизнь нашей группы сотрудников Наркоминдела постепенно входила в более или менее нормальную колею. Те из нас, кто до войны не имел в Москве жилплощади, получили комнаты или квартиры и перебрались, наконец, в свое жилье из служебного здания Наркоминдела. Там приводились в порядок помещения для работников, которых все чаще вызывали по делам из Куйбышева в Москву. Некоторые из них подолгу здесь оставались, а кое-кто не возвращался назад. На Клязьме вновь открылось несколько коттеджей в наркоминдельском дачном посёлке. Работавшие посменно могли проводить там свободное время.
В пойме реки Клязьмы появились небольшие огородные участки — желающие могли посадить там овощи. Обрабатывались эти участки в немногие свободные от работы часы, да к тому же в большинстве случаев совершенно неумело, и все же, когда поспели огурцы, морковь и капуста, это было неплохой добавкой к скудному пайку, который мы тогда получали.
В Москву вернулись из эвакуации некоторые театры. В Большом зале Консерватории давались концерты симфонической и органной музыки, в Центральном доме Красной Армии снова стал выступать прославленный ансамбль песни и пляски под управлением его основателя и дирижера профессора Александрова. Во МХАТе большой успех имела новая пьеса А. Корнейчука «Фронт». Вспоминается ее премьера. Театр был переполнен. Большую часть мест занимали военные — офицеры в полевой форме с зелеными фронтовыми знаками отличия. Те, кто приезжал с передовой в тыл на побывку или по делам, старались не упустить случая посмотреть эту пьесу, которая наделала тогда немало шума.
Происходивший на сцене конфликт между старыми командирами — ветеранами гражданской войны, с одной стороны, и молодыми военными специалистами — с другой, был, несомненно, актуален, понятен и очень близок фронтовикам. Имение в тот момент, когда Красная Армия все еще вынуждена была, отступать, с особой остротой встал вопрос об авторитете и мастерстве командного состава. Потребовалось время, чтобы понимание необходимости реорганизации, которая позволила бы сочетать накопленный в прошлых войнах опыт с более глубокими знаниями, энергией, инициативой и быстрой реакцией молодых военных специалистов, пробило себе дорогу. Именно в этот момент появилась пьеса «Фронт».
Своим успехом пьеса была обязана также и тому, что ее автор, прославленный драматург, работавший с первых дней войны фронтовым корреспондентом (в 1943 г. А. Е. Корнейчук был назначен заместителем наркома иностранных дел СССР и ведал делами славянских стран), сумел глубоко проникнуть в существо проблемы, возникшей в первый период войны: старые командиры при всем их богатом опыте, закалке и самоотверженности не всегда оказывались на высоте новых требований, что серьезно осложняло положение в действующей армии.
При всей сложности ситуации, которая отображается в пьесе, несмотря на остроту показанного в ней конфликта между старыми кадрами и молодыми специалистами, пьеса «Фронт» в целом рождала у зрителей чувство оптимизма, уверенности в конечной победе над врагом.
Говорили, что пьеса «Фронт» получила одобрение Сталина. Видимо, так оно и было, поскольку текст пьесы полностью печатался в «Правде», став, таким образом, достоянием миллионов.
Другим выдающимся событием культурной жизни того периода была Ленинградская симфония Шостаковича, впервые исполненная в Москве летом 1942 года. Она производила тогда, в дни все еще продолжавшегося гитлеровского наступления, особенно сильное впечатление.
Все — и в тылу, и на фронте — зачитывались блестящими фронтовыми репортажами и рассказами М. Шолохова, А. Толстого, И. Эренбурга, стихами К. Симонова и А. Суркова, отражавшими глубочайшие патриотические чувства народа, жгучую ненависть к врагу, топтавшему землю Родины, решимость выстоять и победить.
В тревожные месяцы лета и осени 1942 года эти патриотические чувства помогали советским людям переносить все невзгоды, несмотря на неудачи на фронте, сохранить мужество, выдержку, волю к самоотверженной борьбе. А время было действительно очень и очень тяжелое. После блестящей победы советских войск под Москвой в конце 1941 года у всех возродились надежды на то, что, хотя еще и предстоят серьезные сражения, враг дальше не пройдет, что военная фортуна поворачивается в нашу сторону. Но второе лето Великой Отечественной войны принесло новые горькие испытания. Прорвав нашу оборону на юго-восточном направлении, враг занял Ростов и стал продвигаться дальше, к Сталинграду и Кавказу. Гитлер спешил захватить житницы Ставрополья и Кубани, рвался к богатейшим нефтеносным районам Майкопа, Грозного, Баку. В сводках Совинформбюро появлялись все новые названия захваченных фашистами городов, от упоминания которых щемило сердце: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск…
Мы по-прежнему работали по 12–14 часов в сутки, дел было много, в Наркоминделе не прекращалась активная дипломатическая деятельность. Но тревожные мысли уносили нас туда, на Юго-Восток, где в степях между Доном и Волгой, в предгорьях Кавказского хребта гитлеровцы, не считаясь с потерями, теснили Красную Армию. У нас в комнате висела большая карта Советского Союза, и мы каждый день, прочтя очередную сводку, с горечью передвигали красные флажки в глубь нашей страны.
Каждый спрашивал себя — когда же все это кончится? Неужели, действительно, нет силы, которая сможет остановить гитлеровскую военную машину? Но ведь были же нацистские полчища разгромлены под Москвой? Это со всей очевидностью показало, что их можно остановить и погнать на Запад.
Будучи причастными к переговорам Советского правительства с Лондоном и Вашингтоном, мы, конечно, особенно ясно отдавали себе отчет в том, что гитлеровцы воспользовались отсутствием второго фронта в Западной Европе для переброски свежих сил из Франции и из других районов на советско-германский фронт. Западные демократии сослужили, таким образом, еще одну службу Гитлеру.
Все это вынуждало наш народ, Коммунистическую партию предпринимать нечеловеческие усилия, «взять себя в руки», как писали тогда советские газеты, и преградить путь врагу, остановить, а затем и разгромить его, полагаясь прежде всего на свои собственные силы. Понимание этой повелительной необходимости стало всеобщим. Но лишь немногие знали тогда о практических мерах, которые уже принимались Верховным Командованием Советских Вооруженных Сил для создания условий, позволивших в дальнейшем, после того как враг был остановлен в Сталинграде, развернуть грандиозное контрнаступление и приступить к массовому изгнанию гитлеровцев с территории нашей Родины.
Приезд Уэнделла Уилки
Важное значение для развития отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами имели в тот период визиты в нашу страну видных американских общественных и политических, деятелей. Среди них особое место занял приезд Уэнделла Уилки — лидера республиканской партии и наиболее вероятного, как тогда считали, кандидата этой партии на президентский пост. Самолет с Уэнделлом Уилки приземлился на аэродроме в Куйбышеве 17 сентября 1942. г. Американского гостя встречали представители Наркомата иностранных дел, городские власти, работники посольства США. С аэродрома все направились в загородную резиденцию, предоставленную в распоряжение Уилки. Затем американский гость посетил Наркомат иностранных дел, а вечером посол США Стэндли устроил прием, на который были приглашены работники Наркоминдела, представители местных властей, а также главы дипломатических представительств, находившихся в Куйбышеве.
На следующий день Уилки осматривал различные предприятия Куйбышева, беседовал с рабочими, служащими. Среди вопросов, которые ему задавали, чаще всего фигурировала проблема открытия второго фронта в Европе. Уилки отделывался общими фразами, уверяя, будто США стремятся как можно скорее открыть второй фронт, но эта операция задерживается, поскольку она, дескать, требует серьезных приготовлений. Вникать же в подробности проблемы он отказывался.
Вечером заместитель наркома иностранных дел А. Я. Вышинский, выполнявший роль руководителя наркомата в Куйбышеве, устроил прием в честь Уилки, на котором присутствовал также и американский посол. Во время приема Уилки много говорил о необходимости улучшать взаимопонимание между советским и американским народами. Находясь 21 сентября вместе с послом США, адмиралом Стэндли, в Наркоминделе, Уилки выразил пожелание встретиться со Сталиным и вскоре попросил помочь в организации такой встречи. Встреча была назначена на 23 сентября.
В ходе беседы Сталин интересовался внутриполитическим положением США и планами республиканской партии. Уилки уверял, что республиканская партия выступает за совместные действия великих держав в борьбе против общего врага, и выражал надежду, что его партия одержит победу на предстоящих выборах. Встреча Сталина с лидером оппозиционной партии, несомненно, имела важное значение для советско-американских отношений. Она показала, что не только правящая партия, но и круги, стоящие в оппозиции, придают большое значение развитию контактов с Советским Союзом. В конце беседы Уилки попросил у Советского правительства разрешения вернуться в США через Сибирь и получил на это согласие.
26 сентября И. В. Сталин дал обед в честь Уилки. После обеда все отправились в соседнюю комнату пить кофе. Сталин пригласил за свой столик Уилки, Молотова, Уманского, Ворошилова, Соболева, британского и американского послов, а также генерала Брэдли. Во время беседы Сталин спросил, почему американский посол не возвращается в Москву. Тот ответил, что остается в Куйбышеве, считая этот город официальной резиденцией дипломатического корпуса. Тогда Сталин посоветовал ему поскорее переехать в Москву.
— Я не вижу причин, почему бы этого не сделать, — продолжал он и, улыбнувшись, добавил:
— Может быть, вы боитесь немецких бомбежек? Так их теперь уже не бывает.
Стэндли принялся уверять, что у него подобного в мыслях нет. Он лично готов в любой момент перебраться сюда.
— Однако, — спросил посол, подхватив шутливый тон, — не создаст ли это трудностей в отношениях Советского Союза с японцами? Они ведь останутся в Куйбышеве.
Сталин серьезно ответил, что это никакого значения не имеет, поскольку через два-три месяца все дипломатические представительства вернутся в Москву.
Американский посол сказал, что очень польщен вниманием и предложением вернуться в Москву, где, как он подчеркнул, принимаются все важные решения. Он добавил, что незамедлительно отдаст соответствующие распоряжения.
Предлагая послу США переехать в Москву до того, как из Куйбышева вернутся все другие дипломатические представительства, Сталин, видимо, хотел подчеркнуть особый характер советско-американских отношений в тот период.
В ходе дальнейшей беседы американский посол спросил Сталина, слышал ли он сообщение о выступлении в Токио японского министра иностранных дел Масаюки Тани, только что назначенного на этот пост. Сталин ответил отрицательно, и тогда Стэндли пояснил, что новый японский министр сделал заявление о том, что японо-советские отношения остаются в прежнем состоянии, что нет никаких недоразумений и трудностей на маньчжурской границе и там не ожидается никаких осложнений.
— Это заявление меня заинтересовало, — продолжал посол, — поскольку в Куйбышеве распространяются слухи о переговорах, якобы происходящих между японцами и русскими. Не следует ли понимать, что переговоры закончились удовлетворительно?
— Такие переговоры, — ответил Сталин, — действительно имели место.
Потом, немного помолчав, добавил, что, как ему сообщили, гитлеровцы потребовали, чтобы японцы совершили нападение на советскую Сибирь. Японцы ответили, что если немцы смогут снабдить Японию миллионом тонн стали, а также алюминием и другими материалами, которые требуются Японии, то последняя готова будет рассмотреть предложение немцев. Однако Берлин отказался выполнить это условие, и тогда Япония, в свою очередь, отказалась выступить против Советского Союза.
— Отказ Германии удовлетворить японские требования, — заключил Сталин, — означает, что немцам недостает стали и других материалов. Это также означает, что и Япония испытывает недостаток в сырье и других важных материалах…
Около полуночи Сталин предложил посмотреть фильм «Оборона Москвы». Все перешли в небольшой кинозал, примыкавший к парадным помещениям. Фильм продолжался около часа, после чего было подано шампанское. Гости стоя обменивались впечатлениями о фильме, говорили о перспективах войны, о многих трудностях, которые еще предстояло преодолеть участникам антигитлеровской коалиции. Уилки коснулся продовольственной проблемы в Советском Союзе. Сталин заметил, что он не собирался обсуждать сейчас эту проблему, но, поскольку Уилки проявил к ней интерес, он обрисует положение в общих чертах.
— Немцы, — продолжал Сталин, — захватили всю Украину, Северный Кавказ и большую часть черноземных областей, которые являются самыми богатыми по производству пищевых продуктов в нашей стране. Поэтому продовольственное положение будет плохим в предстоящую зиму. Советскому Союзу потребуется 2 миллиона тонн пшеницы, значительное количество концентрированных кормов и продуктов питания, таких как масло, сгущенное молоко, жиры, мясные продукты и так далее. Если Великобритания и Соединенные Штаты предоставят суда, которые плавали бы под советским флагом, эти продукты нетрудно будет доставить в тихоокеанские советские порты.
Уилки поблагодарил за информацию, но в существо дела не вдавался.
Переговоры с США по экономическим проблемам касались тогда главным образом вопроса об ускорении поставок продуктов питания, улучшении их качества. Обсуждался также вопрос об отправке значительного количества грузов через тихоокеанские порты, поскольку в Атлантике все более нагло действовали гитлеровские подводные лодки, атаковывавшие транспорты. Возникла, однако, проблема, под каким флагом должны плавать эти суда, поскольку американцы и англичане опасались нападений со стороны японского флота. Возможно, что, сказав об этом Уилки, лидеру оппозиции, Сталин хотел подтолкнуть решение данной проблемы.
Около двух часов ночи гости разъехались из Кремля, а на утро Уилки отправился из Москвы домой через Сибирь и Аляску.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ
Международные позиции
По мере того как советский народ убедительно демонстрировал силу своего сопротивления гитлеровской Германии, а Красная Армия наносила все новые сокрушительные удары по врагу, международные позиции Советского Союза продолжали укрепляться. Многие страны стремились нормализовать отношения с Советской страной, установить с ней дипломатические отношения, развивать торговлю.
Особенно это стремление проявилось в Западном полушарии, где многие реалистически мыслящие политики видели в Советском Союзе стабилизирующий фактор мировой обстановки и полагали, что нормализация отношений с Москвой может укрепить позиции их стран во взаимоотношениях с Соединенными Штатами. В тот период были установлены дипломатические отношения между Советским Союзом и Канадой, а также нормализованы отношения с рядом стран Латинской Америки. Одновременно многие правительства западноевропейских стран — большинство из них находилось в то время в изгнании в Лондоне — искали пути сближения с Советским Союзом и установления с ним деловых отношений.
Советская сторона приветствовала этот процесс, создававший предпосылки для формирования после войны мира, основанного на международном сотрудничестве, на базе мирного сосуществования государств с различными общественными системами. Нормализация отношений с Советским Союзом теми странами, которые раньше по разным причинам отказывались «признать» существование социалистического государства, объективно означала и укрепление позиций антигитлеровской коалиции, способствовала росту авторитета ведущих держав этого военного союза, в сохранении которого их народы видели залог надежного послевоенного устройства.
Между тем нельзя не отметить, что руководящие политические круги Англии и США весьма ревниво относились к готовности других стран нормализовать отношения с Советским Союзом и в ряде случаев старались помешать такому процессу. Как явствует из опубликованных документов государственного департамента, посольство США в Москве в те годы неоднократно направляло в Вашингтон «сигналы тревоги» по поводу развития международных связей Советского Союза. Например, посольские чиновники специально собирали сведения о выдаче виз советским дипломатическим работникам, направлявшимся на Кубу, в Мексику, Колумбию, Уругвай. В одной из телеграмм, которые сменивший к тому времени адмирала Стэндли посол США в Москве А. Гарриман направлял по этому поводу в Вашингтон, высказывалась мысль, что, поскольку Советский Союз до этого практически не имел связей с Латинской Америкой, он хочет теперь «наверстать упущенное» и ознакомить с условиями на месте как можно больше своих квалифицированных дипломатов, чтобы иметь необходимые кадры на случай расширения отношений со странами этого континента.
«Учитывая, — говорилось далее в телеграмме, — что в дальнейшем могут открыться более широкие перспективы для советского влияния в Латинской Америке и для установления отношений между Советским Союзом и латиноамериканскими странами, Советский Союз намерен использовать миссии, уже имеющиеся в латиноамериканских странах, в качестве пунктов, где соответствующие работники могли бы проходить подготовку для последующей работы в других латиноамериканских странах». Гарриман также предупреждал, что Советский Союз, возможно, намерен проводить «политическую работу» в латиноамериканских странах и что эту сторону дела не следует упускать из виду.
В заключение Гарриман указывал, что посольство США в Москве будет и впредь внимательно наблюдать за развитием, событий и сообщать госдепартаменту все сведения, которые сможет получить.
Таким образом, естественное стремление других стран нормализовать отношения с Советским Союзом изображалось посольством США как некая потенциальная «опасность», а контакты с этими странами — как «политическая» и даже чуть ли не «подрывная» работа.
В опубликованных документах госдепартамента содержатся также меморандумы, которые чиновники этого ведомства разработали в результате «анализа» советской политики по отношению к коммунистическим партиям капиталистических стран.
В одном из таких меморандумов указывалось, что коммунисты играют важную роль в движении Сопротивления и создали ряд организаций «довольно широкого масштаба», в которых занимают ключевые позиции. В этой связи, говорилось далее в меморандуме, после войны коммунистические партии в Европе могут путем голосования получить значительное число или даже большинство голосов и принять участие в правительствах или же сами сформировать их в ряде стран Западной Европы, освобожденных от гитлеровской оккупации. Такой оборот дела, подчеркивалось в меморандуме, не в интересах США. В документе, составленном в отделе восточноевропейских стран государственного департамента, говорилось:
«Во всяком случае для нас (т. е. Соединенных Штатов. — В. Б.) важно признать факт развития революции в Европе и приспособить к этому процессу свою политику. Эта политика лучше всего может быть осуществлена путем предоставления помощи и поощрения любых или всех подлинно либеральных правительств или групп… Предоставляя значительную экономическую помощь, мы, возможно, сможем не только помочь такого рода режимам, но также предотвратим состояние полного хаоса, который мог бы быть на руку лишь врагам либеральных демократических (т. е., надо полагать, буржуазных, антикоммунистических. — В. Б.) групп».
В других меморандумах подчеркивалось, что Советский Союз, понесший огромные потери в ходе войны, будет заинтересован прежде всего в восстановлении разрушенных объектов и в налаживании своих внутренних дел. Это потребует значительной помощи извне. Поэтому Соединенные Штаты должны воспользоваться такой ситуацией, чтобы добиться от Советского Союза занятия позиции, благоприятствующей целям Соединенных Штатов.
Так еще в годы войны определенные круги США старались повернуть ход событий таким образом, чтобы он отвечал устремлениям Вашингтона. Можно, пожалуй, считать, что составители вышеупомянутых меморандумов подготавливали почву для будущего «плана Маршалла», который правящие круги США использовали для подчинения американскому капиталу других буржуазных государств. Как видим, Вашингтон уже тогда исследовал пути установления своего господства в послевоенном мире.
Подход американцев
В первые месяцы 1943 года Красная Армия одержала крупные победы. Окружение, разгром и захват в плен мощной группировки фельдмаршала Паулюса под Сталинградом, уверенное продвижение советских войск на южном участке фронта демонстрировали перед всем миром решающие преимущества советской стратегии и тактики, возросший опыт советских воинов, высокое качество советской боевой техники. В приказе Верховного главнокомандующего от 23 февраля 1943 г. подчеркивалось, что «началось массовое изгнание врага из Советской страны». Вместе с тем И. В. Сталин, давая высокую оценку зимнему наступлению Красной Армии, предупреждал, что впереди еще могут быть серьезные трудности. «Враг потерпел поражение, но он еще не побежден, — говорилось в приказе. — Немецко-фашистская армия переживает кризис… Но это еще не значит, что она не может оправиться. Борьба… еще не кончена — она только развертывается и разгорается. Глупо было бы полагать, что немцы покинут без боя хотя бы километр нашей земли».
До полного разгрома гитлеровской Германии было еще далеко. Но достигнутые на фронтах Великой Отечественной войны победы способствовали дальнейшему трудовому подъему в тылу, вдохновляли, многонациональный советский народ в его стремлении добиться великой цели — очистить Родину от оккупантов, помочь народам Европы и всего мира избавиться от фашистской чумы.
Все это существенным образом укрепляло роль и значение Советского Союза в антигитлеровской коалиции. Руководители западных держав все явственнее сознавали, что даже в условиях отсутствия второго фронта СССР способен не только противостоять гитлеровской Германии, но и нанести ей сокрушительный удар. Советское государство раскрывало свои огромные силы, выступая как ведущая военная держава антифашистского боевого союза. Вместе с тем наращивавшийся в Соединенных Штатах военно-промышленный потенциал все больше выдвигал США на первое место среди западных участников антигитлеровской коалиции. Постепенно СССР и США становились главными партнерами коалиции. Одновременно развивались и советско-американские связи.
Несмотря на уже имевшийся к тому времени немалый опыт военного сотрудничества с СССР, в Вашингтоне все еще господствовали различного рода превратные суждения о Советском Союзе. Одни считали, что. Москва преследует какие-то «тайные» цели и потому сотрудничество с СССР чревато, дескать, «опасностями» и «риском». Другие, умышленно поддерживая подобного рода предубеждения, стремились не допустить возникновения атмосферы доверия, причем именно потому, что сами строили планы установления господства Америки в послевоенном мире и усматривали в Советском Союзе главное препятствие, на пути достижения этой цели. Наконец, третьи, хотя и стремились к установлению дружественных отношений между США и СССР, были все же весьма далеки от понимания сущности советского строя. Впоследствии государственный секретарь США Корделл Хэлл писал в мемуарах: «В начале 1943 года Россия была для нас полностью сфинксом во всех отношениях, за исключением лишь одного, а именно — она твердо стояла на ногах и сражалась героически».
Далее Хэлл отмечал, что при разработке курса США по отношению к Советскому Союзу вашингтонские политики ставили перед собой такого рода вопросы: что можно ожидать от Советского Союза в послевоенном мире? Будет ли СССР сотрудничать с западными державами? Присоединится ли Москва к будущей международной организации по поддержанию мира?
Разумеется, если бы в Вашингтоне взяли на себя труд серьезно проанализировать истоки ленинской внешней политики Советского государства, если бы американские политики попытались понять его миролюбивый характер, отвечающий существу социалистического строя, они, возможно, смогли бы правильно оценить, «что можно ожидать от Советского Союза». Но правящие круги США не хотели, а возможно, и не могли этого сделать, ибо по-прежнему находились в плену превратных представлений о советской внешней политике, в плену амбиций и своекорыстных взглядов, закрывавших, словно шоры, перспективу развития дружественных отношений США с Советской страной.
И тем не менее, при всей сложности тогдашней обстановки советско-американские отношения в целом развивались позитивно, что проявлялось во многих конкретных совместных действиях, в согласованных решениях, достигнутых на взаимовыгодных основах.
Как мы уже видели, важные соглашения, хотя и не без сложностей, были достигнуты осенью 1941 года, сразу же после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Они заложили основу для дальнейшего формирования советско-американских отношений. Общая политическая атмосфера улучшилась не только в итоге переговоров советских руководителей с приезжавшими в Москву высокопоставленными американскими представителями, но и в ходе систематических контактов Советского правительства с посольством США в Москве и посольства СССР в Вашингтоне с американскими властями.
Мне вспоминается, например, беседа посла Соединенных Штатов в Советском Союзе адмирала Стэндли с главой Советского правительства, состоявшаяся 23 апреля 1942 г. На встрече присутствовал также нарком иностранных дел. Американский посол передал послание президента Рузвельта, который уполномочил посла выразить восхищение по поводу замечательной храбрости и твердости, проявленных Красной Армией, советским народом в отражении гитлеровского нашествия.
Стэндли сказал далее, что, хотя между США и СССР бывали некоторые недоразумения, президент Рузвельт полагает, что если бы он и Сталин могли встретиться и обсудить ряд вопросов, то никаких недоразумений больше не возникало бы. В связи с этим, продолжал Стэндли, президент Рузвельт поручил ему внести предложение о встрече президента с главой Советского правительства где-нибудь на Аляске или в океанских водах, омывающих Сибирь, летом 1942 года, чтобы обсудить всю систему мировых проблем. Сталин поблагодарил за предложение президента, но сказал, что, хотя данный вопрос уже обсуждался в ряде посланий, до сих пор не удалось решить его так, чтобы это удовлетворяло обе стороны. Сталин выразил надежду, что такую встречу удастся провести, хотя не сказал ничего о возможных сроках.
Стэндли стал говорить, что он как посол США видит свою задачу не только в том, чтобы поддерживать традиционные дружественные отношения, существовавшие между обеими странами, но также и развивать их всеми возможными средствами, что соответствует политике президента Рузвельта. Сталин приветствовал такое намерение и подчеркнул, что советская сторона также заинтересована в развитии отношений с США.
Как видим, уже на раннем этапе существования антигитлеровской коалиции американская сторона предлагала обсудить с советскими представителями «всю систему мировых проблем», то есть не только вопросы ведения войны против гитлеровской Германии. Рузвельт уже тогда понимал, что без Советского Союза нельзя построить прочный послевоенный мир.
Упомянутая выше беседа с американским послом любопытна также и тем, что в ней был затронут вопрос, по которому на протяжении длительного времени происходил обмен мнениями между советским и американским правительствами. Вашингтонские политики были тогда крайне заинтересованы во вступлении СССР в войну против Японии.
Проблема Японии не сходила с повестки дня советско-американских отношений и в последующее время. 17 июня 1942 г. посол Стэндли передал И. В. Сталину послание президента Рузвельта, в котором говорилось, что ситуация, складывающаяся в северном районе Тихого океана, а также в районе Аляски, не исключает возможности операций японского правительства против советского Приморья. «Если подобное нападение осуществится, — говорилось в послании, — то Соединенные Штаты готовы оказать Советскому Союзу помощь американскими военно-воздушными силами при условии, что Советский Союз предоставит этим силам подходящие посадочные площадки на территории Сибири. Конечно, чтобы быстрее осуществить подобную операцию, необходимо было бы тщательно координировать усилия Советского Союза и Соединенных Штатов».
В послании делалась ссылка на полученное Рузвельтом от советского посла в Вашингтоне M. M. Литвинова уведомление о том, что Советское правительство согласно на переброску американских самолетов через Аляску и Северную Сибирь на Западный фронт. Выразив удовлетворение по этому поводу, Рузвельт вновь вернулся к вопросу о возможном нападении Японии на советское Приморье и подчеркнул, что военные силы обеих стран должны быть готовы к возникновению этой новой опасности на Тихом океане. «Я считаю, — говорилось в послании, — что вопрос настолько срочный, что имеются все основания дать представителям Советского Союза и Соединенных Штатов полномочия приступить к делу и составить определенные планы. Поэтому я предлагаю, чтобы Вы и я назначили таких представителей и чтобы мы направили их немедленно для совещания в Москве и Вашингтоне».
26 июня Молотов, ссылаясь на поручение Сталина, направил через американского посла Стэндли письмо для передачи Рузвельту. В нем говорилось, что Советское правительство полностью разделяет мнение относительно необходимости создания воздушного маршрута для поставок самолетов из США через Аляску и Сибирь на Западный фронт. Имея это в виду, Советское правительство уже дало необходимые распоряжения относительно того, чтобы в самом ближайшем времени закончить работу по подготовке к приему самолетов. Эта работа включает переоборудование существующих посадочных площадок и реорганизацию аэродромных служб. Что касается вопроса о том, чьи летчики должны доставлять самолеты с Аляски, то это дело можно поручить, как предполагал одно время государственный департамент, советским летчикам, которые будут посланы в Ном на Аляску или другое подходящее место в условленное время. Чтобы полностью обеспечить прием этих самолетов, советской стороне важно знать, какое их количество планируется перебросить этим маршрутом.
Что касается предложения о встрече представителей армии и военно-морского флота США и СССР в целях обмена информацией, то Советское правительство немедленно выразило согласие провести такую встречу в Москве.
В конечном счете была достигнута договоренность о такой встрече. Президент Рузвельт назначил американскими представителями генерал-майора Фоллета Брэдли, а также военно-морского атташе в Москве капитана Данкена и военного атташе в Москве полковника Микела. В инструкции генералу Брэдли его задачи были сформулированы следующим образом: организовать поставки через Аляску самолетов в Сибирь и на Западный фронт и обеспечить Советское правительство информацией относительно наличия самолетов, которые должны быть переброшены сибирским маршрутом.
О приготовлениях, связанных с возможными совместными действиями в случае японского нападения на Приморье, в инструкции ничего не говорилось. Возможно, что к тому времени в Вашингтоне уже не считали этот вопрос столь срочным. Во всяком случае, опасения насчет подобных действий Японии не подтвердились. Это нашло отражение в послании, направленном президентом Рузвельтом И. В. Сталину 5 августа. В нем говорилось: «До меня дошли сведения, которые я считаю определенно достоверными, что Правительство Японии решило не предпринимать в настоящее время, военных операций против Союза Советских Социалистических Республик. Это, как я полагаю, означает отсрочку какого-либо нападения на Сибирь до весны будущего года».
Хотя советско-американские отношения развивались в то время в целом благоприятно, уже и тогда имелось немало фактов, показывавших, что на пути их развития определенными кругами то и дело создавались трудности. Посол США Стэндли, который столь красноречиво говорил о своем намерении «всеми возможными средствами» развивать дружественные связи с СССР, также внес свою лепту в это недоброе дело.
В марте. 1943 года посол Стэндли созвал на пресс-конференцию иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве, и принялся жаловаться на то, что русские, дескать, проявляют «неблагодарность», не отдавая должное «американской помощи», и в частности пожертвованиям, которые делались в США в созданный там так называемый «Фонд помощи России». Это заявление явно было направлено на то, чтобы подогреть враждебные Советскому Союзу настроения в США и затруднить советско-американские отношения, которые в тот период и без того были весьма сложными из-за отказа западных союзников выполнить ранее принятое обязательство об открытии второго фронта в Европе в 1942 году. Когда Советская страна несла основное бремя борьбы против общего врага, когда на протяжении длительного времени Лондон и Вашингтон приостановили поставки необходимых СССР военных материалов, когда даже в Северной Африке операции западных союзников развертывались крайне вяло и становилось все более очевидным, что и в 1943 году не будет осуществлена высадка англо-американских войск во Франции, — в этих условиях обвинять советских людей в «неблагодарности» было по меньшей мере бестактным. Знаменательно, что даже среди западных корреспондентов в Москве заявление посла Стэндли вызвало отрицательную реакцию. Позднее Стэндли пытался оправдаться тем, что его, дескать, побудила сделать «упрек» русским позиция конгресса США, который он хотел «умиротворить».
В действительности, однако, в то время гораздо больше оснований было у советской стороны упрекать англичан и американцев в преднамеренном уклонении от выполнения союзнических обязательств. 16 марта 1943 г. глава Советского правительства, обращаясь к президенту Рузвельту, писал:
«Из послания г. Черчилля я узнал, что англо-американские операции в Северной Африке не только не ускоряются, но откладываются на конец апреля, причем даже и этот срок указывается не совсем определенно. Таким образом, в самый напряженный период боев против гитлеровских войск, в период февраль — март, англо-американское наступление в Северной Африке не только не форсировалось, но и вообще не проводилось, а намеченные для него сроки отложены. Тем временем Германия уже успела перебросить с Запада против советских войск 36 дивизий, из них 6 дивизий танковых. Легко понять, какие затруднения это создало для Советской Армии и как это облегчило положение немцев на советско-германском фронте… Вместе с тем я считаю своим долгом заявить, что главным вопросом является ускорение открытия второго фронта во Франции.
Как Вы помните, открытие второго фронта и Вами и г. Черчиллем допускалось еще в 1942 году и, во всяком случае, не позже как весной этого года… После того как советские войска провели всю зиму в напряженнейших боях и продолжают их еще сейчас, а Гитлер проводит новое крупное мероприятие по восстановлению и увеличению своей армии к весенним и летним операциям против СССР, нам особенно важно, чтобы удар с Запада больше не откладывался, чтобы этот удар был нанесен весной или в начале лета… я считаю нужным со всей настойчивостью предупредить, с точки зрения интересов нашего общего дела, о серьезной опасности дальнейшего промедления с открытием второго фронта во Франции. Поэтому неопределенность как Вашего ответа, так и ответа г. Черчилля по вопросу об открытии второго фронта во Франции вызывает у меня тревогу, о которой я не могу умолчать».
Однако и после этого обращения Лондон и Вашингтон продолжали уклоняться от прямого ответа на вопрос о конкретном сроке открытия второго фронта. Бездействуя в Северной Африке и оттягивая все дальше вторжение во Францию, западные союзники не скупились на всякого рода театральные жесты, которые должны были создать видимость активности участников антигитлеровской коалиции. Одним из таких жестов была поездка в Москву в мае 1943 года Джозефа Дэвиса в качестве личного представителя президента Рузвельта.
Фильм посла Дэвиса
С 1936 по 1938 год Дэвис был послом США в Советском Союзе и его хорошо знали в Москве как человека, лояльно относящегося к нашей стране. Впоследствии он написал книгу «Миссия в Москву», по которой уже в годы войны в США был поставлен кинофильм. Отправляясь снова в советскую столицу в мае 1943 года, Дэвис попросил сделать на его самолете надпись: «Миссия в Москву». Вокруг этой поездки в английской и американской прессе был поднят изрядный шум, как о демонстрации «единства и сплоченности союзников», хотя, по существу, визит Дэвиса не дал каких-либо ощутимых результатов. Раздуванию сообщений об этой поездке немало способствовал и сам Дэвис, который, будучи склонен к саморекламе, не упускал случая порассуждать перед корреспондентами о «значении» своей миссии. Уже на аэродроме, где его встречала группа ответственных работников Наркоминдела и иностранных журналистов, Дэвис организовал импровизированную пресс-конференцию. Мне поручили сопровождать Дэвиса до особняка в переулке Островского, который был предоставлен в его распоряжение на время пребывания в Москве. По пути с аэродрома Дэвис рассказал, что привез важное послание от президента главе Советского правительства, а также захватил с собой только что вышедший фильм «Миссия в Москву», сделанный по его книге.
После приема Дэвиса И. В. Сталиным этот фильм в присутствии Дэвиса смотрели руководители Советского правительства, они изрядно потешались по поводу полного несходства актеров с персонажами, которых те изображали. Но в целом фильм был, несомненно, выдержан в дружественных тонах и сыграл свою роль в разоблачении предвзятых мнений о Советском Союзе, все еще имевших хождение в Соединенных Штатах. Некоторое время спустя фильм «Миссия в Москву» был показан на широком экране в нашей стране, вызвав интерес советской публики.
Послание президента Рузвельта, которое привез с собой Дэвис, касалось перспектив личной встречи президента США и главы Советского правительства. В нем говорилось:
«Направляю Вам это личное письмо с моим старым другом Джозефом Э. Дэвисом. Оно касается лишь одного вопроса, о котором, по-моему, нам легче переговорить через нашего общего друга… Я хочу избежать трудностей, которые связаны как с конференциями с большим количеством участников, так и с медлительностью дипломатических переговоров. Поэтому наиболее простым и наиболее практичным методом, который я могу себе представить, была бы неофициальная и совершенно простая встреча между нами в течение нескольких дней».
Отмечая далее, что он хорошо понимает загруженность И. В. Сталина в связи с военными операциями и что президент также не может отлучаться из Вашингтона на долгое время, Рузвельт остановился на двух сторонах вопроса.
«Первая — это согласованность действий в плане времени. Имеется полная возможность того, что историческая оборона русских, за которой последует наступление, может вызвать крах в Германии следующей зимой. В таком случае мы должны быть готовы предпринять многочисленные шаги в дальнейшем. Никто из нас сейчас не готов к этому. Поэтому я полагаю, что нам с Вами надлежит встретиться этим летом.
Второе — где встретиться. Об Африке почти не может быть речи летом, и при этом Хартум является британской территорией. Исландия мне не нравится, так как это связано как для Вас, так и для меня с довольно трудными перелетами, кроме того, было бы трудно в этом случае, говоря совершенно откровенно, не пригласить одновременно Премьер-Министра Черчилля.
Поэтому я предлагаю, чтобы мы встретились либо на Вашей, либо на моей стороне Берингова пролива. Пункт, выбранный подобным образом, был бы примерно в трех днях от Вашингтона и, как я думаю, примерно в двух днях от Москвы… Вы и я переговорили бы в весьма неофициальном порядке, и между нами состоялось бы то, что мы называем „встречей умов“. Я не думаю, чтобы потребовались какие бы то ни было официальные соглашения или декларации.
Мы с Вами, конечно, обсудим военное положение как на суше, так и на море, и я думаю, что мы сможем сделать это и в отсутствие представителей штабов.
Г-н Дэвис не знаком ни с нашими военными делами, ни с послевоенными планами нашего Правительства, и я посылаю его к Вам с единственной целью переговорить о нашей встрече…
По нашей оценке, положение таково, что Германия предпримет развернутое наступление против Вас этим летом, и мои штабисты полагают, что оно будет направлено против центра Вашей линии.
Вы делаете великую работу.
Доброго успеха!».
Это послание примечательно, по крайней мере, в двух отношениях. Во-первых, в нем Рузвельт со всей определенностью ставит вопрос о двусторонней встрече руководителей США и СССР без участия Черчилля. Во-вторых, Рузвельт, предупреждая о новом немецком наступлении на советско-германском фронте, ни словом не обмолвился об англо-американских планах открытия второго фронта в Европе. Не имея ничего сказать по поводу вопроса, который Советское правительство считало наиболее важным, Рузвельт предлагал провести двустороннюю встречу, к тому же даже без определенной повестки дня. Причем сроки, которые он предлагал, выглядели весьма нереально в свете ожидавшегося самими американцами нового наступления гитлеровцев на советско-германском фронте. Отвечая Рузвельту 26 мая, И. В. Сталин, учитывая все эти обстоятельства, подчеркнул, что его ответ на предложение президента насчет встречи «не может быть сейчас вполне определенным» и что, во всяком случае, июнь представляется не подходящим месяцем для такой встречи. Что касается места встречи, то глава Советского правительства в беседе с Дэвисом назвал Астрахань или Мурманск, причем если эти пункты не устраивают лично Рузвельта, то он мог бы прислать вместо себя «вполне ответственное доверенное лицо». Сталин сказал также Дэвису, что он не имеет возражений против присутствия Черчилля на этом совещании, с тем чтобы превратить его в совещание представителей трех государств.
Советская сторона и впредь придерживалась этой точки зрения.
Обострение дипломатической борьбы
После блестящей победы под Сталинградом Красная Армия неуклонно продвигалась на Запад, тесня врага. Но каждый понимал, что гитлеровская Германия все еще обладает большой силой, что предстоят упорные и кровопролитные бои, что надо по-прежнему напрягать все силы, чтобы отражать возможные контратаки гитлеровцев и наносить им новые удары. Вместе с тем стали возникать все большие сомнения относительно готовности союзников выполнить обязательство об открытии второго фронта в Западной Европе в текущем году. Обещание, которое дал в 1942 году премьер-министр Англии Уинстон Черчилль, а от имени президента США подтвердил Аверелл Гарриман, — осуществить высадку в Северной Франции в 1943 году вместо ранее обещанного вторжения в 1942 году — не подкреплялось реальными делами. Естественно, что советская сторона не могла не интересоваться, как же обстоит дело с обещанной операцией, которая должна была, наконец, снять часть бремени с Красной Армии, отражавшей натиск основных сил гитлеровской Германии и ее европейских союзников.
В первые месяцы 1943 года в Лондоне и Вашингтоне часто вспоминали об этом обязательстве. Но потом было объявлено о совсем другом решении. В начале июня правительства Англии и США официально сообщили своему советскому союзнику, что и в 1943 году англо-американского вторжения в Западную Европу не будет и что высадка в Нормандии произойдет только весной 1944 года.
Это повторное нарушение принятого Лондоном и Вашингтоном обязательства не могло не вызвать самой резкой реакции в Москве. Ведь это означало, что Советскому Союзу предстояло по меньшей мере еще в течение целого года противостоять основным силам держав «оси», нести и дальше колоссальные жертвы, тогда как западные союзники ограничивались ведением второстепенных операций. К тому же не было никакой гарантии, что и в 1944 году будет действительно открыт второй фронт, что эту операцию не передвинут еще дальше. Как здесь было вновь не вспомнить о строившихся в определенных политических кругах Англии и США расчетах на то, чтобы по возможности обескровить главных участников вооруженного конфликта — Советский Союз и Германию, с тем чтобы в подходящий момент Лондон и Вашингтон могли добиться выгодных для себя условий мирного урегулирования.
Возникал серьезный вопрос о союзнических обязательствах западных участников антигитлеровской коалиции. Нельзя было не думать о том, что новое нарушение обещаний об открытии второго фронта способно вызвать серьезный кризис доверия внутри коалиции, осложнить перспективу сотрудничества ее главных партнеров не только в оставшийся период войны, но и в послевоенное время. Послания, которые в данной связи глава Советского правительства направил Рузвельту и Черчиллю, были составлены в самом решительном тоне и содержали серьезные упреки союзникам.
В личном и секретном послании И. В. Сталина президенту Рузвельту, отправленном из Москвы 11 июня 1943 г., говорилось:
«Ваше послание, в котором Вы сообщаете о принятых Вами и г. Черчиллем некоторых решениях по вопросам стратегии, получил 4 июня. Благодарю за сообщение.
Как видно из Вашего сообщения, эти решения находятся в противоречии с теми решениями, которые были приняты Вами и г. Черчиллем в начале этого года, о сроках открытия второго фронта в Западной Европе.
Вы, конечно, помните, что в Вашем совместном с г. Черчиллем послании от 26 января сего года сообщалось о принятом тогда решении отвлечь значительные германские сухопутные и военно-воздушные силы с русского фронта и заставить Германию встать на колени в 1943 году.
После этого г. Черчилль от своего и Вашего имени сообщил 12 февраля уточненные сроки англо-американской операции в Тунисе и Средиземном море, а также на западном побережье Европы. В этом сообщении говорилось, что Великобританией и Соединенными Штатами энергично ведутся приготовления к операции форсирования Канала в августе 1943 года и что если этому помешает погода или другие причины, то эта операция будет подготовлена с участием более крупных сил на сентябрь 1943 года.
Теперь, в мае 1943 года, Вами вместе с г. Черчиллем принимается решение, откладывающее англо-американское вторжение в Западную Европу на весну 1944 года. То есть — открытие второго фронта в Западной Европе, уже отложенное с 1942 года на 1943 год, вновь откладывается, на этот раз на весну 1944 года.
Это Ваше решение создает исключительные трудности для Советского Союза, уже два года ведущего войну с главными силами Германии и ее сателлитов с крайним напряжением всех своих сил, и предоставляет Советскую Армию, сражающуюся не только за свою страну, но и за своих союзников, своим собственным силам, почти в единоборстве с еще очень сильным и опасным врагом.
Нужно ли говорить о том, какое тяжелое и отрицательное впечатление в Советском Союзе — в народе и в армии — произведет это новое откладывание второго фронта и оставление нашей армии, принесшей столько жертв, без ожидавшейся серьезной поддержки со стороны англо-американских армий.
Что касается Советского Правительства, то оно не находит возможным присоединиться к такому решению, принятому к тому же без его участия и без попытки совместно обсудить этот важнейший вопрос и могущему иметь тяжелые последствия для дальнейшего хода войны».
Послание, которое глава Советского правительства отправил 24 июня 1943 г. Уинстону Черчиллю, было еще более резким.
«Мне вполне понятна сложность организации англо-американского вторжения в Западную Европу, в частности организации переброски войск через Канал, — писал И. В. Сталин. — …Из Ваших сообщений прошлого и этого года я вынес уверенность, что Вы и Президент отдавали себе полный отчет в трудностях организации такой операции и что соответствующая подготовка этого вторжения Вами совместно с Президентом ведется с полным учетом этих трудностей и со всем необходимым напряжением сил и средств. Еще в прошлом году Вы сообщили, что вторжение в Европу английских и американских войск в большом масштабе будет произведено в 1943 году…
В начале нынешнего года Вы от своего имени и от имени Президента дважды сообщали о Ваших решениях по вопросу о вторжении англо-американских войск в Западную Европу с целью „отвлечь значительные германские сухопутные и военно-воздушные силы с русского фронта“. При этом Вы ставили задачей поставить Германию на колени уже в 1943 году и определяли срок вторжения не позже сентября месяца…
В следующем Вашем послании, полученном мною 12 февраля сего года, Вы, уточняя принятые Вами и Президентом сроки вторжения в Западную Европу, писали:
„Мы также энергично ведем приготовления, до пределов наших ресурсов, к операции форсирования Канала в августе, в которой будут участвовать британские части и части Соединенных Штатов. Тоннаж и наступательные десантные средства здесь будут также лимитирующими факторами. Если операция будет отложена вследствие погоды или по другим причинам, то она будет подготовлена с участием более крупных сил на сентябрь“.
В феврале, когда Вы писали об этих Ваших планах, и сроках вторжения в Западную Европу, трудности этой операции были более значительными, чем теперь. С тех пор немцы потерпели не одно поражение: они были отброшены на юге нашими войсками и потерпели здесь немалый урон; они были разбиты и изгнаны из Северной Африки англо-американскими войсками, в подводной войне немцы также попали в более трудное положение, чем когда-либо раньше, а превосходство англо-американских сил значительно, возросло; известно также, что американцы и англичане достигли господства своей авиации в Европе, а военный и транспортный морской флот возросли в своей мощи.
Таким образом, условия для открытия второго фронта в Западной Европе на протяжении 1943 года не только не ухудшились, а, напротив, значительно улучшились.
После всего этого Советское Правительство не могло предполагать, что Британское и Американское Правительства изменят принятое в начале этого года решение о вторжении в Западную Европу в этом году. Напротив, Советское Правительство имело все основания считать, что англо-американское решение будет реализовано, что должная подготовка ведется и второй фронт в Западной Европе будет, наконец, открыт в 1943 году.
Поэтому, когда Вы теперь пишете, что „Россия не получила бы помощи, если бы мы бросили сотню тысяч человек через Канал в гибельное наступление“, то мне остается напомнить Вам о следующем. Во-первых, о Вашем же собственном меморандуме от июня месяца прошлого года, когда Вы заявляли о подготовке к вторжению не одной сотни тысяч человек, а о количестве англо-американских, войск свыше 1 миллиона человек уже в начале операции. Во-вторых, о Вашем февральском послании, в котором говорилось о больших подготовительных мероприятиях к вторжению в Западную Европу в августе — сентябре этого года, чем, очевидно, предусматривалась операция отнюдь не с одной сотней тысяч человек, а с достаточным количеством войск.
Когда же Вы теперь заявляете: „Я не могу представить себе, каким образом крупное британское поражение и кровопролитие помогло бы советским армиям“, то не ясно ли, что такого рода заявление в отношении Советского Союза не имеет под собой никакой почвы и находится в прямом противоречии с указанными выше другими Вашими ответственными решениями о проводимых широких и энергичных англо-американских мероприятиях по организации вторжения в этом году, от которого и должен зависеть полный успех этой операции.
Нечего и говорить, что Советское Правительство не может примириться с подобным игнорированием коренных интересов Советского Союза в войне против общего врага.
Вы пишете мне; что Вы полностью понимаете мое разочарование. Должен Вам заявить, что дело идет здесь не просто о разочаровании Советского Правительства, а о сохранении его доверия к союзникам, подвергаемого тяжелым испытаниям. Нельзя забывать того, что речь идет о сохранении миллионов жизней в оккупированных районах Западной Европы и России и о сокращении колоссальных жертв советских армий, в сравнении с которыми жертвы англо-американских войск составляют небольшую величину».
Обострение дипломатической борьбы между участниками антигитлеровской коалиции нашло отражение в публикациях советской прессы, особенно в журнале «Война и рабочий класс». Этот журнал был основан летом 1943 года и сыграл важную роль как рупор широкой советской общественности в последние годы войны (после победы над гитлеровской Германией журнал был переименован в «Новое время»).
Являясь изданием профсоюзной газеты «Труд», журнал затрагивал самые острые проблемы отношений между союзниками, в том числе вопрос о втором фронте, о положении в Италии, где англичане и американцы пытались сохранить у власти реакционные элементы, проблему будущих отношений с Финляндией, по которой между участниками антигитлеровской коалиции также имелись известные расхождения. Послевоенные границы Польши, пробные шары гитлеровцев, искавших пути к сепаратному миру с западными державами, положение в Греции, анализ позиций Швеции и Турции, нейтралитет которых не всегда был безупречным (тут также имел место отнюдь не идентичный подход в лагере союзников), — все эти темы детально и глубоко обсуждались на страницах журнала. Там также довольно часто появлялись сдержанные, но вместе с тем меткие и бичующие тонкой сатирой карикатуры Бориса Ефимова, порой непосредственно направленные в адрес западных союзников, особенно в связи с задержкой ими открытия второго фронта.
Стоит отметить, что буржуазная пресса в Англии и США, даже в периоды наилучших отношений между участниками антигитлеровской коалиции, не переставала печатать, материалы, имевшие, мягко выражаясь, недружественный характер по отношению к Советскому Союзу. Однако, когда в журнале «Война и рабочий класс» стали появляться публикации, объективно показывавшие непоследовательность и противоречивость позиций западных держав по тем или иным конкретным вопросам, руководители Англии и США сочли это чуть ли не оскорблением и нарушением союзнических отношений. Так, в одном из своих посланий главе Советского правительства Черчилль, среди прочего, писал:
«Каждый день я получаю длинные выдержки из журнала „Война и рабочий класс“, который, кажется, предпринимает постоянные нападки слева на нашу администрацию в Италии и политику в Греции… Поскольку эти нападки делаются открыто в советских газетах, которые в иностранных делах, как это, правильно или неправильно, полагают, не отклоняются от политики Советского Союза, то расхождение между нашими правительствами становится серьезным парламентским вопросом. Я отложил выступление в Палате общин до тех пор, пока не дождусь результатов битвы в Италии, протекающей совсем неплохо, однако через неделю или через 10 дней я должен буду выступить в Палате общин и коснуться вопроса, о котором я упомянул в этой телеграмме, поскольку я не могу позволить, чтобы обвинения и критика остались без ответа».
В том же послании Черчилль жаловался на опубликование газетой «Правда» сообщения собственного корреспондента из Каира, в котором указывалось, что, по сведениям заслуживающих доверия источников, состоялась секретная встреча гитлеровского министра иностранных дел Риббентропа с английскими руководящими лицами с целью выяснения условий сепаратного мира с Германией. При этой Черчилль уверял, что он «никогда бы не стал вести переговоров с немцами отдельно и что мы сообщаем Вам, так же как Вы сообщаете нам, о каждом предложении, которое они делают».
Глава Советского правительства ответил на эти жалобы в одном из своих следующих посланий британскому премьеру.
«Что касается сообщения „Правды“, — писал Сталин, — то ему не следует придавать чрезмерного значения, как нет основания и оспаривать право газеты печатать сообщения о слухах, полученных от проверенных агентов газеты. Мы, русские, по крайней мере никогда не претендовали на такого рода вмешательство в дела британской печати, хотя имели и имеем несравнимо больше поводов для этого. Лишь очень небольшую часть сообщений, заслуживающих опровержения, из напечатанного в английских газетах опровергает наш ТАСС…
О журнале „Война и рабочий класс“ могу лишь сказать, что это профсоюзный журнал, за статьи которого Правительство не может нести ответственности. Впрочем, журнал, как и другие наши журналы, верен основному принципу — укреплению дружбы с союзниками, что не исключает, а предполагает и дружественную критику».
Ссылки Черчилля на то, что подобные публикации «становятся серьезным парламентским вопросом», как и рассуждения по поводу предполагаемого выступления премьера в Палате общин, Сталин вовсе игнорировал. Он сделал это, надо полагать, не случайно, ибо Черчилль уже не раз пытался прикрываться парламентом, когда хотел уклониться от обсуждения неприятного для него вопроса. У Сталина, который не был склонен принимать за чистую монету подобные аргументы, как и нередкие ссылки президента Рузвельта на необходимость считаться с американским конгрессом, это вызвало явное раздражение.
Что касается упоминавшихся выше секретных переговоров западных держав с гитлеровцами, то этот вопрос не раз становился предметом полемики внутри коалиции. Теперь уже документально доказано, что такие тайные контакты имели место в Берне, Лиссабоне и других местах. Когда советская сторона обращала на это внимание, руководящее политики Запада принимали вид оскорбленной невинности. В послании, полученном в Москве 24 января 1944 г., Черчилль, опровергая слухи о секретных англо-германских переговорах, отмечал: «Мы не думали о заключении сепаратного мира даже в тот год, когда мы были совсем одни и могли бы легко заключить такой мир без серьезных потерь для Британской Империи и в значительной степени за Ваш счет. Зачем бы нам думать об этом сейчас, когда дела у нас троих идут вперед к победе? Если что-либо имело место или что-либо было напечатано в английских газетах, что раздражает Вас, то почему Вы не можете направить мне телеграмму или поручить Вашему Послу зайти и повидать нас по этому вопросу?»
Реакция советской стороны на эту тираду британского премьера была весьма резкой:
«…Я не могу согласиться с Вами, — писал И. В. Сталин в ответном послании, — что Англия в свое время могла бы легко заключить сепаратный мир с Германией, в значительной мере за счет СССР, без серьезных потерь для Британской Империи. Мне думается, что это сказано сгоряча, так как я помню о Ваших заявлениях и другого характера. Я помню, например, как в трудное для Англии время, до включения Советского Союза в войну с Германией, Вы допускали возможность того, что Британскому Правительству придется перебраться в Канаду и из-за океана вести борьбу против Германии. С другой стороны, Вы признавали, что именно Советский Союз, развернув свою борьбу с Гитлером, устранил опасность, безусловно угрожавшую Великобритании со стороны Германии. Если же все-таки допускать, что Англия могла бы обойтись без СССР, то ведь не в меньшей мере это можно сказать и про Советский Союз. Мне не хотелось бы обо всем этом говорить, но я вынужден сказать об этом и напомнить о фактах».
В целом можно сказать, что к концу лета 1943 года отношения между союзниками заметно осложнились. В этой обстановке началась подготовка к первому совещанию министров иностранных дел трех держав — Советского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании, которое состоялось в Москве с 19 по 30 октября 1943 г. Созданию более благоприятной атмосферы для проведения конференции во многом способствовали блестящие победы советских войск, в особенности разгром гитлеровцев на Курской дуге.
МОСКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Изменившаяся обстановка
Необходимость встречи министров иностранных дел трех ведущих держав антигитлеровской коалиции — Советского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании назревала давно. Ведение войны против общего врага, политические проблемы и расхождения, появившиеся в ходе развития боевого сотрудничества, новые задачи, возникшие в связи с приближавшейся победой над гитлеровской Германией, необходимость согласования точек зрения на кардинальные вопросы послевоенного устройства — все это требовало консультаций на достаточно высоком уровне, обмена мнениями, принятия общих решений.
В первые годы Великой Отечественной войны состоялся ряд двусторонних встреч на уровне министров иностранных дел — между В. М. Молотовым и Антони Иденом, В. М. Молотовым и Корделлом Хэллом, Иденом и Хэллом. Но три министра еще ни разу не встречались вместе. Поэтому было естественно, что уже с лета 1943 года вопрос о такой встрече стал обсуждаться в практическом плане.
Первоначально Черчилль предложил созвать совещание в Лондоне или в другом городе на английских островах. Президент Рузвельт высказал мнение, что лучше было бы избрать более спокойное и уединенное место. Он, в частности, назвал Касабланку, Тунис, Сицилию. Поскольку речь шла об участии Корделла Хэлла в таком совещании, американская сторона, ссылаясь на преклонный возраст государственного секретаря, настаивала на избрании места встречи «поудобнее и поближе к США». Поначалу Рузвельт даже дал понять, что если будет намечено более отдаленное место, то он не сможет рисковать здоровьем Хэлла и пошлет вместо него заместителя государственного секретаря Уэллеса.
Пока обсуждался вопрос о том, где же лучше всего встретиться (советская сторона предложила Москву, и англичане против этого не возражали), план посылки на совещание Уэллеса вместо Хэлла стал вызывать серьезные сомнения. Многие знали, что Уэллес не раз открыто выступал против сотрудничества с Советским Союзом. А когда ему предложили поехать в Москву, он объявил, что не видит смысла в такой конференции и считает, что никакого толка от переговоров не будет. Корделл Хэлл, видимо, понял всю нелепость сложившейся ситуации и посоветовал президенту отказаться от посылки Уэллеса. Он заявил, что готов совершить поездку в Москву и принять участие в конференции министров иностранных дел. Рузвельт в конце концов согласился с этим.
Стоит отметить, что колебания Рузвельта и Хэлла были связаны также и с тем, что до того Хэлл ни разу в своей жизни не пользовался самолетом и вообще относился к этому виду транспорта с предубеждением. Все же понимание необходимости встречи трех министров взяло верх над чувством неприязни к самолету. Впрочем, стремясь по возможности сократить летное время, Хэлл отправился из США в Северную Африку на крейсере. Высадившись в Касабланке, он оттуда полетел через Каир и Тегеран в Москву.
В ходе переписки между Сталиным, Черчиллем и Рузвельтом, предшествовавшей созыву Московской конференции, было решено провести на ней широкий обмен мнениями по любым вопросам без какого-либо ограничения жесткой повесткой дня. Если по некоторым проблемам останутся серьезные расхождения, то их имелось в виду урегулировать на предстоящей встрече Сталина, Черчилля и Рузвельта.
Делегации Соединенных Штатов и Англии прибыли в Москву во второй половине дня 18 октября. В тот день стояла редкая для нашей осени ясная и теплая погода. На Центральном аэродроме по-летнему зеленела трава, ветер едва колыхал флаги трех держав — участниц антигитлеровской коалиции. Гостей встречали В. М. Молотов, M. M. Литвинов и другие советские официальные лица. Первым прибыл самолет министра иностранных дел Великобритании. Едва закончилась церемония встречи, как в небе показался американский бомбардировщик, на борту которого находился государственный секретарь США.
Хэлл, высокий худощавый старик, выглядел усталым. Казалось, ему трудно было произносить традиционную для таких случаев речь. Когда торжественная церемония завершилась маршем почетного караула, Хэлл, вяло улыбаясь, спросил Молотова, далеко ли до резиденции посла США, где он пожелал остановиться на время пребывания в советской столице. Намек был понят, и все поспешили к машинам.
Посольство США занимало в то время здание напротив Кремля, примыкавшее к гостинице «Националь», — там теперь главная контора «Интуриста». Но резиденция посла находилась, где и сейчас, — в Спасо-Песковском переулке на Арбате. Отсюда и название, которое у американцев закрепилось за резиденцией, — «Спасо-хауз». Позднее Хэлл в мемуарах с удовольствием вспоминал свое пребывание в этом тихом уголке Москвы. Вместе с Хэллом поселились еще четыре человека из американской делегации.
Накануне открытия конференции состоялось предварительное совещание трех министров иностранных дел. Они встретились в Кремле в кабинете В. М. Молотова. Условились на конференции не произносить длинных речей, а сразу же приступить к делу. Открытие первого пленарного заседания назначалось на вторую половину 19 октября. До этого в соответствии с правилами протокола Хэлла посетили Иден и Молотов, каждый в отдельности.
Как потом писал в своих мемуарах Корделл Хэлл, он решил использовать эту встречу с британским министром иностранных дел для того, чтобы обсудить с ним некоторые тактические вопросы. В частности, Хэлл предложил английскому коллеге вести дело так, чтобы советская сторона не заподозрила о наличии единого фронта английской и американской делегаций.
— Важно, — сказал государственный секретарь Идену, — чтобы у советской стороны не создавалось впечатления, будто британская и американская группы сговариваются вместе и как бы выступают единым фронтом против. России.
Иден согласился.
При первой же встрече с В. М. Молотовым Хэлл информировал наркома иностранных дел, что согласно договоренности между ним и Иденом каждая из делегаций должна быть готова вести с любой другой переговоры на совершенно равной и самостоятельной основе.
Особняк на Спиридоновке
Дом приемов Наркоминдела на Спиридоновке некогда принадлежал богатому текстильному фабриканту Савве Морозову — известному в свое время меценату, покровительствовавшему прогрессивным писателям, художникам и артистам того времени, нередко выручавшему большевиков (однажды Морозов спас Баумана от преследовавших его жандармов, усадив его в свою коляску) и даже в случае необходимости готовому ссудить «на революцию» немалые суммы из своих капиталов.
Дом Морозова по архитектуре и по внутреннему убранству — подлинное произведение искусства. Окруженный старинным парком, он ласкает глаз строгими пропорциями поздней готики, а внутри декорирован лучшими скульпторами и живописцами начала XX века. Особенно прекрасны сохранившиеся до сих пор витражи работы Врубеля и сделанные по его эскизам чугунные решетки перил внутренних лестниц. Просторные парадные залы — каждая в своем стиле — украшены картинами старинных голландских и других мастеров, горками с тончайшим фарфором, статуэтками и серебряной посудой — поистине уникальными произведениями.
Пленарные заседания конференции проходили в белом мраморном зале, отделанном в стиле ампир. Здесь под огромной хрустальной люстрой стоял круглый стол, накрытый кремовой скатертью. В центре его на дубовой подставке были укреплены флажки трех держав — участниц конференции. Вокруг стола стояли кресла для глав делегаций и стулья в несколько рядов для других участников встречи.
Распорядок работы был такой: с 10 утра до 1 часа дня — пленарное заседание. Затем объявлялся перерыв на 40 минут. Все шли в столовую с высоким камином, перед которым на длинном столе, покрытом белой скатертью, были расставлены холодные закуски, фрукты, прохладительные напитки. Подавались также кофе и чай. После перерыва заседание продолжалось до 5 часов, когда объявлялся перерыв на обед. Вечером снова созывалось пленарное заседание, которое иногда затягивалось за полночь. Впрочем, несколько вечеров были свободны для посещения театров и концертов.
Вспоминается любопытный эпизод, свидетелем которого я оказался во время представления оперы «Иван Сусанин». Почетных гостей, как обычно в таких случаях, пригласили в центральную ложу Большого театра. В первом ряду сидели Иден, Гарриман, Молотов и переводчики. Корделл Хэлл обычно не участвовал в подобного рода вечерних мероприятиях и, ссылаясь на усталость, отправлялся в «Спасо-хауз». Над ложей были прикреплены флаги трех держав. В первом акте, когда показывали бал во дворце польского короля, Иден наклонился к Молотову и, улыбаясь, произнес:
— Посмотрите, какие милые люди эти поляки, дружить с ними — одно удовольствие…
Британский министр иностранных дел, разумеется, имел в виду находившееся в то время в Англии польское эмигрантское правительство, с которым Советский Союз разорвал отношения после того, как это правительство приняло участие в очередной антисоветской провокации гитлеровцев.
В ответ на замечание Идена Молотов нахмурился:
— В жизни все сложнее, — произнес он ледяным тоном.
А когда позднее на сцене «сжигали» Ивана Сусанина, Молотов повернулся к Идену:
— Вот видите, в истории наших отношений бывало всякое. Что касается нас, то мы хотим хороших отношений с Польшей, с независимой и дружественной нам Польшей, — подчеркнул он. Иден после непродолжительной паузы ответил:
— Я вас понимаю, но поймите и вы нас — ведь мы из-за Польши вступили в эту войну…
Проблема отношений Советского Союза с эмигрантским польским правительством еще на протяжении длительного времени оставалась предметом переговоров, а порой и серьезных споров между СССР, с одной стороны, Англией и США — с другой.
Представители США и Англии пытались добиться, чтобы СССР восстановил дипломатические отношения с реакционным Московская конференция трёх министров иностранных дел в октябре 1943 г. польским эмигрантским правительством. Это правительство в августе 1942 года вывело из СССР польские воинские части, сформированные на советской территории в соответствии с польско-советским соглашением от 30 июля 1941 г. Оно требовало восстановления границ, установленных Рижским договором, что означало сохранение за Польшей областей, населенных украинцами и белорусами, и, как уже сказано, не гнушалось участвовать в нацистских провокациях. Естественно, что Советское правительство категорически отказывалось иметь дела с такими людьми, тем более что они никак не представляли польский народ, изнемогавший под пятой гитлеровцев.
Ставя вопрос о восстановлении отношений с эмигрантским польским правительством, правительства США и Англии руководствовались вовсе не интересами улучшения советско-польских отношений. Они заботились исключительно об укреплении позиций польской реакции, в которой с полным основанием видели свою надежную агентуру. Советское правительство отказалось от восстановления отношений с этим антисоветским правительством, считая его чуждым своему народу и не понимавшим его основных интересов, выражавшихся, прежде всего, в прочной дружбе с СССР.
На первом пленарном заседании Московской конференции, открывшемся 19 октября, была согласована повестка дня конференции. Первым пунктом значились мероприятия по сокращению сроков войны, вторым — вопрос о подписании Декларации союзных держав. Советский делегат сказал, что было бы желательно также договориться о точной дате вторжения англо-американских войск в Северную Францию. Повестка дня была принята, после чего состоялась общая дискуссия.
Следующее заседание конференции, 20 октября, было целиком посвящено проблемам, связанным с открытием второго фронта. Британский генерал Исмей, а также американский генерал Дин подробно изложили англо-американские планы высадки через Ла-Манш весной 1944 года. Однако они отметили, что планы эти могут быть осуществлены лишь при двух условиях. Первое заключалось в том, чтобы к тому времени союзники добились существенного уменьшения германской истребительной авиации в Северо-Западной Европе; второе условие — наземные войска гитлеровской Германии к моменту высадки во Франции не должны превышать определенного уровня.
Иден и Хэлл дали в принципе положительный ответ на вопрос относительно того, остается ли в силе данное Рузвельтом и Черчиллем в июне 1943 года обещание осуществить вторжение в Северную Францию весной 1944 года. Оба министра уверяли, что это обещание будет точно выполнено, и сообщили также, что оно было подтверждено на недавней англо-американской конференции в Квебеке, хотя его и поставили в зависимость от условий, о которых только что говорилось. Во всяком случае, подготовительные мероприятия, по словам английских и американских представителей, проходили усиленными темпами. Вместе с тем англичане и американцы не назвали точной даты высадки. Молотов выразил надежду, что на этот раз вторжение будет, наконец, осуществлено.
Открытие второго фронта, как уже было сказано выше, затягивалось из года в год правящими кругами западных держав. Между тем широкие слои английского и американского народов энергично требовали безотлагательного вторжения во Францию, что самым радикальным образом способствовало бы скорейшему разгрому фашизма. Не случайно в адрес Московской конференции, а также на имя Идена и Хэлла, когда они находились в советской столице, из Англии, США, Канады и других стран поступило большое количество телеграмм, призывавших западных союзников к скорейшему открытию второго фронта. Повсюду в сознание людей глубоко проникла мысль, что, затягивая окончание войны, правительства США и Англии обрекают народы на новые жертвы и страдания.
Вот некоторые из этих посланий, попавших в английскую и американскую прессу. В телеграмме, адресованной Идену, говорилось: «Мы, жители Ньюпорта, собравшиеся на митинг, шлем Вам горячий привет и настаиваем на соглашении относительно быстрого открытия второго фронта как единственного пути обеспечить скорую победу над фашизмом». Телеграмма из Бирмингема гласила: «Мы, члены авиационной секции Союза транспортников, настаиваем на жизненной необходимости открытия второго фронта и окончания войны в этом году». В одной из телеграмм, направленных в адрес Хэлла, можно было прочесть следующее: «Объединение американских рабочих электротехнической, радио- и механических отраслей шлет сердечные поздравления вашей конференции. Мы вместе с другими свободолюбивыми народами ожидаем великих решений, которые, без сомнения, будут приняты конференцией, чтобы привести эту войну к быстрому и победному концу. Наш союз энергично поддерживает создание западного фронта и настаивает на немедленном открытии западного фронта как средства нанесения полного военного поражения гитлеризму». Рядовые англичане и американцы желали успехов Московской конференции, скорой победы боевому союзу трех держав над фашистскими агрессорами.
Декларация четырех
21 октября на пленарном заседании конференции значительная часть времени была посвящена обсуждению проекта Декларации союзных держав по вопросу о всеобщей безопасности. При этом возник вопрос о правомочности конференции принять Декларацию четырех (США, Англии, СССР и Китая), поскольку на ней формально были представлены только три державы. Кроме того, советская сторона не хотела давать повода для осложнения отношений с Японией и считала неудобным создавать ситуацию, выглядевшую так, словно во время московской встречи происходили и какие-то четырехсторонние переговоры, включая чанкайшистский Китай. Поэтому уже в самом начале дискуссии В. М. Молотов предложил, чтобы конференция рассматривала Декларацию трех, а не четырех. В дальнейшем, сказал он, после получения согласия китайского правительства, ее можно было бы превратить в Декларацию четырех держав. Хэлл возражал, подчеркивая значение психологического эффекта Декларации, исходящей от всех четырех держав. Вокруг этого вопроса шел оживленный обмен мнениями и в перерывах между заседаниями. Только к концу конференции (после встречи Хэлла с И. В. Сталиным, о чем речь пойдет ниже) советская сторона дала согласие на то, чтобы Декларация исходила от четырех держав. 30 октября три министра иностранных дел и китайский посол в Москве подписали Декларацию четырех государств. Текст этой Декларации гласил:
«Правительства Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Советского Союза и Китая, объединенные в своей решимости в соответствии с Декларацией Объединенных Наций от 1 января 1942 года и с последующими декларациями продолжать военные действия против тех держав оси, с которыми они соответственно находятся в состоянии войны, пока эти державы не сложат своего оружия на основе безоговорочной капитуляции, сознавая свою ответственность в деле обеспечения освобождения самих себя и союзных с ними народов от угрозы агрессии;
признавая необходимость обеспечения быстрого и организованного перехода от войны к миру и установления и поддержания международного мира и безопасности при наименьшем отвлечении мировых человеческих и экономических ресурсов для вооружений;
совместно заявляют:
1. Что их совместные действия, направленные на ведение войны против их соответствующих врагов, будут продолжены для организации и поддержания мира и безопасности.
2. Что те из них, которые находятся в войне с общими врагами, будут действовать совместно во всех вопросах, относящихся к капитуляции и разоружению этих соответствующих врагов.
3. Что они примут все те меры, которые они считают необходимыми, против любого нарушения условий, предъявленных к их противникам.
4. Что они признают необходимость учреждения в возможно короткий срок всеобщей Международной Организации для поддержания международного мира и безопасности, основанной на принципе суверенного равенства всех миролюбивых государств, членами которой могут быть все такие государства — большие и малые.
5. Что они будут консультироваться друг с другом и, по мере того как этого потребуют обстоятельства, с другими членами Объединенных Наций, имея в виду совместные действия в интересах сообщества наций в целях поддержания международного мира и безопасности, пока не будут восстановлены закон и порядок и пока не будет установлена система всеобщей безопасности.
6. Что по окончании войны они не будут применять своих вооруженных сил на территории других государств, кроме как после совместной консультации и для целей, предусмотренных в этой декларации.
7. Что они будут совещаться и сотрудничать друг с другом и с другими членами Объединенных Наций в целях достижения осуществимого всеобщего соглашения в отношении регулирования вооружений в послевоенный период.
В. Молотов
Корделл Хэлл
Антоны Идея
Фу Бин-чан.
Москва, 30 октября 1943 года».
Декларация четырех государств, несомненно, сыграла важную роль. Она заложила фундамент послевоенного устройства и наметила некоторые основные принципы деятельности будущей Организации Объединенных Наций.
Подписание декларации о всеобщей безопасности.
Слева направо: К. Хэлл, В. М. Молотов, А. Иден, К. Е. Ворошилов
В кабинете Сталина
В дни работы Московской конференции руководители делегаций Соединенных Штатов и Англии были по отдельности приняты И. В. Сталиным. Между каждым из министров иностранных дел и главой Советского правительства состоялась беседа по широкому кругу проблем, как связанных с ведением войны против общего врага, так и относящихся к послевоенному устройству. В каждом случае на этих беседах присутствовали. В. М. Молотов, посол соответствующей страны и переводчики. Мне пришлось выполнять обязанности переводчика во время встречи И. В. Сталина с Корделлом Хэллом. С американской стороны переводчиком был Чарльз Болен. Встреча состоялась днем 25 октября в кабинете И. В. Сталина.
Готовясь к этой ответственной беседе, я еще раз просмотрел объемистое досье по советско-американским отношениям. Поскольку я в то время работал помощником наркома по проблемам США, материал в целом был мне знаком. Все же следовало еще раз особенно внимательно проштудировать те документы, с которыми в свое время знакомился Сталин. Он обладал феноменальной памятью и мог коснуться любого конкретного вопроса, в котором и мне как переводчику надо было свободно разбираться, — только в этом случае можно было сформулировать наиболее точный вариант перевода на английский язык. Кроме того, Болен, как мы уже заметили, не очень хорошо владел русским и приходилось ему немного помогать, а для этого, надо было быстро схватывать то, что скажет Хэлл.
За двадцать минут до назначенного времени я запер папку в сейф, взял блокнот, положил в карман несколько карандашей и вышел из своей комнаты в длинный коридор с высокими окнами, смотрящими во внутренний дворик. Поскольку нарком имел кабинет не только на Кузнецком мосту, но и в Кремле, у меня было удостоверение, по которому можно было проходить всюду. Однако оно не годилось для крыла здания, где находились апартаменты И. В. Сталина. Туда вел отдельный коридор, где стоял постовой, и тут требовался особый пропуск, о котором полагалось позаботиться заранее.
В приемной, куда меня направил дежурный охраны, стоял стол, покрытый белой скатертью. На краю стола высилась батарея бутылок с минеральной и фруктовой водой. На большом черном металлическом подносе, разрисованном яркими цветами, были перевернуты вверх дном чистые стаканы. Стол окаймляли ряды венских стульев. Больше ничего в комнате не было. Я сел за стол и стал ждать. Минут за пять до начала беседы — она была назначена на 15 часов — вошел дежурный и пригласил меня пройти в кабинет Сталина. Когда я проходил через комнату дежурного, дверь из коридора открылась и вошли Корделл Хэлл, Аверелл Гарриман и Чарльз Болен. Я поздоровался с ними и, не задерживаясь, прошел в кабинет. Я заметил только, что дежурный пригласил американцев в приемную, из которой я только что вышел.
Кабинет Сталина был обставлен по-деловому. Письменный стол с разноцветными телефонными аппаратами находился напротив входной двери. К нему примыкал маленький столик и два глубоких кресла, обтянутых темно-коричневой кожей. Вдоль стены, где был укреплен продолговатый ящик с вытягивающимися, подобно шторкам, картами, находился длинный стол для заседаний, покрытый зеленым сукном. Вокруг него было множество стульев для участников заседаний. За этим же столом Сталин обычно принимал иностранных собеседников. Над письменным столом висело увеличенное фото В. И. Ленина, читающего «Правду». На других стенах — портреты выдающихся русских полководцев: Суворова, Кутузова, Нахимова.
В кабинете, видимо, закончилось какое-то совещание — там было несколько членов Политбюро и группа незнакомых мне людей. Все они уже встали из-за стола, а Сталин прохаживался по ковру. Обернувшись в мою сторону, он слегка кивнул и сказал находившимся в кабинете лицам:
— Американцы уже здесь, нам надо заканчивать, я вас не задерживаю…
Все, не мешкая, разошлись. Остался только Молотов. У меня был заготовлен текст краткого сообщения для печати о встрече с Хэллом. Я показал его Сталину. Он быстро пробежал глазами несколько строк и сказал:
— После беседы покажите Молотову, он решит. Подойдя к письменному столу и нажав кнопку звонка, добавил:
— Ну, пора… Вошел дежурный.
— Зовите, — бросил Сталин.
Встреча с Хэллом
Через несколько секунд в кабинет вошли Хэлл, Гарриман и Болен. Хэлл — сухой, высокий, с седой лысеющей головой — был одет в строгий черный костюм. На белоснежной, туго накрахмаленной рубашке выделялся темный галстук в светлую полоску.
Сталин вышел навстречу Хэллу, протянул руку. Потом поздоровался с Гарриманом и Боленом. Взяв Хэлла под руку, подвел к Длинному столу. После взаимных приветствий все расселись. Сталин занял место на краю стола, но не с торца, а со стороны стены с картами, на втором стуле с края. Указав на стул напротив, он предложил его Хэллу. Молотов расположился с торца стола, как бы на председательском месте. Я — справа от Хэлла, а Болен и Гарриман — слева от государственного секретаря. Слева от Сталина стул так и остался пустым.
Обращаясь к Хэллу, Сталин еще раз приветствовал его по случаю приезда в Москву и спросил, как он перенес далекое путешествие.
— Вполне благополучно, вопреки моему ожиданию, — ответил Хэлл, слегка улыбаясь, и пояснил: — Я впервые в жизни воспользовался воздушным транспортом, к которому отношусь недоверчиво. Чтобы поменьше быть в воздухе, Атлантику пересек на крейсере. Тем временем персональный самолет президента «Священная корова», который господин Рузвельт любезно предоставил в мое распоряжение, перелетая из США в Северо-Западную Африку. Оттуда мы отправились по воздуху через Каир, Персидский залив и Тегеран…
Сначала разговор шел на отвлеченные темы — о погоде, о видах на урожай. Потом Хэлл принялся делиться своими московскими впечатлениями. Выразив удовлетворение по поводу пребывания в советской столице, он сказал, что его давнишняя мечта посетить Советский Союз наконец сбылась. Хэлл добавил, что побывал на многих международных конференциях, но впервые в жизни он встретил такое гостеприимство и внимание, как здесь.
— Я не ожидал услышать от вас так много хвалебных слов, — ответил Сталин, улыбаясь. — Ну, что же, давайте теперь перейдем к делу.
Хэлл согласился и сказал, что, по его мнению, одной из самых важных функций настоящей конференции в Москве является подготовка встречи между Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем. Эту встречу, добавил он, будет приветствовать американский народ, так же как и народы всех стран, участвующих в войне против фашизма. Затем Хэлл вручил Сталину послание президента Рузвельта относительно места встречи.
Прочтя русский перевод послания, Сталин передал его Молотову и заметил, что, прежде чем дать ответ, необходимо продумать вопрос и проконсультироваться с коллегами. Молотов также прочитал послание и сказал, что в настоящее время на фронте происходят крупные военные операции и все высокопоставленные гражданские и военные деятели Советского правительства единогласно придерживаются мнения, что Сталин не может сейчас вообще выезжать из страны. Во всяком случае, он должен отправиться лишь в такое место, где будет обеспечен ежедневный контакт с Москвой.
Сталин кивнул в знак согласия и сказал, что, учитывая все это, быть может, следовало бы немного отложить встречу руководителей трех держав хотя бы до весны будущего года, когда, по его мнению, город Фербенкс на Аляске мог бы оказаться подходящим местом.
— И президент, и я сам, — возразил Хэлл, — глубоко убеждены, что именно сейчас самое подходящее время для встречи. Этого требует вся международная обстановка. Если такая встреча сейчас не состоится, то это вызовет глубокое разочарование среди народов союзных стран. Зато в результате такой встречи было бы достигнуто единство трех великих держав, что способствовало бы их сотрудничеству в войне и развитию их отношений в послевоенный период.
— Если мы будем ждать до конца войны, — продолжал Хэлл, — и только тогда сформулируем и согласуем основы послевоенной международной программы, то народы во всех демократических странах разбредутся в разные стороны, разногласия их усилятся, и этим воспользуются различные элементы и отдельные представители общественных групп, так же как и некоторые личности. В таких условиях, во всяком случае для Соединенных Штатов, будет очень трудно проводить соответствующую послевоенную программу и сплотить и объединить силы, которые требуются для ее поддержания. Сейчас положение совершенно другое, и если теперь кто-либо даже из довольно высокопоставленных деятелей Соединенных Штатов заявит, что он против разработки послевоенной программы, то он сразу же себя дискредитирует и будет выброшен за борт.
Хэлл добавил, что, хотя он и президент Рузвельт считают такую встречу важной, они, конечно, понимают, что приоритет должен быть отдан задачам ведения войны. Поэтому он, Хэлл, с удовлетворением воспринял готовность Сталина внимательно изучить этот вопрос. Он надеется, что удастся найти подходящее решение. В связи с этим, подчеркнул Хэлл, он считает особенно важным, чтобы в итоге Московской конференции была подписана Декларация четырех.
Сталин сказал, что подумает об этом. Что же касается встречи трех лидеров, то он понимает ее необходимость. Однако положение осложняется тем, что в настоящее время Красная Армия проводит важные военные операции, и летняя кампания на советско-германском фронте постепенно переходит в зимнюю кампанию.
— Сейчас, — добавил Сталин, — представляется весьма редкая возможность, появившаяся, пожалуй, впервые за 50 лет, нанести серьезное поражение германским армиям. Немцы располагают очень незначительными резервами, в то время как Красная Армия имеет достаточно резервов для операций на протяжении целого года. Понятно, что Советский Союз не может каждые десять лет вести войну с немцами. Поэтому чрезвычайно важно воспользоваться открывающимися сейчас возможностями и преимуществами и решить кардинально эту задачу — избавиться на длительное время от германской угрозы. Что касается встречи трех, то необходимо все как следует взвесить и переговорить с коллегами.
Хэлл ответил, что с пониманием относится к соображениям советской стороны, но вместе с тем хотел бы, чтобы была найдена возможность для встречи трех лидеров.
— Информация, которой мы располагаем, — добавил Хэлл, — свидетельствует о том, что все правительства и народы союзных стран с нетерпением ожидают этой встречи, надеясь, что она принесет более тесное сотрудничество между Советским Союзом, Великобританией и Соединенными Штатами.
Сталин согласился с этим и заметил, что в принципе он вовсе не против такой встречи.
— У меня, однако, складывается впечатление, — возразил Хэлл, — что вы, господин председатель, скорее думаете о близких планах, нежели о более отдаленном будущем, для которого встреча трех имеет первостепенное значение.
Сталин ответил, что с его стороны тут не проявляется ни упрямства, ни заботы о престиже. Просто он не понимает, почему президент не может приехать, например, в Тегеран, поближе к советской территории? Почему задержка на два дня в доставке президенту важных американских государственных бумаг считается жизненно важным делом, в то время как не хотят понять, что любой неверный шаг в военных операциях будет не просто грамматической ошибкой, которую легко позднее исправить, а может обойтись в десятки тысяч жизней? Вот почему его так заботит надежная связь с Москвой.
Хэлл заметил, что если встреча будет проведена в Басре, то американцы обеспечат надежную связь. Посол Гарриман сразу же подхватил эту мысль и сказал, что там главы государств будут находиться в полной безопасности, так как каждый сможет жить в своем городке в холмистой местности на окраине Басры и будет охраняться войсками своей национальности.
— Таким образом, — заключил Гарриман, — будет обеспечена полная безопасность.
Сталин на это возразил, что он обеспокоен вовсе не вопросами обеспечения охраны и безопасности, а тем, что ему надо быть поближе к советско-германскому фронту.
Встреча продолжалась уже почти час. Хэлл, посмотрев на часы, сказал, что, будучи всегда исправным учеником, он видит, что уже пора «идти в школу» на Спиридоновку. Сталин улыбнулся этой шутке и пожелал участникам конференции удачи.
Все встали, Хэлл обошел стол, приблизился к Сталину, пожал ему руку, произнеся по-русски:
— До свидания…
Сталин ответил, что весьма удовлетворен встречей с государственным секретарем Соединенных Штатов.
Некоторые итоги конференции
Помимо задачи сокращения сроков войны и связанной с ней проблемы второго фронта на Московской конференции обсуждались также и другие вопросы, по которым была достигнута значительная степень договоренности. Выше уже шла речь о Декларации четырех держав, явившейся важным итогом конференции. Среди других рассмотренных проблем были: германский вопрос, положение в Италии, судьба Австрии, учреждение Европейской консультативной комиссии.
Во время одного из перерывов в работе совещания, когда все прогуливались в садике, окружавшем особняк на Спиридоновке, Хэлл в разговоре с Молотовым заметил, что он хотел бы представить английской и советской делегациям по отдельности некоторые соображения в отношении Германии. Хэлл сказал:
— Это не официальное предложение Соединенных Штатов, а нечто такое, что просто должно показать ход наших мыслей. Поскольку речь идет об ориентировочных предложениях, мы с вами можем свободно их обсудить. Затем, если вы хотите, мы могли бы поговорить об этом и с Иденом и узнать, что думает он…
Молотов заинтересовался этим предложением и спросил, нельзя ли получить текст этого документа, чтобы более внимательно изучить его. Хэлл тут же передал его Молотову.
На следующий день, снова во время перерыва в заседаниях, Молотов, прогуливаясь с Хэллом, сказал следующее:
— Я показал вашу бумагу премьеру Сталину, и он в принципе отнесся к ней положительно. Существо ее отражает советские идеи относительно обращения с Германией после победы над ней. Поэтому мы согласны поддержать эти идеи как основу для дальнейшей работы над соответствующим документом. Впрочем, в этом документе содержались и такие положения, которые Советское правительство не поддержало. В частности, в нем намечался план расчленения Германии. План этот был подвергнут обсуждению, но советская сторона отнеслась к нему холодно, подчеркнув, что данный вопрос требует специального изучения. Что касается остальных положений представленного американцами наброска, то они исходили из требования безоговорочной капитуляции Германии. Власти Германии или ее военные представители должны были подписать соответствующий документ. Этот документ должен был содержать признание факта полного поражения гитлеровской Германии, наделить державы-победительницы правами оккупирующей власти по всей территории Германии, обязать германские власти передать всех военнопленных и других лиц — граждан Объединенных Наций, угнанных в Германию. Объединенные Нации уполномочивались регулировать демобилизацию германских вооруженных сил, обеспечить, освобождение политических заключенных, ликвидацию концентрационных лагерей и задержание военных преступников. Германские власти должны были поддерживать в соответствующем состоянии учреждения, занимавшиеся экономическим контролем, включая их штаты, сохранить полную документацию и оборудование для дальнейшей передачи Объединенным Нациям, которые уполномочивались наблюдать за экономической деятельностью Германии.
Предусматривалось также, что германская территория должна быть оккупирована британскими, советскими и американскими войсками. Имелось в виду, что все нацистские официальные лица будут устранены и любые признаки фашистского режима искоренены. Нацистская партия подлежала роспуску. Германия обязана была уплатить репарации за материальный ущерб, причиненный Советскому Союзу и другим союзным державам, а также оккупированным странам, причем объем репараций должен был определяться комиссией по германским репарациям, состоящей первоначально из представителей трех держав. Германия полностью разоружалась, лишалась постоянной армии и генерального штаба. Что касается границ, то предполагалось этот вопрос рассмотреть при общем урегулировании германской проблемы.
Обсуждение этого плана на Московской конференции показало, что в отношении оккупационного статуса Германии в общем наметились совпадающие точки зрения. Характерно, что многие из выдвинутых тогда соображений легли в основу соответствующего документа, утвержденного впоследствии державами антигитлеровской коалиции.
Обсудить на конференции положение в Италии предложила советская сторона. Следует иметь в виду, что к тому времени значительная часть Апеннинского полуострова была уже очищена англичанами и американцами от фашистских войск. Летом 1943 года Италия капитулировала, режим Муссолини был свергнут. Однако силы реакции в стране еще не были полностью разгромлены. Именно на них опирались американские и английские власти.
Оккупационные власти западных держав с первых же дней своей деятельности подвергались серьезной критике со стороны как демократических кругов Италии, так и прогрессивной общественности других стран. Естественно поэтому, что на Московской конференции советская делегация запросила у союзников подробную информацию о выполнении соглашения о перемирии с Италией. Советская делегация представила свои предложения о мерах, которые должны были обеспечить ликвидацию фашизма и способствовать развитию страны по демократическому пути.
По этому поводу на конференции произошла весьма острая дискуссия. Иден уверял, что меры, которые осуществляют западные союзники, направлены именно на демократизацию. Хэлл поддержал своего английского коллегу и пообещал совместно с ним составить и представить конференции специальный документ. В нем должен был содержаться хронологический и подробный список всех мероприятий, которые оба правительства осуществили в Италии после вторжения в Сицилию. Молотов подчеркнул, что необходимо все же сделать публичное заявление трех держав относительно Италии, которое включало бы и советские соображения. Это предложение в конечном счете было принято и нашло отражение в утвержденной конференцией Декларации. В ней говорилось:
«Министры Иностранных Дел Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства и Советского Союза установили, что три их Правительства полностью согласны с тем, что политика союзников по отношению к Италии должна базироваться на основном принципе: что фашизм и все его пагубные влияния и последствия должны быть полностью уничтожены и что итальянскому народу должна быть предоставлена полная возможность установить правительственные и другие учреждения, основанные на принципах демократии».
Далее в Декларации указывалось, что министры иностранных дел трех правительств согласились провести в жизнь следующие меры:
«1. Необходимо, чтобы Итальянское Правительство было сделано более демократичным, путем включения представителей тех слоев итальянского народа, которые всегда выступали против фашизма.
2. Свобода слова, вероисповедания, политических убеждений, печати и собраний будет возвращена в полной мере итальянскому народу, который должен также иметь право образовывать антифашистские политические группы.
3. Все учреждения и организации, созданные фашистским режимом, должны быть упразднены.
4. Все фашистские и профашистские элементы должны быть устранены из управления или из учреждений и администраций публичного характера.
5. Все политические заключенные фашистского режима должны быть освобождены и им должна быть предоставлена полная амнистия.
6. Должны быть созданы демократические органы местного управления.
7. Фашистские главари и другие лица, известные или подозреваемые в совершении военных преступлений, должны быть арестованы и переданы в руки правосудия…
Имеется в виду, что ничто в этой декларации не ограничивает права итальянского народа впоследствии избрать свою собственную форму правления».
Московская конференция постановила также создать Консультативный совет по вопросам Италии в составе представителей США, СССР, Англии, Французского комитета национального освобождения, Греции и Югославии. Совет должен был сформулировать рекомендации в целях координации политики союзников в Италии.
Это решение, несомненно, имело положительное значение. Оно несколько ограничивало возможность американских и английских военных властей произвольно действовать в Италии во вред интересам итальянского рабочего класса и демократическому развитию страны.
Обсуждая вопрос о послевоенной судьбе Австрии, участники конференции подчеркивали, что аннексия этой страны Гитлером была незаконной и что три державы не считают себя связанными изменениями, которые произошли в Австрии после 1938 года, когда был осуществлен «аншлюс».
Во время этой дискуссии в зал вошел один из технических секретарей советской делегации и передал В. М. Молотову листок бумаги. Пробежав его глазами, советский делегат постучал карандашом по столу и попросил у присутствующих внимания.
— Господа, — начал Молотов, и в его голосе чувствовалось волнение. — Только что получено сообщение о том, что Красная Армия освободила Днепропетровск. Эта победа достигнута в ходе широкого осеннего наступления, развернутого сейчас нашими войсками.
Раздались дружные аплодисменты, потом Хэлл и Иден поздравили советскую делегацию по случаю этой победы. В последующие дни работы конференции Молотов несколько раз объявлял о новых крупных успехах Красной Армии.
После перерыва обсуждался проект Декларации об Австрии, которая и была принята. Вот ее текст:
«Правительства Соединенного Королевства, Советского Союза и Соединенных Штатов Америки согласились, что Австрия, первая свободная страна, павшая жертвой гитлеровской агрессии, должна быть освобождена от германского господства.
Они рассматривают присоединение, навязанное Австрии Германией 15 марта 1938 года, как несуществующее и недействительное. Они не считают себя никоим образом связанными какими-либо переменами, произведенными в Австрии после этой даты. Они заявляют о том, что желают видеть восстановленной свободную и независимую Австрию и тем самым дать возможность самому австрийскому народу, как и другим соседним государствам, перед которыми встанут подобные же проблемы, найти ту политическую и экономическую безопасность, которая является единственной основой прочного мира.
Однако обращается внимание Австрии на то, что она несет ответственность, которой не может избежать, за участие в войне на стороне гитлеровской Германии, и что при окончательном урегулировании неизбежно будет принят во внимание ее собственный вклад в дело ее освобождения».
Конференция рассмотрела некоторые вопросы, относившиеся к послевоенному устройству Европы. Эта проблема имела особенно важное значение, поскольку правящие круги США и Англии рассчитывали создать в Центральной и Юго-Восточной Европе федеративные объединения малых и средних государств. Нетрудно было догадаться, что эти объединения имелось в виду использовать в качестве орудия для достижения своекорыстных целей английских и американских империалистов. Такие планы означали попытку перекроить карту Европы в их интересах без учета пожеланий населения стран этого района. Советское правительство отрицательно относилось к такого рода проектам и не могло дать на них согласия.
В ходе состоявшейся дискуссии советский представитель решительно возразил против планов создания подобных федераций. Эти планы, сказал советский делегат, напоминают о предвоенной политике «санитарного кордона», направленной против Советского Союза.
Иден принялся уверять, что его правительство и не думает о создании «санитарного кордона» против Советского Союза. Оно, дескать, считает, что такой кордон должен быть направлен против Германии.
Молотов изложил советскую точку зрения по вопросу о послевоенном устройстве в Европе. Советское правительство, сказал он, исходит из того, что освобождение малых стран и восстановление их независимости и суверенитета является одной из важнейших задач послевоенного устройства Европы и создания прочного мира. Советская делегация заявила об опасности преждевременного искусственного прикрепления малых стран к группировкам, запланированным без участия заинтересованных народов, о недопустимости какого бы то ни было постороннего вмешательства и внешнего давления при решении народами Европы своих судеб после войны. Советская делегация указала также, что попытки федерирования малых стран на основе решений, вынесенных эмигрантскими правительствами, не выражающими действительной воли народов, означали бы навязывание народам решений, не соответствующих их желаниям. В заключение советский представитель еще раз подчеркнул, что всякие попытки воскресить враждебную Советскому Союзу политику «санитарного кордона», скрывавшуюся за выдвинутыми на Западе проектами федераций, следует категорически отвергнуть.
Заняв твердую позицию по вопросу о заранее навязываемых извне формах объединения малых и средних государств в Европе, Советское правительство выступило в интересах послевоенной безопасности Советского Союза и других государств, в защиту суверенного права народов Восточной и Центральной Европы самим определять свою судьбу. Известно, однако, что западные политики, особенно Черчилль, еще не раз пытались протащить идею «федерации» различных стран Европы, например создать так называемую «Балканскую федерацию».
Большое значение для дальнейших взаимоотношений между союзными державами имело решение Московской конференции об учреждении Европейской консультативной комиссии (ЕКК). Постоянным местопребыванием комиссии был избран Лондон. Это решение можно рассматривать как конкретное проявление намерения трех держав сотрудничать по важнейшим послевоенным проблемам. На Европейскую консультативную комиссию была возложена задача «изучать европейские вопросы, связанные с окончанием военных действий, которые три правительства признают целесообразным ей передать, и давать трем правительствам по ним объединенные советы». В частности, комиссии была поручена разработка условий капитуляции вражеских государств.
О наказании гитлеровцев
Еще одной важной темой дискуссии на Московской конференции было обсуждение Декларации об ответственности гитлеровцев за совершенные преступления. Первоначальный проект этого документа был разработан американцами и одобрен лично Рузвельтом. Уже в один из первых дней работы конференции Хэлл передал этот проект английской и советской делегациям, попросил рассмотреть его и в случае необходимости сделать к нему дополнения. Хэлл сказал также, что, по мнению американской стороны, Декларация должна быть подписана главами правительств трех держав. Он добавил, что было бы желательно обнародовать ее еще в ходе работы конференции. Молотов и Иден пообещали в ближайшее время рассмотреть проект Декларации.
В последующем текст проекта подвергся довольно обстоятельному обсуждению. В него были внесены некоторые изменения и дополнения, после чего он был направлен на окончательное утверждение трем руководителям держав антигитлеровской коалиции. Это заняло некоторое время, и в итоге Декларация была опубликована уже после окончания Московской конференции — 2 ноября 1943 г.
Текст этого документа в конечной редакции гласил:
«Декларация об ответственности гитлеровцев
за совершенные зверства
Великобритания, Соединенные Штаты и Советский Союз получили из различных источников свидетельства о зверствах, убийствах и хладнокровных массовых казнях, которые совершаются гитлеровскими вооруженными силами во многих странах, захваченных ими, из которых они теперь неуклонно изгоняются. Жестокости гитлеровского господства не являются новым фактом, и все народы или территории, находящиеся в их власти, страдали от худшей формы управления при помощи террора. Новое заключается в том, что многие из этих территорий сейчас освобождаются продвигающимися вперед армиями держав-освободительниц и что в своем отчаянии отступающие гитлеровцы-гунны удваивают свои безжалостные жестокости. Об этом теперь с особой наглядностью свидетельствуют факты чудовищных преступлений на освобождаемой от гитлеровцев территории Советского Союза, а также на территории Франции и Италии.
В соответствии с вышеизложенным три союзные державы, выступая в интересах тридцати двух объединенных наций, торжественно заявляют и предупреждают своей нижеследующей декларацией:
В момент предоставления любого перемирия любому правительству, которое может быть создано в Германии, те германские офицеры и солдаты и члены нацистской партии, которые были ответственны за вышеупомянутые зверства, убийства и казни, или добровольно принимали в них участие, будут отосланы в страны, в которых были совершены их отвратительные действия, для того, чтобы они могли быть судимы и наказаны в соответствии с законами этих освобожденных стран и свободных правительств, которые будут там созданы. Списки будут составлены со всеми возможными подробностями, полученными от всех этих стран, в особенности в отношении оккупированных частей Советского Союза, Польши и Чехословакии, Югославии и Греции, включая Крит и другие острова, Норвегии, Дании, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции и Италии.
Таким образом, немцы, которые принимали участие в массовых расстрелах итальянских офицеров или в казни французских, нидерландских, бельгийских и норвежских заложников или критских крестьян, или же те, которые принимали участие в истреблении, которому был подвергнут народ Польши, или в истреблении населения на территориях Советского Союза, которые сейчас очищаются от врага, должны знать, что они будут отправлены обратно, в места их преступлений, и будут судимы на месте народами, над которыми они совершали насилия. Пусть те, кто еще не обагрил своих рук невинной кровью, учтут это, чтобы не оказаться в числе виновных, ибо три союзные державы наверняка найдут их даже на краю света и передадут их в руки их обвинителей с тем, чтобы смогло свершиться правосудие.
Эта декларация не затрагивает вопроса о главных преступниках, преступления которых не связаны с определенным географическим местом, и которые будут наказаны совместным решением правительств-союзников.
Черчилль Рузвельт Сталин»Стоит отметить, что во время предварительного обсуждения на конференции проекта этой Декларации Иден много говорил о необходимости создания «юридических форм» для «законного» рассмотрения дел военных преступников. Хэлл был настроен более решительно. Он заявлял, что, поскольку вопрос о совершении преступлений не вызывает сомнения, юридическая процедура только затянет дело, между тем как лица, совершившие преступления, должны быть наказаны без промедления. Этой же позиции придерживалась и советская делегация. Впрочем, спор этот был беспредметным, ибо сам текст Декларации предусматривал наказание именно тех, кто был виновен, причем в соответствии с законами стран, где преступники бесчинствовали. Декларация об ответственности гитлеровцев за совершенные зверства установила ряд принципиальных положений, которые были использованы при учреждении Международного Нюрнбергского трибунала.
Впоследствии некоторые западные политики, особенно Черчилль, пытались взять под защиту фашистских злодеев. Тут довольно ярко проявилось двуличие лидера тори. Ведь не кто иной, как сам Уинстон Черчилль, был автором той фразы Декларации, где говорилось, что союзники найдут виновных «даже на краю света».
На Московской конференции обсуждались и некоторые вопросы военно-технического характера. Поводом послужил доклад американского генерал-майора Дина, где вносился ряд конкретных предложений. Одно из них заключалось в том, чтобы Советский Союз предоставил базы для британских и американских самолетов, которые будут производить «челночные» операции по бомбардировкам промышленных районов Германии. В дальнейшем этот вопрос нашел положительное решение, и базы для таких операций были предоставлены советской стороной в районе Полтавы. Второе предложение касалось обеспечения более эффективного взаимного обмена информацией о погоде. В итоге обмен такой информацией был значительно расширен. Третье предложение предусматривало улучшение воздушных коммуникаций между СССР и США. По этому пункту Хэлл имел отдельную беседу с Молотовым. С советской стороны было дано согласие на развитие авиасвязи, и соответствующие советские органы получили указание разработать данный вопрос.
В ходе конференции состоялся обмен мнениями о желательности вступления в войну на стороне союзников Турции, а также о сотрудничестве со Швецией. С советской стороны была выдвинута точка зрения, что присоединение Турции к антигитлеровской коалиции способствовало бы сокращению сроков войны. Участники конференции обсуждали различные варианты вопроса о том, как побудить Турцию в ближайшее время объявить войну гитлеровской Германии. Что касается сотрудничества со Швецией, то на конференции обсуждалась возможность получения на ее территории баз для посадки самолетов союзников, действующих в районах Севера. В итоге состоявшейся дискуссии участники конференции согласились, что три державы продолжат в будущем изучение проблем Турции и Швеции.
По вопросу о репарациях были установлены некоторые общие принципы. Репарации следовало предъявить Германии таким образом, чтобы их выплата способствовала усилению послевоенной мировой экономики. Поэтому репарации должны осуществляться в виде товаров и услуг, а не деньгами. Они должны распределяться пропорционально потерям каждой из жертв гитлеровской агрессии, и их следует ограничить определенным периодом. Стороны договорились о создании специальной комиссии по германским репарациям, в которую первоначально должны были входить представители трех держав, с тем чтобы в дальнейшем к ним могли присоединиться и представители других заинтересованных государств.
На одном из заседаний Хэлл поставил вопрос относительно Декларации Объединенных Наций в отношении зависимых стран, а также населения колониальных и подмандатных территорий. Проект соответствующего документа был подготовлен государственным департаментом, и Хэлл сказал, что он передал его Идену еще во время пребывания последнего в Соединенных Штатах в марте 1943 года.
Поднимая этот вопрос, Хэлл сказал, что хочет лишь ознакомить участников конференции с позицией Вашингтона по данной проблеме и не имеет в виду решать ее здесь, поскольку понимает, что нет времени для рассмотрения намеченных предложений во всех деталях. Иден заявил, что он не готов к обсуждению данного вопроса, и добавил, что его правительство не согласно с точкой зрения, выраженной в этом документе. Молотов подчеркнул, что Советское правительство придает вопросу о зависимых странах большое значение и считает его заслуживающим дальнейшего изучения. По существу, в этом предложении американцев нашло отражение их стремление прибрать к рукам отдельные районы, контролировавшиеся европейскими колониальными метрополиями. Естественно, что англичанам идея обсуждения вопроса о судьбе колониальных и подмандатных территорий не понравилась.
Обед в Кремле
Вечером 30 октября в Екатерининском зале Кремля И. В. Сталин давал обед по случаю завершения работы Московской конференции трех министров иностранных дел. Гостей было особенно много. Среди приглашенных находились участники переговоров, члены Политбюро и Государственного комитета обороны, министры. Зал был заставлен столами, украшенными красными гвоздиками и сервированными серебром и сверкающим фарфором. На них красовались всевозможные закуски, бутылки с винами и напитками. Генерал Игнаташвили, ведавший церемониалом приемов, составил особенно изысканное меню. В разложенных у каждого прибора кремовых карточках с тисненым государственным гербом Советского Союза перечислялись блюда русской, французской и кавказской кухни.
Настроение у всех было приподнятое. К тому времени уже явно обозначился поворот в войне в пользу антигитлеровской коалиции, позади были многие успешные сражения, блестящие операции командования Красной Армии, убедительные победы советского оружия. Под Сталинградом, а затем и на всем Южном фронте гитлеровские войска потерпели сокрушительное поражение. Советские войска выиграли труднейшую битву на Курской дуге. Красная Армия форсировала Днепр и продолжала стремительное наступление на запад. Англо-американские войска развивали наступление на Апеннинском полуострове. Крупнейший союзник гитлеровской Германии — Италия — был, по существу, выведен из войны…
Среди присутствовавших в Екатерининском зале военных выделялись представители блестящей плеяды молодых талантливых советских полководцев, показавших преимущества нашей стратегии и тактики над гитлеровской. Их имена все вновь и вновь повторялись в последнее время в приказах Верховного Главнокомандующего, в честь их войск в Москве гремели салюты. Смотреть на этих прославленных командиров было одно удовольствие: энергичные, решительные, подтянутые и корректные, в красивой парадной форме, они как бы олицетворяли собой цвет Красной Армии, настойчиво и целеустремленно шагавшей к победе.
Самый большой стол тянулся вдоль стены, обтянутой зеленоватыми муаровыми обоями. В центре сидел И. В. Сталин, справа от него — Корделл Хэлл, слева — посол США в Москве Аверелл Гарриман. Справа от Хэлла было мое место как переводчика. Напротив нас в таком же порядке по обе стороны от В. М. Молотова расположились Антони Иден, посол Великобритании в Москве Арчибальд Кларк Керр и Павлов в качестве переводчика. Дальше места заняли члены Политбюро и руководители английской и американской военных миссий. За другими столами вперемежку с советскими министрами, маршалами и генералами, руководящими работниками Совнаркома, Наркоминдела и Наркомвнешторга сидели гости: члены делегаций США и Англии на Московской конференции, дипломаты, аккредитованные в Москве, а также советские и иностранные журналисты.
Едва все расселись, как Сталин поднялся, держа рюмку в руке. Молотов, заметив это, постучал ножом по стоявшей перед ним бутылке, призывая всех к вниманию. Микрофонов тогда на столе не было. Сталин говорил негромко, в зале сразу же воцарилась такая тишина, что каждое его слово было отчетливо слышно даже в самом отдаленном уголке зала.
И. В. Сталин поздравил участников конференции с успешным завершением работы. Он выразил уверенность, что принятые только что решения будут способствовать сокращению сроков войны против гитлеровской Германии и ее сателлитов в Европе.
— Отныне, — продолжал Сталин, — сотрудничество трех великих держав будет еще более тесным, атмосфера доверия, в которой проходила работа конференции, будет сопутствовать дальнейшим совместным шагам антигитлеровской коалиции во имя победы над общим врагом. Что касается Советского Союза, то я могу заверить, что он честно выполнит свои обязательства. За нашу победу, друзья!
Сталин высоко поднял рюмку, окинул всех веселым взглядом, чокнулся с Хэллом, приветливо кивнул Идену. Все встали, присоединяясь к произнесенному тосту.
Вслед за Сталиным попросил слово Корделл Хэлл. Он передал всем собравшимся привет от президента Рузвельта и заверил, что его правительство сделает все возможное, чтобы успешно выполнить решения, о которых достигнута договоренность на конференции в Москве. В заключение он также выразил уверенность, что совместными усилиями объединившихся народов враг будет повержен. Затем выступали Антони Иден, Молотов, послы Гарриман и Керр, руководители английской и американской военных миссий.
В перерывах между тостами Сталин и Хэлл оживленно переговаривались. Разговор в основном вращался вокруг работы конференции и положения на фронтах. Хэлл рассказывал о трудностях, с которыми сталкиваются англо-американские войска в Северной Италии, об упорном сопротивлении немцев. Сталин, в свою очередь, кратко изложил обстановку на советско-германском фронте. Он сказал, что в ближайшее время основные операции будут развиваться на Украине и, надо полагать, скоро удастся освободить Киев. Хэлл воспринял это с большим интересом и сказал, что он незамедлительно сообщит президенту Рузвельту о планах Красной Армии.
Как бы отвечая в частном порядке на первый тост Сталина, государственный секретарь сказал:
— Успех Московской конференции я должен приписать прежде всего Вам, маршал Сталин. Этот успех достигнут потому, что ваша страна, ваш народ сделали решающий шаг к участию совместно с Великобританией и Соединенными Штатами во всемирной программе будущего, основанной на взаимном сотрудничестве…
Сталин улыбнулся и ответил, что он целиком выступает за широкую программу международного сотрудничества, военного, политического и экономического, — в интересах мира.
Собеседники немного помолчали, занятые каждый своими мыслями. Тут я заметил, что Сталин наклонился в мою сторону за спиной Хэлла и манит меня пальцем. Я перегнулся поближе и он чуть слышно произнес:
— Слушайте меня внимательно. Переведите Хэллу дословно следующее: Советское правительство рассмотрело вопрос о положении на Дальнем Востоке и приняло решение сразу же после окончания войны в Европе, когда союзники нанесут поражение гитлеровской Германии, выступить против Японии. Пусть Хэлл передаст это президенту Рузвельту как нашу официальную позицию. Но пока мы хотим держать это в секрете. И вы сами говорите потише, чтобы никто не слышал. Поняли?
— Понял, товарищ Сталин, — ответил я шепотом.
Пока я переводил слова Сталина, стараясь с предельной точностью воспроизвести их на английском языке, Сталин глядел в упор на Хэлла и время от времени кивал головой в подтверждение.
Видно было, что Хэлл чрезвычайно взволнован тем, что услышал. Американцы давно ждали этого момента. Теперь правительство США получило от главы Советского правительства официальное заявление по столь важному для Вашингтона вопросу, конечно, в строго конфиденциальном порядке.
Месяц спустя Сталин сказал об этом уже в более широкой аудитории на конференции в Тегеране при встрече руководителей трех великих держав. Затем он повторил данное им обязательство на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Но на обеде в Кремле 30 октября 1943 г. впервые было сделано заявление о решении советской стороны вступить в войну против Японии после победы над Германией. Это сообщение прямо-таки преобразило Хэлла.
В своих мемуарах Хэлл рассказал, что на рассвете, заехав в «Спасо-хауз» по пути в Центральный аэропорт, он успел составить президенту Рузвельту телеграмму, разделив ее из предосторожности на две части. Первая часть была отправлена шифром военно-морского флота, вторая — армейским шифром. Американцы опасались, что какой-то из этих кодов раскрыт вражеской контрразведкой.
Текст телеграммы был уже после войны опубликован госдепартаментом США. Вот как выглядела эта депеша, отправленная посольством США из Москвы с двухдневной задержкой (возможно, американцы боялись посылать телеграмму, пока Хэлл не доберется до безопасного места):
«Секретно. Срочно Москва, 2 ноября 1943 г.
Строго секретно только президенту от Хэлла. Лицом, пользующимся наибольшей властью, мне передано в строгой тайне сообщение для вас лично. В сообщении содержится обещание выступить и помочь нанести поражение врагу. Дополнение в другой шифровке».
Вторая половина телеграммы, отправленная, как уже сказано, другим шифром, гласила:
«Секретно Москва, 2 ноября 1943 г.
Без номера. Строго секретно только президенту от Хэлла. На Дальнем Востоке после поражения Германии (этим заканчивается сообщение, содержащееся в другой шифровке). Прошу радировать подтверждение получения мне в Каир».
Одновременно Хэлл отправил и вторую телеграмму, где речь шла о перспективе встречи Сталина с Рузвельтом и Черчиллем. Хэлл информировал президента, что Сталин совершенно твердо решил не ехать в Басру. Поэтому Хэлл советовал Рузвельту еще раз рассмотреть вопрос о Тегеране, ибо согласие на проведение конференции в этом городе представляет единственный шанс для встречи.
Телеграмма Хэлла, видимо, сыграла свою роль, так как вскоре президент Рузвельт дал согласие на встречу в иранской столице.
Услышав за обеденным столом в Екатерининском зале Кремля заявление Сталина, Хэлл с трудом сдерживал волнение. Пергаментный цвет его худощавого лица покрылся розовыми пятнами, свидетельствовавшими о глубоком волнении.
— Передайте маршалу Сталину, — сказал он, обращаясь ко мне и понизив голос, — что правительство США искренне благодарно за его сообщение. Я лично высоко ценю оказанное мне доверие и прошу верить, что мы сохраним это важное решение в строгой тайне. Я, разумеется, сразу же передам о нем президенту Рузвельту. Американский народ всегда будет с благодарностью помнить о готовности Советского Союза помочь ему в тяжелой борьбе. Мы особенно признательны за эту готовность Советского правительства, хорошо зная, какие огромные усилия прилагает Красная Армия во имя победы союзников в Европе. Еще раз благодарю вас, маршал Сталин, и в вашем лице всех ваших коллег…
В ответ Сталин кивнул, но ничего не сказал.
Потом речь зашла о предвоенной политике западных держав, в частности о политике американского правительства. Сталин заметил, что изоляционистская позиция чуть было не разорила Соединенные Штаты и могла бы нанести серьезный ущерб и Советскому Союзу. Затем Сталин стал развивать мысль о необходимости сотрудничества и кооперации между Соединенными Штатами и Советским Союзом.
Хэлл согласился, сказав, что это замечательная идея и что оба народа — советский и американский — очень похожи друг на друга и имеют много общего.
— Каждый из них, — сказал Хэлл, — великий народ, и поэтому важно позаботиться о развитии тесного взаимопонимания, доверия и дружбы, основанных на духе сотрудничества…
Обед продолжался. И. В. Сталин стал поднимать тосты за военачальников, за работников генерального штаба, за отдельные рода войск. Каждый раз, произнеся краткую речь, он выходил из-за стола и направлялся к названному им маршалу или генералу, чокался с ним, держа рюмку в правой руке, а левой касался плеча удостоившегося тоста. Иногда по пути он задерживался у английских или американских гостей и приветствовал их. Следуя за ним, я переводил возникавшие краткие беседы.
Так продолжалось до начала первого ночи. Затем в соседнем зале был сервирован кофе. Сталин, Молотов, Хэлл, Иден и переводчики сели за отдельный столик.
В саркастических тонах Сталин опроверг циркулировавшие в некоторых странах слухи о том, будто Советский Союз и гитлеровская Германия могут заключить сепаратный мир. Хэлл сказал, что все, кто хоть немного знает советский народ и историю взаимоотношений с гитлеровской Германией, убеждены, что советские люди никогда не заключат сепаратного мира. Однако Иден насупился и промолчал.
Сталин, бросив быстрый взгляд на британского министра иностранных дел, заметил, что ему очень приятна такая уверенность Хэлла, и еще раз повторил, что распространение подобных слухов — величайшая глупость.
Думаю, Сталин специально выбрал данный момент, чтобы коснуться слухов о сепаратных переговорах с гитлеровской Германией. Ведь тогда вновь появились сведения о контактах между гитлеровскими эмиссарами и представителями Англии и США в ряде нейтральных стран. В частности, оживленные переговоры с нацистскими агентами вел в Женеве резидент разведки США Аллен Даллес. Заговорив об этих слухах, Сталин, видимо, хотел прощупать Хэлла и Идена, а возможно, и получить от них определенное заявление на этот счет. Но ни тот, ни другой не развивали эту тему, сделав вид, что не поняли намека.
Затем все перешли в кинозал для просмотра фильма «Волочаевские дни». Эта советская картина об освобождении Сибири и Приморья от японских интервентов, выпущенная в 1938 году и пользовавшаяся большим успехом у зрителей, вызвала в свое время протесты японского посла в Москве. И, разумеется, не случайно именно этот фильм Сталин выбрал для показа. Содержание фильма как бы подкрепляло слова, только что сказанные Сталиным государственному секретарю США относительно готовности Советского Союза присоединиться к борьбе союзников против Японии после разгрома гитлеровской Германии.
На демонстрации фильма присутствовали только члены Политбюро, главы английской и американской делегаций, послы США и Англии.
По ходу картины Сталин несколько раз обращался к Хэллу, комментируя различные эпизоды и вспоминая о том периоде борьбы советского народа против японских оккупантов. После одного из эпизодов Хэлл, наклонившись к Сталину, взволнованно произнес:
— Теперь я вижу, маршал Сталин, что и у Вас есть свой счет к японцам и Вы, конечно, его им в свое время предъявите. Я Вас хорошо понимаю и уверен в Вашем успехе — и он протянул Сталину свою худощавую старческую руку.
Сталин пожал ее и спокойно сказал:
— Вы правы, мы не забыли о том, что творили японские милитаристы на нашей земле…
После просмотра Сталин проводил государственного секретаря до широкой мраморной лестницы, спускающейся в вестибюль Большого Кремлевского дворца. Здесь они постояли некоторое время, обмениваясь пожеланиями на будущее. Сталин дважды пожал руку Хэллу, подчеркивая, что остался доволен этой встречей.
Путь к победе и миру
Перед самым концом конференции было утверждено совместное коммюнике, опубликованное одновременно в Москве, Вашингтоне и Лондоне 2 ноября 1943 г. вместе с принятыми конференцией документами, о которых речь шла выше.
В коммюнике, в частности, указывалось:
«В ходе встречи состоялись исчерпывающие и искренние дискуссии по поводу мероприятий, которые следует предпринять для сокращения сроков войны против Германии и ее сателлитов в Европе. Было использовано присутствие военных советников, представляющих соответствующих начальников Генеральных штабов для того, чтобы обсуждать определенные военные операции, в отношении которых были приняты решения, чтобы создать базу для теснейшего военного сотрудничества в будущем между тремя странами.
Признав первейшей целью ускорение конца войны, три Правительства также единодушны в том, что в их собственных национальных интересах и в интересах миролюбивых наций важно продолжить теперешнее тесное сотрудничество, установленное для ведения войны, также и на период, который последует за окончанием военных действий. Только этим путем можно добиться поддержания мира».
В атмосфере взаимного доверия и понимания, указывалось в заключение в коммюнике, «подверглись рассмотрению и другие важные вопросы как текущего характера, так и относящиеся к будущему обращению с гитлеровской Германией и ее сателлитами, к экономическому сотрудничеству и к обеспечению всеобщего мира».
Завершающим актом встречи в Москве со стороны западных участников конференции были личные письма, направленные ими главе советской делегации. В письме Корделла Хэлла говорилось:
«Перед тем как покинуть Москву, я желаю выразить свою искреннюю благодарность за бесчисленные любезности и внимание, которые Вы и Ваши коллеги из делегации Советского Союза проявили в отношении меня и членов американской делегации. Возможность сотрудничать и работать вместе по вопросам, стоявшим на конференции, доставила всем нам громадное удовлетворение. Мы также навсегда останемся благодарными за безграничное гостеприимство, оказанное нам во время нашего пребывания здесь. Мы надолго сохраним в нашей памяти все связанное с нашим совещанием в столице Вашей великой страны».
Антони Иден в своем письме указывал:
«Сейчас, когда пришло время проститься, я чувствую, что должен написать Вам о том, какое удовольствие доставило мне посещение Москвы. Наши труды на конференции трех увенчались успехом, и я твердо уверен, что мы заложили прочные основы для будущего сотрудничества трех стран. Мы не могли бы поставить перед собой более важной задачи, чем эта… В заключение я хотел бы поблагодарить Вас за большое количество любезностей, которые были оказаны мне и моей делегации со стороны советских властей во время нашего пребывания в Москве. Для всех нас это был весьма памятный визит».
Рано утром 1 ноября американская и английская делегации покинули Москву. Погода стояла сырая и прохладная. В Центральном аэропорту, украшенном флагами трех держав, был выстроен почетный караул. Первыми отбыли Корделл Хэлл и его делегация. Подойдя к микрофонам советской кинохроники, государственный секретарь США заявил:
— Я хочу сделать небольшое прощальное заявление официальным лицам и народу Советского Союза. Не хватает слов, чтобы выразить благодарность за замечательное гостеприимство, чувства доброй воли и дружбы, проявленные официальными лицами и народом этой страны ко мне и моим сотрудникам в течение нашего пребывания здесь. Эта международная конференция свидетельствует о больших возможностях и реальностях в отношении самых широких планов на будущее. Я уверен, что результаты этой конференции станут более ясными с течением времени и по мере того, как представится возможность осуществить то, что здесь было решено. Я вновь хочу выразить благодарность всем тем, кто способствовал удобству и успеху нашего посещения…
Группу советских представителей, провожавших государственного секретаря США и министра иностранных дел Великобритании, возглавлял нарком иностранных дел СССР. Прощаясь, он попросил Хэлла передать президенту Рузвельту от маршала Сталина сердечный привет и выразил надежду, что личная встреча между этими двумя государственными деятелями скоро состоится. Хэлл ответил, что разделяет эту надежду и добавил, что президент Рузвельт очень желает и ждет такой встречи. Пройдя несколько шагов по мокрой траве, Хэлл поднялся по трапу, помахал рукой и скрылся в почти касавшемся земли толстом брюхе огромного американского бомбардировщика. После того как самолет исчез из виду, состоялась церемония проводов английской делегации.
Так закончилась Московская конференция трех министров иностранных дел. Она имела важное значение для дальнейшего развития сотрудничества внутри антигитлеровской коалиции. Решения конференции положили начало разработке принципиальных позиций держав-победительниц как в отношении отдельных государств, так и в вопросах послевоенного устройства. Вместе с тем в ходе работы конференции ее участники получили возможность более обстоятельно ознакомиться с точкой зрения каждой из сторон, лучше понять суть противоречий, существовавших по конкретным вопросам текущей политики и в отношении более широких проблем.
Знакомясь сейчас с документами, опубликованными конференцией, с публичными заявлениями ее участников, читатель должен иметь в виду, что эти публикации делались в разгар войны с коварным врагом, который, изучая подобного рода документы, пытался выискать хотя бы намек на разногласия среди союзников, чтобы попытаться использовать возможные расхождения в своих интересах. Естественно поэтому, что коммюнике и другие публичные сообщения и заявления того периода составлялись таким образом, чтобы в них нельзя было обнаружить и тени разногласия. Разумеется, вопрос о втором фронте и связанные с ним противоречия занимали особое место и, в сущности, из этого не делалось особого секрета, что видно, в частности, из приведенного выше интервью И. В. Сталина представителю американской прессы. Но существовали, конечно, и другие серьезные расхождения между СССР и его союзниками из капиталистического мира, которые выявились, в частности, на Московской конференции.
Вместе с тем эта конференция показала и возможность согласованного решения сложных проблем, относящихся как к вопросам ведения войны, так и послевоенного урегулирования. Наряду с принятием важных решений Московская конференция подготовила также условия для первой встречи глав правительств трех держав, которая и состоялась в Тегеране с 28 ноября по 1 декабря 1943 г.
Результаты Московской конференции были встречены демократической мировой общественностью с большим одобрением. Само собой разумеется, что эти результаты и вообще вся политическая атмосфера, в которой проходила конференция, были подготовлены блестящими победами советского оружия на фронтах Великой Отечественной войны.
Тегеранская конференция
В СТОЛИЦУ ИРАНА
Выбор места встречи.
В дипломатической истории второй мировой войны состоявшаяся в Тегеране осенью 1943 года Конференция руководителей трех великих держав, объединившихся в антигитлеровскую коалицию, заняла видное место.
Никого из трех главных участников тегеранской встречи уже давно нет в живых. Последний их них — Уинстон Черчилль, доживший до 90 лет, был в 1965 году с почестями похоронен в своем фамильном имении в Англии. К тому времени прошло более десяти лет, как он отошел от государственных дел. Рузвельт умер в апреле 1945 года, буквально накануне капитуляции гитлеровской Германии. Сталин пережил его на неполных восемь лет. Но в момент тегеранской встречи все трое находились во главе держав антигитлеровской коалиции. Мир, терзаемый небывалой войной, пристально следил за каждым их шагом, вслушивался в каждое их слово. И естественно, что к Тегеранской конференции были прикованы взоры всего человечества. Решений первой встречи «большой тройки» ждали не только народы порабощенной Европы. Результатов конференции трех с тревогой ожидали и державы оси. И от способности трех лидеров антигитлеровской коалиции совместно действовать во многом зависели в то время судьбы цивилизации, жизнь будущих поколений.
28 ноября 1943 г. в Тегеране впервые встретились три человека, имена которых прочно вошли в историю: И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль. Трудно найти людей более несхожих, чем они.
У каждого из этих трех лидеров были свои взгляды на историю и на будущее человечества. Каждый имел свои идеалы и убеждения. Но, несмотря на все это, логика борьбы против общего врага свела их вместе в Тегеране. И они приняли там согласованные решения.
Многие историки считают Тегеран зенитом антигитлеровской коалиции. Мне это мнение представляется справедливым. Но путь к этой вершине был нелегок. Правящие круги Англии и Соединенных Штатов с момента нападения Гитлера на СССР проявляли сдержанность и поначалу весьма неохотно шли на военное сотрудничество с Советским Союзом. В то время как Советское правительство стремилось в наикратчайший срок установить союзнические отношения с западными державами, видя в этом залог успешной борьбы против держав фашистской оси, Лондон и Вашингтон лишь под давлением обстоятельств включались в совместные действия против общего врага, всячески тянули с выполнением взятых на себя обязательств.
Разумеется, в разгар войны руководящие деятели Англии и Соединенных Штатов не осмеливались открыто высказывать свои сокровенные чаяния. Ибо тогда в их же странах общественное мнение было самым решительным образом настроено в пользу активного сотрудничества с Советским Союзом. Правительства Англии и США не могли не считаться с широким движением английского и американского народов за эффективный военный союз с СССР, за решительные совместные действия против общего врага.
Переписка между Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем о возможности встречи велась на протяжении длительного времени. Все трое признавали необходимость и важность личной встречи. К тому времени, то есть к осени 1943 года, в ходе войны против гитлеровской Германии наметился явный поворот в пользу союзников. Поэтому уже не только военные, но и политические соображения диктовали настоятельную необходимость встречи трех лидеров антигитлеровской коалиции. Надо было обсудить и согласовать дальнейшие совместные действия для ускорения победы над общим врагом, обменяться мнениями относительно послевоенного устройства.
Серьезные трудности представлял вопрос о том, где должна была произойти конференция. Сталин предпочитал провести ее поближе к советской территории. Он ссылался на то, что активные военные операции на советско-германском фронте не позволяют ему как Верховному главнокомандующему надолго отлучаться из Москвы. Это был, конечно, веский аргумент. Рузвельт, в свою очередь, ссылался на американскую конституцию, не позволявшую ему как президенту длительное время отсутствовать в Вашингтоне.
Еще осенью 1943 года, когда шла подготовка к Московскому совещанию министров иностранных дел Советского Союза, Англии и США, в переписке между Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем обсуждался вопрос о возможной встрече глав правительств. В принципе была достигнута договоренность провести такую встречу между 15 ноября и 15 декабря 1943 г. Но место встречи, как уже сказано, вызывало серьезные разногласия.
В послании на имя Сталина от 6 сентября 1943 г. Рузвельт заявил, что «мог бы выехать для встречи в столь отдаленный пункт, как Северная Африка». Черчилль, в свою очередь, писал, что предпочел бы встретиться на Кипре или в Хартуме. Однако Сталин уже 8 сентября предложил Иран как наиболее подходящее место встречи «большой тройки». Через два дня Черчилль ответил, что «готов отправиться в Тегеран».
Между тем Рузвельт, руководствуясь, видимо, прежде всего соображениями престижа, продолжал настаивать на другом пункте встречи, предлагая различные варианты.
В послании от 19 октября Сталин писал американскому президенту: «К сожалению, я не могу принять в качестве подходящего какое-либо из предлагаемых Вами взамен Тегерана мест встречи. Дело здесь не в охране, которая меня не беспокоит».
Далее Сталин объяснил, что в результате успешных операций советских войск летом и осенью 1943 года выяснилось, что они могут и впредь продолжать наступательные операции против германской армии, причем летняя кампания может перерасти в зимнюю. «Все мои коллеги, — продолжал Сталин, — считают, что эти операции требуют повседневного руководства Главной ставки и моей лично связи с командованием. В Тегеране эти условия могут быть обеспечены наличием проволочной телеграфной и телефонной связи с Москвой, чего нельзя сказать о других местах. Именно поэтому мои коллеги настаивают на Тегеране как на месте встречи».
На это послание Рузвельт ответил через неделю. Он по-прежнему отказывался отправиться в Тегеран, обосновывая это тем, что горы на подходе к иранской столице часто исключают возможность полетов на несколько дней подряд. Вследствие этого самолет, доставляющий из Вашингтона различные документы, требующие срочного рассмотрения президентом, может надолго задержаться. Далее Рузвельт писал: «Я смогу взять на себя риск, связанный с доставкой документов в пункты, расположенные в низменности вплоть до Персидского залива, путем системы смены самолетов. Однако я не смогу рисковать задержками, которые могут произойти при полетах через горы в обоих направлениях в ту впадину, где расположен Тегеран. Поэтому с большим сожалением я должен сообщить Вам, что не смогу отправиться в Тегеран. Члены моего кабинета и руководители законодательных органов полностью согласны с этим».
Изложив свои соображения, Рузвельт назвал новое место встречи — Басру, куда он предлагал протянуть телефонную линию из Тегерана. Это послание было передано Сталину государственным секретарем Соединенных Штатов Корделлом Хэллом, находившимся в то время в Москве. Ознакомившись с посланием президента Рузвельта, Сталин сказал Хэллу, что не может не считаться с приведенными в послании аргументами относительно обстоятельств, мешающих президенту приехать в Тегеран.
— Разумеется, — продолжал Сталин, — только самому Рузвельту может принадлежать решение о возможности его поездки в столицу Ирана для встречи с представителями Советского Союза и Великобритании. Однако со своей стороны я должен сказать, что не вижу более подходящего пункта для встречи, чем указанный город. На меня возложены обязанности Верховного Главнокомандующего советскими войсками, и это обязывает меня к повседневному руководству военными операциями на нашем фронте. При таком положении для меня как Главнокомандующего исключается возможность направиться дальше Тегерана. Мои коллеги в правительстве считают вообще невозможным мой выезд за пределы Советского Союза в данное время ввиду большой сложности обстановки на фронте…
Далее Сталин сказал Хэллу, что у него возникла следующая идея: его мог бы вполне заменить на встрече его первый заместитель в правительстве В. М. Молотов, который при переговорах будет пользоваться, согласно Советской конституции, всеми правами главы Советского правительства. В этом случае вообще отпадают затруднения в выборе места встречи. Сталин выразил надежду, что внесенное им предложение устроит все заинтересованные стороны.
Таким образом сложилось положение, при котором дальнейший отказ Рузвельта приехать в Тегеран мог бы привести к тому, что Сталин вообще не принял бы участия в намечавшейся встрече. Видя это и не желая упустить возможность личного контакта с главой Советского правительства, Рузвельт в конце концов изменил свою точку зрения и в послании от 8 ноября сообщил Сталину, что решил отправиться в Тегеран.
Причины, которые побуждали Сталина настаивать на встрече в Тегеране, были, несомненно, весьма уважительные. Они ясно изложены в приведенных выше документах. Но тут, пожалуй, сыграли роль и традиционные дружеские отношения между Советским Союзом и Ираном, отношения, установленные сразу же после Октябрьской революции по инициативе В. И. Ленина. Советское правительство всегда подчеркивало стремление жить в дружбе со своими южными соседями, в том числе и с Ираном. Советско-иранские связи строились на взаимовыгодной равноправной основе и носили самый широкий и позитивный характер. К моменту тегеранской встречи отношения между нашими странами были сердечными, хотя им и пришлось пройти через довольно острый этап, последовавший вслед за вероломным нападением гитлеровской Германии на Советский Союз.
Советское правительство предложило устроить встречу в Тегеране, учитывая также и то, что там находились советские войска, введенные в Иран в соответствии с Договором 1921 года в целях пресечения подрывной шпионско-диверсионной деятельности германской агентуры в Иране. В южную часть страны были введены английские войска для обеспечения англо-американских поставок, шедших из Персидского залива в Советский Союз. Охрана участников Тегеранской конференции обеспечивалась главным образом силами советских войск и органов безопасности.
Вернувшись в конце ноября в Москву из кратковременной командировки, я узнал, что спорный вопрос о месте встречи «большой тройки» решен и что советская делегация уже отбыла из Москвы поездом, направляясь в Тегеран.
Из Москвы в Баку
В то время я был в ранге советника и занимался советско-американскими отношениями в Наркомате иностранных дел. Поскольку я хорошо владел английским языком, мне поручили выполнять роль переводчика на тегеранской встрече. Чтобы догнать делегацию, пришлось воспользоваться самолетом. Все выездные документы были уже оформлены, и в ночь на 27 ноября я вылетел из Москвы. Вместе со мной летел отставший от делегации эксперт по ближневосточным проблемам профессор А. Ф. Миллер.
На шоссе, ведущем к аэродрому, бушевала вьюга. Ночь была темная, и большой неуклюжий «ЗИС-101» медленно пробирался вперед. По строгим правилам затемнения фары заклеивались черной тканью. Слабый свет, пробиваясь через узкие прорези, освещал небольшой участок проезжей части дороги. Шофер, прижавшись к ветровому стеклу, внимательно всматривался в край дороги, стараясь не угодить в кювет. Машину то и дело приходилось останавливать. Шофер вылезал из кабины, протирал снаружи стекло, залепленное снегом.
В темноте никак нельзя было разобрать, далеко ли еще до аэродрома. Но вот машина осторожно свернула с главного шоссе направо, потом налево, и из-за большого сугроба появился серый куб затемненного здания Внуковского аэропорта. Когда «ЗИС» остановился у подъезда, до отлета оставалось всего 15 минут.
Внутри аэровокзала было светло и, несмотря на ночное время, шумно и людно. Оформив документы, мы вышли на летное поле. Здесь уже прогревал моторы грузовой «Дуглас». Винты гнали снежинки, которые, как иглы, впивались в лицо. По приставной железной стремянке забрались внутрь. Половина кабины была заставлена какими-то ящиками. Только впереди было посвободнее. Прикрепленную к шпангоутам откидную железную скамью покрыл иней. Сидеть было холодно. Спина упиралась в обледенелый металлический корпус. После взлета включили отопление. Но от этого не стало лучше: горячий воздух шел сверху, голове было жарко, а ногам — холодно.
Летели, как было принято во время войны, низко, над самым лесом: остерегались немецких истребителей. В кабине свет не включали, и в иллюминатор можно было разглядеть заснеженные поля и темные перелески. Под утро сделали посадку на каком-то аэродроме в степи. Пополнили баки бензином и отправились дальше. Внизу появились солончаки. Снега тут почти не было. Однообразно тянулись песчаные холмы с пучками сухой травы. К середине дня к нам вышел командир корабля и сказал:
— Через несколько минут пройдем над Сталинградом. Летим низко, и вы сможете увидеть, что осталось от города…
Мы молча приникли к иллюминаторам. Сначала появились разбросанные в снегу домики, а потом вдруг начался какой-то фантастический хаос: куски стен, коробки полуразрушенных зданий, кучи щебня, одинокие трубы. Все это черно-белыми зигзагами вздымалось над снежной пустыней. Еще не прошло и года, как здесь бушевал смерч войны, оставивший после себя мертвые руины, но уже можно было различить первые признаки жизни. На снегу виднелись черные фигурки людей, кое-где появились уже новые здания. Город возрождался, в нем начинал биться пульс жизни. Но вот кончились пределы Сталинграда, и снова под нами потянулся унылый, безжизненный пейзаж. То здесь, то там виднелись ржавые скелеты немецких танков и автомашин. Я отвернулся от иллюминатора, поднял воротник пальто, поджал под себя ноги в тщетной надежде согреться и задремал.
В Баку прилетели поздно вечером. Здесь было тепло. На аэродроме нас встречали дипломатический агент МИД в Азербайджане и представители местных властей. В город ехали на старом темно-синем «шевроле» дипагента. Узкое шоссе пролегало сквозь лес вышек, в воздухе разливался теплый и какой-то уютный запах сырой нефти. Он вселял чувство спокойствия, довольства, даже безмятежности. Но все знали, что бакинцы работают напряженно, день и ночь, чтобы обеспечить страну горючим, столь необходимым для победы. Они с честью справлялись со своей задачей. В самые тяжелые дни войны, когда гитлеровцы подошли к Волге и предгорьям Кавказа, бакинская нефть бесперебойно шла на нужды фронта и тыла.
Разместили нас в гостинице «Баку» в номере со всеми удобствами и с горячей водой, что было особенно приятно. В Москве в первые годы войны даже здание МИД не отапливалось. Работали мы в пальто, а ночевали в подвале мидовского здания на Кузнецком мосту, который служил и убежищем во время воздушных налетов. Но там было ужасно холодно, и перед сном мы соскабливали иней с кирпичных стен.
Разговор с востоковедом
В Баку мы остались на ночь, а рано утром должны были вылететь в Тегеран. После пронизывающего холода в самолете было приятно принять горячую ванну. Побрившись, спустились в ресторан поужинать. Нас поразило, что тут без карточек можно было заказать закуски, шашлык и другие блюда, перечисленные в объемистом меню. Метрдотель объяснил, что транспортные трудности не позволяют вывезти из Закавказья производимые там продукты. Хранить их длительное время также невозможно — мало холодильников. Поэтому в ресторанах все выдается без карточек. Сравнительно недороги продукты и на колхозном рынке, так что население Закавказья не испытывает недостатка в питании. После этого разъяснения мы с Анатолием Филипповичем Миллером с чистой совестью принялись за ужин.
Это было мое первое знакомство с профессором А. Ф. Миллером. Правда, я и раньше слышал о нем, как о видном востоковеде, читал его работы. В пути мы почти все время молчали. Теперь разговорились. Анатолий Филиппович рассказал, что только накануне узнал о своей поездке и о том, что в Тегеране состоится встреча глав правительств трех держав. И он толком не знал, какая роль ему там предназначается.
— По-видимому, — рассуждал Миллер, — не обойтись без проблемы Турции. Восток, и в особенности турецкие проблемы, — моя специальность. Пожалуй, в этой связи я могу быть полезен.
Миллер продолжал:
— Для нас сейчас было бы выгодно, если бы Турция вступила в войну на стороне антифашистской коалиции. Трудно, конечно, сказать, в какой мере турецкая армия готова к активным военным действиям, но дело даже не в этом. Мне кажется, что сам факт объявления Турцией войны Германии имел бы немалое политическое и стратегическое значение. Это сделало бы уязвимыми позиции гитлеровцев на Балканах. Союзники могли бы воспользоваться турецкой территорией для создания своих баз, особенно авиационных, с которых можно было бы подвергать бомбежке немецкие позиции в районе Эгейского моря и на Балканах. Хотя это будет не так-то легко, все же можно попытаться побудить Турцию вступить в войну.
— Вы так думаете? — спросил я.
Миллер немного помолчал, взял бутылку, в которой еще оставалось немного вина, долил в рюмки. Отхлебнув, провел языком по верхней губе. Потом не спеша ответил:
— Полагаю, что турки все еще не уверены, проиграет ли Гитлер. Они боятся просчитаться. Думаю, история признает, что нейтралитет Турции сыграл свою положительную роль в этой войне. Но ее нейтралитет имел различные нюансы. Когда в 1941, а затем летом 1942 года гитлеровцы глубоко вклинились в нашу страну и даже подошли к Кавказу, турки старались делать так, чтобы их нейтралитет был больше приятен немцам, чем нам. Вспомните хотя бы дело Павлова и Корнилова…
Сейчас, вероятно, уже мало кто помнит о деле Павлова и Корнилова, но тогда оно наделало много шума. Эта история была весьма показательна для позиции Турции. В первые недели войны гитлеровской Германии против Советского Союза Турция всячески подчеркивала свой строгий нейтралитет. Это было, в частности, видно и по отношению турецких властей к советской колонии, возвращавшейся из Германии в июле 1941 года на родину через Турцию. Ей были оказаны знаки внимания.
Стоит также отметить, что в то время германские военные летчики, совершавшие вынужденную посадку на территории Турции, сразу же интернировались. Турецкая пресса давала сравнительно объективную картину обстановки на советско-германском фронте.
Турки, надо полагать, очень опасались германского вторжения. Для таких опасений были веские основания. В первые дни войны в руки советских войск попали оперативные карты и детальные планы германского нападения на Турцию. Советская пресса опубликовала эти «сверхсекретные» гитлеровские документы, а советский посол в Анкаре Виноградов подробно информировал об этом турецкое правительство.
В те дни генеральный секретарь турецкого министерства иностранных дел Нумал Менеменджиоглу часто приходил к Виноградову «поиграть в шахматы». Неторопливо передвигая фигуры, Менеменджиоглу не упускал случая подчеркнуть решимость Турции соблюдать строжайший нейтралитет, а в случае необходимости даже защищать его с оружием в руках. Но по мере продвижения германских войск в глубь советской территории позиция Анкары начала меняться.
Стало известно, что интернированные в Турции германские летчики потихоньку возвращаются в «рейх». Турецкая пресса все шире воспроизводила геббельсовскую пропаганду, отводила все больше места победным реляциям гитлеровского верховного командования. Кульминационным пунктом тенденции к заигрыванию с гитлеровским «рейхом» и было пресловутое «дело Павлова и Корнилова».
Все началось с того, что 24 февраля 1942 г. на бульваре Ататюрка в Анкаре, неподалеку от здания германского посольства, взорвалась бомба. Каждый, кто хоть немного знал повадки нацистов, без труда распознал в этом взрыве их грубую провокацию. Но турецкие власти тогда сделали вид, что не понимают этого. Более того, они подхватили сфабрикованную Берлином версию, согласно которой «красные агенты» будто бы пытались совершить покушение на германского посла в Турции фон Палена. В подтверждение геббельсовской версии турецкая полиция арестовала двух советских граждан — Павлова и Корнилова, предъявив им вздорное обвинение. Судебный процесс длился с 1 апреля по 17 июня 1942 г. Турецкая и гитлеровская пресса подняла вокруг него невероятную шумиху. Павлов и Корнилов блестяще и стойко защищали себя (для консультаций и организации их защиты в Анкару был послан советский следователь и криминалист Лев Шейнин). С первых же дней процесса стало ясно, что оба они абсолютно непричастны к взрыву на бульваре Ататюрка. Но турецкие власти осудили их на 20 лет тюрьмы каждого. При этом в Анкаре пеклись вовсе не о торжестве правосудия, а старались угодить гитлеровцам, имевшим в то время успехи на советско-германском фронте.
Когда германское продвижение в глубь Советского Союза застопорилось и советские войска стали гнать гитлеровцев на запад, а в особенности после разгрома армии фельдмаршала Паулюса под Сталинградом, анкарские политики стали менять тон. Они давали понять, что дело Павлова и Корнилова может быть пересмотрено. Турецкое правительство заявляло, что хотело бы улучшить советско-турецкие отношения. К осени 1943 года, после летних поражений Германии и освобождения Киева, турки все более заигрывали и с нашими западными союзниками, давая понять, что их симпатии на стороне антигитлеровской коалиции (8 августа 1944 г. Павлов и Корнилов были освобождены из анкарской тюрьмы).
Казалось, существовала реальная возможность вступления Турции в войну на стороне союзников. Но в действительности это произошло гораздо позже.
Пассажиры международной авиалинии
На рассвете мы отправились через заросли нефтевышек на аэродром. День обещал быть хорошим. Безоблачное небо уже блестело на востоке яркими красками. У аэровокзала нас ждал самолет, пожалуй, единственной в то время советской международной авиалинии Баку — Тегеран. Она обслуживалась двухмоторными самолетами, отлично оборудованными внутри. В звуконепроницаемом салоне стояли в два ряда мягкие удобные кресла с высокими спинками, сверху затянутыми белоснежными чехлами. Команда состояла из военных летчиков, облаченных в парадную офицерскую форму с блестящими золотыми погонами. Они казались особенно нарядными, так как в Москве командный состав носил полевые зеленые погоны с едва заметными знаками различия.
Изящная отделка самолета, парадная форма экипажа, лучи солнца, мягко струившиеся сквозь иллюминаторы, — все это создавало праздничное настроение. Вскоре после того как машина поднялась в воздух, к нам в салон (кроме нас с Миллером было еще четверо военных) вошел один из членов экипажа, который, выполняя роль стюарда, рассказал, на какой высоте и с какой скоростью мы летим, какая за бортом температура, когда прибудем в Тегеран. Немного позже он снова появился, неся поднос с шестью чашечками черного кофе. После вчерашнего дня в обледенелом, холодном самолете все это казалось сказкой.
Сначала летели вдоль побережья Каспийского моря, потом над бурыми складками Иранского Азербайджана: миновали Тавриз, окруженный россыпью глинобитных домиков. В полдень мы уже подлетали к Тегерану, который с птичьего полета выглядел очень красиво. Правильные квадраты городских кварталов, большие зеленые массивы, проспекты, отороченные кромкой деревьев, — вся эта картина как-то не вязалась с моим представлением об этом восточном городе, имевшем, как казалось с воздуха, вполне европейский вид. Впрочем, минареты мечетей весьма убедительно напоминали о том, в какой части света мы находимся. Слева от раскинувшегося в долине города виднелся горный массив. Здесь расположены загородная шахская резиденция и виллы местной знати.
Выйдя из самолета на тегеранском аэродроме, мы внезапно очутились как бы в разгаре лета. Прогретый солнцем воздух ласкал лицо. После заснеженной Москвы необычно выглядели деревья с пышной листвой. Пришлось спешно снять не только пальто, но и пиджак, расстегнуть ворот рубашки.
С аэродрома нас повезли на военном «виллисе» по пыльным улицам, которые выглядели далеко не столь привлекательно, как с птичьего полета. Правда, центральная часть города была более современной. Наконец машина въехала в усадьбу советского посольства. Некогда эта усадьба, как мне потом рассказали, принадлежала богатому персидскому вельможе. С того времени тут и сохранился обширный тенистый парк с огромными кедрами, живописными ивами, отражающимися в прудах, и могучими платанами, в узловатых корнях которых освежающе журчал арык.
Познакомился я с Тегераном в один из последующих дней, но хочу сразу же рассказать о своих первых впечатлениях.
Утро восточного города
В тот день я встал пораньше, чтобы воспользоваться несколькими часами, остававшимися до заседания, для осмотра города. Солнце еще только поднялось из-за холмов, окаймляющих иранскую столицу. В посольском парке под кронами старинных деревьев царил прохладный зеленый сумрак, но за воротами, на улице было светло и даже припекало. Вдоль тротуара тянулся арык. Едва тронутые осенним золотом платаны отбрасывали длинные тени.
Было пустынно, попадались лишь редкие прохожие. Не зная города, я шел наугад по направлению к центру. Улицы становились все более людными. Здесь уже совершали утренний моцион состоятельные жители столицы: нарядные изящные женщины в темных очках, закрывавших почти половину лица, — мне подумалось, что это своеобразная ультрамодная паранджа. Впрочем, в отличие от многих пожилых персиянок, кутавшихся в просторные черные одежды, эти модницы щеголяли в цветастых платьях, плотно обтягивающих фигуры. Их сопровождали не менее модно одетые солидные господа с густо набриолиненными и гладко зачесанными волосами. Массивные кольца на руках мужчин, дорогие серьги, ожерелья и браслеты, украшавшие женщин, — все это как бы выставлялось напоказ, символизируя довольство и богатство, особенно кричащие в этом городе, где рядом давала себя знать нищета. Даже в этих богатых кварталах часто попадались оборванные люди, нищие вымаливали подаяние.
Выйдя на центральную площадь, я свернул в сторону рынка. Его близость чувствовалась. Мимо роскошных лимузинов медленно плелись тощие, тяжело навьюченные ослики. На них крестьяне из окрестных деревень доставляли в город для продажи овощи, фрукты и другие дары земли. На тротуаре, прислонившись к стене, рядком сидели уличные писцы, которые за сходную плату тут же сочиняли для неграмотных крестьян жалобы и прошения.
Площадь, на которую я попал, называлась Туп-Хане; рядом с ней находится самый крупный крытый базар страны «Эмир». Он состоит из нескольких обширных помещений, соединенных множеством высоких узких коридоров. Через небольшие отверстия в сводчатых потолках с трудом проникает дневной свет. По обе стороны коридоров множество мелких лавчонок.
Базар раскинулся на огромной территории. Он имеет свой мечети, бани, мусульманские духовные семинарии — медресе. Тут же помещаются и всевозможные кустарные мастерские. Они оглушают перестуком молотков чеканщиков, звоном медной посуды. Сюда же вплетаются выкрики зазывал лавок и харчевен. Ноздри щекочут пряные запахи, дым от поджариваемой тут же на углях баранины, ароматы фруктов.
Тегеранский базар — это не только чрево иранской столицы, но и важный барометр политической и экономической жизни страны. Он чутко откликается на все события. Подобно тому как в Нью-Йорке прислушиваются к Уолл-стриту, в Тегеране говорят: «Базар не возражает… базар волнуется… базар против…»
Вернувшись за ограду посольства, я сразу же окунулся в безмолвный зеленый сумрак.
Предупреждение из ровенских лесов
Пожалуй, трудно было найти место, более подходящее для секретных переговоров трех лидеров военного времени, чем усадьба советского посольства в Тегеране. Здесь ничто не могло помешать их работе, сюда не доносился шум восточного города. Обширная усадьба обнесена каменной стеной. Среди зелени парка разбросано несколько зданий из светлого кирпича, в которых разместилась советская делегация. Главный особняк, где обычно помещалась канцелярия посольства, был оборудован под резиденцию президента США Рузвельта.
Вопрос о том, чтобы американский президент остановился, на время конференции в советском посольстве, заранее обсуждался участниками тегеранской встречи. В конечном счете его решили, исходя из соображений безопасности. Американская миссия в Тегеране находилась на окраине города, тогда как советское и английское посольства непосредственно примыкали друг к другу. Достаточно было с помощью высоких щитов перегородить улицу и создать временный проход между двумя усадьбами, чтобы весь этот комплекс образовал одно целое. Таким образом обеспечивалась безопасность советских и английских делегатов, поскольку вся территория надежно охранялась. Если бы Рузвельт остановился в помещении миссии США, то ему и другим участникам встречи пришлось бы по нескольку раз в день ездить на переговоры по узким тегеранским улицам, где в толпе легко могли бы скрываться агенты «третьего рейха».
Имелись сведения, что гитлеровская разведка готовит покушение на участников тегеранской встречи. В 1966 году небезызвестный головорез Отто Скорцени, которому Гитлер доверял наиболее ответственные диверсии, подтвердил, что он имел поручение выкрасть в Тегеране Рузвельта. Эту операцию гитлеровцы готовили в глубокой тайне.
Гитлер стал носиться с идеей покушения на руководителей трех держав антифашистской коалиции сразу же после состоявшейся в 1943 году в Касабланке встречи президента Рузвельта и премьер-министра Черчилля. Разработку этой операции, получившей название «Дальний прыжок», Гитлер поручил руководителю абвера (военной разведки) Канарису и начальнику главного управления имперской безопасности Кальтенбруннеру.
В специальных школах абвера и управления СС для большей маскировки подготовка к покушению на «большую тройку» проводилась под кодовым названием операция «Слон». О том, что в качестве одного из возможных мест встречи глав трех великих держав называется Тегеран, гитлеровская разведка, расшифровавшая американский военно-морской код, знала уже в середине сентября 1943 года.
Несколько раньше в Берлине по другому поводу вспомнили о некоем Романе Гамоте, имевшем опыт шпионской работы в Иране. Его вновь решили вернуть в эту страну для организации диверсий и изучения обстановки на месте. В личном письме Гитлеру от 22 мая 1943 г. Гиммлер сообщал: «…Хотя враги назначили большую цену за голову Гамоты и его жизнь неоднократно подвергалась опасности, он после излечения от малярии намерен вернуться в Северный Иран». Уже в августе 1943 года Роман Гамота был сброшен с парашютом недалеко от Тегерана. Он нашел, убежище среди местных пронацистских элементов и установил двустороннюю радиосвязь с Берлином. Позднее к Гамоте присоединились отряды эсэсовских диверсантов. В их числе были также агенты гестапо Винфред Оберг и Ульрих фон Ортель. Эти отряды были сброшены с немецких самолетов, стартовавших из оккупированного в то время гитлеровцами Крыма. Гамота и его группа были засечены тайным английским резидентом в Тегеране швейцарцем Эрнстом Мерзером. Еще до войны Мерзера «порекомендовал» британской секретной службе английский разведчик, а впоследствии известный писатель Сомерсет Моэм. Позже, работая на «Интеллидженс сервис», Мерзер с ведома своих лондонских хозяев дал себя завербовать немецкому абверу. Адмирал Канарис долго изучал нового агента, но так и не обнаружил, что тот является «двойником». В конце 1940 года Мерзер по поручению абвера обосновался в Тегеране как представитель ряда торговых западноевропейских фирм. Когда летом 1941 года немцам пришлось покинуть Иран, Эрнст Мерзер стал главным резидентом и связным гитлеровской разведки в Тегеране. С помощью хранившегося в доме Мерзера радиопередатчика Берлин, наряду с подпольной радиосвязью с заброшенными в Иран диверсантами, поддерживал контакт со своей агентурой, в частности и по вопросам, связанным с подготовкой покушения на лидеров трех великих держав антигитлеровской коалиции. Естественно, что Мерзер информировал обо всем своих главных хозяев — англичан.
В то время в Тегеране мало кто знал, что важные сведения о готовившейся диверсии против глав трех держав поступили также из далеких ровенских лесов, где в тылу врага действовала специальная группа под командованием опытных советских чекистов Дмитрия Медведева и Александра Лукина. В эту группу входил и легендарный разведчик Николай Кузнецов, осуществивший немало смелых операций в районе оккупированного нацистами города Ровно. Зная в совершенстве немецкий язык, Кузнецов отлично играл роль обер-лейтенанта вермахта Пауля Зиберта. Гитлеровцы долгое время не подозревали, что за вылощенной внешностью высокого, всегда подтянутого офицера-фронтовика скрывается советский разведчик. В конце концов фашисты все же напали на след Кузнецова, и он вместе с двумя своими товарищами погиб 1 апреля 1944 г.
Александр Лукин в своих воспоминаниях рассказывает, как Николай Кузнецов, он же — Пауль Зиберт, расположил к себе приехавшего в Ровно штурмбанфюрера СС Ульриха фон Ортеля и выведал у него важную тайну. Началось с того, что фон Ортель сам предложил Зиберту перейти на службу в СС, где легко сделать карьеру. Когда Зиберт и фон Ортель снова встретились в офицерском ресторане в Ровно, фон Ортель напомнил о своем предложении и пообещал в скором времени познакомить Зиберта с Отто Скорцени, вместе с которым ему, фон Ортелю, предстояло выполнить какую-то важную операцию. Кузнецову не пришлось долго допытываться, о чем идет речь. Размякший от коньячных паров фон Ортель все выболтал.
— Вскоре я отправлюсь в Иран, мой друг, — доверительно шепнул он… — В конце ноября там соберется «большая тройка». Мы повторим прыжок в Абруццо! Только это будет дальний прыжок! Мы ликвидируем «большую тройку» и повернем ход войны. Мы сделаем попытку похитить Рузвельта, чтобы фюреру легче было сговориться с Америкой… Вылетим несколькими группами. Людей готовим в специальной школе в Копенгагене…
Упомянув Абруццо, фон Ортель имел в виду проведенную Отто Скорцени по указанию Гитлера операцию по спасению Муссолини. После того как в июле 1943 года фашистский режим в Италии потерпел крах, Муссолини был арестован и доставлен под усиленной охраной в горный туристский отель «Кампо императоре», расположенный в труднодоступной местности близ местечка Абруццо. Новый итальянский премьер-министр маршал Бадольо изъявил готовность вести с англо-американцами переговоры о выходе Италии из войны. Это взбесило Гитлера, и он решил во что бы то ни стало выкрасть Муссолини, чтобы с его помощью заставить итальянцев продолжать сопротивление хотя бы в северной части страны. Добраться в отель «Кампо императоре» снизу можно было только по подвесной дороге, подступы к которой бдительно охранялись. Другой путь был с воздуха. Его и избрала гитлеровская секретная служба.
Осуществление операции Гитлер возложил на штурмбанфюрера СС Отто Скорцени. У него на счету было уже немало диверсий и кровавых операций. Убийство в 1934 году австрийского канцлера Дольфуса, арест во время аншлюса Австрии президента Микласа и канцлера Шушнига, зверские расправы над мирными жителями Югославии и Советского Союза — все это дело рук Скорцени и его банды.
Скорцени пользовался особой благосклонностью Гитлера и быстро продвигался по служебной лестнице. К 1943 году он был уже секретным шефом эсэсовских террористов и диверсантов в VI отделе главного управления имперской безопасности. Он пользовался особым доверием главаря СД кровавого палача Эрнста Кальтенбруннера.
Поручая Скорцени осуществить операцию «Дуб» — вызволение Муссолини, Гитлер не ошибся в выборе. Несмотря на все сложности обстановки, Скорцени добился своего. Вместе с группой, состоявшей из 106 опытных диверсантов, Скорцени на планерах особой конструкции неожиданно приземлился возле отеля «Кампо императоре», обезоружил растерявшуюся охрану, освободил дуче и на специальном самолете «Физелер Шторьх» вывез его в Германию. Геббельсовская пропаганда выжала из операции «Абруццо» все, что можно. Вокруг имени Скорцени поднялась невероятная шумиха. Его окружили ореолом мистической легенды, превозносили как идола германской расы.
Не удивительно, что, когда разрабатывался план диверсии против участников Тегеранской конференции, окрещенный кодовым, названием «Дальний прыжок», выбор снова пал на Скорцени. Но тут любимцу Гитлера удача изменила.
Узнав от фон Ортеля о готовящейся диверсии, Кузнецов поспешил, в отряд Медведева. Там была составлена радиограмма, которая вместе со сделанным Кузнецовым словесным портретом фон Ортеля сразу же полетела в Москву. Эта радиограмма подтверждала аналогичную информацию, полученную советской разведывательной службой из других источников. Немедленно были приняты необходимые меры, чтобы обезвредить нацистских диверсантов. Но все же надо было соблюдать величайшую бдительность и осторожность, чтобы обезопасить участников тегеранской встречи, поскольку нацисты могли иметь и другие варианты покушения.
В то время иранская столица кишмя кишела беженцами из разоренной войной Европы. Это были главным образом состоятельные люди, стремившиеся избавить себя от неудобств, ограничений, а главное — от опасности войны. Они сумели перевести изрядную часть своих капиталов в Тегеран и жили там вольготно. Их можно было видеть в роскошных автомобилях на улицах города, в дорогих ресторанах и магазинах.
Тогда как в большинстве стран, участвовавших в войне, не говоря уже об оккупированных гитлеровцами территориях, люди терпели всевозможные лишения, в невоюющих государствах лица, обладающие капиталами, могли иметь фактически все, что им вздумается. Тегеранский рынок поражал в те скудные годы богатством и разнообразием товаров. Их какими-то неведомыми путями доставляли сюда со всех концов света. Торговцы запрашивали баснословные цены. Хотя война непосредственно не захватила Иран, она привела к сильнейшей инфляции: цена мешка муки превысила средний годовой доход иранца. Но в Тегеране в то время находилось немало людей, которые сорили деньгами и жили в свое удовольствие.
Среди массы беженцев было и множество гитлеровских агентов. Широкие возможности для них в Иране создавались не только своеобразными условиями этой страны, но и тем покровительством, которое в предвоенные годы оказывал немцам престарелый Реза-шах, открыто симпатизировавший Гитлеру. Правительство Реза-шаха создало для немецких коммерсантов и предпринимателей весьма благоприятную обстановку, которой в полной мере воспользовалась гитлеровская разведка, насадив в Иране своих резидентов. Когда же после начала войны в Иран хлынула волна беженцев, гестапо воспользовалось этим, чтобы усилить свою агентуру в этой стране, игравшей важную роль как перевалочный пункт для англо-американских поставок в Советский Союз. И не случайно Реза-шаху пришлось отречься от престола и ретироваться в Южную Африку, прежде чем создались условия для дружественных отношений между Ираном и участниками антигитлеровской коалиции.
Но и после этого гитлеровская агентура продолжала тайно действовать в Иране, и это делало вполне реальной опасность всякого рода провокаций. Гитлеровцы заранее позаботились о том, чтобы сохранить в Иране свою тайную агентуру. Помимо упомянутого выше Романа Гамоты, ею руководили опытные офицеры секретной службы. Один из них, Шульце-Хольтус, занимая пост германского генерального консула в Тавризе, в действительности был резидентом абвера. Когда правительство Ирана приняло решение о высылке из страны представителей гитлеровской Германии, Шульце-Хольтус не репатриировался вместе с другими немецкими дипломатами. Он скрылся и на протяжении нескольких лет жил на нелегальном положении.
Отрастив бороду, покрасив ее хной и напялив одежду муллы, Шульце-Хольтус рыскал по стране, вербуя агентов в среде местных реакционеров. Летом 1943 года, когда Шульце-Хольтус обосновался у кашкайских племен в районе Исфагани, к нему была сброшена группа парашютистов с радиопередатчиком, что позволило Шульце-Хольтусу установить двустороннюю радиосвязь с Берлином. Это были люди из специальной школы Отто Скорцени. Они привезли с собой большое количество оружия, взрывчатку и золотые слитки для оплаты местной агентуры.
Шульце-Хольтус поддерживал также контакт с тайным гестаповским резидентом, орудовавшим в районе Тегерана. Это был некий Майер из СД. Уйдя в подполье одновременно с Шульце-Хольтусом, Майер в течение трех месяцев скрывался на армянском кладбище в Тегеране: преобразился в иранского батрака и работал могильщиком. Потом, развернув целую шпионскую сеть, Майер подстрекал кочевые племена Ирана к восстаниям против центрального правительства, организовывал диверсии и акты саботажа. Он поддерживал радиосвязь с Берлином, и незадолго до Тегеранской конференции к нему, в район иранской столицы, были сброшены шесть парашютистов-диверсантов.
Все эти, ставшие теперь известными, факты говорят о том, что Тегеран был одним из центров шпионской сети держав фашистской оси на Среднем Востоке. Когда речь зашла о необходимости принятия серьезных мер для обеспечения безопасности «большой тройки», представитель американской секретной службы Майкл Рейли также разделял опасения советской разведки. Он в свою очередь, отметил, что, несмотря на все предосторожности и уже принятые меры, среди тысяч беженцев, нахлынувших в Тегеран из Европы, остались еще десятки нацистских агентов.
В советском посольстве
Рузвельт вначале отклонил приглашение остановиться в советском посольстве. Он объяснял, что чувствовал бы себя более независимым, не будучи чьим-то гостем. Кроме того, он уже раньше отклонил приглашение, полученное от англичан, и мог теперь обидеть их, приняв приглашение русских. Но в конечном счете соображения удобства, а главное безопасности всех участников встречи побудили его согласиться. Это обстоятельство американцы особенно подчеркивали. Они ссылались, в частности, на посла США в Москве Аверелла Гарримана, который, помимо всего прочего, указал Рузвельту на то, что, случись что-либо с английским или советским представителями на пути в американскую миссию, президент сам счел бы себя ответственным, если бы отклонил предложение русских.
Приняв предложение поселиться в советском посольстве, президент США, судя по всему, потом не жалел об этом. Большое удобство для Рузвельта, которому из-за паралича обеих ног было трудно передвигаться, состояло также и в том, что его комнаты выходили прямо в большой зал, где происходили пленарные заседания конференции.
Вернувшись в Вашингтон, президент Рузвельт сделал 17 декабря 1943 г. на пресс-конференции специальное заявление о том, что он остановился в Тегеране в советском посольстве, а не в американском, поскольку Сталину стало известно о германском заговоре. «Маршал Сталин, — добавил Рузвельт, — сообщил, что, возможно, будет организован заговор с целью покушения на жизнь всех участников конференции. Он просил меня остановиться в советском посольстве, с тем чтобы избежать необходимости поездок по городу».
Президент заявил далее, что вокруг Тегерана находилась, возможно, сотня германских шпионов. «Для немцев было бы довольно выгодным делом, — добавил Рузвельт, — если бы они могли разделаться с маршалом Сталиным, Черчиллем и со мной в то время, как мы проезжали бы по улицам Тегерана, поскольку советское и американское посольства отделены друг от друга расстоянием примерно в полтора километра».
Советская сторона сделала все, чтобы пребывание американского президента в нашем посольстве было удобным и приятным. В апартаментах Рузвельта американцы могли распоряжаться по своему усмотрению. Питанием президента, как обычно, ведали его собственные повара и официанты.
Остальные члены американской делегации, а также технический персонал жили в миссии США и каждый день приезжали оттуда на заседания.
Советская делегация в составе И. В. Сталина, В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова разместилась неподалеку от главного здания, в небольшом двухэтажном особняке — квартире советского посла в Иране.
Для технического персонала советской делегации было отведено помещение, где в прошлом находился гарем персидского вельможи. Одноэтажный дом в виде вытянутого прямоугольника обрамляла терраса с мавританскими колоннами. Каждая из многочисленных комнат имела две двери: на террасу и во внутренний длинный коридор. Перед зданием был квадратный бассейн.
Но подробности, связанные с историей этой усадьбы, я узнал позже. Когда с аэродрома нас с Миллером привезли в бывший гарем, он выглядел отнюдь не романтично: кипы папок и досье, разбросанные по столам канцелярские принадлежности, раскладушки, в беспорядке расставленные по комнатам и накрытые серыми армейскими одеялами…
Не было времени и для знакомства с экзотическим парком: меня предупредили, что в два часа дня состоятся переговоры Сталина с Рузвельтом, где я должен переводить. Правда, мне удалось наскоро перекусить в оборудованной в соседнем флигеле скромной столовой для технического персонала.
Спустя десять минут, я, схватив блокнот, побежал в главное здание.
СТАЛИН ВСТРЕЧАЕТСЯ С РУЗВЕЛЬТОМ
Диалог двух лидеров
Перед встречей Сталина с Рузвельтом я старался быть как можно более собранным. Чтобы переводить Сталина, требовалось большое напряжение всех сил. Он говорил тихо, с акцентом, а о том, чтобы переспросить, нечего было и думать. Приходилось мобилизовывать все внимание, чтобы мгновенно уловить сказанное и тут же воспроизвести на английском языке. К тому же надо было записывать все сказанное во время переговоров. Спасало лишь то, что Сталин говорил размеренно, делая после каждой фразы паузу для перевода.
В обязанности переводчика входило также составление официального протокола. Его надо было продиктовать стенографистке, затем составить проект краткой телеграммы. Эту телеграмму Сталин лично просматривал и корректировал. Если переговоры происходили в Москве, то телеграмма направлялась шифром советским послам в Лондоне и Вашингтоне. В данном же случае такая информационная телеграмма посылалась также в Москву оставшимся там членам Политбюро.
Сейчас во многих странах уже накоплен большой опыт синхронного устного перевода. Имеются высококвалифицированные кадры. Они широко используются на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, на различных международных совещаниях и встречах. Но в то время, по крайней мере в нашей стране, специалистов в этой области не было. В Наркомате иностранных дел лишь несколько человек привлекались к переводам при встречах на высшем уровне. В. Н. Павлову и мне приходилось совмещать роль переводчика с основной работой в наркомате. Правда, это имело свои плюсы, так как мы были обычно в курсе обсуждавшихся политических проблем.
На беседе, о которой идет речь, кроме Сталина, Рузвельта и меня, переводчика, никто больше не присутствовал. Рузвельт предупредил, что будет один, без Чарльза Болена, который обычно выполнял роль переводчика американской делегации. Видимо, Рузвельт решил не брать никого с собой, чтобы атмосфера беседы была более доверительной. Мне предстояло переводить всю беседу одному.
Когда я вошел в комнату, примыкавшую к залу пленарных заседаний конференции, там уже находился Сталин в маршальской форме. Поздоровавшись, я подошел к низенькому столику, вокруг которого стояли диван и кресла, и положил там блокнот и карандаш. Сталин медленно прошелся по комнате, вынул из коробки с надписью «Герцеговина флор» папиросу, закурил. Прищурившись, посмотрел на меня, спросил:
— Не очень устали с дороги? Готовы переводить? Беседа будет ответственной.
— Готов, товарищ Сталин. За ночь в Баку хорошо отдохнул. Чувствую себя нормально.
Сталин подошел к столику, положил на него коробку с папиросами. Зажег спичку и раскурил потухшую папиросу. Затем, медленным жестом погасив спичку, указал ею на диван и сказал:
— Здесь, с краю, сяду я. Рузвельта привезут в коляске, пусть он расположится слева от кресла, где будете сидеть вы.
— Ясно, — ответил я.
Сталин снова стал прохаживаться по комнате, погрузившись в размышления. Через несколько минут дверь открылась и слуга-филиппинец вкатил коляску, в которой, тяжело опираясь на подлокотники, сидел улыбающийся Рузвельт.
— Хэлло, маршал Сталин, — бодро произнес он, протягивая руку. — Я, кажется, немного опоздал, прошу прощения.
— Нет, вы как раз вовремя, — возразил Сталин. — Это я пришел раньше. Мой долг хозяина к этому обязывает, все-таки вы у нас в гостях, можно сказать, на советской территории.
— Я протестую, — рассмеялся Рузвельт. — Мы ведь твердо условились встретиться на нейтральной территории. К тому же тут моя резиденция. Это вы мой гость.
— Не будем спорить, лучше скажите, хорошо ли вы здесь устроились, господин президент. Может быть, что требуется?
— Нет, благодарю, все в порядке. Я чувствую себя как дома.
— Значит, вам здесь нравится?
— Очень вам благодарен за то, что предоставили мне этот дом.
— Прошу вас поближе к столу, — пригласил Сталин.
Слуга-филиппинец подкатил коляску в указанное место, развернул ее, затянул тормоз на колесе и вышел из комнаты, Сталин предложил Рузвельту папиросу, но тот, поблагодарив, отказался, вынул свой портсигар, вставил длинными тонкими пальцами сигарету в изящный мундштук и закурил.
— Привык к своим, — сказал Рузвельт, обезоруживающе улыбнулся и, как бы извиняясь, пожал плечами. — А где же ваша знаменитая трубка, маршал Сталин, та трубка, которой вы, как говорят, выкуриваете своих врагов?
Сталин хитро улыбнулся, прищурился.
— Я, кажется, уже почти всех их выкурил. Но говоря серьезно, врачи советуют мне поменьше пользоваться трубкой. Я все же ее захватил сюда и, чтобы доставить вам удовольствие, возьму с собой ее в следующий раз.
— Надо слушаться врачей, — серьезно сказал Рузвельт, — мне тоже приходится это делать…
— У вас есть предложения по поводу повестки дня сегодняшней беседы? — перешел Сталин на деловой тон.
— Не думаю, что нам следует сейчас четко очерчивать круг вопросов, которые мы могли бы обсудить. Просто можно было бы ограничиться общим обменом мнениями относительно нынешней обстановки и перспектив на будущее. Мне было бы также интересно получить от вас информацию о положении на вашем фронте.
— Готов принять ваше предложение, — сказал Сталин. Он размеренным движением взял коробку «Герцеговины флор», раскрыл ее, долго выбирал папиросу, как будто они чем-то отличались друг от друга, закурил. Затем, неторопливо произнося слова, продолжал. — Что касается положения, у нас на фронте, то основное, пожалуй, в том, что в последнее время наши войска оставили Житомир — важный железнодорожный узел.
— А какая погода на фронте? — поинтересовался Рузвельт.
— Погода благоприятная только на Украине, а на остальных участках фронта — грязь и почва еще не замерзла.
— Я хотел бы отвлечь с советско-германского фронта 30–40 германских дивизий, — сочувственно сказал Рузвельт.
— Если это возможно сделать, то было бы хорошо.
— Это один из вопросов, по которому я намерен дать свои разъяснения в течение ближайших дней здесь же, в Тегеране. Сложность в том, что перед американцами стоит задача снабжения войск численностью в два миллиона человек, причем находятся они на расстоянии трех тысяч миль от американского континента.
— Тут нужен хороший транспорт, и я вполне понимаю ваши трудности.
— Думаю, что мы эту проблему решим, так как суда в Соединенных Штатах строятся удовлетворительным темпом.
В ходе беседы Сталин и Рузвельт коснулись многих вопросов и проблем. Рузвельт, в частности, в общих чертах развивал мысль о послевоенном сотрудничестве между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Сталин приветствовал эту идею и отметил, что после окончания войны Советский Союз будет представлять собой большой рынок для Соединенных Штатов. Рузвельт с интересом воспринял это заявление и подчеркнул, что американцам после войны потребуется большое количество сырья, и поэтому он думает, что между, нашими странами будут существовать тесные торговые связи. Сталин заметил, что если американцы будут поставлять нам оборудование, то мы им сможем поставлять сырье.
Далее речь зашла о будущем Франции. Рузвельт заявил, что де Голль ему не нравится, в то время как генерала Жиро он считает очень симпатичным человеком и хорошим генералом.
Рузвельт сообщил также, что американцы вооружают 11 французских дивизий, и коснулся в этой связи положения во Франции и настроений различных слоев населения этой страны.
— Французы, — заметил Рузвельт, — хороший народ, но им нужны абсолютно новые руководители не старше 40 лет, которые не занимали никаких постов в прежнем французском правительстве.
Сталин высказал мнение, что на такие изменения потребуется много времени. Что же касается некоторых нынешних руководящих слоев во Франции, продолжал он, то они, видимо, думают, что союзники, преподнесут им Францию в готовом виде, и не хотят воевать на стороне союзников, а предпочитают сотрудничать с немцами. При этом французский народ не спрашивают.
Рузвельт заметил, что, по мнению Черчилля, Франция полностью возродится и скоро станет великой державой.
— Но я не разделяю этого мнения, — продолжал Рузвельт. — Думаю, что пройдет много лет, прежде чем это случится. Если французы полагают, что союзники преподнесут им готовую Францию на блюде, то они ошибаются. Французам придется много поработать, прежде чем Франция действительно станет великой державой…
За этими замечаниями американского президента скрывались серьезные разногласия между Соединенными Штатами и Англией по вопросу о том, кто должен осуществлять власть на освобожденной территории Северной Африки, а потом, после высадки в Нормандии, и в самой Франции. Как выяснилось впоследствии, Соединенные Штаты, осуществившие высадку в Северной Африке, рассчитывали установить свое военное и политическое господство не только над этой территорией, но и над всем французским движением Сопротивления, с тем чтобы в дальнейшем получить точку опоры на европейском континенте — во Франции. В Северной Африке Вашингтон делал ставку на сотрудничавшего ранее с немцами адмирала Дарлана в противовес генералу де Голлю, который находился тогда в Лондоне и возглавлял Национальный комитет «Сражающейся Франции».
После убийства адмирала Дарлана американцы сделали ставку в Северной Африке на генерала Жиро. В своих опубликованных в 1965 году мемуарах Антони Иден писал: «…организовать встречу генерала де Голля с генералом Жиро оказалось делом нелегким. Американская политика усугубила связанные с этим трудности. Правительство Соединенных Штатов все еще было против создания единой французской власти до высадки союзников во Франции… Оно также по-прежнему относилось подозрительно и враждебно к генералу де Голлю. Оно побаивалось его активного и энергичного характера и склонно было преуменьшать поддержку, которую голлизм получал от движения Сопротивления во Франции».
В конце концов Вашингтону все же пришлось пойти на примирение с генералом де Голлем, который получил возможность отправиться во Францию вскоре после высадки союзников в Нормандии. Но характер отношений, который складывался тогда между американцами и де Голлем, несомненно сыграл свою роль в будущем.
В ходе этой беседы Рузвельта со Сталиным выявился различный подход Соединенных Штатов и Англии также и в отношении будущего колониальных владений. Рузвельт много говорил о необходимости нового подхода к проблеме колониальных и зависимых стран после войны. Может быть, он искренне думал о возможности предоставления им постепенно самоуправления и в конечном счете независимости — тема, к которой американский президент вновь и вновь возвращался в дни Тегеранской конференции. Но, выступая таким образом, он вольно или невольно отражал интересы тех кругов США, которые под прикрытием разговоров о пересмотре статуса колониальных, владений европейских капиталистических держав готовили почву для проникновения США в колониальные страны.
В этом отношении показателен разговор, который произошел во время первой встречи между Сталиным и Рузвельтом в Тегеране. Касаясь будущего Индокитая, Рузвельт сказал, что можно было бы назначить трех-четырех попечителей и через 30–40 лет подготовить народ Индокитая к самоуправлению. То же самое, заметил он, верно в отношении других колоний.
— Черчилль, — продолжал президент, — не хочет решительно действовать в отношении осуществления этого предложения о попечительстве, так как он боится, что этот принцип придется применить и к английским колониям. Когда наш государственный секретарь Хэлл был в Москве, он имел при себе составленный мною документ о создании международной комиссии по колониям. Эта комиссия должна была бы инспектировать колониальные страны с целью изучения положения в этих странах и возможного его улучшения. Вся работа этой комиссии была бы предана широкой гласности…
Сталин поддержал идею создания такой комиссии и заметил, что к ней можно было бы обращаться с жалобами, просьбами и т. д. Рузвельт был явно доволен реакцией советской стороны, но не скрывал своего беспокойства по поводу возможного отношения Черчилля. Он даже предупредил Сталина, что в разговоре с британским премьером лучше не касаться Индии, так как, насколько ему, Рузвельту, известно, у Черчилля нет сейчас никаких мыслей в отношении Индии. Черчилль намерен вообще отложить этот вопрос до окончания войны.
— Индия — это больное место Черчилля, — заметил Сталин.
— Это верно, — согласился Рузвельт. — Однако Англии так или иначе придется что-то предпринять в Индии. Я надеюсь как-нибудь переговорить с вами подробнее об Индии, имея при этом в виду, что люди, стоящие в стороне от вопроса об Индии, могут лучше разрешить этот вопрос, чем люди, имеющие непосредственное отношение к данному вопросу…
На этот зондаж Сталин реагировал осторожно. Он лишь назвал замечания президента интересными.
Рузвельт взглянул на часы. До официального открытия конференции, назначенного на 16 часов, оставалось мало времени.
— Думаю, нам пора заканчивать, — сказал Рузвельт. — Надо немного отдохнуть и собраться с мыслями перед пленарным заседанием. Мне кажется, у нас состоялся очень полезный обмен мнениями, и вообще мне было очень приятно познакомиться и откровенно побеседовать с вами.
— Мне тоже было очень приятно, — ответил Сталин и, поднявшись, слегка поклонился Рузвельту.
Я вышел в соседнюю комнату позвать слугу президента. Он тут же явился и, взявшись за ручку, приделанную к спинке кресла-коляски, увез Рузвельта в его апартаменты. Сталин прошел в соседнюю комнату, где его ждали Молотов и Ворошилов.
За круглым столом
Пленарные заседания конференции происходили в просторном зале, декорированном в стиле ампир. Посредине стоял большой круглый стол, покрытый скатертью из кремового сукна. Вокруг были расставлены обитые полосатым шелком кресла с вычурными подлокотниками из красного дерева. В центре стола — деревянная подставка с государственными флагами трех держав — участниц конференции. Перед каждым креслом на столе лежали блокноты и отточенные карандаши. Непосредственно у стола занимали места главные члены делегации и переводчики. Остальные делегаты и технический персонал размещались на стульях, стоявших симметричными рядами позади кресел.
Самой малочисленной была советская делегация. В нее, как уже сказано, входили И. В. Сталин, В. М. Молотов и К. Е. Ворошилов; Соединенные Штаты и Англию представляли более крупные делегации. Вот их состав.
От Соединенных Штатов: президент Ф. Д. Рузвельт, специальный помощник президента Г. Гопкинс, посол США в СССР А. Гарриман, начальник штаба армии США генерал Д. Маршалл, главнокомандующий военно-морскими силами США адмирал Э. Кинг, начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Г. Арнольд, начальник снабжения армии США генерал Б. Сомэрвэлл, начальник штаба президента адмирал У. Леги, начальник военной миссии США в СССР генерал Р. Дин.
От Великобритании: премьер-министр У. Черчилль, министр иностранных дел А. Иден, посол Англии в СССР А. Керр, начальник имперского генерального штаба генерал А. Брук, фельдмаршал Д. Дилл, первый морской лорд адмирал флота Э. Кеннингхэм, начальник штаба военно-воздушных сил Великобритании главный маршал авиации Ч. Портал, начальник штаба министра обороны генерал X. Исмей, начальник военной миссии Великобритании в СССР генерал Г. Мартель.
Дискуссия на пленарных заседаниях велась свободно, без заранее утвержденной повестки дня. Выступая, делегаты не пользовались никакими бумажками, а как бы высказывали вслух соображения по затронутым вопросам. Поэтому дискуссия порой перескакивала с одной темы на другую, а затем снова возвращалась к первоначальной проблеме. Стороны заранее условились, что на первом пленарном заседании председательствовать будет Рузвельт. Он выполнил эту обязанность с блеском: сказался его многолетний опыт руководителя.
Первое пленарное заседание открылось в 16 часов 28 ноября. Продолжалось оно три с половиной часа. Открывая заседание, Рузвельт сказал:
— Как самый молодой из присутствующих здесь глав правительств я хотел бы позволить себе высказаться первым. Я хочу заверить членов новой семьи — собравшихся за этим столом членов настоящей конференции — в том, что мы все собрались здесь с одной целью — с целью выиграть войну как можно скорее…
Далее Рузвельт сделал несколько замечаний о ведении конференции.
— Мы не намерены, — заявил он, — опубликовывать ничего из того, что будет здесь говориться, но мы будем обращаться друг к другу, как друзья, открыто и откровенно…
Несомненно, принятое участниками Тегеранской конференции взаимное обязательство ничего не публиковать из того, что там говорилось, способствовало свободному обмену мнениями и помогло каждой из сторон лучше понять позицию партнеров. Это облегчило создание атмосферы, которая позволила, несмотря на коренные различия в общественно-политическом строе Советского Союза, с одной стороны, и Соединенных Штатов и Англии — с другой, осуществить плодотворное сотрудничество трех держав в борьбе против общего врага, укрепить на этом этапе единство антигитлеровской коалиции.
После войны правящие круги западных держав, затеяв антисоветскую пропагандистскую кампанию, в нарушение взятого ими на себя обязательства не предавать гласности материалы тегеранской встречи, односторонне опубликовали многочисленные документы и мемуары об этой конференции, цель которых состояла в том, чтобы фальсифицировать политику Советского Союза, исказить его позицию по важнейшим проблемам периода второй мировой войны. В связи с этим в 1961 году в Москве были опубликованы советские записи бесед и заседаний на Тегеранской конференции.
Но тогда, в день открытия Тегеранской конференции, слова Рузвельта о соблюдении секретности звучали как торжественная клятва.
Говоря дальше о порядке работы конференции, американский президент заявил, что штабы делегаций могут рассматривать военные вопросы, отдельно, а сами делегации могли бы тем временем обсудить и другие проблемы, например проблемы послевоенного устройства.
— Я думаю, — сказал Рузвельт в заключение, — что это совещание будет успешным и что три нации, объединившиеся в процессе нынешней, войны, укрепят связи между собой и создадут предпосылки для тесного сотрудничества будущих поколений…
Прежде чем перейти к практической работе, Рузвельт поинтересовался, не желают ли Черчилль и Сталин сделать заявления общего порядка о важности этой встречи и о том, что означает она для всего человечества.
Черчилль сразу же поднял правую руку, прося слова. Говорил он очень четко, размеренно, произнося слово за словом, подобно тому, как каменщик кладет кирпичи. Делая паузы для перевода, он беззвучно шевелил губами, как бы произнося сначала про себя фразу, которую собирался затем высказать вслух. Он словно внутренне прислушивался к ее звучанию. Потом, убедившись, что подобраны нужные слова, он снова чеканил их своим хорошо поставленным голосом профессионального оратора. Подчеркивая торжественность минуты, он встал из-за стола и отодвинул кресло, чтобы дать простор своей грузной фигуре:
— Эта встреча, — сказал Черчилль, — пожалуй, представляет собой величайшую концентрацию мировой мощи, которая когда-либо существовала в истории человечества. В наших руках решение вопроса о сокращении сроков войны, о завоевании победы, о будущей судьбе человечества. Я молюсь за то, чтобы мы были достойны замечательной возможности, данной нам богом, — возможности служить человечеству…
Окинув взором всех присутствовавших, Черчилль медленно погрузился в кресло.
Обращаясь к главе советской делегации, Рузвельт спросил, не желает ли он что-либо сказать. Не вставая с места, Сталин заговорил. В зале наступила тишина. Возможно потому, что большинство присутствовавших впервые услышали голос Сталина. А может быть, из-за того, что он говорил совсем негромко. Он сказал:
— Приветствуя конференцию представителей трех правительств, я хотел бы сделать несколько замечаний. Я думаю, что история нас балует. Она дала нам в руки очень большие силы и очень большие возможности. Я надеюсь, что мы примем все меры к тому, чтобы на этом совещании в должной мере, в рамках сотрудничества, использовать ту силу и власть, которые нам вручили наши народы. А теперь давайте приступим к работе…
Рузвельт кивком головы подтвердил свое согласие. Потом обвел взглядом всех участников конференции, как бы приглашая их к первому деловому выступлению. Но никто не изъявил такого желания. Тогда президент открыл лежавшую перед ним черную папку, полистал находившиеся в ней бумаги, немного откашлялся и сказал:
— Может быть, мне начать с общего обзора военных действий и нужд войны в настоящее время. Я, конечно, буду говорить об этом с точки зрения Соединенных Штатов. Мы, так же как и Британская империя и Советский Союз, надеемся на скорую победу. Я хочу начать с обзора той части войны, которая больше касается Соединенных Штатов, чем Советского Союза и Великобритании. Я говорю о войне на Тихом океане, где Соединенные Штаты несут основное бремя войны, получая помощь от австралийских и новозеландских войск…
Президент Рузвельт сделал краткий обзор военного положения в этой части земного шара. Более конкретно он коснулся операций в районе Бирмы, сообщив о планах освобождения от японцев северной части этой страны. Все эти мероприятия намечались, по словам Рузвельта, с целью оказания помощи Китаю в войне, открытия бирманской дороги и обеспечения позиций, с которых можно было бы нанести поражение Японии как можно скорее, после того как будет разгромлена Германия. Затем президент кратко обрисовал положение на европейском театре военных действий.
Сделав обзор военных действий, Рузвельт как бы задал тон. После него с обзора положения на фронте начал свою речь Сталин.
Глава советской делегации приветствовал успехи Соединенных Штатов в районе Тихого океана. Он добавил, что в настоящее время Советский Союз не может присоединиться к борьбе против Японии, поскольку требуется концентрация всех его сил для войны против Германии. Советских войск на Дальнем Востоке более или менее достаточно, чтобы держать оборону. Но их надо по крайней мере удвоить, прежде чем предпринять наступление. Время для присоединения к западным союзникам на тихоокеанском театре военных действий может наступить только тогда, когда произойдет крах Германии.
— Что касается войны в Европе, — продолжал советский представитель, — то прежде всего скажу несколько слов отчетного характера о том, как мы вели и продолжаем вести операции со времени июльского наступления немцев. Может быть, я вдаюсь в подробности, тогда я мог бы сократить свое выступление?
— Мы готовы выслушать все, что вы намерены сказать, — вмешался Черчилль.
Сталин продолжал:
— Я должен сказать, между прочим, что мы сами в последнее время готовились к наступлению. Немцы опередили нас. Но поскольку мы готовились к наступлению и нами были стянуты большие силы, после того как мы отбили немецкое наступление, нам удалось сравнительно быстро перейти в наступление самим. Должен сказать, что, хотя о нас говорят, что мы все планируем заранее, мы сами не ожидали успехов, каких достигли в августе и в сентябре. Против наших ожиданий немцы оказались слабее, чем мы предполагали. Теперь у немцев на нашем фронте, по данным нашей разведки, имеется 210 дивизий и еще 6 дивизий находятся в процессе переброски на фронт. Кроме того, имеется 50 ненемецких дивизий, включая финнов. Таким образом, всего у немцев на нашем фронте 260 дивизий, из них до 10 венгерских, до 20 финских, до 16 или 18 румынских…
Рузвельт поинтересовался, какова численность германской дивизии. Сталин пояснил, что вместе со вспомогательными силами немецкая дивизия состоит примерно из 1.2 — 13 тысяч человек. Он добавил, что с советской стороны на фронте действуют от 300 до 330 дивизий.
Перейдя к последним событиям на советско-германском фронте, Сталин сказал, что излишек в численности войск используется советской стороной для наступательных операций. Но поскольку мы ведем наступательные действия, по мере того как идет время, наш перевес становится все меньше. Большую трудность представляет также то, что немцы все уничтожают при отступлении. Это затрудняет нам подвоз боеприпасов. В этом причина того, что наше наступление замедлилось.
— В последние три недели, — продолжал советский представитель, — немцы развернули наступательные операции на Украине — южнее и западнее Киева. Они отбили у нас Житомир — важный железнодорожный узел, о чем было объявлено. Должно быть, на днях они заберут у нас Коростень — также важный железнодорожный узел. В этом районе у немцев имеется 5 новых танковых дивизий и 3 старые танковые дивизии, всего 8 танковых дивизий, а также 22–23 пехотные, и моторизованные дивизии. Их цель — вновь овладеть Киевом. Таким образом, у нас впереди возможны некоторые трудности…
— Поэтому, — сказал Сталин, — было бы очень важно ускорить вторжение союзников в Северную Францию.
Черчилль, который выступал после Сталина, сразу же обратился к планам англо-американцев, связанным с высадкой во Франции и открытием второго фронта в Европе. Этот вопрос, бесспорно, был главным на Тегеранской конференции, и, вокруг него шли наиболее горячие дискуссии как на официальных совещаниях, так и на неофициальных встречах.
«Оверлорд»
На первом же пленарном заседании Тегеранской конференции вопросу об открытии второго фронта в Европе было уделено основное внимание.
Инициативу, как уже сказано выше, проявил Сталин. Президент Рузвельт подчеркнул, что операция через Ла-Манш является очень важной и особенно интересует Советский Союз. Рузвельт сказал, что западные союзники уже на протяжении полутора лет составляют соответствующие планы, но все еще не смогли определить срока этой операции из-за недостатка тоннажа.
— Мы хотим, — сказал президент, — не только пересечь Ла-Манш, но и преследовать противника в глубь территории. Между тем Ла-Манш — это такая неприятная полоска воды, которая исключает возможность начать экспедицию до 1 мая. Поэтому план, составленный англичанами и американцами в Квебеке, исходит из того, что экспедиция через Ла-Манш могла бы начаться около 1 мая 1944 г….
Сославшись на то, что любая десантная операция требует специальных судов, Рузвельт коснулся вопроса о приоритете и очередности тех или иных операций. Он сказал:
— Если мы будем проводить крупные десантные операции в Средиземном море, то экспедицию через Ла-Манш, возможно, придется отложить на два или три месяца. Поэтому мы хотели бы получить ответ от наших советских коллег в этом вопросе, а также совет о том, как лучше использовать имеющиеся в районе Средиземного моря войска, учитывая, что там в то же время имеется мало судов. Мы не хотим откладывать дату вторжения через Ла-Манш дальше мая или июня. В то же время имеется много мест, где могли бы быть использованы англо-американские войска: в Италии, в районе Адриатического моря, в районе Эгейского моря, наконец, для помощи Турции, если она вступит в войну. Все это мы должны здесь решить. Мы очень хотели бы помочь Советскому Союзу и оттянуть часть германских войск с советского фронта… Мы хотели бы получить от наших советских друзей совет о том, каким образом мы могли бы лучше всего облегчить их положение.
Закончив свое выступление, Рузвельт спросил, не желает ли Черчилль что-либо добавить к сказанному.
Черчилль немного помолчал, пожевал губами и, медленно произнося слова, ответил:
— Я хотел бы просить разрешения отложить мое выступление и высказаться после того, как выскажется маршал Сталин. В то же время я в принципе согласен с тем, что сказал президент Рузвельт.
По-видимому, английский премьер, отказавшись излагать свою позицию, которая по сути дела значительно отличалась от точки зрения американского президента, хотел прощупать советских представителей, чтобы затем выдвинуть соответствующую аргументацию. Сталин разгадал маневр Черчилля. Говоря о втором фронте, он дал понять, что советская сторона рассчитывает на высадку союзников именно в Северной Франции, причем без дальнейших оттяжек, ибо только такая операция может облегчить положение на советском фронте.
— Может быть, я ошибаюсь, — сказал Сталин, — но мы, русские, считали, что итальянский театр важен лишь в том отношении, чтобы обеспечить свободное плавание судов союзников в Средиземном море. Мы так думали и продолжаем так думать. Что касается того, чтобы из Италии предпринять наступление непосредственно на Германию, то мы, русские, считаем, что для таких целей итальянский театр не годится…
Пока шел перевод на английский язык, Сталин вынул из кармана кителя кривую трубку, раскрыл коробку «Герцеговины флор», взял несколько папирос, неторопливо разломал их, высыпал табак в трубку, закурил, прищурился, оглядел всех присутствовавших. Когда его взгляд встретился с Рузвельтом, тот улыбнулся и лукаво подмигнул, давая понять, что вспомнил обещание Сталина насчет трубки. А может быть, этот жест Рузвельта имел более глубокий смысл: он хотел выразить сочувствие тому, как Сталин парировал еще не высказанное вслух намерение Черчилля поставить под сомнение целесообразность высадки союзников во Франции.
Перевод был окончен, и Сталин, отложив трубку, продолжал:
— Мы, русские, считаем, что наибольший результат дал бы удар по врагу в Северной или в Северно-Западной Франции. Наиболее слабым местом Германии является Франция. Конечно, это трудная операция, и немцы во Франции будут бешено защищаться, но все же это самое лучшее решение. Вот все мои замечания…
Рузвельт поблагодарил Сталина и спросил, готов ли выступить Черчилль. Тот кивнул, откашлялся и начал речь в своей особой манере, тщательно отбирая и взвешивая слова. Он сказал, что Англия и Соединенные Штаты давно договорились атаковать Германию через Северную или Северо-Западную Францию, для чего проводятся обширные приготовления. Потребовалось бы много цифр и фактов, продолжал английский премьер, чтобы доказать, почему в 1943 году не удалось осуществить эту операцию, но теперь решено атаковать Германию в 1944 году. Место нападения выбрано, и сейчас перед англо-американцами стоит задача создать условия для переброски армии во Францию через Ла-Манш в конце весны 1944 года. Силы, которые удастся накопить для этой цели в мае или июне, будут состоять из 16 британских и 19 американских дивизий. За этими дивизиями последовали бы главные силы, причем предполагается, что всего в ходе операции «Оверлорд» в течение мая, июня, июля будет переправлено через Ла-Манш около миллиона человек.
Сделав эти заверения, Черчилль перешел к проблеме использования англо-американских сил в других районах европейского театра. Осторожно выбирая формулировки и как бы рассуждая вслух, он всякий раз оговаривался, что выдвигает свои предложения лишь в порядке постановки вопроса. Но за всеми этими оговорками скрывалось вполне определенное намерение британского премьера атаковать Германию не с запада, а с юга и юго-востока или, как любил выражаться Черчилль, «с мягкого подбрюшья Европы».
Начав с того, что до осуществления операции «Оверлорд» остается еще много времени — около шести месяцев, премьер-министр поставил вопрос об использовании в этот период сил западных союзников в Средиземном море. Это также мотивировалось желанием поскорее помочь Советскому Союзу. Конечно, заверил снова Черчилль, «Оверлорд» будет осуществлен в свое время или, быть может, с некоторым опозданием. Этим замечанием Черчилль как бы невзначай снова поставил под сомнение названный Рузвельтом срок начала операции через Ла-Манш.
Сталин и Рузвельт не реагировали на этот ход английского представителя. Когда майор Бирз закончил перевод последней фразы своего шефа, Черчилль продлил паузу, ожидая реплик; Он взял из пепельницы сигару, наполовину превратившуюся в пепел, осторожно поднес ее к губам, затянулся и, не дождавшись возражений, продолжал:
— Мы уже отправили семь испытанных дивизий из района Средиземного моря, а также часть десантных судов для «Оверлорда». Если принять это во внимание и, кроме того, плохую погоду в Италии, то необходимо сказать, что мы немного разочарованы тем, что до сих пор не взяли Рим. Наша первая задача состоит в том, чтобы взять Рим, и мы полагаем, что в январе произойдет решительное сражение, и битва будет нами выиграна. Находящийся под руководством генерала Эйзенхауэра генерал Александер — командующий 15-й армейской группой — считает, что выиграть битву за Рим вполне возможно. При этом, может быть, удастся захватить и уничтожить более 11–12 дивизий врага. Мы не думаем продвигаться дальше в Ломбардию или же идти через Альпы в Германию. Мы предполагаем лишь продвинуться несколько севернее Рима до линии Пиза — Римини, после чего можно будет высадиться в Южной Франции и через Ла-Манш.
Обращаясь к советской делегации, Черчилль спросил:
— Представляют ли интерес для советского правительства наши действия в восточной части Средиземного моря, которые, возможно, вызвали бы некоторую отсрочку операции через Ла-Манш?
Не дожидаясь ответа, он поспешно добавил:
— В этом вопросе мы пока еще не имеем определенного решения и мы прибыли сюда, для того чтобы принять его…
— Имеется еще одна возможность, — вмешался Рузвельт. — Можно было бы произвести десант в районе северной части Адриатического моря, в то время как советские армии подошли бы к Одессе.
— Если мы возьмем Рим и блокируем Германию с юга, — продолжал английский премьер, — то мы дальше можем перейти к операциям в Западной и Южной Франции, а также оказывать помощь партизанским армиям. Можно было бы создать комиссию, которая смогла бы изучить этот вопрос и составить подробный документ.
Сталин, внимательно слушавший рассуждения Черчилля, попросил слова.
— У меня несколько вопросов, — сказал он. — Я понял, что имеется 35 дивизий для операций по вторжению в Северную Францию?
— Да, это правильно, — ответил Черчилль.
— До начала операций по вторжению в Северную Францию, — продолжал Сталин, — предполагается провести операцию на итальянском театре для занятия Рима, после чего в Италии предполагается перейти к обороне?
Черчилль утвердительно кивнул.
Сталин продолжал задавать вопросы:
— Я понял, что, кроме того, предполагается еще три операции, одна из которых будет заключаться в высадке в районе Адриатического моря. Правильно я понимаю?
— Осуществление этих операций, может быть, будет полезно для русских, — сказал Черчилль. В его тоне звучало разочарование.
Затем он принялся разъяснять, что наибольшую проблему представляет вопрос о переброске необходимых сил. Операция «Оверлорд» начнется 35 дивизиями, потом количество войск должно увеличиваться за счет дивизий, которые будут перебрасываться из Соединенных Штатов, причем число их достигнет 50–60. Британские и американские воздушные силы, находящиеся в Англии, будут в ближайшие шесть месяцев удвоены и утроены. Кроме того, уже сейчас непрерывно проводится работа по накоплению сил в Англии.
Однако Сталин не дал себя сбить этими рассуждениями. Он снова спросил:
— Правильно ли я понял, что, кроме операции по овладению Римом, намечается провести еще одну операцию в районе Адриатического моря, а также операцию в южной части Франции?
Уклонившись от прямого ответа, английский представитель заметил, что в момент начала операции «Оверлорд» предполагается совершить атаку на юге Франции. Для этого могут быть высвобождены некоторые силы в Италии, но эта операция еще не выработана в деталях. Что касается планов высадки в районе Адриатики, то Черчилль вообще обошел этот вопрос.
Сталин пристально посмотрел на него и довольно мрачным тоном сказал:
— По-моему, было бы лучше, чтобы за базу всех операций в 1944 году была взята операция «Оверлорд». Если бы одновременно с этой операцией был предпринят десант в Южной Франции, то обе группы войск могли бы соединиться во Франции. Поэтому было бы хорошо, если бы имели место две операции: операция «Оверлорд» и в качестве поддержки этой операции — высадка в Южной Франции. В то же время операция в районе Рима была бы отвлекающей. Осуществляя высадку во Франции с севера и с юга, при соединении этих сил можно было бы добиться их наращивания. Не следует забывать, что именно Франция является слабым местом Германии.
Поединок между Сталиным и Черчиллем продолжался. Лидер британских тори никак не хотел сложить оружия. Он вновь и вновь настаивал на своем, изображая дело так, будто, предлагая развернуть операции на юго-востоке Европы, он печется лишь о скорейшей победе над общим врагом.
— Я согласен, — заявил английский премьер, — с соображениями маршала Сталина относительно нежелательности того, чтобы силы распылялись. Но я боюсь, что в этот шестимесячный промежуток, во время которого мы могли бы взять Рим и подготовиться к большим операциям в Европе, наша армия останется в бездействии и не будет оказывать давления на врага. Я опасаюсь, что в таком случае парламент упрекнул бы меня в том, что я не оказываю никакой помощи русским.
Это был уже прямой вызов.
— Я думаю, — парировал Сталин, — что «Оверлорд» — это большая операция. Она была бы значительно облегчена и дала бы наверняка эффект, если бы имела поддержку с юга Франции. Я лично пошел бы на такую крайность: перешел бы к обороне в Италии, отказавшись от захвата Рима, и начал бы операцию в Южной Франции, оттянув силы немцев из Северной Франции. Месяца через два-три я начал бы операции на севере Франции. Этот план обеспечил бы успех операции «Оверлорд», причем обе армии могли бы встретиться и произошло бы наращивание сил.
Черчиллю такое предложение явно не понравилось. Он резко возразил, что мог бы привести еще больше всяких аргументов, но должен заметить, что союзники были бы слабее, если бы не взяли Рима. Предложив, чтобы весь этот вопрос обсудили военные специалисты, Черчилль решительно заявил, что борьба за Рим уже идет и что отказ от взятия Рима означал бы поражение. А это английское правительство никак не могло бы объяснить палате общин. «Оверлорд», в конце концов, можно осуществить и в августе.
Обстановка накалялась, и Рузвельт постарался ее смягчить.
— Мы могли бы, — сказал он, — осуществить в срок «Оверлорд», если бы не было операций в Средиземном море. Если же в Средиземном море будут операции, то это оттянет срок начала «Оверлорда». Я не хотел бы оттягивать эту операцию.
Черчилль сидел насупившись и отчаянно дымил сигарой. Несколько минут длилось молчание. Первым заговорил Сталин. Он вновь подчеркнул, что считает наиболее целесообразным высадку во Франции, причем одновременно или почти одновременно на севере и на юге. Опыт операций на советско-германском фронте, сказал он, показывает, что наибольший эффект дает удар по врагу с двух сторон, чтобы он вынужден был перебрасывать силы то в одном, то в другом направлении. Союзникам вполне можно было бы учесть этот опыт при высадке во Франции.
Трудно было возражать против этого, но Черчилль по-прежнему не хотел уступать.
— Я полагаю, — сказал он, — что мы могли бы предпринять диверсионные акты независимо от вторжения в Южную и Северную Францию. Я лично считаю очень отрицательным фактом праздное пребывание нашей армии в районе Средиземного моря. Поэтому мы не можем гарантировать, что будет точно выдержана дата 1 мая, намеченная для начала «Оверлорда». Установление твердой даты было бы большой ошибкой. Я не могу пожертвовать операциями на Средиземном море только ради того, чтобы сохранить дату 1 мая. Конечно, мы должны прийти к определенному соглашению по этому поводу. Этот вопрос могли бы обсудить военные специалисты…
Отбросив маскировку, Черчилль таким образом дал понять, что намерен драться за осуществление своих планов в Средиземноморье и ради этого готов пойти на срыв уже согласованного в принципе срока начала операций в Северной Франции. Было видно, что дальнейшая дискуссия может на данной стадии лишь привести к нежелательному обострению и к взаимным резкостям.
— Хорошо, — сказал Сталин решительно. — Пусть обсудят военные специалисты. Правда, мы не думали, что будут рассматриваться чисто военные вопросы. Поэтому мы не взяли с собой представителей Генерального штаба. Но, полагаю, маршал Ворошилов и я сможем это дело как-либо устроить…
В этот первый вечер в Тегеране я освободился очень поздно. Но усталости не чувствовалось, и я не спеша шел по аллеям парка к нашему особняку. Яркая луна пробивалась сквозь листву деревьев, воздух был пропитан ароматами осенних цветов, увядающих листьев, земли, водорослей, разросшихся, в прудах. Подойдя к бассейну, сел на мраморную скамью, еще теплую от дневного солнца. Нервное напряжение, накопившееся за день, еще не улеглось, и я чувствовал, что уснуть не смогу.
Только сейчас ощутил я с особой силой значение всего того, свидетелем чего оказался. Пока переводил на переговорах, а потом приводил в порядок протокол и составлял проекты телеграмм в Москву, я был всецело поглощен работой и не вдумывался в то, что здесь, в столице Ирана, вдали от фронтов, происходит нечто важное для дальнейшего хода войны, для победы. Однако теперь я вдруг осознал, что на моих глазах как бы в концентрированном виде совершается процесс творения истории. В Тегеране, несомненно, происходили тогда события огромной исторической важности, события, значение которых выходило далеко за рамки текущего момента и которым суждено было наложить отпечаток на дальнейшее развитие мировых событий.
ПОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ СОЮЗНИКАМИ
Балканская авантюра Черчилля
В последующие годы Черчилль неоднократно пытался отрицать, что вместо операции «Оверлорд» он строил планы вторжения на континент в восточной части Средиземного моря, прежде всего на Балканах. Конечно, такие планы у него имелись, и они были связаны с намерением в соответствующий момент выйти наперерез Красной Армии, закрыв ей дальнейшее продвижение на запад.
Поскольку этот замысел провалился, Черчилль стал потом уверять, будто ничего подобного вообще не существовало. В своих мемуарах он по разным поводам возвращается к этой проблеме, говоря, будто его неправильно поняли. Он даже называет эти балканские планы «легендой». В частности, во втором томе своих мемуаров Черчилль пишет:
«Было много сомнительных сообщений о той линии, которую я проводил в полном согласии с британскими начальниками штабов на Тегеранской конференции. В Америке стало легендой, что я стремился предотвратить операцию через Ла-Манш под названием „Оверлорд“ и что я тщетно пытался заманить союзников в какое-то массовое вторжение на Балканах или в широкую кампанию в восточной части Средиземного моря, которая самым эффективным образом сорвала бы операцию „Оверлорд“».
В действительности, как показывают переговоры в Тегеране, Черчилль проводил именно такую линию. Это и было его главной целью. Потерпев неудачу, он вынужден был согласиться на высадку в Нормандии.
Подлинный план Черчилля был вполне ясен и президенту Рузвельту. Его сын Эллиот, находившийся в те дни в Тегеране, вскоре после смерти отца опубликовал запись своей беседы с ним в иранской столице. Касаясь переговоров об открытии второго фронта в Европе, Рузвельт сказал сыну, что у Черчилля была особая позиция.
«Всякий раз, — пояснил Рузвельт, — когда премьер-министр настаивал на вторжении через Балканы, всем присутствовавшим было совершенно ясно, чего он на самом деле хочет. Он прежде всего хочет врезаться клином в Центральную Европу, чтобы не пустить Красную Армию в Австрию и Румынию и даже, если возможно, в Венгрию. Это понимал Сталин, понимал я, да и все остальные…
— Но он этого не сказал?
— Конечно, нет, — ответил Рузвельт. — А когда дядя Джо (так Рузвельт называл Сталина) говорил о преимуществах вторжения на западе с военной точки зрения и о нецелесообразности распыления наших сил, он тоже все время имел в виду и политические последствия. Я в этом уверен, хотя он об этом не сказал ни слова…
— Я не думаю… — начал я нерешительно.
— Что?
— Я хочу сказать, что Черчилль… словом, он не…
— Ты думаешь, что он, быть может, прав? И, быть может, нам действительно было бы целесообразно нанести удар и на Балканах?
— Ну…
— Эллиот, наши начальники штабов убеждены в одном: чтобы истребить как можно больше немцев, потеряв при этом возможно меньше американских солдат, надо подготовить одно крупное вторжение и ударить по немцам всеми имеющимися в нашем распоряжении силами. Мне это кажется разумным… Представителям Красной Армии это тоже кажется разумным. Так обстоит дело. Таков кратчайший путь к победе. Вот и все. На беду премьер-министр (Черчилль) слишком много думает о том, что будет после войны и в каком положении окажется тогда Англия. Он смертельно боится чрезмерного усиления русских. Может быть, русские и укрепят свои позиции в Европе, но будет ли это плохо, зависит от многих обстоятельств. Я уверен в одном: если путь к скорейшей победе ценой минимальных потерь со стороны американцев лежит на западе и только на западе и нам нет нужды напрасно жертвовать своими десантными судами, людьми и техникой для операций в районе Балкан. — а наши начальники штабов убеждены в этом, — то больше не о чем и говорить».
Совещание военных экспертов
Встреча военных представителей трех держав состоялась 29 ноября в 10 часов 30 минут утра. Американская делегация была представлена адмиралом Леги и генералом Маршаллом; от англичан присутствовали генерал Брук и главный маршал авиации Портал, советскую сторону представлял маршал Ворошилов.
Климент Ефремович предложил мне быть переводчиком на этом совещании, и я, запасшись блокнотом и карандашами, в начале одиннадцатого прогуливался по аллее, ведущей к главному зданию посольской усадьбы, где в комнате, примыкавшей к большому залу пленарных заседаний, должна была происходить встреча военных экспертов.
Аллея соединяла главное здание с особняком, в котором разместились советские делегаты, и я то и дело поглядывал туда — не идет ли Ворошилов. Погода была очень приятная, в воздухе еще сохранилась ночная свежесть, а солнце, пробиваясь веселыми зайчиками сквозь густую листву, играло на посыпанной желтым песком дорожке. Было мирно и тихо в этом уединенном месте встречи руководителей трех держав, многомиллионные армии которых где-то на далеких фронтах вели титаническую борьбу в грохоте взрывов, в дыму пожаров, среди бушующих валов необозримых морей и океанов.
Наконец открылась дверь особняка и оттуда вышли Сталин и Ворошилов. Сталин что-то говорил своему спутнику, а тот молча слушал и лишь время от времени кивал головой. Возможно, в этот момент Ворошилов получал последние указания насчет предстоящей встречи с англичанами и американцами, а может быть, речь шла и о чем-то совсем другом.
В это утро Сталин выглядел отлично. Бодрая походка и весь его облик говорили, что он полон энергии и решимости. Порой он улыбался, похлопывал Ворошилова по плечу.
Поравнявшись со мной, Сталин кивнул мне, отрывисто бросил Ворошилову:
— Желаю успеха!..
И свернул в боковую аллею.
Пока мы шли к главному зданию, Климент Ефремович спросил, справлюсь ли я с переводом и записью беседы. Протокол, пояснил Ворошилов, надо составить особенно тщательно: его будет читать Сталин. Я ответил, что постараюсь сделать все как надо. Ворошилов одобрительно улыбнулся и сказал:
— Между прочим, вы нравитесь товарищу Сталину, но он считает, что вы очень уж застенчивы. Советую вам быть понапористей, иначе далеко не уйдете. Сталин это любит, и сейчас в вашей судьбе многое зависит от вас…
Я пробормотал что-то невнятное, видимо, лишний раз подтвердив тем самым безнадежное отсутствие у меня «напористости». К тому же замечание Климента Ефремовича было неожиданным и привело меня в некоторое замешательство. Я ни разу не замечал, чтобы Сталин проявлял ко мне особое внимание. Он никогда со мной не говорил ни о чем не относящемся к моим непосредственным функциям переводчика, и мне казалось, что он вообще меня не замечает. Поэтому я никак не мог взять в толк, в чем же мне следует проявить «напористость». И действительно ли это пришлось бы ему по вкусу? Так или иначе никаких последствий этот разговор для меня не имел…
Мы прошли в комнату заседаний. Посреди стоял длинный стол, покрытый красным сукном. В центре его, как и в большом зале, на подставке были укреплены государственные флажки трех держав. По обе стороны стола — длинные ряды стульев. Когда мы вошли, американцы уже сидели на своих местах. Видимо, они успели побывать у жившего в этом же здании президента Рузвельта и из его апартаментов сразу же перешли сюда. Мы приветствовали друг друга, после чего начался традиционный обмен новостями с фронтов. Тем временем появились англичане. Можно было начинать совещание. Американцы и англичане разместились по одной стороне стола. Русские — по другой, напротив.
Открыл совещание адмирал Леги, который председательствовал на этом заседании. Леги предложил английскому генералу Бруку сделать сообщение о средиземноморском театре военных действий.
Брук, как бы развивая вчерашний тезис Черчилля, заявил, что важнейшая задача англичан и американцев заключается в том, чтобы оказать, давление на врага везде, где это возможно. В то же время они стремятся задержать поток германских дивизий, который мог бы быть направлен немцами в Северную Францию, где их увеличение нежелательно. Конечно, сказал Брук, операция «Оверлорд» отвлечет большое количество германских дивизий, но она будет проведена только через шесть месяцев. За этот, отрезок времени необходимо что-то сделать для отвлечения германских дивизий. Генерал Брук напомнил, что англичане имеют крупные силы в Средиземном море, которые они желают использовать как можно лучше. После этого общего замечания Брук обратился к генералу Маршаллу:
— Если я скажу что-либо, что не будет соответствовать мнению американцев, то прошу меня прервать.
Генерал Маршалл кивнул:
— Продолжайте, пожалуйста…
Разработанные англичанами и американцами планы, сказал генерал Брук, предусматривают активные действия на всех фронтах, в том числе и в районе Средиземного моря. Англичане имеют специальные десантные баржи, которые можно было бы использовать для операций в данном районе. Нужно только отложить «Оверлорд» на срок, который потребовался бы для использования этих судов в Средиземном море. Эти операции задержали бы германские войска, которые в противном случае были бы использованы немцами против операции «Оверлорд».
Рассмотрев далее различные варианты операций с целью отвлечения немецких сил в момент высадки союзников в Северной Франции, Брук стал говорить о сложностях операций, в которых приходится подбрасывать морем резервы то одной, то другой группировке. Поэтому, пояснил он, нелегко будет своевременно пополнить войсками любой вспомогательный десант. Но нужно сделать все, что возможно, чтобы немцы не могли усиливать свои войска до тех пор, пока высадившиеся силы союзников будут еще незначительны.
Выступивший вслед за Бруком американский генерал Маршалл начал с проблемы десантных судов, которая, по его словам, стоит весьма остро. Речь идет прежде всего о судах, способных перебрасывать танки и мотомехчасти. Именно таких судов недостает для успешного осуществления операций в Средиземном море, о которых говорил генерал Брук. Преимущество операции «Оверлорд» заключается в том, что тут речь идет о самой короткой дистанции, которую необходимо преодолеть в первоначальный момент. В дальнейшем предполагается перебрасывать войска во Францию непосредственно из Соединенных Штатов — в общем, примерно до 60 американских дивизий. Что касается действий в районе Средиземного моря, то тут еще не принято определенных решений, так как этот вопрос предполагалось обсудить в Тегеране.
Сейчас, продолжал Маршалл, вопрос заключается в том, что следует делать в ближайшие три, а в зависимости от этого — в ближайшие шесть месяцев. Предпринимать атаку в Южной Франции за два месяца до операции «Оверлорд» очень опасно. Но в то же время совершенно правильно, что операция в Южной Франции способствовала бы успеху «Оверлорда». Поэтому на юге Франции надо было бы высадиться за две-три недели до открытия второго фронта в Нормандии. Необходимо иметь в виду, что серьезным препятствием при осуществлении этих операций будут действия немцев, которые разрушат все порты. В течение длительного времени придется снабжать армии через открытое побережье. В заключение генерал Маршалл еще раз подчеркнул, что для американцев проблема не в недостатке войск и снабжения, а в недостатке десантных судов.
Таким образом, генерал Маршалл, хотя и не отверг английские планы высадки союзников в районе Средиземного моря, все же дал понять, что недостаток десантных средств приведет в случае осуществления этой операции к значительной затяжке «Оверлорда».
Ворошилов внимательно слушал рассуждения генералов Брука и Маршалла и воздержался от каких-либо замечаний. Он предложил, чтобы англичане и американцы сделали доклад о воздушных операциях. На эту тему выступил английский маршал авиации Портал. Отметив, что до настоящего времени основные налеты на Германию производились из Англии, Портал подчеркнул, что теперь такие налеты начинают осуществляться и из района Средиземного моря. Предупредив, что предстоит еще тяжелая борьба, он выразил убеждение, что англо-американский план уничтожения военно-воздушных сил немцев все же увенчается успехом. Немцы очень чувствительны к массированным налетам, особенно на Южную Германию, предпринимаемым из района Средиземного моря. Он, Портал, понимает, что советская авиация почти полностью занята поддержкой наземных операций в районе фронта, но было бы хорошо, если бы советское командование выделило некоторую часть авиации для бомбардировки Восточной Германии. Это оказало бы большое влияние на положение на всех остальных фронтах.
Адмирал Леги спросил, каково мнение маршала Ворошилова по поводу только что сделанных докладов.
— Прежде всего, — сказал Ворошилов, — я хотел бы задать два вопроса. Во-первых: что делается для того, чтобы разрешить проблему транспортных и десантных средств? Во-вторых: отдают ли приоритет операции «Оверлорд»? Из доклада генерала Маршалла следует, что американцы считают операцию «Оверлорд» основной. Но считает ли генерал Брук как глава британского генерального штаба эту операцию также главной? Не считает ли он, что эту операцию можно было бы заменить какой-либо другой в районе Средиземного моря или где-либо в ином месте?
Резкость постановки этих вопросов вызвала в зале некоторое замешательство. Генерал Брук стал перебирать лежавшие перед ним бумаги. Он, видимо, хотел уклониться от ответа. Слово взял генерал Маршалл.
— Что касается Соединенных Штатов, — сказал он, — то мы делали все, чтобы необходимые приготовления были закончены к моменту начала операции «Оверлорд». В частности, готовятся десантные баржи, каждая из которых сможет перевозить до 40 танков.
Когда генерал Маршалл заканчивал последнюю фразу, генерал Брук поднял вверх палец, давая понять, что хочет взять слово сразу же после американского представителя. Адмирал Леги кивнул в знак согласия.
— Прежде всего, — заявил Брук, — я хочу ответить на вопрос маршала Ворошилова о том, как рассматривают англичане операцию «Оверлорд». Англичане придают этой операции важное значение и считают ее существенной частью войны. Но для ее успеха должны существовать определенные предпосылки, которые не позволяли бы немцам использовать хорошие дороги Северной Франции для подбрасывания резервов.
Так и не дав прямого ответа на вопрос — считают ли англичане «Оверлорд» главной операцией, Брук принялся рассуждать о том, что вообще-то, как полагает британское командование, необходимые предпосылки для высадки через Ла-Манш должны существовать в 1944 году, и потому англичане готовятся осуществить эту операцию в течение будущего года. Но сложность заключается в десантных судах. Чтобы быть готовыми к 1 мая 1944 г., необходимо уже сейчас перебросить основную массу десантных судов из Средиземного моря, а это, подчеркнул Брук, привело бы к приостановке операций в Италии в момент, когда англичане хотят постоянно удерживать в сражениях максимальное число германских дивизий. Такие сражения необходимы не только для того, чтобы оттягивать германские силы с русского фронта, но и для последующего успеха «Оверлорда». Вот и получается, что в настоящий момент нельзя все бросить на подготовку «Оверлорда». Следовательно, трудно сказать, когда удастся начать вторжение в Северную Францию.
В заключение генерал Брук указал на сложности создания временных плавучих портов. В этом отношении тогда проводились опыты, причем некоторые из них были не столь удачны, как это предполагалось, хотя в целом имеется некоторый успех. Так или иначе, успех или неуспех операции «Оверлорд» будет в значительной степени зависеть от наличия этих портов. Таким образом, генерал Брук в дополнение к уже и без того нагроможденным англичанами препятствиям выдвинул новую преграду к своевременному осуществлению «Оверлорда».
Разъяснения английского представителя не удовлетворили Ворошилова, и он повторил свой вопрос генералу Бруку:
— Я хотел бы знать, считают ли англичане операцию «Оверлорд» главной операцией?
Английский генерал продолжал уклоняться от прямого, ответа. Он сказал:
— Я ждал этого вопроса и должен заметить, что не желаю видеть неудачу операций как в Северной, так и в Южной Франции. Но при некоторых обстоятельствах эти операции обречены на неудачу…
Видя, что ему так и не удастся вытянуть из англичан определенного ответа, Ворошилов принялся излагать советскую точку зрения на эту проблему. Он напомнил сделанное на вчерашнем пленарном заседании конференции заявление главы советской делегации о том, что советский Генеральный штаб считает операции в районе Средиземного моря второстепенными и что было бы целесообразно осуществить лишь такие операции в Южной Франции, которые имели бы решающее значение для успеха «Оверлорда». Опыт войны и успехи англо-американских войск в Северной Африке, уже проведенные операции по высадке десантов в Италии, действия англо-американской авиации против Германии, степень организации войск Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, могучая техника Соединенных Штатов, морская мощь союзников и в особенности их господство в Средиземном море — все это, сказал Ворошилов, показывает, что при желании «Оверлорд» может быть успешно осуществлен. Необходима лишь воля.
Далее Ворошилов напомнил, что предложения советской стороны заключаются в том, чтобы операция через Ла-Манш была поддержана действиями союзных войск с юга Франции. С этой целью можно было бы перейти в Италии к обороне, а освободившимися силами произвести высадку в Южной Франции, с тем, чтобы ударить по врагу с двух сторон. Эта высадка может быть осуществлена либо за два-три месяца, либо одновременно, либо даже немного позже операции «Оверлорд». Но она обязательно должна состояться.
— Мы рассматриваем операцию через Ла-Манш, — продолжал Ворошилов, — как операцию нелегкую. Мы понимаем, что эта операция труднее форсирования рек, но все же на основании нашего опыта по форсированию таких крупных рек, как Днепр, Десна, Сож, правый берег которых гористый и при этом хорошо был укреплен немцами, мы можем сказать, что операция через Ла-Манш, если она по-серьезному будет проводиться, окажется успешной. Немцы построили на правом берегу указанных рек современные железобетонные укрепления, установили там мощную артиллерию и могли обстреливать левый низкий берег на большую глубину, не давая возможности нашим войскам приблизиться к реке. Все же после концентрированного артиллерийского и минометного огня, после мощных ударов авиации нашим войскам удалось форсировать эти реки, и враг был разгромлен. Поэтому я уверен, что хорошо подготовленная, а главное, полностью обеспеченная сильной авиацией операция «Оверлорд» увенчается полным успехом. Союзная авиация должна обеспечить себе, разумеется, полное господство в воздухе еще до начала действий наземных войск…
Генерал Брук, отвечая Ворошилову, в примирительном тоне заявил, что англичане и американцы рассматривают операции в Средиземном море как операции второстепенного значения. Но, поскольку в этом районе имеются крупные войска, операции там могут и должны быть проведены, для того чтобы помочь основной операции. Эти операции тесно связаны со всем ведением войны, и в частности с успехом военных действий в Северной Франции.
Далее Брук перевел разговор на проблему форсирования водных рубежей. Он сказал, что англичане с большим интересом и восхищением следили за форсированием рек Красной Армией и считают, что русские достигли больших успехов в десантных операциях. Но операция через Ла-Манш требует специальных средств и нуждается в детальной разработке. Англичане и американцы изучают все необходимые детали уже в течение нескольких лет. Значительные трудности заключаются также в том, что берег во Франции пологий и что там имеются большие отмели. Поэтому во многих местах судам трудно подойти к самому берегу.
Генерал Маршалл также обратил внимание на сложности, связанные с высадкой в Северной Франции. Он не согласился с оптимистическим высказыванием Ворошилова по поводу десанта через Ла-Манш. Маршалл сказал, что обучался в свое время наземным операциям и форсированию рек. Но когда он столкнулся с десантными операциями через океан, ему пришлось полностью переучиваться. Если при форсировании реки поражение может означать лишь неудачу, то неудача при десанте через океан означает катастрофу.
Ворошилов возразил Маршаллу. По его мнению, в такой операции, как «Оверлорд», главное заключается в организации, планировании и продуманной тактике. Если тактика будет соответствовать поставленной задаче, даже неудача передовых частей будет только неудачей, а не катастрофой. Авиация должна завоевать господство в воздухе и разгромить артиллерию противника. После интенсивной артиллерийской подготовки посылаются лишь передовые части, а когда они закрепятся и успех обозначится, высаживаются основные части. Военные представители не смогли найти общий язык не только по вопросу о десантных операциях. Остался нерешенным и более важный вопрос — о сроке открытия второго фронта в Северной Франции.
Когда во второй половине дня собралось пленарное заседание делегаций трех держав, военные представители не могли доложить ничего утешительного.
Королевский меч — Сталинграду
Перед началом пленарного заседания конференции 29 ноября состоялась торжественная церемония, вылившаяся в демонстрацию единства союзников в борьбе против общего врага. Такая демонстрация была как нельзя кстати. Она несколько разрядила сгустившиеся над конференцией тучи и как бы напомнила о том, что перед антигитлеровской коалицией стоят
Почетный меч — дар короля Великобритании Георга VI гражданам Сталинграда еще очень большие и сложные задачи, которые могут быть решены лишь при условии общих, согласованных действий.
Вручение жителям Сталинграда от имени короля Георга VI и английского народа специально изготовленного меча было обставлено с подчеркнутой пышностью. Большой блестящий меч с двуручным эфесом и инкрустированными ножнами, выкованный опытнейшими потомственными оружейниками Англии, символизировал дань уважения героям Сталинграда — города, где был надломлен хребет фашистского зверя.
Зал заполнился задолго до начала церемонии. Здесь уже находились все члены делегаций, а также руководители армий, флотов и авиации держав — участниц антигитлеровской коалиции, когда появилась «большая тройка».
Почетный меч — дар короля Великобритании Георга VI гражданам Сталинграда.
Сталин был в светло-сером кителе с маршальскими погонами. Черчилль на этот раз также явился в военной форме. С того дня своей формы английский премьер в Тегеране не снимал, и все считали, что это его своеобразная реакция на маршальскую одежду Сталина. Сначала Черчилль носил синий в полоску костюм, но, увидев Сталина в форме, он тут же затребовал себе серо-голубоватый мундир высшего офицера королевских военно-воздушных сил. Эта форма как раз подоспела к церемонии вручения меча. Рузвельт, как обычно, был в штатском.
Почетный караул состоял из офицеров Красной Армии и британских вооруженных сил. Оркестр исполнил советский и английский государственные гимны. Все стояли навытяжку. Оркестр смолк, и наступила торжественная тишина. Черчилль медленно приблизился к лежавшему на столе — большому черному ящику и раскрыл его. Меч, спрятанный в ножнах, покоился на бордовой бархатной подушке. Черчилль взял его обеими руками и, держа на весу сказал, обращаясь к Сталину:
— Его величество король Георг VI повелел мне вручить вам для передачи городу Сталинграду этот почетный меч, сделанный по эскизу, выбранному и одобренному его величеством. Этот почетный меч изготовлен английскими мастерами, предки которых на протяжении многих поколений занимались изготовлением мечей. На клинке выгравирована надпись: «Подарок короля Георга VI людям со стальными сердцами — гражданам Сталинграда в знак уважения к ним английского народа».
Сделав несколько шагов вперед, Черчилль передал меч Сталину, позади которого стоял советский почетный караул с автоматами наперевес. Приняв меч, Сталин вынул клинок из ножен. Лезвие сверкнуло холодным блеском. Сталин поднес его к губам и поцеловал. Потом, держа меч в руках, тихо произнес:
— От имени граждан Сталинграда я хочу выразить свою глубокую признательность за подарок короля Георга VI. Граждане Сталинграда высоко оценят этот подарок, и я прошу вас, господин премьер-министр, передать их благодарность его величеству королю…
Наступила пауза. Сталин медленно обошел вокруг стола и, подойдя к Рузвельту, показал ему меч. Черчилль поддерживал ножны, а Рузвельт внимательно оглядел огромный клинок. Прочтя вслух сделанную на клинке надпись, президент сказал:
— Действительно, у граждан Сталинграда стальные сердца…
И он вернул меч Сталину, который подошел к столу, где лежал футляр, бережно уложил в него спрятанный в ножны меч и закрыл крышку. Затем он передал футляр Ворошилову, который в сопровождении почетного караула перенес меч в соседнюю комнату…
Все вышли фотографироваться на террасу. Было тепло и безветренно. Солнце освещало позолоченную осенью листву. Сталин и Черчилль остановились в центре террасы, куда подвезли в коляске и Рузвельта. Сюда же были принесены три кресла для «большой тройки». Позади кресел выстроились министры, маршалы, генералы, адмиралы, послы. Вокруг сновали фоторепортеры и кинооператоры, стараясь отыскать позицию получше. Потом свита отошла в сторону, и «большая тройка» осталась одна на фоне высоких дверей, которые вели с террасы в зал заседаний. Этот снимок стал историческим и обошел весь мир.
Участники Тегеранской конференции руководителей трех великих держав — СССР, США, Великобритании.
Участники Тегеранской конференции руководителей трех великих держав — СССР, США, Великобритании.
В поисках главнокомандующего
На заседании, начавшемся после церемонии вручения королевского меча Сталинграду, торжественно-приподнятое настроение быстро рассеялось. По-прежнему оставался нерешенным важнейший вопрос об открытии второго фронта в Европе. Обращаясь к английскому и американскому представителям, глава советской делегации спросил:
— Я хотел бы получить ответ на вопрос о том, кто будет назначен командующим операцией «Оверлорд»?
— Этот вопрос еще не решен, — ответил Рузвельт.
— Тогда ничего не выйдет из операции «Оверлорд», — мрачно произнес Сталин, как бы рассуждая вслух. — Кто несет моральную и военную ответственность за подготовку и выполнение операции «Оверлорд»? Если это неизвестно, тогда операция «Оверлорд» является лишь разговором.
На противоположной стороне стола проскользнула какая-то тень неловкости. Воцарилось молчание. Потом Рузвельт сказал:
— Английский генерал Морган несет ответственность за подготовку операции «Оверлорд».
— А кто несет ответственность за проведение операции «Оверлорд»? — продолжал настаивать Сталин.
— Нам известны все лица, которые будут участвовать в осуществлении операции, — пояснил президент, — за исключением главнокомандующего этой операцией.
Это объяснение, конечно, не решало проблемы. Вопрос, поставленный советской делегацией, имел большое принципиальное значение. Ведь без командира, без ответственного военного руководителя не может быть осуществлена ни малая, ни крупная операция. Тем более невозможно без главнокомандующего планировать и осуществить такую операцию, как высадка огромной массы войск, оснащенных тяжелой боевой техникой, через Ла-Манш.
Поэтому постановка вопроса о главнокомандующем вскрыла всю несостоятельность позиции англичан и американцев.
— Может случиться, — продолжал Сталин все тем же мрачным тоном, — что генерал Морган сочтет операцию подготовленной, но после назначения командующего, который будет отвечать за осуществление этой операции, окажется, что командующий сочтет операцию не подготовленной. Должно быть одно лицо, которое отвечало бы как за подготовку, так и за проведение операции.
— Генералу Моргану, — возразил Черчилль, — поручены предварительные приготовления.
— Кто поручил это генералу Моргану? — быстро спросил Сталин.
Черчилль ответил, что несколько месяцев назад такое поручение генерал Морган получил от англо-американского Объединенного штаба с согласия президента Рузвельта и его, Черчилля. Генералу Моргану было поручено вести подготовку «Оверлорда» совместно с американскими и английскими штабами, однако главнокомандующий еще не назначен. Британское правительство выразило готовность поставить свои силы под командование американского главнокомандующего в операции «Оверлорд», так как Соединенные Штаты несут ответственность за концентрацию и пополнение войск и имеют тут численное превосходство. Вопрос о назначении главнокомандующего, продолжал Черчилль, нельзя решить на таком обширном заседании, как сегодняшнее. Этот вопрос следует обсудить трем главам правительств между собой, в узком кругу. Пока Черчилль говорил, Рузвельт что-то написал на листке бумаги и переслал его английскому премьеру. Тот быстро пробежал текст и сказал:
— Как мне сейчас передал президент — и я тоже это подтверждаю, — решение вопроса о назначении главнокомандующего будет зависеть от переговоров, которые мы ведем здесь…
— Я хочу, чтобы меня правильно поняли, — пояснил Сталин. — Русские не претендуют на участие в назначении главнокомандующего, но русские хотели бы знать, кто будет командующим. Мы хотели бы, чтобы он был поскорее назначен и чтобы он отвечал как за подготовку, так и за проведение операции «Оверлорд».
— Я вполне согласен с тем, что сказал маршал Сталин, — воскликнул Черчилль. Его явно приободрило, что советская сторона не претендует на участие в обсуждении этого вопроса. — Я думаю, что президент согласится со мной в том, что через две недели мы назначим главнокомандующего и сообщим его фамилию.
Проблема назначения главнокомандующего вызвала разногласия не только среди вашингтонских политиков, но и еще больше между англичанами и американцами. Дело в том, что к лету 1943 года в Вашингтоне стало складываться мнение о необходимости объединить операции в Средиземном море и в Северной Франции под одним командованием, а именно — американским. Тогда же была намечена кандидатура командующего всеми операциями. Им должен был стать американский генерал Джордж Маршалл, занимавший пост начальника штаба армии Соединенных Штатов. Но вокруг этой кандидатуры и возникли расхождения. Влиятельные военные круги, а также некоторые видные деятели конгресса США считали, что в Вашингтоне трудно найти замену такому опытному в военном и политическом отношении деятелю, как генерал Маршалл. Эти круги соглашались на его Перевод в Европу лишь в том случае, если будет найдена какая-то формула, которая позволит сохранить за Маршаллом и его вашингтонский пост.
С другой стороны, президент Рузвельт и его ближайшее окружение полагали, что только в случае выдвижения генерала Маршалла на пост главнокомандующего можно рассчитывать на согласие англичан объединить под его единоличным командованием оба театра военных действий — средиземноморский и западноевропейский.
Но дело усугублялось тем, что британское правительство решительно сопротивлялось созданию общего командования под эгидой американцев. Правда, Лондон поддерживал идею назначения Маршалла, но лишь главнокомандующим «Оверлорда». В итоге кандидатура главнокомандующего не была окончательно согласована и после того, как в Квебеке американская идея о совместном командовании окончательно отпала и было решено поставить англо-американские силы, действующие в Средиземноморье, под английское командование.
Уступив в этом вопросе Лондону, американцы показали, что они готовы смотреть сквозь пальцы на планы Черчилля в восточной части Средиземного моря. Смысл этих планов ясен: во-первых, затянуть войну действиями на второстепенных направлениях, во-вторых, установить английский контроль над Балканами и над всем югом Европы, где, в то время широко распространилось партизанское движение, носившее не только антифашистский, но и антиимпериалистический характер.
Все эти интриги не имели, разумеется, ничего общего ни с задачей скорейшего окончания войны, ни с оказанием действенной помощи Советскому Союзу.
В Тегеране имя главнокомандующего «Оверлордом» так и не было названо. Правда, спустя четыре дня после окончания конференции руководителей трех держав, 5 декабря 1943 г. Рузвельт назначил верховным командующим англо-американскими войсками, участвующими в операции «Оверлорд», генерала Эйзенхауэра.
Обстановка обостряется
Участники конференции вновь и вновь возвращались к теме «Оверлорда», но это не приближало их ни на шаг к главному вопросу — о сроках и очередности вторжения в Северную Францию. Между тем Черчилль не оставлял своих попыток заменить «Оверлорд» какой-либо другой операцией — в Средиземном море или на Балканах. На одном из пленарных заседаний он вновь заявил, что в Средиземноморье англичане располагают значительной армией и хотят, чтобы эта армия вела активную борьбу там в течение всего года, а не находилась в бездействии. Поэтому, заявил Черчилль, он просит, чтобы русские рассмотрели всю эту проблему и различные альтернативы, которые англичане предлагают в отношении наилучшего использования имеющихся вооруженных сил в районе Средиземного моря. Британский премьер выдвинул ряд вопросов, которые, по его мнению, необходимо детально изучить.
Во-первых, какую помощь можно будет оказать операции «Оверлорд», используя войска, находящиеся в Средиземноморье? Англичане хотели бы иметь там достаточное количество десантных судов для переброски двух дивизий. При этом можно было бы ускорить продвижение англо-американских войск вдоль Апеннинского полуострова для уничтожения войск противника. Имеется и другая возможность использования этих сил. Их было бы достаточно для захвата острова Родос в том случае, если бы Турция вступила в войну. Третья возможность использования этих сил заключается в том, что они, за вычетом потерь, могли бы быть использованы через шесть месяцев в Южной Франции для поддержки операции «Оверлорд». Ни одна из указанных возможностей не исключена, но возникает вопрос о сроке. Использование этих двух дивизий, независимо от того, какими из трех перечисленных операций они будут заняты, не может быть осуществлено без отсрочки операции «Оверлорд» или отвлечения части десантных средств из района Индийского океана.
— В этом состоит наша дилемма, — патетически воскликнул Черчилль, вздымая руки к небу. — Чтобы решить, какой путь нам избрать, мы хотим услышать точку зрения маршала Сталина по поводу общего стратегического положения, так как военный опыт наших русских союзников приводит нас в восхищение и воодушевляет нас…
Но есть и еще одна проблема, продолжал глава британской делегации, которая носит скорее политический, нежели военный характер. Речь идет о Балканах. Там находятся 21 германская дивизия и, помимо того, гарнизонные войска. Из этого количества 54 тысячи немецких солдат сконцентрированы на Эгейских островах. На Балканах имеется также не менее 12 болгарских дивизий.
Указав на значение вражеских сил, расположенных на Балканах, Черчилль принялся уверять, что Англия не имеет на Балканах ни интересов, ни честолюбивых устремлений. Она лишь хочет сковать 21 германскую дивизию на Балканах и, по мере возможности, уничтожить их.
— Мы стремимся дружно работать с нашими русскими союзниками, — заверил Черчилль.
Эти заверения звучали не очень убедительно. В ответ на них советский представитель вновь заявил, что из военных проблем основным и решающим вопросом следует считать операцию «Оверлорд».
— Конечно, — продолжал Сталин, — русские нуждаются в помощи. И если речь идет о помощи нам, то мы ожидаем помощи от тех, кто должен выполнять намеченные операции, и мы ожидаем действенной помощи.
Прежде всего, подчеркнул он, необходимо, чтобы срок операции «Оверлорд» не был отложен, чтобы май оставался предельным временем для осуществления этой операции. Следует также предусмотреть поддержку «Оверлорда» десантом на юге Франции. По мнению русской делегации, лучше было бы решить все эти вопросы в ходе Тегеранской конференции, и советская сторона не видит причин, по которым это не могло бы быть сделано.
Рузвельт, внимательно слушавший Сталина, сказал, что он придает большое значение срокам и, если имеется общее согласие на операцию «Оверлорд», следует договориться о дате ее проведения. По мнению Рузвельта, можно принять один из двух вариантов: либо провести «Оверлорд» в течение первой недели мая, либо несколько отложить эту операцию. Отсрочка «Оверлорда» могла бы быть вызвана одной-двумя операциями в Средиземном море, которые потребовали бы десантных средств и самолетов. Если осуществить экспедицию в восточной части Средиземного моря и если при этом не будет успеха, то придется перебросить туда дополнительные материалы и войска. Тогда «Оверлорд» не удастся осуществить в срок. Поэтому, продолжал американский президент, наши штабы должны разработать планы операций на Балканах таким образом, чтобы операции там не нанесли ущерба «Оверлорду».
— Правильно, — поддержал президента Сталин и добавил: — Если возможно, то хорошо было бы осуществить операцию «Оверлорд» в пределах мая, скажем, 10–15 — 20 мая.
— Я не могу дать такого обязательства, — отпарировал Черчилль.
Сталин пожал плечами, давая понять, что считает в этих условиях трудным продолжать разговор. Его явно раздражала уклончивая позиция британского премьера. Но он держал себя в руках и спокойным тоном учителя, который старается втолковать суть вопроса непонятливому ученику, сказал:
— Если осуществить «Оверлорд» в августе, как об этом говорил Черчилль вчера, то из-за неблагоприятной погоды в этот период ничего путного не выйдет. Апрель и май являются наиболее подходящими месяцами для «Оверлорда».
Известно, что Сталин был порой раздражительным и нетерпеливым. Малейшее возражение могло вызвать у него весьма бурную реакцию. Однако на протяжении работы Тегеранской конференции он хорошо владел собой. Даже в самые острые моменты он был выдержан, корректен. И это выгодно отличало его от Черчилля, который часто срывался, проявлял нервозность, а иногда и вовсе не мог держать себя в руках.
Спокойный тон Сталина возымел свое действие.
— Мне кажется, — примирительно сказал Черчилль, — что Мы не расходимся во взглядах настолько, насколько это может показаться. Я готов сделать все, что во власти британского правительства, чтобы осуществить операцию «Оверлорд» в возможно ближайший срок. Но я не думаю, что те многие возможности, которые имеются в Средиземном море, должны быть немилосердно отвергнуты как не имеющие значения из-за того, что использование их задержит «Оверлорд» на два-три месяца. По нашему мнению, многочисленные британские войска не должны находиться в бездействии в течение шести месяцев. Они должны вести бои с врагом, и с помощью американских союзников мы надеемся уничтожить немецкие дивизии в Италии. Мы не можем оставаться пассивными в Италии, ибо это испортит всю нашу кампанию там. Мы должны оказывать помощь нашим русским друзьям…
Таким образом, Черчилль снова вернулся к своему тезису о развертывании операций в Средиземноморье и к тому же изобразил дело так, будто это и есть наилучшая помощь Советскому Союзу. Сталин саркастически заметил:
— По Черчиллю выходит, что русские требуют от англичан, чтобы они бездействовали…
Черчилль сделал вид, что не замечает иронии, и принялся снова рассуждать о том, что необходимо сковать возможно большее количество германских дивизий в Италии и на Балканах и что пассивность на фронте в Италии позволит немцам снова перебросить свои дивизии во Францию в ущерб «Оверлорду». Англичане, уверял Черчилль, всегда готовы обсудить все подробности с союзниками, но дело в количестве десантных средств. Если эти десантные средства будут оставлены в районе Средиземного моря или в Индийском океане в ущерб «Оверлорду», тогда не может быть гарантирован успех «Оверлорда» и операции в Южной Франции.
— Для операций в Южной Франции потребуется большое количество десантных средств, и это надо учесть, — многозначительно закончил свою речь британский премьер.
В этих условиях предложение провести дальнейшее обсуждение в комиссии военных экспертов выглядело как уловка, рассчитанная на то, чтобы вообще похоронить это дело. Ведь все понимали: время, которое главы трех держав могут уделить Тегеранской конференции, весьма ограничено.
Поэтому, когда Рузвельт снова предложил поручить военной комиссии обсудить оставшиеся неразрешенные вопросы, Сталин решительно возразил:
— Не нужно никакой военной комиссии. Мы можем решить все вопросы здесь, на совещании. Мы должны решить вопрос о дате, о главнокомандующем и вопрос о необходимости вспомогательной операции в Южной Франции.
Советский представитель добавил, что русские ограничены сроком пребывания в Тегеране. Можно еще пробыть 1 декабря, но 2 декабря советская делегация должна уехать. Ведь заранее было договорено, что конференция продлится от трех до четырех дней.
Рузвельт все же продолжал настаивать на передаче всех вопросов в военную комиссию, но Сталин не соглашался. Он пояснил, что русские хотят знать дату начала операции «Оверлорд», чтобы подготовить свой удар по немцам.
Черчилль поддержал предложение президента о военной комиссии.
— Что касается определения срока операции «Оверлорд», — заметил он, — то если будет решено провести расследование стратегических вопросов в военной комиссии…
Сталин резко перебил Черчилля:
— Мы не требуем никакого расследования.
Рузвельт, чувствуя, что атмосфера накаляется, поспешил вмешаться.
— Нам всем известно, — заметил он, — что разногласия между нами и англичанами небольшие. Я возражаю против отсрочки операции «Оверлорд», в то время как Черчилль больше подчеркивает важность операций в Средиземном море. Военная комиссия могла бы разобраться в этих вопросах.
— Мы можем решить эти вопросы сами, — настойчиво повторил Сталин, — ибо мы больше имеем прав, чем военная комиссия. Если можно задать вопрос, то я хотел бы спросить англичан, верят ли они в операцию «Оверлорд» или они просто говорят о ней для того, чтобы успокоить русских.
Черчилль закусил удила.
— Если, — сказал он уклончиво, — будут налицо условия; которые были указаны на Московской конференции, то я твердо убежден в том, что мы будем обязаны перебросить все наши возможные силы против немцев, когда начнется осуществление операции «Оверлорд»…
Условия, на которые ссылался Черчилль, определяли, в каком случае высадка через Ла-Манш может быть успешной: во Франции к моменту вторжения должно находиться не более 12 германских мобильных дивизий, в течение 60 дней немцы не должны иметь возможности перебросить во Францию для пополнения своих войск более 15 дивизий.
Напоминая об этих условиях, Черчилль дал понять, что при определенных обстоятельствах операция «Оверлорд» вообще может оказаться под вопросом. В итоге после долгих дебатов проблема «Оверлорда» снова оказалась в тупике. Казалось, что продолжать переговоры вообще бессмысленно.
Сталин резко поднялся с места и, обращаясь к Молотову и Ворошилову, сказал:
— Идемте, нам здесь делать нечего. У нас много дел на фронте…
Черчилль заерзал в кресле, покраснел и невнятно пробурчал, что его «не так поняли».
Чтобы как-то разрядить атмосферу, Рузвельт примирительным тоном сказал:
— Мы очень голодны сейчас. Поэтому я предложил бы прервать наше заседание, чтобы присутствовать на обеде, которым нас сегодня угощает маршал Сталин…
Лосось для президента
Стол на девять персон был накрыт в небольшой гостиной, примыкавшей к залу заседаний. На белой скатерти ярким пятном выделялись миниатюрные флажки трех держав. Между приборами были свободно разбросаны красные гвоздики. Когда я вошел в гостиную, там, кроме официантов, еще никого не было. Обойдя стол, проверил, как разложены карточки с именами участников обеда. Напротив Сталина должен был занять место президент Соединенных Штатов. На его фужере лежала карточка из белого картона с надписью: «Франклин Делано Рузвельт» на русском и английском языках. Справа от Сталина должен был сидеть Черчилль, слева — я в качестве переводчика. Напротив меня, по правую руку президента — Молотов. Слева от президента — Чарльз Болен. По правую руку Черчилля — майор Бирз. На остальных местах — Гарри Гопкинс и Антони Иден. У каждого прибора лежала карточка с меню, которое также было напечатано на русском и английском языках.
Обед проходил в непринужденной обстановке. Но для меня лично он начался не очень удачно. Обычно перед официальным обедом я забегал перекусить в служебную столовую. По опыту знал, что на приемах происходит оживленный обмен репликами, которые требуют точного и быстрого перевода. К тому же, если разговор заходит на серьезную тему, надо успеть его запротоколировать. Переводчику в этих условиях нечего и думать о том, чтобы поесть за таким столом, хотя, разумеется, официант кладет и ему на тарелку то, что полагается по меню. Как правило, все это уносят нетронутым.
На этот раз пленарное заседание затянулось, и до обеда, на который Сталин пригласил своих партнеров по переговорам, оставалось всего несколько минут. Мне же надо было составить краткую запись только что закончившейся беседы. Таково было твердое правило, которое неукоснительно соблюдалось. Словом, я не успел забежать в столовую.
Когда все разместились за столом, начался оживленный разговор. Закуску унесли, подали и унесли бульон с пирожком: я к ним не притронулся, так как все время переводил и поспешно делал пометки в блокноте. Наконец, подали бифштекс, и тут я не выдержал: воспользовавшись небольшой паузой, отрезал изрядный кусок и быстро сунул в рот. Но именно в этот момент Черчилль обратился к Сталину с каким-то вопросом. Немедленно должен был последовать перевод, но я сидел с набитым ртом и молчал. Воцарилась неловкая тишина.
Сталин вопросительно посмотрел на меня. Покраснев, как рак, я все еще не мог выговорить ни слова и тщетно пытался справиться с бифштексом. Вид у меня был самый дурацкий. Все уставились на меня, отчего я еще больше смутился. Послышались смешки, потом громкий хохот.
Каждый профессиональный переводчик знает, что я допустил грубую ошибку — ведь мне была поручена важная работа и я должен был нести ответственность за свою оплошность. Я сам это прекрасно понимал, но надеялся, что все обернется шуткой. Однако Сталина моя оплошность сильно обозлила. Сверкнув глазами, он наклонился ко мне и процедил сквозь зубы:
— Тоже еще, нашел где обедать! Ваше дело переводить, работать. Подумаешь, набил себе полный рот, безобразие!..
Сделав над собой усилие, я проглотил неразжеванный кусок и скороговоркой перевел то, что сказал Черчилль. Я, разумеется, больше ни к чему не прикоснулся, да у меня и аппетит пропал…
Во время этого обеда много внимания уделялось темам гастрономическим: Рузвельт интересовался особенностями кавказской кухни, и в этой области Сталин, естественно, проявил себя тонким знатоком. Напомнив, что во время прошлого завтрака Рузвельту особенно понравилась лососина, Сталин сказал:
— Я распорядился, чтобы сюда доставили одну рыбку, и хочу вам ее теперь презентовать, господин президент.
— Это чудесно, — воскликнул Рузвельт, — очень тронут вашим вниманием. Мне даже неловко, что, похвалив лососину, я невольно причинил вам беспокойство…
— Никакого беспокойства, — возразил Сталин. — Напротив, мне было приятно сделать это для вас.
Обращаясь ко мне, он сказал:
— Пойдите в соседнюю комнату, скажите, пусть принесут сюда рыбу, которую сегодня доставили самолетом.
Выполнив поручение, я вернулся к столу. Рузвельт в это время говорил о том, что после войны откроются широкие возможности для развития экономических отношений между Соединенными Штатами и Советским Союзом.
— Конечно, — продолжал президент, — война нанесла России огромные разрушения. Вам, маршал Сталин, предстоят большие восстановительные работы. И тут Соединенные Штаты с их экономическим потенциалом могут оказать вашей стране существенную помощь. Полагаю, мы могли бы предоставить Советскому Союзу после нашей совместной победы над державами оси кредит в несколько миллиардов долларов. Разумеется, это еще только общая наметка. Все это нужно обсудить в соответствующих сферах, но в общем и целом подобная перспектива мне представляется вполне реальной.
— Очень признателен вам за это предложение, господин президент, — сказал Сталин. — Наш народ терпит большие лишения. Вам трудно себе представить разрушения на территории, где побывал враг. Ущерб, причиненный войной, огромен, и мы, естественно, приветствуем помощь такой богатой страны, как Соединенные Штаты, если, конечно, она будет сопровождаться приемлемыми условиями.
— Я уверен, что нам удастся договориться. Во всяком случае, и лично позабочусь об этом, — ответил Рузвельт.
В этот момент в комнату вошел офицер охраны и спросил, можно ли внести посылку. Получив согласие, он исчез за дверью, а Сталин сказал:
— Сейчас принесут рыбку.
Все повернулись в сторону двери, из которой через несколько мгновений появились четыре рослых парня в военной форме. Они несли рыбину метра в два длиной и полметра в диаметре. Процессию замыкали два повара-филиппинца и работник американской службы безопасности. Чудо-рыбину поднесли поближе к Рузвельту, и он несколько минут любовался ею. Тем временем американский детектив попросил меня узнать у его советских коллег, какой обработке подверглась рыба, в каких условиях и как долго можно ее хранить, не подвергая риску здоровье президента. Записав все в блокнот, детектив удалился. За ним последовала и вся процессия с лососем, хвост которого, покачиваясь в такт шагам, как бы махнул нам на прощанье.
Когда все перешли в соседнюю комнату, где подали кофе, Черчилль вернулся к утренней церемонии вручения меча Георга VI Сталинграду. Он высказал мысль, что этот акт британского монарха символизирует рожденную в боях англосоветскую дружбу.
— Сам Сталинград, — заявил далее Черчилль, — стал символом мужества, стойкости русского народа и вместе с тем символом величайшего человеческого страдания. Этот символ сохранится в веках. Надо, чтобы будущие поколения могли воочию увидеть и почувствовать все величие одержанной у Волги победы и все ужасы бушевавшей там истребительной войны. Хорошо бы оставить нетронутыми страшные руины этого легендарного города, а рядом построить новый, современный город. Развалины Сталинграда, подобно развалинам Карфагена, навсегда остались бы своеобразным памятником человеческой стойкости и страданий. Они привлекали бы паломников со всех концов земли и служили бы предупреждением грядущим поколениям…
Рузвельту понравилась идея Черчилля, и он согласился, что было бы неплохо сохранить развалины Сталинграда в назидание потомкам, хотя, добавил он, это, разумеется, прежде всего дело русских.
Взоры всех устремились на Сталина. Насупившись, он медленно потягивал кофе из маленькой чашечки. Потом, неторопливым движением поставив чашку на столик, взял лежавшую тут же коробку «Герцеговины флор», закурил, затянулся, выпустив тонкую струйку дыма, сказал:
— Не думаю, чтобы развалины Сталинграда следовало оставить в виде музея. Город будет снова отстроен. Может быть, мы сохраним нетронутой какую-то часть его: квартал или несколько зданий как памятник Великой Отечественной войне. Весь же город, подобно Фениксу, возродится из пепла, и это уже само по себе будет памятником победе жизни над смертью…
Вскоре Рузвельт, сославшись на усталость, отправился на свою половину. За ним последовали и другие американцы. После их ухода остались Сталин, Молотов, Черчилль, Иден и мы с майором Бирзом как переводчики. Продолжали пить кофе, курили сигары, которыми угощал Черчилль. Вновь обсуждали перспективы войны, прикидывали приблизительно сроки, в которые можно будет заставить Гитлера безоговорочно капитулировать. Черчилль заметил, что он уверен в скорой победе союзников, и добавил:
— Я полагаю, что бог на нашей стороне. Во всяком случае, я сделал все для того, чтобы он стал нашим верным союзником…
Сталин поднял голову, с хитрецой посмотрел на Черчилля, сказал:
— Ну, а дьявол, разумеется, на моей стороне. Потому что, конечно же, каждый знает, что дьявол — коммунист. А бог, несомненно, добропорядочный консерватор…
Британский премьер оправдывается
На следующий день вскоре после двенадцати состоялась встреча Черчилля и Сталина. Первым взял слово Черчилль. Напомнив о своем полуамериканском происхождении, он заявил, что относится с большой любовью к американцам. Поэтому не следует понимать то, что он собирается сейчас сказать, как попытку унизить американцев. Но есть некоторые вещи, которые лучше говорить один на один. Во-первых, следует иметь в виду, что численность британских вооруженных сил в Средиземном море значительно превышает численность находящихся там американских сил. Соотношение составляет примерно один к трем или четырем. Отсюда особая заинтересованность английского правительства в том, чтобы огромная британская армия в Средиземноморье не оставалась в бездействии.
— В настоящее время, — продолжал Черчилль, — положение таково, что приходится делать выбор между датой операции «Оверлорд» и операциями в Средиземном море. Но это не все. Американцы хотят, чтобы англичане предприняли десантную операцию в Бенгальском заливе в марте будущего года.
Так Черчилль раскрыл смысл своего вчерашнего неожиданного упоминания о каких-то десантных операциях в районе Индийского океана. Получалось, что именно они теперь становятся препятствием к своевременному проведению «Оверлорда». Черчилль сказал далее, что относится «не особенно положительно» к операции в Бенгальском заливе. Конечно, дело обстояло бы по-иному, если бы имелось достаточно десантных средств как для этой операции, так и для действий в Средиземном море. Тогда можно было бы осуществить то, что хочет он, Черчилль, и то, на чем настаивают американцы, сохранив при этом сроки «Оверлорда». В нынешней же ситуации, убеждал Черчилль, речь идет не столько о выборе между операциями в Средиземном море и «Оверлордом», сколько о выборе между десантом в Бенгальском заливе и датой высадки в Северной Франции.
Черчилль заявил, что решил все это рассказать, с тем чтобы маршалу Сталину стал ясным смысл спора, происходившего вчера в присутствии американцев.
— Маршал Сталин, возможно, думает, — говорил британский премьер, — что я уделяю недостаточное внимание операции «Оверлорд». Это неверно. Все дело в проблеме десантных судов и в позиции американцев, которые слишком много внимания концентрируют на операциях в Индийском океане…
Внимательно выслушав Черчилля, Сталин не стал вдаваться в подробности его объяснений, но предупредил британского премьера о серьезных последствиях, к которым может привести дальнейшая задержка с началом операции «Оверлорд».
— Должен сказать, — заметил Сталин, — что Красная Армия рассчитывает на осуществление десанта в Северной Франции. Боюсь, что если этой операции в мае не будет, то ее не будет вообще, так как через несколько месяцев погода испортится и высадившиеся войска нельзя будет снабжать в должной мере. Если же эта операция не состоится, то должен предупредить, что это вызовет большое разочарование и плохие настроения. Отсутствие этой операции может вызвать очень нехорошее чувство одиночества. Поэтому мы хотим знать, состоится ли операция «Оверлорд» или нет. Если она состоится, то это хорошо. Если же не состоится, то я должен знать об этом заранее, для того чтобы воспрепятствовать настроениям, которые может вызвать отсутствие этой операции. Это — наиболее важный вопрос.
Несмотря на всю серьезность сделанного ему таким образом предупреждения, британский премьер и на этот раз уклонился от прямого ответа. Он вновь ограничился замечанием, что операция состоится лишь при условии, если враг не сможет иметь больше определенного числа войск к моменту высадки англичан и американцев.
— Я не боюсь самой высадки, — заявил Черчилль, — но боюсь того, что произойдет через тридцать-сорок дней.
На это Сталин ответил, что, как только будет осуществлен десант в Северной Франции, Красная Армия, в свою очередь, перейдет в наступление. Если бы было известно, что высадка состоится в мае или июне, то русские могли бы подготовить не один, а несколько ударов по врагу. Пока же положение таково, что немцы перебрасывают свои войска на Восточный фронт, и они будут продолжать их перебрасывать, пока для них не возникнет серьезной угрозы на западе.
— Немцы очень боятся нашего продвижения к германским границам, — продолжал Сталин. — Они понимают, что их не отделяет от нас ни Ла-Манш, ни море. С востока имеется возможность подойти к Германии. В то же время немцы знают, что на западе их защищает Ла-Манш, затем нужно пройти территорию Франции, для того чтобы подойти к Германии. Немцы не решатся перебрасывать свои войска на запад, в особенности, если Красная Армия, будет наступать, а она будет наступать, если получит помощь со стороны союзников в виде операции «Оверлорд».
В этих словах явно звучал намек на то, что англичанам и американцам, даже в случае успешной высадки, предстоит еще очень много сделать, прежде чем они подойдут к территории Германии, тогда как советские войска могут вступить на германскую территорию первыми, если союзники будут слишком мешкать.
На Черчилля это произвело заметное впечатление, и, когда Сталин вновь спросил, не может ли премьер-министр все же назвать дату начала операции «Оверлорд», тот решил больше не уклоняться и серьезным тоном сказал, что ответ будет дан во время завтрака с президентом, на который оба они должны отправиться несколько позже.
НАЦИСТСКИЙ ШПИОН В БРИТАНСКОМ ПОСОЛЬСЬВЕ
Тегеранские решения и «Цицерон»
Когда руководители трех держав собрались за завтраком, сразу стало заметно приподнятое настроение Рузвельта. На его лице сверкала улыбка, весь он был какой-то праздничный. Обращаясь к присутствующим, он с подчеркнутой торжественностью заявил:
— Господа, я намерен сообщить маршалу Сталину приятную для него новость. Дело в том, что сегодня объединенные штабы с участием британского премьера и американского президента приняли следующее предложение: «Операция „Оверлорд“ намечается на май 1944 года и будет проведена при поддержке десанта в Южной Франции. Сила этой вспомогательной операции будет зависеть от количества десантных средств, которые будут иметься в наличии к тому времени».
Советские представители внешне спокойно восприняли это заявление. Но мне кажется, что внутренне каждый из нас испытывал глубокое волнение: ответ, которого так упорно добивалась советская делегация, был наконец получен. И хотя до реализации этого обязательства оставалось еще много времени, казалось, что уже сам факт его получения снимает часть огромного бремени, лежавшего на нашем народе, вольет новые силы в борцов против фашизма. Меня охватило чувство приподнятости, к горлу подкатил клубок, и я едва сдержался, чтобы не захлопать в ладоши. Волнение Сталина выдавали только его необычная бледность и голос, ставший еще более глухим, когда он, немного наклонив голову, произнес:
— Я удовлетворен этим решением…
Несколько минут все молчали. Потом Черчилль сказал, что точная дата начала операции будет, очевидно, зависеть от фазы луны. Сталин заметил, что он, разумеется, не требует, чтобы ему была названа точная дата, и что для маневра, конечно, будут необходимы одна-две недели в пределах мая. Он сказал:
— Я хочу заявить Черчиллю и Рузвельту, что к моменту начала десантных операций во Франции русские подготовят сильный удар по немцам.
Рузвельт поблагодарил Сталина за такое решение, отметив, что это не позволило бы немцам перебрасывать свои войска на запад. Так закончилось обсуждение на Тегеранской конференции проблемы открытия второго фронта в Северной Франции.
Данные тогда англичанами и американцами обязательства, были, как известно, еще раз пересмотрены в сторону оттяжки: операция «Оверлорд» началась не в мае, а 6 июня 1944 г. Возможно, что ее отложили бы на еще более дальний срок, если бы не успешные действия советских войск, которые теснили гитлеровцев все дальше на запад и уже приближались к территории Германии. Англичане и американцы боялись опоздать и потому осуществили, наконец вторжение.
Со своей стороны советское командование приурочило к операции «Оверлорд» крупное наступление Красной Армии на германские позиции. 6 июня 1944 г., сразу же по получении из Лондона сообщения об успехе начала операции «Оверлорд», Сталин направил Черчиллю и Рузвельту идентичные телеграммы, в которых говорилось: «Летнее наступление советских войск, организованное согласно уговору на Тегеранской конференции, начнется к середине июня на одном из важных участков фронта. Общее наступление советских войск будет развертываться этапами путем последовательного ввода армий в наступательные операции. В конце июня и в течение июля наступательные операции превратятся в общее наступление советских войск».
Советский Союз полностью выполнил свое обязательство перед союзниками…
После того как вопрос об «Оверлорде» был решен, участники конференции уделили значительное внимание проблеме сохранения в строгой тайне достигнутой договоренности. Участники конференции договорились о том, что круг лиц, знающих о принятых в Тегеране решениях, должен быть, по возможности, ограничен, что будут проведены дополнительные мероприятия с целью исключить возможность утечки информации.
С советской стороны такие меры были приняты. Нам даже предложили не диктовать содержание последней беседы, как обычно, а сделать от руки запись о точных сроках вторжения и о других решениях, с тем чтобы потом оформить протоколы в Москве. В целях предосторожности мы должны были сдать в диппочту наши рукописные записи тегеранских решений. Они были упакованы в специальные толстые черные конверты и брезентовые мешки, опечатаны множеством сургучных печатей, и их доставили в Москву вооруженные дипкурьеры. Надо полагать, аналогичные меры были приняты англичанами и американцами. Но все же сохранить в тайне от врага важнейшие решения Тегеранской конференции не удалось.
Как стало известно уже после войны, Антони Иден, вернувшись из Тегерана в Лондон, подробно информировал о решениях конференции британского посла в Анкаре сэра Нэтчбэлл-Хьюджессена. В зашифрованных телеграммах содержались сведения не только о переговорах, касавшихся Турции, что было бы естественно, но и информация по другим важным вопросам, включая и сроки «Оверлорда». Вся эта информация попала через германского платного агента Эльяса Базна — камердинера сэра Хью к гитлеровцам. Базна, получивший из-за обилия важных материалов, которые он поставил гитлеровской секретной службе СС, кличку «Цицерон», регулярно фотографировал и передавал резиденту СС в Анкаре Мойзишу секретные депеши, поступавшие к британскому послу. А сэр Хью проявлял поразительную беспечность, нередко оставляя черный чемоданчик с документами в своей спальне без всякого присмотра. Таким образом, секретные телеграммы легко попадали в руки «Цицерона».
В мемуарах, вышедших в 1950 году, Мойзиш рассказывает, как однажды, проведя в фотолаборатории над проявлением полученных от «Цицерона» пленок целую ночь, он обнаружил, что в его руках находятся протоколы Каирской и Тегеранской конференций. Вспоминает об этом в своей книге, опубликованной несколько позже, и Э. Базна. Он пишет, что из документов, сфотографированных им для немцев, можно было «распознать намерения англичан, американцев и русских».
Занимавший во время войны пост германского посла в Турции фон Папен писал:
«Информация „Цицерона“ была весьма ценной по двум причинам. Резюме решений, принятых на Тегеранской конференции, были направлены английскому послу. Это раскрыло намерения союзников, касающиеся политического статуса Германии после ее поражения, и показало нам, каковы были разногласия между ними. Но еще большая важность его информации состояла прежде всего в том, что он представил в наше распоряжение точные сведения об оперативных планах противника».
Впрочем, судя по всему, нацистские главари не использовали в полной мере эту бесценную информацию. С одной стороны, они продолжали сомневаться: не подкинуты ли им эти документы англичанами в целях дезинформации. С другой, — понимая значение информации, полученной от «Цицерона», они боялись расширять круг лиц, знавших о ней, из опасения раскрыть источник. Поэтому руководство вермахта, по-видимому, никак не использовало эти документы в своих оперативных разработках, а возможно, и вообще не знало о них. Так или иначе, осуществленное на рассвете б июня 1944 г. англо-американское вторжение в Нормандии было для немецкого командования полной неожиданностью.
Не обогатился на этой операции и сам «Цицерон»: 300 тысяч фунтов стерлингов, которыми с ним расплатились гитлеровцы, оказались фальшивыми.
Проблема Турции
Вопрос о том, как побудить Турцию вступить в войну на стороне союзников, был поднят Черчиллем на первом же пленарном заседании Тегеранской конференции 28 ноября.
По мнению британского премьера, вступление Турции в войну позволило бы открыть коммуникации через Дарданеллы и Босфор и направить снабжение в Советский Союз через Черное море. Можно было бы также использовать турецкие аэродромы для борьбы против общего врага.
— До настоящего времени; — продолжал Черчилль, — англичане и американцы смогли отправить в северные порты России лишь четыре конвоя. Мешает то, что нет достаточного количества военных кораблей, чтобы эскортировать эти караваны грузовых судов с военными материалами. Но в случае открытия пути через Черное море можно будет регулярно осуществлять поставки в южные русские порты. Мы думаем выделить не более двух-трех дивизий для операций в районе Турции в случае вступления ее в войну, не считая военно-воздушных сил, которые мы также выделяем при этом….
Сталин в этот момент прервал Черчилля и заметил, что конвои, о которых идет речь, пришли без потерь, не встретив на своем пути врага…
Черчилль пропустил мимо ушей это замечание и выдвинул ряд вопросов, которые, по его мнению, следует рассмотреть в связи с проблемой Турции:
— Каким образом мы сможем заставить Турцию вступить в войну? Что она должна делать? Должна ли она напасть на Болгарию и объявить войну Германии? Должна ли она предпринять наступательные операции или же она должна продвигаться во Фракию? Какова была бы позиция русских в отношении болгар, которые все еще помнят, что Россия освободила их от турок? Какое влияние оказало бы это на румын, которые уже сейчас ищут путей для выхода из войны? Как это повлияло бы на Венгрию? Не будет ли результатом всего этого то, что среди многих стран произойдут большие политические перемены?
Обрушив на присутствовавших эти вопросы, Черчилль сделал многозначительную паузу, обвел всех взглядом, пожевал губами и закончил свое выступление так:
— Все это — вопросы, по которым наши русские друзья имеют, конечно, свою точку зрения.
После этого обсуждались некоторые другие проблемы, а к Турции вернулись несколько позже, когда Сталин, в свою очередь, спросил Черчилля:
— Если Турция вступит в войну, то что предполагается предпринять в этом случае?
— Я могу сказать, — ответил Черчилль, — что не более двух или трех дивизий потребовалось бы для того, чтобы занять острова вдоль западного побережья Турции. Тогда суда с поставками могли бы идти в Турцию и в Черное море. Но первое, что мы сделаем, — отправим туркам 20 эскадрилий и несколько полков противовоздушной обороны. Это не принесет ущерба другим операциям.
Выслушав это объяснение, глава Советского правительства высказал сомнение насчет перспектив привлечения Турции на сторону союзников.
— Она не вступит в войну, какое бы давление мы на нее ни оказали, — сказал Сталин. — Это мое мнение.
— Мы понимаем это так, — уточнил Черчилль, — что Советское правительство весьма заинтересовано в том, чтобы заставить Турцию вступить в войну. Конечно, нам, может быть, не удастся заставить ее сделать это, но мы должны предпринять все возможное в этом отношении.
— Да, мы должны попытаться заставить Турцию вступить в войну, — согласился Сталин. — Было бы хорошо, если бы Турция вступила в войну.
Британский премьер спросил, не следует ли передать вопрос о Турции на рассмотрение военных специалистов? Сталин возразил:
— Это и политический и военный вопрос, — сказал он. — Турция является союзницей Великобритании и находится в дружественных отношениях с Советским Союзом и Соединенными Штатами. Надо, чтобы Турция больше не вела игры с нами и Германией.
После этого слово взял Рузвельт, который до того не высказывал позиции США в отношении проблемы Турции.
— Конечно, — сказал он, — я за то, чтобы заставить Турцию вступить в войну, но будь я на месте турецкого президента, я запросил бы за это такую цену, что ее можно было бы оплатить, лишь нанеся ущерб операции «Оверлорд».
Сталин на это заметил, что надо все же попытаться заставить Турцию воевать, поскольку у нее много дивизий, которые бездействуют.
На состоявшемся 29 ноября совещании военных экспертов вопрос о Турции был также затронут. Английский генерал Брук, докладывая о военной ситуации, как она представлялась англичанам и американцам, отметил, что даже если отбросить политические соображения, то с чисто военной точки зрения вступление Турции в войну было бы очень желательным и дало бы союзникам большие преимущества. Это открыло бы морские коммуникации через Дарданеллы и имело бы большое значение в смысле возможного выхода из войны Румынии и Болгарии. Кроме того, англичане и американцы могли бы установить контакт с Советским Союзом через Черное море и осуществлять этим путем поставки, в Россию. Наконец, создание в Турции авиабаз союзников дало бы возможность осуществлять налеты на важные объекты немцев, в частности на необходимые немцам нефтяные источники Румынии.
Сокращение маршрута при перевозке грузов через Черное море высвободило бы часть тоннажа. Для открытия пути в Черное море достаточно было бы захватить несколько островов вдоль турецкого побережья, начиная с острова Родос. Это, по мнению Брука, не будет трудной операцией и не повлечет за собой использование больших сил. Далее британский генерал пояснил, что в Средиземном море англичане имеют специальные десантные баржи, которые можно было бы использовать для этих операций. В соответствии с основной линией, занятой Черчиллем, Брук подчеркнул, что для осуществления этого плана нужно было бы только отложить операцию «Оверлорд».
Видя, что советская сторона проявила заинтересованность в скорейшем вступлении Турции в войну, англичане попытались обусловить решение и этого вопроса оттяжкой вторжения в Северную Францию. Естественно, что советский представитель на совещании военных экспертов маршал Ворошилов решительно выступил против такого варианта.
На втором пленарном заседании участники конференции вновь вернулись к вопросу о Турции. Черчилль сказал, что Англия, являясь союзницей Турции, берет на себя ответственность за то, чтобы убедить или заставить Анкару вступить в войну еще до рождества.
— Если президент, — продолжал Черчилль, — пожелает к нам присоединиться или захочет взять на себя руководящую роль, то для нас, англичан, это будет приемлемо. Но мы будем нуждаться и в помощи со стороны маршала Сталина. От имени британского правительства я могу сказать, что оно готово предупредить Турцию о том, что, если она не примет предложения о вступлении в войну, это может иметь серьезные последствия для Турции и отразиться на ее правах в отношении Босфора и Дарданелл.
Английский премьер, напомнил, что ранее он поставил несколько вопросов, являющихся главным образом политическими. В частности, он хотел бы знать, что думает Советское правительство по поводу Болгарии? Расположено ли оно, в случае если Турция объявит войну Германии, а Болгария нападет на Турцию, заявить болгарам, что оно будет считать их страну своим врагом? Это, по мнению Черчилля, оказало бы огромное воздействие на Болгарию.
Английский премьер предложил, чтобы британский и советский министры иностранных дел, а также представитель президента Соединенных Штатов изучили этот и другие политические вопросы и представили рекомендации, как заставить Турцию вступить в войну и каковы могут быть результаты этого.
Соображения, высказанные британским премьером, не вызвали особой дискуссии и были приняты к сведению. К турецкой теме вернулись только в последний день конференции, 1 декабря, во время завтрака, в котором приняли участие главы делегаций и их помощники.
Когда все сели за стол и обменялись несколькими замечаниями общего характера, Гарри Гопкинс сказал, что хотел бы высказать кое-какие мысли по поводу турецкой проблемы. Вопрос о приглашении Турции вступить в войну, заметил он, связан с вопросом о том, какую поддержку Турция может получить от Великобритании и Соединенных Штатов. Кроме того, необходимо координировать вступление Турции в войну с общей стратегией союзников.
— Другими словами, — вмешался Рузвельт, — Иненю спросит нас, поддержим ли мы Турцию. Я думаю, что этот вопрос необходимо разобрать.
Советский представитель напомнил, что Черчилль обещал предоставить для помощи Турции 20–30 эскадрилий и две-три дивизии.
Английский премьер, который на одном из предыдущих заседаний действительно говорил о выделении двух-трех дивизий в случае вступления в войну Турции, теперь почему-то стал отказываться.
— Мы не давали согласия в отношении двух-трех дивизий, — возразил он. — У нас в Египте имеется 17 эскадрилий, которые не используются в настоящее время англо-американским командованием. Эти эскадрильи в случае вступления Турции в войну послужили бы целям ее обороны. Кроме того, Англия дала согласие на предоставление Турции трех полков противовоздушной обороны. Вот все, что было обещано Турции англичанами. Англичане не обещали Турции войск. У турок имеется 50 дивизий, они хорошие бойцы, но у них нет современного вооружения. Что касается двух-трех дивизий, о которых говорит маршал Сталин, то британское правительство выделило эти дивизии для овладения Эгейскими островами в случае вступления Турции в войну, а не для помощи Турции.
Черчилль замолчал и стал шарить в кармане жилета. Достав сигару, он аккуратно обрезал ее и приготовился закурить, когда Рузвельт обратился к нему со словами:
— Не правда ли, операция против Родоса потребует большого количества десантных средств?
— Эта операция потребует десантных средств не больше того количества, которое находится в Средиземном море, — ответил британский премьер.
— Мое затруднение состоит в том, — продолжал Рузвельт, — что американский штаб еще не изучил вопроса о количестве десантных судов, необходимых для операции в Италии, подготовки «Оверлорда» в Англии и действий в Индийском океане. Поэтому я должен быть осторожен в отношении обещаний Турции. Я боюсь, как бы эти обещания не помешали выполнению нашего вчерашнего соглашения, — многозначительно заключил Рузвельт, имея в виду согласованное накануне решение о сроках высадки в Северной и Южной Франции.
Видя, что дальнейшее обсуждение проблемы Турции может привести к новым нежелательным спорам вокруг «Оверлорда», а возможно, и к попыткам снова пересмотреть дату его осуществления, Сталин предложил прекратить дискуссию.
— Я думаю, что с этим вопросом покончено, — сказал он.
Однако Черчилль то ли не расслышал, то ли не захотел расслышать это предложение и вновь пустился в рассуждения насчет британских обещаний Турции. Он заявил, что Англия не предлагала ничего такого, чего она не могла бы дать.
— Может быть, американцы добавят что-нибудь к этому количеству? — спросил Черчилль. — Мы обещали предоставить туркам части ПВО, но мы не обещали им никаких войск, так как у нас их нет. Что касается десантных средств, то они потребуются в марте, но я полагаю, что мы можем их найти в период между занятием Рима и началом «Оверлорда».
— Я хочу посоветоваться с военными, — сказал Рузвельт. — Я надеюсь, что Черчилль прав, но мои советники говорят, что возможны трудности в использовании десантных судов в период между занятием Рима и началом «Оверлорда». Они полагают, что совершенно необходимо иметь к 1 апреля десантные суда, которые будут использованы в операции «Оверлорд».
— А я не вижу затруднений, — отпарировал Черчилль. — Но мы пока никаких предложений Турции не делали, и я не знаю, примет ли их Иненю. Он должен быть в Каире и познакомиться там с положением дел. Я могу предоставить туркам 20 эскадрилий. Никаких войск я туркам не дам. Кроме того, я думаю, что войска им и не требуются. Однако все дело в том, что я не уверен, приедет ли Иненю в Каир.
— Не захворает ли Иненю? — спросил иронически Сталин.
— Легко может захворать, — подхватил Черчилль. — Если Иненю не согласится поехать в Каир для встречи со мной и президентом, то я готов поехать к нему на крейсере в Адану. Иненю приедет туда, и я нарисую ему неприятную картину, которая предстанет перед турками, если они не согласятся вступить в войну, и приятную картину в противоположном случае. Я сообщу вам потом о результатах своих бесед с Иненю.
В разговор вновь вмешался Гопкинс. Он сказал, что, поскольку вопрос о поддержке Турции в войне не обсуждался американскими военными, вряд ли целесообразно приглашать Иненю в Каир, пока военные не изучили этот вопрос.
— Следовательно, — перебил его Сталин, — Гопкинс предлагает не приглашать Иненю?
— Я не предлагаю не приглашать Иненю, — возразил Гопкинс, — но подчеркиваю, что предварительно было бы полезно получить сведения о той помощи, которую мы можем оказать туркам.
Черчилль поддержал Гопкинса, заявив, что союзники должны договориться о возможной помощи туркам. На это Рузвельт заметил, что он согласен с предложением Черчилля о предоставлении для целей обороны Турции 20 эскадрилий, а также некоторого количества бомбардировщиков.
— Мы предлагаем Турции, — повторил Черчилль, — ограниченное прикрытие с воздуха и ПВО. Сейчас зима, и вторжение немцев в Турцию невероятно. Мы предполагаем продолжить снабжение Турции вооружением. Турция получает главным образом американское вооружение. Но главное в том, что в настоящее время мы можем предложить Турции неоценимую возможность принять приглашение Советского правительства участвовать в мирной конференции.
На вопрос советского представителя о том, какого вооружения не хватает Турции, английский премьер ответил, что у турок имеются винтовки, неплохая артиллерия, но у них нет противотанковой артиллерии, нет авиации и нет танков. Мы, продолжал Черчилль, организовали в Турции военные школы, но турки их плохо посещают. У них нет опыта в обращении с радиоаппаратурой. Но турки — хорошие бойцы.
— Вполне возможно, что если турки дадут аэродромы союзникам, — как бы размышляя вслух, сказал Сталин, — то Болгария не нападет на Турцию, а немцы будут ждать нападения Турции. Турция не нападет на немцев, а будет с ними находиться просто в состоянии войны. Но зато союзники получат от Турции аэродромы и порты. Если бы события приняли такой оборот, то это было бы тоже неплохо.
— Я говорил туркам, — вставил Иден, — что они могут предоставить авиабазы союзникам не воюя, ибо Германия не нападет на Турцию. Мой турецкий коллега Нуман Менеменджиоглу не хотел согласиться с моей точкой зрения. Он сказал, что Германия будет решительно реагировать и что Турция предпочла бы вступить в войну по своей доброй воле, а не быть в нее втянутой.
— Это правильно, — сказал Черчилль. — Когда вы просите Турцию растянуть свой нейтралитет путем предоставления нам авиабаз, то турки отвечают, что предпочитают серьезную войну, когда же вы говорите туркам о вступлении в серьезную войну, они отвечают, что у них нет для этого вооружения. Если турки ответят нам на наше предложение отрицательно, то мы должны изложить им серьезные соображения. Мы должны им сказать, что они не будут в этом случае участвовать в мирной конференции. Что касается Англии, то мы скажем, что нас не интересуют дела турок. Кроме того, мы прекратим снабжение Турции вооружением.
— Я хочу, — заметил Иден, — уточнить требования, которые мы должны предъявить Турции в Каире. Я понимаю, что мы должны требовать от турок вступления в войну против Германии.
— Именно против Германии, — подтвердил Сталин, делая характерный жест указательным пальцем правой руки…
Турецкий вопрос еще раз вскользь упоминался на дневном пленарном заседании конференции за круглым столом. Черчилль внес предложение о переброске в Черное море нескольких британских подводных лодок в помощь советскому морскому флоту. При этом он заметил, что если Турция побоится вступить в войну, но согласится растянуть свой нейтралитет, то, может быть она позволит пропустить несколько подводных лодок через Босфор и Дарданеллы в Черное море, а также корабли для снабжения этих лодок. Одновременно Черчилль подчеркнул, что Англия не имеет в Черном море ни интересов, ни притязаний.
Сталин довольно сухо ответил, что советская сторона будет благодарна за всякую помощь, но от углубления в эту тему уклонился. Желая закончить дискуссию, он спросил:
— Вопрос исчерпан?
— Да, — ответил Черчилль.
На этом обсуждение турецкой проблемы закончилось.
Через несколько дней турецкий президент Исмет Иненю прилетел в Каир. 4–6 декабря там происходили беседы между ним, Черчиллем и Рузвельтом. Встреча эта не дала практических результатов. Турция продолжала уклоняться от вступления в войну против нацистской Германии и воздерживалась от любых шагов, которые могли бы вызвать неудовольствие Гитлера, Только тогда, когда победа антигитлеровской коалиции отчетливо определилась, в Анкаре решили, что пора действовать.
2 августа 1944 г., то есть спустя почти два месяца после открытия второго фронта в Северной Франции, турецкое правительство заявило о разрыве дипломатических и экономических отношений с Германией. Любопытно, что все это время англичане и американцы, несмотря на данное Черчиллем в Тегеране обязательство прекратить всякие дела с Турцией, если она откажется вступить в войну, продолжали снабжать ее оружием. Были все основания полагать, что Черчилль, который все еще рассчитывал опередить Красную Армию на Балканах, в действительности не очень был заинтересован в «преждевременном» вступлении Турции в войну. Он полагал, что ее миллионная армия сможет пригодиться ему позднее для операций на Балканах.
Но этим планам не суждено было свершиться. Советские войска быстро продвигались на запад, и турецкие политики стали опасаться, что могут прийти к шапочному разбору. 23 февраля 1945 г. Турция наконец объявила войну Германии и Японии. К тому времени уже были освобождены Болгария, Румыния, Югославия, и фронт отодвинулся от турецких границ на тысячу километров. Турецкой армии уже негде было войти в соприкосновение с врагом на европейском театре. Тем более ничего не стоило Турции объявить войну Японии.
Бывший в то время министром иностранных дел Турции Хасан Сака, мотивируя в меджлисе решение своего правительства о вступлении в войну, откровенно заявил, что, как его известил английский посол, объявление Турцией войны до 1 марта 1945 г. позволит турецкому правительству участвовать в Сан-Франциско в первой конференции Объединенных Наций.
Именинный пирог
На торжественный прием, устроенный вечером 30 ноября в английском посольстве по случаю дня рождения Черчилля — ему в этот день исполнилось 69 лет, — гости стали собираться в начале девятого. Сталин был в парадной маршальской форме. Вместе с ним пришли Молотов и Ворошилов. Приветствуя Черчилля, Сталин преподнес ему каракулевую шапку и большую фарфоровую скульптурную группу на сюжет русских народных сказок. Рузвельт явился во фраке. В руках он держал свои именинные подарки: старинную персидскую чашу и исфаганский коврик.
Гости входили через парадную дверь, по обе стороны которой безмолвно застыли бородатые индийские солдаты в огромных тюрбанах.
День был жаркий, но к вечеру из старинного парка потянуло приятной свежестью. К нашему приходу в гостиной уже собралось блестящее общество: военные щеголяли в расшитых золотом мундирах, дипломаты во фраках соперничали с ними яркостью белоснежных манишек. Единственной дамой в этой компании была дочь Черчилля — Сара Черчилль-Оливер. Она стояла рядом с сияющим именинником, и подобно тому как на арене цирка партнерша артиста особенно вдохновенно раскланивается на адресованные ему аплодисменты, так Сара отвечала на приветствия и поздравления, с которыми гости подходили к Черчиллю. Впрочем, и сам виновник торжества весело улыбался и бодро дымил своей сигарой.
Вскоре все перешли из гостиной в столовую, где стояли длинные столы, заставленные всевозможными яствами. На главном столе возвышался огромный именинный пирог с 69 зажженными свечами.
Произнеся первый тост, Сталин сказал:
— За моего боевого друга Черчилля!..
Сталин подошел к имениннику, чокнулся с ним, обнял за плечо, пожал руку. А когда все осушили бокалы, он с теми же словами обратился к президенту Соединенных Штатов:
— За моего боевого друга Рузвельта!..
Повторилась та же процедура чокания и рукопожатий. Черчилль решил не отставать, но несколько дифференцировал свое обращение. Он провозгласил:
— За могущественного Сталина! За моего друга — президента Рузвельта!..
После этого Рузвельт, обращаясь к Черчиллю и Сталину, сказал:
— За наше единство в войне и мире!..
Черчиллю понравился русский обычай произносить тосты, американцы поддержали его в этом. В итоге большую часть времени гости провели стоя, так как тосты следовали один за другим, а после каждой речи все поднимались со своих мест. К тому же Черчилль перенял манеру Сталина подходить к каждому, за кого провозглашался тост, и чокаться с ним. Так оба они с бокалами в руках неторопливо разгуливали по комнате. Настроение у всех было приподнятое. В зале стало жарко и шумно.
В тосты, какими бы тривиальными они ни были, каждый из участников встречи, казалось, вкладывал свой особый смысл.
Так же, как и в рабочем зале конференции, Рузвельт и здесь счел нужным напомнить о послевоенном мире, о важности сохранения единства и сотрудничества великих держав не только сейчас, но и в будущем. Здесь, за именинным столом Черчилля, казалось, что задачи борьбы и победы над общим врагом, которые привели этих людей в разгар жесточайшей войны в иранскую столицу, как бы создали новую атмосферу в отношениях между ними и между их странами. В этом зале как бы собралась одна большая семья, которая всегда будет вместе. Но это ощущение длилось недолго. Его нарушил начальник генерального штаба Англии генерал Алан Брук.
Дав знать, что хочет произнести тост — обычно каждый в таком случае постукивал ножом по бокалу, — Брук поднялся с места и стал рассуждать о том, кто больше из союзников пострадал в этой войне. Он заявил, что наибольшие жертвы понесли англичане, что их потери превышают потери любого другого народа, что Англия дольше и больше, других сражалась и больше сделала для победы.
В зале наступила неловкая тишина. Большинство, конечно, почувствовало бестактность выступления генерала Брука. Ведь все знали — основная масса гитлеровских войск прикована к советско-германскому фронту, а Красная Армия ценой невероятных жертв и усилий шаг за шагом освобождает от оккупантов советскую территорию, превращенную гитлеровцами в сплошное пепелище. Сталин помрачнел. Он тут же поднялся и окинул всех суровым взглядом. Казалось, сейчас разразится буря. Но он, взяв себя в руки, спокойно произнес:
— Я хочу сказать о том, что, по мнению советской стороны, сделали для победы президент Рузвельт и Соединенные Штаты Америки. В этой войне главное — машины. Соединенные Штаты доказали, что они могут производить от 8 до 10 тысяч самолетов в месяц. Англия производит ежемесячно 3 тысячи самолетов, главным образом тяжелых бомбардировщиков. Следовательно, Соединенные Штаты — страна машин. Эти машины, полученные по ленд-лизу, помогают нам выиграть войну. За это я и хочу поднять свой тост…
Рузвельт сразу же ответил:
— Я высоко ценю мощь Красной Армии. Советские войска применяют не только американскую и английскую, но и отличную советскую военную технику. В то время как мы здесь празднуем день рождения британского премьер-министра, Красная Армия продолжает теснить нацистские полчища. За успехи советского оружия!
Инцидент был исчерпан, но царившая в начале вечера атмосфера непринужденности, исчезла.
Польша и ее границы
Проблема Польши была рассмотрена только на последнем пленарном заседании конференции, 1 декабря. Первым эту тему затронул Рузвельт. Он выразил надежду, что Советское правительство сможет начать переговоры и восстановить свои отношения с польским эмигрантским правительством, находившимся в Лондоне.
В то время у Советского. Союза были все основания относиться с недоверием к этому эмигрантскому правительству, поскольку на протяжении ряда лет оно вело антисоветскую кампанию. Именно эта враждебность польского эмигрантского правительства и вынудила Москву разорвать с ним отношения, восстановленные вскоре после нападения гитлеровской Германии на СССР. Поэтому Сталин, отвечая Рузвельту, прежде всего обратил внимание на то, что агенты польского эмигрантского правительства, находящиеся в Польше, связаны с немцами.
— Они убивают партизан, — сказал Сталин. — Вы не можете себе представить, что они там делают.
— Это большой вопрос, — вмешался Черчилль — Мы объявили войну Германии из-за того, что она напала на Польшу. В свое время меня удивило, что Чемберлен не стал вести борьбу за чехов в Мюнхене, но внезапно в апреле 1939 года дал гарантию Польше. Но одновременно я был также и обрадован этим обстоятельством. Ради Польши и во исполнение нашего обещания мы, хотя и не были подготовлены, за исключением наших военно-морских сил, объявили войну Германии и сыграли большую роль в том, чтобы побудить Францию вступить в войну. Франция потерпела крах, но мы благодаря нашему островному положению оказались активными бойцами. Мы придаем большое значение причине, по которой вступили в воину. Я понимаю историческую разницу между нашей и русской точками зрения в отношении Польши. Но у нас Польше уделяется большое внимание, так как нападение на Польшу заставило нас предпринять нынешние усилия…
— Я должен сказать, — ответил Сталин, — что Россия не меньше, а больше других держав, заинтересована в хороших отношениях с Польшей, так как Польша является соседом России. Мы — за восстановление, за усиление Польши. Но мы отделяем Польшу от эмигрантского польского правительства в Лондоне. Мы порвали отношения с этим правительством не из-за каких-либо наших капризов, а потому, что польское правительство присоединилось к Гитлеру в его клевете на Советский Союз. Все это было опубликовано в печати.
Пока переводились последние фразы этого выступления, Сталин раскрыл лежавшую перед ним темно-бордовую сафьяновую папку и извлек оттуда листовку. То был кусок довольно плотной желтой бумаги, изрядно потертый, побывавший, видно, уже во многих руках. На листовке была изображена голова с двумя лицами, наподобие древнеримского бога Януса. С одной стороны был нарисован профиль Гитлера, с другой — Сталина.
Держа высоко над столом листовку, чтобы все могли ее хорошо разглядеть, Сталин сказал:
— Вот что распространяют в Польше агенты эмигрантского правительства. Хотите посмотреть поближе?
С этими словами Сталин передал листовку Черчиллю. Тот взял ее брезгливым жестом, двумя пальцами, поморщился и, ничего не сказав, передал Рузвельту, который пожал плечами, покачал головой и вернул листовку Сталину. Выждав немного, Сталин продолжал:
— Где у нас гарантия в том, что польское эмигрантское правительство не будет и дальше заниматься этим гнусным делом? Мы хотели бы иметь гарантию в том, что агенты польского правительства не будут убивать партизан, что эмигрантское польское правительство будет действительно призывать к борьбе против немцев, а не заниматься какими-то махинациями. Мы будем поддерживать хорошие отношения с правительством, которое призывает к активной борьбе против немцев. Однако я не уверен, что нынешнее эмигрантское правительство в Лондоне является таким, каким оно должно быть. Если оно солидаризируется с партизанами, и если мы будем иметь гарантию, что его агенты не будут иметь связей с немцами в Польше, тогда мы будем готовы начать с ними переговоры.
— Мы полагаем, — сказал Черчилль, — что Польшу следует удовлетворить, несомненно, за счет Германии. Мы были бы готовы сказать полякам, что это хороший план и что лучшего плана они не могут ожидать. После этого мы могли бы поставить вопрос о восстановлении отношений. Но я хотел бы подчеркнуть, что мы хотим существования сильной, независимой Польши, дружественной по отношению к России.
Сталин, в свою очередь, изложил позицию Советского правительства по этому вопросу.
— Речь идет о том, — сказал он, — что украинские земли должны отойти к Украине, а белорусские — к Белоруссии. Иными словами, между нами и Польшей должна существовать граница 1939 года, установленная Конституцией нашей страны. Советское правительство стоит на точке зрения этой границы и считает это правильным.
Л Молотов пояснил, что обычно эту границу называют линией Керзона.
— Нет, — возразил Иден, — там были сделаны существенные изменения.
Молотов заявил, что Иден располагает неправильными сведениями.
Тут Черчилль извлек карту, на которой, как он сказал, нанесена линия Керзона и линия 1939 года. Тут же была указана линия Одера. Иден, водя пальцем по карте, принялся объяснять, что южная часть линии Керзона не была точно определена, и добавил, что, как предполагалось, линия Керзона должна была проходить восточнее Львова.
Сталин возразил, что линия на карте Черчилля нанесена неправильно. Львов должен оставаться в пределах Советского Союза, а линия границы должна идти западнее. Сталин добавил, что Молотов располагает точной картой с линией Керзона и с ее подробным описанием. Он при этом подчеркнул, что Польша должна быть действительно большим, промышленно развитым государством и дружественным по отношению к Советскому Союзу.
Тем временем Молотов распорядился доставить карту, о которой упомянул Сталин. Через несколько минут принесли большую черную папку. Раскрыв ее, Молотов развернул карту на столе и указал на нанесенную там линию Керзона. Молотов зачитал также текст радиограммы, подписанной лордом Керзоном. В ней точно указывались пункты, по которым проходит эта линия. После уточнения этих пунктов по карте вопрос стал предельно ясен. Позицию советской стороны больше нельзя было оспаривать. Черчилль и Иден ничего не могли возразить. Обращаясь к Сталину, Черчилль сказал:
— По-видимому, участники конференции не имеют существенных расхождений по поводу западных границ Советского Союза, включая и проблему Львова…
Рузвельт спросил, можно ли будет осуществить переселение лиц польской национальности по их желанию в Польшу. Сталин ответил утвердительно. После этого Черчилль сказал, что посоветует полякам принять разработанные здесь предложения. Он добавил, что приготовил проект специального документа по польскому вопросу, который он хочет тут же зачитать. Черчилль оговорился, что не просит соглашаться с данным предложением в том виде, в каком оно представлено, поскольку он сам еще не, принял окончательного решения. Затем Черчилль зачитал следующий текст: «В принципе было принято, что очаг польского государства и народа должен быть расположен между так называемой линией Керзона и линией реки Одер, с включением в состав Польши Восточной Пруссии и Оппельнской провинции. Но окончательное проведение границы требует тщательного изучения и возможного расселения населения в некоторых пунктах». Сталин согласился в принципе с формулой, предложенной Черчиллем.
ПРОЕКТЫ ПОСЛЕВОЕННОГО УСТРОЙСТВА МИРА
Англо-американский план расчленения Германии
В Тегеране все понимали, что до того момента, когда с востока, запада, севера и юга войска союзников пересекут германские границы и пойдут на последний штурм общего врага пройдет немало времени. Но то, что этот момент наступит, ни у кого не вызывало сомнения. Все были уверены в конечной победе антигитлеровской коалиции.
Естественно поэтому, что на Тегеранской конференции встал вопрос о том, как следует союзникам поступить с Германией после победы. То, что державы фашистской оси должны безоговорочно капитулировать, не вызывало разногласий: тут царило единодушие. Но надо было думать и о том, что предпринять, чтобы Германия, которая на протяжении жизни одного поколения дважды ввергла человечество в мировую войну, никогда больше не смогла развязать новую агрессию.
Во время пленарного заседания 1 декабря участники кош ренции подняли вопрос о Германии. Рузвельт сказал, что имеется предложение о расчленении Германии и что этот вопрос следует обсудить подробнее.
Вслед за американским президентом слово взял Черчилль, который уже был подготовлен к такой постановке вопроса. Сталин энергично поддержал Рузвельта:
— Я за расчленение Германии. Но я хотел бы обдумать вопрос о расчленении Пруссии. Я также за отделение Баварии и других провинций от Германии.
Предложение Черчилля прозвучало несколько неожиданно и в зале воцарилось молчание. Снова заговорил Рузвельт.
— Чтобы стимулировать нашу дискуссию, — заявил он, — я хотел бы изложить составленный мною лично два месяца назад план расчленения Германии на пять государств.
— Я хотел бы подчеркнуть, — перебил Черчилль, — что корень зла Германии — Пруссия.
Рузвельт одобрительно кивнул и продолжал:
— Желательно, чтобы мы сначала имели перед собой картину в целом, а потом уже говорили об отдельных компонетах. По моему мнению, Пруссия должна быть, по возможности, ослаблена и уменьшена в своих размерах. Она должна составлять первую самостоятельную часть Германии. Во вторую самостоятельную часть должны быть включены Ганновер и северные районы Германии. Третья часть — Саксония и район Данцига. Четвертая часть — Гессенская провинция, Кассель и районы, расположенные к югу от Рейна, а также старые города Вестфалии. Пятая часть — Бавария, Баден, Вюртемберг. Каждая из этих пяти частей будет представлять собой независимое государство. Кроме того, из состава Германии должны быть выделены районы Кильского канала и Гамбурга. Этими районами должны будут управлять Объединенные нации, или четыре державы. Рурская и Саарская области должны быть поставлены под контроль либо Объединенных Наций, либо попечителей всей Европы. Вот мое предложение, а должен предупредить, что оно является лишь ориентировочным…
В обстановке тех дней, когда еще почти вся Европа находилась под фашистской пятой, предложение Рузвельта о расчленении Германии звучало как-то нереально. К тому же сразу возникло сомнение — можно ли в середине XX века заставить немецкий народ примириться с возрождением карликовых государств времен курфюрстов? Не слишком ли смело решил перекроить карту Германии американский президент?
Но Черчилль, этот опытный и хитрый политик, как будто поддерживал идею Рузвельта.
— Вы изложили полный короб всякой всячины, — сказал он, обращаясь к президенту. — Я считаю, что существуют два вопроса: один — разрушительный, а другой — конструктивный. У меня две идеи: первая — это изоляция Пруссии от остальной Германии; вторая — это отделение южных провинций Германии — Баварии, Бадена, Вюртемберга, Палатината,[1] от Саара до Саксонии включительно. Я держал бы Пруссию в жестких условиях. Я считаю, что южные провинции легко оторвать от Пруссии и включить в дунайскую федерацию. Люди, живущие в дунайском бассейне, не являются причиной войны. Во всяком случае, с пруссаками я поступил бы гораздо более сурово, чем с остальными немцами. Южные немцы не начнут новой войны.
Эти рассуждения Черчилля вносили новый элемент в вопросе о судьбе Германии. Выступая за расчленение Германии и подавление Пруссии, он в то же время клонил дело к созданию некоего нового образования, наподобие лоскутной габсбургской монархии. Именно так можно было понять смысл его рассуждений и насчет дунайской федерации. Само собой разумеется, что, мысли британского премьера, такая федерация должна была находиться под контролем западных держав и изолировать Советский Союз от Западной Европы. Этот план явно перекликался с идеей самого Черчилля о высадке англо-американских войск на Балканах с целью «опередить» русских.
Сталин весьма отрицательно воспринял этот план.
— Мне не нравится план новых объединений государств, — сказал он ледяным тоном. — Если будет решено разделить Германию, то не надо создавать новых объединений. Будь то пять, или шесть государств и два района, как предполагает Рузвельт, этот план может быть рассмотрен. Что же касается предложений английской стороны, то надо иметь в виду следующее. Черчиллю скоро придется иметь дело с большими массами немцев, как приходится сейчас нам: Он увидит тогда, что в германской армии сражаются не только пруссаки, но и немцы из остальных провинций Германии. Лишь австрийцы, сдаваясь в плен, кричат: «Я — австриец!» — и наши солдаты их принимают. Что касается немцев из отдельных провинций Германии, то они дерутся с одинаковым ожесточением. Как бы мы ни подходили к вопросу о расчленении Германии, не нужно создавать какого-то нового нежизнеспособного объединения дунайских государств. Венгрия и Австрия должны существовать отдельно друг от друга. Австрия существовала как самостоятельное государство до тех пор, пока она не была захвачена Гитлером.
Рузвельт согласился со Сталиным в том, что между немцами, происходящими из разных германских провинций, не существует разницы. Пятьдесят лет назад эта разница существовала, сказал президент, но сейчас все немецкие солдаты одинаковы.
После этого снова выступил Черчилль.
— Я не хочу, чтобы меня истолковали так, будто бы я не за расчленение Германии, — заявил он. — Но я хотел бы сказать, что, если раздробить Германию на несколько частей и не создать комбинаций из этих частей, тогда, как это говорил маршал Сталин, наступит время, когда немцы объединятся.
— Нет никаких мер, которые могли бы исключить возможность объединения Германии, — возразил глава советской делегации.
— Маршал Сталин предпочитает раздробленную Европу? — язвительно спросил Черчилль.
— Причем здесь Европа? — отпарировал Сталин. — Просто я не знаю, нужно ли создавать четыре, пять или шесть самостоятельных германских государств. Этот вопрос нужно обсудить…
Рузвельт спросил, не следует ли создать для изучения вопроса о Германии специальную комиссию или, быть может, передать этот вопрос в Лондонскую комиссию представителей трех держав. Сталин согласился передать этот вопрос в Лондонскую комиссию.
Послевоенное устройство
Участники тегеранской встречи лишь в общих чертах коснулись проблемы послевоенного устройства мира. Несмотря на противоречивость интересов держав, представленных на конференции, уже на этом этапе войны делались попытки найти общий язык в отношении обеспечения сохранности мира после победы антигитлеровской коалиции. Лидеры западных держав видели, что народы всего мира, прилагавшие титанические усилия для разгрома фашизма, для избавления человечества от угрозы порабощения, кровно заинтересованы в том, чтобы больше никогда не повторилась мировая бойня. Эти настроения широких кругов общественности оказывали сильное давление на лидеров капиталистических государств, воевавших против держав оси. Особенно чувствителен к этому давлению был Рузвельт. Он, несомненно, много думал над будущим устройством мира.
В беседе со Сталиным 29 ноября Рузвельт сказал, что хотел бы обсудить вопрос о будущем устройстве мира до отъезда из Тегерана. По мнению американского президента, следовало создать такую организацию, которая действительно обеспечила бы длительный мир после войны. Встретив положительный отклик с советской стороны, Рузвельт сказал, что, как он себе представляет, после окончания войны должна быть создана всемирная организация, которая будет основана на принципах Объединенных Наций. Эта организация не будет заниматься военными вопросами. Она не должна быть похожа на Лигу наций. В нее войдут 35, а может быть, 50 Объединенных Наций, и она будет лишь давать рекомендации. Никакой другой власти эта организация не должна иметь.
Рузвельт высказал мнение, что такая организация должна заседать не в одном определенном месте, а в разных местах. На вопрос, идет ли речь о европейской или о всемирной организации, президент ответил, что это должна быть всемирная организация.
Сталин спросил, из кого должен состоять исполнительный орган этой организации. Рузвельт ответил, что, как он полагает, исполнительный комитет должен включать Советский Союз, Великобританию, Соединенные Штаты, Китай, две европейские страны, одну южноамериканскую, одну страну Среднего Востока, одну страну Азии (кроме Китая), один британский доминион. Он сказал, что Черчилль не согласен с последним предложением, поскольку в данном случае англичане будут иметь лишь два голоса — от Великобритании и от одного из доминионов. Далее Рузвельт предложил, чтобы исполнительный комитет занимался сельскохозяйственными, продовольственными, экономическими проблемами, а также вопросами здравоохранения.
По мысли Рузвельта, должен также существовать полицейский комитет, состоящий из стран, которые следили бы за сохранением мира и за тем, чтобы не допустить новой агрессии со стороны Германии.
Советская сторона не выдвигала в Тегеране конкретных предложений по вопросам послевоенного устройства. Сталин в беседе с Рузвельтом ограничился тем, что ставил уточняющие вопросы и высказывал лишь самые общие соображения.
Когда Рузвельт упомянул о полицейском комитете, советский представитель поинтересовался, будет ли этот комитет принимать решения, обязательные для других стран?
— Что было бы, если бы какая-то страна отказалась выполнить принятое этим комитетом решение? — поинтересовался Сталин.
— В таком случае Страна, отказавшаяся выполнить решение, была бы лишена возможности в дальнейшем участвовать в решениях этого комитета, — ответил президент.
— Будут ли исполнительный и полицейский комитеты частью общей организации или же это будут самостоятельные органы?
— Это будут три отдельных органа. Общая организация из 35 Объединенных Наций. Исполнительный комитет из 10 или 11 стран. Полицейский комитет из четырех держав. Если возникнет опасность агрессии или же нарушения мира каким-либо иным образом, то необходимо иметь такой орган, который мог бы действовать быстро, так как тогда не будет времени для обсуждения даже в таком органе, как исполнительный комитет.
— Следовательно, — уточнил Сталин, — это будет такой орган, который принуждает.
Не давая прямого ответа, Рузвельт сказал, что он хотел бы привести такой пример: когда в 1935 году Италия без предупреждения напала на Абиссинию, он, Рузвельт, просил Францию и Англию закрыть Суэцкий канал, чтобы не позволить Италии продолжать эту войну. Однако ни Англия, ни Франция ничего не предприняли, а передали этот вопрос на разрешение Лиги наций. Таким образом, Италии была предоставлена возможность продолжать агрессию. Предлагаемый сейчас орган, в который входили бы только четыре державы, будет иметь возможность действовать быстро, и в такого рода ситуациях он мог бы, не мешкая, принять решение о закрытии Суэцкого канала.
На замечание Сталина, что он понимает это, Рузвельт выразил удовлетворение тем, что ему удалось познакомить советского премьера со своими соображениями. Эти наметки, пояснил он, носят общий характер и нуждаются в дальнейшей разработке. Но суть их в том, чтобы избежать ошибок прошлого.
Выслушав американского президента, советский представитель высказал некоторые общие соображения. Он заметил, что, как ему кажется, малые страны Европы будут недовольны такого рода организацией. Может быть, было бы целесообразно создать европейскую организацию, в которую входили бы три страны: Соединенные Штаты, Англия и Россия и, быть может, еще какая-либо из европейских стран. Кроме того, существовала бы вторая организация, например по Дальнему Востоку. Сама схема, предложенная президентом, по мнению советской стороны, хорошая. Но, может быть, следует создать не одну организацию, а две организации: одну — европейскую, а вторую — дальневосточную, или, может быть, всемирную. Таким образом могли бы быть либо европейская и дальневосточная, либо европейская и всемирная организации. Каково мнение президента?
Рузвельт ответил, что это предложение до некоторой степени совпадает с предложением Черчилля. Разница только в том, что Черчилль предложил одну европейскую, одну дальневосточную и одну американскую организации. Но дело в том, что Соединенные Штаты не могут быть членом Европейской организации. Рузвельт пояснил, что нужно только такое огромное потрясение, как нынешняя война, чтобы заставить американцев направить свои войска за океан.
…На замечание Рузвельта об условиях, при которых американское правительство смогло послать войска за океан, Сталин реагировал вопросом:
— В случае создания мировой организации, которую предлагают Соединенные Штаты, придется ли американцам посылать свои войска в Европу?
— Это не обязательно, — ответил Рузвельт. — В случае если бы возникла необходимость применения силы против возможной агрессии, Соединенные Штаты могли бы предоставить свои самолеты и суда, а ввести войска в Европу должны были бы Англия и Россия.
Для применения силы против агрессии, продолжал президент, имеются два метода. Если создастся опасность революции или агрессии, или другого рода опасность нарушения мира, то страна, о которой идет речь, может быть подвергнута карантину, с тем чтобы разгоревшееся там пламя не распространилось на другие территории. Второй метод заключается в том, что четыре нации, составляющие комитет, могут предъявить данной стране ультиматум прекратить действия, угрожающие миру, указав, что в противном случае эта страна подвергнется бомбардировке или даже оккупации.
На этом, собственно, и закончилось обсуждение в Тегеране проблем послевоенного устройства. Этот вопрос в дальнейшем явился предметом переписки между тремя лидерами, а потом уже практически разрабатывался на конференции в Думбартон-Оксе осенью 1944 года.
«Большая тройка» покидает Тегеран
По предварительной договоренности конференция должна была работать на протяжении всего дня 2 декабря. Но снег, внезапно выпавший в горах Хузистана, вызвал резкое ухудшение метеорологических условий и вынудил Рузвельта поторопиться с отлетом. Поздно вечером 1 декабря в спешном порядке была согласована заключительная декларация. Уже не было времени ни начисто перепечатать ее текст на русском и английском языках, ни устроить торжественную церемонию ее подписания. Пришлось собирать подписи под этим важнейшим документом как бы методом «опроса». Каждый из главных участников конференции в отдельности наскоро поставил свою визу. У нас в руках остался изрядно помятый листок с подписями, сделанными карандашом. Внешний вид листка никак не гармонировал с торжественным содержанием этого документа, который вскоре стал известен всему миру как Тегеранская декларация трёх держав. Вот ее текст:
«Мы, Президент Соединенных Штатов, Премьер-Министр Великобритании и Премьер Советского Союза, встречались в течение последних четырех дней в столице нашего союзника — Ирана и сформулировали и подтвердили нашу общую политику.
Мы выражаем нашу решимость в том, что наши страны будут работать совместно как во время войны, так и в последующее мирное время.
Что касается войны, представители наших военных штабов участвовали в наших переговорах за круглым столом, и мы согласовали наши планы уничтожения германских вооруженных сил. Мы пришли к полному соглашению относительно масштаба и сроков операций, которые будут предприняты с востока, запада и юга.
Взаимопонимание, достигнутое нами здесь, гарантирует нам победу.
Что касается мирного времени, то мы уверены, что существующее между нами согласие обеспечит прочный мир. Мы полностью признаем высокую ответственность, лежащую на нас и на всех Объединенных Нациях, за осуществление такого мира, который получит одобрение подавляющей массы народов земного шара и который устранит бедствия и ужасы войны на многие поколения.
Совместно с нашими дипломатическими советниками мы рассмотрели проблемы будущего. Мы будем стремиться к сотрудничеству и активному участию всех стран, больших и малых, народы которых сердцем и разумом посвятили себя, подобно нашим народам, задаче устранения тирании, рабства, угнетения и нетерпимости. Мы будем приветствовать их вступление в мирную семью демократических стран, когда они пожелают это сделать.
Никакая сила в мире не сможет помешать нам уничтожить германские армии на суше, их подводные лодки на море и разрушить их военные заводы с воздуха.
Наше наступление будет беспощадным и нарастающим.
Закончив наши дружественные совещания, мы уверенно ждем того дня, когда все народы мира будут жить свободно, не подвергаясь действию тирании, и в соответствии со своими различными стремлениями и своей совестью.
Мы прибыли сюда с надеждой и решимостью. Мы уезжаем, отсюда действительными друзьями по духу и цели.
Рузвельт Сталин Черчилль Подписано в Тегеране 1 декабря 1943 года».Среди других решений, связанных с ведением войны, была достигнута договоренность об оказании всесторонней помощи югославским партизанам.
Была также согласована Декларация трех держав об Иране, где были гарантированы суверенитет и территориальная неприкосновенность Ирана. Руководители трех держав обязались предоставлять Ирану возможную экономическую помощь как во время войны, так и после ее завершения.
…Я стоял напротив широкого крыльца с белыми колоннами. Вокруг толпились фоторепортеры и кинооператоры. Каждый из них старался протиснуться поближе к ступенькам сквозь кордон советской и американской военной охраны, чтобы не отстать от других, когда появится Рузвельт. Дверь открылась, и на площадке показался президент. Его везли в коляске два филиппинца. Поверх черной накидки, схваченной вверху золотой цепочкой, закрепленной между двумя пряжками в виде львиных голов, на плечи Рузвельта был наброшен клеенчатый плащ защитного цвета. Голову покрывала изрядно помятая старомодная шляпа. Лицо его было таким, каким его привыкли видеть на портретах: пенсне, длинный мундштук с сигаретой в крупных зубах, раскрытых в широкой улыбке. Но на его облике лежала печать усталости. Это неприветливое утро особенно подчеркивало болезненную бледность президента. Почти физически ощущалось, как трудно Рузвельту — тяжелобольному человеку — нести лежащее на нем бремя. Но силы его поддерживались неукротимой волей и внутренней энергией.
К коляске подошли два дюжих американских сержанта, поднесли ее поближе к «виллису» и пересадили Рузвельта на переднее сиденье автомашины. Ноги его накрыли пледом; сверху натянули брезент. Тем временем к группе провожающих присоединились Сталин и Черчилль. Сталин подошел к машине, крепко пожал президенту руку, пожелал ему счастливого пути.
— Я считаю, что мы проделали здесь хорошую работу, — сказал Рузвельт. — Согласованные решения обеспечат нам победу…
— Теперь уже никто не усомнится в том, что победа за нами, — ответил Сталин улыбаясь.
Черчилль также попрощался с Рузвельтом. Шофер включил мотор, и тут же на подножки «виллиса» вскочили четыре детектива. Двое из них, выхватив из-под пиджаков автоматы, легли на передние крылья машины. Все выглядело так, словно машина президента должна прорваться сквозь вражеское окружение: Я впервые видел, как организована охрана американского президента, и мне казалось, что нарочитая демонстрация, которую устраивают детективы, способна лишь привлечь внимание злоумышленников. Но Рузвельт, видимо, считал это близкое к опереточному представление в порядке вещей. Он спокойно улыбался, а когда «виллис» тронулся, поднял правую руку с расставленными указательным и средним пальцами в виде буквы «V» — «виктори» — «победа». Вскоре «виллис» президента исчез за деревьями парка.
Тут же распрощался с советскими делегатами и Черчилль. Он отправился в свое посольство и вскоре выехал на аэродром.
Советская делегация покинула Тегеран в середине дня. На аэродроме нас ожидало несколько двухмоторных пассажирских самолетов. В первой машине отправилась группа военных, во второй улетел Сталин. Мы ждали, пока не поступило сообщение о том, что он благополучно приземлился в Баку. После того, с интервалом в несколько минут, в воздух поднялись остальные машины.
Когда мы вышли из самолета на бакинском аэродроме, Сталин еще находился там. Он стоял перед аэровокзалом уже не в маршальском облачении, а в простой солдатской шинели и в фуражке, без знаков различия. Рядом с ним находился генерал авиации Голованов и еще несколько военных. Вскоре на поле появилась вереница лимузинов. Сталин сел во вторую машину, рядом с шофером. На заднем сиденье поместилась его личная охрана. Все остальные быстро расселись по другим машинам, и кортеж на большой скорости направился в город, к железнодорожному вокзалу. Там стоял специальный поезд из длинных тяжелых салон-вагонов.
На пути в Москву, помнится, была только одна длительная стоянка — в Сталинграде. Мы оставались в поезде. Но Сталин в сопровождении близких к нему лиц совершил поездку по городу. На четвертый день рано утром наш поезд прибыл в Москву. Его подали к пустынному перрону электрички на участке между Белорусским и Савеловским вокзалами. Как только состав остановился, Сталин вышел из вагона, сел в черный лимузин, поданный прямо на перрон, и уехал в Кремль.
Только на следующий день, 1 декабря, в советской печати было опубликовано сообщение о состоявшейся в Тегеране конференции руководителей трех держав и были напечатаны тексты Декларации и других официальных сообщений.
До этого дня никто в Советском Союзе, кроме сравнительно небольшой группы посвященных, не знал о том, что на протяжении четырех дней «большая тройка» совещалась в Тегеране.
РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕГЕРАНСКИХ РЕШЕНИЙ
Встречая сорок четвертый
В последний месяц 1943 года в Москве царила атмосфера приподнятости. Для этого было немало оснований. Возросла уверенность в окончательной победе над врагом. Правда, на разных участках советско-германского фронта, растянувшегося по бескрайним просторам от Ледовитого океана до Черного моря, по-прежнему шли тяжелые бои. Все понимали, какие еще предстоят огромные усилия, прежде чем избавится от захватчиков советская земля и начнется освобождение порабощенных нацистами народов Европы. Однако сознание того, что инициатива в войне прочно перешла к Красной Армии, продолжавшей неотвратимое движение на запад, умножало силы советских воинов и тружеников тыла.
Ободряющие вести шли и с театра военных действий, где сражались наши союзники. Их победы в Италии, у Эль-Аламейна, в районе Туниса и на других фронтах свидетельствовали, что военная фортуна и там отвернулась от гитлеровской Германии и ее сателлитов.
Решения, принятые на только что закончившейся Тегеранской конференции руководителей трех великих держав, продемонстрировали единство союзников, их решимость сократить сроки войны, нанести сокрушительное поражение врагу. Ставшая достоянием широких масс Тегеранская декларация воодушевляла свободолюбивые народы на новые подвиги.
Итоги тегеранской встречи были высоко оценены свободолюбивым человечеством, и прежде всего народами Советского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании. Вернувшись в Москву, глава Советского правительства получил от президента США телеграмму, в которой говорилось: «Я считаю, что конференция была весьма успешной, и я уверен, что она является историческим событием, подтверждающим не только нашу способность совместно вести войну, но также работать для дела грядущего мира в полнейшем согласии». На эту телеграмму И… В. Сталин, ответил 6 декабря. «Согласен с Вами, — писал он, — что Тегеранская конференция прошла с большим успехом и что наши личные встречи имели во многих отношениях весьма важное значение. Надеюсь, что общий враг наших народов — гитлеровская Германия скоро это почувствует. Теперь имеется уверенность, что наши народы будут дружно совместно действовать и в настоящее время и после завершения этой войны».
Результаты Тегеранской конференции можно расценивать как конкретный опыт применения на практике, хотя и в условиях военных действий, принципа сотрудничества государств с различными общественными системами. Москва неизменно подчеркивала важность распространения такого опыта и на послевоенный период. Речь шла, таким образом, о создании условий для возникновения в грядущие мирные годы совершенно нового характера международных отношений, имеющего в своей основе ленинскую идею справедливого, демократического мира, провозглашенную Советской республикой в 1917 году в знаменитом Декрете о мире.
Обстановка того времени не позволила претворить эту идею в жизнь. Теперь после тегеранской встречи, учитывая готовность к этому западных держав, открывалась достаточно реальная возможность положить принцип мирного сосуществования в основу отношений между Советским Союзом и капиталистическими державами — участницами антигитлеровской коалиции.
В этой связи представляет интерес оценка, данная тегеранской встрече президентом Соединенных Штатов в телеграмме, направленной Сталину из Каира еще 3 декабря 1943 г., то есть через два дня после того, как президент США покинул столицу Ирана. «Я рассматриваю эти знаменательные дни нашей встречи с величайшим удовлетворением, как важную веху в прогрессе человечества».
То была не просто дипломатическая вежливость. В своих записках близкий друг президента Гарри Гопкинс, входивший в состав американской делегации на встрече «большой тройки», свидетельствует, что, покидая Тегеран, Рузвельт был твердо уверен в возможности «сотрудничества с Россией в деле поддержания послевоенного мира».
Что касается Черчилля, то он отозвался о тегеранской встрече более сдержанно, хотя в целом и дал ей положительную оценку. В послании Сталину, полученном в Москве 24 января 1944 г., британский премьер отмечал: «Я был весьма ободрен тем ощущением наших хороших отношений, которое я привез с собой из Тегерана».
Сдержанность Черчилля имела свои причины: по многим вопросам, обсуждавшимся в Тегеране, он оказывался в меньшинстве и, отступая шаг за шагом, вынужден был нехотя присоединиться к ряду важных договоренностей, достигнутых Советским Союзом и Соединенными Штатами.
Тегеранская конференция укрепила единство трех держав, приняв согласованное решение по такому важному вопросу, как открытие второго фронта в Западной Европе. Удалось наметить и конкретный срок высадки англо-американских войск в Нормандии. Были также приняты решения по многим проблемам послевоенного устройства и сотрудничества в мирных условиях. Не менее важное значение имели личные контакты высших, руководителей Советского Союза, Соединенных Штатов и Великобритании.
Вместе с тем первая встреча глав трех ведущих держав антигитлеровской коалиции выявила трудности и противоречия, неизбежно присущие военному союзу, в который входили государства с различными социальными системами, с различными мировоззрениями и идеологиями.
В то время как Советский Союз имел главной целью скорейшее уничтожение фашизма, стремился к созданию условий для прочного мира и самостоятельного развития всех народов земного шара, западные участники коалиции преследовали, наряду с задачей разгрома общего врага, также и другие весьма специфические цели. Политику Вашингтона предопределяло стремление к установлению господствующего положения США в мире и к распространению американского влияния на районы, которые слабеющей Великобритании становилось все труднее удерживать. Правящие же круги Англии были озабочены прежде всего тем, чтобы, несмотря на все трудности, сохранить позиции Британской империи. Отсюда вытекало стремление Лондона помешать тенденциям к сближению между СССР и США, поскольку по английской традиции всегда считалась наиболее выгодной ситуация, при которой Британия могла бы балансировать между двумя центрами силы, играя на противоречиях между ними.
Все это, разумеется, не могло не сказаться на работе конференции. Так, при обсуждении проблемы второго фронта Черчилль до последнего момента пытался уклониться от каких-либо конкретных обязательств, в частности от установления твердых сроков высадки англо-американских войск на севере Франции. Он стремился и дальше тянуть время, рассчитывая, что в ходе, кровопролитных боев один на один с гитлеровской Германией Советский Союз ослабнет, и это позволит Англии играть после войны доминирующую роль в Европе. Британский премьер на протяжении трех лет оказывал давление на Рузвельта, который занимал в вопросе о втором фронте более конструктивную позицию. В 1941–1942 годах и вплоть до ноября 1943 года президент Рузвельт не раз уступал натиску Черчилля, в результате чего высадка в Нормандии оттягивалась, а неоднократные обещания западных союзников открыть второй фронт все вновь и вновь нарушались. Однако рузвельтовская концепция распространения сотрудничества с Советским Союзом и на послевоенный период в принципе не исключала и более ранних сроков высадки. В конечном счете в Тегеране Рузвельт счел нужным определить окончательную дату открытия второго фронта, что и было сделано вопреки противодействию Черчилля.
Премьер-министр Англии оказался в изоляции и при обсуждении вопроса о судьбе Польши. Глава американской делегации в целом с пониманием отнесся к стремлению Советского Союза иметь на своей западной границе сильную, демократическую а дружественную Польшу. Он не видел ничего предосудительного в том, чтобы правительство этой страны стремилось к добрососедству с СССР и уж — во всяком случае не состояло из лиц известных своей крайней враждебностью по отношению к Советскому Союзу. Между тем Черчилль носился с идеей воссоздания вокруг СССР так называемого «санитарного кордона», состоящего из стран, враждебных СССР. Такой «санитарный кордон» был создан Антантой в начале 20-х годов с целью изоляции молодого Советского государства. Черчилль всячески пытался навязать польскому народу руководителей из числа реакционных политиков, отсиживавшихся в Лондоне к составлявших так называемое «правительство в изгнании». Британской дипломатии и здесь не удалось добиться своих целей.
Состоявшийся между Рузвельтом и Сталиным обмен мнениями относительно будущего колониальных владений европейских держав, в частности Индокитая и Индии, также встревожил Черчилля. Этот обмен мнениями имел место в отсутствие британского премьера по инициативе Рузвельта, что свидетельствовало о намерении американцев прозондировать почву в этом отношении за спиной английских коллег. Вашингтон явно рассчитывал потеснить Англию и другие метрополии и открыть колониальные территории для американского проникновения путем организации «опеки» над ними. Черчилль, несомненно, получил информацию об этом американском зондаже и счел себя обойденным в столь чувствительном для британских имперских интересов вопросе.
Все эти моменты, в также определенная личная симпатия, которую Рузвельт демонстрировал по отношению к Сталину, вызывали чувство паники у Черчилля, опасавшегося возможных, последствий подобных тенденций для Британской империи. Еп особенно тревожила мысль о сближении между СССР и США и достижении американо-советских договоренностей без участия Англии. Допуская, что несмотря на большие потери и разрушения Советский Союз может выйти из второй мировой войны сильнейшей державой и достигнуть паритета с Соединенными Штатами, Черчилль боялся, что Великобритания, значительно ослабленная, отойдет на задний план. Лидер тори усматривал единственную возможность для возрождения Англии как мировой державы в использовании в своих интересах разногласий между СССР и США. Поэтому его главная забота заключалась в том, чтобы не допустить распространения на послевоенный период.
В период, последовавший за Тегеранской конференцией, такого рода активность правящих кругов Англии неизменно давала себя знать. Эта активность совпадала с усилиями тех элементов Соединенных Штатах, которые упорно выступали против линии президента Рузвельта на продолжение сотрудничества с Советским Союзом в послевоенное время и немало потрудились над тем, чтобы отравить атмосферу советско-американских отношений.
Специфику обстановки, складывавшейся вслед за первой встречей руководителей трех держав антигитлеровской коалиции, важно учитывать при анализе дальнейшего развития отношений внутри коалиции.
Снова в Москве
Вернувшись из Тегерана, мы быстро втянулись в привычный рабочий ритм. Как помощники наркома по иностранным делам в ранге советников мы (В. Н. Павлов и я) получили отдельную комнату рядом с секретариатом В. М. Молотова в кремлевском здании Совнаркома. Чтобы попасть в нее, надо было немного пройти по коридору, высокие окна которого выходили в треугольный внутренний дворик, засыпанный снегом. Его белизна казалась особенно искрящейся после желто-зеленых полутонов поздней иранской осени. Дворик был настолько мал, что на противоположной стороне мы видели сквозь такие же высокие окна склонившихся над полевыми картами офицеров Ставки Верховного Главнокомандующего. Дела на фронте шли успешно, и все поглядывали на офицеров Ставки с симпатией, любопытством и хорошим чувством зависти.
В нашей комнате стояло два стола, несколько стульев, книжный шкаф и два больших еще дореволюционных сейфа работы московских мастеров. Радиоприемники в то время держать дома не разрешалось. С началом войны все сдали их на хранение в соответствующие почтовые отделения и должны были получить обратно, когда наступит мир. Поскольку нам приемник мог быть полезен для работы, Павлов договорился о том, чтобы «теле-Функен», привезенный им в конце 1940 года из Берлина, хранился в Наркоминделе. Теперь он стоял в нашей комнате в Кремле, и мы, слушая передачи Би-Би-Си, имели возможность пополнить запас английских идиоматических выражений и политическую терминологию. Кроме того, Павлов притащил два ог-Рочных тома Вебстера, и в свободные минуты мы их постоянно Штудировали, расширяя словарный запас. Около часа дня бегали пить чай с горячими пирожками в соседнее здание, в столовую курсантов Кремлевского военного училища (сейчас в этом 3Дании помещается Президиум Верховного Совета СССР).
Слушали мы и немецкие передачи. Положение гитлеровцев а Фронте становилось все хуже, но геббельсовская пропаганда оставалась не менее хвастливой. Растущее беспокойство в нацистской верхушке было, однако, заметно по речам фюрера, становившимся все более истеричными.
Работа наша начиналась в десять утра и заканчивалась поздно ночью, в зависимости от того, когда уезжал домой В. М. Молотов. Обеденный перерыв обычно был с пяти до семи вечера, но кто-то из нас по очереди оставался постоянно на месте, поскольку всегда могло возникнуть что-то непредвиденное.
Я по-прежнему вел американскую референтуру и потому больше всего имел дело с С. К. Царапкиным, который в то время занимал в Наркоминделе пост заведующего отделом США. В. Н. Павлов, как и раньше, следил за отношениями с Англией. А поскольку первый заместитель наркома А. Я. Вышинский курировал, наряду с другими, также отделы США и Великобритании, поступавшие от него к наркому бумаги, касающиеся американских и английских дел, обычно проходили через наши руки, и мы обязаны были заботиться о том, чтобы они были надлежащим образом оформлены, снабжены необходимыми справками и другой документацией, которая могла понадобиться В. М. Молотову при решении вопроса или при докладе И. В. Сталину, что обычно делалось, когда речь шла о наиболее важных вопросах. Впрочем, глава Советского правительства уделял в то время первостепенное внимание отношениям с Соединенными Штатами и Великобританией и ему направлялись для сведения экземпляры всех сколько-нибудь существенных документов, касавшихся этих стран.
Обычно пересылавшиеся на визу И. В. Сталину бумаги, прошедшие через наркома иностранных дел, возвращались без каких-либо пометок. Лишь в верхнем левом углу стояли знакомые инициалы, выведенные синим карандашом. Но бывало и так, что в тексте оказывались поправки, замечания, а то и вовсе наискосок, поверх машинописных строчек давалось указание, как следует пересоставить данный документ.
Наши функции в секретариате наркома заключались в том, чтобы срочно переводить на русский язык послания президента США и премьер-министра Великобритании, поступавшие на имя И. В. Сталина, равно как и другие письма, документы, ноты и памятные записки, адресованные лично наркому иностранных дел посольствами США и Англии. Иногда эти документы уже были снабжены русским текстом, сделанным в посольствах, но чаще всего приходили в английском варианте. Во всех случаях мы тут же делали свой перевод и рассылали адресатам поступившую корреспонденцию. Ответы от советских руководителей шли на русском языке, но в отдельных особенно ответственных или срочных случаях мы делали неофициальный перевод, который прилагался для удобства послов союзных держав.
Порой послания приходили с небольшим сопроводительным письмом соответствующего посла. От посла США Аверелла Гарримана такие письма поступали на обычном посольском бланке, напечатанные на машинке. Но британский посол — несколько старомодный дипломат сэр Арчибальд Кларк Керр, впоследствии лорд Инверчепел, — писал их от руки на голубой бумаге с водяными знаками гусиным пером, и Павлову стоило немало труда расшифровывать подобные рукописи.
Помимо того, мы переводили беседы наркома с послами и другими высокопоставленными иностранными посетителями и выполняли функции переводчиков главы Советского правительства, причем когда речь шла о встречах с англичанами, то обычно вызывали Павлова, а когда приходили американцы — меня. Мы также вели протокольные записи и составляли проекты телеграмм о существе бесед для советских послов в Лондоне и Вашингтоне. Иногда нарком посылал нас с тем или иным поручением в соответствующие посольства.
У Аверелла Гарримана
Вскоре после возвращения из Тегерана мне пришлось посетить посла Гарримана с несколько необычной миссией.
Рузвельту очень понравилась фарфоровая скульптура на тему русских сказок, которую Сталин преподнес Черчиллю в иранской столице, когда там отмечался день рождения британского премьера. Видимо, еще тогда Сталин решил подарить нечто похожее и президенту. Вернувшись в Москву он поручил В. С. Кеменову, председателю ВОКСа и знатоку изобразительных искусств, отобрать подходящие работы, которые были показаны Сталину в Кремле. Выбор пал на довольно крупную скульптурную группу. Яркие тона цветного фарфора напоминали работы палехских мастеров. Сталин велел приготовить также свой знаменитый фотопортрет с трубкой, сделав на нем дарственную надпись: «Моему боевому другу — президенту США Рузвельту». Все это — скульптуру и портрет — я должен был передать послу Гарриману для отправки в Вашингтон.
Предварительно созвонившись, я в назначенный час прибыл в резиденцию посла «Спасо-хауз» в районе Арбата. Скульптура, упакованная в картонный ящик, покоилась на заднем сиденье просторного «ЗИС-101». Мы с шофером бережно извлекли ее и внесли в гостиную особняка. Привратник, открывший дверь, следовал за нами с портретом, завернутым в плотную коричневую бумагу. Вскоре ко мне спустился Гарриман. Он пожелал осмотреть подарки, и мы с ним распаковали коробку. Посол был восхищен скульптурой и предложил отметить это событие. Тут же появился с подносом лакей-китаец, приготовил виски со льдом, и мы уселись в мягкие кресла у низенького столика в полукруглой части зала, выходившей на заснеженную лужайку. Гарриман, рассматривая портрет (я тут же перевел ему дарственную надпись), сказал, что президент будет в восторге от этих подарков. Он попросил передать маршалу Сталину сердечную признательность за это проявление дружеских чувств и за столь великодушный отклик на оценку, данную президентом в Тегеране подаркам, преподнесенным там Черчиллю.
Затем Гарриман стал говорить о том, какое большое значение он придает недавней личной встрече маршала Сталина и президента Рузвельта.
— Я уверен, — заявил он, — что решения, принятые в Тегеране, будут не только способствовать успешному ходу военных действий, но и положительно скажутся на послевоенном сотрудничестве между нашими странами.
Вскоре от Рузвельта поступила краткая телеграмма, в которой он благодарил И. В. Сталина за подарки. Одновременно президент США прислал главе Советского правительства свой портрет в тонкой металлической рамке с дарственной надписью.
Несомненно, Гарриман сыграл важную роль в развитии советско-американских отношений, причем не только в годы войны, но и в послевоенный период. Он неизменно выступал за нормализацию и укрепление связей между нашими странами. Те, кто его знает у нас в стране, всегда отдавали ему должное. Такая же репутация у Гарримана и в Соединенных Штатах. Вместе с тем, говоря о Гарримане как о последовательном приверженце мирного советско-американского диалога, не следует упускать из виду, что он — убежденный сторонник американского образа жизни и капиталистического строя, не скрывающий своей антипатии к социализму. Ведь сам он — выходец из богатейшей семьи, всегда преуспевающий и приумножавший свое состояние бизнесмен. Он выступал и выступает за развитие нормальных отношений с Советским Союзом постольку, поскольку считает, что такой курс — в интересах его собственной страны. Но при этом он всегда рассматривал «службу стране», то есть-правящей элите США, к которой он и сам относится, как общественный долг, который следует выполнять во всех случаях.
В недавно выпущенной им книге «Специальный посол к Черчиллю и Сталину. 1941–1946» в главе «Как что-то значить и кем-то стать» Гарриман вспоминает такой эпизод. Будучи сначала республиканцем, он в 1928 году перешел к демократам. После того как в 1933 году, в разгар небывалого экономического кризиса, Франклин Рузвельт стал президентом, Гарриман проявил интерес к «новому курсу» и начал активно его поддерживать. «Как правило, деятели Уолл-стрита, — пишет Гарриман, принадлежавший, впрочем, к этой же касте, — полностью отрицали почти все, что намеревался сделать Рузвельт, и даже не дали бы себе труда отправиться в Вашингтон, чтобы проконсультироваться с правительством относительно мер по восстановлению экономики. Я не мог понять их позиции: ведь страна находилась в ужасном положении». Из-за этого коллеги-бизнесмены подвергли его остракизму. «Когда я шел по Уолл-Стриту, — признает Гарриман, — люди, которых я знал всю свою жизнь, переходили на другую сторону улицы, чтобы не пришлось пожимать мне руку».
Не менее характерен и другой случай. В 1946 году Гарриман занимал пост посла США в Великобритании. В то время в Вашингтоне при правительстве Трумэна уже наметился отход от политики сотрудничества с Советским Союзом и курс на «холодную войну». Против такой тенденции публично выступил министр торговли Генри Уоллес, который в прошлом, при Рузвельте, был вице-президентом США. Трумэн уволил Уоллеса в отставку и тут же позвонил Гарриману в Лондон, предложив ему занять только что освободившееся министерское кресло. Как отмечает сам. Гарриман, он «был рад» принять предложение Трумэна. Это весьма показательно для политической концепции Гарримана: хотя не всегда и не во всем соглашаясь с теми или иными конкретными мероприятиями вашингтонской администрации, он не отмежевывался от нее, пока демократы владели Белым домом.
В последующем мне довелось многократно встречаться с Авереллом Гарриманом. Всякий раз, приезжая в Вашингтон, я приходил для интересной и полезной беседы в расположенный в Джорджтауне особняк из красного кирпича с высокой белоснежной входной дверью, сверкающей бронзовыми ручками. Это вашингтонская резиденция маститого дипломата. Особняк окружен тенистым парком, спускающимся к плавательному бассейну террасами. Мы не раз сидели с ним в плетеных креслах на зеленой лужайке, окаймляющей бассейн, беседуя и о далеком прошлом, и о современных проблемах, и о перспективах на будущее. Свою принципиальную позицию в вопросе о советско-американских отношениях Гарриман излагает следующим образом:
«Оглядываясь на мой почти пятидесятилетний опыт ведения дел с Советским Союзом, я нахожу, что мои основные суждения мало изменились, хотя обстановка претерпела радикальные перемены. Я продолжаю придерживаться мнения, как и в 1945 году, что в идеологической сфере нет перспектив компромисса между Кремлем и нами. Однако мы должны найти пути к урегулированию как можно большего числа конфликтных ситуаций, чтобы жить вместе на этой маленькой планете без войны…»
Мне представлялось важным сделать это небольшое отступление, поскольку оно, как мне кажется, поможет читателю лучше уяснить роль Гарримана в те годы, о которых идет речь в данной книге. Убеждения Гарримана как защитника интересов своего класса, господствующей в Соединенных Штатах общественной формации и интересов страны, как он их понимал, нельзя не учитывать, знакомясь с его практическими действиями, его оценками конкретных ситуаций важнейших событий второй мировой войны.
Вместе с тем свидетельства Гарримана как непосредственного участника многих исторических событий представляют большой интерес, особенно в той части, которая касается советско-американских отношений. Гарриман проявлял интерес к нашей стране на протяжении многих лет. Впервые он попалена русскую землю еще восьмилетним мальчиком во время одного из больших путешествий, в которое родители взяли его с собой. Семья Гарриманов высадилась тогда ненадолго на западном берегу Берингова пролива. Когда впоследствии Гарриман рассказал в Кремле об этом приключении, добавив, что ни у кого из них не было визы, Сталин заметил:
— Теперь бы Вам это не удалось…
После Октябрьской революции Гарриман решил завязать деловые связи с Советской Россией. В период нэпа его семья получила концессию «Грузинский марганец» в Чиатуре, и Гарриман неоднократно бывал в Москве и на Кавказе по делам своей концессии, встречался со многими советскими руководителями.
Не лишена интереса оценка, которую в своей последней книге дает Гарриман И. В. Сталину как государственному деятелю и дипломату. Не упуская, разумеется, случая подчеркнуть известные отрицательные стороны его характера, Гарриман вместе с тем признает его «глубокие знания, фантастическую способность вникать в детали, живость ума и поразительно тонкое понимание человеческого характера… Я нашел, что он лучше информирован, чем Рузвельт, более реалистичен, чем Черчилль, и в определенном смысле наиболее эффективный из военных лидеров».
Назначение Эйзенхауэра
Уже в декабре 1943 года союзники предприняли некоторые практические шаги по претворению в жизнь тегеранских решений.
7 декабря Аверелл Гарриман посетил В. М. Молотова, чтобы передать срочное послание президента Рузвельта. Гарримана сопровождал Ч. Болен в качестве переводчика, а я выполнял ту же функцию с советской стороны. Телеграмма президента была краткой, но содержала важное сообщение. В ней говорилось, что «решено немедленно назначить генерала Эйзенхауэра командующим операциями по форсированию Канала».
Послу хотелось поскорее узнать реакцию Сталина, тем более что у американцев сложилось впечатление, что в Москве отдавали предпочтение генералу Маршаллу, которого Сталин знал лично. Когда Молотов ознакомился с содержанием телеграммы, Гарриман спросил:
— Как скоро можно рассчитывать на получение мнения маршала Сталина по этому поводу?
— Я сейчас же ему позвоню, — с готовностью ответил Молотов.
Он встал из-за длинного стола, за которым все мы сидели, подошел к телефонному столику, немного постоял перед зеленым аппаратом, непосредственно связанным с кабинетом Сталина, набрал номер.
— Н… н… не оторвал? — он заикался больше обычного, когда бывал взволнован, а разговор со Сталиным всегда вызывал эмоции, хотя оба они близко знали друг друга не один десяток лет. — Господин Гарриман сейчас у меня, он доставил адресованное Вам послание президента. Командующим операциями по высадке в Северной Франции назначен генерал Эйзенхауэр…
Он плотно прижал трубку, слушая Сталина.
— Ясно, — сказал Молотов, подождал, пока на другом конце провода щелкнул рычаг и, осторожно положив трубку, вернулся к длинному столу.
— Маршал Сталин, — обратился он к американскому послу, — удовлетворен этим решением. Он считает Эйзенхауэра опытным генералом, особенно хорошо знающим вопросы управления крупными силами при десантных операциях.
Гарриман остался доволен. Ему вообще, видимо, было приятно сообщить о назначении командующего, что после неоднократных оттяжек в прошлом подтверждало, наконец, серьезность намерений западных союзников в отношении открытия второго фронта.
Когда этот вопрос обсуждался в Тегеране и представители Англии и США уверяли, что подготовка к высадке идет полным ходом, Сталин неожиданно спросил, назначен ли уже командующий этой операцией. Оказалось, что не назначен.
7 декабря в Кремле было получено еще одно секретное послание, подписанное Рузвельтом и Черчиллем. Оно касалось ряда мер, связанных с подготовкой англо-американской операции в Западной Европе, а также других операций против гитлеровской Германии. В целях дезорганизации германской военной, экономической и промышленной системы, говорилось в послании, уничтожения германских военно-воздушных сил и подготовки к операции по форсированию Ла-Манша наибольший стратегический приоритет будет предоставлен бомбардировочному наступлению против Германии. В послании указывалось далее, что в соответствии с тегеранской договоренностью размеры операций, планируемых в Бенгальском заливе на март, были сокращены, чтобы дать возможность усилить десантные средства для операций в Северной Франции. Сообщалось также о намерении расширить производство десантных средств в Соединенных Штатах Америки и Великобритании с тем, чтобы усилить предстоящую операцию.
С советской стороны была выражена благодарность за эту информацию. И. В. Сталин написал Рузвельту, что он приветствует назначение генерала Эйзенхауэра и желает ему «успеха в деле подготовки и осуществления предстоящих решающих операций».
Итак, западные союзники наконец-то взялись всерьез за подготовку вторжения в Северную Францию.
Что касается Советского Союза, то он продолжал вносить свой вклад в реализацию тегеранских решений практическими делами на фронте. Несмотря на ожесточенное сопротивление гитлеровцев, советские войска неуклонно продвигались на запад, очищая от захватчиков все новые территории и неотвратимо приближаясь к государственной границе нашей Родины. Особенно успешно шли операции на Украине и на северо-западных участках фронта.
Победы Красной Армии находили признание западных союзников. В совместном послании главе Советского правительства от 18 апреля 1944 г. Рузвельт и Черчилль отмечали: «Со времени Тегерана ваши армии одержали ряд замечательных побед для общего дела. Даже в тот месяц, когда Вы думали, что они не будут действовать активно, они одержали эти великие победы. Мы шлем Вам наши самые лучшие пожелания и верим, что ваши и наши армии, действуя единодушно в соответствии с нашим тегеранским соглашением, сокрушат гитлеровцев». В этом же послании руководители США и Англии сообщали, что согласно тегеранской договоренности «переправа через море» произойдет в условленное время и будет предпринята «максимальными силами». Одновременно намечалось «наступление максимальными силами на материке Италии».
На это сообщение глава Советского правительства ответил 22 апреля телеграммой, направленной одновременно в Вашингтон и Лондон. В ней говорилось: «Советское Правительство удовлетворено Вашим сообщением, что в соответствии с тегеранским соглашением переправа через море произойдет в намеченный срок… и что Вы будете действовать максимальными силами. Выражаю уверенность в успехе намеченной операции. Я надеюсь также на успешность предпринимаемой Вами операции в Италии.
Как мы договорились в Тегеране, Красная Армия предпримет к тому же сроку свое новое наступление, чтобы оказать максимальную поддержку англо-американским операциям».
Таким образом, выполнению тегеранских решений был дан неплохой старт. Но имели место и серьезные трудности, вызванные в немалой степени закулисными маневрами лондонских политиков. Британский премьер, нехотя согласившись с тегеранскими решениями, в последовавшие за встречей «большой тройки» месяцы не переставал интриговать, пытаясь затруднить реализацию достигнутых договоренностей, а то и вообще уклониться от их выполнения. Даже по такому кардинальному вопросу, как дата открытия второго фронта, по которому, казалось бы, западные союзники полностью исчерпали все предлоги для оттяжек, Черчилль, покинув Тегеран, не постеснялся затеять сомнительную возню.
Закулисные маневры Черчилля
По пути из Тегерана домой, будучи в Каире, Черчилль заболел воспалением легких и несколько недель пролежал в постели. Затем его переправили в Маракеш для дальнейшего выздоровления. Но и прикованный к постели, премьер-министр не ослабил своих усилий по саботажу только что принятых тремя лидерами совместных решений. Впоследствии в своих мемуарах Черчилль отмечал, что, несмотря на достигнутую договоренность об открытии второго фронта в Северной Франции, он был по-прежнему «гораздо более склонен» к альтернативе, заключающейся в продвижении «вначале от Италии, через Истрию и Триест, с конечной целью достижения Вены через Люблянский проход». Иными словами, даже в декабре 1943 года Черчилль все еще не отказался от планов выйти через Австрию и Балканы в Юго-Восточную Европу наперерез советским армиям. Он надеялся, что гитлеровцы дадут себя вытеснить из этого региона и, оставаясь непотревоженными в Западной Европе, смогут бросить все силы против наступающей Красной Армии.
Тогда же Черчилль прикидывал различные варианты политических последствий того или иного образа действий западных союзников. И делал это так, будто никаких взаимных обязательств — причем вполне конкретных — и вовсе не существовало в природе.
Свои мысли на этот счет он сформулировал несколько витиевато: «Политические аспекты казались более отдаленными и противоречивыми. Само собой разумеется, они зависели от результатов тех великих битв, которые еще предстояли, а также от настроений и решений каждого из союзников после завоевания победы. Было бы неправильным, если бы западные демократии уже в Тегеране строили свои планы на подозрениях относительно позиции русских в час триумфа». Итак, не в Тегеране. Ну а что же потом, позднее?
Даже на этой стадии межсоюзнических отношений Черчилль, за неимением конкретных поводов для претензий по отношению к Советскому Союзу, по-прежнему руководствовался своей давнишней неприязнью к нашей стране. Он обратился к Рузвельту с предложениями, выполнение которых неизбежно привело бы к срыву англо-американской высадки в Северной Франции.
Еще из Каира Черчилль послал президенту телеграмму, в которой предлагал отложить на три или четыре недели операцию «Оверлорд» (кодовое обозначение операции по высадке в Северной Франции) с тем, чтобы использовать десантные средства в районе Эгейского моря и острова Родос с целью продвижения, на Балканы. Черчилль с нетерпением ждал ответа Рузвельта. Только в Маракеше 28 декабря он получил от него телеграмму, в которой подчеркивалось: «Ввиду советско-британско-американского соглашения, достигнутого в Тегеране, я не могу дать согласия, без санкции Сталина, на какое-либо использование сил или оборудования где-либо в другом месте, ибо это может задержать или нанести ущерб операциям „Оверлорд“ или „Энвил“».
Позиция Вашингтона, надо полагать, не очень-то устраивала Черчилля. Президент твердо стоял на достигнутой в Тегеране договоренности относительно сроков вторжения. И все же британский премьер кое-что получил. Американцы согласились задержать значительное число десантных судов в Средиземноморье. Это открывало возможность для развертывания операций в Эгейском море.
На следующий день, 29 декабря, Черчилль отправил начальникам своего штаба следующее послание, составленное с иезуитской хитростью:
«Я веду борьбу по этой проблеме (о дате „Оверлорда“. — В. Б.) целиком на базе Тегерана. Это решение предполагает скорее 20 мая, чем 5 мая, что, по сути, является новой датой. Наша договоренность со Сталиным будет выполнена во всяком случае, даже при оттяжке до 31 мая. Из того, что я слышал от Эйзенхауэра, мне представляется, что 3 июня, которое соответствует фазе Луны, было бы вполне возможным, особенно если об этом будут просить командующие, назначенные теперь для выполнения данной операции. Нет необходимости обсуждать сейчас этот вопрос, но это надо иметь в виду. Представьте мне альтернативные планы подготовки, соответственно, к 5 мая и к 3 июня. Я повторяю, что это не рассматривается как вопрос, подлежащий дискуссии в смысле оттяжки, и все это не должно выходить за рамки нашего круга».
В тот же день Черчилль получил от начальников штабов то, что хотел:
«Для выполнения условий плана, подготовленного нынешними командующими „Оверлорда“, вторжение должно произойти около 5 мая, — указывали авторы послания. — Однако эта дата не может рассматриваться как окончательная. Даже если возникнут задержки в прибытии десантных судов, это не должно исключать какую-то другую дату в мае для проведения „Оверлорда“… Но программа действительно очень уплотненная. Представляется, что не будет никакого нарушения соглашения, достигнутого в Тегеране, и мы не думаем, что на нынешней стадии необходимо консультироваться с русскими».
По существу, речь шла, как видим, о дальнейшей отсрочке второго фронта. Однако Черчилль хотел провести это явочным порядком, ни о чем не ставя в известность Москву и лишь для отвода глаз консультируясь с Вашингтоном. Он задумал поставить союзников перед свершившимся фактом. Втянув в свою игру британских генштабистов, он уже предвкушал удачу.
16 апреля, когда согласованная в Тегеране дата высадки в Нормандии была совсем близка, премьер-министр призвал генерала Маршалла форсировать наступление в Италии, не беспокоясь о подготовке «Оверлорда» и «Энвила». Черчилль патетически восклицал, что это наступление должно вестись таким образом, чтобы «вложить в него все сердце» и сделать его «либо всеобщей победой, либо гибелью». В тот период Черчилль неоднократно жаловался на неуместное сопротивление гитлеровцев наступающим на Рим англо-американским войскам. Он, видимо, исходил из того, что германское командование должно было бы «позволить» западным союзникам продвигаться в Италии гораздо быстрее, чтобы их наступление в дальнейшем охватило бы также и Балканы, причем до прихода туда советских войск.
«Вполне может быть, — записал Черчилль в дневнике, — что к 31 мая мы увидим многое из того, что пока скрыто от нас. Я был бы очень огорчен, если бы мы упустили этот шанс».
Однако времени для такого «шанса» уже не оставалось. Советские войска стремительно продвигались вперед. На юге были освобождены Севастополь и Одесса, Красная Армия выходила на границу с Румынией, приближаясь к Германии. Все более вырисовывалась перспектива, при которой советские войска могли первыми вступить на ее территорию. Западные державы не решались рисковать и должны были, наконец, предпринять более активные действия в Западной Европе. Иначе они могли не поспеть к приближавшемуся моменту крушения гитлеровского рейха. Лондону и Вашингтону пришлось вплотную заняться подготовкой вторжения. 14 мая Рузвельт и Черчилль сообщили Сталину: «Чтобы придать максимальную силу наступлению через море против Северной Франции, мы перевели часть наших десантных средств со Средиземного моря в Англию… Чтобы отвлечь наибольшее количество германских сил от Северной Франции и восточного фронта, мы немедленно предпринимаем в максимальном масштабе наступление против немцев в Италии и одновременно поддерживаем угрозу в отношении средиземноморского побережья Франции».
С советской стороны также принимались меры к подготовке очередного наступления против гитлеровских войск. 26 мая глава Советского правительства информировал премьер-министра Великобритании о том, что советское командование усиленно ведет подготовку к новым крупным операциям.
В начале июня англо-американские войска вступили в Рим. 6 июня началось осуществление долгожданного «Оверлорда». Утром того же дня Черчилль, понимая, что в данный момент ничего не может уже предпринять для саботажа этой операции, писал Сталину:
«Все началось хорошо. Мины, препятствия и береговые батареи в значительной степени преодолены. Воздушные десанты были весьма успешными и были предприняты в крупном масштабе. Высадка пехоты развертывается быстро, и большое количество танков и самоходных орудий уже на берегу.
Виды на погоду сносные, с тенденцией на улучшение».
Сталин сразу же ответил:
«Ваше сообщение об успехе начала операции „Оверлорд“ получил. Оно радует всех нас и обнадеживает относительно дальнейших успехов.
Летнее наступление советских войск, организованное согласно уговору на Тегеранской конференции, начнется к середине июня на одном из важных участков фронта… Обязуюсь своевременно информировать Вас о ходе наступательных операций».
Итак, второй фронт в Западной Европе наконец появился. Одно из важнейших совместно принятых тремя державами антигитлеровской коалиции решений оказалось выполненным практически в намеченный срок. Это вселяло уверенность в скорое окончание войны и в то же время разбивало расчеты тех, кто ориентировался на затяжку военных действий, на истощение Советского Союза в единоборстве с фашистской осью. Кошмар большой войны на два фронта стал для гитлеровской Германии реальностью. Померкли и расчеты Черчилля на осуществление «балканского варианта». Ему пришлось отступить, но с еще большим рвением принялся он за саботаж других тегеранских решений.
Вопрос об итальянском флоте
В своих мемуарах Черчилль отмечает, что после тегеранской встречи его крайне беспокоил вопрос о разделе итальянского флота. Когда эта проблема обсуждалась на встрече «большой тройки», имелось общее понимание того, что захваченный англо-американцами итальянский флот подлежит разделу между тремя державами, причем Рузвельт в одной из бесед со Сталиным заметил, что Советский Союз может рассчитывать на одну треть этих судов. Была также достигнута договоренность, что передача судов советской стороне произойдет не позднее конца января 1944 года. Если Турция откажется пропустить трофейные итальянские корабли в Черное море, их доставят в советские северные порты.
Черчилль в своем обычном образном стиле лишь заметил, что «вопрос этот деликатный, и тут нужно действовать так, как кошка ведет себя в отношении мыши». Задержавшись из-за болезни в Каире, Черчилль размышлял о том, как бы дать делу задний ход и вообще отказаться под благовидным предлогом от выполнения достигнутой договоренности. Основную сложность он видел в брошенном Рузвельтом замечании относительно «одной трети».
Впервые вопрос о передаче СССР части итальянских судов, был поднят на Московской конференции трех министров иностранных дел в октябре 1943 года, Речь конкретно шла об одном линкоре, одном крейсере, восьми миноносцах и четырех подводных лодках, а также о торговых судах общим водоизмещением 40 тыс. т. Между тем «одна треть» составляла гораздо большее количество. Это особенно раздражало Черчилля.
В телеграмме от 8 января 1944 г. президент Рузвельт сообщил британскому премьеру, что его намерение по-прежнему заключается в том, чтобы передать Советскому Союзу одну треть захваченных итальянских судов, и что он поручил послу США в Москве Гарриману обсудить с советскими представителями вопрос о передаче этих судов СССР. В той же телеграмме президент информировал британского премьера, что Гарриман советует не спешить с этим делом, поскольку русские до сих пор претендовали не на одну треть, а на меньшее число судов. Гарриман ссылался на то, что замечание Рузвельта об одной трети официально не запротоколировано. Следовательно, о нем можно не упоминать, и тогда не возникнет вопрос о передаче русским дополнительного тоннажа. Рузвельт указывал далее в своей телеграмме, что «Гарриман подчеркивает большую важность выполнения нашего обязательства по передаче судов. Если мы не сделаем этого или допустим большую задержку, то, по его мнению, это лишь вызовет подозрение Сталина и его коллег относительно решимости выполнять и другие обязательства, принятые в Тегеране».
Вместе с тем в телеграмме президента указывалось, что начальники англо-американского объединенного штаба выдвинули ряд возражений против передачи судов, ссылаясь на возможный отрицательный эффект этого шага на предстоящие военные операции. Они опасаются, указывал Рузвельт, что могут лишиться сотрудничества итальянского военно-морского флота, в боевых действиях, и не исключают диверсий или саботажа на судах, которые могут быть полезны для «Энвила» и «Оверлорда». «Не полагаете ли Вы, — спрашивал президент своего английского коллегу, — что было бы разумно изложить дяде Джо возможные последствия всего этого для „Оверлорда“ и „Энвила“ и предложить отсрочить передачу ему итальянских судов до тех пор, пока не начнется „Оверлорд“ — „Энвил“?.. Совершенно невозможно любому из нас действовать в этом вопросе в одиночку, но, я думаю, Вы согласитесь, что мы не должны отказываться от того, что мы обещали дяде Джо».
Черчилль отмечает в своих мемуарах, что он не вполне понял это послание из-за его двусмысленности. Однако нетрудно догадаться, что инициатива Рузвельта была весьма близка к ходу мыслей британского премьера. Он поспешил согласиться с тем, что речь должна идти лишь о тех судах, о которых говорилось на Московской конференции, но ни в коем случае не об «одной трети».
В течение некоторого времени Лондон и Вашингтон обменивались соображениями по этому вопросу. Наконец они пришли к общему мнению, которое было отражено в послании Рузвельта и Черчилля, адресованном главе Советского правительства и полученном в Москве 23 января 1944 г. Оба лидера указывали, что в отношении передачи Советскому Союзу итальянских судов, о чем Советское правительство ставило вопрос на Московской конференции и о чем была достигнута договоренность в Тегеране, возникли осложнения. От англо-американского объединенного штаба поступил меморандум, в котором изложены важные соображения, побудившие правительства США и Англии прийти к выводу, что «было бы опасно, с точки зрения интересов нас троих, в настоящее время производить какую-либо передачу судов или говорить что-либо об этом итальянцам, пока их сотрудничество имеет оперативное значение».
Далее следовала вежливая оговорка, что если советская сторона все же пожелает, чтобы западные союзники действовали в намеченном ранее направлении, то США и Англия поведут, разумеется, конфиденциальные переговоры с итальянскими властями «о тех мероприятиях, которые были бы необходимы». «Однако, — продолжали авторы послания, — мы весьма отчетливо сознаем опасность вышеуказанного образа действий по соображениям, которые мы Вам изложили, и мы поэтому решили предложить следующую альтернативу, которая с военной точки зрения обладает многими преимуществами».
Альтернатива заключалась в том, что западные союзники предлагали передать временно взаймы Советскому Союзу недавно переоборудованный в США британский крейсер «Ройял Соврин» и один американский легкий крейсер. Эти суда плавали бы под советским флагом до тех пор, «пока без ущерба для военных операций не смогут быть предоставлены итальянские суда». Кроме того, правительства Англии и США давали обязательство предоставить, каждое в отдельности, торговые суда общим водоизмещением 20 тыс. т., «которые будут переданы в возможно скором времени и на тот срок, пока нельзя будет получить итальянские торговые суда без ущерба для намеченных важных операций „Оверлорд“ и „Энвил“».
В заключение в послании говорилось: «Эта альтернатива обладает тем преимуществом, что Советское Правительство смогло бы использовать суда гораздо раньше, чем в том случае, если бы их все пришлось переоборудовать и приспосабливать к северным водам. Таким образом, если наши усилия в отношении турок приняли бы благоприятный оборот и Проливы стали бы открытыми, эти суда были бы готовы для операций на Черном море. Мы надеемся, что Вы весьма тщательно рассмотрите эту альтернативу, которая, по нашему мнению, во всех отношениях превосходит первое предложение».
Это обращение нельзя было расценить иначе, как попытку ревизовать договоренность, достигнутую всего лишь два месяца назад в Тегеране. Ведь те обстоятельства, на которые теперь ссылались руководители Англии и США, не возникли внезапно. Их можно и должно было предвидеть, причем эти аспекты никого не смущали, когда принималось решение. В данном случае верх взяли соображения другого порядка. В Лондоне и Вашингтоне взвешивалась степень выгоды для западных держав усиления военной мощи СССР. Определенные влиятельные круги этих стран, видимо, считали, что, во всяком случае, с этим спешить не стоит. Имело, надо полагать, значение и то, что в состав итальянского флота входили новые, весьма современные суда, которые англичане и американцы хотели оставить в своем распоряжении. Советской же стороне предлагались более старые. Показательно также, как видно из приведенного выше послания, что руководители Англии и США проявили странную забывчивость, даже не упомянув об эсминцах и подводных лодках. Все это, естественно, не могло не вызвать удивления в Москве. «Должен сказать, — писал Сталин в ответном послании Черчиллю и Рузвельту от 29 января, — что после Вашего совместного положительного ответа в Тегеране на поставленный мною вопрос о передаче Советскому Союзу итальянских судов до конца января 1944 года я считал этот вопрос решенным и у меня не возникало мысли о возможности какого-либо пересмотра этого принятого и согласованного между нами троими решения. Тем более, что, как мы тогда уговорились, в течение декабря и января этот вопрос должен был быть полностью урегулирован и с итальянцами. Теперь я вижу, что это не так и что с итальянцами даже не говорилось ничего по этому поводу». Было очевидно, что в создавшейся ситуации имело мало смысла настаивать на точном выполнении согласованного в Тегеране решения. Из сообщения западных лидеров вытекало, что в таком случае они затеят длительные переговоры с маршалом Бадольо, который в свою очередь станет «договариваться» с итальянскими военно-морскими силами. Все это предвещало многомесячную оттяжку передачи обещанных судов. Поэтому Советское правительство согласилось принять для временного пользования британский линкор и американский крейсер, а также суда торгового флота по 20 тыс. т от Англии и США. Причем с советской стороны подчеркивалась важность того, чтобы в этом деле не было проволочки и чтобы все указанные суда были переданы Советскому Союзу в течение февраля. Далее И. В. Сталин обратил внимание на следующее: «В Вашем ответе, однако, — писал он, — ничего не говорится о передаче Советскому Союзу восьми итальянских эскадренных миноносцев и четырех подводных лодок, на передачу которых Советскому Союзу еще в конце января Вы, г. Премьер-Министр, и Вы, г. Президент, дали согласие в Тегеране».
Подчеркнув, что этот вопрос является главным, поскольку без сопровождения упомянутых судов крейсер и линкор бессильны, глава Советского правительства напомнил, что в распоряжении США и Англии находится весь военно-морской флот Италии, в связи с чем выполнение принятого решения о передаче в пользование Советскому Союзу восьми миноносцев и четырех подводных лодок из этого флота не должно представлять затруднений. «Я согласен и с тем, — продолжил И. В. Сталин, — чтобы вместо итальянских миноносцев и подводных лодок Советскому Союзу было передано в наше пользование такое же количество американских или английских миноносцев и подводных лодок». При этом обращалось внимание на то, что вопрос о передаче этих судов не может быть отложен, а должен быть решен одновременно с передачей линкора и крейсера, как это и было договорено в Тегеране.
Решительный тон ответа Советского правительства отрезвляюще подействовал на Лондон и Вашингтон. Черчилль и Рузвельт в очередном послании, полученном в Москве 24 февраля, заявили, что «не имеется и мысли» о том, чтобы не осуществлять передачи, о которой было достигнуто соглашение в Тегеране. Они, мол, лишь хотели сделать это, «не подвергая риску успех „Энвила“ и „Оверлорда“». Они также обещали, что «будут немедленно приложены усилия к тому, чтобы предоставить из состава британского флота восемь эскадренных миноносцев», и заявили, что «Великобритания также предоставит во временное пользование четыре подводные лодки».
Передавая в Кремле И. В. Сталину одно из посланий по этому вопросу, британский посол Кларк Керр предупредил, что все эсминцы, передаваемые Англией, старые. В связи с этим Сталин написал Рузвельту и Черчиллю 26 февраля, что у него имеется «некоторое опасение относительно боевых качеств этих эсминцев. Между тем мне кажется, что для английского и американского флотов не может представлять затруднений выделить в числе восьми эсминцев хотя бы половину эсминцев современных, а не старых… В результате военных действий со стороны Германии и Италии у нас погибла значительная часть наших эсминцев. Поэтому для нас имеет большое значение хотя бы частичное восполнение этих потерь».
Но в Лондоне и Вашингтоне отказались пересмотреть свое решение, хотя оно, помимо всего прочего, явно выглядело как недружественный жест по отношению к советскому союзнику. 9 марта в Москве было получено совместное послание Черчилля и Рузвельта на имя Сталина, в котором говорилось: «Хотя Премьер-Министр поручил Послу Кларку Керру сообщить Вам, что эскадренные миноносцы, которые мы передаем Вам взаймы, старые, это было сделано лишь ради полной откровенности. В действительности они являются хорошими, исправными судами, вполне пригодными для несения эскортной службы». Далее следовали объяснения, что во всем военно-морском итальянском флоте, дескать, имеется лишь семь эскадренных миноносцев, к тому же непригодных для использования на Севере, что британский флот несет большие потери, что предстоят ответственные десантные операции при «Оверлорде» и т. д. А посему премьер-министр «сожалеет, что он не может в настоящее время выделить каких-либо новых эскадренных миноносцев».
Словом, прошел январь, прошел февраль, наступил март, а по поводу передачи судов все еще продолжалась переписка. Западные союзники, как видно, не торопились выполнять взятые ими на себя в Тегеране обязательства. Они сделали это нехотя, под нажимом и со значительным опозданием.
Полемика о Польше
В Тегеране была достигнута принципиальная договоренность о послевоенных границах Польши. Представители западных держав заявляли также, что они с пониманием относятся к стремлению Советского Союза иметь своим соседом дружественное, демократическое и сильное польское государство. Не кто иной, как Черчилль, представил на одобрение других участников переговоров документ, который гласил:
«В принципе было принято, что очаг польского государства и народа должен быть расположен между так называемой линией Керзона и линией реки Одер, с включением в состав Польши Восточной Пруссии и Оппельнской провинции».
Это была одна сторона дела. В то же время и в Лондоне и в Вашингтоне вынашивались другие планы в отношении возможной роли Польши. Причем особое значение придавалось проблеме границ этой страны и составу правительства, которое должно было обосноваться в Варшаве после освобождения Польши от гитлеровских оккупантов. По мере дальнейшего продвижения советских армий на запад все быстрее приближался момент вступления их на польскую территорию. Руководители Англии и США отдавали себе отчет в том, что Советский Союз не может допустить, чтобы к власти в Польше пришло правительство, открыто демонстрирующее свою враждебность к СССР. С другой стороны, западные державы вовсе не были заинтересованы в том, чтобы между СССР и Польшей установились подлинно дружеские, добрососедские отношения. Поэтому английская и американская дипломатия принялась разрабатывать сложные комбинации, вокруг которых возникла весьма острая полемика, нашедшая отражение в переписке между лидерами трех держав в месяцы, последовавшие за тегеранской встречей.
Принципиальные позиции сторон были изложены в пространном послании Черчилля главе Советского правительства, полученном в Москве 1 февраля 1944 г., а также в ответном послании И. В. Сталина от 4 февраля.
Черчилль начал с того, что подробно изложил содержание своей беседы с представителями эмигрантского польского правительства в Лондоне. По его словам, он сообщил полякам, что «обеспечение безопасности границ России от угрозы со стороны Германии является вопросом, имеющим важное значение для Правительства Его Величества», и что Англия поддержит Советский Союз во всех мероприятиях, которые она сочтет необходимыми для достижения этой цели. Отметив, что в настоящее время «освобождение Польши… осуществляется… ценой огромных жертв со стороны русских армий», Черчилль разъяснил, как он сообщал в своей телеграмме, что союзники, которые хотят видеть Польшу сильной, свободной и независимой, имеют право требовать, «чтобы Польша в значительной степени сообразовалась с их мнением в вопросе о границах территории, которую она будет иметь». Затем Черчилль проинформировал поляков о ходе обсуждения этих вопросов в Тегеране.
Черчилль подробно воспроизводил ход дальнейшей беседы. В частности, возник вопрос о том, каково будет положение эмигрантских лидеров, когда значительная часть Польши к западу от линии Керзона будет освобождена наступающими советскими войсками, и каковы будут взаимоотношения этих войск с «польским подпольным движением», руководимым из Лондона. Затем, как бы мимоходом, Черчилль в своем послании Сталину заметил, что, хотя «Советская Россия имеет право признать какое-либо иностранное правительство или отказаться признавать его… рекомендовать изменения в составе иностранного правительства — это значит близко подойти к вмешательству во внутренний суверенитет». Главное же в послании Черчилля заключалось в следующей фразе: «Создание в Варшаве иного польского правительства, чем то, которое мы до сих пор признавали… поставило бы Великобританию и Соединенные Штаты перед вопросом, который нанес бы ущерб полному согласию, существующему между тремя великими державами, от которых зависит будущее мира». Тут, по существу, выдвигалось ультимативное требование к СССР и звучала почти неприкрытая угроза. Естественно, что советской стороне пришлось дать на этот демарш достойную отповедь.
«Мне представляется, — говорилось в ответе Сталина, — что первым вопросом, по которому уже теперь должна быть внесена полная ясность, является вопрос о советско-польской грани-де. Вы, конечно, правильно заметили, что Польша в этом вопросе должна быть руководима союзниками. Что касается Советского Правительства, то оно уже открыто и ясно высказалось по вопросу о границе. Мы заявили, что не считаем границу 1939 года неизменной, и согласились на линию Керзона, пойдя тем самым на весьма большие уступки полякам. А между тем Польское Правительство уклонилось от ответа на наше предложение о линии Керзона и продолжает в своих официальных выступлениях высказываться за то, что граница, навязанная нам по Рижскому договору, является неизменной».
Такая позиция польского эмигрантского правительства явно свидетельствовала о его стремлении подорвать достигнутую между тремя державами договоренность. Существо вопроса заключалось в следующем. Согласно подписанному в марте 1921 года в Риге советско-польскому мирному договору, была установлена несправедливая линия советско-польской границы, имевшая следствием то, что Западная Украина и Западная Белоруссия отходили к Польше. В результате значительная часть белорусского и украинского населения оказалась оторванной от Белоруссии и Украины, входивших в состав СССР. Когда осенью. 1939 года над Польшей нависла угроза нацистского порабощения, Советский Союз не мог остаться безучастным к судьбе этих братских народов. Он принял все необходимые меры к тому, чтобы не допустить захвата нацистами районов, населенных белорусами и украинцами. Были приняты законодательные акты, оформившие воссоединение этих народов в единых социалистических республиках, входящих в состав Советского Союза. Так сложилась граница 1939 года. Теперь Советское правительство выразило готовность пересмотреть ее в пользу Польши, с тем чтобы новая советско-польская граница проходила по линии Керзона.
Разумеется, не могло быть и речи о том, чтобы всерьез обсуждать вздорные претензии лондонских поляков на границу, навязанную Советскому Союзу в специфических условиях 1921 года по Рижскому договору. Это, конечно, прекрасно понимал Черчилль. Тем более недостойной была его игра с польским эмигрантским правительством в «переговоры» по поводу подобного рода фантастических требований, игра, поощрявшая лондонских поляков, по сути дела, на новые авантюры.
Второй вопрос, который поднимался в послании главы Советского правительства британскому премьер-министру от 4 февраля 1944 г., касался состава находившегося в Лондоне польского правительства. В послании указывалось, что СССР никак не мог восстановить отношения с этим правительством. «На протяжении всего последнего периода, — писал И. В. Сталин, — Польское Правительство, где тон задает Соснковский, не прекращает враждебных выступлений против Советского Союза. Крайне враждебные Советскому Союзу выступления польских послов в Мексике, Канаде, ген. Андерса на Ближнем Востоке, переходящая всякие границы враждебность к СССР польских нелегальных печатных изданий на оккупированной немцами территории, уничтожение по директивам Польского Правительства борющихся против гитлеровских оккупантов польских партизан и многие другие профашистские акты Польского Правительства — известны: При таком положении без коренного улучшения состава Польского Правительства нельзя ждать ничего хорошего».
Далее И. В. Сталин пояснял: «Исключение же из его состава профашистских империалистических элементов и включение в него людей демократического образа мысли, можно надеяться, создало бы надлежащие условия для установления хороших советско-польских отношений, решения вопроса о советско-польской границе и вообще для возрождения Польши как сильного, свободного и независимого государства. В таком улучшении состава Польского Правительства заинтересованы прежде всего сами поляки, заинтересованы самые широкие слои польского народа».
Послание напоминало также Черчиллю о том, что еще в мае прошлого года он сам писал о возможности «улучшить» состав польского правительства и обещал действовать в этом направлении. Следовательно, английское правительство не считало тогда, что подобные действия представляют вмешательство во внутренний суверенитет Польши.
На протяжении последующих месяцев обмен посланиями по польскому вопросу продолжался. Наибольшую активность в этом деле проявил Черчилль, однако и в письмах президента Рузвельта не раз поднималась проблема Польши с позиций, схожих с британскими. Все эти вопросы неоднократно обсуждались также послами Англии и США со Сталиным и Молотовым.
Коренной перелом
Несомненно, решающее влияние на развитие политических событий этого периода имела военная ситуация. К концу 1943 года завершился коренной перелом в ходе второй мировой войны. Советские вооруженные силы и вся антигитлеровская коалиция одержали выдающиеся победы. Происходили необратимые сдвиги в соотношении сил воюющих группировок в военной, политической, экономической областях. Кардинальным образом изменялась стратегическая обстановка на театрах военных действий. Потерпела крах наступательная стратегия гитлеровской Германии. После поражения под Сталинградом армии фашистского блока не смогли добиться ни одного крупного успеха. Во второй половине 1943 года они были вынуждены перейти к стратегической обороне.
Глубокие изменения стратегической обстановки были вызваны прежде всего историческими победами советских вооруженных сил летом и осенью 1943 года. В единоборстве с главными силами Германии и ее союзников Красная Армия нанесла врагу ряд сокрушительных поражений, что привело уже в конце 1943 года, задолго до открытия второго фронта в Европе, к коренному изменению соотношения сил во второй мировой войне.
В докладе на торжественном заседании, посвященном 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, Председатель Государственного Комитета Обороны И. В. Сталин отмечал: «Истекший год в Великой Отечественной войне был переломным прежде всего потому, что Красной Армии впервые за время войны удалось осуществить большое летнее наступление, а также потому, что в сравнительно короткий срок удалось перебить и перемолоть наиболее опытные старые кадры немецко-фашистских войск, закалив, вместе с тем, и умножив свои собственные кадры в успешных наступательных боях в течение года».
Вместе с тем определенное влияние на дальнейший ход второй мировой войны оказали и действия наших западных союзников. Разгром итало-немецких армий в Северной Африке, высадка англо-американских войск в Италии, а затем и во Франции, успехи, достигнутые США и Англией в Атлантике и в войне на Тихом океане, — все это были чувствительные удары по общему врагу. Однако сражения на советско-германском фронте оставались главными — они характеризовались наибольшим размахом и напряженностью. С ноября 1942 года и до конца 1943 года советские войска разгромили 218 дивизий фашистской Германии и ее союзников. За это время Красная Армия прошла с боями от 500 до 1300 км и освободила почти половину оккупированной территории страны. Советские войска упорно продвигались к западным границам нашей Родины. Попытки фашистского командования сдержать натиск советских вооруженных сил и перевести, войну в позиционные формы не увенчались успехом.
Поражения, нанесенные итало-немецким войскам в Северной Африке, привели к улучшению условий базирования морского флота и авиации США и Англии в бассейне Средиземного моря. Союзники получили возможность использовать средиземноморские коммуникации для связи с Ближним Востоком, Индией, а также со своими вооруженными силами, действовавшими в районе Индийского и Тихого океанов.
В результате наступательных действий, предпринятых летом и осенью 1943 года, американо-английские войска заняли Сицилию и южную часть Апеннинского полуострова. Италия капитулировала, и ее армия перестала существовать. Это привело к значительному ослаблению фашистского блока. Союзники установили свое господство на Средиземном море. Однако значительная часть Италии все еще оставалась оккупированной гитлеровским вермахтом, и на средиземноморском театре военных действий по-прежнему были скованы силы западных союзников, столь необходимые для открытия второго фронта в Северной Франции. К концу 1943 года существенные изменения произошли на тихоокеанском театре военных действий. И здесь большое влияние на ход борьбы оказывали события на советско-германском фронте. Количественное и качественное превосходство союзных сил над вооруженными силами империалистической Японии последовательно нарастало.
В этот период наибольшее число соединений личного состава немецких сухопутных войск и авиации по-прежнему сосредоточивалось на советско-германских фронтах. Здесь находились лучшие, наиболее укомплектованные дивизии. Их количество с ноября 1942 года по декабрь 1943 года колебалось от 193 до 203. Помимо дивизий вермахта здесь действовали значительные силы союзников Германии — 38 дивизий и 11 бригад на конец 1943 года. Основная масса боевой техники, поступавшая на вооружение сухопутных войск и авиации Германии, в том числе почти все танки и штурмовые орудия новейших образцов, направлялась на Восточный фронт. На тех же театрах, где находились американо-английские вооруженные силы, положение сложилось совершенно иное. В Северной Африке с ноября 1942 года по май 1943 года против войск союзников боевые действия вели 12–15 немецких и итальянских дивизий.
Одним из важнейших показателей, характеризующих степень участия той или иной страны в вооруженной борьбе, являлось в то время количество вовлеченных сухопутных сил. Согласно данным, приведенным Уинстоном Черчиллем, с 1 января 1943 г. по 1 января 1944 г. на всех театрах второй мировой войны сражалось от 19 до 24 дивизий Британской империи и от 15 до 22 дивизий США. Советский Союз в это же время вел непрерывную борьбу против основной группировки врага силами от 425 до 489 дивизий.
Приведенные факты показывают, сколь неравноценен был вклад, внесенный главными участниками антигитлеровской коалиции в борьбу с вооруженными силами фашистского блока в период коренного перелома в ходе второй мировой войны. В свете этих фактов очевидна несостоятельность выводов многих буржуазных историков, тенденциозно толкующих важнейшие события переломного периода во второй мировой войне.
Однако не только ход вооруженной борьбы и улучшение стратегического положения вооруженных сил антигитлеровской коалиции обусловили этот решающий перелом. Он был следствием всей совокупности процессов, определяющих содержание войны, в том числе экономических и политических факторов.
Важнейшее значение имели успехи, достигнутые советским народным хозяйством. Несмотря на временную потерю важных экономических районов, советский народ под руководством Коммунистической партии обеспечил производство боевой техники в больших размерах, чем нацистская Германия, эксплуатировавшая ресурсы значительной части Европы. Одновременно все больше обнаруживал свою несостоятельность план западных лидеров, прежде всего Черчилля, на затягивание войны. В сражениях на советско-германском фронте силы вермахта были в значительной степени уже перемолоты, и западные союзники могли рассчитывать высадить свои войска на континенте без значительных потерь. Правящие круги Англии и США стали проявлять заинтересованность в решении проблемы координации их стратегии с Советским Союзом и проведении согласованных операций в Европе. Но и на этом этапе войны в Англии и Соединенных Штатах давали себя знать силы, враждебные Советскому Союзу. Они оказывали немалое влияние на деятельность высших политических и военных органов союзников.
Приближение победоносной Красной Армии к государственной границе СССР оказывало существенное влияние на общую международную обстановку. Повсюду активизировалось движение Сопротивления. 1943 год — год коренного перелома — ознаменовался значительным ростом антифашистской борьбы во всех оккупированных странах. Повсюду шло объединение патриотов в национальном масштабе. Создавались центральные и местные органы движения Сопротивления, расширялся фронт вооруженной борьбы против захватчиков и их приспешников. В движении Сопротивления усиливалось влияние левых сил, руководимых коммунистическими партиями.
Наряду с этим развивались и разнообразные формы сотрудничества Советского Союза с национальными отрядами освободительного движения. Советское правительство оказывало им всемерную поддержку. Уничтожая в ожесточенных сражениях главные силы гитлеровского блока, Красная Армия тем самым существенно облегчала борьбу народов порабощенных стран против фашистских захватчиков, способствовала развитию освободительного движения.
Наконец, немалое значение имело и то, что разгром вермахта на советско-германском фронте, а также поражение немецких и итальянских войск в Северной Африке и Италии углубили кризис внутри фашистского блока. Серьезно осложнилась внутриполитическая обстановка в стане агрессоров. Поражение на фронтах второй мировой войны, бесперспективность ее дальнейшего ведения подрывали моральный дух населения и армии. Кризис доверия к политическому и военному руководству стал серьезной внутриполитической проблемой нацистской Германии.
И все же путь к окончательной победе был еще долог. Предстояла тяжелая борьба, требовавшая новых усилий. Государства фашистского блока все еще обладали мощной военной машиной, располагали большими материальными ресурсами для продолжения войны. В этих условиях требовалось единство участников антигитлеровской коалиции, всех свободолюбивых сил.
Генри Уоллес в Ташкенте
Одним из наиболее последовательных сторонников американо-советского сотрудничества был в то время вице-президент США Генри Уоллес. Он неоднократно призывал распространить позитивный опыт совместных действий в рамках антигитлеровской коалиции также и на послевоенный период. Генри Уоллес был вместе с президентом Рузвельтом, когда ему приходилось урезонивать поборников «жесткого курса», в отношении СССР. Не удивительно, что крайне правые элементы в правящей элите США недолюбливали Уоллеса. Когда встал вопрос о миссии доброй воли в Советский Союз, которую должен был осуществить Уоллес, на Рузвельта был оказан нажим, с тем чтобы не допустить поездки Уоллеса в Москву и лишить его таким образом возможности встретиться с высшими советскими руководителями. Реакционные политики США считали, что Уоллес будет выражать слишком горячие симпатии советскому народу, а это, по их мнению, может повредить «американским интересам». Рузвельту пришлось уступить, и было принято решение, чтобы Уоллес посетил лишь Среднюю Азию, а затем через Сибирь вернулся в США.
В середине июня 1944 года Генри Уоллес должен был прибыть в Ташкент из Чунцина, и посол Гарриман поспешил в столицу Узбекистана, чтобы встретить своего вице-президента.
Находясь в СССР, Уоллес проявил особое внимание к сельскохозяйственным проблемам, что было связано с его личной заинтересованностью этой областью. Вместе с Гарриманом они посетили ряд совхозов и колхозов, а также несколько экспериментальных станций, где советские ученые работали над выведением новых сортов хлопка, картофеля и дынь. Уоллес чувствовал себя здесь в своей стихии. «Всю свою жизнь, — писал Гарриман в одной из телеграмм в Вашингтон после возвращения в Москву, — Уоллес пытался добиться того, чтобы американские фермеры больше опирались на науку. В Советском Союзе он увидел, как наука и научные методы внедряются на фермах, и это его очень порадовало. Здесь он нашел способных специалистов в области аграрной науки, которые имели достаточный авторитет и власть, чтобы побудить фермеров следовать их рекомендациям».
Что же касается самого Гарримана и сопровождавшего его первого секретаря посольства США в Москве Томми Томпсона, то они, в отличие от Уоллеса, больше интересовались социальными и политическими условиями данного района, который, как подчеркивал Гарриман, «обычно закрыт для иностранных дипломатов». Посол отмечал в своем дневнике, что обнаружил здесь исключительно гостеприимный народ, видел на местных рынках изобилие даров земли, наблюдал свидетельства экономического подъема советской Средней Азии, в прошлом изолированного отсталого региона.
Накануне отъезда вице-президента США в Ташкентском театре оперы и балета был устроен торжественный вечер. Генри Уоллес произнес краткую речь на русском языке, подчеркнув важность продолжения американо-советского сотрудничества. Гарриман не без некоторой зависти отметил, что собравшаяся в театре публика «смогла его понять». Затем американским гостям была показана шедшая впервые на узбекском языке опера Визе «Кармен».
Возвращаясь в Соединенные Штаты, вице-президент Генри Уоллес летел через Омск, Красноярск, Якутск, Марково, Уэлькаль и дальше через Аляску и Канаду. Поездка в Советский Союз произвела на Генри Уоллеса большое впечатление. Все, что он увидел в нашей стране, сделало его еще более убежденным другом советского народа, еще более целеустремленным сторонником продолжения в послевоенный период родившегося в годы войны сотрудничества. Эта четкая позиция Уоллеса побудила сторонников «жесткого курса» предпринять шаги с тем, чтобы не допустить повторного выдвижения его кандидатуры на пост вице-президента на выборах 1944 года. Противники Уоллеса подкидывали Рузвельту информацию, о якобы наметившемся падении популярности вице-президента, предостерегали его, что сохранение в списке Уоллеса может привести к поражению демократической партии на президентских выборах. Хотя Уоллес имел поддержку известной части деятелей демократической партии, профсоюзов, многих либеральных органов печати, а также ближайшего окружения президента Рузвельта, включая его жену — Элеонору Рузвельт, значительное число демократических лидеров склонялось к выдвижению другой кандидатуры. Назывались имена Бирнса, Рэйберна, Трумэна, Вайнанта, судьи Дугласа и некоторых других. Тот факт, что в этот сложный период обсуждения различных предвыборных комбинаций Рузвельт послал Уоллеса в Китай и Советский Союз, был расценен некоторыми обозревателями как готовность Рузвельта уступить нажиму и заменить вице-президента. На состоявшемся у Рузвельта совещании руководящих деятелей демократической партии выявилось, что кандидатура Уоллеса встречает решительные возражения. Тогда же список возможных кандидатов на пост вице-президента был сведен, по существу, к двум лицам: Бирнсу и Трумэну. Однако к концу совещания сторонники Трумэна добились от президента письменного заверения, что Трумэн — «наиболее подходящий человек».
Когда Уоллес вернулся из зарубежной поездки в Вашингтон, ему дали понять, что его кандидатура отпала. Уоллес не захотел обсуждать эту проблему ни с кем, кроме самого президента, и при первой же встрече с ним в Белом доме попытался выяснить ситуацию. При этом Уоллес ознакомил Рузвельта с данными опросов, показывающими, что его кандидатура на пост вице-президента пользуется значительной поддержкой делегатов предстоящего в Чикаго съезда демократической партии. На Рузвельта эта информация как будто произвела большое впечатление, и президент пообещал прислать письмо с личной поддержкой его кандидатуры. «Я надеюсь, — сказал Рузвельт Уоллесу, — что это снова будет та же команда, Генри».
Вскоре обещанное письмо поступило к председателю съезда демократической партии. В нем Рузвельт писал об Уоллесе: «Он мне нравится, я уважаю его, и он мой личный друг. По этим причинам я лично голосовал бы за его повторное выдвижение, если бы я был делегатом съезда».
Возможно, Рузвельт действительно думал в тот момент, что сможет преодолеть сопротивление противников Уоллеса и сохранить его в качестве вице-президента на новый срок. Однако многие американские исследователи придерживаются мнения, что к тому времени президент уже сделал свой выбор в пользу Трумэна, считая, что только эта кандидатура сможет обеспечить ему поддержку правого крыла демократической партии и тем самым победу на выборах. Однако он не хотел заявлять об этом в открытую. Во всяком случае, когда Бирнс, которому тоже дали понять, что и его кандидатура отпала, позвонил по телефону президенту, Рузвельт отрицал, что списал его со счетов. Более того, он даже посоветовал Бирнсу добиваться выдвижения своей кандидатуры. Однако когда в Чикаго открылся съезд демократов, Рузвельт, находившийся в тот момент в Сан-Диего, сообщил по телефону, что предпочитает кандидатуру Трумэна. К тому времени он, надо полагать, окончательно пришел к выводу, что такое решение скорее всего обеспечит ему кресло в Белом доме на следующие четыре года. «Передайте сенатору, — сказал он тогда по телефону, имея в виду Трумэна, — что если он хочет раскола демократической партии, то может остаться в стороне. Но он знает так же хорошо, как и я, что это может означать в столь опасное для всего мира время…». Трумэн не заставил себя долго упрашивать, и вопрос о вице-президенте был решен. Когда, победив на выборах, президент Рузвельт формировал новый кабинет, он предложил Генри Уоллесу пост министра торговли. Но Уоллес недолго сохранял этот министерский портфель. После смерти Рузвельта в апреле 1945 года и вступления Трумэна на должность президента обозначился резкий поворот в политике Вашингтона, направленный на свертывание сотрудничества с Советским Союзом. Уоллес публично выступил против скатывания США к «холодной войне», и Трумэн поспешил удалить его из своей администрации.
«Парад» пленных
В это солнечное июльское утро 1944 года я был свободен: мое дежурство начиналось только в два часа дня и поэтому я мог стать свидетелем необычайного зрелища. Еще накануне вечером стало известно, что наутро немецких военнопленных проконвоируют через Москву. Их должны были вести от стадиона «Динамо» мимо Белорусского вокзала, а затем по Садовому кольцу. В районе Самотечной площади, когда я туда пришел, уже собрались толпы москвичей. В то время еще не было путепровода-виадука, перекрывающего ныне площадь, и широкая улица плавно спускалась от Петровки к Цветному бульвару. Вскоре мы увидели вдали первые шеренги пленных, растянувшиеся на всю ширину проезжей части. По краям колонны — с обеих сторон, вдоль тротуара — ехали верхом конвоиры.
Серо-зеленая масса медленно приближалась к нам, а вдали появлялись все новые и новые шеренги. Впереди шли гитлеровские офицеры. Они старались сохранять в какой-то мере выправку, опрятность и подтянутость. Но следовавшие за ними солдаты имели довольно потрепанный вид: расстегнутые выгоревшие гимнастерки свисали с плеч, почти все брели понуро, опустив голову, кто в помятой пилотке, а кто и вовсе с непокрытой головой.
Застыв на тротуаре, зрители не спускали глаз с проходящих. Война вступила в четвертый год, и многие из пришедших сюда советских людей уже успели отдать ей горькую дань, потеряв родных и близких, перенеся немало испытаний и невзгод. Но все они сохраняли полное достоинства спокойствие. Только их взгляд был полон скорби и укора. Никто ничего не выкрикивал, не грозил пленным.
Мне вспомнилось, как еще недавно соединения вермахта, чеканя шаг, маршировали по Елисейским полям поверженного Парижа. Вскоре после этого, вернувшись из молниеносного «похода на Запад», летом 1940 года они дефилировали по Аллее побед в Берлине. Я стоял тогда там, в Тиргартене, неподалеку от разукрашенной трибуны, где самоуверенный фюрер, подняв вверх руку в нацистском приветствии, принимал парад своих «непобедимых войск». Как высокомерны и заносчивы они были! Им уже виделся весь мир, склонившийся у их ног. Именно тогда началась усиленная разработка «плана Барбаросса» — подготовка вероломного нападения на нашу страну. Обрушившись в июне 1941 года всей своей мощью на Советский Союз, гитлеровские полчища рвались к Москве. Осенью того же года Гитлер хвастал, что передовые части вермахта видят маковки кремлевских церквей…
И вот они здесь, в Москве. Я стою на Садовом кольце и смотрю на этот серо-зеленый поток. У меня на плечах мой двухлетний сын Сергей. Он неподвижно следит за этим странным шествием. Ему объяснили, что это — пленные вражеские солдаты. Но он, конечно, не понимает подлинного смысла происходящего. Мне же этот «парад» пленных говорит многое! Они идут полчаса, час, два часа. Их тысячи, десятки тысяч. Это они с оружием в руках вторглись на нашу землю, жгли и разрушали все на своем пути. Они имели приказ сровнять с землей столицу Советской страны, открыть для германских концернов наши богатства. Но эта задача оказалась для них непосильной, недостижимой. Они смогли попасть в Москву только как военнопленные. И вот их ведут по московским проспектам, по городу, к которому они с таким вожделением стремились и который стал символом непобедимости социалистической державы.
Что они думают, бредя сейчас по Садовому кольцу? Понимают ли они, что Гитлер втянул их в безнадежную авантюру, что теперь их страна оказалась на краю катастрофы, что надо расплачиваться за преступную агрессию, за все, что нацисты творили на временно порабощенных территориях оккупированных стран?
«Парад» пленных в Москве.
Я всматриваюсь в их лица. Многие тупо смотрят себе под ноги, кажется, им все безразлично. Но есть и такие, что бросают по сторонам злобные взгляды. Они, видимо, еще верят в «чудо-оружие», с помощью которого Гитлер обещал повернуть военную фортуну в свою пользу. Но это — бред маньяка, надломленного поражением и страхом перед будущим. Молниеносных побед вермахта больше не будет. Такой вывод был очевиден для всех, кто наблюдал 17 июля 1944 г. шествие 57 тыс. пленных по Москве, солнечной и многолюдной, уверенной в правоте своего дела, в конечной победе над врагом.
Впоследствии в Западной Германии мне довелось встречать некоторых участников навсегда мне запомнившегося «парада» пленных на улицах Москвы. Их рассказы не лишены интереса. Зная о зверствах гестаповцев, о бесчеловечном обращении нацистов с советскими военнопленными, они крайне встревожились, когда большую массу пленных собрали на окраине Москвы. Они опасались, что станут жертвой мести, что их «пешком погонят в Сибирь», где они все вымерзнут. А перед тем, думали они, их проведут сквозь разъяренную толпу, чтобы она могла дать волю своей злобе и ненависти. Вспоминая об этой страшной картине, рисовавшейся тогда их воображению, мои собеседники неизменно говорили, что были поражены выдержкой и спокойствием москвичей, наблюдавших за ними.
Тогда же родился анекдот о том, что, вернувшись из Москвы в свой лагерь, пленный немецкий солдат, взглянув на карту полушарий, висевшую в бараке, спросил товарища:
— Что это за маленькое коричневое пятнышко в центре Европы?
— Это Германия.
— А эта необъятная розовая территория, простирающаяся до самого Тихого океана?
— Это Советский Союз.
— А видел ли фюрер эту карту, прежде чем послать нас сюда?
В послевоенные годы этот анекдот можно было часто слышать в ФРГ.
Процессия пленных была поучительной не только для ее непосредственных участников. За ней наблюдали и дипломаты западных стран, аккредитованные в Москве. В этой своеобразной демонстрации они не могли не усмотреть мощи Советской страны, силы духа советского народа, его стойкости и веры в скорую победу. Психологический эффект конвоирования по московским улицам тысяч и тысяч военнопленных гитлеровского вермахта, еще недавно слывшего «непобедимым», был, несомненно, огромен. Он дал еще один толчок к тому, чтобы лидеры западных держав более трезво взглянули на реальные факты: победа над гитлеровской Германией и ее союзниками была не за горами. Война приближалась к своему завершению, и Советский Союз, несмотря на огромные жертвы, потери и разрушения, выходил из нее еще более могущественным и несокрушимым. Было также очевидно, что в послевоенном мире наша страна станет играть куда более активную роль, чем в период между двумя мировыми войнами, а ее международный авторитет поднимется, как никогда ранее. Наконец, западные политики не могли не задумываться и над тем, что успехи движения Сопротивления в оккупированных державами фашистской оси странах, особенно усилившиеся в результате блестящих побед советского оружия, изменят внутриполитическую обстановку в Европе, если учесть большую роль в этом движении прогрессивных сил, в первую очередь коммунистов, продемонстрировавших величайшее мужество и стойкость в борьбе против захватчиков.
Из всего этого логично было сделать вывод о неизбежности выработки нового подхода к социалистической державе, о необходимости поисков новых путей в международной политике, создания нового механизма сотрудничества между государствами с различными общественными системами. Что касается Советского Союза, то он неизменно придерживался ленинских принципов мирного сосуществования стран с различным социальным строем, призывал к решению возникавших проблем путем переговоров, а не силой оружия, к налаживанию взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому при наличии доброй воли со стороны западных держав путь к такому сотрудничеству был бы открыт, однако в Вашингтоне и Лондоне по-прежнему решающую роль играли влиятельные силы, противившиеся идее равноправного сотрудничества с Советским Союзом. Они стремились возродить довоенный антисоветский курс. Существо их замыслов сводилось к тому, чтобы, воспользовавшись тем, что советский народ еще продолжал тяжелую кровавую борьбу против основной массы войск гитлеровской Германии и ее союзников, попытаться оказать нажим на Москву и добиться такого послевоенного устройства, которое отвечало бы экспансионистским устремлениям монополий Соединенных Штатов и Англии.
Эти тенденции нашли выражение в подходе правящих кругов западных держав к структуре новой организации безопасности, ее Уставу, или «основному документу», как тогда его называли.
Конференция в Думбартон-Оксе
ИЗ МОСКВЫ В ВАШИНГТОН
Проблемы послевоенного устройства.
Организация Объединенных Наций приближается к пятому десятилетию своего существования. Ее членами являются около 160 государств мира. Она играет важную роль в международной жизни. Но осенью 1944 года, когда проходила конференция в Думбартон-Оксе, намечались лишь контуры будущей международной организации. Ее предшественница — Лига наций — фактически прекратила свое существование уже в первые годы второй мировой войны. Неспособность Лиги наций пресечь агрессию заставила многих политических деятелей еще в разгар жестоких сражений второй мировой войны думать о том, что нужно сделать, чтобы обеспечить прочный мир для грядущих поколений, чтобы никогда больше не мог потенциальный агрессор ввергнуть народы в новую войну.
Уже в первый день нападения гитлеровской Германии на Советский Союз Советское правительство твердо заявило: враг будет разбит, победа будет за нами! В конце концов так и произошло. Но важно было закрепить эту победу, чтобы тяжелейшие жертвы, которые несли народы в этой войне, были не напрасными, чтобы мир на земле был надежно огражден.
Советское правительство решительно подчеркивало необходимость создания эффективной международной организации по поддержанию мира. Еще 4 декабря 1941 г., когда гитлеровские полчища стояли у ворот Москвы, в совместной Декларации правительств Советского Союза и Польши проблеме послевоенного устройства уделялось серьезное внимание. «После победоносной войны, — говорилось в Декларации, — и соответственного наказания гитлеровских преступников задачей Союзных Государств будет обеспечение прочного и справедливого мира. Это может быть достигнуто только новой организацией международных отношений, основанной на объединении демократических стран в прочный союз. При создании такой организации решающим моментом должно быть уважение к международному праву, поддержанному коллективной вооруженной силой всех Союзных Государств».
Поражения гитлеровцев на советско-германском фронте показали, что их планам не суждено свершиться. Советское правительство продолжало свою линию на создание в послевоенном мире таких условий, которые исключали бы возможность возникновения новой мировой войны. Это нашло свое отражение и в официальном заявлении, которое было сделано на Московском совещании трех министров иностранных дел — В. M. Молотова, Кордэлла Хэлла и Антони Идена, состоявшемся осенью 1943 года.
В принятой на совещании Декларации говорилось, что, признавая необходимость быстрого и организованного перехода от войны к миру и установления и поддержания международного мира и безопасности при наименьшем отвлечении мировых человеческих и экономических ресурсов для вооружений, державы антифашистской коалиции совместно заявляют, что они «признают необходимость учреждения в возможно короткий срок всеобщей Международной организации для поддержания международного мира и безопасности, основанной на принципе суверенного равенства всех миролюбивых государств, членами которой могут быть все такие государства — большие и малые».
Позднее, на Тегеранской конференции руководителей трех держав в ноябре 1943 года, состоялся дальнейший обмен мнениями о послевоенном устройстве и создании международной организации по поддержанию мира и безопасности. В Тегеранской декларации три державы заявили, что прочный мир может быть обеспечен лишь на основе существующего согласия между ними.
Этот вывод указывал реальный курс в международной политике для обеспечения прочного мира — единство действий великих держав. Именно из этого единственно правильного положения исходило Советское правительство при разработке принципов будущей международной организации безопасности.
Перед участниками переговоров в Думбартон-Оксе был еще свежий, но плачевный опыт Лиги наций, которая оказалась неспособной предотвратить вторую мировую войну. Провозглашая своей целью поддержание «вечного мира», Лига наций ничего серьезного не предпринимала для пресечения или подавления грубейших актов агрессии. Вторжение фашистской Италии в Абиссинию, германо-итальянская интервенция в Испании, агрессия японских милитаристов против Китая, угрожающая миру милитаризация германской экономики, наглые захваты гитлеровцев в Европе — все это проходило безнаказанно. Лига наций оставалась глуха к настойчивым требованиям Советского Союза о создании системы коллективной безопасности. В итоге мир был вновь ввергнут в войну.
Главный порок Лиги наций заключался в том, что она оказалась не в состоянии принимать эффективные и решительные меры против нарушений мира. Да она и не располагала действенным механизмом для пресечения агрессии. К тому же западные державы, игравшие первую скрипку в этой организации, вовсе не были заинтересованы в этом, рассчитывая, что агрессоры нанесут первый удар по социалистическому государству.
Печальный опыт Лиги наций необходимо было учесть при создании новой организации безопасности. Вот почему столь большое внимание в ходе переговоров в Думбартон-Оксе было уделено вопросу о процедуре голосования в Совете Безопасности — одном из руководящих органов будущей мировой организации, которому предстояло принимать действенные меры против нарушителей мира. В этом органе важные решения должны были приниматься лишь при согласии всех держав, на которых лежит главная ответственность за поддержание мира.
Но как раз в этом кардинальном вопросе возникли наибольшие трудности. В принципе все участники переговоров в Думбартон-Оксе были согласны, что при принятии важных решений в Совете Безопасности требуется единогласие его постоянных членов (т. е. Советского Союза, Соединенных Штатов, Великобритании, Китая и Франции), поскольку на них лежит главная ответственность за поддержание мира. Однако англо-американские представители предложили сделать изъятие из этого общего правила, если вопрос касается спора, затрагивающего постоянного члена Совета. В таком случае представитель данной, державы не должен был участвовать в голосовании. Нетрудно увидеть, что принятие такого предложения подорвало бы столь необходимое единство действий великих держав. Их сотрудничеству был бы нанесен серьезный ущерб, если бы какой-то из постоянных членов Совета лишился права участвовать в голосовании и Совет Безопасности принял бы решение без него, а тем более против него. Во всяком случае Советский Союз не мог пойти на то, чтобы допустить такую ситуацию, когда западные державы путем механического большинства получили бы возможность диктовать свою волю социалистическому государству.
Кому, зачем и почему понадобилось выдвигать подобное сомнительное предложение, способное подорвать самою основу успешной деятельности Совета Безопасности? Не скрывалось ли за этим стремление ослабить международную организацию по поддержанию мира к выгоде одной определенной державы или группировки держав, рассчитывавших противопоставить себя Советскому Союзу? Некоторые выводы читатель сможет сделать, ознакомившись с последующим изложением дискуссий, которые велись в Думбартон-Оксе осенью 194.4 года. Речь пойдет также и о той работе, которую пришлось проделать на этой конференции советской делегации, выступавшей в пользу международной организации безопасности, которая не повторяла бы роковых ошибок Лиги наций и могла бы действовать быстро и эффективно в защиту мира.
В советскую делегацию, назначенную для участия в переговорах в Думбартон-Оксе, вошли: А. А. Громыко (посол СССР в США, глава делегации), А. А. Соболев, С. К. Царапкин, контр-адмирал К. К. Родионов, генерал-майор Н. В. Славин, проф. С. А. Голунский, проф. С. Б. Крылов, Г. Г. Долбин, М. М. Юнин (секретарь делегации), В. М. Бережков (секретарь-переводчик).
Вылетели мы из Москвы 12 августа 1944 г., а прибыли в Вашингтон лишь накануне открытия конференции, назначенной на 21 августа. Из-за интенсивности военных действий в Атлантике и на Тихом океане был выбран маршрут через Сибирь, Чукотку, Аляску и Канаду.
Через Сибирь
На четвертый день нашего полета, когда мы уже пересекли Урал и летели над Сибирью, из пилотского отсека в салон стремительно вошел командир корабля и взволнованно сказал:
— Союзники высадились на юге Франции! Только что сообщили по радио…
Сразу со всех слетела дремота. А сидевший рядом со мной Сергей Борисович Крылов, расплывшись в улыбке, принялся выкрикивать:
— Ура союзникам! Молодцы, бейте гитлеровцев!..
Высадка на юге Франции, осуществленная почти через два с половиной месяца после того, как 6 июня был наконец открыт второй фронт в Нормандии, явилась важным событием. Она прибавляла еще одну успешную операцию в растущем списке победоносных действий союзников как на Восточном, так и на Западном фронтах. Удары эти, наносимые гитлеровской Германии со всех сторон, звучали в те дни, как прекрасная музыка, возвещавшая приближение долгожданной победы.
Когда все немного успокоились, оба профессора — Крылов и Голунский принялись рассуждать о том, была ли операция на юге Франции запланирована заранее или же это своего рода импровизация англичан и американцев, предпринятая для поддержки наступления, развернувшегося в Нормандии.
— Решение о высадке на юге Франции, — вмешался в разговор Андрей Андреевич Громыко, — было принято в конце прошлого года на Тегеранской конференции, когда обсуждался вопрос об операции «Оверлорд». Ставилась задача лишить немцев возможности подбрасывать подкрепления в Нормандию. Мы тогда, в свою очередь, обязались предпринять летом, вслед за форсированием англичанами и американцами Ла-Манша, наступление на нашем фронте, что и было сделано. Союзники, как видите, тоже выполнили свое обязательство. Нам остается их поздравить…
Все согласились с этим и решили при первой же посадке надлежащим образом отметить данное событие.
К тому времени мы уже проделали значительную часть пути и вскоре должны были приземлиться в Марково.
Наше путешествие через Сибирь заслуживает того, чтобы рассказать о нем подробнее. В то время самолеты летали на сравнительно небольшой высоте — около двух тысяч метров, и земля хорошо просматривалась. Трасса сначала пролегала над старинным «сибирским трактом», по которому некогда шел гужевой и санный путь, а потом протянулась над Транссибирской железнодорожной магистралью. Первую посадку мы совершили в Куйбышеве.
Следующие посадки были в Челябинске, Омске, Новосибирске, после чего трасса поворачивала на север, в сторону Красноярска, где мы провели ночь. До того мы останавливались в городах, имевших свои давние традиции, жили в отличных по тому времени гостиницах. Весь район «сибирского тракта» был вполне освоен. С самолета мы видели огромные квадраты возделанных полей, широко раскинувшиеся поселки, гигантские промышленные предприятия, многие из которых эвакуировались сюда в первые месяцы войны с территорий, временно оккупированных гитлеровцами, — все это производило внушительное впечатление. Здесь днем и ночью ковалось оружие для победы над врагом, отсюда шла немалая часть сельскохозяйственной продукции, обеспечивавшей питанием фронты Великой Отечественной войны. Здесь же формировались и новые армии, которые должны были пополнять советские вооруженные силы. В этих краях обучались военные летчики, танкисты, артиллеристы, отсюда они, вместе с произведенным здесь же оружием, отправлялись на Запад. То был глубокий тыл Советской страны, но, как и весь советский народ, люди здесь жили интересами фронта, трудились во имя победы.
Свою новую роль Сибирь выполняла с честью. В те трудные годы там была заложена основа великих преобразований, которые произошли и происходят в этом богатейшем крае в наши дни.
В Красноярске нас разместили за городом, в тайге, где на высоком берегу Енисея стоял просторный бревенчатый дом. С его террасы открывался замечательный вид на зеленые дали противоположного берега. Комендант этой загородной гостиницы рассказал, что незадолго до нас тут останавливался вице-президент Соединенных Штатов Генри Уоллес.
Такие же уютные гостиницы нас ждали в Якутске, в Марково и даже в далеком Уэлькале, на берегу залива Креета.
В Марково нас встретили представители местных властей и, поскольку мы прибыли туда в середине дня, нас прежде всего пригласили на обед. За столом, кроме нас, было несколько представителей местного начальства. Что подавалось на обед, уже позабыл. Хорошо запомнил только огромное круглое блюдо с красной кетовой икрой, такой, какой я до того не видывал. Свежие икринки, сверкающие, как хорошо отполированные рубины, были величиной чуть ли не с виноградину, а уж вкус-то у них был божественный.
Тут мы и отметили подобающим образом успешную высадку союзников на юге Франции…
Туман в Уэлькале
Из Маркове наш путь лежал на самый край советской земли, к заливу Креста, где на неприветливом плоском, как стол, берегу, покрытом скудным лишайником, приютился поселок чукчей Уэлькаль. В то время ранее малоизвестный Уэлькаль приобрел важное значение: через него проходила трасса, по которой из Соединенных Штатов своим ходом перегонялись в Советский Союз истребители «аэрокобра», поступавшие к нам по ленд-лизу. В поселке постоянно находилась группа советских летчиков, которые на транспортном самолете перелетали отсюда на Аляску, в Ном, где принимали очередную партию «аэрокобр». К крыльям этих истребителей со сравнительно небольшим радиусом действия подвешивались дополнительные баки с горючим, и они, стартовав в Номе, перелетали через Берингов пролив в Уэлькаль, а отсюда летели дальше на запад, на фронт.
Наш самолет сел в тундре. Был уже поздний вечер, но в это время года в здешних краях темнота не наступает, и солнце висело над горизонтом. Тут была наша последняя остановка на советской земле, дальше предстоял путь над Аляской, Канадой и Соединенными Штатами, поэтому надо было тщательно проверить машину. Вылет в Ном назначили на следующий день. Нас отвели в домик, стоявший на самом краю поселка, почти сплошь состоявшего из яранг. Поужинав, мы сразу же улеглись спать.
Проснувшись, я никак не мог сообразить, что происходит за окном. Наш домик как бы плавал в густом молоке. Присмотревшись, я понял, что на Уэлькаль спустился нередкий здесь непроницаемый туман. После завтрака решил все же выйти из дому. Хозяйка, убиравшая со стола, посоветовала быть поосторожнее.
— В таком тумане и заблудиться нетрудно, — сказала она. — Держитесь все время за веревку, пока не дойдете до следующего здания…
Только теперь мне стало понятно назначение веревок, которыми были соединены между собой многие здания и яранги. Я их мельком увидел, когда мы шли вечером в гостиницу. В условиях густых туманов, а зимой в слепящую пургу, когда тропинки мгновенно заметает веревка, протянутая между зданиями, позволяет уверенно идти в нужном направлении, не сбиваясь с дороги. Держась за веревку, вы придете по назначению в любую непогоду, в черную полярную ночь, не страшась метели и ураганного ветра, который, разогнавшись по бескрайней тундре, сбивает человека с ног…
Я вышел на крыльцо, нащупал веревку. Она была мокрая от повисших на ней капелек тумана. Стараясь не терять из виду спасительный шнур, осторожно двинулся вперед. Через несколько десятков шагов из тумана выплыл темный куб здания. Где-то поблизости тарахтел движок. Поднявшись на несколько ступенек, я толкнул дверь и вошел в просторную комнату, ярко освещенную электричеством. Дежурный сказал, что туман, видимо, продержится пару дней.
— Ваш вылет задерживается до улучшения погоды, — добавил он. И помолчав, продолжал: — Летчики, которые вчера вылетели за «аэрокобрами», остаются в Номе и будут ждать летной погоды там…
Прослушав последние известия, в которых вслед за сводкой с наших фронтов сообщалось о боях в Северной Франции, я вернулся в наш домик. Коротали время за шахматами. Вечером Громыко, Соболев и некоторые другие члены делегации, устроившись в гостиной, просматривали документацию, связанную с предстоящими переговорами.
На следующий день туман стал немного слабее. Уже можно было видеть метров на двадцать вперед, но облачность оставалась низкой, и лететь было невозможно. После завтрака мы с Долбиным отправились погулять. К нашей гостинице примыкали строения чуть побольше того, в котором мы жили. Дальше полукругом стояли яранги разных размеров. Мы пошли между ними по дороге и вскоре оказались в поселке чукчей.
Здесь все концентрировалось вокруг деревянного здания школы, стоявшего на высоком кирпичном фундаменте. Было время каникул, и школа казалось пустой, но мы все же решили зайти. Не успели подняться на крыльцо, как дверь распахнулась и перед нами предстал плотный, круглолицый, молодой мужчина со щелочками-глазами и коротко подстриженными, стоявшими торчком черными волосами. Вероятно, он увидел нас в окно и вышел навстречу. Приветливо улыбаясь, пригласил нас внутрь и представился как директор школы. Он отлично говорил по-русски, лишь с едва заметным акцентом. Директор пояснил, что тут занимаются не только дети местных жителей, но и те, кто живет поодаль. Зимой приезжают на оленях или собачьих упряжках.
— Все школьники, — сказал директор, — очень прилежны, у них поразительная жажда к знаниям. Я сам учился в этой же школе. Потом поехал в Ленинград, поступил в Институт народов Севера, на филологический факультет. Но, проучившись три года, простудился и тяжело заболел. Врачи нашли туберкулез, делали все, чтобы вылечить, но ничего не помогало. Я стал, совсем худой, как скелет, мне сказали — безнадежен… Просто не верилось, что скелет снова превратился в такого кругленького, лоснящегося от избытка здоровья, жизнерадостного человека.
— Что же было дальше? — спросил я.
— Решил умереть на родине и приехал домой. А тут то ли климат, то ли моржовый жир… Быстро встал на ноги. Так и; остался здесь учителем, а потом стал директором…
Наш новый знакомый рассказал, что за годы Советской власти его родной край преобразился. В Анадыре — столице Чукотского национального округа, образованного в 1930 году, теперь существуют педагогическое, медицинское и музыкальное училища, там издаются газеты на чукотском и русском языках. Во всех районах округа имеются школы. Преподавание в первых трех классах ведется на чукотском языке, а в старших — на русском. Это дает возможность после окончания школы учиться в высших учебных заведениях в любом городе Советского Союза. Теперь население Чукотки занимается не только оленеводством, охотой и рыбной ловлей. В районе Анадыря возникли промышленные предприятия — рудники по добыче олова и каменного угля и заводы по переработке рыбных продуктов, шкур и жира морского зверя.
— У нас растут национальные кадры, — продолжал свой рассказ директор, — которых вы встретите повсюду в нашем округе…
Выйдя из школы, мы с директором отправились осматривать поселок. Яранги стояли на расстоянии метров десяти друг от друга. Вокруг возились мохнатые собаки. Тут же были растянуты для просушки и прибиты колышками к земле тюленьи шкуры. Такие же шкуры прикрывали вырытые в вечной мерзлоте круглые ямы, в которых хранится солонина из моржового мяса. Директор приподнял одну из шкур, и, заглянув внутрь, я увидел, что яма, подобная той, в каких у нас в деревнях зимой держат картошку, заполнена солониной более чем наполовину. Вид у этого блюда, как мне показалось, был не очень привлекателен. Но, видимо, моржовое мясо действительно полезно, если оно спасло нашего собеседника от туберкулеза.
Остановившись у одной из яранг, директор приподнял полог, что-то крикнул внутрь и пригласил нас войти. Нагнувшись, я переступил через порожек и оказался в просторном и гораздо более высоком, чем можно было себе представить по его наружному виду; помещении. Пол был весь устлан тюленьими шкурами, на которых резвилось трое совершенно голых ребятишек. Это, видимо, были погодки, очень кругленькие, веселые, с лоснящимися от моржового сала волосами. В глубине, где часть яранги была отгорожена шкурами, у очага стряпала женщина, одетая в длинную рубаху с короткими рукавами. Волосы у нее были закручены на затылке в тугой узел. Она приветливо улыбнулась и что-то сказала директору. Тот перевел:
— Она говорит, что муж уехал на рыбную ловлю…
Внутри яранга, видимо, выглядела так, как и сотни лет назад. Но были тут и приметы новой жизни: швейная машина, патефон. В ящике лежал набор различных инструментов. Видно было, что семья хорошо питается, все детишки здоровы и жизнерадостны. Директор пояснил, что старшая девочка этой осенью пойдет в первый класс. Мы заглянули еще в несколько яранг и повсюду видели примерно ту же картину.
Погода улучшилась только на следующее утро. Пока мы ждали на аэродроме вылета, приземлилось несколько «аэрокобр». Наконец и нам была объявлена посадка. Вскоре наш самолет, пропрыгав по решетчатой металлической дорожке, поднялся в воздух и, пролетев над последним кусочком советской земли, взял курс на Ном.
Медвежья отбивная
В Номе мы сели на бетонную посадочную полосу. Уже из иллюминатора было видно, что здесь сооружается крупная авиационная база. Вокруг высились солидные сооружения, строительные работы шли полным ходом. Рядом с действующей посадочной полосой укладывали еще одну. Экскаваторы, бульдозеры и другие дорожные машины с грохотом, скрежетом и лязгом врезались в мерзлую землю, а поодаль уже настилали стальную арматуру и огромные самосвалы, сбрасывали бетонный раствор.
Нас провели в длинное приземистое здание офицерского клуба. У стойки бара каждый мог заказать себе напиток по вкусу. В гостиной пол сверкал лаком, стояли низкие кожаные кресла и полированные столики с разбросанными на них яркими иллюстрированными журналами. На бревенчатых, покрытых лаком стенах висели эстампы, над столиками низко спускались эффектные светильники.
Когда церемония с напитками закончилась, нас пригласили в расположенную рядом столовую. Большой стол был накрыт белой скатертью. Все выглядело так, будто мы не на отдаленной авиационной базе воюющей страны, а где-то в обжитом спокойном городе. Разве что большое, число окружавших нас американских военных напоминало о том, где мы находимся. Первым застольным тостом нас приветствовал командир базы, американский полковник с одутловатым лицом. Поздравив с прибытием на американскую землю, он сказал несколько слов о своей базе, о планах ее развития, всячески подчеркивая, что Соединенным Штатам еще предстоит тяжелая и длительная война с Японией. Поэтому, говорил он, база в Номе еще далеко не отвечает тем задачам, которые перед ней стоят. Потом полковник объявил, что нам придется пробыть тут сутки, так как из-за задержки в Уэлькале намеченный ранее график дальнейшего продвижения делегации нарушился и теперь снова придется уточнить маршрут, особенно это касается трассы полета через Аляску и Канаду.
— Но я надеюсь, что вам будет приятно провести у нас этот день, — заключил полковник, улыбаясь, и поднял бокал…
Два сержанта разносили еду. Сперва принесли салат: свежую капусту, помидоры, огурцы и большие стебли сельдерея. Затем подали отбивную с жареной картошкой. Отбивная была так велика, что свешивалась с тарелки. Я спросил сидевшего рядом американского майора, что это за мясо.
— Медвежатина, — ответил он. — Мы часто ходим на охоту, а когда случается убить медведя, мясо сдаем в столовую…
Признаться, меня поразила тогда эта огромная отбивная. В скудные военные годы мы привыкли к миниатюрным порциям. А тут вдруг такое расточительство: гигантские отбивные, целые горы овощей, хлеба. Сахар в высокой стеклянной банке подан на стол так же, как соль, перец и уксус…
В Европе, да и почти во всем мире, миллионы людей находились тогда на скудном пайке, а то и на грани голода. Советские люди также ограничивали себя во всем, чтобы обеспечить армию питанием, теплой одеждой и вообще всем необходимым. Совсем иначе обстояло дело в Соединенных Штатах. По сути, американцам в тылу вообще не пришлось нести и малой части тех тягот, какие выпали на долю почти всех других народов, участвовавших во второй мировой войне. Правда, страны антигитлеровской коалиции получали от Соединенных Штатов по ленд-лизу некоторое количество продуктов питания. У нас, пожалуй, и сейчас многие еще помнят яркие баночки с американским колбасным фаршем, который кто-то окрестил «улыбкой Рузвельта»…
Мы разговорились с сидевшим рядом американским майором. Я рассказывал ему о нашей поездке через Сибирь, о своей экскурсии по поселку чукчей в Уэлькале. Спросил, как живут здесь американские эскимосы.
— А, наши индейцы!.. — протянул майор. — Говорят, что их селение где-то тут поблизости, среди болот, но я ни разу туда не ходил. Те, кто бывал там, рассказывают, что у них грязь, нищета, болезни. Иногда, они приходят к нам — обменивают шкурки на виски. Это неплохой бизнес…
Майор весело рассмеялся, и я как-то вдруг очень явственно представил себе некогда гордых и сильных исконных обитателей Аляски, теперь загнанных в болота где-то здесь, совсем близко от сверкающего офицерского клуба. Они живут в ужасных условиях, их дети гибнут от болезней, и все, что им может предложить обосновавшаяся рядом американская цивилизация, — это бутылка виски в обмен на драгоценную шкурку полярного зверька. И я снова вспомнил школу в Уэлькале, ее директора и ребятишек, весело игравших в теплой яранге на тюленьей шкуре…
После обеда нас отвезли на новеньких джипах в гостиницу. Ее трехэтажное здание стояло в самом центре военного поселка. Каждый из нас получил отдельный номер со всеми удобствами. Было приятно полежать в горячей ванне после долгого пути.
Вечером решили пойти развлечься: в гарнизонном театре показывали фильм «Сестра его дворецкого» с Диной Дурбин, только что вышедший на экраны. Но едва мы собрались в кино, как на поселок обрушился ливень. Я спросил у портье, нельзя ли достать машину.
— В этом нет нужды, кинотеатр совсем близко, — ответил портье.
— Но ведь мы промокнем под таким дождем, — возразил я.
— А вы спуститесь вниз, в подвал, — пояснил портье. — Вот возьмите план подземных переходов. Там установлены указатели, и вы легко найдете кинотеатр. В непогоду мы всегда пользуемся подземными переходами. Они соединяют все основные здания поселка…
Портье протянул карточку-схему, и мы, поблагодарив его, спустились вниз. Из ярко освещенного подземного зала в разных направлениях вели широкие туннели. Под потолком тянулись трубы различной толщины: водопровод, перегретый пар для отопительных систем, канализация. Здесь же были проложены электропровода и телефонные кабели. У входа в каждый туннель висел указатель с надписями: «штаб», «госпиталь», «столовая», «офицерский клуб», «аэродром», «кинотеатр»… Мы пошли в нужном направлении. Из боковых проходов в туннель вливались группы солдат и офицеров — они тоже шли в кинотеатр. У большой афиши с улыбающейся Диной Дурбин стрелка показывала вверх. Мы поднялись по лестнице и оказались в вестибюле кинотеатра.
По масштабам строительства, которое шло на этой авиационной базе, можно было сделать вывод, что американское командование придает ей большое значение. То, что тут не поскупились на такое дорогостоящее и трудоемкое дело, как целая система подземных переходов, — а это в здешних климатических условиях, разумеется, представляет особое удобство, — показывало, что руководство ВВС Соединенных Штатов собирается обосноваться в Номе всерьез и надолго. За обедом командир базы — видимо, не без умысла — всячески подчеркивал роль этого опорного пункта для войны с Японией. Но ведь уже тогда было ясно, что Япония в конечном счете проиграет войну, что победа над ней — дело не столь уж отдаленного будущего. Зачем же тут вкладывали такие огромные средства, почему так разворачивалось строительство? Очевидно, военное ведомство Соединенных Штатов имело в виду не только войну с Японией, но и какие-то другие, далеко идущие цели глобальной стратегии, связанной с уже начавшей вырисовываться идеей «Pax Americana» — господства США над послевоенным миром.
Форт «Белая лошадь»
После кратковременной остановки в Фербенксе — главном городе Аляски, мы полетели дальше над Канадой. Места здесь похожи на Сибирь. Под крылом тянулась бескрайняя тайга. Поросшие лесом горы вздымались подобно океанским валам, кое-где словно зеркальца мелькали озера. Во второй половине дня совершили посадку на арендованной правительством Соединенных Штатов у Канады авиационной базе, носившей романтическое название «Белая лошадь». Здесь когда-то находился старинный форт, обнесенный высоким частоколом, один из тех опорных пунктов белых поселенцев, которые так красочно описал Фенимор Купер. Форт «Белая лошадь» неоднократно подвергался атакам индейцев, здесь происходили ожесточенные стычки, но потом форт потерял свое значение и, возможно, в конце концов был бы и вовсе поглощен тайгой, если бы с началом войны этот пункт не облюбовали американцы для сооружения военно-воздушной базы.
Тут также шли большие строительные работы, хотя они еще и не продвинулись так далеко, как в Номе. Вокруг взлетно-посадочной дорожки корчевали пни, повсюду работали землеройные снаряды, бульдозеры, самосвалы. Поселок был еще временный: длинные полукруглые бараки из рифленого железа стояли рядами и соединялись переходами, крытыми брезентом. Вход в бараки закрывала помимо двери деревянная рама с густой металлической сеткой, предохранявшей от бесчисленных москитов. В бараке, несмотря на теплый день, отопление действовало на полную мощность. Батареи находились под потолком, и потому голове было особенно жарко. Солдаты и офицеры, расхаживавшие по бараку, были совершенно нагие, что нас несколько озадачило. Но все встало на свое место, когда наши хозяева объяснили, что хотели прежде всего предложить нам горячий душ. После душа нас провели по брезентовому переходу, наподобие тех, что соединяют железнодорожные вагоны, в другой барак, где была оборудована столовая…
Совершив по пути еще несколько посадок, мы поздно ночью приземлились в Эдмонтоне. С аэродрома отправились в гостиницу, расположенную в самом центре города, очень напоминающего своей старинной архитектурой Англию. Но осмотреть город нам не удалось — рано утром пришлось отправляться дальше. Днем снова пересекли границу Соединенных Штатов и к вечеру приземлились в Миннеаполисе; для меня это было первое знакомство с крупным американским городом.
Когда мы ехали с аэродрома, было еще светло. Я с интересом разглядывал аккуратные беленькие особнячки пригорода с неизменными террасами. В некоторых окнах виднелись небольшие флажки со звездочками: кто-то из членов семьи погиб на фронте. То была, пожалуй, одна из немногих внешних примет участия Америки в войне. В остальном же война как бы вовсе не сказалась на облике города. Затемнения тут не было и в помине, улицы ярко освещались, бешено сверкала и мигала реклама; витрины магазинов были завалены товарами.
Встреча в Вашингтоне
Нам оставалось преодолеть последний отрезок пути. Погода стояла отличная, ветра почти не было, и самолет плавно скользил в голубом безоблачном небе. Внизу раскинулась американская земля с полноводными реками и озерами, зелеными дубравами, золотыми пшеничными полями. Бросались в глаза квадраты, на которые были как бы расчерчены поля. Словно бы под нами лежала гигантская шахматная доска. То были проселочные дороги, пересекающие вдоль и поперек все пахотные земли Соединенных Штатов. Американских фермеров уже давно заботила проблема быстрого вывоза урожая, с полей, причем в любую погоду. Выход нашли такой: провели дорогу с каждой стороны обрабатываемого участка. Таким образом к полю удобно подъехать отовсюду. Это облегчает подвозку семян, удобрений, механизмов для культивации и, наконец, вывоз урожая. Дороги эти, хотя и чисто местного значения, обычно заасфальтированы или имеют щебеночное покрытие — бездорожья весной и осенью не бывает. По этим дорогам легко также выехать на шоссейные магистрали и автострады. Разумеется, в свое время надо было вложить немало средств и труда, чтобы охватить такими дорогами почти по всей стране квадраты полей, но теперь это значительно облегчает работу фермера.
Квадраты кончились, потянулись перелески, и наш самолет, сделав крутой поворот и немного снизившись, направился вдоль реки. Спокойная гладь поблескивала на солнце между холмистыми изумрудными берегами. Можно было легко различить идущую параллельно реке автостраду и мчавшиеся по ней разноцветные коробочки автомобилей. Потом на горизонте появился купол Капитолия. Мы подлетали к Вашингтону — цели нашего путешествия, которое заняло в общей сложности девять дней.
Самолет подрулил к зданию аэровокзала, двигатели затихли, второй пилот, быстро пробежав между рядами кресел, открыл дверцу. В кабину хлынули лучи яркого солнца и поток горячего влажного воздуха. Первым спустился по трапу А. А. Громыко, за ним последовали все мы. Аэровокзал украшали американские, советские и британские флаги, оркестр играл бравурный марш. Поодаль застыл почетный караул, а дальше на краю поля рядами стояли самолеты с американскими опознавательными знаками.
Делегацию нашу встречали заместитель государственного секретаря США Эдвард Стеттиниус, постоянный заместитель министра иностранных дел Англии, глава британской делегации на предстоящих переговорах Александр Кадоган, члены английской делегации, представители госдепартамента и сотрудники советского посольства в Вашингтоне со своими семьями. Кадогана я узнал сразу, так как встречался с ним еще в Москве: он несколько раз приезжал в свите главы Форин оффис Антони Идена. Одет Кадоган был в легкий светлый просторный костюм и его всегда усталое лицо с мешками под глазами и коротко подстриженными усиками казалось в этой вашингтонской духоте совсем изможденным. Стеттиниуса я видел впервые. Он явно чувствовал себя здесь, как рыба в воде. На нем был темно-серый двубортный костюм с белоснежным платочком в нагрудном кармане, белая рубашка с жестким воротничком и в косую полоску галстук. Энергичное, загорелое, еще совсем молодое лицо с густыми черными бровями контрастировало с седой шевелюрой и ровными рядами белых зубов.
После взаимных приветствий Громыко и Стеттиниус обошли строй почетного караула и, вернувшись, остановились напротив входа в аэровокзал. К ним присоединился Кадоган. Наша делегация и все встречавшие выстроились за ними в ряд. Раздались звуки Государственного гимна Советского Союза, затем гимна Соединенных Штатов. Оркестр снова заиграл марш, и перед нами бодро продефилировал почетный караул. Впереди шли три знаменосца: они несли государственные флаги Соединенных Штатов, Советского Союза и Великобритании. Эта торжественная церемония как бы символизировала решимость народов антигитлеровской коалиции совместно одержать победу в войне и общими усилиями обеспечить мир. Ради этого, собственно, тут собрались представители трех великих держав.
На площади перед аэровокзалом стояли большие черные лимузины и эскорт полицейских-мотоциклистов. Как только мы разместились в машинах, вся процессия тронулась в путь. Мчавшиеся впереди мотоциклисты включили полицейские сирены, вдруг напомнившие мне уже давно не раздававшийся в Москве сигнал воздушной тревоги. Вначале ехали по автостраде, затем по улицам города, не обращая внимания на красные сигналы светофора. Всех нас, кроме Громыко, который отправился к себе на квартиру, расположенную в особняке посольства, поселили в отеле «Статлер», считавшемся тогда в Вашингтоне самым роскошным.
Во второй половине дня Громыко пригласил членов советской делегации на обед. Было там по-домашнему непринужденно. Много шутили по поводу различных эпизодов нашего длинного путешествия. Андрей Андреевич знакомил нас с особенностями вашингтонской жизни, давал меткие характеристики тамошним политическим деятелям, наставлял практическими советами.
Мы допоздна засиделись у посла. Многодневный перелет давал себя знать, и я уже подумывал о том, как приятно будет отдохнуть в удобной статлеровской постели. Но не тут-то было. Громыко, который как бы вовсе и не чувствовал усталости, предупредил, что через сорок минут ждет нас в своем рабочем кабинете в посольстве.
В назначенный час все собрались в просторном кабинете посла. Высокие окна, выходившие в небольшой палисадник, отделяющий особняк от проезжей части улиц, были прикрыты плотными занавесями. Мы уселись в глубоких кожаных креслах. Помимо членов нашей делегации были тут и руководящие работники посольства. Сначала происходил обмен мнениями по поводу предстоящей конференции. Громыко предупредил, что работа будет нелегкой, так как по многим проблемам позиции участников переговоров значительно расходятся. Затем посол кратко изложил советскую точку зрения на характер будущей всемирной организации безопасности.
Громыко предложил всем еще раз внимательно ознакомиться с советским меморандумом, подготовленным к конференции, а также с проектами американской и английской делегаций. Этими документами все три страны — участницы конференции обменялись заранее.
Обращаясь к генералу Славину и адмиралу Родионову, посол сказал, что в соответствии с нашей общей позицией им как военным экспертам надо продумать конкретную аргументацию, поскольку, судя по составу американской и английской делегаций, включающих значительное число высших чинов всех трех родов войск, военные аспекты, несомненно, подвергнутся детальному обсуждению. Повернувшись в мою сторону, Громыко напомнил, что надо будет тщательно фиксировать существо дискуссии и следить за тем, чтобы наша, позиция была правильно отражена в протоколах конференции.
Затем посол сделал краткий обзор внутриполитического положения Соединенных Штатов. Тут, подчеркнул он, решающее влияние оказывает сейчас предвыборная кампания, размах которой становится все шире. Выборы президента должны были состояться в ноябре, и естественно, что и сам Рузвельт, по существу, весь правительственный аппарат уделяли им большое внимание. У Рузвельта, сказал Громыко, положение сложное. Крайняя реакция ведет на него атаку. Хотя многое делается завуалированно, несомненно, что главный удар наносится по рузвельтовскому курсу, направленному на сотрудничество с Советским Союзом как в войне, так и в послевоенный период. На этой негативной платформе объединились разные группировки. В целом они представляют значительную силу. В этой связи особенно неблагоприятно сложилась обстановка для вице-президента Уоллеса, прогрессивные взгляды которого давно являются бельмом на глазу здешней реакции. Поэтому Рузвельт в попытке нейтрализовать противников, видимо, решил пожертвовать Уоллесом и взять себе напарником такого человека, который устроил бы крайне правые группировки. Среди возможных кандидатов, в частности, называют сенатора Трумэна. Такой выбор кандидатуры вице-президента серьезно осложнит обстановку, поскольку враждебное отношение Трумэна к. Советской стране не составляет секрета. Сейчас идет закулисная борьба, чем она закончится, пока трудно сказать, но все это, несомненно, скажется и на работе конференции в Думбартон-Оксе.
Совещание закончилось поздно, но каждый чувствовал, что вечер проведен с пользой. Всем нам нужна была такая политическая зарядка, нужна была внутренняя собранность и мобилизация сил для предстоящих переговоров.
Царапкин, Долбин и я решили пройтись перед сном по ночным вашингтонским улицам. Дневная жара спала, листву деревьев шевелил легкий ветерок. Мы пошли по направлению к Белому дому…
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Думбартон-Окс
Утром 21 августа у подъезда «Статлера» на 16-й улице нас ожидали два больших черных лимузина. По пути я заехал в посольство взять папку с бумагами. Машины выехали на Массачусетс авеню, потом свернули налево и оказались в тенистом парке. Шоссе шло вдоль порожистой речушки, которая так и называется — Скалистый ручей. Местность здесь холмистая, очень живописная. Казалось, что город остался позади, но, переехав через ручей по высокому мосту, мы снова оказались в городских кварталах, но уже в районе 30-х улиц. Еще несколько поворотов, и мы въехали сквозь узорчатые чугунные ворота в красиво распланированный парк. Это и был Думбартон-Окс. Машины замедлили ход и, прошуршав шинами по мелкой гальке, остановились у подъезда с широкой лестницей. К парадной двери вело несколько ступенек.
Старинное имение, некогда принадлежавшее богатой семье американского дипломата Роберта Вудс Блисса, затем стало собственностью Гарвардского университета. Государственный департамент арендовал усадьбу на время конференции. Трехэтажный особняк, увитый плющом и окруженный высокими деревьями, возвышался на холме на краю парка, спускавшегося террасами далеко вниз. Трава на лужайках была коротко подстрижена. Цвели олеандры. В нижней части парка находился бассейн для плавания и беседка с душем.
В первом этаже особняка — очень высокие окна, схваченные редким переплетом. Во втором этаже на фоне серой стены выделялись зеленые жалюзи. Окна третьего этажа — мансарды — были как бы врезаны в высокую черепичную крышу. Зал пленарных заседаний находился на первом этаже: большая гостиная с мраморным камином, со старинными гобеленами во всю стену, с блестящим, как зеркало, полом и огромной бронзовой люстрой. Мебель, которая в обычных условиях, надо полагать, дополняла убранство этой роскошной гостиной, отсутствовала. Вместо нее были установлены три длинных полированных стола из темного дерева для делегации и четвертый стол, поменьше, для секретариата конференции.
Кроме этого зала в восточном крыле здания, несколько выше, как бы в бельэтаже, находился небольшой кабинет, предназначенный для совещаний руководителей делегаций трех держав. Кабинет украшали панели мореного дуба, прикрывавшие нижнюю часть стен, книжные полки и камин. Обставлена эта комната была более уютно, тут стояли мягкие кресла и диваны, обитые полосатым шелком. Посредине — круглый полированный стол красного дерева.
На втором этаже помещались объединенный секретариат конференции и рабочие комнаты каждой из делегаций.
Здесь, пожалуй, уместно привести состав американской и английской делегаций.
Делегация Соединенных Штатов: заместитель государственного секретаря Эдвард Стеттиниус (глава делегации), советник госдепартамента по политическим вопросам Джеймс Данн, советник госдепартамента Исайя Боумэн, генеральный советник управления военной мобилизации Бенджамин Коэн, специальный помощник государственного секретаря Джозеф Грю, председатель комитета специальных исследований госдепартамента Лео Пасвольский, генералы Эмбик, Фэйрчайлд и Стронг, адмиралы Хэмберн, Вильсон и Трейн, сотрудники госдепартамента Хорнбек, Лонг и Вильсон. Кроме того, в конференции принимали участие советники и секретари, среди них Болен, Хисс, Хекворт и др. Американская делегация была самой многочисленной.
Делегация Великобритании: постоянный заместитель министра иностранных дел Александр Кадоган (глава делегации), глава политического департамента Форин оффис Глэдвин Джебб, адмирал Нобл, маршал авиации Уэлш, генералы Макреди и Гроув-Уайт, профессора Уильям Малкин и Чарльз Вебстер, работники Форин оффис — советники и секретари: Маккензи, Поинтон, Фалла, мисс Томас, Локсли, Гроув-Бут, полковник Кэпл-Данн.
Незадолго до 10 часов утра зал пленарных заседаний заполнили участники конференции, начавшейся с торжественного открытия. По этому случаю в дальнем конце зала, около задрапированной серой тканью стены, был поставлен небольшой стол, за которым должны были сидеть государственный секретарь США Корделл Хэлл, три руководителя делегаций, а также посол Великобритании в Вашингтоне лорд Галифакс. А. А. Громыко присутствовал в двух качествах: как глава советской делегации и как посол Советского Союза в Соединенных Штатах.
На столе президиума лежал деревянный председательский молоток и были установлены микрофоны. Торжественное открытие конференции передавалось по радио.
Корделл Хэлл желает успеха
Когда каждая делегация заняло место за своим столом, в зал вошли руководители конференции, а также Корделл Хэлл и лорд Галифакс. Раздались аплодисменты, Хэлл поклонился. Он совсем не изменился с тех пор, как я видел его в Москве год назад: высокий, худощавый, со спокойными размеренными движениями. Вошедшие постояли немного у драпировки, о чем-то разговаривая, потом Хэлл, Громыко и Стеттиниус сверили часы: было ровно 10. Хэлл подошел к центру стола. Громыко, Стеттиниус, Кадоган и Галифакс опустились в кресла.
Лорд Галифакс оказался по правую руку Хэлла. Глядя на его вытянутую физиономию, я думал о той роли, которую этот человек сыграл в предвоенные годы. Его имя, наряду с именем Чемберлена, стало синонимом мюнхенской политики умиротворения. Занимая пост министра иностранных дел в возглавляемом Чемберленом правительстве Англии, Галифакс делал все, чтобы направить агрессию Гитлера на Восток, против Советского Союза. С его участием был выработан курс предвоенной британской политики — невмешательство в Испании, когда Франко готовился потопить в крови республику; поощрение ремилитаризации нацистской Германии; предательство в Мюнхене; отклонение советских предложений, направленных на создание системы коллективной безопасности в Европе и организацию совместного отпора гитлеровской агрессии; наконец, нелепая комедия переговоров с Советским Союзом летом 1939 года, когда в Москву нарочито были посланы третьестепенные чиновники, не имевшие полномочий для достижения соглашения. Это якобы должно было убедить Гитлера, что Англия не собирается вести серьезные дела с большевиками и что путь для вермахта на Восток открыт. Вся эта предвоенная политика поощрения агрессора была связана с именем Галифакса.
Его дипломатические маневры провалились, западным державам пришлось испытать на себе первые удары военной машины Гитлера, и логика событий привела к объединению Англии и Советского Союза в антигитлеровской коалиции. Галифаксу ничего не оставалось, как покинуть министерский пост и довольствоваться креслом посла его величества в Вашингтоне.
Теперь он был со всеми нами очень любезен, устроил в своем роскошном посольском особняке прием по случаю пребывания нашей делегации в Вашингтоне. Но, конечно, он едва ли мог примириться с тем, что история пошла не по намеченному им пути. И он, надо полагать, не упускал случая оказать в Думбартон-Оксе соответствующее влияние на английскую, а возможно, и на американскую позицию…
Хэлл стукнул три раза молотком. В зале воцарилась тишина. Надев пенсне, Хэлл раскрыл лежащую перед ним папку и начал читать речь скрипучим негромким голосом:
— От имени президента Рузвельта и от своего собственного имени я приветствую вас в Вашингтоне. Открывая эту важную конференцию, я хочу от имени нас обоих сделать некоторые краткие замечания. Серия переговоров, которую мы начинаем сегодня, знаменует собой новый шаг к созданию прочной, системы организованных мирных взаимоотношений между странами. Мы встретились в момент, когда силы свободы идут к блестящему триумфу в войне, Наша задача состоит в том, чтобы заложить основу, на которой после победы и заключения мира можно обеспечить мир, свободу и все возрастающее процветание для будущих поколений…
Сам характер нынешней войны заставляет нас искать прочного мира, основанного на правосудии и справедливом отношении к отдельным странам. Мы были и до сих пор являемся свидетелями разгула сил такого дикого варварства, какое добрые цивилизованные люди считали больше невозможным. Вооруженным всеми орудиями современной науки, техники и столь же мощными средствами насилия и обмана, этим силам почти удалось добиться успеха в порабощении человечества. В годы, в течение которых эти агрессоры готовились к нападению, среди миролюбивых стран не было единства, у них не было силы, ибо у них отсутствовала бдительность и сознание опасности, нависшей над ними. Сейчас этим силам зла угрожает полный разгром, так как в конце концов страны, намеченные ими в жертвы, достигли единства и вооружились, что сейчас и приносит нам победу.
Уроки, полученные нами в результате нашей прошлой разобщенности и слабости, должны глубоко запасть в умы и сердца нашего поколения и будущих поколений. То же должно произойти и с уроками, полученными в результате единства и силы, накопленной вследствие этого Объединенными Нациями в данной войне. Единство общих действий ради общего блага и против общей опасности представляет собой единственный эффективный способ, которым во время войны миролюбивые страны могут обеспечить свою безопасность, порядок и прогресс вместе со свободой и справедливостью…
Далее Хэлл перешел к вопросу о важности создания организаций, с помощью которых воля к миру могла бы претворяться в действия, и коснулся той работы, которая уже проделана союзными державами по разработке основ справедливого и прочного мира.
— Эти основы, — заявил Хэлл, — должны поддерживать мероприятия по мирному разрешению международных конфликтов и совместному использованию силы, если это потребуется для предотвращения или ликвидации угрозы миру или нарушения мира. Они также должны поддерживать мероприятия для обеспечения совместными усилиями, условий для прочного благосостояния, необходимого для установления мирных и дружественных отношений между, странами и существенно важных для сохранения безопасности и мира…
— Правительства, представленные здесь, — продолжал государственный секретарь, — полностью разделяют убеждение, что сохранение мира и безопасности в будущем, являющееся главной целью международного сотрудничества, должно стать совместной задачей и лежать на ответственности всех миролюбивых стран, малых и великих. Они торжественно провозгласили это убеждение в Декларации министров иностранных дел в Москве 30 октября 1943 г….
Касаясь существа Московской декларации, Хэлл заявил, что каждое правительство взяло на себя долю ответственности за руководство в создании международной организации, преследующей эту цель, путем совместных действий миролюбивых стран.
В заключение Хэлл сказал:
— Всеми признано, что любая мирная организация безопасности неизбежно потерпит крах, если она не будет поддержана силой, которая будет использоваться в конечном счете в случае неуспеха всех других средств сохранения мира. Эта сила должна быть под рукой в необходимых размерах и вне всяких сомнений. Страны мира должны иметь в соответствии со своими возможностями достаточные силы для совместных действий, когда это потребуется, чтобы предотвратить нарушения мира…
Закончив речь, Хэлл снова стукнул молотком и сказал:
— Теперь я хотел бы предоставить слово руководителю советской делегации послу Громыко. Прошу вас, господин посол.
Громыко обратился к присутствовавшим со следующей речью:
— Я полностью разделяю выраженные государственным секретарем Хэллом мысли по поводу важности настоящих переговоров. Народы наших стран ведут борьбу не на жизнь, а на смерть против злейшего врага человечества — гитлеровской Германии. Эта борьба уже стоила нашим странам, а также многим другим свободолюбивым странам мира тяжелых человеческих и материальных жертв…
Громыко сказал далее, что народы мира, естественно, ищут средства, чтобы предотвратить повторение аналогичной трагедии в будущем. Они пролили слишком много крови и принесли слишком много жертв, чтобы безразлично относиться к своему будущему.
— Вот почему, — продолжал советский представитель, — они стремятся создать международную организацию, которая будет в состоянии позаботиться о том, чтобы подобные трагедии не повторялись, а также о том, чтобы обеспечить народам в будущем мир, безопасность и процветание. Членами такой организации могут быть, как указано в Декларации четырех наций, подписанной на Московской конференции 30 октября 1943 г., все большие и малые свободолюбивые страны мира…
— Само собой понятно, — сказал Громыко, — что для сохранения мира и безопасности недостаточно обладать только желанием обуздать агрессора и применить против него силу, если этого потребуют обстоятельства. Чтобы обеспечить мир и безопасность, совершенно необходимо обладать ресурсами, с помощью которых можно предотвратить или подавить агрессию и сохранить международный порядок. В свете вышесказанного становится ясно, какая ответственность возлагается на страны — члены будущей организации безопасности, и особенно на страны, несущие главное бремя нынешней войны и обладающие необходимыми ресурсами и силой для поддержания мира и безопасности. Вот почему все, кому дороги свобода и независимость, не могут не сделать вывода, что эту свободу и независимость можно сохранить только в том случае, если будущая международная организация безопасности в интересах свободолюбивых народов мира эффективно использует все ресурсы, находящиеся в распоряжении членов организации, и прежде всего ресурсы таких великих наций, как Советский Союз, Соединенные Штаты и Великобритания…
— Единство союзников, — продолжал Громыко, — проявленное в борьбе против общего врага, и их стремление сохранить мир в будущем представляют собой гарантию того, что настоящие исследовательские переговоры дадут положительные результаты. Они являются первым шагом на пути, ведущем к постройке здания, в возведении которого заинтересованы все свободолюбивые народы мира ради создания эффективной международной; организации по вопросам сохранения мира и безопасности…
— Я не сомневаюсь, — сказал в заключение Громыко, — что в ходе нынешних переговоров представители трех наций будут вести свою работу в духе взаимного понимания и в дружественной атмосфере, которая будет способствовать успешному исходу переговоров.
Хэлл снова поднялся, поблагодарил Громыко за его выступление и, стукнув молотком, предложил слово руководителю английской делегации. Кадоган сказал:
— Начинающиеся сегодня переговоры вытекают из статьи 4 Московской декларации, в разработке которой господин Хэлл играл столь заметную, выдающуюся, роль. Мы с восхищением слушали мудрые, сильные слова, которыми он положил начало нашей работе, и, я уверен, все мы искренне благодарны ему за его неутомимые усилия, направленные на обеспечение международного взаимопонимания.
У нас имеется также основание быть благодарными Советскому правительству. Мне кажется, что именно по его инициативе было принято решение об организации нынешних переговоров, и из позиции, занятой в то время Советским правительством на Московской конференции, было ясно, что оно придает величайшее значение созданию системы, предназначенной для предотвращения повторения нацистско-фашистской агрессии. Мое правительство, со своей стороны, с самого начала высказывалось за такого рода переговоры и делало все возможное, чтобы ускорить их…
Отметив, что победа Объединенных Наций, когда она наступит, должна быть полной, Кадоган продолжал:
— Мы собрались здесь, для того чтобы наметить план создания системы, которая даст возможность отдельным нациям эффективно сотрудничать ради общего блага. Отдельные нации, малые и большие, должны стать основой нашей новой мировой организации, и наша задача заключается в том, чтобы создать механизм, который возложит на каждую из них ответственность, соответствующую ее силе. Это нелегкая задача, но она может быть разрешена. Никто не желает навязывать диктатуру великих держав остальному миру, но совершенно очевидно, что, если великие державы не будут объединены в своей цели и не будут готовы взять на себя и лояльно выполнять свои обязательства, ни один механизм, созданный для сохранения мира, не окажется работоспособным.
Далее Кадоган заявил, что нужно в какой-то мере предусмотреть координацию деятельности различных функциональных организаций, которые уже созданы или возникнут в дальнейшем, и каким-то образом связать их с общемировым международным механизмом.
— Нас вдохновляет тот факт, — сказал в заключение Кадоган, — что, как это видно из уже распространенных меморандумов, между нашими взглядами имеется много общего. Не следует также забывать и о факторе времени. События развиваются быстрыми темпами, и мир может наступить раньше, чем это некоторые предполагают… Поэтому, если нам необходимо определить пункты, по которым, по-видимому, существует предварительное согласие, мы должны работать быстро и упорно.
Кадоган закончил свою речь, и Хэлл поблагодарил присутствующих за внимание. Теперь, сказал он, конференция может перейти к практической работе.
Стеттиниус попросил слова. Он предложил сделать перерыв, с тем чтобы главы делегаций могли обсудить конкретные вопросы, связанные с порядком ведения конференции.
— Я полагаю, — сказал Стеттиниус, обращаясь к Громыко и Кадогану, — что нам следовало бы создать некий руководящий комитет, состоящий из трех глав делегаций и еще тех лиц, которых мы сочтем нужным привлечь дополнительно. Это упростило бы решение многих вопросов, которые не обязательно рассматривать на пленарных заседаниях.
Громыко и Кадоган согласились с этим предложением. Стеттиниус сказал, что было бы целесообразно созвать первое заседание комитета сегодня же после перерыва, скажем, в три часа. Против этого никто не возражал. Обращаясь к Хэллу, Стеттиниус сказал:
— У меня больше нет никаких замечаний, господин председатель…
Хэлл кивнул, стукнул молотком и объявил перерыв.
Три проекта
В три часа дня в кабинете, расположенном в бельэтаже, открылось первое заседание Руководящего комитета. На нем присутствовали: Громыко, Соболев, Бережков (Советский Союз); Стеттиниус, Пасвольский, Данн, Хисс (Соединенные Штаты); Кадоган, Джебб (Англия).
Стеттиниус, который по праву хозяина открыл заседание, сказал, что следовало бы решить некоторые технические и процедурные вопросы, связанные с работой конференции. В частности, по его мнению, нужно прежде всего условиться о рабочем языке. Стеттиниус спросил, какие имеются на этот счет предложения.
Первым взял слово Громыко. Он сказал, что оба языка — русский и английский — должны быть рабочими языками, находящимися на равном положении. Но английский язык может чаще использоваться.
— Я не думаю, — сказал Громыко, — что советская группа будет во всех случаях пользоваться русским языком, но мы хотим иметь возможность пользоваться им время от времени…
Возражений не последовало. Было решено считать рабочими оба языка — английский и русский.
Далее рассматривался вопрос о постоянном председателе. Кадоган предложил кандидатуру Стеттиниуса как представителя пригласившего правительства. Громыко поддержал предложение английского делегата.
— Может быть, было бы лучше, если бы мы все трое председательствовали поочередно? — спросил Стеттиниус.
Кадоган возразил, повторив, что эту функцию следует выполнять американскому представителю. После некоторого обсуждения было принято первоначальное предложение, чтобы Стеттиниус исполнял обязанности постоянного председателя. Соглашаясь с этим, Стеттиниус сказал, что, если он почему-либо будет отсутствовать, председательствовать на конференции должны поочередно Громыко и Кадоган. С этим все согласились.
Следующий вопрос касался часов работы конференции. Договорились начинать утренние заседания в 10 часов 30 минут и работать с небольшим перерывом на ленч примерно до 13 часов. Наиболее подходящим временем начала вечерних заседаний было признано 15 часов, с тем чтобы заканчивать в 16 часов 30 минут или в 17 часов, в зависимости от хода работы в каждом конкретном случае.
Стеттиниус коснулся проблемы освещения хода конференции в прессе. Он заявил, что, по его мнению, любое лицо, причастное к конференции, может давать какую-либо информацию прессе только по взаимному согласию всех трех руководителей делегаций. Этот вопрос также подвергся некоторому обсуждению, после чего было принято решение делать заявления через специальных представителей по связи или через пресс-секретарей делегаций, которые должны получать одобрение соответствующих руководителей. Все согласились также, что по процедурным и техническим вопросам следует давать прессе как можно больше информации ежедневно или хотя бы через день. На этом особенно настаивал Стеттиниус, заявивший, что его постоянно атакует американская печать и что надо что-то ей сообщать.
Еще один важный вопрос, который обсудил Руководящий комитет, касался протоколов заседаний. Договорились, что секретариат будет нести ответственность за подготовку и выпуск неофициальных отчетов о заседаниях. В них должны точно воспроизводиться внесенные предложения, излагаться общая дискуссия, а также решения, принятые по отдельным предложениям. Было решено, что Фалла (английская делегация) и Юнин (советская делегация) будут вместе с американскими коллегами сидеть за столом секретариата и по мере необходимости помогать в составлении протоколов, окончательно оформлять которые было поручено Элджеру Хиссу. Утром следующего дня подробный текст протокола должен представляться в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой группы. Этот текст следует быстро просмотреть, внести необходимые дополнения и поправки, после чего Хисс составит окончательный текст с учетом внесенных поправок, даст его размножить и представит каждой из делегаций.
Решив эти вопросы, члены Руководящего комитета обменялись мнениями о порядке работы первого пленарного заседания. Кадоган предложил, чтобы за основу для переговоров был взят английский документ, разосланный заранее всем участникам, как и соответствующие документы советской и американской делегаций. Громыко заметил, что в английском и американском документах слишком много внимания, уделяется деталям.
— Я думаю, — продолжал советский делегат, — что прежде всего следовало бы обсудить наиболее важные моменты. Советское правительство считает, что в своем документе оно перечислило наиболее существенные вопросы. Второстепенные вопросы легче будет обсудить и решить, когда удастся разрешить основные проблемы. Под этим углом зрения и следует рассматривать соответствующие разделы британского и американского документа…
Отвечая Громыко, Стеттиниус сказал, что согласен начать переговоры с изучения советской точки зрения. Он полагает, что советская сторона будет основываться на своем документе, тогда как американцы и англичане будут пользоваться своими документами. Затем можно будет решить, какие дополнительные пункты следует включить в обсуждение.
С этим предложением все согласились.
Английские предложения имели пять разделов.
Раздел «А» излагал принципы и цели будущей организации и ее структуру. Обеспечивая международный мир и безопасность, организация должна, кроме того, ставить перед собой и задачу улучшения экономических условий во всем мире, защищать права человека и выполнять другие позитивные задачи. Что касается структуры организации, то в английском меморандуме подчеркивалась необходимость обеспечения особой роли четырех держав — инициаторов ее создания (СССР, США, Англии и Китая). Главными органами намечались всемирная ассамблея и всемирный совет. В отношении состава совета не делалось определенных предложений, но указывалось, что этот орган не может быть многочисленным. Помимо всемирной организации, допускалось и существование региональных организаций, действующих под ее руководством.
Раздел «В» излагал предложения о мирном разбирательстве международных споров, международных гарантиях и мерах для поддержания мира и безопасности. Разрешение политических споров возлагалось на всемирный совет, решения которого должны приниматься двумя третями голосов, включая голоса четырех великих держав.
Раздел «С» касался военных вопросов. В частности, в нем предлагалось создание военно-штабного комитета из представителей четырех держав. По совету военно-штабного комитета всемирный совет должен был распоряжаться определенными квотами вооруженных сил государств — участников организации. Предполагалось создание общих гарнизонов в некоторых точно указанных районах.
Раздел «D» формулировал необходимость координации экономического международного аппарата.
Раздел «Е» касался процедуры учреждения всемирной организации. В нем подчеркивалась необходимость после завершения переговоров в Вашингтоне опубликовать результаты этих переговоров с целью созыва в дальнейшем конференции всех Объединенных Наций.
Американские предложения были довольно детально разработаны и имели следующие разделы: 1. Общий характер международной организации. 2. Генеральная ассамблея. 3. Исполнительный совет. 4. Международный суд. 5. Мирное урегулирование споров. 6. Определение угрозы миру или нарушений мира и связанные с этим действия. 7. Регулирование вооружений и вооруженных сил. 8. Мероприятия по экономическому и социальному сотрудничеству. 9. Генеральная администрация и секретариат. 10. Процедура создания организации и введение ее в действие.
В разделе, посвященном генеральной ассамблее, указывалось, что все члены организации имеют в ассамблее один голос. Однако в бюджетно-финансовых вопросах каждое государство должно было обладать количеством голосов, пропорциональным его участию в финансировании расходов организации. Американские предложения предусматривали, что совет будет состоять из 11 членов, включая четыре державы-инициатора, а также Францию. При голосовании в совете требовалось большинство, включающее совпадающие голоса всех государств-членов, имеющих статут постоянных членов.
Экономический и социальный совет должен был, согласно американскому проекту, получить широкие полномочия, в частности в деле координации деятельности различных специализированных учреждений, работающих в социально-экономической области.
В проекте предусматривалась должность генерального директора организации, исполняющего свои обязанности в течение пятилетнего срока, и говорилось о подчиненном ему секретариате.
Советский проект частично совпадал с предложениями Соединенных Штатов. Но тут особо подчеркивалось, что в будущей организации основная роль должна принадлежать державам, несшим главное бремя войны против фашистских агрессоров. На них прежде всего должна лежать ответственность за поддержание мира. В центральном органе должны быть представлены все великие державы. При принятии решений требуется единогласие. В распоряжении организации должны находиться международные вооруженные силы. Организация должна быть именно «организацией безопасности», и к ее компетенции не следует относить вопросы экономические, социальные и другие; для этого должна быть создана особая организация. В советском документе уделялось особое внимание воздушным вооруженным силам, которые должны быть предоставлены в распоряжение организации, и в частности ее совета.
Детальное, пункт за пунктом сопоставление трех документов, как и подробный анализ исходных позиций сторон, — предмет специального исследования. Мне же хочется воспроизвести прежде всего атмосферу конференции, давая при этом читателю необходимое общее представление о проблемах, вызывавших дискуссии и споры.
В ходе заседания, о котором здесь идет речь, Стеттиниус сказал, что следует подготовить первое заявление для прессы. По его мнению, надо сообщить, что переговоры начались с обсуждения основных принципов будущей международной организации и что на первом заседании советская делегация изложила свои взгляды.
Против этого предложения ни у кого возражений не было, и Стеттиниус предложил Хиссу, который тщательно записывал весь ход обсуждения, подготовить окончательный текст первого заявления для прессы. Хисс сказал, что сразу же после окончания совещания представит такой текст.
Сопоставление позиции
22 августа в 10 часов 30 минут утра открылось первое пленарное заседание. Делегации — все они были в полном составе — заняли места за своими столами. Эти длинные столы как бы образовали букву П, в верхней части которой сидели американцы, слева — советская делегация, справа — английская. В нижнем промежутке находился стол секретариата конференции. На столах лежали большие блокноты и отточенные карандаши, на тонких пробковых подстилках стояли кувшины с водой и льдом, стаканы и пепельницы. Тут же были разложены коробки с сигарами и пачки сигарет. Место каждого участника было отмечено согнутой белой карточкой с соответствующей фамилией.
Стукнув председательским молотком, Стеттиниус предложил приступить к работе. Сразу же Громыко попросил слова.
— Я предлагаю, — сказал он, — чтобы постоянным председателем нашей конференции был мистер Стеттиниус.
Кадоган поддержал предложение Громыко.
— Ставлю это предложение на голосование. Прошу тех, кто «за», поднять руки… Единогласно, — и Стеттиниус вновь стукнул молотком.
После этого было подтверждено принятое накануне Руководящим комитетом решение о том, что в случае отсутствия постоянного председателя заседания будут вести советский и британский руководители поочередно. Условились также, что английский и русский, языки являются официальными языками конференции.
Покончив с процедурными вопросами, конференция перешла к сопоставлению позиций ее участников. По предложению председателя первым выступил А. А. Громыко. Он представил общие соображения советской делегации относительно характера предполагаемой международной организации безопасности. Громыко предложил ограничиться на данной стадии обсуждением главных вопросов, указанных в советском меморандуме, поскольку это облегчило бы достижение договоренности. Позднее можно было бы обсудить менее важные, второстепенные вопросы.
Затем Громыко зачитал раздел за разделом советский меморандум. В ходе ознакомления с этим документом время от времени возникали короткие дискуссии. Кадоган, например, предложил отнести рассмотрение вопросов региональных организаций, а также экономических и социальных проблем на более позднюю стадию дискуссии. Его предложение, было принято.
Любопытно, что уже при первом изложении советской позиции западных делегатов всполошил термин «агрессия». Обратив внимание на употребление этого слова в параграфе 1 советского меморандума, Кадоган заявил, что использование термина «агрессия» может вызвать некоторые трудности. Громыко возразил, указав, что включение этого термина в текст документа вполне закономерно.
Кадоган попросил далее разъяснить смысл фразы «принятие любых других мер» в параграфе 3. Громыко ответил, что имеется в виду принятие военных акций, если мирные средства не предотвратят агрессию.
Затем слово взял американский делегат Пасвольский. Посасывая маленькую кривую трубку и блестя стеклами очков, он откинул назад свою большую, круглую, как мяч, голову и сказал:
— Позиция Соединенных Штатов в целом соответствует формулировкам, выраженным в параграфах 1 и 2 советского документа. Но в дополнение к этому американская делегация считает, что будущая международная организация должна также заниматься вопросами, связанными с созданием условий, необходимых для мирных взаимоотношений между государствами, что имеет важное значение для поддержания безопасности и мира. Однако я согласен, что обсуждение экономических и социальных проблем можно предпринять на более поздней стадии.
Едва Пасвольский умолк, в дискуссию вмешался Стеттиниус. Он поинтересовался, не пора ли уточнить, какие страны могут участвовать в организации.
После некоторого обсуждения было решено, что список стран — учредителей организации, на которые делается ссылка в параграфе 1, должен включать все правительства, которые участвовали в недавних конференциях в Хот-Спрингсе, Атлантик-Сити и в Бреттон-Вудсе. Кадоган заметил, что включение Франции может вызвать некоторые трудности, пока не будет выяснен, вопрос о ее правительственном статусе. Было решено обсудить и эту проблему позднее.
Участники конференции достигли общего согласия относительно основных органов организации безопасности. Это должны быть: генеральная ассамблея и совет. Кадоган предложил, чтобы вопрос о составе совета, о числе его членов и сроках их пребывания в этом органе был обсужден на более поздней стадии. Что касается правил голосования, то Кадоган заявил, что имеет инструкцию своего правительства предложить, чтобы совет принимал решения большинством в две трети голосов, включая совпадающие голоса постоянных членов.
— Я имею также инструкцию внести предложение, — добавил как бы невзначай Кадоган, — чтобы стороны, участвующие в споре, не принимали участия в голосовании.
Стеттиниус, который, видимо, почувствовал, что английский делегат затронул острую тему, тут же вмешался и предложил обсудить вопросы, поднятые Кадоганом, в соответствующем подкомитете.
Кратко был рассмотрен вопрос о международном суде, причем для уточнения деталей решили создать Юридический подкомитет. Обсуждалась также структура генерального секретариата. Предложения, касающиеся этого органа, было решено передать в соответствующий подкомитет.
Первое пленарное заседание закончилось в 11 часов 40 минут.
Все отправились в парк, где под могучими дубами стоял стол, заставленный закусками и прохладительными напитками.
Солнце освещало свежую зелень, разморенные теплом и влажным воздухом кедры издавали нежный запах хвои. После наполненного сигарным дымом зала хотелось подольше побыть на воздухе. Но вскоре Громыко подозвал меня и сказал, что пора идти на заседание Руководящего комитета.
Участники комитета собрались в 12 часов. Когда все расположились вокруг стола, Стеттиниус сказал, что созвал это заседание, чтобы сформировать подкомитеты, которые должны без промедления приступить к работе.
— Поскольку, как я понял, — продолжал председатель, — на утреннем пленарном заседании все признали необходимость существования таких подкомитетов, нам следует приступить к назначению соответствующих представителей от каждой делегации.
В итоге рассмотрения этого вопроса подкомитеты были сформированы в следующем составе:
Редакционный подкомитет: Соболев, Долбин (СССР); Хекворт (США); Малкин (Великобритания).
Юридический подкомитет: Голунский, Крылов (СССР); Малкин (Великобритания); Коэн, Хорнбек, Хекворт (США).
Подкомитет по вопросам безопасности: Соболев, Царапкин (СССР); Малкин, Джебб, Вебстер (Англия); Боумэн, Грю (США). Подкомитет военных представителей: Соболев, адмирал Родионов, генерал Славин (СССР); Джебб, адмирал Нобл, генерал Макреди, маршал авиации Уэлш, полковник Кэпл-Данн (Англия); Данн, адмирал Вильсон, генерал Фэйрчайлд, генерал Стронг, адмирал Трейн (США).
Было решено, что руководители делегаций должны быть членами каждого из подкомитетов и что, по возможности, они примут участие в их работе. Все признали особенно важным, чтобы главы делегаций присутствовали на заседаниях Подкомитета по вопросам безопасности и Подкомитета военных представителей. Соответственно условились строить и график работы этих подкомитетов.
Затем Стеттиниус поставил вопрос о функциях Руководящего комитета, он предложил, чтобы комитет наблюдал, координировал и руководил работой подкомитетов. Это предложение было принято.
Наконец, обсуждению подверглась повестка дня вечернего пленарного заседания. Стеттиниус спросил, нет ли возражений, чтобы на вечернем заседании рассмотреть британскую позицию. Все с этим согласились и условились, что вечернее заседание начнется в 14 часов 30 минут.
До начала пленарного заседания оставалось еще много времени, и почти все разъехались на обед. Мне пришлось задержаться в Думбартон-Оксе. Надо было прочитать составленные секретариатом протоколы уже проведенных заседаний и в случае необходимости предложить сразу же соответствующие поправки. Громыко поручил мне этим заниматься и каждый вечер, после заседаний конференции, докладывать ему.
Пленарное заседание началось в назначенное время. Стеттиниус, который с явным удовольствием выполнял председательские функции, стукнул молотком, в зале воцарилась тишина, и конференция возобновила работу.
Председатель объявил, что Руководящий комитет пришел к соглашению о создании четырех подкомитетов. Перечислив их, Стеттиниус пояснил, что Редакционный подкомитет должен заниматься редактированием текстов, представляемых на пленарное заседание; Юридический подкомитет займется главным образом вопросами, касающимися будущего международного суда; Подкомитет по вопросам безопасности обсудит состав и права ассамблеи, совета и генерального секретариата; наконец, Подкомитет военных представителей должен рассматривать военно-технические вопросы, связанные с поддержанием международного мира.
Зачитав намеченный состав подкомитетов, Стеттиниус спросил, нет ли у кого-либо дополнений или изменений. Никаких замечаний не последовало, и состав подкомитетов был утвержден. После этого конференция приступила к рассмотрению английского меморандума. Кадоган изложил британские взгляды на послевоенную организацию безопасности.
— Я не считаю необходимым, — начал английский делегат, — входить во все детали, поскольку во многих аспектах они рассмотрены в ходе дискуссий по предложениям, представленным Советским Союзом на прошлом пленарном заседании. Мы испытываем удовлетворение по поводу широкого поля согласия уже достигнутого, как это явствует из предложений трех делегаций. Вместе с тем мы хотели бы, чтобы британский документ, наряду с советским и американским, рассматривался формально представленным на конференции как основа для обсуждения…
Далее Кадоган сказал, что, по мнению британской делегации, необходимо при формулировании планов создания послевоенной организации безопасности проявлять гибкость как в отношении масштабов, так и методов. Преждевременная попытка установить жесткие рамки организации и процедуры может в итоге затруднить работу организации. Поэтому будущая организация должна основываться на таком изложении принципов и целей, как это указывается в британском меморандуме.
По мнению Кадогана, следует продолжить изучение вопроса о том, может ли такая международная организация принудить к урегулированию всех споров. Он полагает, что лучше было бы, если бы совет давал только рекомендации по урегулированию, и что следовало бы ожидать, что эти рекомендации не будут отвергнуты или игнорированы членами организации.
— Согласно предложениям Советского Союза и Соединенных Штатов, — продолжал развивать свою мысль английский делегат, — ассамблея не должна нести ответственность за урегулирование международных споров. Однако британская делегация считает полезным расширить масштабы ответственности и функции ассамблеи как можно больше, особенно в отношении экономических и социальных проблем. Было бы нецелесообразно (Отстранять ассамблею от всех этих областей. Что же касается общей структуры международной организации, то тут налицо общность принципиальных позиций всех трех делегаций…
Кадоган высказал мнение, что необходимо более тщательно продумать, как предоставить малым странам права, соответствующие их положению. Отметив, что в этом отношении британский меморандум содержит, по его мнению, более четкие формулировки, чем соответствующие разделы американских и советских предложений, Кадоган подчеркнул, что наиболее существенное расхождение касается состава консультативного военного органа будущей организации безопасности. Однако он, Кадоган, надеется, что эта проблема будет тщательно изучена военными экспертами трех делегаций. В ходе возникшей дискуссии Громыко обратил внимание на содержащуюся в британском меморандуме фразу: «государства не должны брать на себя обязательство соглашаться с решением, совета во всех случаях».
— Учитывая опыт Лиги наций в таких делах, — сказал Громыко, — необходимо внимательно рассмотреть это положение…
Кадоган заявил, что государства, возможно, не захотят принимать план, согласно которому совет имел бы право обязывать всех членов выполнять решение, которое он считает нужным принять.
Громыко попросил английскую делегацию высказать свою точку зрения относительно региональных организаций. Кадоган предложил подробно обсудить этот вопрос на последующих заседаниях и ограничился на этот раз лишь замечанием, что все региональные организации должны быть вспомогательными и находиться под общим наблюдением всемирной организации безопасности. Поэтому сначала следует решить вопрос о характере международной организации, а затем рассматривать проблему региональных организаций.
Громыко обратил внимание на пункты в британском предложении, касающиеся деятельности военно-штабного комитета, и спросил, не предполагается ли распространить членство в этом комитете на государства, не имеющие постоянного места в совете организации. Кадоган ответил, что, учитывая функции, которые должны быть приданы военно-штабному комитету, очевидно, что великие державы должны иметь в нем постоянное представительство. Они составят ядро комитета. При рассмотрении специальных проблем комитет мог бы привлекать представителей любого другого государства, особо заинтересованного в рассматриваемом вопросе.
На этом первоначальное рассмотрение британской позиции закончилось.
— Разрешите теперь, — сказал Стеттиниус, — доложить соображения делегации Соединенных Штатов относительно послевоенной организации безопасности. По первым трем пунктам сообщение сделает мистер Пасвольский.
Изложив эту часть американского меморандума, Пасвольский заявил, что прежде всего хотел бы сказать несколько слов по вопросу об обязательности рекомендаций ассамблеи. По мнению американской делегации, исполнительные функции должны лежать на совете, а решения ассамблеи должны носить рекомендательный характер.
Громыко спросил, будут ли решения совета обязательны для всех членов.
Пасвольский ответил, что, согласно американскому проекту, совет может принимать рекомендации и решения. Решения должны быть обязательны для всех членов. Затем Стеттиниус предоставил слово Хекворту, который доложил разделы 4 и 5 американского проекта. В этой связи возник вопрос о международной опеке. Громыко спросил, можно ли получить на этот счет соответствующую документацию. Хекворт ответил, что имеется в виду обсудить эти проблемы на более поздней стадии. Тот же ответ был дан на вопрос Громыко относительно документации по региональным организациям.
Затем Джеймс Данн доложил разделы 6 и 7 американских предложений.
Заседание закончилось в 15 часов 50 минут, а уже в 16 часов была созвана третья встреча Руководящего комитета.
Председательствовавший Стеттиниус сказал, что, хотя сегодня уже и проделана большая работа и все, видимо, устали, он созвал это заседание, чтобы урегулировать вопрос о председателях подкомитетов, которые теперь созданы. После некоторой дискуссии было решено, что, поскольку руководители делегаций намерены участвовать в работе Подкомитета по вопросам безопасности и Подкомитета военных представителей, то и в том и в другом будет соблюдаться уже установленный принцип постоянного председателя, которым избран Стеттиниус. Было также решено, что в отсутствие Стеттиниуса председательское место поочередно займут сначала Громыко, затем Кадоган. Такую же очередность условились соблюдать и на пленарных заседаниях.
Обменявшись еще раз мнениями о характере работы Редакционного подкомитета, участники заседания согласились, что там нет необходимости иметь председателя. Что же касается Юридического подкомитета, то тут единодушно председателем был утвержден Хекворт (Соединенные Штаты).
— На этом, господа, — сказал Стеттиниус, — мы можем закончить наш трудовой день. Думаю, что мы неплохо начали. Надеюсь всех вас увидеть вечером на приеме…
Прием в честь участников конференции заместитель государственного секретаря устроил в несколько старомодном, но очень фешенебельном отеле «Рузвельт». Здесь собрался весь цвет официального Вашингтона. Помимо делегаций Советского Союза, Англии и Соединенных Штатов, работников советского и английского посольств присутствовали также многие члены конгресса, представители американской армии, военно-морских и военно-воздушных сил и многочисленная пресса.
Когда все собрались вокруг длинных, красиво убранных и заставленных всевозможными яствами столов, Стеттиниус громогласно объявил:
— Дамы и господа! Я спешу сообщить приятную новость. Президент Рузвельт согласился принять завтра утром в Белом доме всех участников переговоров в Думбартон-Оксе!..
В Белом доме
Ночью прошла гроза, но утро было ясное и солнечное. Подстриженные лужайки вокруг Белого дома сверкали яркой зеленью. Наши машины остановились у высокой чугунной решетки, огораживающей территорию резиденции президента. Навстречу из приземистой сторожевой будки вышел молодой офицер в форме военно-морского флота и попросил следовать за ним.
Полукруглая широкая заасфальтированная аллея вела к центральному подъезду, но мы вошли через боковую дверь в цокольную часть здания. За небольшим вестибюлем, где стоял стол дежурного, тянулся длинный коридор. Поравнявшись с узкой дверцей, офицер распахнул ее, и мы прошли в просторную комнату без окон, всю заставленную книжными шкафами.
— Британская делегация еще не прибыла, — сказал сопровождавший нас офицер, — и я попрошу вас подождать немного в библиотеке президента…
Здесь уже находились члены американской делегации во главе со Стеттиниусом. Некоторые из них прохаживались вдоль шкафов, разглядывая корешки книг. В углу под торшером, бросавшим мягкий свет на старинный столик с выгнутыми ножками, сидели в креслах Данн и Пасвольский. Толстенький, круглолицый, всегда ухмыляющийся Лео Пасвольский, как обычно, потягивал кривую маленькую трубку, почти полностью прятавшуюся в его пухлом кулаке. Пасвольский отлично говорил по-русски и был, пожалуй, наиболее активным, за исключением, конечно, Стеттиниуса, из американских делегатов. Он родился в 1893 году в Павлограде, в России, но в начале века родители увезли его с собой в Америку. Окончив Колумбийский университет и получив степень доктора философии, Пасвольский занялся журналистикой и в качестве корреспондента присутствовал в Париже на мирной конференции 1919 года. Теперь он занимал пост специального помощника государственного секретаря и директора комитета по послевоенной программе госдепартамента.
Вскоре появилась английская делегация, и любезный морской офицер пригласил всех следовать дальше.
— Президент вас ждет, господа, — произнес он.
Мы прошли коридором и стали подниматься по узкой деревянной лестнице на второй этаж. Ступеньки немного поскрипывали под ногами. Этот звук напомнил мне старинный барский особняк, вроде нашего Останкинского музея. В то время Белый дом, хотя и имел снаружи импозантный вид, внутри производил впечатление стародавнего жилья с его скрипами половиц и лестниц, меблировкой и всем убранством. При Трумэне Белый дом был основательно реконструирован. Большая переделка была предпринята и при президенте Кеннеди, под руководством Жаклин Кеннеди, известной своим экстравагантным вкусом. Но в то время, к которому относится наш рассказ, пожалуй, со времени Вильсона, а быть может, еще с более раннего периода, в Белом доме почти ничего не менялось, и он казался каким-то очень старым. Это здание было построено после того, как в 1814 году английские войска сожгли прежний Белый дом, заложенный еще при президенте Джордже Вашингтоне.
Поднявшись наверх, мы немного задержались в секретариате, а Стеттиниус прошел в кабинет Рузвельта. Через несколько минут он появился и пригласил нас к президенту.
Рузвельт сидел за большим письменным столом в кресле. Подлокотники обтягивало зеленое сукно, основательно потертое и даже кое-где прорванное. Из надорванных мест торчал войлок: видимо, Рузвельту, который совсем не мог стоять на ногах, приходилось всем своим весом опираться на подлокотники, а особенно тогда, когда он пересаживался в коляску. Я впервые видел Рузвельта после того промозглого осеннего дня, когда он в Тегеране, в парке советского посольства сидел в джипе, укутавшись пледом, и прощался со Сталиным, устало улыбаясь. Сейчас он выглядел значительно бодрее и оживленнее.
Приветливо помахав нам рукой, Рузвельт пригласил подойти поближе. Выстроившись длинной вереницей, мы подходили к нему и здоровались, пожимая руку. Потом встали большим каре напротив его стола. Президент тяжело откинулся на спинку кресла, продолжая улыбаться и показывая ровный ряд крупных желтоватых зубов. За его спиной были установлены флаги: звездно-полосатый государственный флаг США, штандарт президента, знамена трех родов войск.
Обведя присутствующих взглядом, президент сказал, что хотел бы обратиться к нам как участникам важной конференции с небольшим приветствием.
— Джентльмены, — сказал он, — эта наша встреча является неофициальной. Я не подготовил своей речи. Я выражу лишь свои чувства, сказав, что мне хотелось пожать вам руки. Я был бы рад, если бы у меня была возможность отправиться в Думбартон-Окс, чтобы принять участие в ваших переговорах. Конференция такого рода всегда напоминает мне старую поговорку одного джентльмена по имени Альфред Смит, бывшего губернатора Нью-Йорка. Он очень удачно разрешал любую проблему, возникающую между капиталом и трудом, или любой спорный вопрос, касающийся властей штата. Он говорил, что, если вы приведете обе стороны в одну комнату, посадите их за один большой стол, предложите им снять пиджаки и положить ноги на стол и дадите каждому по хорошей сигаре, вам всегда удастся побудить их прийти к единому мнению. В этом была доля истины…
— На вас возложена огромная ответственность. В известной мере это предварительная ответственность, но мы извлекаем уроки из опыта, и я надеюсь, что при разработке планов будущего мира мы установим такое же добровольное сотрудничество и единство действий, какого мы достигли в деле ведения войны. Это совершенно замечательный факт, что мы вели эту войну с таким великим единодушием. Я думаю, что тут многое зависело от личностей. В 1941 году в период разработки Атлантической хартии, например, я плохо знал мистера Черчилля. Я встречался с ним один или два раза, совершенно неофициально, в период первой мировой войны. Но в Северной Атлантике, после трех-четырех дней, проведенных вместе, мы очень понравились друг другу. Я узнал его, и он узнал меня. Другими словами, мы сошлись. Позднее мистер Молотов приехал сюда, и мы провели вместе много времени. Затем в следующем году в Тегеране маршал Сталин и я узнали друг друга. У нас создались великолепные отношения. Мы сломали лед, если когда-либо он существовал, и с тех пор уже нет никакого льда…
— Мы должны, — продолжал президент, — не только заключить мир, но прочный мир, такой мир, при котором крупные страны будут действовать в унисон, предотвращая войны с помощью применения силы. Мы должны быть друзьями, совещаться друг с другом — это источник познания друг друга. Я надеюсь, что этого можно будет достигнуть, ибо такой дух уже был проявлен прежде, когда мы взялись совместно за достижение победы в войне. Но этот дух мы узнали лишь в последние несколько лет. Это нечто новое — близкие отношения между Британской империей и Соединенными Штатами. Великая дружба между русским народом и американским народом — это тоже новое. Мы должны сохранить дружбу, и, распространив этот дух на весь мир, мы добьемся периода мира для наших внуков. Все, что я могу сделать, — это пожелать вам успеха в великой задаче, за разрешение которой мы взялись. Это не будет последней задачей, но, во всяком случае, она даст нам основу для достижения той цели, к которой стремилось человечество на протяжении многих сотен лет. Очень приятно видеть вас. Желаю вам успеха…
Многих из нас, мне показалось, растрогала эта импровизированная и, быть может, именно поэтому так искренне звучавшая речь президента. Рузвельт, как мне думается, продемонстрировал нам свою решимость довести до конца дело победы над общим врагом и добиться, чтобы боевое сотрудничество великих держав продолжалось и в мирное время.
Слова Рузвельта свидетельствовали также о том, что он принимал близко к сердцу задачу создания международной организации по поддержанию мира, в рамках которой развивалось бы сотрудничество великих держав, входивших во время войны в антигитлеровскую коалицию. В отличие от Черчилля, который всегда ставил во главу угла имперские интересы британской короны, Рузвельт, видимо, искренне стремился, чтобы разрабатываемые тогда основные положения Устава ООН обеспечили эффективность действий новой организации безопасности хотя правящие круги США стремились к тому, чтобы обеспечить себе в этой организации ключевые позиции.
Никто не знал тогда, что Рузвельту осталось жить всего несколько месяцев и что за его смертью последует крутой поворот в политике Вашингтона…
КОНТУРЫ НОВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Структура и цели
Из Белого дома все отправились в Думбартон-Окс, где в половине одиннадцатого началось первое заседание Подкомитета по вопросам безопасности. Подкомитету предстояло детально рассмотреть предложения касательно структуры будущей организации, ее функций, рабочих органов, масштабов деятельности и ответственности.
На заседании присутствовали: Громыко, Соболев, Царапкин, Юнин, Бережков (СССР); Кадоган, Джебб, Малкин, Вебстер, Фалла, Гроув-Бут (Англия); Стеттиниус, Боумэн, Флетчер, Грю, Пасвольский, Болен (США). Председательствовал Стеттиниус.
Прежде всего речь зашла о некоторых процедурных вопросах. Стеттиниус объявил, что, согласно договоренности, достигнутой тремя руководителями делегаций, конференция не будет работать в ближайшие субботу и воскресенье. Что же касается следующей субботы, то решение последует позднее. Стеттиниус сообщил также, что все встречи между Громыко, Кадоганом и им, Стеттиниусом, будут впредь рассматриваться как заседания Руководящего комитета.
Приняв к сведению эти замечания председателя, подкомитет перешел к обсуждению вопросов, связанных с созданием всеобщей организации безопасности и ее главных органов.
Пасвольский сказал, что хотел бы представить набросок того, что предстоит рассмотреть подкомитету. Он вручил каждому из присутствующих листок, на котором значилось:
«А. Характер организации
1. Масштабы деятельности. 2. Основные цели. 3. Главные полномочия. 4. Взаимоотношения больших и малых государств. 5. Взаимоотношения с государствами-нечленами. 6. Члены — учредители организации. 7. Отношения с местными и региональными организациями и заключение соглашений.
В. Генеральная Ассамблея
1. Характер функций и полномочия. 2. Правила голосования.
С. Совет
1. Характер функций и полномочия. 2. Состав, метод отбора, изменения в составе. 3. Правила голосования».
После того как все ознакомились с этим документом, Стеттиниус сказал, что тут изложены лишь предварительные соображения и другие делегации могут внести любые дополнения.
— Теперь, — продолжал председатель, — я приглашаю посла Громыко продолжить изложение советских предложений по пунктам. По ходу дела представители других делегаций могут высказать свои соображения.
Когда Громыко подошел к разделу: «Мирное урегулирование споров и нарушений мира», Кадоган внес предложение, чтобы в обсуждении этого вопроса приняли участие члены Юридического подкомитета. При обсуждении пункта: «Цели организации» после некоторой дискуссии было решено, что тут следует учесть взгляды каждого из трех правительств. Условились, что делегации представят на следующем заседании проект раздела о целях организации, в котором учитывались бы положения, содержащиеся в каждом из трех меморандумов.
Далее обсуждался вопрос о составе организации. Особое внимание было уделено статусу стран, присоединившихся к Объединенным Нациям, в частности положению Франции. Было сформулировано общее мнение, что страны, подобно Франции, должны получить возможность войти в организацию на правах государств. Они фактически станут членами организации, когда будут иметь формально признанные правительства. Тут надо иметь в виду, что Франция, как и некоторые другие страны, оккупированные державами оси, не имела в то время официально сформированного и признанного правительства.
При обсуждении этого вопроса Громыко обратил внимание на упоминание о «других миролюбивых государствах». Тут, по его мнению, следует иметь в виду нейтральные государства, причем в каждом случае необходимо тщательно изучить вопрос и принять соответствующее решение. Все согласились с этим толкованием.
Говоря об основных органах всеобщей организации безопасности, Громыко констатировал наличие согласия по этому пункту и предложил передать вопрос о точном наименовании этих органов в Редакционный подкомитет.
Перейдя к функциям генеральной ассамблеи, Громыко отметил, что было бы неправильно лишить ассамблею возможности обсуждать вопросы разоружения и сокращения вооружений. Генеральная ассамблея должна обсуждать эти вопросы и давать рекомендации. Однако решения должен принимать совет. В полномочия генеральной ассамблеи входит также рассмотрение вопросов о приеме и исключении членов организации — это отвечало бы демократической процедуре. При этом генеральная ассамблея может избирать членов как по рекомендации совета, так и по своему собственному усмотрению.
Тут вмешался Пасвольский и сказал, что американская сторона согласна с советской точкой зрения насчет приема новых членов, однако вопрос об исключении следует рассмотреть особо.
Продолжая свое выступление, Громыко пояснил, что те проблемы, которые носят исключительно организационный или «рутинный» характер, должны решаться простым большинством голосов. Но все важные вопросы надо решать большинством в две трети голосов.
На это английский делегат заметил, что следовало бы точно определить, какого рода вопросы относятся к каждому из типов голосования.
Было решено вернуться к этому позднее.
Когда обсуждение коснулось функций и состава совета организации, американский делегат Боумэн спросил, как представляет себе советская сторона метод избрания членов совета. Громыко ответил, что постоянные члены совета не подлежат избранию, но вопрос о количестве постоянных членов пока остается открытым.
Была достигнута договоренность о предоставлении в будущем Франции постоянного места в совете. На вопрос американского делегата, можно ли в будущем увеличить число постоянных членов совета, Громыко пояснил, что за исключением Франции такое увеличение не предполагается и что число постоянных членов должно остаться неизменным на неопределенный период.
Кадоган согласился с этой точкой зрения. После некоторого обсуждения было согласовано, что такое изменение было бы равносильно «внесению поправки» в основной документ организации.
— Советский меморандум, — продолжал Громыко, — предусматривает, что решения совета должны быть обязательны, включая и те решения, которые касаются урегулирования споров…
— Но ведь могут быть такие споры, — возразил Кадоган, — которые не обязательно приведут к войне. Поэтому возникает, сомнение, следует ли оговаривать, что решения совета обязательны и для подобных споров.
Стеттиниус также высказал мнение, что во многих случаях совет мог бы ограничиться рекомендациями, но в тех случаях, когда под угрозой оказался бы мир, решения совета должны быть обязательны. Громыко согласился с этим. В итоге были намечены две ситуации:
в случае, когда имеется угроза миру, рекомендации совета должны быть обязательными;
в случае, когда нет угрозы нарушения мира, рекомендации совета не должны быть обязательными.
Английский делегат принялся развивать мысль, что требование, чтобы решения были обязательны для всех, таит в себе угрозу создания некоей «сверхдержавы». Поэтому упор следовало бы сделать на обеспечение мира и безопасности, а не на принудительные решения. Громыко возразил против такого умозаключения, и было решено позднее вернуться к обсуждению этой проблемы.
На этом заседание закончилось.
После перерыва на обед, в 14 часов 45 минут началось заседание Руководящего комитета. Стеттиниус сказал, что он только что обсуждал с Громыко возможность поездки в Нью-Йорк участников конференции.
— Посол Громыко, — продолжал Стеттиниус, — заинтересовался этим предложением, Я выясню возможность получения билетов на самолет для членов советской и британской групп, которые захотят посетить Нью-Йорк, на вечер в пятницу после окончания очередного заседания. Обратно можно было бы вернуться в воскресенье вечером. Некоторый перерыв в нашей работе все равно неизбежен, так как секретариат хочет иметь время, чтобы подогнать работу. К тому же мы еще раньше согласились, что в ближайшую субботу и воскресенье заседаний не будет…
На этом и порешили.
Инцидент с прессой
На том же заседании Руководящего комитета Макдермот затронул вопрос о позиции печати в связи со статьей Джеймса Рестона в газете «Нью-Йорк таймс». Он сообщил, что второй выпуск «Нью-Йорк таймс» содержит еще более подробный текст, чем тот, который делегаты увидели сегодня утром и который был взят из первого издания газеты. Из статьи видно, что Рестон познакомился с меморандумами, представленными каждой из трех групп. Поэтому, сказал Макдермот, другие журналисты хотят знать, как получил этот материал Рестон. Они также интересуются, не будут ли в связи с этим опубликованы тексты меморандумов.
— Я информировал корреспондентов, — продолжал Макдермот, — что такого намерения не существует. Еще до прибытия британской и советской делегаций в Вашингтон Рестон пообещал не использовать имеющиеся у него источники информации, поскольку он, Рестон, считал, что получит все сведения о переговорах во время конференции. Но, как видим, он поступил по-иному…
Макдермот сказал далее, что корреспонденты хотят увидеть Стеттиниуса или всех трех представителей и настаивают, чтобы им сказали, почему им не дают полной информации.
— Могу ли я, — спросил Макдермот в заключение, — заявить корреспондентам, что в конце переговоров они получат пространное коммюнике и будет опубликован полный текст любого согласованного плана сразу же после того, как его представят другим Объединенным Нациям.
Стеттиниус заметил, что тут возникает одна неловкость. Представители прессы заявляют, будто англичане готовы дать информацию о ходе переговоров, и спрашивают, почему «неуступчива» американская группа.
— Я полагаю, — заявил Стеттиниус, — что важно соблюдать единую позицию всем трем группам.
Советский представитель с этим согласился. Кадоган, видя, что попал в неловкое положение, тут же присоединился к словам Стеттиниуса. Более того, он сказал, что считает полезным как можно скорее устроить пресс-конференцию специально для того, чтобы заявить, что его делегация полна решимости соблюдать общую точку зрения с другими делегациями. Стеттиниус заметил: надо точно представить себе, что следует сказать на такой пресс-конференции. Громыко полностью с этим согласился.
После некоторого обмена мнениями Стеттиниус предложил составить проект заявления для прессы, указав при этом, что было бы желательно получить одобрение текста со стороны президента Рузвельта, а также лорда Галифакса как полномочного посла Великобритании.
Макдермот обратил внимание еще на одно обстоятельство.
— В результате опубликования статьи в «Нью-Йорк таймс», — сказал он, — пресса считает, что Рестон располагает содержанием трех меморандумов. Следовательно, мы можем ожидать всяческих спекуляций и домыслов по поводу этих версий документов. Между тем статья Рестона содержит ряд неточностей, а учитывая его собственные интерпретации, статья в целом вообще вводит в заблуждение… Все это следует иметь в виду…
Данн предложил отметить в заявлении для прессы, что любая публикация любого из докладов не является аутентичной.
Громыко согласился с этим и добавил, что при всех условиях заявление для прессы должно быть представлено тремя главами делегаций совместно.
Стеттиниус повторил, что он хотел бы поскорее иметь проект заявления, поскольку он намерен показать его президенту Рузвельту, которого увидит сегодня вечером. Он также предложил, чтобы Данн и Пасвольский представили копию текста государственному секретарю Корделлу Хэллу.
— Думаю, — заключил Стеттиниус, — что в зависимости от исхода разговора с Рузвельтом можно ориентировочно пригласить представителей прессы для встречи с тремя руководителями делегаций в Думбартон-Оксе 24 августа в 10 часов 15 минут. Возражений не было.
Встреча с прессой состоялась на следующий день в условленный час. Текст, который был передан корреспондентам от имени трех глав делегаций, гласил:
«Мы хотим, чтобы все понимали, что мы встретились здесь, в Думбартон-Оксе, для проведения неофициальных переговоров и обмена мнениями относительно общего характера международной организации безопасности, результаты которых должны быть одобрены нашими соответствующими правительствами. Мы надеемся, что, после того как мы самым полным и свободным образом обменяемся мнениями, мы придем к согласованным рекомендациям, которые мы сможем представить нашим соответствующим правительствам. Мы будем публиковать периодически через нашу пресс-службу совместные коммюнике, поскольку они не будут мешать гладкому и быстрому прогрессу работы по согласованию рекомендаций относительно международной организации безопасности».
Инцидент с прессой имел свою закулисную сторону. Тут, несомненно, сказалась подрывная деятельность тех сил в Соединенных Штатах, да и в Англии, которые стремились осложнить работу конференции и вообще помешать успешному послевоенному сотрудничеству держав — участниц антигитлеровской коалиции.
Во время конференции в англо-американской прессе вновь и вновь появлялись всякого рода слухи, имеющие целью вызвать подозрение обывателя к тому, что происходило в уединенной усадьбе в Джорджтауне. Некоторые газетчики уверяли, например, что в Думбартон-Оксе возникли «острые противоречия» и что дело идет к разрыву между союзниками. Одни утверждали, что новая организация безопасности будет столь же немощна, как и Лига наций, и что вся эта затея нереальна. Другие, напротив, пытались запугать тем, что теперь, дескать, великие державы хотят с помощью всемирной организации навязать свой диктат всем странам и народам нашей планеты. Были намеки и на то, что западные державы капитулируют, мол, перед какими-то «зловещими» требованиями Советского Союза. В этой связи в Думбартон-Оксе однажды объявился лидер фашиствующей организации «Америка фёрст» («Америка прежде всего») Джералд Смит. Он потребовал у Стеттиниуса, чтобы его допустили на заседания конференции. Смита, разумеется, не пустили, но выходка его была весьма показательна.
Кампания с целью дискредитации самой идеи мирного послевоенного устройства не прекращалась. 29 августа конференции в Думбартон-Оксе пришлось в этой связи снова предпринять контратаку. С согласия двух других глав делегаций Стеттиниус созвал пресс-конференцию, на которой зачитал очередное совместное заявление:
«После недели переговоров руководители трех делегаций рады сообщить о том, что между ними достигнуто общее соглашение о необходимости рекомендовать, чтобы предлагаемая международная организация по сохранению мира и безопасности предусматривала:
во-первых, создание ассамблеи, состоящей из представителей всех миролюбивых стран на основе принципа суверенного равенства;
во-вторых, создание совета, состоящего из небольшого количества членов, в который наряду с представителями основных государств должны входить периодически избираемые представители ряда других государств;
в-третьих, эффективные методы мирного разрешения конфликтов, в том числе создание международного суда для урегулирования вопросов, подлежащих разрешению юридическим путем, а также применение таких других методов, которые могут оказаться необходимыми для поддержания мира и безопасности.
Делегации продолжают обсуждать структуру и юрисдикцию различных органов, а также методы их деятельности. Эти вопросы требуют тщательного рассмотрения, и в настоящее время представлен ряд предложений, которые будут изучены».
В заявлении подчеркивалось, что факт внесения Соединенными Штатами, Англией и Советским Союзом различных предложений не свидетельствует о наличии разногласий или противоречий в точках зрения, а проистекает из различного подхода к общей цели.
«После того, — говорилось далее в заявлении, — как наша работа достигнет стадии, на которой будут сформулированы наши тщательно рассмотренные рекомендации и будут представлены наши выводы, наши соответствующие правительства решат вопрос о том, когда эти рекомендации должны быть опубликованы».
Вслед за этим Стеттиниус огласил представителям печати свое собственное заявление, в котором дал ответ на критику со стороны некоторых членов конгресса и прессы, недовольных тем, что конференция в Думбартон-Оксе чересчур засекречена. В этом заявлении говорилось:
«Имеется неправильное понимание причин сдержанности во всем, что касается наших совместных переговоров в Думбартон-Оксе относительно международной организации, которая должна предотвратить войну и обеспечить мир. Предварительные переговоры, которые в настоящее время происходят, носят исследовательский характер и имеют целью достичь общего понимания. Для правительств, представители которых ведут переговоры, создалось бы затруднительное положение, если бы передавались обрывочные сообщения о мнениях и взглядах, выдвигаемых изо дня в день, и если бы эти мнения и взгляды воспринимались как выражение неизменной позиции или если бы им приписывался обязывающий характер. Я уверен в том, что всякий, кто тщательно рассмотрит этот вопрос, поймет это…
Мы решили, что руководители трех делегаций будут совместно публиковать заявления о ходе переговоров и что эти заявления в силу необходимости будут по своей форме иметь общий характер…»
Отвечая на вопрос, в какой степени программа Думбартон-Окса отличается от программы Лиги наций, Стеттиниус пояснил, что не может касаться этой проблемы в настоящее время. На вопрос, относится ли выражение «основные государства», приведенное, в совместном заявлении, к странам, подписавшим Московскую декларацию, Стеттиниус ответил, что это в настоящее время обсуждается.
Корреспондент одной из английских газет спросил, означает ли понятие «миролюбивая страна» такое государство, которое готово вместо разрешения споров силой передать эти споры на арбитраж. Стеттиниус ответил, что он не в состоянии в настоящее время дать точное определение. Однако любое соглашение, которое будет достигнуто на конференции, возможно, будет содержать такое определение. Когда корреспондент повторил свой вопрос, Стеттиниус заявил, что такая готовность к арбитражу будет составлять один из руководящих принципов для отнесения страны к категории миролюбивых государств. На вопрос относительно ответственности основных стран Стеттиниус заявил, что военные представители и другие участники переговоров все еще обсуждают эту проблему.
В тот же день в Белом доме состоялась очередная пресс-конференция президента Рузвельта. Корреспонденты и здесь главный огонь сосредоточили на работе конференции. Рузвельт заявил, что предложенная организация отличается от Лиги наций и будет гораздо более действенной. Ассамблея новой организации будет обсуждать жизненные вопросы, вопросы продовольствия и финансов. Совет этой новой организации прежде всего сконцентрирует свое внимание на предотвращении войны и будет уполномочен действовать немедленно по мере возникновения чрезвычайного положения в связи с бомбардировками или вторжением. Рузвельт отметил, что в этом разница между новой организацией и Лигой наций, которая не располагал средствами предотвращения агрессии.
— Я ознакомился с заявлением руководителей конференции в Думбартон-Оксе, опубликованным заместителем государственного секретаря Стеттиниусом утром, — сказал президент, — и ничего больше не могу добавить. Это совместное заявление представителей конференции в Думбартон-Оксе в письменной форме излагает общие принципы, чтобы все страны могли обсуждать их. Конференция не примет никаких связывающих, негибких решений. Делегаты конференции смогут сделать рекомендации всем Объединенным Нациям.
5 сентября Стеттиниус снова выступил на пресс-конференции. Заявив, что конференция в Думбартон-Оксе добилась вполне удовлетворительных успехов, он добавил:
— Никакие решения, достигнутые в результате нынешних неофициальных переговоров, не будут носить обязательного характера ни для одного из правительств до тех пор, пока эти решения не будут приняты ими на конференции Объединенных Наций, посвященной этому вопросу. Соединенные Штаты не будут связаны никаким решением, принятым в Думбартон-Оксе и в результате других конференций, пока конгресс не одобрит их…
14 сентября Стеттиниус сделал следующее официальное заявление на пресс-конференции:
«Участники конференции в Думбартон-Оксе достигли исключительных успехов. Составление проекта предложений близится к концу. Работа над этим проектом продлится еще несколько дней».
На вопрос одного корреспондента, считает ли Стеттиниус, что будет достигнуто успешное соглашение относительно плана международной организации безопасности, последовал ответ:
— Я совершенно уверен в успешном исходе переговоров о международной организации безопасности…
Стеттиниус сообщил, что работа конференции в Думбартон-Оксе достаточно продвинулась и делегаты имеют возможность представить достигнутые результаты трем правительствам.
Отвечая на вопросы корреспондентов о том, отложено ли окончание конференции в связи с разногласиями, Стеттиниус заявил, что слово «разногласия» здесь не подходит. Речь идет о согласовании различных позиций трех правительств по некоторым проблемам.
В середине сентября в прессе появились сообщения о том, что конференция в Думбартон-Оксе может закончиться, не достигнув соглашения по всем главным проблемам международной организации безопасности. 19 сентября государственный секретарь Корделл Хэлл опроверг подобного рода домыслы.
— Тот факт, что переговоры об организации безопасности продвинулись столь далеко, — заявил Хэлл, — не означает, что они все время будут развиваться так быстро. Естественно, что должны возникнуть вопросы, для решения которых может потребоваться больше времени… Но Соединенные Штаты готовы уделить необходимое время для тщательного и всестороннего рассмотрения любых вопросов, которые могут возникнуть…
На протяжении конференции, продолжавшейся 40 дней, не раз приходилось давать отпор разного рода злонамеренным слухам, появлявшимся в буржуазной прессе.
Многие строили тогда догадки: откуда Джеймс Рестон получил информацию о содержании меморандумов трех держав? Только четверть века спустя Рестон раскрыл свой секрет: источником этой информации было чанкайшистское посольство в Вашингтоне. Хотя китайская сторона и не участвовала в первой стадии переговоров в Думбартон-Оксе, ей отсылалась вся связанная с переговорами документация.
Военные аспекты
На первом заседании Подкомитета военных представителей, открывшемся 23 августа в 16 часов 45 минут, помимо членов подкомитета присутствовали также и главы делегаций. Председательствовал Стеттиниус, Подкомитет собрался на втором этаже в одной из комнат, отведенных для американской делегации. Разместившиеся вокруг стола генералы и адмиралы представляли живописное зрелище: расшитые золотом погоны, аксельбанты, пестрые колодки с орденскими ленточками, золотые звезды на уголках воротничка, вышитые гладью опознавательные знаки родов войск на рукавах — словом, блестящее военное общество. Правда, и английские, и американские военачальники в большинстве были люди пожилые, убеленные сединами, с усталыми лицами. Наши военные эксперты — генерал Славин и адмирал Родионов — носили форму поскромней, но зато были куда моложе и энергичнее.
Подкомитет начал работу с рассмотрения предварительных предложений американской, советской и английской делегаций. Затем делегация США представила для обсуждения список тем по проблеме безопасности. В нем значилось:
1. Определение существования угрозы миру и нарушение мира.
2. Решение о действиях, которые должны быть предприняты, и обязательства государств-членов по выполнению этих решений.
3. Меры принуждения: а) меры, включающие применение вооруженных сил; б) мероприятия по предоставлению и использованию услуг, включая базы и право прохода (транзит); с) мероприятия по предоставлению дополнительной помощи, например помощь государству, берущему на себя чрезмерное бремя при осуществлении акции по принуждению.
4. Создание военного органа, который давал бы рекомендации совету.
5. Временные мероприятия по предоставлению вооруженных сил и баз впредь до заключения постоянного соглашения.
6. Создание системы регулирования вооружения и вооруженных сил.
7. Функции всеобщей организации безопасности в вопросах разоружения и контроля над вражескими государствами.
Решено было в дальнейшем исходить из приведенного списка.
После некоторой дискуссии участники заседания в принципе согласились, что определение существования угрозы миру должно быть предоставлено совету. Громыко, однако, предложил проконсультировать текст в Редакционном подкомитете, после чего его можно было бы принять.
Точки зрения трех делегаций совпали и в отношении действий, предпринимаемых в случае возникновения угрозы миру. Когда речь идет о мерах, не включающих применения вооруженных сил, то это может быть разрыв отношений с государством-агрессором. Что же касается мер, включающих применение вооруженных сил, то предложенный текст в целом не вызывал возражений.
Обсуждался вопрос о квотах войск, которые должно предоставить каждое государство. Высказывалось мнение, что в некоторых случаях нельзя ограничиться лишь установленной квотой, а придется применить все имеющиеся в распоряжении государства вооруженные силы.
Затем участники совещания перешли к вопросу о военном органе, который должен давать рекомендации совету. Он получил предварительное название военно-штабного комитета. Делегат США сказал, что участвующие в этом комитете представители государств-членов должны подчиняться высшим военным органам соответствующего государства. Громыко предложил обсудить вопрос о составе военно-штабного комитета на более поздней стадии.
При рассмотрении проблемы регулирования вооружений и вооруженных сил все в принципе согласились с американским проектом.
В конце заседания Громыко поднял вопрос о международном воздушном корпусе. Он сказал, что такой корпус имел бы преимущество, быстро действуя в период кризиса.
— Детали тут еще не выработаны, — сказал Громыко. — Возможно, такой корпус следовало бы создать на основе национальных квот, как это предусмотрено в отношении вооруженных сил. Но это не должно означать, что международные силы будут полностью смешаны.
Было решено для обсуждения технических аспектов создать специальную военную комиссию. На этом заседание подкомитета закончилось.
Специальная военная комиссия собралась на следующий день 24 августа, вечером. Председательствовал вице-адмирал Вильсон (США). Обсуждались предложения относительно вооруженных сил, предоставляемых совету для обеспечения мира и безопасности.
Первым взял слово генерал Славин. Он заявил, что международная организация должна в случае необходимости иметь возможность предотвратить и подавить агрессию при помощи вооруженных сил и что такие силы должны находиться в распоряжении совета.
— Особое значение, — подчеркнул он, — тут могут иметь воздушные силы, поскольку агрессор обычно действует внезапно. Надо иметь такую силу, чтобы вынудить агрессора прекратить свои действия, пока подоспеют наземные войска…
Британские и американские представители поинтересовались, будут ли предлагаемые воздушные соединения состоять из смешанных сил или же из отдельных национальных единиц, соединенных в международный воздушный корпус? Имеет ли в виду советская сторона ограничить использование подобного рода соединений только авиацией?
Советский представитель ответил, что эти вопросы подлежат дальнейшему обсуждению. Он пояснил, что в данном случае имеет в виду мобильные воздушные силы, готовые для эффективных действий, и что не планировалось включение в эти соединения наземных и военно-морских единиц. Поскольку система квот связана с задержкой, ибо требует одобрения соответствующими правительствами, наличие международных воздушных сил обеспечило бы большую мобильность.
Британский генерал Макреди заявил, что система квот, предусмотренная в английском и американском предложениях, отвечает всем требованиям советского предложения относительно быстроты, легкости контроля и эффективности. Система квот удобнее международного воздушного корпуса также и потому, что существование постоянного международного корпуса вызовет сложности административного характера, проблемы снабжения, перевозок и т. д. Если же не иметь таких постоянных сил, а национальные контингента будут всегда наготове, то их легко можно передать в любой момент под командование совета, если он этого потребует.
Американский генерал Строит также отдал предпочтение системе квот, изложив в основном те же аргументы, что и его британский коллега.
После некоторой дискуссии Соболев сказал, что, поскольку доводы «за» и «против» международного воздушного корпуса полностью представлены, следует передать эти соображения на дальнейшее рассмотрение соответствующих делегаций.
Никто не возражал, и на этом заседание закончилось.
Два направления
Сразу после заседания военного подкомитета генерал Славин и адмирал Родионов поспешили вместе со своими английскими и американскими коллегами на прием, устроенный для военных экспертов министерством обороны США. Мы с Аркадием Александровичем Соболевым выходили из особняка последними и, спустившись по ступенькам подъезда в сад, направились к ожидавшему нас у ворот автомобилю. Неожиданно мой спутник спросил:
— Не хотите ли пройтись?..
Я охотно согласился. Хотя до гостиницы было не близко, мы решили, что за час доберемся, и отпустили шофера. По дорожке, посыпанной шуршащей под ногами морской галькой, прошли к боковой калитке, спустились вниз по кривой узенькой улочке вдоль увитого плющом кирпичного забора, огораживающего Думбартон-Окс. Потом, выйдя на улицу «М», пошли по направлению к Пенсильвания-авеню. Уже стемнело. Вечер был не душный. Аромат хвои смешивался со сладким запахом каких-то южных цветов.
Некоторое время шли молча. Потом Соболев сказал:
— Я все думаю о наших дискуссиях. Вы поняли, куда нас втягивают?
— Более или менее, — ответил я осторожно. — Мне представляется, что они в конечном счете хотели бы навязать нам такую организацию, которая устраивала бы прежде всего их…
— Вот именно, — продолжал Аркадий Александрович. — То, чего не удавалось достичь раньше, теперь будут пытаться получить с помощью всемирной организации, которая, по их мысли, будет у них в кармане…
Соболев, всегда замкнутый, на этот раз был, видимо, расположен к откровенной беседе.
— Как будто теперь все должны убедиться, — сказал он, — что с нашей страной нельзя говорить языком диктата. Это показала и прошлая история России, и интервенция, и особенно нынешняя война. Невозможно нам и навязать чью-то чужую волю. Поэтому-то важно, чтобы будущая всемирная организация действовала с общего согласия всех великих держав. Сейчас, как мне представляется, вырисовываются довольно четко два направления: либо мы не сможем договориться, и тогда вновь произойдет самое худшее, либо западные политики поймут, что должны жить с нами в мире. Первое направление неизбежно приведет человечество к еще большей катастрофе, чем вторая мировая война, ибо орудия уничтожения будут быстро совершенствоваться…
Для такого вывода были все основания. Ведь за годы войны оружие приобрело страшную разрушительную силу. Было ясно, что на этом дело не остановится, хотя мы тогда и не знали, что уже спустя год на Японию упадут американские атомные бомбы и начнется ядерная эра, которая коренным образом изменит обстановку.
— Вы, разумеется, знаете, — продолжал Аркадий Александрович, — высказывания Энгельса и Ленина о том, что в конце концов разрушительные средства станут столь мощными, что война окажется нерентабельной даже для тех, кто ее готовит и провоцирует. Конечно, все это означает, что мы неустанно должны крепить мощь нашего государства. Но вместе с тем хорошо бы добиться создания эффективной всемирной организации безопасности, которая могла бы дать действенный отпор агрессору. Между прочим, несомненно, именно с этим связано и упорное нежелание наших партнеров дать четкое определение понятию «агрессия». Вы заметили, как всполошился Кадоган? Кое-кого это не устраивает. Важен тут и порядок голосования в совете. Если оба фактора — наша мощь и действенная организация безопасности — будут взаимодействовать в направлении сохранения прочного мира, то человечество действительно сможет пойти по второму направлению — по пути сотрудничества и мира. Такая обстановка способствовала бы нашему успешному движению вперед, а это сказалось бы и на положении в других странах.
Тут я напомнил о словах Теодора Драйзера, который считал, что американские трудящиеся своими нынешними условиями жизни во многом обязаны факту существования Советского государства.
— Вот именно, — подхватил Соболев. — Я это и имею в виду. В конце 30-х годов мы только-только начали ощущать плоды наших усилий. После победы придется потратить огромную энергию на восстановление разрушенного. Наш народ справится с этим и покажет, какие возможности таит в себе социализм…
Я никогда раньше не видел сдержанного Аркадия Александровича в таком приподнятом настроении. Перехватив мой взгляд, он произнес:
— Быть может, вам представляется, что я слишком увлекся?
— Нет, что вы!..
— Пожалуй, я и впрямь увлёкся, — продолжал своим обычным ровным тоном Соболев. — Но у меня сложилось твердое убеждение: путь обострения конфликта ничего хорошего не сулит. Надо избрать второе направление, ведущее к укреплению международной безопасности. И я надеюсь, что это поймут наши партнеры по переговорам…
Незаметно мы оказались рядом с гостиницей. На углу располагалось маленькое кафе «Белая башня», открытое круглые сутки. Мы вошли внутрь, сели за стойку на высокие тумбы. Старичок в полосатом накрахмаленном халате — он один обслуживал все заведение в этот поздний час — подал нам традиционное ночное меню американца: холодное молоко и яблочный пирог.
Экономические и социальные проблемы
Очередное заседание Руководящего комитета состоялось 25 августа. Председательствовавший Стеттиниус сказал, что в этот уикенд конференция прервет работу, поскольку вечером советская и английская делегации выезжают на субботу и воскресенье в Нью-Йорк.
— Надеюсь, мы проведем там приятно время, — добавил он, улыбаясь и показывая ряд белоснежных зубов. — Теперь несколько слов хочет сказать наш пресс-секретарь…
Макдермот спросил, может ли он сообщить представителям печати об этой поездке? Стеттиниус, взглянув на двух других руководителей делегаций, которые ограничились молчаливым кивком, ответил, что против этого возражений нет.
— Им нечего жаловаться на секретность, они получат от нас еще одно важное сообщение, — сказал он и весело рассмеялся…
— Пресса просит, — продолжал Макдермот, — сфотографировать представителей трех групп, участвующих в работе Руководящего комитета, в неофициальной обстановке. Могу я их сюда пригласить?
Получив согласие, Макдермот вышел, и тут же в кабинет ввалилась суетливая ватага фоторепортеров. В течение пяти минут они делали снимки с разных позиций. Посмотрев на часы, Стеттиниус, нахмурив густые брови, предложил посторонним очистить помещение. Когда репортеры удалились, он открыл заседание.
На этот раз Руководящий комитет обсуждал задачи всеобщей организации безопасности в экономической и социальной областях. Вопрос этот был подготовлен Пасвольским, Соболевым и Джеббом.
Кадоган указал на имеющееся различие между англо-американской и советской позициями.
— Советский Союз, — продолжал английский делегат, — предлагает отделить эти вопросы от проблем безопасности. Видимо, советская сторона имеет при этом в виду опыт Лиги наций, которая была перегружена вопросами, не имевшими отношения к проблеме безопасности. Но все дело в том, что экономические и социальные проблемы порой вызывают острые разногласия, которые, в свою очередь, могут привести к угрозе миру и безопасности. Поэтому тут требуется какая-то связь. Может быть, такую связь осуществлял бы генеральный директор организации?
Громыко сказал, что, по мнению советской делегации, следует создать специальную экономическую организацию.
— Действительно, — продолжал он, — Лига наций занималась больше экономическими и благотворительными проблемами, чем вопросами безопасности. Мы подсчитали, что около 87 процентов обсуждавшихся в Лиге наций вопросов не имели отношения к проблемам безопасности. Мировая общественность полагала, что Лига занимается рассмотрением важных вопросов, касающихся дела мира и безопасности, а в действительности она тратила время на второстепенные дела. Поэтому Советский Союз считает, что главной и по существу единственной задачей новой международной организации должно быть поддержание мира и безопасности. Разумеется, может быть найдена какая-то форма связи между всеобщей организацией безопасности и другими органами, хотя бы с целью взаимной информации.
Стеттиниус, внимательно слушавший советского делегата, сказал:
— На меня произвело большое впечатление то, какой упор делает посол Громыко на главную задачу предполагаемой организации. Я не считаю, что наши точки зрения так уж далеки друг от друга. Мы ведь все согласны, что совет имеет своей главной задачей поддержание мира, но, по мнению американцев, должна существовать единая всеобщая организация. Соединенные Штаты считают желательным, чтобы, так сказать, собрать под одну крышу все области международных отношений. Может быть, все согласятся с тем, чтобы время от времени ассамблея создавала такие вспомогательные органы, какие она будет считать необходимыми для поддержания мира и безопасности? Мы не настаиваем на детальном плане. Но, возможно, стоит рассмотреть предложение о создании экономического и социального совета в составе 24 членов?
Пасвольский тут же высказался в пользу создания экономического и социального совета. Он сослался при этом на Лигу наций, где совет и ассамблея несли одинаковую ответственность. Теперь же предлагается, сказал Пасвольский, возложить главную ответственность за поддержание мира на совет.
Стеттиниус напомнил, что прошлой осенью в Тегеране президент Рузвельт предложил Черчиллю и Сталину рассмотреть вопрос о создании всеобъемлющего руководящего комитета для координации экономической политики в послевоенный период.
— Это должен быть орган, облеченный большим авторитетом и престижем, — вставил Пасвольский. — Ведь очевидно, что вопросы экономического характера и проблемы безопасности переплетаются.
Кадоган сказал, что, хотя поддержание мира — это наиболее важная функция создаваемой организации, такая функция в общем-то негативна. Необходимо, чтобы новая организация играла и позитивную роль. Тут-то и открываются большие возможности в экономической области. Это сделает организацию более привлекательной для других.
Громыко заметил, что трудно отделить деятельность ассамблеи в экономической области от деятельности предлагаемого экономического и социального совета. Но если бы это были разные органы с большими полномочиями, между ними можно было бы установить координацию. Уже сейчас существует около ста различных организаций, занимающихся экономическими вопросами и благотворительностью.
Пасвольский возразил, что только около 20 из существующих организаций действительно являются важными. Продолжая свою мысль, Громыко сказал, что координация между существующими организациями будет нелегким делом; надо, чтобы этим делом занимался специальный орган.
Джебб предложил рассмотреть несколько чисто практических вопросов.
— Важность того, — сказал он, — чтобы малые страны пришли в новую организацию и приняли ее, несомненна. Но их, возможно, будет пугать большая роль совета. Если у организации вообще будет мало экономических возможностей, то эти трудности возрастут.
— Но если малые страны спросить, — возразил Громыко, — хотят ли они иметь более эффективную или менее эффективную организацию, то они, несомненно, выскажутся за первую, ибо именно в этом все заинтересованы.
В ходе дальнейшей дискуссии возник вопрос, в какой мере в основном документе должна быть отражена возможность ставить перед организацией вопросы экономического характера. Громыко заметил, что даже самые идеальные решения в экономической области не могут сами по себе предотвратить агрессии. С этим все согласились. Однако Пасвольский принялся объяснять, что американское правительство связывает вопрос экономического развития с проблемой безопасности. Что же касается ссылок на Лигу наций, то все дело в том, что Лига не имела прямых полномочий в области обеспечения безопасности.
Джебб, обращаясь к Громыко, спросил, заключается ли советская позиция в том, что ассамблея не должна заниматься экономическими вопросами, которые не имеют отношения к проблеме безопасности.
Стеттиниус попросил Громыко еще раз изучить всю проблему, поскольку американская и английская группы придают ей большое значение. Он выразил также пожелание, чтобы Громыко информировал свое правительство о позиции США и Англии, и надежду, что вопрос будет рассмотрен в положительном смысле. Советский делегат обещал проинформировать свое правительство, но добавил, что советская делегация твердо придерживается высказанной ею точки зрения.
Затем обсуждался вопрос о составе и функциях намечаемого экономического и социального совета. Было согласовано, что совет не должен иметь исполнительных прав, а может лишь давать рекомендации в целях координации. Члены совета избираются ассамблеей. Тут не должно быть постоянных членов.
Соболев заметил, что рискованно делать большой упор на экономические проблемы, так как через какое-то время могут сказать, что организация обещала многое, но ничего не сделала. Что же касается области безопасности, то тут надо позаботиться о том, чтобы организация выполнила свои задачи.
В итоге было решено перенести обсуждение вопросов о региональных организациях и о составе экономического и социального совета на одно из следующих заседаний.
Далее обсуждалась проблема исключения и выхода из организации. Громыко предложил, чтобы был предусмотрен пункт об исключении из организации. Он объяснил это тем, что было бы странно, если бы организация решила выступить против своего члена. Прежде чем предпринять такую акцию, следует исключить данное государство из организации.
Кадоган согласился с этим, но сказал, что англичане предложили временное исключение. Такая система облегчает возвращение государств в организацию в том случае, если будет заменено правительство, совершившее акт агрессии. Кадоган предложил включить это положение в устав. Было решено передать этот вопрос в Редакционный подкомитет.
В этот момент в зал вошел секретарь и, нагнувшись к Стеттиниусу, что-то ему шепнул. Стеттиниус попросил извинения и сказал, что его вызывают по срочному делу. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью председательствование взял на себя Громыко. Комитет перешел к вопросу о том, как должны приниматься решения совета: двумя третями голосов или большинством голосов. Пасвольский сказал, что если другие государства это поддержат, то американская группа согласна, чтобы по всем вопросам решение принималось двумя третями голосов, включая совпадающие голоса постоянных членов совета. Что, же касается процедурных вопросов, то можно ограничиться простым большинством. Кадоган поддержал это предложение.
Громыко заявил, что проинформирует Советское правительство о позиции Англии и Соединенных Штатов по этому вопросу.
Коснувшись состава военно-штабного комитета, Громыко внес предложение обсудить этот вопрос позднее, может быть, даже после окончания конференции. Он высказал мнение, что важно согласиться в принципе насчет создания при совете института военных советников.
После этого был объявлен перерыв на завтрак, который, как обычно, был подан на лужайке перед домом. К этому времени вернулся Стеттиниус. Взяв с большого стола пару сэндвичей и чашку кофе, Стеттиниус подсел к маленькому столику, рядом с Громыко. Советский делегат спросил Стеттиниуса, когда американская группа будет готова представить свои соображения о территориальной опеке. Стоявший рядом и потягивавший трубку Пасвольский ответил, что американцы не готовы представить эти соображения в ходе нынешних переговоров.
— Тогда, — сказал Громыко, — давайте обсудим статус международного суда на совещании сразу же после перерыва.
Заседание возобновилось. После некоторой дискуссии было достигнуто принципиальное согласие о создании международного суда, который будет составной частью всеобщей организации безопасности. Эту принципиальную договоренность решили включить в рекомендации, представляемые правительствам.
Заседание закончилось. Прощаясь, Стеттиниус сказал, что вечером ждет участников поездки в Нью-Йорк на аэродроме.
ВСТРЕЧИ НА МАНХЭТТЕНЕ
В гостях у Рокфеллера
Солнце еще не село, когда мы отбыли из Вашингтона. Летели на небольшой высоте. Из иллюминатора можно было видеть, как начиная от Балтимора до самого Нью-Йорка тянулся сплошной индустриальный район. Через час с небольшим самолет приземлился в аэропорту Ла Гардия. Разместили нас в отеле «Уолдорф-Астория», считавшемся самым фешенебельным в Нью-Йорке. Стеттиниус, сопровождавший советскую и английскую делегации в качестве официального представителя правительства, обставил наше пребывание в Нью-Йорке весьма пышно. Во время поездок по городу наши машины эскортировал отряд полицейских-мотоциклистов. Пронзительными сиренами они пугали прохожих и заставляли весь транспорт останавливаться. А наш кортеж, не обращая внимания на красный свет, мчался по стритам и авеню Манхэттена.
Едва мы успели расположиться в номере, как уже получили приглашение на обед, который Стеттиниус устроил в честь делегаций в огромном зале гостиничного ресторана «Старлайт руф» («Звездная крыша»). Где-то в глубине зала играл оркестр, и женский голос темпераментно пел модную песенку «Беса ме муччо»…
На этом, однако, программа первого вечера не закончилась. В начале одиннадцатого Стеттиниус снова появился в нашем отеле и пригласил всех участников экскурсии в ночной клуб «Даймонд хорзшу» («Бриллиантовая подкова»). Сравнительно небольшой, обитый красным плюшем с золотой отделкой зал имел просторную сцену, где шло разнообразное, порой довольно фривольное представление. Наш хозяин, видимо, был тут завсегдатаем. Во всяком случае, его отлично знали и портье, и метрдотель, и официанты. Мы засиделись в клубе далеко за полночь.
Первая половина следующего дня была заполнена осмотром города: «Эмпайр стейтс билдинг», Уолл-стрит, нью-йоркская биржа, посещение нескольких музеев.
Вечером все мы отправились на 5-ю авеню в огромный комплекс небоскребов Рокфеллер-Сентер, где были гостями одного из отпрысков династии миллиардеров Нельсона Рокфеллера. Он занимал пост специального уполномоченного президента по латиноамериканским проблемам.
В главном небоскребе, в мюзик-холле «Радио-сити», вечер начался с концертной программы, предшествующей демонстрации кинофильма. Оркестр исполнил «Славянские танцы» Дворжака и несколько произведений Мендельсона. Затем выступил скрипач, блестяще справившийся с труднейшими пассажами Паганини. И наконец, на сцену высыпало три десятка девиц в сетчатых трико. Знаменитые «рокетс» четкими движениями вскидывали в такт ноги и руки. «Рокетс» — особая нью-йоркская достопримечательность и для каждого приезжего посещение мюзик-холла «Радио-сити» так же обязательно, как и подъем на вершину 102-этажного «Эмпайр стейтс билдинг».
После выступления «рокетс» начался фильм, но мы сразу же покинули зал: надо было идти на коктейль к Нельсону Рокфеллеру. Поднявшись на лифте куда-то далеко вверх, мы вошли в просторное помещение с огромными зеркальными окнами, из которых открывался вид на сверкающий ночной Нью-Йорк. Тут собралось уже много гостей. Однако хозяина еще не было, и нас встретил его представитель — лысеющий господин небольшого роста, в модном фраке и белой манишке. Он подводил гостей к стойке бара, заставленного множеством бутылок с яркими этикетками, серебряными ведерцами со льдом и целой батареей стаканов различной формы и величины. В зависимости от того, какой коктейль вы заказывали, бармен с профессиональной ловкостью выбирал тот или иной стакан, начинал орудовать со льдом и бутылками, а затем передавал смесь своим помощникам. Те, взболтав, разливали ее по стаканам и подавали гостям. Вечер проходил весьма непринужденно, только официанты в ливреях сохраняли торжественно-невозмутимую осанку. Они незаметно скользили между, гостями, убирали пустые стаканы, разносили подносы с новыми напитками и маленькими бутербродами. Внезапно метрдотель несколько раз громко хлопнул в ладоши и воскликнул:
— Дамы и господа! Я имею честь представить вам Нельсона Рокфеллера…
В зал легкой походкой вошел коренастый молодой мужчина с рыжеватой шевелюрой и резкими чертами лица, чем-то напоминающими облик североамериканского индейца. Улыбаясь, он отвесил общий поклон. Затем подошел к главам делегаций и, поздоровавшись за руку, перебросился несколькими фразами. Отойдя через некоторое время в сторону, он стал о чем-то беседовать со Стеттиниусом.
Одет Рокфеллер был весьма небрежно: темно-коричневый костюм сидел на нем мешковато, к брюкам, заметно вытянутым на коленях, видимо, давно не прикасался утюг. На нем была голубая рубашка и белый воротничок с загнутыми углами. Однако самого его это явно не смущало. Он держался совершенно свободно, зато многие из присутствовавших американцев проявляли к нему всяческие знаки внимания.
Когда я проходил мимо все еще беседовавших Стеттиниуса и Рокфеллера, Стеттиниус подозвал меня и представил Нельсону. Тот сразу же спросил о моих впечатлениях от Америки. Потом стал рассказывать о Нью-Йорке, о том, как строился Рокфеллер-Сентер. В этой стройке Нельсон Рокфеллер принимал непосредственное участие и теперь с явным удовольствием вспоминал те времена. Он предложил подняться на крышу небоскреба, чтобы сверху посмотреть на огромный город.
— Это первое серьезное поручение, которое я получил от отца, — сказал Рокфеллер, когда мы направлялись к лифту. — К строительству 70-этажного небоскреба приступили в начале 30-х годов, когда мне было 24 года. Я, правда, уже имел некоторую практику в области крупного строительства, но тут была своя сложность: небоскреб строился в центре города с интенсивным движением. Наша семья приобрела этот участок в Манхэттене, но за его пределы мы не могли выходить. Вся проезжая часть вокруг строительной площадки и даже тротуар должны были оставаться свободными для движения. Необходимые материалы и металлоконструкции перевозились по ночам. Строительство было все же закончено вовремя, и в первом же сезоне мюзик-холл «Радио-сити» принял первых зрителей…
Выйдя из лифта, мы пошли по длинному коридору. Нельсон открыл металлическую дверь и поднялся впереди меня по крутой железной лестнице на плоскую крышу небоскреба. Я подошел к самому краю и остановился у парапета. Зрелище отсюда открывалось фантастическое. Внизу лежал огромный город. Воздух был довольно прозрачный, и можно было видеть, как в ущельях улиц быстро двигались желтые и красные огоньки автомашин. Слева поблескивал в призрачном лунном свете вычурный шпиль вытянутого, как игла, здания «Крайслера», а впереди в темно-синем небе поднималась громада «Эмпайр стейтс билдинг». Дальше, между серебряными лентами Гудзона и Ист-Ривер, уходил на восток сверкающий разноцветными огнями Бродвей, в конце которого виднелись силуэты старых небоскребов Уолл-стрита. Они щетинились на фоне лунной дорожки, сверкавшей в Атлантическом океане…
Погуляв некоторое время по крыше, мы отправились обратно в банкетный зал. Спускаясь в лифте, я решил, наконец, задать Нельсону давно вертевшийся у меня на языке вопрос: почему он, такой состоятельный человек, одет столь небрежно?
— Видите ли, — ответил Рокфеллер, — тот, у кого еще нет миллиона, должен, конечно, тщательно следить за своей внешностью. А если у вас перевалило за миллион, то вы можете себе позволить некоторую экстравагантность…
Когда мы вернулись в зал, распорядитель сразу же подошел к Рокфеллеру и спросил его, не пора ли продолжить осмотр небоскреба; тот кивнул в знак согласия, и распорядитель громко объявил, что гостей приглашают осмотреть техническое оборудование «Радио-сити». Сперва нам показывали помещения, где находились звукооператоры, кинопроектор, затем повели за кулисы, где к очередному сеансу готовились «рокетс». Ярко загримированные, они вблизи выглядели отнюдь не столь привлекательно, как из зрительного зала. Стеттиниус, исполнявший наряду с Рокфеллером роль хозяина, представил нас руководителю кордебалета, который оказался выходцем из Одессы и довольно сносно говорил по-русски.
Осмотрев оборудование сцены, мы отправились на радиостанцию, ничем особенно не примечательную. Зато рядом находилось помещение, которое нас заинтересовало, — экспериментальная телевизионная студия. В то время телевидение было новинкой, и мы с любопытством осматривали сложное, тогда еще очень громоздкое оборудование. Потом несколько человек из нашей группы остались перед телекамерой, а остальные подошли к монитору. Изображение было вполне четким, и мы видели на экране, как Рокфеллер и Стеттиниус, стоявшие перед объективом телекамеры, обменялись рукопожатиями, похлопали друг друга по спине.
Яхта Стеттиниуса
На второй день нашего пребывания в Нью-Йорке была намечена прогулка по реке Гудзон с выходом в Атлантику. Погода испортилась, небо затянули серые тучи, дул пронизывающий ветер, но так как вечером мы уже улетали обратно в Вашингтон, морская прогулка все же состоялась. Покинув после завтрака «Уолдорф-Асторию», мы через несколько минут оказались в нью-йоркском порту. Стеттиниус и здесь проявил особое гостеприимство, пригласив нас на свою собственную яхту. Она ожидала нас у пирса, поблескивая свежей белой краской и ярко надраенными медными поручнями. Это было довольно большое судно, роскошно и со вкусом обставленное. Содержать такую яхту мог, конечно, только очень богатый человек. Им, собственно, и был Эдвард Стеттиниус — миллионер, занимавший посты директора компаний «Юнайтед Стейтс стил корпорейшн», «Дженерал моторз корпорейшн», «Дженерал электрик компани» и др. Эдвард Стеттиниус родился в Чикаго 22 октября 1900 г. в семье процветающего капиталиста, компаньона финансовой империи Моргана. Окончив в 1924 году университет, Эдвард Стеттиниус сразу же был принят в «Дженерал моторз корпорейшн», где большинство акций принадлежало Моргану. Обладая незаурядной энергией и организаторскими способностями, Стеттиниус быстро пошел в гору, став директором крупнейших корпораций. С 1940 года он занимал различные государственные посты, являясь в то же время членом комитета национальной обороны. В начале войны ведал вопросами ленд-лиза, а в сентябре 1943 года был назначен заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов.
Когда яхта отчалила, Стеттиниус пригласил гостей в салон, где был подан коктейль. Затем все поднялись на палубу смотреть панораму Нью-Йорка. Мимо нас медленно проплывали гигантские доки, где грузились суда, направлявшиеся в Европу. Огромные краны осторожно опускали в трюмы танки, орудия, грузовики-«студебеккеры», ящики с боеприпасами, контейнеры с продуктами питания. Потом мы увидели огромный пассажирский лайнер, белые борта которого были для маскировки раскрашены сине-зелеными разводами. По трапу поднимались солдаты в полной выкладке, в шлемах, с карабинами через плечо. Посадка, видимо, шла к концу, все палубы были забиты военными. Внизу, на пристани, провожающие махали руками и платками, что-то кричали, а их близкие на судне перегибались через борт, тщетно пытаясь расслышать прощальные слова в лязге кранов и шуме моторов. Те, что стояли на носу, сняв каски, помахивали ими нашей нарядной яхте, скользившей по мутным водам Гудзона в сторону океана. Мысленно желали мы этим людям, отправлявшимся на фронты войны, благополучно перебраться через океан, где все еще шныряли гитлеровские подводные лодки, желали этим солдатам и офицерам союзной армии боевых успехов, победы и счастливого возвращения домой. Нью-Йорк отодвигался все дальше. Вот мы уже миновали остров Элис, где находилась федеральная тюрьма и где раньше неделями выдерживали иммигрантов, прежде чем они получали разрешение поселиться в Новом свете. Осталась позади и статуя Свободы с факелом в руке — подарок французского правительства Соединенным Штатам…
Волна становилась все заметнее, яхту изрядно покачивало, мы выходили в открытый океан. Еще немного, и пологий берег Манхэттена скрылся за горизонтом. Остались только небоскребы, как бы поднимающиеся прямо из воды. Это было впечатляющее зрелище. Как будто не существовало ни страшных трущоб негритянских кварталов этого города, ни уродливой металлической паутины надземки, ни мрачных труб метро, ни лязга и грохота улиц, а был только безбрежный океан, и прямо из волн поднимались поразительные творения рук человеческих — стоэтажные громады небоскребов, казавшиеся отсюда совсем небольшими; как бы перевернутыми сосульками, сверкающими под прорвавшимися сквозь облака лучами солнца.
Сделав большую дугу, белоснежная яхта, накреняясь и с шумом разрезая волны, легла на обратный курс. Я спустился вниз. В салоне, в глубоких кожаных креслах сидели вокруг столика и потягивали виски с содовой Стеттиниус, Соболев и Данн. Стеттиниус жестом пригласил меня присоединиться. Сразу же подошел официант и, получив заказ, принес мне джин с тоником — пожалуй, самый приятный из американских коктейлей. Стеттиниус продолжал прерванный рассказ о своей прошлой работе в качестве уполномоченного по ленд-лизу. Обращаясь к Соболеву, он сказал, что этот опыт в какой-то мере может быть использован для послевоенного экономического сотрудничества между нашими странами.
— Я полагаю, — продолжал Стеттиниус, — что мы должны совершенно по-новому строить свои отношения после войны, основывая их на взаимном доверии. Опыт войны показал, что мы можем сотрудничать в очень сложных условиях мирового конфликта. Тем более мы можем быть друзьями после совместной победы над врагом. Я убежден, что, если бы Соединенные Штаты проводили после войны политику иную, чем политику полного сотрудничества с Советским Союзом, — это было бы трагической ошибкой…
Мне думается, что Стеттиниус был вполне искренен, высказывая эти мысли. Он и в последующие годы, став после отставки тяжелобольного Корделла Хэлла государственным секретарем США, а затем будучи представителем Соединенных Штатов в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, выступал в пользу американо-советского сотрудничества. В августе 1946 года он опубликовал в журнале «Ридерс дайджест» статью, в которой призывал к развитию отношений между Соединенными Штатами и Советским Союзом в интересах международного мира. Умер Стеттиниус в 1949 году от сердечного приступа, еще сравнительно молодым…
Вернувшись в порт, мы распрощались с капитаном роскошной яхты, заехали в гостиницу забрать чемоданы и помчались в аэропорт Ла Гардия. Там нас уже ждал специальный самолет. Спустя два часа мы были в вашингтонском «Статлере». На утро конференция в Думбартон-Оксе продолжила работу.
Состав совета
В понедельник, 28 августа, в 11 часов Стеттиниус открыл заседание Руководящего комитета. На повестке дня стоял вопрос о составе совета всеобщей организации безопасности и о порядке голосования в этом органе. В ходе обмена мнениями по вопросам, которые комитету предстояло обсудить в дальнейшем, Громыко предложил рассмотреть следующие пункты: «Положение Франции в Организации» и «Членство в Организации». С этим все согласились, и в повестку дня были внесены соответствующие дополнения.
Громыко спросил, сформулировала ли американская группа предложение насчет числа постоянных и непостоянных членов совета.
Стеттиниус ответил, что первоначальное американское предложение предусматривало четырех постоянных членов и семь непостоянных, то есть всего 11 членов совета. В дальнейшем американцы стали думать о включении Франции в качестве пятого постоянного члена. Он добавил, что, возможно, Соединенные Штаты предложат позднее добавить шестое постоянное место, имея в виду одну из латиноамериканских стран.
Громыко поинтересовался, о какой именно латиноамериканской стране могла бы идти речь. Пасвольский ответил, что это могла бы быть Бразилия. Соболев спросил, когда Соединенные Штаты хотят добавить Бразилию. Стеттиниус пояснил, что американская группа сейчас не делает конкретного предложения насчет Бразилии.
Видимо, американцы решили все же прощупать позицию своих партнеров на этот счет. Данн, сославшись на роль Бразилии в развитии связей западного полушария с остальным миром, сказал, что это важный мотив в пользу ее включения в совет. На вопрос Громыко, имеется ли в виду включить Бразилию в подготавливаемый в Думбартон-Оксе документ, Стеттиниус ответил, что, возможно, лучше было бы в согласованных рекомендациях оговорить места в совете для Франции и для одной из латиноамериканских стран, но не называть определенное государство.
Громыко сказал, что советская группа считает существенным ограничить число постоянных членов совета пока представителями четырех, а позднее пяти держав, когда будет включена Франция.
Затем обсуждался порядок избрания в состав совета непостоянных членов. Американцы снова вернулись к вопросу о числе мест, предложив оговорить, что в совете будет шесть постоянных и шесть непостоянных или шесть постоянных и пять непостоянных мест. Пасвольский заметил, что лучше иметь четное число непостоянных членов, ибо если срок пребывания будет два года, то желательно, чтобы каждый год переизбиралась половина.
Кадоган с этим согласился, но поинтересовался, имеют ли американцы все же в виду, что с самого начала будет предоставлено шесть мест для постоянных членов совета. Он добавил, что это означало бы серьезное изменение американской позиции по сравнению с тем, что было раньше.
— Предполагается ли включить все это в устав или потом сделать к нему дополнения? — спросил английский делегат. — Будет ли в последнем случае шестой постоянный член избран самим советом?
Кадоган выразил надежду, что все же не придется иметь шестое место в совете, и добавил, что стоит лишь выйти за рамки добавления Франции как пятого члена совета, и мы сунем голову в осиное гнездо.
— Если предлагается, — продолжал Кадоган, — что должен быть предусмотрен механизм для увеличения в будущем числа постоянных членов совета, то такое предложение можно рассмотреть. Однако, если мы отойдем от принципа, что будет только пять постоянных членов, мы подвергнемся сильному давлению, и, несомненно, поступят требования о еще большем увеличении количества постоянных мест…
Стеттиниус сказал, что у американской группы нет определенных инструкций на этот счет. Кадоган заметил, что он все же должен информировать свое правительство и что он сомневается, знает ли вообще правительство Англии обо всем этом. Стеттиниус вновь подчеркнул, что в настоящий момент американская группа не вносит определенного предложения. Он только хотел, чтобы другие имели это в виду. Кадоган спросил, будет ли этот вопрос поставлен официально еще в Думбартон-Оксе и назовет ли здесь Стеттиниус окончательно шестую державу? Стеттиниус повторил, что американская группа еще не имеет на этот счет окончательного мнения.
— Мы просто хотели знать, как отнесутся к этому другие группы, если в дальнейшем этот вопрос будет поднят официально, — заключил Стеттиниус.
Было согласовано, что на данном этапе желательно предусмотреть пять мест для постоянных членов совета, включая Францию, и шесть мест для непостоянных членов. Уговорились также, что если Франция еще не будет иметь всеми признанного правительства к моменту создания международной организации безопасности, постоянное место будет все же для нее зарезервировано.
Кадоган спросил, должен ли определять совет, получила или не получила Франция ответственное правительство?
— Может быть, — добавил он, — три державы сперва решат это между собой, а уж потом передадут на рассмотрение совета? Во всяком случае, правительство его величества считает, что чем раньше Франция получит свое место, тем лучше…
Затем обсуждался вопрос о статусе непостоянных членов.
В предварительном порядке участники совещания согласились принять советское предложение о двухгодичном сроке пребывания в совете непостоянных членов. Кадоган сделал оговорку, что он не может окончательно согласиться на этот срок, поскольку ему поручено настаивать на трехгодичном сроке. Он, однако, не возражает, чтобы пока Редакционный подкомитет исходил из двухгодичного срока.
После этого обсуждался вопрос о порядке исключения из организации. Громыко напомнил, что советская группа выступает за то, чтобы положение об исключении было предусмотрено уставом.
— Мы изучаем вопрос о том, — продолжал Громыко, — не следует ли включить в устав и положение о временном отстранении от участия в работе организации.
Редакционному подкомитету было поручено в предварительном порядке сформулировать пункт «об исключении и отстранении» и представить текст Руководящему комитету.
Стеттиниус снова вернулся к вопросу о том, может ли сторона, замешанная в споре, принимать участие в голосовании. Он сказал, что, по мнению американской группы, «виноватая» сторона не должна голосовать по своему делу, кем бы она ни была. Английская делегация с этим согласилась.
Громыко напомнил, что советская делегация придерживается на этот счет иного мнения: необходимо выработать особую процедуру в отношении великих держав, если они участвуют в споре. Он сказал, что его группа не рассматривала вопрос о том, какова должна быть эта процедура, полагая, что американская группа внесет соответствующее предложение.
На этом заседании Руководящего комитета рассматривался также вопрос о составе военно-штабного комитета. Данн сказал, что, по мнению американцев, в военно-штабной комитет должны входить представители четырех или пяти великих держав — постоянных членов совета. Кадоган предложил оговорить, что комитет может приглашать страны, наиболее заинтересованные в обсуждаемом вопросе, а также те государства, у которых можно было бы попросить особой помощи. По его мнению, военно-штабной комитет должен давать рекомендации совету в отношении квот и регулирования вооружений.
Продолжая излагать американскую точку зрения, Данн заявил, что, возможно, некоторые страны особенно важно иметь в составе комитета. Поэтому надо выработать формулу, согласно которой можно было бы одни страны привлекать к работе комитета, а другие оставлять в стороне. Может быть, было бы желательно, чтобы совет отобрал страны для участия в военно-штабном комитете помимо постоянных четырех или пяти держав.
После некоторой дискуссии этот вопрос решили передать для дальнейшего обсуждения в Подкомитет военных представителей.
Далее состоялся обмен мнениями относительно ответственности четырех держав за поддержание мира в переходный период. Громыко сказал, что советская делегация согласна в дальнейшем обсудить эту тему и считает, что надо сделать соответствующую ссылку в согласованных рекомендациях настоящей конференции. Он добавил, что хочет проконсультироваться со своим правительством по данному вопросу.
Кадоган зачитал текст, предлагаемый английской делегацией:
«Имеется в виду, что четыре державы берут на себя ответственность за поддержание мира и безопасности в переходный период, однако признается, что позднее они, возможно, пожелают передать некоторую часть этой ответственности организации безопасности».
Соболев обратил внимание на то, что в британском документе намечено помимо четырех держав привлекать к урегулированию в переходный период также и другие государства: Что это значит? Кадоган ответил, что это соответствует решениям Европейской консультативной комиссии, в которых сказано, что оккупационные войска могут включать и некоторые военные соединения других союзных стран. Однако в целом четыре державы — а в Европе три державы — должны нести ответственность за разоружение вражеских государств и по другим аналогичным мерам.
В ходе дальнейшего обсуждения были вновь сделаны ссылки на Московскую декларацию и на ее указания о совместных действиях не только четырех держав, подписавших эту декларацию, но и о привлечении в случае необходимости других стран. Все согласились, что любые меры по поддержанию мира в промежуточный период должны быть согласованы между четырьмя державами.
Затем обсуждался вопрос о членах — инициаторах организации. Громыко заметил, что в одной из бесед с ним Стеттиниус упомянул Данию. Он спросил, хочет ли американская группа добавить еще какие-то страны к Объединенным и присоединившимся нациям?
Пасвольский ответил, что Дания была приглашена на валютную конференцию как наблюдатель, и поэтому имелась договоренность, что Дания будет участвовать в валютном соглашении, когда у этой страны снова появится ответственное правительство. Американская сторона готова составить предварительный список. Окончательный список, возможно, удастся подготовить к тому времени, когда уже можно будет передать предлагаемый план создания организации другим странам. Пасвольский пояснил, что американцы предлагают пригласить не только первоначальных участников Декларации Объединенных Наций, но и некоторые другие страны, которые порвали с Германией и помогают военным усилиям союзников. Именно эти страны следует считать присоединившимися.
Было решено передать этот вопрос в Редакционный подкомитет. При этом Громыко заметил, что, само собой разумеется, все 16 советских республик должны быть включены в состав членов — инициаторов организации.
Кадоган сказал, что в данный момент он не собирается комментировать это предложение, но полагает, что его правительство должно обсудить с Советским правительством вопрос о статусе советских республик. Американский представитель сказал, что он также должен подумать о новом предложении посла Громыко.
Затем Стеттиниус высказал мнение, что пора бы в скором времени провести пленарное заседание конференции. Все с этим, согласились. Стеттиниус сказал, что он в ближайшее время предложит дату пленарной сессии, и закрыл заседание Руководящего комитета.
Страны-учредители
Во второй половине дня 29 августа состоялось очередное заседание Руководящего комитета. Как обычно, его открыл Стеттиниус. Сославшись на предыдущую встречу, во время которой Громыко внес предложение считать 16 советских республик членами — учредителями международной организации безопасности, Стеттиниус спросил, не лучше ли ссылку на эту проблему вообще исключить из протокола. Громыко возразил, заметив, что ведь копии протоколов широко не распространяются.
— Делая вчера это заявление, — сказал Громыко, — я хотел лишь привлечь внимание двух других делегаций к этому вопросу. Но я не настаиваю на том, чтобы эта проблема подвергалась дальнейшему обсуждению на переговорах в Думбартон-Оксе…
Этим, однако, вопрос не был исчерпан. Западные политики, которые, например, считали естественным, чтобы участники так называемого Британского содружества наций были представлены в новой международной организации безопасности, серьезно переполошились, когда речь зашла о вхождении в организацию советских республик.
Два дня спустя, 1 сентября, президент Рузвельт направил послание Сталину, в котором писал:
«Упоминание Вашей делегации в Думбартон-Оксе о том, что Советское Правительство могло бы пожелать поставить на рассмотрение вопрос о членстве для каждой из шестнадцати Союзных Республик в новой Международной организации, меня весьма беспокоит. Хотя Ваша делегация заявила, что этот вопрос не будет снова поднят в течение нынешней стадии переговоров, я считаю, что я должен сообщить Вам, что весь проект, поскольку это, конечно, касается Соединенных Штатов, да и, несомненно, также других крупных стран, определенно оказался бы в опасности, если бы этот вопрос был поднят на какой-либо стадии до окончательного учреждения Международной организации и до того, как она приступит к выполнению своих функций. Я надеюсь, что Вы сочтете возможным успокоить меня в этом отношении.
Если отложить в настоящее время этот вопрос, то это не помешает тому, чтобы он был обсужден позднее, как только будет создана Ассамблея. Ассамблея имела бы к тому времени все полномочия для принятия решений».
Сталин ответил на это послание Рузвельта спустя неделю, 7 сентября. Он писал:
«…Заявлению советской делегации по этому вопросу я придаю исключительно важное значение. После известных конституционных преобразований в нашей стране в начале этого года Правительства Союзных Республик весьма настороженно относятся к тому, как отнесутся дружественные государства к принятому в Советской Конституции расширению их прав в области международных отношений. Вам, конечно, известно, что, например, Украина и Белоруссия, входящие в Советский Союз, по количеству населения и по их политическому значению превосходят некоторые государства, в отношении которых все мы согласны, что они должны быть отнесены к числу инициаторов создания Международной организации. Поэтому я надеюсь еще иметь случай объяснить Вам политическую важность вопроса, поставленного советской делегацией в Думбартон-Оксе».
В конце концов на конференции в Думбартон-Оксе было решено отложить обсуждение этого вопроса. Но он возник на Ялтинской конференции. Там была достигнута договоренность о том, чтобы в международную организацию безопасности в качестве членов-учредителей вошли Украина и Белоруссия.
В феврале 1945 года, находясь в Крыму, президент Рузвельт писал И. В. Сталину: «Мы договорились — причем я, конечно, выполню это соглашение — о том, чтобы поддержать на предстоящей конференции Объединенных Наций принятие Украинской и Белорусской Республик в члены Ассамблеи Международной организации».
…В ходе дальнейшего обсуждения в Думбартон-Оксе вопроса о членстве в организации Громыко заметил, что для него не ясна формула: «присоединившиеся к ним».
— Как это следует понимать? — спросил Громыко. — Ведь один лишь факт разрыва той или иной страны с державами оси явно недостаточен, что видно хотя бы на примере Аргентины или Турции. Следовало бы поэтому выработать и согласовать соответствующую формулу в этом отношении.
Пасвольский обещал представить к следующему заседанию список стран, которые в последнее время участвовали в конференциях, организованных Объединенными Нациями. Этот список, как он полагает, покажет, что имеются 35 Объединенных Наций и 9 наций, присоединившихся к ним.
Кадоган спросил, имеют ли в виду американцы приложить этот список к совместным рекомендациям как список стран-учредителей? Стеттиниус ответил отрицательно.
— Но тогда, — возразил Кадоган, — нас будут спрашивать, о каких же странах идет речь?
Данн сказал, что американское правительство пользовалось фразой: «Объединенные Нации и нации, присоединившиеся к ним в ведении войны». Эта формула не включает страны, лишь разорвавшие отношения. Она предусматривает оказание помощи в ведении войны. Джебб заметил, что, как он полагает, Турцию можно считать «присоединившейся» в той же мере, как и Эквадор. Данн возразил против этого, заметив, что Эквадор фактически предоставляет базы и оказывает другие услуги.
Видя, что дело осложняется, Кадоган предложил следующую формулу: «Первоначальными членами Организации станут Объединенные Нации и те другие страны, которые будут упомянуты в основном документе (Уставе)».
Данн сказал, что предложение Кадогана не решает вопроса о том, на какой основе будут отбираться страны для участия в конференции, которая выработает и примет основной документ организации. После этого Кадоган высказал мнение, что данный вопрос не удастся решить в ходе конференции в Думбартон-Оксе.
Пасвольский предложил пока ограничиться формулой, представленной Редакционным подкомитетом, позднее ее можно будет обсудить. Все с этим согласились, причем Громыко снова подчеркнул, что в любом случае следует точно определить смысл формулы «присоединившиеся нации».
На следующем заседании Руководящего комитета Пасвольский представил список стран, участвовавших в конференциях в Хот-Спрингсе и в Бреттон-Вудсе. Он разъяснил, что, когда говорится «Объединенные Нации и нации или власти, присоединившиеся к Объединенным Нациям», имеются в виду в первом случае страны, которые объявили войну державам оси, а во втором случае — во-первых, власти, например Французский комитет национального освобождения, и, во-вторых, власти других стран, которые активно помогали ведению войны, формально войны не объявляя. Все согласились, что один лишь разрыв отношений с державами оси не означает, что страна, предпринявшая такой шаг, автоматически попадает в категорию «присоединившихся наций».
Громыко сказал, что, как он понимает, Редакционный подкомитет должен рассматривать предложенный список как дополнительную информацию, но что на этой стадии переговоров не будет делаться попытка определить окончательный перечень членов предполагаемой организации. Вообще, по его мнению, настоящее совещание не должно заниматься составлением окончательного списка, а обязательно выработать лишь общую формулу.
В конечном счете было сформулировано общее положение относительно принятия государств, которые не являются членами-инициаторами. В соответствии с этим членами организации могут стать Объединенные Нации и все миролюбивые государства. Членами — учредителями организации должны быть Объединенные Нации и нации, присоединившиеся к ним. Государства, которые не являются членами — учредителями организации, могут быть приняты в индивидуальном порядке после утверждения устава организации и в соответствии с положениями, изложенными в уставе.
Размышления английского профессора
30 августа первая половина дня была свободна. Мы с генералом Славиным приехали в Думбартон-Окс примерно за час до начала заседания Подкомитета военных представителей. День был жаркий и душный, и мы решили поплавать в расположенном в парке бассейне. Спустившись по аллее, окаймленной цветущими олеандрами, мы увидели около бассейна английских делегатов Гледвина Джебба и профессора Чарльза Вебстера. С ними была рыжеволосая пышная мисс Элизабет, сотрудница американского секретариата. Они уже надели купальные костюмы, и мы, забежав в беседку переодеться, присоединились к ним.
Вода немного пахла хлоркой, но была очень приятна своей освежающей прохладой. Джебб вскоре покинул нашу компанию, сказав, что его ждут дела. Поплавав вдоволь, мы с Чарльзом Вебстером отправились в беседку отдохнуть. До начала заседания еще оставалось много времени.
Славин и рыжеволосая мисс Лиз плескались на мелководье у противоположного края бассейна, а мы с профессором, взяв по бутылке с апельсиновым соком, уселись в плетеные кресла. Потягивая через соломинку оранжевый напиток, обменивались незначительными фразами. Внимание профессора Вебстера привлек фирменный знак на моих плавках: прыгающая с трамплина фигурка.
— Где вы их купили, — поинтересовался он. — Не в Германии ли?
Я ответил утвердительно, пояснив, что накануне войны работал в Берлине в советском посольстве.
— Очень любопытно, — протянул профессор. — Мне перед войной приходилось не раз бывать в Германии.
Потом спросил:
— Как вам там работалось?
Выслушав мои замечания по поводу специфичности обстановки в нацистском «рейхе», профессор немного помолчал, потянул из соломинки и тоном размышляющего вслух человека произнес:
— Много лет я изучал Германию, имел там немало друзей, всегда считал немцев высококультурной нацией, а потом никак не мог взять в толк, что же с ними произошло. Откуда эти фанатизм, жестокость, маниакальная вера в авантюриста-фюрера? Как ему удалось им внушить такие дикие идеи?..
Я заметил, что нацистская пропаганда на протяжении многих лет обрабатывала немцев.
— Все дело в том, — продолжал английский профессор, — что он нашел у них в душе какую-то струнку, которая отозвалась. Видимо, тут сыграла роль нелепая ницшеанская идея о превосходстве германской расы и о неполноценности других народов. А к тому же он наобещал, что немцы тысячу лет будут господствовать в мире. Первоначальные успехи Гитлера вскружили всем им головы, и многие, видимо, всерьез поверили, что они — избранный народ. Такие вещи бывали в истории, но казалось, что в наше время такое не может повториться. При всем прогрессе науки, техники, при всех тех обширных знаниях, которыми люди располагают, это просто дико…
— И тем не менее это так, — заметил я.
Профессор ничего не ответил, снова поднес соломинку к губам, потянул прохладную жидкость. Сквозь толстые стекла, очков устремил взор в пространство. Потом сказал:
— Вы знаете, о чем я думаю? Мне кажется, подобная ситуация может все-таки снова повториться… Я вопросительно посмотрел на него.
— Видите ли, мой молодой друг, — продолжал профессор, — говоря между нами, мне не нравятся некоторые настроения и тенденции в этой стране. Возможно, вы не знаете, что в Соединенных Штатах очень силен национализм особого толка, национализм так называемых «настоящих» американцев, отсчитывающих свою родословную от первых поселенцев. Тут черпает соки и распространенный здесь антисемитизм, и пренебрежение к выходцам из славянских стран, не говоря уж об отношении к черным. Все это питательная почва для тех же идей о превосходстве одной группы людей над другой, о неполноценности тех, кто не принадлежит к избранной касте…
Меня заинтересовали рассуждения английского профессора.
— Да, да, — продолжал он, — все это любопытно, однако и опасно. Сейчас, возможно, неуместно заводить об этом, разговор. Но раз уж мы коснулись этой темы, то скажу еще кое-что. Вы вот летели сюда через Аляску. Вероятно, видели, какое там на базах идет гигантское строительство?
— Видел, — подтвердил я и рассказал о своих наблюдениях.
— Так вот, зачем все это, как вы думаете? — и проф. Вебстер многозначительно хмыкнул. — Может быть, для войны с Японией? Сомневаюсь. Победа на Тихом океане — дело решенное, хотя она и потребует еще немалых усилий. Дело в том, что кое-кто в этой стране готовит позиции на будущее. У нас, англичан, конечно, есть свои амбиции, свои планы. Имеет свои интересы и ваша страна. Но если попытаться заглянуть подальше вперед, то можно предположить, что некоторые претензии Соединенных Штатов на решающую роль на нашей планете в сочетании с распространенными здесь идеями превосходства, о чем я уже говорил, могут осложнить ситуацию и доставить много неприятностей и нам и вам…
Я понимающе кивнул. Профессор уселся поудобнее и пристально посмотрел на меня. Сквозь толстые стекла очков его зрачки казались совсем маленькими точечками.
— Видите ли, — продолжал он, — я по своему мировоззрению принадлежу скорее к пацифистам. Ненавижу войны и до тому искренне хочу, чтобы нашим странам удалось создать такую международную организацию, которая действительно была бы способна обеспечить мир. Мне даже кажется, что мы слишком мало чувств вкладываем в дело, которым здесь занимаемся, Но, честно говоря, я очень опасаюсь, как бы наша работа не оказалась напрасной…
Допив содержимое бутылки, Вебстер встряхнул шевелюрой и сказал:
— Впрочем, я, кажется заболтался. Забудьте об этом…
Впоследствии Вебстер выпустил книгу «Создание Устава Объединенных Наций». В ней он писал: «Предложения, разработанные в Думбартон-Оксе, не раз критиковались за то, что они страдали недостатком человечности и теплоты. Действительно, эти предложения были разработаны официальными лицами, которые старались по возможности избежать такого языка и тех эмоциональных обращений, которые могли бы затенить подлинные факты международной ситуации. Несомненно, однако, что было бы полезно включить в такой документ какие-либо фразы об устремлениях людей, хотя авторы и знали, что они не могли быть немедленно осуществлены…»
Дискуссия продолжается
Подкомитет военных представителей собирался 30 августа в 14 часов.
Председательствующий — американский адмирал Вильсон — предложил проект параграфа, в котором говорилось, что каждое государство должно передавать в распоряжение совета по указанию последнего соответствующие контингенты войск, причем это государство должно также нести ответственность за соответствующее оснащение, доставку и надлежащее состояние войск.
Британский представитель согласился с проектом и заметил, что тут не должно быть места для какой-либо политической процедуры, которая могла бы вклиниться между вызовом, поступившим от совета, и предоставлением соответствующих сил.
Соболев спросил, не предусматривают ли американцы какой-либо процедуры, проведение которой должно предшествовать предоставлению совету части наземных вооруженных сил? Американский представитель ответил, что это не предусмотрено, поскольку государства должны заранее согласиться о предоставлении вооруженных сил по требованию совета. Конечно, какие-то шаги должны быть предприняты, чтобы привести вооруженные силы в движение, но в каждой из стран не должно быть в этой связи политических дебатов в отношении того, следует или не следует удовлетворять требование совета.
Соболев спросил, каково мнение англичан на этот счет? Британский представитель выразил согласие с соображениями американцев.
Адмирал Родионов поинтересовался, означает ли это, что американцы исключают советское предложение о международном воздушном корпусе. Американский и английский представители заявили, что, по их мнению, предложение Соединенных Штатов отвечает целям советского проекта, хотя оно и исключает создание особых международных воздушных сил или корпуса на постоянной основе.
Соболев заявил, что ему нужно время для изучения поднятых вопросов и обсуждения их со своей делегацией. Он также попросил уточнить смысл предложений, касающихся деятельности военно-штабного комитета.
Британский представитель объяснил, что членами комитета должны быть представители начальников штабов соответствующих стран. Причем сначала в военно-штабном комитете должны быть представлены лишь четыре или пять великих держав. Другие страны будут привлекаться к работе комитета при рассмотрении вопросов, затрагивающих их интересы. В британском меморандуме, напомнил генерал Макреди, сказано: «Поскольку на протяжении многих предстоящих лет четыре державы должны будут играть решающую роль в обеспечении мира на земном шаре, постоянными членами этого комитета должны являться военные представители этих держав». Однако, продолжал британский делегат, существенным должно быть сотрудничество и других стран в деле поддержания вооруженных сил, предоставления баз, доставки, снабжения и других видов обслуживания. Поэтому подразумевается, что эти страны получат право высказаться в соответствии с их обязательствами. Следовательно, эти государства должны принимать в какой-то форме участие в работе военно-штабного комитета.
Вокруг этих соображений завязалась дискуссия, в итоге которой была достигнута следующая предварительная договоренность:
члены совета не обязательно являются членами военно-штабного комитета, но государства, имеющие постоянный статут в совете, будут всегда членами этого комитета;
другие государства, независимо от того, являются ли они членами совета или нет, могут быть приглашены участвовать в военно-штабном комитете при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы этих государств;
члены организации должны иметь право быть выслушанными советом по проблемам, непосредственно затрагивающим эти государства.
Советский представитель констатировал наличие общего согласия в главном принципе, а именно: военно-штабной комитет должен включать четыре или пять постоянных членов совета. Он высказался за то, чтобы провести дальнейшее обсуждение относительно функций комитета, а также процедуры и порядка привлечения государств к его работе. Но прежде всего, сказал Соболев, важно договориться о создании комитета и о том, что в него будут входить великие державы.
Генерал Макреди подчеркнул, что следует с самого начала оговорить право малых стран участвовать в работе военно-штабного комитета…
На одном из последующих заседаний Подкомитета военных представителей Громыко сказал, что снимает советское предложение о международных военно-воздушных силах и готов обсудить британское и американское предложение, которое и было положено в основу достигнутого в принципе соглашения.
Вечером 30 августа состоялась встреча Подкомитета по вопросам безопасности.
Председательствующий Стеттиниус сообщил о согласованной Руководящим комитетом повестке дня работы на ближайшее время. Он зачитал список вопросов, по которым еще нет единства взглядов:
1. Должны ли поправки к основному документу (уставу) быть обязательны для присоединившихся государств?
2. Принудительные меры по отношению к государствам-нечленам.
3. Имеет ли право нечлен совета голосовать по вопросам, затрагивающим его интересы, или он имеет лишь право быть выслушанным?
4. Должен ли совет заседать постоянно?
5. Права генерального директора организации созывать совет и привлекать внимание совета к угрожающим ситуациям.
6. Статус секретариата.
Громыко заявил, что советская делегация не готова сейчас обсуждать эти вопросы, так как еще не изучила их, и полагает, что такие детальные вопросы не должны обсуждаться в ходе нынешних переговоров.
— Но мы готовы, — продолжал он, — выслушать точку зрения британской и американской групп, поскольку это может принести пользу…
Стеттиниус выразил пожелание, чтобы эти вопросы подверглись обсуждению в ходе нынешних переговоров, — в этом случае окончательный документ был бы сбалансированным и единым целым.
Английский делегат согласился с этим и добавил, что надо подумать о возможности внесения поправок в устав. В этом отношении устав Лиги наций предусматривал, что государства, не согласные с поправкой, переставали быть членами Лиги. Это вызывало недовольство. Поправки должны быть приняты двумя третями голосов членов, включая голоса постоянных членов совета, как это предложила американская делегация. Рекомендации о рассмотрении поправок должны проводиться легко, простым большинством голосов, тогда как ратификация поправки должна быть сложным делом. Поэтому необходимо настаивать на двух третях голосов, включая совпадающие голоса постоянных членов совета, ибо эти государства несут особую ответственность в вопросах безопасности.
Затем взял слово американский делегат Пасвольский. Он сказал, что в целях обеспечения мира и безопасности следует возложить на государства-нечлены определенные обязательства, например:
1) регулировать споры только мирными средствами;
2) воздерживаться от угрозы силой или применения силы в отношениях между государствами;
3) воздерживаться от оказания помощи любому государству, противоречащей превентивным или принудительным мерам, принятым международной организацией.
Английский делегат Уильям Малкин высказал мнение, что все это следует понимать так: организация не может допустить, чтобы какое-либо действие государства-нечлена привело к нарушению мира.
Пасвольский согласился с этим и добавил, что организация не позволит также какому-либо государству-нечлену препятствовать действиям организации по поддержанию мира.
Кадоган спросил, предусматриваются ли в этом случае санкции против такого государства-нечлена. Пасвольский ответил, что санкции должны быть в таком случае предприняты как против нечлена, так и против члена организации. Американский представитель добавил, что нечлен совета не должен иметь права голоса, если обсуждается связанное с ним дело, но что он должен иметь право быть выслушанным советом. Громыко спросил, были ли на этот счет исторические прецеденты. После обсуждения опыта Лиги наций все в принципе согласились с предложением американцев.
Далее обсуждался вопрос о том, должен ли совет заседать постоянно. Выступая за предложение, чтобы совет заседал непрерывно, Кадоган в то же время обратил внимание на опасность, что тогда в совете будут заседать лица не самого высокого ранга. В таком случае следовало бы оговорить, чтобы на заседаниях совета ответственные министры участвовали в тех случаях, когда рассматриваются важные проблемы безопасности. Условились передать этот вопрос в Редакционный подкомитет.
Далее перешли к рассмотрению прав генерального директора. Кадоган предложил дать генеральному директору право привлекать внимание совета к опасной ситуации, если возникает угроза миру, на которую не обратили внимание ни совет, ни государства-члены. Американская группа согласилась с предложением Кадогана. Громыко сказал, что хотел бы обсудить этот вопрос со своей делегацией. Следующий пункт касался выбора генерального директора, срока пребывания его на посту, его функций и штата.
Пасвольский сказал, что в соответствии с первоначальным американским предложением генерального директора должна выбирать ассамблея сроком на пять лет с правом переизбрания. Теперь американская сторона пришла к выводу, что было бы лучше, если бы кандидатура генерального директора рекомендовалась ассамблеей. Соболев спросил о порядке выборов. Пасвольский сказал, что ассамблея должна сперва проголосовать рекомендуемую кандидатуру, а совет — утвердить ее. Соболев сказал, что советские предложения предусматривают выдвижение кандидатуры советом и выборы ассамблеей. Кадоган согласился с советским предложением. Вопрос передали в Редакционный подкомитет.
Громыко заявил, что Редакционный подкомитет достиг предварительной договоренности по ряду пунктов, включая цели, задачи и принципы организации, но решил задержать свой отчет, пока не будут подготовлены тексты по другим обсуждавшимся вопросам. Поэтому следовало бы рассмотреть на следующем заседании Подкомитета военных представителей соответствующие пункты. В частности, должен ли совет иметь право получать содействие и услуги, включая право транзита, базы и т. д., от всех государств-членов. Следует также обсудить вопрос об ответственности совета в связи с условиями капитуляции Германии и Японии. Наконец, важно согласовать процедуру определения угроз миру и нарушений мира.
Обсуждение этих вопросов было продолжено на заседании Подкомитета военных представителей 31 августа.
Американский делегат Хэкворт высказал мнение, что обратить внимание совета на угрозу миру может любое государство — член организации или генеральный директор. Ассамблея обязана передать такой вопрос совету. Со своей стороны, совет может получить у ассамблеи помощь, но не обязан передавать дело генеральной ассамблее. Предполагается, что совет постарается достичь мирного урегулирования спора любыми подходящими средствами.
Громыко спросил, должен ли совет устанавливать какие-то критерии для определения существования угрозы миру, или совет будет в каждом случае решать вопрос о процедуре, которую следует применить. Хэкворт ответил, что совету должно быть предоставлено право решать, существует ли угроза или нет, определять серьезность ситуации и предпринимать шаги, которые он сочтет необходимыми. Эту интерпретацию одобрили советский и английский делегаты, после чего было решено передать вопрос в Редакционный подкомитет для подготовки текста и представления его Руководящему комитету.
Далее рассматривался вопрос, должен ли совет иметь решающее право пользоваться необходимыми услугами, включая возможность транзита, а также базами любого члена организации. Адмирал Вильсон доложил американскую позицию: должно существовать охватывающее все государства-члены обязательство международного характера о предоставлении необходимых услуг и возможностей для использования под руководством совета вооруженных сил организации в ходе акций по поддержанию мира и безопасности. С этим все согласились. Эту общую договоренность условились дополнить специальным соглашением между советом и государствами-членами на случай принудительных мер. Окончательное формулирование данного пункта было передано Редакционному подкомитету.
Что касается ответственности совета за меры принуждения в соответствии с условиями капитуляции Германии и Японии, то тут американский делегат Данн представил соображения своей группы. Все согласились предусмотреть в основном документе право совета брать на себя ответственность за обеспечение условий мира, если и когда державы-победительницы сочтут целесообразным передать ему эту ответственность. Договорились также поручить Редакционному подкомитету выработать и согласовать текст, который исключал бы возможность возникновения каких-либо недоразумений в этом важном вопросе.
На состоявшемся 31 августа заседании Руководящего комитета Пасвольский предложил не созывать заседаний в ближайшие пятницу и субботу, чтобы дать возможность Редакционному подкомитету подготовить тексты. G этим все согласились. Джебб предложил обсудить на следующем заседании комитета вопрос о региональных организациях. Это предложение возражений не вызвало. Затем комитет приступил к рассмотрению проекта раздела об ассамблее.
Пасвольский начал читать: «Ассамблея должна собираться на регулярные ежегодные сессии или на специальные сессии…»
Этот абзац не вызвал возражений. Пасвольский продолжал чтение.
Громыко спросил, почему из проекта текста исключен вопрос о правах ассамблеи в отношении вопросов, связанных с вооружением, — ведь по этому вопросу окончательное соглашение еще не достигнуто. Не был также решен вопрос, должны ли права ассамблеи в этом отношении быть сформулированы в терминах: «регулирование вооружений», «сокращение вооружений» или «разоружение».
После некоторой дискуссии договорились, что английская и советская группы займутся подготовкой соответствующих текстов, которые можно будет рассмотреть на следующем заседании комитета.
Пасвольский сказал, что до сих пор попытки выработать подходящее определение угрозы миру и нарушений мира были неудачны, и предложил пока что ограничиться общей формулировкой. Затем снова обсуждался вопрос о праве совета требовать транзита войск, баз и других услуг. В конце концов все эти вопросы было решено передать в Подкомитет военных представителей.
Участники переговоров вернулись к вопросу об ответственности совета в отношении предварительных условий капитуляции Германии и Японии.
— По мнению американской группы, — сказал Пасвольский, — следует предусмотреть, чтобы совет нес ответственность за составление условий капитуляции, если державы, принимающие капитуляцию врага, согласятся на такую передачу ответственности.
В ходе дальнейшей дискуссии условились решить этот вопрос в зависимости от сроков создания международной организации безопасности.
Соболев попросил уточнить формулировку, касающуюся «регулирования вооруженных сил держав оси». Он напомнил, что в соответствии с достигнутой ранее договоренностью вооруженные силы стран оси должны быть немедленно распущены. Следовательно, этих вооруженных сил вообще не будет и нечего будет «регулировать». Все согласились, что текст американского проекта следует в этом смысле перередактировать. Члены комитета условились, что передача ответственности совету может иметь место только после того, как вступит в действие система принудительных мер, действующих в организации по отношению к державам оси.
Девятое заседание Руководящего комитета состоялось в воскресенье, 3 сентября, в 11 часов. Открывая заседание, Стеттиниус сказал, что было решено работать в воскресенье, чтобы не откладывать рассмотрение уже подготовленных формулировок. Громыко предложил начать с рассмотрения вопроса о совете, в частности о составе совета. Члены комитета высказали по этому поводу свои суждения и внесли мелкие редакционные поправки.
Стеттиниус напомнил, что ранее американская делегация упомянула о возможности создания шестого постоянного места в совете для Бразилии.
— Я полагаю, — продолжал он, — что другим делегациям известно, какое значение имеет позиция Бразилии для правительства Соединенных Штатов. Тем не менее, правительство Соединенных Штатов отказывается от своего предложения о шестом месте для Бразилии, поскольку британский и советский представители не отнеслись к этому положительно. Надеюсь, что этот быстрый и добровольный отказ американской группы в вопросе, имеющем для нее большое значение, послужит прецедентом при рассмотрении тех пунктов, по которым еще не достигнуто решение…
Стеттиниус добавил, что, быть может, следовало бы в основной документ включить положение о возможном увеличении в дальнейшем числа постоянных членов совета. Кадоган и Громыко реагировали на это отрицательно.
Далее обсуждались основные функции и полномочия совета. Кадоган заметил, что главной функцией должно быть поддержание международного мира и безопасности.
При обсуждении формулировки, касающейся «определения угрозы миру, нарушений мира и действий в этой связи», было отмечено, что важно считаться с чувствами суверенных государств, когда речь идет о подчинении их решениям совета. В конечном счете приняли следующую формулировку: «Все члены Организации обязуются соглашаться с решениями Совета и обязуются выполнять их в соответствии с положениями Устава».
Затем обсуждался вопрос об отношении стран-нечленов к решениям совета. Было решено, что в этом месте не следует делать ссылки на государства-нечлены.
При обсуждении вопроса о мирном урегулировании споров Громыко отметил, что выражения «следить за ситуацией» и «расследовать ее» недостаточно ясны, и предложил более четко сформулировать это место. Позже этот параграф был передан в Редакционный подкомитет.
На следующем заседании Руководящего комитета 4 сентября продолжалось рассмотрение проектов текста отдельных параграфов, касающихся обязательств государств-членов выполнять решения совета. В частности, обсуждались вопросы:
• мирное урегулирование споров;
• международный суд;
• меры по поддержанию мира;
• определение угрозы миру, нарушений мира и действия в этом отношении.
При обсуждении вопроса об «экономическом давлении» Громыко сказал, что если какая-нибудь страна продемонстрирует агрессивные намерения, которые потребовали бы разрыва экономических отношений, то на этот случай следовало бы предусмотреть и более крайние меры. Пасвольский заметил, что такого рода меры покрываются положением о том, что совет может предпринять любые действия, включая в конечном счете и самые крайние. Было решено передать этот вопрос в Редакционный подкомитет для дальнейшего рассмотрения.
Стеттиниус поднял вопрос о дальнейшем распорядке работы. Он спросил, можно ли рассчитывать, что в ближайшие дни удастся прийти к соглашению по отложенным пунктам.
Громыко ответил, что в настоящее время ему нечего добавить к тому, что он говорил ранее, но он готов просмотреть отложенные пункты, хотя и не имеет каких-либо новых предложений. В свою очередь, Громыко поинтересовался, когда у американской группы будут новые предложения по отложенным пунктам Стеттиниус ответил, что они уже готовы и он будет рад обсудить эти пункты, с тем чтобы выработать окончательный текст. Кадоган сказал, что может сделать лишь некоторые предложения, но хотел бы обсудить все вопросы сразу, а не по частям. Он добавил, что предпочел бы дождаться указаний, своего правительства по остальным пунктам.
Касаясь действий по поддержанию мира, Громыко заметил, что в отдельных случаях надо предусмотреть возможность для великих держав принимать меры, используя лишь свои собственные силы. Поэтому он предлагает включить в устав соответствующее положение. Он высказал мнение, что такое положение, нисколько не ущемляя прав малых стран, предоставляло бы серьезные преимущества великим державам. При этом решение о применении силы одной какой-либо державой должен будет принимать совет. Все с этим согласились, и было решено поручить Редакционному подкомитету подготовить соответствующий текст.
Затем обсуждался вопрос о регулировании вооружений и вооруженных сил. Соболев заметил, что надо решить, какой именно орган всеобщей организации безопасности должен заниматься регулированием вооружения: только ли совет или же и совет, и ассамблея.
Кадоган предложил, чтобы на этот счет окончательно высказалась конференция учредителей организации. Пасвольский также заявил, что этот вопрос не следует решать сейчас.
— По мнению американской группы, — добавил он, — слишком значительное сокращение вооружений, а тем более проведенное односторонне, нежелательно. Поэтому американская сторона склоняется к тому, чтобы были установлены минимальные и максимальные пределы вооруженных сил.
Кадоган поддержал Пасвольского, добавив, что этот вопрос должен быть связан с квотами вооруженных сил, предоставляемыми каждым государством.
Соболев спросил, предусматривается ли после согласования в совете заключить всеобщее соглашение по регулированию вооружений? Пасвольский ответил утвердительно. Он добавил, что не следует предоставлять ассамблее никаких исключительных функций в отношении регулирования вооружений и вооруженных сил, особенно когда речь будет идти об инспекции или о решениях, проистекающих из развития в области вооружений. Надо сразу указать, что все эти дела — прерогативы совета.
Громыко предложил, чтобы ассамблея обсуждала лишь общие принципы регулирования вооружений и давала рекомендации совету. Пасвольский согласился с этим, а Данн добавил, что ассамблея могла бы также обсудить вопрос о сроках конференций по регулированию вооружений.
Громыко заметил, что обсуждение таких вопросов на ассамблее оказало бы пользу совету. С этим все согласились, причем было решено, что ассамблее следовало бы также заниматься вопросами, связанными с торговлей оружием.
АТАКА НА ПРИНЦИП ЕДИНОГЛАСИЯ
Объединенные Нации
В тот же день, после обеда, состоялось четвертое заседание Подкомитета по вопросам безопасности. Председательствовал Стеттиниус. Он заявил, что номенклатурная подкомиссия подготовила свой доклад. Слово получил Флетчер, изложивший предложение назвать организацию «Объединенные Нации». По мнению американской делегации, такое название символизировало достигнутое во время войны единство, которое необходимо сохранить и в условиях мира.
После этого выступил Боумэн, сославшийся на статью 5 Московской декларации, где также упоминаются «Объединенные Нации». Объединенные Нации, сказал он, уже завоевали в мире популярность своими военными достижениями и совместной борьбой против держав оси, и их престиж и цели жизненно необходимы для существования новой организации. Генерал Эмбик, в свою очередь, подчеркнул, что термин «Объединенные Нации» имеет наиболее сильный военный оттенок.
Громыко заметил, что такое название является новым предложением, поскольку оно не упоминается ни в английском, ни в американском меморандумах. Джебб обратил внимание на то место в британском меморандуме, где говорится, что термин «Объединенные Нации» сейчас широко употребляется, и добавил, что поэтому, видимо, нет серьезной причины заменять его каким-либо иным термином.
Советский делегат обещал рассмотреть это предложение.
Затем обсуждался вопрос о наименовании основного документа. Кадоган заявил, что, хотя еще не знает окончательного решения своего правительства, он не предвидит возражений против термина «устав». Громыко отметил, что тут могут быть трудности в отношении русского перевода. Он спросил, есть ли существенная разница в английском понимании терминов «чартер» и «стэйтут»? Флетчер пояснил, что «чартер» несколько более широкий термин.
В последовавшей дискуссии выступили Боумэн и Малкин. Последний сказал, что статут («стэйтут») наиболее подходящий термин для международного суда, к может возникнуть путаница, если этот термин будет использован и для названия основного документа организации. Соболев заметил, что в Советском Союзе термин «чартер» применяется к «Атлантической хартии». Поэтому было бы лучше принять для основного документа организации безопасности английский эквивалент русского термина «статут». Английский и американский представители продолжали настаивать на термине «устав» («чартер»), Громыко сказал, что советская делегация рассмотрит этот вопрос.
Затем обсуждался вопрос о наименовании основных органов будущей международной организации. Были предложены названия: «Генеральная Ассамблея» и «Совет Безопасности». Громыко заметил, что если название организации будет «Объединенные Нации», то тогда слово «безопасность» можно использовать при наименовании одного из главных органов, а именно Совета. Если же слово «безопасность» будет составной частью названия организации, то нет смысла повторять это слово и принимать термин «Совет Безопасности». Громыко сказал, что резервирует мнение советской делегации по этому вопросу. Британская и американская делегации согласились с наименованиями «Генеральная Ассамблея» и «Совет Безопасности».
Перейдя к вопросу о руководящих постах Совета и Ассамблеи, участники комитета достигли договоренности в отношении термина «председатель».
Когда комитет стал обсуждать наименование военного органа Совета и был предложен термин «Военно-Штабной комитет», Громыко высказал некоторые сомнения в этой связи, поскольку на данной стадии развития организации все еще не уточнены функции этого комитета. В итоге обмена мнениями стороны согласились отложить решение по данному вопросу.
Все согласились с термином «Международный Суд». Уговорились также, чтобы основной пост в Секретариате носил название «Генеральный секретарь».
Когда на следующем заседании вновь возник вопрос о наименовании будущей организации безопасности, Громыко сказал, что, как он уже отмечал ранее, термин «Объединенные Нации» имеет определенный исторический смысл, который, будучи принят как название новой организации, может вызвать некоторую путаницу. Исторически этот термин применим к нациям, сотрудничавшим во второй мировой войне. Теперь же предлагается это название дать всей организации, которая будет действовать после нынешней войны. Оговорившись, что он сейчас как бы рассуждает вслух, Громыко предложил название: «Международная Организация Безопасности». Американский делегат возразил против этого, подчеркнув, что будущая организация должна заниматься не только безопасностью, но и более широким кругом вопросов. Тогда советский делегат сказал, что организация могла бы называться «Всемирный Союз». Кадогану понравилось слово «Союз», но американский представитель высказал сомнение, заявив, что такое наименование напоминает некую федерацию, которая может иметь наднациональный статус или претендовать на него. Американская делегация вновь предложила назвать организацию «Объединенные Нации». Стеттиниус подчеркнул, что в пользу такого названия особенно активно выступает президент Рузвельт, который видит в нем некую преемственность от совместных усилий держав в нынешней войне к их сотрудничеству в послевоенном мире. После некоторой дискуссии было принято название: «Объединенные Нации».
В конечном счете согласились также на термин «Устав» как на название основного документа организации.
Спор о термине «агрессия»
Руководящий комитет вновь встретился 7 сентября в 10 часов.
Стеттиниус предложил рассмотреть весь проект документа, чтобы установить, что согласовано, а что — нет. Был зачитан текст пункта 1, где упоминается слово «агрессия». Кадоган возразил против термина «агрессия», поскольку использование этого термина может вызвать трудности. Джебб тут же поддержал своего шефа и заявил, что «агрессия» — это, дескать, тенденциозное выражение. Данн также высказал мнение, что использование слова «агрессия» принесет лишь неприятности.
Громыко счел нужным вмешаться, заявив, что никак не может согласиться с этой точкой зрения. Тогда Кадоган снова принялся пояснять, что бывало, дескать, много случаев, когда две страны оказывались в состоянии войны, причем невозможно было определить, какая же из них является агрессором. Поэтому, заключил Кадоган, использование слова «агрессия» только ослабляет ту цель, которую мы все хотим достичь.
Громыко сказал, что одна из функций организации будет заключаться в том, чтобы определить в каждой конкретной ситуации, какая страна является агрессором.
— Это святая обязанность будущей международной организации безопасности. Если мы не скажем прямо об этом, то лишь облегчим потенциальному агрессору его черное дело…
Кадоган опять взял слово и стал распространяться о том, что важным является не определение агрессии, а наличие у организации реальной возможности положить конец конфликту. Организация не должна терять времени на длинные дебаты относительно того, какая страна — агрессор. Данн заметил, что выражение «организация отпора агрессии» вообще необычно звучит на английском языке. Он также сказал, что понятие «агрессия» много лет дебатировалось в Лиге наций, причем никакого соглашения так и не было достигнуто.
Советский делегат не согласился с такой аргументацией. Он сказал, что именно отсутствие четкого определения агрессии мешало принятию эффективных мер против нарушителей мира. А то, что Лиге наций не удалось достичь соглашения в отношении этого термина, лишь подтверждает нежелание определенных кругов допустить точное определение понятия «агрессия». Это делалось вполне сознательно. Поощрявшие фашистских правителей западные политики считали, что отсутствие международного соглашения на этот счет облегчит потенциальному агрессору возможность не только совершить нападение, но и остаться безнаказанным.
— Война, которую мы сейчас ведем, — убедительное свидетельство того, к чему ведет попустительство агрессору, — сказал Громыко. — Вот почему мы должны дать четкое и точное определение термину «агрессия»…
На этом этапе было решено принять предложение Громыко во внимание. Редакционному подкомитету поручили подготовить проект соответствующего текста.
Когда позднее обсуждался вопрос о «нарушениях мира» и «актах агрессии», Пасвольский сказал, что ему не нравится выражение «акты агрессии», поскольку термин «нарушение мира» покрывает понятие «акты агрессии». Советскому делегату пришлось вновь настаивать на сохранении в документе упоминания об «актах агрессии». Этот вопрос решили обсудить позднее.
Советский представитель предложил указать, что фашистские государства и государства фашистского типа не могут быть членами организации. Кадоган возразил против слов «фашистского типа», заметив, что не всегда будет ясно, что означает термин «государство фашистского типа».
— Как насчет Португалии? — вставил Джебб. Кадоган, продолжая свою мысль, сказал, что слово «фашистские» может со временем изменить свой смысл.
— В документе, который мы создаем, — продолжал он, — упоминание такого термина сомнительно…
На это Громыко заметил, что понятие добра и зла не меняется.
Стеттиниус заявил, что надо подумать над тем, как понимать слово «фашистское».
— Это ясно по-русски, — сказал Соболев.
— Это ясно на всех языках, — поддержал его Громыко.
— Но в Америке, — ответил Стеттиниус, — рядовые люди не понимают смысла политических, систем, кроме своей, американской системы правительства.
— Будет ли совет определять, какое государство фашистского типа, а какое нет? — спросил Пасвольский.
— Конечно! — ответил Громыко.
— А Япония — фашистское государство? — поинтересовался Кадоган.
— Видимо, надо внимательно изучить это предложение, — вмешался Стеттиниус.
— Если мы сохраним этот пункт, — сказал Пасвольский, — то будет подразумеваться, что все первоначальные члены организации получили справку об отличном здоровье…
Советские представители продолжали энергично настаивать на своем. Этот вопрос снова подвергся обсуждению, когда на одном из следующих заседаний была затронута проблема вмешательства организации во внутренние дела государств-членов, если обстановка в этих государствах угрожает международному миру.
Громыко предложил предусмотреть, чтобы страны, которые провозгласили принцип неравенства наций, не допускались в организацию. Пасвольский не согласился с этим, заявив, что такой пункт излишен, поскольку с самого начала указано, что государства — члены организации должны отвечать принципам, изложенным в Уставе, то есть соблюдать права человека и основные свободы. Кадоган внес предложение передать этот вопрос на рассмотрение Всеобщей конференции по созданию международной организации безопасности.
Громыко снова поднял вопрос о государствах фашистского типа и об их недопущении в организацию.
Кадоган заметил, что принятие формулы о правах человека и основных свободах само по себе означало бы осуждение фашизма и всех фашистских государства Громыко спросил, как можно определить, уважает ли государство основные права и свободы? Уточняя этот вопрос, Соболев поинтересовался, какой механизм будет существовать, для того чтобы добиться соблюдения основных прав и свобод.
Пасвольский высказал мнение, что можно легко создать комиссию по правам человека, если это будет сочтено необходимым. На этом дискуссия о государствах фашистского типа закончилась. Что же касается вопроса об определении термина «агрессия» и о ссылке в Уставе на «акты агрессии», то его обсуждение продолжалось на последующих заседаниях.
Американский и английский делегаты вновь и вновь пытались уклониться от определения понятия «агрессия». Британский делегат утверждал, что никогда не удавалось определить это понятие в прошлом и что любая попытка сделать это в Уставе привела бы лишь к тому, что права Совета Безопасности были бы ограничены. Делегаты Соединенных Штатов отмечали, что понятие «агрессия» уже охвачено тем, что в предложениях указывается на подготовку к агрессии, а также на угрозу миру и нарушения мира, поэтому, если что и надо определять, так это прежде всего понятие угрозы.
Словом, и англичане, и американцы явно старались запутать вопрос.
Советская делегация настаивала на том, что надо детально разработать методы предупреждения и подавления агрессии.
В конце концов вопрос об определении термина «агрессия» так и остался открытым, но и упоминание об «актах агрессии» в документе осталось. Было также решено составить подробный список мер, которые должен предпринимать Совет Безопасности для пресечения нарушений мира. Совет уполномочивался обратиться к участникам спора с призывом урегулировать свои разногласия мирным путем. После этого могли приниматься другие меры, включающие, экономическое давление, разрыв дипломатических отношений, разрыв экономических связей, морскую и сухопутную блокаду и т. д., вплоть до военных операций государств — членов организации против агрессора.
То, что упоминание об «актах агрессии» осталось в Уставе, было серьезным успехом советской делегации на переговорах в Думбартон-Оксе.
Голосование в Совете
Отложенный после первоначального обмена мнениями вопрос о порядке голосования в Совете Безопасности в дальнейшем вызвал весьма острую дискуссию. Эта проблема породила, пожалуй, больше всего споров на конференции.
На очередном заседании Руководящего комитета Громыко заявил, что позиция советской делегации по вопросу о голосовании в Совете остается неизменной.
— Мы считаем, — сказал он, — что британские и американские предложения в отношении процедуры голосования в Совете означали бы нарушение принципа единогласия великих держав. Между тем Советское правительство всегда придавало этому принципу первостепенное значение.
Стеттиниус продолжал настаивать на своем предложении. Он уверял, что не представляет себе, чтобы американский сенат принял предложение, по которому в будущей организации страна, причастная к спору, имела бы право голоса. Ему кажется, что советская позиция вполне может привести к тому, что из-за резко негативного отношения малых стран конференция по созданию Организации Объединенных Наций вообще не состоится.
Нажим на советскую делегацию оказывали и англичане. Кадоган сказал, что, по его мнению, ни один из британских доминионов не присоединится к организации, если будет принят принцип, на котором настаивает советская сторона. Британский делегат добавил, что ввиду советской позиции придется вообще подумать, какой процедуры придерживаться дальше. Он просто не знает, что можно предпринять в сложившейся ситуации.
Стеттиниус также стал высказывать всяческие сомнения. Если, заявил он, различие в точках зрения по этому вопросу станет широко известно, то это приведет к нежелательным последствиям. Если же в конце работы конференция не сделает никакого заявления, то это будет воспринято как провал встречи в Думбартон-Оксе.
Явно пытаясь драматизировать ситуацию, американцы и англичане принялись уверять, что создавшееся положение все меняет и что надо подумать о дальнейших перспективах переговоров. Кадоган заявил, что должен проконсультироваться с Иденом, и высказал мнение, что весь этот вопрос необходимо решить на более высоком уровне.
Вновь подтвердив позицию Советского правительства, Громыко сказал, что в принципе единогласия великих держав недопустимы никакие изменения. Эту позицию советская делегация твердо занимала с самого начала переговоров, и он, Громыко, неоднократно излагал эту точку зрения. Принцип единогласия был той согласованной базой, из которой все исходили. Очевидно, что великие державы должны занимать особое положение в организации, хотя бы ввиду того простого факта, что именно они несут главную ответственность за поддержание мира. Громыко выразил уверенность, что малые страны примут этот принцип, поскольку всегда предусматривался именно такой подход к делу.
— Не следует заранее предполагать, — продолжал Громыко, — что великие державы, несущие главную ответственность за безопасность народов, будут сразу же втянуты в споры. Напротив, надо рассчитывать, что их успешное сотрудничество в войне, нынешняя борьба за безопасность человечества будут иметь важное значение для поддержания мира и в дальнейшем…
— Итак, — многозначительно произнес Стеттиниус, — конференция достигла переломного момента. Я должен отметить, что не возникает трудностей для достижения согласия по остальным пунктам, если в этом главном вопросе удастся выработать приемлемую для всех формулу…
Громыко напомнил, что в ходе переговоров советская сторона пошла на многие уступки, если «уступки» вообще подходящее слово для переговоров, где все участники стремятся к одной цели, к общему согласию. Советское правительство пошло на эти уступки, продолжал советский делегат, понимая важность достижения соглашения с двумя другими правительствами. Теперь советская делегация ожидает взаимности от своих партнеров.
— Как же мы поступим дальше? — спросил Стеттиниус.
— Надо быстро действовать, — сказал Кадоган, — поскольку факт наших расхождений, несомненно, станет известен публике. Вопрос сейчас в том, как все это преподнести прессе. Можно сказать, что никакого соглашения в Думбартон-Оксе достигать не собирались, но тогда все равно в конце концов станет известен факт разногласий. Можно представить Объединенным Нациям документ, в котором будет предложено два варианта, но это тоже произвело бы плохое впечатление…
Громыко заметил, что не представляет себе, как вообще можно созывать конференцию Объединенных Наций, если четыре державы не придут к соглашению. Он полагает, что наличие альтернативных вариантов или же упоминания о несогласии может вызвать замешательство. Громыко предложил американскому и английскому делегатам вновь внимательно рассмотреть весь этот вопрос.
Спор этот продолжался на протяжении двух дней, причем позиции сторон оставались неизменными.
Здесь следует заметить, что американская и английская делегации, выдвигая предложение о том, чтобы сторона, участвующая в споре, не голосовала в совете, отнюдь не были столь бескорыстны, как они это изображали. Поскольку в то время Советский Союз являлся единственной социалистической державой, в Вашингтоне и Лондоне были полностью уверены, что в случае серьезных разногласий США и Англия будут располагать и в совете и в ассамблее организации абсолютным большинством. Поэтому им ничего не стоило встать в позу сверхсознательных держав, готовых полностью подчинить себя предлагаемой ими же процедуре. Они и не мыслили тогда, чтобы кто-то из членов совета (кроме Советского Союза), будучи связан множеством экономических, идеологических и политических уз с Соединенными Штатами и Англией, осмелился поднять против них голос. А Советский Союз они хотели исключить из игры, лишив его права участвовать в голосовании в случае спора или конфликта, затрагивающего его интересы.
Но дело не только в этом. Тут, действительно, нарушался основной принцип послевоенного устройства, основанный на единодушии великих держав, несущих главную ответственность за поддержание мира. Ведь совершенно очевидно, что в случае нарушения мира именно этим державам пришлось бы взять на себя главное бремя по обеспечению безопасности народов. По существу, любой спор, а тем более конфликт, в который оказалась бы втянута великая держава, мог перерасти в ситуацию, которая была бы чревата серьезным столкновением. Как же можно было в таком случае лишать заинтересованную великую державу права участвовать в голосовании? Такая процедура равносильна отстранению этой державы от решений организации.
В свете сказанного все рассуждения и красивые слова англичан и американцев были чистейшей демагогией. И естественно, что советская делегация решительно отстаивала свою принципиально правильную позицию.
Поскольку дело не двигалось с места, Вашингтон решил оказать новый нажим. Во время встречи Громыко с Корделлом Хэллом последний обратил внимание посла на то большое значение, которое Соединенные Штаты придают порядку голосования в Совете Безопасности. Хэлл просил передать американскую точку зрения в Москву. 8 сентября советского посла пригласил президент Рузвельт. Он сказал, что любое предложение относительно «абсолютного вето» создаст серьезные трудности как в конгрессе Соединенных Штатов, так и во взаимоотношениях с другими Объединенными Нациями. На следующий день Рузвельт направил Сталину личное, секретное послание, в котором говорилось: «Я имел интересную и приятную беседу с Вашим Послом по поводу хода переговоров в Думбартон-Оксе. По-видимому, остается один важный вопрос, по которому мы еще не договорились. Это вопрос о голосовании в Совете. Мы и британцы твердо держимся того взгляда, что при принятии решений Советом спорящие стороны не должны голосовать даже в том случае, если одна из сторон является постоянным членом Совета, в то время как Ваше правительство, как я понял Вашего Посла, придерживается противоположного взгляда».
Сославшись на традиции, установившиеся в Соединенных Штатах, Рузвельт отметил, что не может отказаться от выдвинутого американцами принципа, тем более что, как он полагает, малые нации усмотрели бы в этом попытку со стороны великих держав поставить себя выше закона.
«В силу этих причин, — писал в заключение Рузвельт, — я надеюсь, что Вы сочтете возможным поручить Вашей делегации согласиться с нашим предложением о голосовании. Если это можно будет сделать, переговоры в Думбартон-Оксе могут быть быстро закончены с полным и выдающимся успехом».
Ответное послание Сталина датировано 14 сентября.
«Я должен сказать, — писал он, — что для успеха деятельности Международной Организации Безопасности немалое значение будет иметь порядок голосования в Совете, имея в виду важность того, чтобы Совет работал на основе принципа согласованности и единогласия четырех ведущих держав по всем вопросам, включая и те, которые непосредственно касаются одной из этих стран. Первоначальное американское предложение о том, чтобы была установлена особая процедура голосования в случае спора, в котором непосредственно замешан один или несколько членов Совета, имеющих статут постоянных членов, мне представляется правильным. В противном случае сведется на нет достигнутое между нами соглашение на Тегеранской конференции, исходящее из принципа обеспечения в первую очередь единства действий четырех держав, необходимого для борьбы с агрессией в будущем.
Такое единство предполагает, разумеется, что среди этих держав нет места для взаимных подозрений. Что касается Советского Союза, то он не может также игнорировать наличие некоторых нелепых предрассудков, которые часто мешают действительно объективному отношению к СССР. Да и другие страны должны взвесить последствия, к которым может, привести отсутствие единства у ведущих держав. Я надеюсь, что Вы поймете серьезность высказанных здесь соображений и что мы найдем согласованное решение и в данном вопросе».
Письмо адмирала Леги
Последствия отсутствия единства ведущих держав, о которых говорилось в послании главы Советского правительства, могли быть очень тяжелыми. Уже тогда это понимали многие политические деятели Запада. Расхождения во мнениях появились и в самой американской группе в Думбартон-Оксе. Теперь известно: некоторые из делегатов США считали, что, если не будет достигнута договоренность, это может привести к немедленным военным последствиям, которые повлияют не только на развитие операций в Европе, но и на перспективу вступления Советского Союза в войну против Японии на Тихом океане. К тому же они считали, что в дальнейшем будет еще труднее прийти к соглашению, а это могло бы означать конец попыткам создания международной организации безопасности.
Наконец, они серьезно сомневались в том, согласится ли сенат, чтобы право голоса Соединенных Штатов было ограничено в любом споре, в котором они участвуют. Учитывая все это, они предложили принять советскую позицию, которую считали разумной и которая, по существу, вначале была американской позицией.
С течением времени среди американской делегации все более усиливалось мнение, что для самих же Соединенных Штатов невыгодно и нецелесообразно соглашаться с такой процедурой, которая лишила бы их права голоса в споре, в котором они непосредственно участвуют. В меморандуме, который сторонники этой точки зрения направили президенту Рузвельту, говорилось: «Американские военные представители, участвующие в переговорах в Думбартон-Оксе, подчеркивают, что контингента, которые предоставляются любым государством — членом организации, ни в коем случае не должны быть настолько мощны, чтобы быть эффективной силой, направленной против великой державы. Поэтому было бы нереалистично предусматривать какую-то теоретическую возможность для проведения насильственной акции по отношению к Соединенным Штатам, Великобритании или Советской России».
Не менее показательно и письмо, направленное в те дни Рузвельту адмиралом Леги, который длительное время являлся ближайшим советником президента. Это письмо показывает, как: представляли себе некоторые круги Соединенных Штатов послевоенный мир и характер отношений между великими державами.
«Совершенно очевидно, — говорилось в этом письме, — что в будущем нельзя себе представить мировую войну и вообще крупную войну, в которой не участвовали бы одна или несколько великих держав на той или иной стороне. После окончания, нынешней войны на протяжении обозримого будущего останутся только три такие державы: Соединенные Штаты, Великобритания и Россия. Любой мировой конфликт будет происходить в условиях, когда Великобритания и Россия окажутся в противоположных лагерях. Россия продемонстрировала свои огромные военные и экономические ресурсы. Что же касается Англии, то похоже, что она выйдет из этой войны значительно ослабленной. Следовательно, в конфликте между этими двумя державами, учитывая неравенство сил и военных возможностей, даже мы вряд ли сможем что-либо сделать, выступив на стороне Великобритании. Имея в виду военные факторы, в частности экономические и людские ресурсы, географические факторы и особенно наши возможности переброски войск через океан, мы, конечно, сможем довольно успешно оборонять Англию, но мы не сможем при существующих условиях победить Россию. Иными словами, мы окажемся втянутыми в войну, которую мы не сможем выиграть».
Аналогичные соображения высказывал и глава правительства Южно-Африканского Союза фельдмаршал Смэтс. 20 сентября 1944 г. он направил своему давнишнему другу премьер-министру Уинстону Черчиллю послание, в котором высказался в пользу принципа единогласия в Совете Безопасности. При всей своей архиреакционной сущности престарелый фельдмаршал понимал, какие опасности грозят человечеству в случае столкновения великих держав. Он подчеркивал важность того, чтобы великие державы оставались едины в вопросах послевоенного устройства.
«Советская позиция, — писал Смэтс, — связана с вопросами чести и положения России среди союзников. Она сейчас как бы задает вопрос — верят ли ей и относятся ли к ней как к равной? Или же ее продолжают рассматривать как парию и второстепенную державу или какого-то отщепенца. Отказ от принципа единогласия может привести к тому, что Советский Союз не будет в такой организации участвовать. Если мировая организация будет создана без России, то последняя станет центром притяжения какой-то другой группы, и тогда мы прямо окажемся на пути к третьей мировой войне».
Таков был сложный и противоречивый политический фон, на котором происходили дебаты в Думбартон-Оксе. Вопросу процедуры голосования в Совете Безопасности было посвящено еще несколько заседаний Руководящего комитета. Поскольку прийти к соглашению не удалось, Стеттиниус высказал мнение, что в создавшихся условиях могут быть три варианта заключительного совместного заявления.
Первый вариант: переговоры могут закончиться сообщением, что три группы не смогли прийти к соглашению. По мнению американской делегации, это немыслимо. Ведь будущее мира зависит от способности трех держав стоять плечом к плечу как в войне, так и в мире. Следовательно, надо найти путь к сближению позиций, чтобы можно было созвать международную конференцию для создания организации.
Второй вариант: опубликовать согласованный текст и представить его конференции Объединенных Наций, оставив открытым вопрос о голосовании в совете.
Третий вариант: после окончания переговоров в Думбартон-Оксе каждая группа представит доклад своему правительству, Соответствующие правительства изучат результаты работы, после чего будет созвано следующее совещание, наподобие конференции в Думбартон-Оксе.
— Как к этому относятся мои коллеги? — спросил Стеттиниус.
Кадоган сказал, что его правительство вряд ли примет первый вариант, означающий признание провала совещания. Ведь по многим вопросам соглашение достигнуто. Что касается второго варианта, то Кадоган полагает, что и он не подходит, поскольку неразумно созывать большую конференцию, не имея предварительного согласия трех держав. Пожалуй, лучше всего третий вариант. Тут можно было бы сказать, что конференция достигла соглашения, но не по всем вопросам и разногласия передаются на рассмотрение соответствующим правительствам.
— Но может быть и еще один вариант, — заключил Кадоган, — закончить конференцию, не делая никакого заявления…
Пасвольский сказал, что такой вариант не дал бы общественности правильного представления о работе нынешней конференции, поскольку фактически в Думбартон-Оксе проделано немало.
— При том значении, которое придают народы продолжению сотрудничества трех держав, — вмешался Стеттиниус, — все мое существо подсказывает мне, что надо найти какой-то выход и прийти к соглашению…
Громыко также отметил, что нельзя говорить о несогласии делегаций. Следует сказать, что участники переговоров пришли к соглашению по большому кругу вопросов, но что рассмотрение некоторых проблем еще не закончено. Можно было бы также сказать, что три правительства будут продолжать обсуждение этих вопросов.
Стеттиниус поддержал эту идею и предложил, чтобы в разделе о голосовании в Совете Безопасности было сказано, что процедура в этом отношении еще рассматривается.
В конечном счете это предложение и нашло отражение в документе, опубликованном после конференции в Думбартон-Оксе.
Предвыборная речь Рузвельта
Вечером в субботу 23 сентября, вернувшись из Думбартон-Окса в гостиницу, я заметил в холле необычное оживление. Какие-то люди группами и в одиночку проходили через вертящуюся дверь «Статлера» и поднимались на второй этаж, где находились банкетные залы с раздвижными стенами. В вестибюле фланировали молодые люди с оттопыривающимися пиджаками — несомненно детективы, обычно прячущие пистолет под мышкой. Подойдя к портье, я спросил, что тут происходит. Протягивая ключ от моего номера, портье ответил, понизив голос:
— Сегодня здесь выступает президент с первой предвыборной речью…
Я подошел к лифту, который обслуживала миловидная стройная негритянка.
— Вверх, — произнесла она машинально, глядя в пространство своими большими глазами.
— Пятый этаж, — сказал я.
Поднимаясь, я думал, как бы мне попасть на это собрание. А почему бы в самом деле не попытаться? Мы остановились на пятом этаже, но я не вышел, а попросил лифтершу спустить меня на второй. Девушка удивленно подняла брови, раскрыв еще шире глаза-сливы, однако ничего не сказала и нажала кнопку.
Выйдя из лифта, я сразу же наткнулся на высокого молодого человека, который любезно, но настойчиво поинтересовался, с кем имеет дело. Я показал карточку участника конференции в Думбартон-Оксе.
— Вы, случайно, не ошиблись, вам нужно именно сюда? — спросил молодой человек.
— Я хотел бы послушать выступление президента, если это возможно…
— Подождите минутку.
Молодой человек исчез, а я отошел в сторону. Мимо меня проходили все новые гости. У каждого на лацкане была приколота карточка с какой-то надписью — она служила пропуском.
— Пожалуйста, — сказал внезапно вынырнувший молодой человек. — Можете пройти…
Следуя за группой американцев, я вошел в длинный зал, уставленный стульями, и сел в последнем ряду. Впереди возвышался помост, на котором стоял полированный стол с несколькими микрофонами. Значительная часть зала была заполнена, но публика все прибывала. С шумом рассаживались. На сцену вышел грузный человек и нажал кнопку звонка, поблескивавшего на столе. Воцарилась тишина. Драпировка позади помоста зашевелилась, и из-за складок появился президент Рузвельт. Сразу же раздались аплодисменты. Рузвельт сидел в коляске, подняв правую руку в приветствии и широко улыбаясь. Коляску подкатили к столу, закрепили тормоз. На помост поднялись еще трое. Они разместились по обе стороны коляски президента. Один из них объявил собрание профсоюза шоферов открытым и передал слово Рузвельту.
Тяжело опираясь на подлокотники, президент подался вперед, ближе к микрофонам, и начал речь:
— Итак, мы снова здесь. Я стал на четыре года старше, что, по-видимому, раздражает некоторых людей…
Говоря это, Рузвельт имел в виду, что уже четвертый раз выдвигает свою кандидатуру на высший пост в государстве. Много воды утекло с тех пор, как он впервые вошел в Белый дом. И какие это были годы!
Первый срок президентства Рузвельта начался почти двенадцать лет назад, когда Соединенные Штаты еще терзал величайший экономический кризис, а в Германии готовился взять власть Гитлер. С тех пор положение и в мире и в США коренным образом изменилось. Теперь Рузвельт вел страну, участвующую в антигитлеровской коалиции, к победе. И сейчас он, тяжело больной человек, вновь добивался президентского поста, чтобы после победы над общим врагом участвовать в создании основ послевоенного мира.
Он знал — победа близка. Но именно эта близость окончания войны порождала сложные внутриполитические и внешнеполитические проблемы. Силы, которые затаились, когда исход титанической схватки был еще не вполне ясен, теперь снова подняли голову. У них был свой взгляд на то, каким должен стать послевоенный мир, и они сплачивались, чтобы нанести поражение Рузвельту, хотя он и пользовался тогда, в стране огромной популярностью.
Главная их атака шла по линии дискредитации Рузвельта. Чтобы очернить его, на вооружение бралось все — и мелкие сплетни и крупные провокации. Был, например, распущен слух, что Рузвельт будто бы забыл на Алеутских островах свою любимую собачонку Фала, а потом послал за нею эсминец, что обошлось налогоплательщикам не то в 2 миллиона, не то в 20 миллионов долларов. Другие обвинения были более серьезны. Так, один конгрессмен-республиканец заявил, что в декабре 1941 года австралийское правительство предупредило Вашингтон о приближении японского флота к американской базе Пёрл-Харбор за 72 часа до атаки на военные корабли США, но администрация Рузвельта это, дескать, игнорировала. Опровергнув эти домыслы на пресс-конференции, состоявшейся 22 сентября, Рузвельт иронически добавил, что до 7 ноября, то есть до дня президентских выборов, может появиться еще много подобных наскоков.
Рузвельт продолжал борьбу. Наряду с огромным бременем, связанным с руководством операциями на разбросанных фронтах второй мировой войны, наряду с заботами по организации военного производства внутри страны, наряду с большим вниманием, которое он уделял планам послевоенного устройства, Рузвельт взвалил на себя и тяжесть ожесточенной предвыборной борьбы. Он выступал с речами, резко и ядовито отвечал своим противникам, призывая себе на помощь и факты истории. Как раз в дни нашего пребывания в Вашингтоне на экраны Соединенных Штатов вышел монументальный цветной фильм «Вудро Вильсон». Говорили, что Рузвельт лично консультировал постановщиков этого фильма, стремясь превратить эту ленту в действенное оружие своей предвыборной кампании.
Рузвельт присутствовал на премьере фильма, которая была обставлена с небывалой торжественностью. Там находился весь дипломатический корпус, конгрессмены, генералитет, высшие правительственные чиновники, боссы демократической партии. Получили приглашение и участники конференции в Думбартон-Оксе. Фильм был слащавый, сентиментальный, рисовал крайне идиллическую картину периода правления Вильсона. Но, возможно, это было именно то, что тогда требовалось стратегам демократической партии. С экрана зрителей как бы увещевали: голосуйте за демократическую партию, оставьте в Белом доме еще на один срок вашего испытанного, закаленного в боях, умудренного опытом президента, и вы выполните завет другого великого президента-демократа — Вудро Вильсона. Фильм, обошел всю Америку и, надо полагать, сыграл свою роль.
Пытаясь заручиться поддержкой диксикратов — консервативного крыла демократической партии, особенно сильного в южных штатах, — Рузвельт выдвинул в вице-президенты кандидатуру сенатора Гарри Трумэна, взгляды которого не имели ничего общего с устремлениями президента. Несомненно, Рузвельт шел тут на сделку со своей совестью, но если бы он этого не сделал, выиграть на выборах мог бы республиканец Томас Дьюи — ставленник наиболее реакционных кругов США.
В ноябре 1944 года Рузвельт одержал победу. Но он уже не смог полностью воспользоваться ее плодами: 12 апреля 1945 года перестало биться сердце этого выдающегося американца…
Произнося речь в «Статлере», Рузвельт резко критиковал своих противников — республиканцев, уверенно говорил о скорой победе над врагами человечества, ярко рисовал картину будущего послевоенного мира, где благодаря единству действий держав-победительниц наша планета будет избавлена от нужды, страха, от болезней и войн.
— Нам предстоят задачи, — говорил Рузвельт, — которые мы должны выполнить с той же волей, искусством, разумом и преданностью, которые вели нас до сих пор по пути к победе. Это — задача победоносного завершения самой ужасной из всех войн как можно быстрее и с наименьшими людскими потерями. Это — задача создать международную организацию, которая бы обеспечила, чтобы установленный мир не смог быть вновь нарушен. И, наконец, задача, стоящая перед нами здесь, на родине, это — перевод нашей экономики с военных на мирные рельсы. Эти задачи мирного строительства уже стояли перед нами однажды, почти поколение назад. Республиканское правительство не справилось с ними. На сей раз это случиться не должно. Мы не допустим повторения этого… Я знаю, что американский народ — деловые люди, рабочие и работники сельского хозяйства — также хочет сделать для мира то, что он сделал для войны…
— Победа американского народа и его союзников в этой войне, — сказал Рузвельт в заключение, — будет чем-то несравненно большим, чем победа над фашизмом, реакцией; Победа американского народа и его союзников в этой войне будет победой демократии. Она будет представлять собой такое утверждение силы, власти и жизненности правительства для народа, каких еще не знала история. С этим сознанием нашей собственной силы и власти мы идем вперед к величайшей эпохе свободных достижений свободных людей, о которой когда-либо знал или мечтал мир…
Эта речь, вызвавшая теплые приветствия зала, была еще одним проявлением широты кругозора президента и ораторското искусства, которым так отлично владел Рузвельт.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Подготовка заключительного документа.
Последующие заседания Руководящего комитета были посвящены уточнению текста заключительного документа. Рассматривался также проект совместного заявления, которое имелось в виду опубликовать после окончания так называемой «советской фазы» конференции. Поскольку Советский Союз не участвовал тогда в войне против Японии, было решено разделить работу конференции в Думбартон-Оксе на две части. В первой принимали участие СССР, США и Англия. Во второй — США, Англия и Китай. Вслед за окончанием «советской фазы» должна была состояться «китайская фаза».
На одном из заседаний Стеттиниус заявил, что, по мнению американского правительства, будет практически невозможно сохранить в тайне от прессы итоги работы конференции в Думбартон-Оксе. Поэтому, сказал Стеттиниус, государственный секретарь Хэлл считает желательным, чтобы по окончании работы были опубликованы совместное заявление, а также текст рекомендаций другим Объединенным Нациям. Все это следует опубликовать одновременно в четырех столицах — в Вашингтоне, Москве, Лондоне и Чунцине.
Стеттиниус сказал, что ему представляется важным, чтобы общественности была представлена положительная сторона работы в Думбартон-Оксе. Поэтому надо опубликовать сведения только о том, о чем достигнуто согласие. Окончательный текст можно соответственно сократить.
Громыко пообещал поставить перед своим правительством вопрос о форме предлагаемого заявления относительно окончания переговоров, о последующих консультациях, а также о предложениях, касающихся «китайской фазы» переговоров. Стеттиниус подтвердил, что имеется в виду после завершения «советской фазы» переговоров передать сообщение прессе только о том, что кончается «советская фаза» и начинается «китайская фаза». Все согласились с тем, что это заявление должно быть коротким.
На заседании Руководящего комитета, состоявшемся 27 сентября, Стеттиниус сообщил, что согласие о заключительном коммюнике достигнуто. Он зачитал текст, который, как условились, должен был появиться в прессе 29 сентября.
Громыко информировал участников заседания, что получил от своего правительства ответ относительно текста итогового документа. В целом текст приемлем для советской стороны.
После уточнения ряда формулировок итоговый документ был в принципе согласован.
Конференция окончена
Заключительное пленарное заседание конференции в Думбартон-Оксе прошло скорее в деловой, чем в торжественной обстановке. Оно открылось 28 сентября в половине четвертого и длилось всего 20 минут. Председательствовал Стеттиниус. Присутствовал полный состав советской, английской и американской делегаций.
Объявив заседание открытым, Стеттиниус сказал:
— Молоток, которым я стучу, открывая и закрывая заседания, выточен из куска дерева, взятого из остатков очень хорошего и быстроходного американского корабля, носившего название «Конституция». Это, мне кажется, содействовало тому, что работа конференции была быстрой и успешной…
Он взял в руку отливавший мореным дубом полированный молоток и поднял его над головой для всеобщего обозрения. Сверкнув улыбкой, Стеттиниус добавил:
— Надеюсь, что, закрыв под стук этого молотка нашу конференцию, мы имеем все основания пожелать доброго плавания новой международной организации, которую мы тут спускаем со стапелей…
Затем без особой дискуссии был утвержден итоговый документ.
Стеттиниус заявил, что каждый участник совещания имеет копию экземпляра предложений, которые были подготовлены и которые теперь надо рекомендовать соответствующим правительствам.
— По-видимому, — сказал Стеттиниус, — на данном заседании нет нужды подробно рассматривать этот меморандум. Чтобы у каждого правительства был один оригинал, изготовлено три оригинала для утверждения соответствующими правительствами.
Стеттиниус, обращаясь к Громыко и Кадогану, спрашивает, готовы ли они вместе с ним, Стеттиниусом, одобрить этот меморандум, поскольку он поступил от Руководящего комитета?
Кадоган обратил внимание лишь на одну опечатку и сказал, что в остальном у него возражений нет. Громыко также выразил согласие с представленным текстом. После этого три оригинала меморандума были переданы каждому из руководителей делегаций.
Перейдя к вопросу о публикации коммюнике, Стеттиниус сообщил, что Руководящий комитет тщательно рассмотрел вопрос о совместном заявлении для прессы. Вслед за обменом мнениями условились, что совместное коммюнике будет передано прессе для опубликования в пятницу 29 сентября в 10 часов. Стеттиниус зачитал текст коммюнике. Громыко заявил, что текст для него приемлем. В этом же духе высказался и Кадоган, после чего было решено опубликовать заявление одновременно в Вашингтоне, Лондоне и Москве.
Прежде чем закрыть заседание, Стеттиниус обратился к собравшимся с заключительным заявлением:
— Господин Громыко, сэр Александр Кадоган, господа! Почти шесть недель прошло с тех пор, как мы начали эти важные переговоры. За этот короткий отрезок времени мы достигли гораздо большего, чем мы считали возможным. Наши достижения стали в значительной степени возможны благодаря серьезному сотрудничеству моих коллег и сопредседателей — посла Андрея Громыко и сэра Александра Кадогана и всех, кто работал с ними. Я хочу выразить мою глубокую личную признательность и благодарность за это сотрудничество, которое привело к замечательному духу гармонии и доброй воли, господствовавшему на протяжении всей конференции. Мы имеем все основания выразить удовлетворение тем, что было сделано…
В заключение Стеттиниус выразил свою личную благодарность за помощь, оказанную всеми членами делегаций, и, стукнув молотком, закрыл заседание.
Сразу же был созван Руководящий комитет. Стеттиниус сказал, что хочет обратить внимание на важность быстрейшего получения от соответствующих правительств окончательного утверждения итогового текста, с тем чтобы не откладывать опубликование разработанных предложений в первой декаде октября. Все согласились с тем, что желательно публикацию не откладывать.
Затем Стеттиниус спросил, не желает ли советский делегат сказать несколько слов по поводу работы, проделанной в Думбартон-Оксе. Громыко ответил, что с удовольствием сделает заявление от имени советской делегации.
— Сегодня можно заявить, — сказал Громыко, — что достигнуто соглашение по широкому кругу вопросов. В итоге эти переговоры, несомненно, были полезными. Соглашение достигнуто по большому числу вопросов, включая некоторые, которые относятся к общим принципам организации, к правам и полномочиям ее органов, к принятию мер принудительного характера, с помощью которых можно обеспечить мир. От имени советской делегации я хочу выразить признательность за дружескую атмосферу, в которой проводилась работа. От себя лично я хочу сказать то же самое по поводу дружественной атмосферы, в которой происходили встречи глав делегаций. Я полагаю, что выражу мнение всех присутствующих, если поблагодарю господина Стеттиниуса за его высококвалифицированное председательство. Хочу также поблагодарить правительство Соединенных Штатов за его гостеприимство.
Затем слово взял Кадоган.
— Я согласен, — начал он, — что здесь проделано много полезной работы, которая поможет окончательному успеху на более поздней стадии переговоров, Я хочу сказать несколько слов о стиле, в котором господин Стеттиниус вел наши переговоры. Он умел соединить энергию с любезностью и терпением и таким образом как председатель содействовал ускорению нашего движения по гладким участкам пути и помогал сглаживать неровные участки. Значительной частью того успеха, которого добилась конференция, мы обязаны ему. Я не употребляю слово «трудности» в его более резком смысле. У нас никогда ничего подобного не было. Иногда мы расходились, сохраняя дружественную и разумную позицию. Для каждого из нас были, моменты, когда один находился в оппозиции к двум другим главам делегаций, но, даже когда нам казались взгляды двух других странными, мы признавали, что они были искренними и поэтому были достойны уважения. Я полагаю, что это хорошее знамение на будущее…
В заключение выступил Стеттиниус, который кратко повторил мысли, уже высказанные им на пленарном заседании. Пожелав участникам переговоров успехов в их дальнейшей деятельности, Стеттиниус закрыл заседание. На этом работа конференции в Думбартон-Оксе закончилась.
На следующий день, 29 сентября, было опубликовано совместное заявление. Текст его гласил:
«Состоявшиеся в Вашингтоне переговоры между делегациями Советского Союза, Соединенных Штатов и Соединенного Королевства по вопросу Международной Организации Безопасности закончились.
Переговоры были полезны и привели в большой степени к соглашению о рекомендациях по вопросу общего плана организации и, в частности, в отношении механизма, необходимого для поддержания мира и безопасности.
Три делегации направляют доклады своим соответствующим правительствам, которые рассмотрят эти доклады и, в надлежащее время, выступят с одновременными заявлениями по данному вопросу».
Вылет нашей группы из Вашингтона был назначен на 10 часов в субботу, 30 сентября.
Проводы были более скромные, чем встреча, возможно потому, что глава советской делегации оставался в Вашингтоне, продолжая исполнять обязанности посла. Когда мы прибыли, он уже находился в аэровокзале и беседовал со Стеттиниусом. Несколько позже появились Кадоган и Джебб: английская делегация еще оставалась в Вашингтоне на «китайскую фазу» конференции, которая продолжалась всего несколько дней.
Объявили посадку и все прошли на летное поле, где стоял выкрашенный в защитный цвет двухмоторный «Дуглас» с советскими опознавательными знаками. Дверца в кабину была открыта, рядом с ней уже находился трап. Стали прощаться. Нам жали руки, желали счастливого пути. Мы поднялись по трапу, дверца кабины закрылась…
Подведение итогов
Предложения, разработанные в Думбартон-Оксе, вызвали во всем мире многочисленные отклики. После опубликования согласованных предложений в Соединенных Штатах, Англии и Советском Союзе были подведены итоги работы, проделанной в Думбартон-Оксе.
Специальное заявление о конференции в Думбартон-Оксе сделал президент Рузвельт. Он выразил удовлетворение тем, что по такому трудному вопросу и в такое короткое время оказалось возможным достигнуть столь многого.
— Первой целью проектируемой международной организации, — сказал Рузвельт, — является сохранение международного мира и безопасности и создание условий, содействующих миру. Теперь мы знаем, как нужна миролюбивым народам такая организация. Нам известен дух единства, который потребуется для ее сохранения. Агрессоры, подобные Гитлеру и японским поджигателям войны, годами организуют подготовку к тому дню, в который они могут бросить свои злые силы на страны, преследующие мирные цели…
— На этот раз, — продолжал президент, — мы намерены прежде всего победить врага, обеспечить, чтобы он никогда вновь не мог ввергнуть мир в войну, а затем организовать миролюбивые страны так, чтобы они благодаря единству стремлений, единству воли и единству сил смогли обеспечить положение, при котором ни один новый потенциальный агрессор или завоеватель не смог бы даже начать агрессию… Задача разработки великого проекта безопасности и мира начата хорошо. Теперь нациям остается закончить здание в духе конструктивных целей и взаимного доверия…
Американская пресса широко комментировала решения конференции в Думбартон-Оксе. Подавляющее большинство газет приветствовало предложения относительно создания международной организации безопасности как серьезный шаг вперед в деле поддержания послевоенного мира. Газета «Нью-Йорк таймс» в передовой статье заявила, что «достигнутые соглашения свидетельствуют о весьма реальных успехах. Это порождает вполне обоснованную надежду на возникновение нового союза, способного обеспечить мир и порядок во всем мире, который заплатил ужасную цену за свою неспособность организовать мир».
В Англии разработанные предложения также нашли широкую поддержку. Газета «Ньюс кроникл», приветствуя эти предложения, писала в редакционной статье:
«Свободные нации требуют безопасности. Они знают, что ее получат, когда Англия, Америка и Россия объединятся в прочном союзе. Какие бы затруднения нам ни предстояли, потомство будет считать эти три великие державы воистину главными создателями нового плана».
С советской стороны также была дана всесторонняя оценка предложениям, разработанным в Думбартон-Оксе. Газета «Правда» 11 октября 1944 г. опубликовала редакционную статью, подробно разбирающую вопрос о создании международной организации безопасности. «Правда» подчеркивала, что основой для переговоров в Вашингтоне служило решение Московской конференции 1943 года. Когда делегации трех держав в Вашингтоне приступили к своей работе, говорилось далее в «Правде», они, несомненно, сознавали необходимость избежать повторения сугубо отрицательного опыта, полученного в результате существования Лиги наций.
«Но, конечно, — писала газета, — из печального опыта Лиги наций отнюдь не следует вывод, что надо отказаться от задачи создания организации для коллективного участия всех миролюбивых государств в деле обеспечения международной безопасности. Нет, из него следует лишь тот вывод, что при осуществлении такой задачи необходимо серьезно учесть отрицательный опыт истории Лиги наций и избежать ее недостатков. Результаты переговоров в Вашингтоне свидетельствуют, что делегации трех держав в этом отношении нашли правильный путь…»
Далее в статье подчеркивалась важность установления в Уставе международной организаций безопасности такого принципа, при котором принятие любого решения в Совете Безопасности предполагает согласие всех его постоянных членов. «В вашингтонских переговорах по вопросу о порядке голосования в Совете Безопасности, — отмечала „Правда“, — этот важный принцип встретил единодушное одобрение, как общее правило. Однако этот вопрос не был окончательно рассмотрен, так как мнения разошлись насчет того, следует ли этот принцип применять последовательно при решении всех вопросов в Совете Безопасности».
«Правда» выражала надежду, что дальнейшее обсуждение вопроса об Уставе будущей международной организации приведет к последовательному применению принципа согласованности и гармонии между постоянными членами Совета Безопасности и тем самым обусловит успешное осуществление плана создания действительно эффективной организации для поддержания мира и безопасности.
«Советский Союз, который всегда был и будет верным оплотом всеобщего мира, готов и впредь всеми силами содействовать успеху этого дела», — писала в заключение «Правда».
Проблема единогласия великих держав была, как уже сказано выше, решена в результате взаимной договоренности трех великих держав, что позволило в следующем, 1945 году подписать Устав Организации Объединенных Наций.
ООН в действии
В начале 80-х годов, работая в посольстве СССР в Вашингтоне в качестве представителя Института США и Канады АН СССР, я часто бывал в Нью-Йорке и обычно заходил в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций, расположенную между 42-й и 45-й улицами на берегу Ист-Ривер. Всякий раз, когда я смотрю на внушительные здания ООН — на куполообразное сооружение, вмещающее зал заседаний Генеральной Ассамблеи, и на высокий небоскреб, где разместились учреждения Секретариата ООН, мне вспоминаются первые шаги по созданию этой организации, сделанные в старинном особняке, в Думбартон-Оксе. Тогда мы еще не представляли себе, как будет выглядеть послевоенная организация по поддержанию мира и безопасности, где она будет размещаться, какая страна станет местом ее пребывания. Зато в те годы было много надежд, что удастся создать надежный и действенный инструмент по охране мира во всем мире. Насколько оправдались эти надежды? — этот вопрос невольно возникает всякий раз, когда попадаешь на территорию резиденции ООН, смотришь на торжественно развевающиеся государственные флаги входящих в нее стран.
Среди них в последние годы появились флаги Китайской Народной Республики, Германской Демократической Республики, а также многих стран, недавно завоевавших национальную независимость. ООН стала более универсальной.
Советский Союз всегда считал, что Организация Объединенных Наций должна играть ту важную роль, которая была предназначена ей при создании. Советская страна последовательно выступает за то, чтобы ООН в полной мере действовала как полезный инструмент международного сотрудничества. Однако практика ее работы не всегда этому отвечает.
Последние четыре десятилетия были насыщены значительными событиями. Изменилось соотношение сил в мире. Образовалось содружество социалистических государств. Рухнули колониальные империи. На мировой арене появились десятки азиатских и африканских стран, порвавших цепи колониального порабощения. Значительно увеличилось число членов ООН. В активе ООН немало позитивных акций, предпринятых для осуществления целей ее Устава. В ООН были подготовлены Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах, договоры о нераспространении ядерного оружия, о мирном, космосе, о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения.
Однако приходится констатировать, что эта организация далеко не всегда оправдывала возложенные на нее надежды. В этой связи некоторые исследователи, анализируя работу Организации, выдвигают требования пересмотра Устава, его принципиальных положений. Но ведь главная причина неудач ООН вовсе не в несовершенстве Устава. Плохо то, что сам Устав нарушается, а заложенные в нем возможности не всегда и не полностью использовались и претворялись в жизнь. Мир не раз был свидетелем того, как принципы Устава попирались империалистическими державами, а голубым флагом ООН прикрывались авантюры агрессивных сил и колонизаторов. Между тем Устав обязывает всех членов Организации воздерживаться от угрозы силой или от ее применения против как территориальной неприкосновенности, так и политической независимости любого государства.
Несомненно, в ООН достаточно здоровых сил, чтобы превратить всемирную организацию в действительно эффективный инструмент мира и международного сотрудничества. Однако одними благими пожеланиями нельзя укрепить ООН. Для того чтобы эта организация была эффективной, необходимо добиваться неукоснительного соблюдения ее Устава, принимая надлежащие меры против тех, кто его нарушает. Ведь в Уставе заложены огромные возможности для активизации деятельности Организации. Именно на пути использования этих возможностей, а не на пути обхода или пересмотра Устава следует искать способы усиления эффективности ООН.
За сорок лет своего существования ООН прошла большой и трудный путь. Отдавая ясный отчет во всех ее слабостях, недостатках и ошибках, нельзя в то же время не видеть, что ООН стала важной составной частью всей системы послевоенных международных отношений. Без этого форума, где постоянно встречаются, ведут дискуссии и сотрудничают представители государств, принадлежащих к различным социальным системам и политическим воззрениям, трудно даже представить себе, какова была бы картина современного мира. В истории ООН есть неприглядные страницы. Надо, однако, судить о ней не только по ее прошлому. Не менее важен при всяких оценках ее сегодняшний день, который значительно отличается от вчерашнего. Нельзя забывать и о том большом будущем, которое открывается перед ООН, по мере того как решающая роль в ней переходит к государствам, проводящим миролюбивую, антиимпериалистическую политику. На юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной двадцать пятой годовщине ООН, была принята Декларация, в которой говорится:
«Сегодня перед человечеством стоит критическая и безотлагательная альтернатива — или расширяющееся мирное сотрудничество и прогресс, или разъединение и конфликты, даже истребление. Мы — представители государств — членов Организации Объединенных Наций, вновь подтверждаем нашу решимость сделать все возможное для того, чтобы обеспечить прочный мир на земле, соблюдать цели и принципы, изложенные в Уставе, и выражаем полную уверенность в том, что действия Организации Объединенных Наций будут способствовать продвижению человечества по пути мира, справедливости и прогресса».
В выполнении этого торжественного обязательства — залог будущих успехов Организации Объединенных Наций. Друзья ООН с удовлетворением отмечают рост авторитета этой организации. Советский Союз придает ей большое значение, потому что видит в ней полезный инструмент международного сотрудничества в борьбе за мир и всеобщую безопасность.
Новые горизонты
СЛОЖНОСТИ МЕЖСОЮЗНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Военное планирование
Поднятый в Тегеране вопрос о военном планировании требовал дальнейшей разработки. Этими проблемами в основном занимались советская и американская стороны, исходя из обмена мнениями, состоявшегося при встречах главы Советского правительства и американского президента в иранской столице. В частности, речь шла о так называемых челночных полетах американских самолетов. Вылетев с Запада и сбросив запас бомб над Германией, американские эскадрильи могли бы приземляться на советской территории, где они заправлялись бы горючим, брали новый груз бомб и выполняли бы ту же операцию на обратном пути. Для обсуждения этого вопроса посол А. Гарриман посетил И. В. Сталина в Кремле 2 февраля 1944 г.
Сформулировав суть проблемы, посол подчеркнул, что, имея в своем распоряжении аэродромы на территории Советского Союза, американская авиация могла бы, стартуя из Англии и Италии, бомбить территорию Германии. Теперь же бомбежки проводятся обычно по периферии, а в случае нападения на отдельные объекты пилотам нередко приходится пробиваться обратно той же трассой, порой на поврежденных самолетах, преследуемых целой стаей германских истребителей-перехватчиков.
— Сколько самолетов будет участвовать в челночных операциях? — спросил Сталин.
— Мы думаем производить от одного до трех полетов по 120 машин в каждом, — ответил посол.
— Должны ли русские снабжать эти самолеты горючим?
— Нет, горючее, бомбы и необходимые запасные части поступят из Соединенных Штатов.
— А кто будет обслуживать самолеты — американцы или русские?
— Видимо, придется доставить определенное число американских специалистов, особенно по обслуживанию тяжелых бомбардировщиков Б-17 и Б-24. Если же русские смогут обеспечить наземный персонал, который работал бы под руководством американских специалистов, то это было бы замечательно.
Немного подумав, Сталин сказал:
— Мы относимся, к этому плану положительно. Полагаю, гитлеровцы после этого больше почувствуют силу ударов союзников.
Согласованной таким образом «челночной» операции было дано кодовое название «Фрэнтик» (мощный). Для начала Сталин предложил предоставить на советской территории аэродромы для приема от 150 до 200 тяжелых бомбардировщиков. Он также дал разрешение ежедневно приземляться на советской территории американским фоторазведывательным самолетам, причем один из них прилетал бы из Италии, а другой — из Англии.
— При фотографировании целей на территории Германии, — сказал Гарриман, — наши разведчики охотно будут уделять специальное внимание тем районам, которые представляют особый интерес для Красной Армии.
Сталин поблагодарил, а затем стал спрашивать относительно октанового числа топлива, которым пользуются американские самолеты, о том, как будет поддерживаться связь с землей, и о возможном языковом барьере в этой связи. Гарриман сказал, что он даст поручение главе американской военной миссии генералу Дину согласовать все эти практические вопросы с советскими специалистами.
Так советской стороной был благожелательно и быстро решен вопрос, считавшийся американским правительством чрезвычайно важным.
Второй вопрос, интересовавший Гарримана во время этой беседы, касался получения авиационных баз в Приморье. Такими базами американцы хотели воспользоваться для усиления воздушного наступления на Японию. Однако на данном этапе Советское правительство не проявило готовности вести переговоры по данной теме.
— Мы по-прежнему опасаемся, как бы предоставление вам баз не спровоцировало японское нападение до того, как наши вооруженные силы на Дальнем Востоке будут переоснащены и усилены, — пояснил Сталин.
Гарриман отнесся к этому с пониманием.
— Мы хотим, — продолжал Сталин, — перебросить на Дальний Восток четыре пехотных корпуса. Но это не может быть сделано, пока германская мощь на Западе не сокрушена. Как только это произойдет и войска будут переброшены, японские провокации нам станут неопасны.
На вопрос о том, готова ли советская сторона обмениваться с США разведывательными данными относительно Японии, Сталин ответил положительно, хотя и добавил, что информация, которой располагает Москва, небогата.
Затем Сталин рассказал Гарриману о том, как на одном из официальных приемов в Токио начальник японского генерального штаба Сугияма в беседе с советским представителем выразил желание встретиться с главой Советского правительства.
— Сугияма, — продолжал Сталин, — сказал, что немцы ничего не значат для японцев и что их договор с Германией — не больше, чем клочок бумаги. Я, конечно, не собираюсь встречаться с Сугиямой, — добавил Сталин, — и мы не дали японцам никакого ответа.
Вместе с тем Сталин высказал мнение, что это обращение японских политиков свидетельствует об их страхе перед будущим. Страх так велик, что высокопоставленный японский деятель обратился по столь деликатному делу к рядовому советскому представителю.
— Другое свидетельство изменения японской позиции, — сказал далее Сталин, — нашло выражение в сделанном нам японцами предложении передать Советскому Союзу нефтяные и угольные концессии на Северном Сахалине. Об этой сделке речь шла еще в апреле 1941 года и имелось в виду все оформить в октябре того же года. Но японцы тянули дело на протяжении всех этих лет. Теперь они внезапно выразили готовность реализовать имевшуюся договоренность. Это еще один признак нервозности Токио.
Затем Сталин проинформировал Гарримана о полученных Советским правительством сведениях, согласно которым японцы могут вскоре начать отступление из захваченных ими обширных районов.
— А где будет проходить новая линия обороны? — поинтересовался Гарриман.
— Я не уверен в деталях, — ответил Сталин, — но, судя по всему, она пройдет через Шанхай, полуостров Шаньдун, Маньчжурию и вокруг Японских островов. Японцы, согласно данной информации, не будут использовать свои главные силы для защиты внешнего периметра, а передвинут войска к более удобной, внутренней линии. Ее им легче будет защищать.
Как видим, Гарриман получил весьма ценную информацию о Японии. Согласившись на обмен разведывательными сведениями, советская сторона тем самым подтвердила свою готовность к конкретному сотрудничеству. Не удивительно, что Гарриман остался весьма доволен этой встречей. Вернувшись в посольство, он составил Рузвельту подробный отчет о беседе, добавив, что «Сталин не мог быть более дружественным, чем в этот вечер».
Добрая воля советской стороны была также продемонстрирована награждением генералов Маршалла и Эйзенхауэра орденами Суворова.
10 февраля Гарриман встретился с наркомом внешней торговли А. И. Микояном. Беседа касалась хода американских поставок в Советский Союз. А. И. Микоян выразил удовлетворение успешным поступлением грузов, идущих по южному маршруту, через Персидский залив. Он сказал далее, что Советское правительство хотело бы наградить американских представителей особенно много сделавших для организации этого дела. Посол обещал проконсультироваться с государственным секретарем К. Хэллом, с тем чтобы были соблюдены американские законы относительно получения гражданами США иностранных орденов.
Этот вопрос быстро уладили, и 15 апреля Указом Президиума Верховного Совета СССР большая группа американских офицеров была награждена за организацию поставок продовольствия Советскому Союзу и большую помощь Красной Армии в борьбе с фашистскими захватчиками. Генерал Коннели, ведавший всей этой работой, был удостоен ордена Суворова II степени.
Скептицизм в Лондоне
В тот период во взаимоотношениях Москвы и Лондона все более ощущались негативные тенденции. Черчилль и многие его коллеги, видя, что военная ситуация быстро меняется в пользу СССР, проявляли возрастающую нервозность. Они считали, что, оказав нажим на Москву, все еще могут сохранить свои позиции в Восточной Европе и на Балканах.
Англичане стремились заручиться в этом поддержкой США, что особенно отчетливо видно из воспоминаний Гарримана о его беседах с английскими деятелями в начале мая 1944 года в Лондоне. Он сделал там кратковременную остановку по пути в Вашингтон, куда был вызван президентом Рузвельтом для консультаций.
Во время позднего обеда, на который Гарриман был приглашен британским премьером, Черчилль жаловался на то, что русские, дескать, его не понимают. Он, мол, выбивается из сил, стремясь уладить разногласия между польским эмигрантским правительством и Москвой, а ему не идут навстречу. Черчилль сказал, что добился согласия поляков на новые границы, но ничего не получил взамен. Гарриман не согласился с этой точкой зрения. Он высказал мнение, что Советское правительство имеет все основания не доверять польскому лондонскому правительству в его нынешнем составе, поскольку оно, сказал Гарриман, «находится под влиянием Сосновского и военщины, не видящей иного будущего, кроме войны против Советского Союза».
Все же Черчилль продолжал стоять на своем: ведь его вполне устраивала позиция лондонских поляков, дававшая ему возможность использовать Польшу как орудие интриг против СССР. На следующий день в ходе еще одной длинной беседы Черчилль снова говорил Гарриману о «невозможности иметь дело с русскими». Той же линии придерживался министр иностранных дел Великобритании Антони Иден. Он сказал, что серьезно сомневается в том, «может ли Британия когда-либо снова, совместно работать с русскими». Гарриман пытался разубедить Идена, говорил ему, что «путем терпения, понимания и готовности быть твердыми по принципиальным вопросам западные союзники могут развивать достаточно удовлетворительные взаимоотношения с русскими».
Итак, Лондон уже в начале 1944 года взял курс на отход от союзнических отношений с СССР, на конфронтацию с Москвой. Гарриман зафиксировал это наблюдение в своем дневнике следующим образом: «В официальном британском мнении произошел резкий поворот». Гарриман приводит далее слова лорда Бивербрука о том, что «в британском правительстве настроены антирусски».
В этом духе Черчилль и его ближайшее окружение постоянно обрабатывали американцев, стремясь вызвать у них недоверие и подозрения к целям советской политики. В тот момент все концентрировалось вокруг проблемы Польши, но в действительности вопрос стоял гораздо шире: английские правящие круги готовили почву к пересмотру совместно принятых участниками антигитлеровской коалиции решений и, в конечном счете, к отказу от планов послевоенного сотрудничества трех великих держав.
Разумеется, и в Соединенных Штатах имелись влиятельные круги, целиком разделявшие точку зрения Черчилля. К ним, в частности, относился сенатор Трумэн, который на выборах 1944 года стал вице-президентом. Происки этих кругов не могли не осложнить атмосферу взаимоотношений внутри антигитлеровской коалиции.
Особые связи США и Англии
Внешняя политика США и Англии в целом по-прежнему была направлена на создание благоприятных условий для достижения определенных военных и политических целей в войне с фашистским блоком. При этом Вашингтон и Лондон уделяли особое внимание обеспечению выгодных для американских и английских господствующих классов условий послевоенного урегулирования.
Интересы монополистического капитала обусловливали развитие сотрудничества США и Англии в рамках созданного ими союза. Весной и летом 1943 года состоялись две англо-американские конференции на высшем уровне: в мае — в Вашингтоне и в августе — в Квебеке. В ходе этих конференций весьма четко обозначилось неравенство партнеров. Соединенные Штаты с их возрастающим экономическим и военным потенциалом выдвигались на первое место в системе американо-британских взаимоотношений, усиливалась их роль в решении политических и стратегических вопросов.
В создавшихся условиях правящие круги Англии стремились расширить политическое и военное сотрудничество с Вашингтоном. 19 августа в Квебеке Черчилль и Рузвельт подписали секретный документ о сотрудничестве в создании атомной бомбы. США, опередившие в этом деле Англию, согласились возобновить, хотя и в ограниченном масштабе, прерванный ими обмен информацией с англичанами. США и Англия обязались не использовать атомное оружие друг против друга и лишь с обоюдного согласия применять его против третьих стран.
Условия квебекской договоренности, особенно, положения о том, чтобы не передавать без взаимного согласия информацию об атомной бомбе другим государствам, явно отражали намерения правящих кругов США и Англии укрепить свои господствующие позиции на мировой арене. При посещении Соединенных Штатов в мае 1943 года Черчилль развивал идею «общего гражданства» англосаксонских государств, предлагал сохранить после победы структуру военного блока и обеспечить тесную согласованность действий в главных вопросах внешней политики.
Подводя итоги состоявшихся осенью того же года переговоров с Рузвельтом, британский премьер телеграфировал 12 сентября в Лондон, что планы международной организации безопасности «ни в коей мере не ставят под сомнение… естественные англо-американские особые отношения».
Однако радикальное изменение международной и военной обстановки в пользу сил демократии и прогресса затруднило проведение в жизнь западными союзниками сепаратных военно-стратегических и политических планов. Участие США и Англии в антифашистской коалиции совместно с Советским Союзом налагало на правительства этих стран определенные обязательства. Выдающиеся победы советских войск создавали предпосылки для укрепления коалиции. Широко публиковавшиеся в западной прессе данные о героической борьбе Красной Армии, о стойкости советских людей вынудили враждебные элементы сбавить тон. Постепенно начало сокращаться число различного рода антисоветских выступлений. Созданию более благоприятной атмосферы способствовало и то, что в СССР публиковались подробные данные относительно предоставленной по ленд-лизу военной помощи, а также о деятельности различных общественных «фондов помощи России» в США и Англии.
Важное значение имело и то, что в проведении курса на сотрудничество с Советским Союзом положительная роль принадлежала лично президенту Рузвельту. Он понимал, сколь существенно для США продолжение активной борьбы СССР против гитлеровской Германии. Вместе с тем Рузвельт должен был учитывать давление определенных элементов в американской правящей верхушке, выступавших против реалистического курса в отношениях с Советским государством. Отсюда известная двойственность курса США и Англии в вопросе об отношениях с Советским Союзом. При всем том, однако, сотрудничество с СССР представлялось руководящим деятелям США наиболее правильной политикой. Это обусловило провал планов тех группировок на Западе, которые рассчитывали на взаимное истощение гитлеровской Германии и Советского Союза.
Но все же отношения между главными участниками антигитлеровской коалиции продолжали оставаться сложными. В обстановке коренного перелома в войне правящие круги США и Англии стремились повсеместно ограничить рост левых сил, затруднить рост движения Сопротивления, не допустить демократических революций. Западные союзники укрепляли связи с теми социальными группами движения Сопротивления, которые рассчитывали восстановить старые буржуазные режимы. Испытывая страх перед борющимися народными массами, они сокращали помощь патриотическим силам, выступавшим за обновление всей государственной структуры после изгнания оккупантов.
Правительства США и Англии стремились повлиять в желательном для них направлении на отношения СССР с восточноевропейскими странами, которые могли быть освобождены советскими войсками. Американский посол в Англии Д. Вайнант телеграфировал 26 июля президенту Рузвельту, что с развитием советского наступления Лондон и Вашингтон должны «повлиять на русские условия капитуляции и оккупации территорий союзных и вражеских государств».
Поскольку западные союзники отдавали предпочтение монархическим, консервативным элементам в Восточной и Юго-Восточной Европе, они ориентировались на враждебные социализму и демократии силы. В Югославии, например, английское правительство, несмотря на установленные в мае 1943 года связи с партизанами, возглавляемыми И. Б. Тито, продолжало оказывать поддержку королевскому эмигрантскому правительству и четникам Михайловича. Цели подобной тактики были очевидны. Один из английских чиновников разъяснял весной 1943 года, что Лондон хочет «иметь в своем распоряжении вооруженную силу для предотвращения анархии и коммунистического хаоса после отступления Оси».
В Италии после свержения Муссолини западные союзники стремились не допустить глубоких демократических преобразований. Еще до вступления англо-американских войск в Южную Италию они установили контакт с консервативно-монархическими кругами, заинтересованными в сохранении господства итальянского монополистического капитала.
По отношению к Франции Вашингтон и Лондон проводили политику, объективно задерживавшую сплочение антифашистских сил. Западные союзники, особенно США, с самого начала отрицательно реагировали на просьбу о признании французского Комитета национального освобождения. Американские правящие круги намеревались подчинить своему влиянию Францию и ее колонии. В Вашингтоне исходили из предположения, что в результате войны Франция надолго перейдет в разряд второстепенных государств и это облегчит реализацию американских планов установления господства США в Западной Европе. Не желая подлинного возрождения Франции, США противились созданию централизованных французских органов управления. По мнению Рузвельта, «со вступлением союзных армий на территорию Франции она должна будет рассматриваться как оккупированная страна, подчиняющаяся американским и английским военным властям». Правящие круги США явно стремились к тому, чтобы расколоть французский Комитет национального освобождения, удалить из него сторонников генерала де Голля и создать комитет, послушный западным союзникам.
Однако героические действия сил французского Сопротивления, решительное выступление советской дипломатии в пользу признания французского Комитета национального освобождения заставили Соединенные Штаты в конце концов уступить. Все же ни английский, ни американский проекты признания не были приемлемыми для Советского правительства, поскольку в них ущемлялись национальные интересы французского народа. Поэтому было согласовано, что СССР, США и Англия выступят со своими заявлениями раздельно, но одновременно — 26 августа 1943 г.
Свои специфические цели западные союзники преследовали также в ведении войны на Тихом океане, в Восточной и Юго-Восточной Азии. Некоторые видные деятели США вопреки ранее принятым решениям считать нацистскую Германию главным противником весьма настойчиво выступали за концентрацию усилий на тихоокеанском театре военных действий. Однако Рузвельт, реально оценивая перспективы развития второй мировой войны, не принимал во внимание доводы сторонников «тихоокеанской стратегии». Он считал подобные концепции опасными для всего американского курса. Группировавшиеся вокруг президента политики отдавали себе отчет в том, что гитлеровская Германия значительно сильнее Японии и что именно нацистов необходимо разгромить в первую очередь.
Правящие круги США, рассчитывая максимально использовать в войне против Японии ресурсы государств Восточной и Юго-Восточной Азии и надеясь в последующем прибрать к рукам эти богатейшие районы, демагогически выдвигали лозунги антиколониализма. Однако они не решались оказать давление на английского партнера в вопросе о независимости Индии и других британских владений. Черчилль же открыто выступал за сохранение колониального господства Англии.
За государственной границей
В первой половине июля 1944 года войска 1-го Прибалтийского фронта продвинулись на глубину до 140 км, открыв себе путь к подступам Восточной Пруссии. На этом направлении немецкое командование сосредоточило крупную группировку. Оно стянуло в район Вильнюса отступавшие части и соединения 3-й танковой армии. Гарнизон города насчитывал 15 тыс. солдат и офицеров. Кроме того, сюда было подтянуто еще несколько дивизий. Однако все попытки приостановить наступление советских войск оказались безуспешными. В ходе пятидневных напряженных боев части Красной Армии уничтожили группировку врага и 13 июля освободили Вильнюс.
В дальнейшем удалось сокрушить стратегический фронт противника. Преследуя отступавшего врага, Красная Армия освободила почти всю Белоруссию и значительную часть Литвы, продвинувшись на запад до 500 км.
Войска 1-го Белорусского фронта, освободив Белоруссию, двигались в общем направлении на Варшаву. 31 июля 2-я танковая армия завязала бои на ближних подступах к предместью Варшавы — Праге. 8-я гвардейская и 69-я армии левого крыла 1-го Белорусского фронта в период с 27 июля по 4 августа форсировали Вислу южнее Варшавы и захватили плацдарм на ее западном берегу. Разгорелись ожесточенные бои за укрепление и расширение плацдармов.
В течение июля и августа 1-й Прибалтийский, 1-й, 2-й и 3-й Белорусские фронты добились больших успехов. Ведя упорные бои, они продвинулись на глубину в 260–400 км и расширили фронт наступления до тысячи километров. Однако усилившееся сопротивление врага наряду с большим удлинением наших коммуникаций и усталостью войск, непрерывно продвигавшихся с боями вперед более двух месяцев, обусловило прекращение наступления. 29 августа войска четырех фронтов получили приказ Ставки Верховного Главнокомандования перейти к обороне на фронте от Елгавы до Юзефува. Грандиозное наступление, начатое 23 июня на центральном участке советско-германского фронта, завершилось. В сентябре лишь небольшая часть сил
1-го и 2-го Белорусских фронтов продолжала наступательные действия.
По директивам Ставки от 29 августа армии левого крыла
2-го Белорусского фронта должны были 4–5 сентября достичь реки Нарев, захватить плацдарм в районе Остроленки и перейти к обороне. Одновременно армиям правого крыла 1-го Белорусского фронта надлежало выйти на всем протяжении к реке Нарев, овладев западными плацдармами, после чего перейти к обороне. Оба фронта выполнили поставленные задачи к середине сентября. К этому же времени советские войска освободили предместье Варшавы — Прагу.
Одним из важнейших итогов побед на центральном участке фронта в июле — августе 1944 года было освобождение Красной Армией в боевом содружестве с польской армией почти всех польских земель к востоку от Вислы. На этой территории, составлявшей четвертую часть Польши, в 1944 году проживало примерно 5,6 млн. человек.
Советские войска вступали на территорию Польши в целом в благоприятных политических условиях, подготовленных длительной борьбой населения против гитлеровских захватчиков. Польские патриоты не примирились с кровавой фашистской оккупацией, уничтожившей независимость их государства.
Благодаря усилиям Польской рабочей партии, направленным на консолидацию демократических сил, в 1943 году сложились реальные условия для образования антифашистского национального фронта. К этому времени в стране произошли серьезные классовые сдвиги. Широкие массы рабочих, крестьян, интеллигенции, убеждаясь в правильности политики Польской рабочей партии, все активнее ее поддерживали в борьбе за установление единства действий в национально-освободительном движении.
В ноябре 1943 года Польская рабочая партия выступила с декларацией «За что мы боремся». В этом документе, имевшем историческое значение, излагалась программа создания новой, народной Польши. 15 декабря 1943 г. по инициативе Польской рабочей партии был опубликован Манифест демократических, общественно-политических и военных организаций Польши. В нем говорилось о решении создать верховный орган власти польского народа и определялась его общая политическая платформа.
На основе этой платформы в ночь на 1 января 1944 г. была образована Крайова Рада Народова (КРН) — высший представительный подпольный орган демократических сил страны. Главным организатором КРН явилась Польская рабочая партия. В создании КРН участвовали также деятели левого крыла Рабочей партии польских социалистов, представители Строництво людове (Крестьянской партии), демократических групп, молодежных организаций, профессиональных союзов и других общественных организаций. Председателем Крайовой Рады Народовой был избран один из руководителей Польской рабочей партии Болеслав Берут.
В результате большой организаторской и политической деятельности Польской рабочей партии и Крайовой Рады Народовой национально-освободительное движение поднялось на новую ступень и начало приобретать характер народно-демократической революции. Усилилась вооруженная борьба польских патриотов. Этому в немалой степени способствовало образование на основе декрета Крайовой Рады Народовой от 1 января 1944 г. Армии людовой.
Весной 1944 года в Москву прибыла делегация Крайовой Рады Народовой. Она ознакомила руководителей Советского правительства с положением, создавшимся в стране, с ходом национально-освободительной борьбы, перспективами ее развития, сообщила об острой нужде Армии людовой в оружии и снаряжении. Во время переговоров были обсуждены вопросы о взаимодействии Красной Армии с Армией людовой и оказании ей всесторонней помощи. Начиная с апреля 1944 года польские патриоты получили из Советского Союза много автоматов, боеприпасов, взрывчатки, а также тяжелые пулеметы и противотанковое оружие. Все это доставлялось через польский штаб партизанского движения, а также через советские партизанские соединения и отряды, действовавшие на оккупированной гитлеровцами территории Польши.
В то время в Польше кроме Армии людовой существовала и другая крупная вооруженная организация — Армия крайова, подчиненная эмигрантскому правительству в Лондоне. Ее руководители были ярые реакционеры, стремившиеся восстановить буржуазно-помещичий строй в стране. На все призывы Польской рабочей партии и Армии людовой восстановить единство действий и организовать совместную эффективную вооруженную борьбу против фашистских захватчиков руководство Армии крайовой отвечало активизацией действий против Польской рабочей партии и демократических сил страны. Оно стремилось создать видимость борьбы против фашистских оккупантов и сохранить силы для вооруженного выступления с целью захвата власти в момент отступления немцев с польской территории. Открыто реакционные элементы во главе с главнокомандующим вооруженными силами эмигрантского правительства Сосновским и находившееся в Польше руководство Армии крайовой поставили вопрос о прекращении борьбы против немцев и о подготовке всех сил для вооруженного сопротивления приближавшимся советским войскам.
Прикрываясь лицемерными демагогическими заявлениями о «защите населения от подрывных элементов», реакционеры из Армии крайовой и фашистской организации Народовы силы сбройны, включенной в марте 1944 года в состав Армии крайовой, уничтожали подлинных польских патриотов.
В своей подрывной деятельности эмигрантское правительство опиралось на поддержку правящих кругов США и Англии, стремившихся восстановить старую, буржуазную Польшу и превратить ее в антисоветский плацдарм. 16 ноября 1943 г. польское эмигрантское правительство обратилось к Черчиллю с меморандумом, в котором просило гарантировать свое право на установление власти в Польше по мере ее освобождения. 5 января 1944 г. польское эмигрантское правительство выступило с заявлением, требуя немедленного введения своей администрации в западных областях Украины и Белоруссии сразу же после очищения их от фашистских оккупантов. Советская сторона решительно отвергла эти притязания. В специальном заявлении, сделанном 11 января 1944 г., Советское правительство разоблачило антинародную политику польского эмигрантского правительства, оторвавшегося от народа и оказавшегося неспособным поднять его на активную борьбу против фашистских захватчиков. Правительство СССР указывало, что «интересы Польши и Советского Союза заключаются в том, чтобы между нашими странами установились прочные дружественные отношения и чтобы народы Польши и Советского Союза объединились в борьбе против общего, внешнего врага, как этого требует общее дело всех союзников».
Именно в этот период западные державы пытались изо всех сил оказать нажим на Москву э «польском вопросе».
Резкий диалог в Кремле
В своих воспоминаниях А. Гарриман отводит проблеме Польши очень большое место. Он пишет, в частности, что во время визита к наркому иностранных дел 18 января 1944 г. его прежде всего интересовало, какие возможности видит Советское правительство для урегулирования польского вопроса.
— Лондонское эмигрантское правительство, — ответил В. М. Молотов, — следует реорганизовать, включив в него поляков, живущих сейчас в Англии, Соединенных Штатах и Советском Союзе. Это должны быть честные люди, не имеющие фашистской окраски, дружественно относящиеся к Советскому Союзу.
Тогда же в качестве возможных членов нового польского правительства Молотов упомянул доктора Оскара Ланге, польского экономиста, который в то время читал лекции в Чикагском университете. Были также названы Орлеманский, ксёндз в католическом приходе в Спрингфилде, и Кржицкий, профсоюзный лидер, занимавший в то время пост национального президента американского славянского конгресса. Молотов добавил, что Миколайчик мог бы остаться в составе правительства, но высказал сомнения относительно тогдашнего польского министра иностранных дел Тадеуша Ромера. Гарриман обещал сообщить об этих соображениях в Вашингтон.
Вскоре правительство США выдало О. Ланге и С. Орлеманскому паспорта для поездки в Советский Союз. Они посетили Москву и участвовали в обсуждении вопроса о новом составе польского правительства.
3 марта Гарриман посетил И. В. Сталина — опять же по польскому вопросу. После взаимных приветствий Гарриман сказал, что президент Рузвельт поручил ему поговорить относительно Польши.
— Дело в том, — сказал посол, — что, по мнению правительства США, польская проблема стала неотложной. Однако я буду краток.
— Дело не во времени, — возразил Сталин. — Ведь мы уже, заняли свою позицию и не отойдем от нее. Неужели это не ясно. Мы — за линию Керзона, а лондонские поляки, видимо, считают нас дураками. Сейчас они требуют себе Вильно и Львов. К счастью, польский народ, который нельзя отождествлять с лондонскими эмигрантами, занимает другую позицию. Поляки будут приветствовать Красную Армию как армию-освободительницу.
Гарриман, конечно, понимал суть проблемы. Сам он не далее как в январе в беседе с корреспондентом газеты «Нью-Йорк таймс» У. Лоуренсом высказывал вполне здравые суждения. Советский Союз, пояснил он своему собеседнику, не верит польскому правительству в Лондоне, и с точки зрения Москвы это недоверие вполне обоснованно.
В другой беседе, которую Гарриман вскоре имел с американскими репортерами, он сказал: «Я не знаю, что думают поляки в самой Польше, но мы достаточно хорошо знаем, что думает польское правительство в Лондоне. В нем преобладает группа аристократов которые уповают на американцев и англичан и ожидают от них восстановления их позиций и землевладений, а также такой феодальной системы, которая сложилась в период после первой мировой войны. Тогда в основном господствовали отношения подозрительности к Советскому Союзу. Они думают, что единственное будущее для Польши состоит в том, чтобы Великобритания и Соединенные Штаты вступили в войну с русскими для защиты именно такой Польши. Я не думаю, что мы заинтересованы в возвращении такого рода порядков».
Однако на приеме у Сталина американский посол, действуя согласно инструкциям из Вашингтона, пытался побудить Москву возобновить переговоры с лондонским правительством, политическую платформу которого Гарриман столь исчерпывающим образом охарактеризовал в недавней беседе с репортерами. Теперь посол решил сослаться на авторитет Рузвельта.
— Президент, — сказал он, — опасается, что если проблема не будет решена в ближайшее время, то в Польше вспыхнет гражданская война.
— Я не вижу такой опасности, — возразил Сталин. — Гражданская война с кем? Или между кем? Ведь у Миколайчика нет войск.
— А как насчет подпольных войск, известных как Армия крайова? — спросил Гарриман.
— Польское правительство имеет некоторое количество агентов в Польше, но это подполье незначительно.
— Какое же решение Вы предвидите?
— Пока Красная Армия освобождает Польшу, Миколайчик будет по-прежнему топтаться на месте. Но когда Польша будет освобождена, возникнет следующая альтернатива: либо в правительстве Миколайчика произойдут изменения, либо в Польше возникнет другое правительство.
Гарриман сказал, что Рузвельт опасается, как бы новый режим, сформированный на базе советских предложений, не превратился в правительство случайных людей, которые не будут иметь широкой поддержки. На это Сталин заявил, что он считает лишь необходимым исключить возможность возвращения из эмиграции польских лендлордов, польских тори.
— Польша нуждается в демократах, которые заботятся об интересах народа, а не о привилегиях землевладельцев-тори, — пояснил Сталин.
Он добавил, что не верит, чтобы Черчилль, который сам является британским тори, мог убедить лондонских поляков реорганизовать свое правительство и изменить политический курс. Но он уверен, что Рузвельт согласится с ним в том, что Польша нуждается в демократическом правительстве.
Впоследствии Гарриман жаловался на то, что руководящие политики Вашингтона не проявляли в тот период достаточной напористости. Государственный секретарь К. Хэлл не был склонен слушать советы Гарримана насчет необходимости «добиться уступок от Кремля, пока еще не поздно». Рузвельт был озабочен президентскими выборами 1944 года и возможным отношением к нему избирателей польской национальности. Поэтому он уклонялся от занятия какой-то определенной позиции.
Этого, однако, никак нельзя было сказать о Черчилле. В ряде его посланий Сталину, а также в заявлениях британского посла Кларка Керра вновь и вновь звучали угрозы в адрес Советского Союза. Это вынуждало Советское правительство реагировать соответствующим образом. В письме Черчиллю от 23 марта, копия которого в тот же день была направлена президенту Рузвельту, глава Советского правительства обращал внимание на недопустимость подобной практики, противоречившей союзническим отношениям.
«Бросается в глаза, — отмечал он, — что как Ваши послания, так и особенно заявление Керра пересыпаны угрозами по отношению к Советскому Союзу. Я бы хотел обратить Ваше внимание на это обстоятельство, так как метод угроз не только неправилен во взаимоотношениях союзников, но и вреден, ибо он может привести к обратным результатам».
Далее в письме указывалось, что в одном из посланий британского премьера отстаивание советской стороной линии Керзона квалифицировалось как политика силы. Более того, вопреки достигнутой в Тегеране договоренности британское правительство теперь заявляет, что вопрос о советско-польской границе вообще, дескать, не решен и его «придется отложить до созыва конференции о перемирии».
«Я думаю, — подчеркивал в этой связи И. В. Сталин, — что мы имеем здесь дело с каким-то недоразумением. Советский Союз не воюет и не намерен воевать, с Польшей. Советский Союз не имеет никакого конфликта с польским народом и считает себя союзником Польши и польского народа. Именно поэтому Советский Союз проливает кровь ради освобождения Польши от немецкого гнета. Поэтому было бы странно говорить о перемирии между СССР и Польшей. Но у Советского Правительства имеется конфликт с эмигрантским польским правительством, которое не отражает интересов польского народа и не выражает его чаяний».
Ссылаясь на сообщение Черчилля о том, что он намерен объявить в палате общин все территориальные изменения отложенными до перемирия или до мирной конференции держав-победительниц и что Англия не может признать никаких «передач территорий, произведенных силой», И. В. Сталин предостерег британского премьера против подобных акций.
«Я понимаю это так, — писал он, — что Вы выставляете Советский Союз как враждебную Польше силу и по сути дела отрицаете освободительный характер войны Советского Союза против германской агрессии. Это равносильно попытке приписать Советскому Союзу то, чего нет на деле, и тем дискредитировать его. Я не сомневаюсь, что народами Советского Союза и мировым общественным мнением такое Ваше выступление будет воспринято как незаслуженное оскорбление по адресу Советского Союза».
Приведенные выдержки показывают, какого накала достигала порой полемика по польскому вопросу. Это, конечно, не могло не отравлять всю атмосферу отношений внутри антигитлеровской коалиции.
Получив отпор, Черчилль вынужден был несколько сбавить тон. Однако нажим на Советский Союз со стороны западных союзников в польском вопросе продолжался и в последующие месяцы. Между тем успехи Красной Армии на фронтах войны, все возрастающая мощь советского оружия делали беспредметными попытки западных держав вынудить Советский Союз пойти на уступки перед лицом этих угроз.
Варшавское восстание
После кратковременного пребывания в Лондоне Гарриман прибыл в Вашингтон, где был сразу же принят президентом Рузвельтом, который внимательно выслушал рассказ посла о настроениях в английской столице, в частности в связи с польской проблемой. Это, однако, не произвело особого впечатления на Рузвельта. В ходе дальнейшей беседы с Гарриманом он подтвердил свою прежнюю позицию, суть которой сводилась к тому, что необходимо реорганизовать польское эмигрантское правительство так, чтобы создались благоприятные условия для установления постоянных дружественных отношений между Советским Союзом и Польшей.
Вернувшись в Москву, Гарриман встретился 3 июня с Молотовым. Нарком спросил, не произошло ли каких-либо изменений в позиции президента по польскому вопросу по сравнению с тем, как он обсуждался в Тегеране? Гарриман ответил, что все осталось по-прежнему, и добавил, что, как надеется президент, маршал Сталин также останется на позициях, согласованных в Тегеране.
Во второй половине июля в Москву прибыли представители польского эмигрантского правительства С. Миколайчик, С. Грабовский и Т. Ромер.
Встретившись с Молотовым, Миколайчик сразу же попросил аудиенции у главы Советского правительства. Ему порекомендовали, однако, вначале переговорить с представителями Крайовой Рады Народовой, которые, как подчеркнул Молотов, лучше всего информированы об условиях в Польше.
Переговоры в Москве с представителями польского правительства в изгнании начались в деловой и конструктивной атмосфере. Однако они тут же были осложнены новым обстоятельством, чреватым серьезными последствиями. В Варшаве началось восстание, инспирированное польским эмигрантским правительством и явно приуроченное к визиту Миколайчика и его коллег в столицу СССР.
3 августа глава Советского правительства принял Миколайчика, Грабовского и Ромера. В опубликованном по этому поводу официальном сообщении говорилось, что «беседа была посвящена положению дел в Польше и советско-польским отношениям. Тов. И. В. Сталиным было высказано пожелание, чтобы вопросы положения в Польше были решены самими поляками и чтобы они были обсуждены г. Миколайчиком с Польским Комитетом Национального Освобождения».
Более подробно об этой встрече пишет Гарриман. Со слов Миколайчика он сообщает следующие подробности: коснувшись только что начавшегося в Варшаве восстания, Миколайчик заявил советским представителям, что город может быть освобожден в любой момент.
— Дай бог, чтобы было так, — ответил Сталин. Помолчав, он добавил: — Без артиллерии, без танков, без авиации… У них даже недостаточно стрелкового оружия. В современной войне без этого ничего не сделаешь. Я слыхал, что польское правительство инструктировало эти соединения и поручило им изгнать немцев из Варшавы. Я не понимаю, как они смогут это сделать. У них для этого недостаточно сил…
Миколайчик спросил, помогут ли русские восставшим путем снабжения их оружием?
— Вам надо достичь взаимопонимания с Комитетом национального освобождения, — сказал Сталин.
Таким образом, эмигрантские деятели получили недвусмысленное предупреждение насчет того, что их самовольные акции на территории Польши ни к чему хорошему привести не могут. А ведь именно такой акцией явилось авантюристическое восстание в Варшаве. То была попытка игнорировать развитие событий в Польше и создать ситуацию, когда Красная Армия, вступив в Варшаву, обнаружила бы там эмиссаров лондонского эмигрантского правительства, отсиживавшегося в безопасности, пока советские солдаты проливали кровь во имя свободы и независимости польского народа.
Между тем ситуация в Польше претерпела серьезные изменения. Еще 21 июля Крайова Рада Народова издала закон об образовании Польского комитета национального освобождения — центрального органа власти в стране. В состав комитета вошли представители различных политических партий: Польской рабочей партии, Социалистической партии, Крестьянской партии, Демократической партии, а также беспартийные. В комитете участвовали также и деятели Союза польских патриотов в СССР. 22 июля 1944 г. в городе Хелме Польский комитет национального освобождения принял манифест, сыгравший историческую роль в строительстве демократической Польши. В этом документе намечалась программа революционных преобразований, указывались перспективы народной революции. Польский комитет национального освобождения заявил, что Красная Армия вступила в Польшу как армия-освободительница, и призвал народ оказывать ей всемерную помощь. Основой внешней политики нового польского государства манифест провозглашал прочный союз и дружбу с Советским Союзом.
«400 лет, — говорилось в манифесте, — длился период беспрерывных конфликтов между поляками и украинцами, поляками и белорусами, поляками и русскими — с ущербом для обеих сторон. Сейчас в этих взаимоотношениях наступил исторический перелом. Конфликты уступают место дружбе и сотрудничеству, которые диктуются обоюдными жизненными интересами. Дружба и боевое сотрудничество, начало которому положено братством по оружию польской армии и Красной Армии, должны перерасти в прочный союз и добрососедское сотрудничество после войны».
26 июля 1944 г. между правительством СССР и Польским комитетом национального освобождения было заключено Соглашение об отношениях между Советским Главнокомандующим и Польской Администрацией после вступления войск Красной Армии на территорию Польши. В этом соглашении, направленном на обеспечение боевого сотрудничества народов Польши и СССР, предусматривалось, что по мере очищения страны от врага Польский комитет национального освобождения должен создавать органы администрации, руководить ими, осуществлять мероприятия по дальнейшей организации, формированию и укомплектованию Войска Польского. Польские воинские части, сформированные на территории СССР, должны были действовать в Польше. В ст. 6 соглашения говорилось, что, «как только какая-либо часть освобожденной территории Польши перестанет быть зоной непосредственных военных операций, Польский Комитет Национального Освобождения полностью возьмет на себя руководство всеми делами гражданского управления».
Однако работа по созданию и укреплению органов польской администрации, так же как и по развитию вооруженных сил, наталкивалась на серьезные трудности. В значительной мере сказывалось тяжелое экономическое положение страны, только что освобожденной от многолетней гитлеровской оккупации. Но имели значение и враждебные происки польской реакции. Эмигрантское правительство и его сторонники внутри страны препятствовали вступлению поляков в армию, призывали их бойкотировать мероприятия Польского комитета национального освобождения, дезертировать из армии. Лондонские эмигрантские власти засылали своих людей в армию с целью подорвать ее боеспособность.
Наряду с этим польская реакция предприняла ряд срочных контрмер, к которым в первую очередь относилась организация восстания в Варшаве. Руководство подчиненной лондонскому эмигрантскому правительству Армии крайовой считало, что оно должно обосноваться в Варшаве не позднее чем за 12 часок до вступления в нее советских войск. Таким образом, в столице была бы установлена политическая и административная власть эмигрантского правительства.
Восстание в Варшаве началось 1 августа, буквально через несколько дней после прибытия премьера польского эмигрантского правительства Миколайчика в Москву, где ему предстояло вести с представителями Польского комитета национального освобождения переговоры о реорганизации правительства. Реакционные круги в Польше надеялись, что восстание в Варшаве усилит позицию Миколайчика на переговорах в Москве. Этим объясняется и несговорчивость Миколайчика, который, отказываясь считаться с огромными политическими сдвигами, происшедшими в Польше к лету 1944 года, требовал, чтобы эмигрантскому правительству было предоставлено 80 % мест в правительстве, и настаивал на сохранении реакционной конституции 1935 года. Естественно, что Польский комитет национального освобождения, не мог согласиться со столь нереалистичными требованиям.
Что же касается восстания в Варшаве, то расчеты, которые связывала с ним польская реакция, не оправдались. И прежде всего потому, что само восстание оказалось полной авантюрой.
В военно-техническом отношении оно не было подготовлено. У восставших не хватало оружия. Боеприпасов имелось всего лишь на два-три дня боя. К тому же многие подпольные организации не знали о времени выступления. В результате к моменту начала восстания в нем приняло участие лишь 40 % сил, находившихся в Варшаве в распоряжении командования Армии крайовой. Неудивительно, что наступление уже в первые часы дало осечку. Повстанцы не смогли овладеть командными пунктами столицы, захватить вокзалы, мосты через Вислу, и это дало возможность немецкому командованию подтянуть войска.
Все же борьба продолжалась. Она вспыхнула с новой силой, когда в нее включилось население Варшавы. Жители столицы, рядовые члены Армии крайовой, не зная истинной цели организаторов восстания, мужественно сражались с гитлеровскими оккупантами. Вместе с ними боролись и части Армии людовой, хотя их командование не было поставлено в известность руководством Армии крайовой о готовившемся выступлении. Польские коммунисты, видя безнадежность вооруженного восстания в создавшихся условиях, тем не менее — чтобы не отделять себя от массовой борьбы населения — решили принять в ней участие. В боях с немецкими захватчиками польские патриоты проявляли массовый героизм и самоотверженность. Даже германское командование в секретной инструкции от 21 августа 1944 г. вынуждено было признать, что «повстанцы сражаются фанатично и ожесточенно».
Однако силы были слишком неравными. Из-за отсутствия тяжелого оружия, а также боевого опыта восставшие несли большие потери. Во второй половине августа положение повстанцев резко ухудшилось. Нацисты варварски уничтожали город, выполняя приказ Гитлера сровнять Варшаву с землей.
В мемуарах западных политиков содержится немало претензий и обвинений в адрес Советского Союза за то, что он не пришел сразу же на помощь варшавским повстанцам, которым приходилось сражаться против превосходящих сил гитлеровцев. Но такие претензии беспочвенны. Советское правительство не было поставлено заранее в известность. Оно узнало об этой акции лишь тогда, когда бои уже начались. Получив первые данные о восстании и изучив их, правительство СССР заняло, в этом вопросе недвусмысленную позицию. В его обращении к английскому правительству от 16 августа 1944 г. указывалось: «…Варшавская акция представляет безрассудную ужасную авантюру, стоящую населению больших жертв. Этого не было бы, если бы советское командование было информировано до начала варшавской акции и если бы поляки поддерживали с последним контакт».
Таково было принципиальное отношение правительства СССР к варшавскому восстанию. Однако, видя, что в восстании приняли участие десятки тысяч патриотов Варшавы, которых польская реакция, преследуя свои корыстные классовые интересы, бросила на явную гибель, Советское правительство сделало все возможное, чтобы оказать помощь повстанцам и уменьшить количество жертв.
В западных публикациях немало также домыслов насчет того, что советское командование якобы преднамеренно остановило свои войска у стен Варшавы и тем самым обрекло восстание на неудачу. Подобного рода домыслы не имеют ничего общего с подлинными фактами. Каждый, кто даст себе труд серьезно ознакомиться с положением и возможностями войск Красной Армии к моменту начала восстания, не может не признать, что в действительности дело обстояло совсем не так.
Во второй половине июля 1944 года войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов вступили на территорию Польши и начали развивать наступление к Висле в соответствии с общим замыслом Ставки Верховного Главнокомандующего. К концу июля, еще до восстания в Варшаве, темпы наступления советских войск стали замедляться. Немецко-фашистское командование перебросило на направление ударов советских войск значительные резервы. Гитлеровцы оказывали возрастающее сопротивление Красной Армии.
На темпах наступления сказывалось и то, что советские стрелковые дивизии и танковые корпуса в предыдущих боях понесли большие потери, тылы и артиллерия отстали, в войсках не было необходимого количества боеприпасов и горючего. Пехота и танки не получали огневой поддержки артиллерии. Из-за перебазирования на новые аэродромы снизила свою активность авиация.
После длительного 40-дневного наступления советские войска в условиях возросшего сопротивления не могли продолжать наступательные операции в высоких темпах и активно поддержать восставших. Это было ясно даже немецкому командованию. Например, К. Типпельскирх пишет, что «восстание вспыхнуло 1 августа, когда сила русского удара уже иссякла…».
И все же, несмотря на сложность обстановки, советское командование приняло меры, чтобы оказать помощь восставшим. В начале сентября оно сосредоточило значительные силы на восточном берегу Вислы, в районе Праги, где противник к тому времени ослабил свою группировку, перебросив танковые дивизии для ликвидации плацдармов советских войск южнее Варшавы. 10 сентября 47-я армия 1-го Белорусского фронта, усиленная одной польской дивизией, перешла в наступление. В результате ожесточенных боев враг был разгромлен и 14 сентября советские войска освободили пригород Варшавы — Прагу. Обстановка на варшавском участке фронта значительно улучшилась. Создались условия для оказания непосредственной помощи повстанцам. Эта задача возлагалась на 1-ю армию Войска Польского. 15 сентября 1944 года она вступила в Прагу и начала подготовку операции по форсированию Вислы и захвату плацдарма в Варшаве.
В ночь на 16 сентября 1-я армия Войска Польского начала форсирование Вислы. В течение, 16–19 сентября в Варшаву было переброшено до шести батальонов пехоты. При этом солдаты и офицеры польской армии проявляли героизм и самоотверженность. Однако противник, опираясь на мощную оборону, не позволил перебравшимся через реку подразделениям расширить захваченные участки и образовать общий плацдарм. Одной из причин неудачи было также нежелание руководителей восстания организовать совместные действия повстанческих отрядов с польскими частями, сражавшимися на отвоеванных плацдармах. Противнику после ожесточенных контратак пехоты и танков удалось расчленить переправившиеся подразделения и лишить их взаимной поддержки. Обстановка сложилась столь тяжелая, что командующий 1-й армией Войска Польского принял решение эвакуировать подразделения из Варшавы на восточный берег Вислы. К 23 сентября эвакуация была закончена с большими потерями.
Между тем советское командование после овладения Прагой оказывало восставшим постоянную материально-техническую помощь. Военный совет 1-го Белорусского фронта накануне форсирования Вислы в районе Варшавы поставил 16-й воздушной армии задачу доставить повстанцам вооружение, боеприпасы, продовольствие и медикаменты. После того как была установлена связь с повстанцами, советская авиация начиная с 14 сентября регулярно сбрасывала грузы в район Варшавы.
В то время как части 1-й армии Войска Польского вели кровопролитные бои с целью оказать помощь восставшим, командование Армии крайовой отказалось от совместных действий с Красной Армией. Когда представитель советского командования прибыл в штаб повстанцев, чтобы выяснить возможности для оказания им помощи, комендант Варшавского округа Армии крайовой уклонился от обсуждения вопросов, касавшихся координации действий Армии крайовой и Красной Армии. Понимая, что положение повстанцев стало совершенно безнадежным, командование Красной Армии предложило руководителям восстания единственно разумный выход: прорваться к Висле под прикрытием советской авиации и артиллерии. Однако руководство запретило своим войскам идти навстречу Красной Армии. Только отдельным подразделениям, отказавшимся выполнить этот самоубийственный приказ, удалось вырваться из Варшавы. 2 октября 1944 г. командующий Армией крайовой подписал с гитлеровцами акт о капитуляции.
Польский народ дорого заплатил за авантюру эмигрантского правительства. Потери Армии крайовой, Армии людовой, а также гражданского населения были огромны. Варшава подверглась неописуемому разрушению. Варшавское восстание, с одной стороны, продемонстрировало самоотверженность и героизм, проявленные повстанцами в борьбе с оккупантами. С другой стороны — это был акт преступной антисоветской политики правительства Миколайчика и находившихся в Польше руководителей лондонского эмигрантского правительства.
Висло-Одерская операция, в ходе которой намечалось освобождение Варшавы, была одной из крупнейших стратегических акций Великой Отечественной войны. Операция эта проводилась на главном варшавско-берлинском направлении войсками 1-го Белорусского, 1-го Украинского и частью сил 4-го Украинского фронтов. В ней принимала также участие 1-я армия Войска Польского. Активное содействие ее проведению оказывал 2-й Белорусский фронт, действовавший в направлении Восточной Пруссии.
Политической целью операции было завершение освобождения польского народа от гнета гитлеровских захватчиков и оказание ему помощи в образовании сильного, независимого, демократического государства. Ее проведение в сроки, более ранние, чем предусматривалось, продемонстрировало еще раз неизменную верность Советской страны союзническим обязательствам.
В период подготовки к новому наступлению велась активная работа среди польского населения. Основным документом, определявшим содержание и форму этой работы, стало заявление Наркоминдела СССР от 26 июля 1944 г. об отношении Советского Союза к Польше, а также Соглашение между Правительством СССР и Польским Комитетом Национального Освобождения об отношениях между Советским Главнокомандующим и Польской Администрацией после вступления советских войск на территорию Польши. Соглашение способствовало установлению дружественных отношений советских войск с органами власти, созданными Польским комитетом национального освобождения.
Боевые действия советских войск на Висле развернулись с 12 по 15 января 1945 г. Вражеские соединения оказывали упорное сопротивление. Однако советским войскам удалось сломить оборону противника. Артиллерия фронта подавила важнейшие объекты врага. За четыре дня наступления ударная группировка 1-го Украинского фронта продвинулась на 80 — 100 км. В Варшаве, куда 1-я армия Войска Польского ворвалась утром 17 января при одновременном вступлении частей 61-й и 47-й армий советских войск, завязались тяжелые бои. В тот же день, 17 января, польские и советские воины полностью освободили столицу Польши. Перед ними открылось ужасающее зрелище. Целые районы города гитлеровцы превратили в груды развалин. Трудно было даже представить, что Варшава когда-нибудь, снова встанет из руин!
Повороты судьбы
К ноябрьским праздникам 1944 года большая группа работников Наркоминдела была представлена к правительственным наградам. Меня удостоили ордена Красной Звезды. Вручал нам награды Михаил Иванович Калинин.
Область моей работы оставалась прежней — советско-американские отношения плюс функции переводчика главы Советского правительства и наркома иностранных дел при их встречах с высокопоставленными представителями Соединенных Штатов.
Вручение высокой награды невольно побудило меня оглянуться в прошлое, задуматься над тем, какие порой неожиданные повороты бывают в человеческой судьбе. Ведь если бы еще недавно мне сказали, что я окажусь на дипломатической работе, да к тому же стану переводчиком высших руководителей нашей страны, я ни за что бы не поверил!
В 1938 году, окончив Киевский индустриальный институт, я поступил на знаменитый революционными традициями завод «Арсенал» инженером-технологом. Не прошло и четырех месяцев, как меня призвали на действительную военную службу и направили на Тихоокеанский флот (ТОФ) во Владивосток. Там мне предстояло пробыть многие годы — введенные ранее льготы для лиц с высшим образованием были вскоре отменены и окончившие вузы должны были служить полный срок. Для военно-морского флота это означало в то время пять лет.
Не буду описывать будни нашей службы и военной учебы. Отмечу лишь, что, имея техническую специальность, мы работали в инженерном отделе ТОФа, в остальное же время находились на положении рядовых краснофлотцев под бдительным оком старшины Мищенко. В общем он был человек неплохой, но очень уж взыскателен к новобранцам с высшим образованием, считая, что их надо держать в особой строгости. Так шли неделя за неделей. Постепенно мы втянулись в привычный распорядок дня с дежурствами, нарядами вне очереди, ночными тревогами, которые очень любил устраивать нам старшина, и редкими увольнительными, когда можно было прогуляться по улице Ленина, полюбоваться прекрасными видами бухты Золотой Рог, причудливыми силуэтами сопок, окаймляющих город и резко выделяющихся на поразительно чистом в зимние вечера дальневосточном небе.
Однажды, это было в самом начале 1939 года, меня подозвал старшина и сказал, что на следующий день мне следует явиться в штаб Тихоокеанского флота. От неожиданности я не мог удержаться от недоуменного вопроса: кому и зачем я там понадобился? Старшина предложил мне не рассуждать, а приготовить парадную форму. Этим я и занялся, ни на минуту не переставая думать о том, что же означает этот вызов. За несколько месяцев службы я как будто не совершил ничего такого, что могло бы обратить на меня внимание высокого начальства.
Я терялся в догадках, но, как выяснилось, все они были далеки от подлинной причины вызова. А она состояла в следующем: незадолго до того, как мы попали на ТОФ, там сменился весь командный состав. Новый главнокомандующий Тихоокеанским флотом адмирал Кузнецов, его начальник штаба капитан 3-го ранга Богденко и начальник инженерного отдела капитан 2-го ранга Воронцов, приступив к своим обязанностям, обнаружили, что, среди прочего, им предписано изучать английский язык. Между тем преподавателей, которых можно было бы допустить в помещение штаба ТОФа, в то время в городе не оказалось. Начальнику кадров поручили посмотреть, нет ли военнослужащих со знанием английского языка, и он обратил внимание на мое личное дело.
Еще в детстве родители заставляли меня изучать немецкий и английский языки, справедливо полагая, что, как бы ни сложилась моя судьба, владение иностранными языками окажется полезным. У меня, конечно, было тогда другое мнение на сей счет. Но как я ни увиливал, пришлось заниматься. Я неплохо освоил оба языка, а потом, после семилетки, окончил еще и специальные вечерние трехгодичные курсы — немецкого, английского и испанского отделения. Испанский я выбрал уже по собственному почину: шла война в Испании, и все мои сверстники мечтали об Интернациональной бригаде. В Испанию я так и не попал, однако знание английского и немецкого языков сыграло в моей жизни решающую роль.
В назначенное время, начищенный и наглаженный, явился я в штаб ТОФа. Меня поразили облицованные темным дубом и устланные мягкими, толстыми коврами коридоры, выправка и полная достоинства вежливость дежурных, проверявших мой пропуск, просторный, увешанный картами кабинет начальника штаба. Переступая его порог, я был охвачен каким-то особым волнением. Во мне шевельнулось предчувствие, будто я вступаю на какой-то манящий таинственный путь…
Когда я вошел в кабинет, из-за стола медленно поднялся несколько грузный, но еще совсем молодой капитан 3-го ранга. Это был начальник штаба ТОФа Богденко. Рядом со столом остался сидеть в кресле инженер-капитан 2-го ранга Воронцов. Небрежно скомандовав «вольно», Богденко пригласил меня сесть в свободное кресло. Затем, взяв со стола желтую папку, начал ее листать.
— Вот тут сказано, что вы свободно владеете английским языком, — начал он, — Это верно?
— Так точно!
— Когда вы его учили, что окончили?
Я объяснил.
Богденко снова стал листать папку. Вынув из кармана кителя аккуратно сложенный надушенный платок, провел им по верхней губе. Потом спросил:
— Могли бы вы преподавать английский язык?
— Я никогда этим не занимался. Моя специальность инженер-технолог.
— Мы это знаем, но ведь вы помните, как обучали вас?
— Помню.
— Вот так же, видимо, можете и вы обучать других.
— Мне никогда не приходилось преподавать, но если прикажете, попробую.
— Это уже другой разговор. Существует порядок, согласно которому главнокомандующий, начальник штаба флота и начальник инженерного отдела должны изучить английский язык — по ту сторону океана находятся Соединенные Штаты. Понятно?
— Понятно, товарищ капитан 3-го ранга!
— Мы хотим, чтобы вы преподавали нам английский язык.
— Слушаюсь, — ответил я и стал в стойку смирно.
— Садитесь, — сказал Воронцов. — Давайте обговорим детали.
Мне тут же сообщили, что каждый урок должен занимать два академических часа и что таких уроков будет два в неделю. За каждый академический час я буду получать 25 рублей. Моему непосредственному начальству будет дано указание освобождать меня для работы в городской библиотеке, где мне надлежит готовиться к урокам.
Словно на крыльях я вылетел из штаба ТОФа. Несомненно, в моей жизни произошло невероятное событие, размышлял я на ходу. Теперь я больше не буду целиком зависеть от старшины и к тому же смогу немного подзаработать. Это было кстати, поскольку мы получали как краснофлотцы 12 рублей в месяц.
Готовиться к урокам я стал со всей серьезностью. Конечно, помогало хорошее знание языка и то, что я не успел забыть, как обучали меня. К тому же и ученики мои оказались серьезными и прилежными. Дело пошло на лад. Вскоре я приобрел фотоаппарат ФЭД типа «Лейка», благодаря чему сразу стал популярным человеком. Словом, ничего лучшего нельзя было и ожидать. Но, увы, ничто не вечно под луной!
Вскоре адмирал Кузнецов был назначен наркомом Военно-Морского Флота СССР и отбыл в Москву, а некоторое время спустя за ним последовали Богденко и Воронцов. Новому начальству, видимо, было не до изучения английского языка. Во всяком случае, мною они не заинтересовались. Я снова полностью перешел во власть старшины, который, конечно, не преминул на мне отыграться, давая наряды вне очереди. Потекли прежние будни, разнообразившиеся лишь редкими поездками по служебным делам на Русский остров, неизменно пленявший своей красотой. Иногда в выходные дни удавалось съездить на «19-й километр», где с наступлением тепла начались прекрасные морские купания.
Быстро промелькнуло переменчивое приморское лето. Приближалась осень 1939 года с нависшими над ней грозными тучами второй мировой войны. С поразительной быстротой следовали одно за другим события, волновавшие тогда миллионы людей. Многомесячные переговоры, которые велись Советским правительством с представителями Англии и Франции, закончились безрезультатно. Потом мы узнали, что заключен пакт о ненападении между Советским Союзом и Германией. Вслед за этим было подписано советско-германское торговое соглашение, которое охватывало и поставки для нашего Военно-Морского Флота. Понадобились люди с хорошим знанием немецкого языка. О том, чтобы специально готовить кадры, не могло быть и речи. Поджимало время. Надо было реализовать обязательства торгового соглашения как можно скорее, тем более что после нападения Германии на Польшу и объявления Берлину войны Лондоном и Парижем мировая обстановка осложнялась. Управление кадров наркомата Военно-Морского Флота усиленно искало людей со знанием немецкого. И тут кто-то из моих бывших владивостокских «учеников» вспомнил обо мне и о том, что помимо английского я владею также и немецким языком. Внезапно я получил предписание прибыть в Москву в распоряжение Главного морского штаба Наркомата Военно-Морского Флота.
Путь от Владивостока до Москвы в транссибирском экспрессе длился тогда десять дней. Времени для размышлений было более чем достаточно. Но, как я ни ломал голову над тем, что же ждет меня впереди, я, конечно, не мог вообразить и сотой доли того, что произошло в дальнейшем.
Ранней весной 1940 года в Германию направлялась закупочная комиссия Наркомата внешней торговли во главе с тогдашним наркомом судостроительной промышленности И. Т. Тевосяном. В нее входили многие видные руководители советской индустрии, а также военные и научные специалисты. В качестве инженера-приемщика был включен в комиссию и я. То был мой первый выезд за границу, и впечатлений, конечно, было множество. Помимо Берлина мы побывали и в других городах Германии.
У Тевосяна была специальная переводчица, хорошо владевшая немецким языком. Однако когда в Эссене во время переговоров наркома с руководством одной из фирм речь зашла о деталях, возникли трудности в отношении технической терминологии. Я вызвался помочь, и недоразумение удалось быстро уладить. Тевосян похвалил меня и затем взял с собой в качестве переводчика в поездку по Германии. Мы побывали на базе подводных лодок в Киле, на верфях Бремена и Гамбурга, а в начале апреля отправились в Голландию, где строились суда-рефрижераторы для Советского Союза.
В Голландии нас застало известие о вторжении вермахта в Данию и Норвегию. Обстановка в Западной Европе осложнялась, и Тевосяна срочно отозвали в Москву, Однако многие члены закупочной комиссии остались в Германии для оформления сделок и наблюдения за их выполнением. Меня направили на заводы Крупна в Эссене. Там вместе с другими советскими специалистами я занимался приемкой оборудования, заказанного у немцев в соответствии с торговым соглашением. После того как в мае гитлеровцы оккупировали Голландию и Бельгию, мне поручили сопровождать заместителя торгпреда СССР в Берлине Кормилицына в поездке по этим странам для проверки состояния судов и различного оборудования, изготовлявшегося там по нашим заказам. Многие голландские и бельгийские города представляли страшное зрелище и все еще дымились после варварских налетов «люфтваффе».
Возвратившись в Берлин, я получил срочный вызов в Москву с предписанием явиться в секретариат наркома внешней торговли А. И. Микояна. Как потом выяснилось, Тевосян рассказал обо мне Микояну, и, поскольку в Москве предстояли важные экономические переговоры с немцами, было решено привлечь меня к ним как специалиста со знанием языка. Я стал референтом секретариата наркома внешней торговли по германским делам. В эту референтуру входили также В. В. Чистов и С. П. Точилин, который нами руководил. В мои функции, помимо текущих дел, входила переводческая работа во время переговоров наркома с германскими представителями.
Но мне не суждено было стать кадровым внешнеторговцем. Как-то после ноябрьских праздников, часа в три ночи — а работали мы тогда обычно до пяти-шести утра — Анастас Иванович вызвал меня к себе в кабинет и сказал, что мне следует немедленно явиться в секретариат Председателя Совнаркома.
— Моя машина стоит у подъезда, и вы воспользуйтесь ею, чтобы не терять время на пропуска. Подъедете через Спасские ворота прямо к зданию Совнаркома. Там вас ждут. Отправляйтесь, — резко заключил он.
Ни о чем не спрашивая, я быстро вышел из кабинета наркома, сбежал вниз по лестнице и через несколько минут уже стоял в длинном кремлевском коридоре перед высокой дубовой дверью с табличкой, на которой золотом было выведено: «Приемная Председателя Совета Народных Комиссаров СССР». Я чуть помедлил, прежде чем взяться за ручку двери. В голове мелькнуло: «Вот куда меня привело удивительное путешествие, начавшееся два года назад, когда я переступил порог кабинета начальника штаба ТОФа».
В приемной меня встретил С. П. Козырев, который был тогда помощником министра иностранных дел. Он любезно предложил мне сесть, а сам скрылся за дверью, ведущей в соседнее помещение. Минут через пять он вышел и сказал: «Товарищ Молотов вас ждет». Я направился в ту же дверь, из которой только что появился Козырев, чувствуя, что ноги у меня становятся ватными. Но в соседней комнате находилась охрана — несколько человек в военной форме. Мне предложили идти дальше. Пройдя сквозь двойную дверь, я оказался в большом зале с длинным столом. Тут никого не было, но в конце зала я заметил, приоткрытую дверь и направился к ней. Войдя в кабинет, я увидел склонившегося за письменным столом В. М. Молотова, очень знакомого по портретам. Я остановился, не решаясь двинуться дальше. Хозяин кабинета поднял голову, посмотрел на меня карими прищуренными глазами и предложил сесть в кресло рядом со столом.
Последовали обычные в таких случаях расспросы. Где и когда родился, что окончил, какую работу выполнял, хорошо ли владею немецким языком. А потом вдруг сразу:
— А где и кем было сказано: «…Наша обязанность, как коммунистов, всеми формами овладеть, научиться с максимальной быстротой дополнять одну форму другой, заменять одну другой, приспособлять свою тактику ко всякой такой смене, вызываемой не нашим классом или не нашими усилиями»?
Я весь напрягся. Это было что-то очень знакомое, я это недавно читал, но где?.. И тут же вспомнил:
— Ленин. «Детская болезнь „левизны“ в коммунизме».
— Правильно, — одобрительно кивнул Молотов.
У меня молнией пронеслось в мозгу: кажется, я выдержал экзамен, а цитата эта была избрана, видимо, потому, что недавнее изменение отношений с Германией, несомненно, означало именно такую смену, навязанную нашей стране.
Между тем Молотов продолжал:
— Мне говорил о вас Микоян. Он считает, что вы умело выполняете функции переводчика. Завтра наша правительственная делегация, которую мне поручено возглавить, выезжает в Берлин для важных переговоров с германским правительством. Мы думаем, что вы будете полезны. У вас к тому же есть некоторый опыт работы в Германии и общения с немцами. Согласны?
— Служу Советскому Союзу! — выпалил я, не придумав ничего другого.
— Можете идти…
Молотов поднялся с кресла и, протянув руку, слегка улыбнулся.
На следующее утро я получил дипломатический заграничный паспорт, в ЦУМе мне выдали черный костюм, темно-серое демисезонное пальто и фетровую широкополую шляпу — такая экипировка полагалась каждому участнику поездки. Но я прихватил с собой и кое-что из гардероба, приобретенного во время работы в Германии. Вечером от перрона Белорусского вокзала отошел специальный состав, в котором находился и я.
Остальное об этой поездке читателям известно. Хочу лишь добавить, что на обратном пути в Москву Молотов пригласил меня в свой салон-вагон и предложил перейти на работу в Наркоминдел. Так началась моя дипломатическая служба.
Работа переводчика при ответственных межправительственных переговорах, как и вообще дипломатические функции, требуют разносторонних, глубоких знаний, и мне приходилось постоянно совершенствоваться, много читать и заниматься самообразованием, чтобы восполнить пробелы, неизбежные для человека, окончившего инженерный вуз. Много дало мне и общение с товарищами по работе, имевшими специальную подготовку и опыт практической дипломатической деятельности. С благодарностью вспоминаю свою дружбу с нашим политическим атташе в Берлине И. С. Чернышевым, обладавшим глубокими знаниями по истории международных отношений, и многочасовые беседы с В. С. Семеновым, который в канун войны был советником посольства в Берлине. Большую пользу принесли мне встречи с Я. З. Сурицем, Г. Н. Зарубиным, а также с К. А. Уманским (последний, вернувшись с поста посла СССР в Вашингтоне, в первые месяцы Великой Отечественной войны курировал отдел печати Наркоминдела). Нередко глубокой ночью, когда выдавались свободные часы, я заходил к нему, и мы говорили на самые различные и всегда интересные и поучительные для меня темы — исторические и современные.
Американцы анализируют ситуацию
Конфронтация, возникшая в связи с полемикой по польскому вопросу, побудила американскую дипломатию задуматься над тем, как вообще строить отношения с Советским Союзом, каковы перспективы этих отношений. Анализируя ситуацию, в Вашингтоне не могли не видеть, что попытки оказать давление на Москву не увенчались успехом. Советское правительство, несмотря на все ухищрения американских и английских политиков, твердо стояло на своей принципиальной позиции: новая Польша, рождавшаяся из пепла и руин, должна была стать подлинно независимым демократическим государством, дружественным Советскому Союзу и свободным от интриг западных держав, все еще строивших, свои расчеты на идее «санитарного кордона», натравливания в своих корыстных интересах одних европейских государств на другие. То, что Вашингтону и Лондону эту линию никак не удавалось осуществить в польском вопросе, озадачивало американских и британских государственных деятелей. Они никак не ожидали, что Советская страна, перенесшая тяжелейшие испытания, подвергшаяся страшным разрушениям, потерявшая миллионы и миллионы своих граждан в противоборстве с гитлеровскими захватчиками, будет столь решительно противостоять нажиму западных держав. Но, поскольку именно так обстояло дело, возникал вопрос, как должны в дальнейшем строить свои отношения США и Англия с советским союзником?
Самым разумным было бы признать необходимость равноправного сотрудничества с учетом законных интересов сторон. Именно на этих принципах основывался внешнеполитический курс Советского Союза, неизменно придерживавшегося ленинских положений о мирном сосуществовании государств с различными общественными системами. Однако, как показывают факты, тогдашние руководители западных держав не были готовы принять эту единственно реалистическую политику. Находясь в плену иллюзий о «величии Америки», некоторые влиятельные вашингтонские деятели и их лондонские коллеги никак не хотели отказаться от двойной мерки, которую они применяли, с одной стороны, к себе, а с другой — к Советскому Союзу. Этот подход нашел весьма яркое отражение в телеграмме, которую направил в Вашингтон 10 сентября 1944 г. посол США в Москве Аверелл Гарриман. Свои соображения Гарриман сформулировал после тщательного анализа тогдашнего состояния американо-советских отношений и взвешивания различных шагов, которые в будущем могли бы предпринять западные державы с тем, чтобы сделать Москву «более сговорчивой».
В этом послании, адресованном Гарри Гопкинсу, Гарриман обращал внимание на то, что в предвидении окончания войны проблема отношений с Советским Союзом выдвигается на передний план. «У меня сложилось представление, — писал Гарриман, — что с начала этого года наметилось расхождение между советниками Сталина по вопросу, о сотрудничестве с нами (то есть с США. — В. Б.). Сейчас я думаю, что те, кто возражает против такого сотрудничества, которое мы ожидаем, в последнее время одерживают верх и политика кристаллизуется в сторону того, чтобы заставить нас и британцев принять все советские шаги, подкрепляемые силой и престижем Красной Армии. Требования по отношению к нам все более возрастают. Отчасти вы это увидели во время переговоров по финансовым условиям ленд-лиза, проходивших в Вашингтоне. Имеются и другие примеры. В общем отношение к нам выглядит таким, что мы якобы обязаны помогать России и признавать ее политический курс потому, что Россия выиграла для нас войну». Интересна посылка, из которой исходит Гарриман. Как опытный дипломат, человек, обладающий исторической перспективой и понимающий, что в конце концов настанет день, когда его секретные послания станут достоянием гласности, он остерегается говорить прямо о том, что его беспокоит. Даже в личной телеграмме ближайшему советнику президента Гарриман не решается доверить бумаге свои сокровенные мысли о том, что безраздельному господству Америки в послевоенном мире Советский Союз может поставить определенные границы. Искушенный дипломат вуалирует подлинный смысл своих рассуждений ссылками на некие «расхождения» в Советском правительстве, на то, что будто бы в Москве берут верх «противники послевоенного сотрудничества», к которому, дескать, стремится Вашингтон. Но он уверен, что Гопкинс его поймет: ведь дело в том, на какой основе должно развиваться такое сотрудничество. А это с полной очевидностью вытекает из последующего текста телеграммы.
«Я убежден, — продолжает Гарриман, — что мы можем противостоять этой тенденции, но только если мы существенно изменим нашу политику по отношению к Советскому правительству. У меня есть доказательства того, что они поняли наше великодушное отношение к ним неправильно — как признак нашей слабости, как признание и принятие их политического курса. Настало время, когда мы должны разъяснить, чего мы ожидаем от них в качестве платы за нашу добрую волю. Если мы не проявим твердости и не вступим в конфронтацию с их нынешней политикой, то есть основания ожидать, что Советский Союз может представлять собой угрозу для мира и будет запугивать мир во всех случаях, когда речь идет о его интересах. Эта политика может распространиться на Китай и на район Тихого океана после того, как они смогут обратить свое внимание на это направление. Никакие письменные соглашения не могут иметь цены, если они не выполняются в духе взаимности, когда каждая сторона должна что-то дать, чтобы что-то получить, и признавать интересы других народов».
Разумеется, в рассуждения о «духе взаимности» и о признании «интересов других народов» Гарриман вкладывал весьма специфическое, понимание. Ведь им, например, не ставились под вопрос владения США, да и Великобритании, разбросанные по всему миру, в том числе и в районе Тихого океана, или их экономические и финансовые позиции на земном шаре, так же как и тот факт, что они уже давно добились того, чтобы их соседями являлись в основном «дружественные страны». Это, так сказать, было в порядке вещей. Когда же Советский Союз принимал меры к обеспечению своей безопасности и своих государственных интересов, то, прежде чем признать это его естественное стремление, западные державы считали, что Москва должна «что-то дать, чтобы что-то получить».
В этом же послании Гарриман отмечал:
«Я разочарован, но не обескуражен. Работа, заключающаяся в том, чтобы побудить Советское правительство вести себя прилично в международных делах, оказывается, однако, более трудной, чем мы предполагали. Благоприятные факторы остаются все те же. 90 % русского народа хотят дружить с нами; к тому же в интересах Советского правительства развивать отношения с Соединенными Штатами. Наша задача состоит в том, чтобы учитывать позиции тех в окружении Сталина, кто хочет играть с нами честную игру, и показать Сталину, что следование советам консультантов, выступающих за жесткую политику, приведет его к трудностям…».
Далее Гарриман просил разрешить ему приехать в Вашингтон, чтобы изложить лично президенту Рузвельту свои соображения насчет дальнейшего ведения дел с Москвой. Однако Белый дом был в то время озабочен трудностями борьбы против японских милитаристов на Тихом океане. Рузвельт считал очень важным получить помощь Советского Союза в войне против Японии и потому не проявил особого интереса к предложениям Гарримана относительно разработки «жесткого курса» по отношению к СССР. Гопкинс ответил Гарриману 12 сентября. Он сообщил, что, хотя и он сам, и президент готовы выслушать Гарримана, было бы ошибкой, если бы посол покинул Москву в данный момент. Гопкинс посоветовал послу подождать «зеленого света» из Вашингтона.
Тем временем в государственном департаменте занялись «русским вопросом». Государственный секретарь К. Хэлл не проявлял особого беспокойства в связи с полемикой вокруг Польши. Однако на опыте конференции в Думбартон-Оксе, где советская делегация настаивала на соблюдении правила единогласия великих держав в Совете Безопасности, против чего возражали США и Англия, зная, что большинство членов ООН шли в то время в фарватере американо-английской политики, он понял, что с Советским Союзом придется считаться всерьез.
В этой связи К. Хэлл обратился к Гарриману с запросом относительно тенденций советской политики. В обстоятельной ответной телеграмме от 20 сентября Гарриман писал:
«Я думаю, что, по мнению советских лидеров, мы приняли в Москве их точку зрения относительно того, что, хотя они и будут информировать нас, они имеют право урегулировать проблемы со своими западными соседями односторонне…
Можно спорить, действительно ли интересы Америки не затрагиваются в этом регионе, но меня пугает, что если какая-либо страна начинает распространять свое влияние с помощью методов сильной руки за пределы своих границ под прикрытием интересов безопасности, то трудно представить, где же будет проведена черта…
В настоящее время они, я полагаю, ожидают, что мы предоставим им свободу рук в отношении их западных соседей. Они опасаются, как бы эта политика не подверглась какому-то влиянию, если они согласятся воздерживаться при голосовании (в международной организации. — В. Б.) по спорам, в которых участвует Советское правительство».
По мнению Гарримана, ответом на все это должна быть такая внешняя политика США, которая проявляла бы «определенный интерес» в разрешении проблем каждой страны, по мере того как эти проблемы возникают, «вместо того, чтобы предоставлять России свободу рук». Это, заключал посол, привело бы к некоторым неприятным ситуациям, но если Соединенные Штаты проявят достаточную настойчивость, Москве придется уступить.
Таким образом, в своих рекомендациях государственному департаменту Гарриман снова сводил дело к «ужесточению» позиции США по отношению к Советскому Союзу. Аналогичного мнения придерживалось и британское правительство, что нашло отражение в ходе визита в Москву премьер-министра У. Черчилля осенью 1944 года.
Тревоги Черчилля
В письмах Рузвельту на протяжении лета и осени 1944 года британский премьер вновь и вновь возвращался к проблеме отношений с Советским Союзом в связи с победоносным продвижением Красной Армии на запад. Черчилль особенно тревожился по поводу того, что изгнание гитлеровских захватчиков из стран Восточной и Юго-Восточной Европы советскими войсками может ослабить влияние западных держав в этом регионе и привести к нежелательным, с точки зрения Лондона и Вашингтона, социальным и политическим последствиям. Поэтому англичане хотели поскорее провести новую встречу «большой тройки», чтобы «выяснить намерения русских», а главное попытаться «связать» Москву определенными обязательствами.
По поручению премьер-министра посол Великобритании в СССР Кларк Керр в беседах с главой Советского правительства неоднократно поднимал вопрос о новой встрече трех лидеров. Но Сталин, ссылаясь на мнение врачей, а также на занятость делами фронта, где шли тяжелые бои, объяснял, что в ближайшее время не сможет покинуть Москву и совершить далекое путешествие.
С другой стороны, и Рузвельт считал обстановку не вполне подходящей для организации встречи в верхах, поскольку в США приближались президентские выборы: избирательная кампания, принимавшая порой весьма острые формы, требовала его постоянного внимания и не позволяла ему выехать за границу.
Впрочем, Черчилль и Рузвельт сочли возможным провести двусторонние переговоры. Они состоялись в Квебеке с 11 по 16 сентября 1944 г. Президент США и премьер-министр Великобритании обсудили вопросы дальнейшего ведения войны в Азии и Европе. Планы английского командования сводились к тому, чтобы опередить Красную Армию в Центральной Европе, и на Балканах. Этим объяснялся особый интерес английского правительства к средиземноморскому театру войны. Лондон придавал большое значение Балканам как важному экономическому и стратегическому району Европы. Черчилль и его ближайшие коллеги к тому же рассматривали Балканы как кратчайший путь для проникновения американо-английских вооруженных сил в Венгрию и Австрию. Американская делегация в Квебеке в принципе согласилась с планами Черчилля, но считала необходимым в первую очередь ускорить наступление на западе Европы с тем, чтобы после изгнания немцев из Франции, Бельгии и Голландии занять по возможности большую часть территории Германии.
Квебекская конференция приняла решение, в котором говорилось, что «главные усилия будут сосредоточены на левом фланге», то есть в Северо-Западной Европе. «Наше намерение заключается в том, — сообщали Сталину Рузвельт и Черчилль, — чтобы быстро продвигаться вперед в целях уничтожения германских сил и проникновения в сердце Германии».
Вместе с тем в Квебеке были удовлетворены настойчивые требования Черчилля форсировать операции в Италии и подготовить высадку на полуострове Истрия.
На Квебекской конференции обсуждались также планы ведения военных действий на Тихом океане. Правительства США и Англии, полагая, что война с Японией продлится после разгрома Германии еще года полтора, стремились ускорить вступление в нее Советского Союза. Сами же они не были намерены развертывать крупные военные действия на суше. Вспоминая о Квебекской конференции, Черчилль отмечает в своих мемуарах, что превосходство англо-американских войск на море и в воздухе давало им возможность «избежать военных действий на суше, которые могли повлечь за собой большие потери».
Успешное продвижение советских войск на южном фланге в конце августа — начале октября 1944 года опрокинуло англоамериканские планы. Потерпела провал и «балканская стратегия» Черчилля. 15 сентября 1944 г. части Красной Армии вошли в столицу Болгарии Софию и вступили на территорию Югославии, чтобы помочь ее народам сбросить фашистское иго. Между тем наступление англо-американских союзных войск в Италии значительно замедлилось.
В этих условиях Черчилль считал слишком рискованным откладывать встречу с главой Советского правительства до президентских выборов в США. Поскольку Сталин не мог покинуть Москву, а Рузвельт считал необходимым оставаться в Вашингтоне, британский премьер решил сам отправиться в столицу Советского Союза, Однако он понимал, что встреча с глазу на глаз высших руководителей Великобритании и Советского Союза могла вызвать, неудовольствие вашингтонских политиков. Поэтому Черчилль постарался заранее примирить Рузвельта с таким оборотом дела. Стремясь нейтрализовать возможные подозрения американцев, Черчилль предложил, чтобы Вашингтон уполномочил кого-либо из своих высокопоставленных дипломатов сопровождать его в поездке в Москву. В послании от 29 сентября Черчилль писал Рузвельту:
«Две важные цели, которые мы будем иметь в виду, заключаются в следующем: первая — вступление СССР в войну против Японии; вторая — выработка удовлетворительного соглашения о Польше. Есть и другие пункты, касающиеся Югославии и Греции, которые мы также обсудим. Помощь Аверелла Гарримана была бы, конечно, очень желательна для нас. Или, быть может, Вы согласитесь послать Стеттиниуса или Маршалла. Уверен, что личные контакты имеют существенное значение».
Из ответа Рузвельта видно, что Вашингтон без энтузиазма встретил идею Черчилля о двусторонней встрече. Особенно американцев, видимо, не устраивала перспектива обсуждения в их отсутствие проблемы Дальнего Востока.
«Я полагаю, — писал президент, — что Сталин в настоящее время весьма чувствителен в отношении любого возможного сомнения по поводу его намерения помочь нам на Дальнем Востоке. По Вашей просьбе я поручу Гарриману оказать Вам помощь, которую Вы можете счесть желательной. Мне не представляется целесообразным или полезным быть представленным Стеттиниусом или Маршаллом».
Американцев к тому же заботило то, как бы Черчилль не вступил со Сталиным в соглашения, которые могли бы связать Соединенные Штаты.
В связи с этим Рузвельт направил Сталину через Гарримана специальное послание с разъяснением, что премьер-министр не уполномочен говорить от имени Соединенных Штатов.
Еще до того, как это послание было получено в Москве, Гарриман посетил Сталина, чтобы передать ему портрет Рузвельта, написанный известным американским художником Джо Дэвидсоном. Гарриман вспоминает, что Сталин был весьма тронут вниманием президента. Он внимательно рассматривал портрет, а затем сказал, что обнаруживает тут не только поразительное сходство с оригиналом, но и прекрасное произведение искусства.
Затем состоялся обмен мнениями о ситуации на Дальнем Востоке. Гарриман заверил Сталина, что Рузвельт никогда не сомневался относительно готовности Советского Союза принять участие в войне против Японии. Сталин проинформировал Гарримана о том, что он вызвал командующего дальневосточными сухопутными силами генерала Шевченко в Москву для предварительных переговоров с генералом Дином о планировании предстоящих операций. Гарриман был весьма удовлетворен этой беседой.
Вскоре он получил послание Рузвельта, в котором послу поручалось участвовать в переговорах Черчилля со Сталиным, но лишь в качестве наблюдателя. Гарриман был этим разочарован. Он считал, что следовало бы более активно поддержать Черчилля в его попытках добиться уступок от Сталина по польскому вопросу, поскольку, по мнению Гарримана, в этом были заинтересованы и Соединенные Штаты. На следующий день Гарриман телеграфировал президенту: «Ваши инструкции понял. Есть один вопрос, по которому я надеюсь добиться определенного взаимопонимания между Сталиным и премьер-министром, а именно: положение в Польше. Представляется, что решение становится все более трудным по мере развития событий. Я надеюсь, что Вы не будете возражать, если премьер-министр все же сможет выработать совместно со Сталиным нечто такое что не связывало бы Вас и не вынудило бы придерживаться какой-то определенной линии».
Гарриман, несомненно, хотел помочь Черчиллю в предстоящих переговорах. Он считал, что предупреждение Рузвельта о том, что любые соглашения, выработанные в Москве во время пребывания там Черчилля, не будут обязательными и не свяжут Соединенные Штаты, уменьшит заинтересованность Сталина в достижении конкретной договоренности. Но Рузвельт настоял на своем.
Странное предложение
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и его министр иностранных дел Антони Иден прибыли в Москву во второй половине дня 9 октября 1944 г. Вечером того же дня предстояла беседа с главой Советского правительства. Но до того Черчилль счел необходимым встретиться с американским послом. Во время этой встречи британский премьер выразил разочарование тем, что Вашингтон уклонился от официального участия в предстоящих переговорах в Москве. Тем не менее Черчилль обещал держать Гарримана в курсе дела и позаботиться о том, чтобы американского посла приглашали на встречи, где будет более широкий состав участников. Тем самым англичане попытались хоть как-то приобщить американцев к переговорам двух лидеров. Но в большинстве бесед Черчилля с главой Советского правительства Гарриман не участвовал. Не было его и на первой встрече, состоявшейся в Кремле поздно вечером 9 октября и вызвавшей впоследствии немалый международный резонанс. Именно на этой встрече британский премьер предпринял акцию, которую он сам назвал «грязной и грубой».
Черчилль и Сталин встретились как старые знакомые.
И в самом деле, это была их третья встреча, к тому же они вели друг с другом регулярную переписку. Сталин поинтересовался, как прошло путешествие, и внимательно выслушал рассказ Черчилля о его длительном перелете. Затем перешли к польскому вопросу и без особого труда договорились о приглашении Миколайчика в Москву для переговоров с представителями Польского комитета национального освобождения. Тут-то Черчилль и коснулся темы, которая больше всего его интересовала.
— Давайте урегулируем наши дела на Балканах, — сказал он. — Ваши армии находятся в Румынии и Болгарии. У нас там имеются интересы, наши миссии и агенты. Давайте избежим столкновений по мелким делам. Поскольку речь идет об Англии и России, то как Вы думаете, если бы вы имели 90 % влияния в Румынии, а мы, скажем, 90 % влияния в Греции? И 50 % на 50 % в Югославии?
Пока его слова переводились на русский язык, Черчилль набросал на листе бумаги эти процентные соотношения и подтолкнул листок Сталину через стол. Тот мельком взглянул на него и вернул обратно Черчиллю. Наступила пауза. Листок лежал на столе. Черчилль к нему не притронулся. Наконец он произнес:
— Не будет ли сочтено слишком циничным, что мы так запросто решили вопросы, затрагивающие миллионы людей? Давайте лучше сожжем эту бумагу…
— Нет, держите ее у себя, — сказал Сталин.
Черчилль сложил листок пополам и спрятал его в карман.
В послании, которое спустя два дня, 11 октября, Черчилль отправил из Москвы президенту Рузвельту, он ограничился по поводу этого инцидента лишь следующим сообщением: «Совершенно необходимо, чтобы мы попытались достичь общей точки зрения относительно Балкан с тем, чтобы предотвратить гражданскую войну в ряде стран, при которой, видимо, Вы и я симпатизировали бы одной стране, а Сталин — другой. Я буду держать Вас в курсе всего этого, и ничего не будет урегулировано, кроме как в порядке предварительной договоренности между Британией и Россией с тем, чтобы это было в дальнейшем обсуждено и урегулировано вместе с Вами. На этой основе, я уверен, Вы не будете возражать против нашей попытки добиться единого мнения с русскими».
12 октября посол Гарриман посетил Черчилля в его московской резиденции. Было позднее утро, но премьер по своей давней привычке находился еще в постели и что-то диктовал. Гарриман вспоминает: «Он зачитал мне проект письма, которое только что составил для отправки Сталину. Там излагалась интерпретация предложений о процентном соотношении». Гарриман сказал Черчиллю, что Рузвельт и Хэлл отрицательно отнесутся к подобному письму, если оно будет отправлено. В этот момент в спальню вошел Иден. Обращаясь к нему, Черчилль сказал: «Антони, вот тут Аверелл думает, что нам не следует отсылать это послание Сталину». Письмо так и не было отослано.
Впоследствии вокруг пресловутого листка, исписанного Черчиллем во время встречи в Кремле 9 октября 1944 г., было много всевозможных спекуляций. Уверяли, будто имела место «договоренность» между Лондоном и Москвой о «разделе сфер влияния» на Балканах, которая, дескать, предопределила поведение участников «договоренности» в ходе последующих событий. Некоторые даже приходят к умозаключению, что, не будь этой «договоренности», вся послевоенная Юго-Восточная Европа выглядела бы иначе. В действительности нет никаких оснований интерпретировать таким образом этот инцидент. Даже по тому, как описал происходившее сам Черчилль, видно, что никакой договоренности, а тем более какого-то формального соглашения не было и в помине.
В самом деле, что же произошло? Черчилль написал на листке свои процентные соотношения. Сталин взглянул на них и, ни слова не говоря, вернул листок британскому премьеру. Черчилль предложил сжечь листок, видимо, рассчитывая, что в случае согласия собеседника возникла бы ситуация некоего «сообщничества» по уничтожению «компрометирующего документа». Но Сталин не дал британскому премьеру никакого повода для подобных умозаключений. Он небрежно заметил, что Черчилль может сохранить листок, явно показав, что не придает ему особого значения. Вот, собственно, и все!
Что же из этого следует? Несомненно, Черчилль хотел создать впечатление, будто с Советским Союзом имела место какая-то договоренность, которая оправдывала бы попытки британского правительства утвердить свое влияние в ряде районов Европы. Многолетняя война, ужасы фашистской оккупации привели к небывалому подъему освободительного движения. Повсюду силы Сопротивления возглавлялись коммунистами, показавшими себя наиболее стойкими борцами против гитлеровской тирании и завоевавшими симпатии широчайших кругов населения. Все это создавало ситуацию, когда после изгнания оккупантов власть могла перейти в ряде стран к коммунистическим партиям, пользовавшимся доверием народных масс. Это страшило Черчилля. В его переписке того времени с Иденом и другими членами британского кабинета содержится немало ссылок на возможность «коммунизации» Италии, Франции, Греции и других государств. Он настаивал на акциях, которые не допустили бы подобного развития. Вполне возможно поэтому, что Черчилль замыслил упомянутый провокационный инцидент с тем, чтобы в будущем иметь формальный повод для вмешательства во внутренние дела ряда стран и подавления прогрессивных движений. Это фактически и произошло, например в Греции.
Однако Советский Союз не мог быть причастным к такого рода сомнительным «договоренностям». Это противоречило бы основным принципам ленинской внешней политики Советского государства, и прежде всего принципам невмешательства во внутренние дела других народов, уважения их суверенных прав. Советский Союз не мог, разумеется, принять предложение английского премьер-министра и тем санкционировать попытки английских империалистов диктовать свою волю освобожденным народам.
Показательно также, что в послании Сталина и Черчилля президенту Рузвельту от 10 октября (это единственная телеграмма, которую оба лидера совместно отправили в Вашингтон в дни их переговоров в Москве) говорилось лишь следующее: «Мы должны рассмотреть вопрос о том, как лучше всего согласовать политику в отношении балканских стран, включая Венгрию и Турцию».
Гарриман отмечает в своих мемуарах, что в первоначальном тексте совместного послания двух лидеров президенту Рузвельту после процитированной выше фразы шли слова «учитывая наши соответствующие обязанности», предложенные Черчиллем. Эти слова были в окончательном тексте вычеркнуты по настоянию Сталина. Гарриман рассказывает, что во время официального ланча он, Гарриман, обратившись к главе Советского правительства, заметил, что ему известен первоначальный текст послания и что Рузвельт, несомненно, обрадуется, узнав, что Сталин предложил исключить эти слова, поскольку президент придает большое значение тому, чтобы все важные вопросы решались совместно «большой тройкой». Далее Гарриман пишет: «Сталин ответил, что он рад это услышать, и, перегнувшись ко мне за спиной премьер-министра, пожал мне руку».
В письме, которое глава Советского правительства направил Рузвельту 19 октября, то есть в день отъезда Черчилля из Москвы, говорилось только о «выяснении взглядов». В частности, в этом послании было сказано: «Посол Гарриман Вас, конечно, информировал о всех важных московских беседах. Мне известно также, что Премьер-Министр должен был послать Вам свою оценку московских бесед. Со своей стороны могу сказать, что наши беседы были весьма полезны для взаимного выяснения взглядов по таким вопросам, как отношение к будущему Германии, польский вопрос, политика в отношении балканских государств, важные вопросы дальнейшей военной политики. В беседах выяснилось, что мы без больших трудностей можем согласовать нашу политику по всем вставшим перед нами важным вопросам, а если мы и не можем еще обеспечить немедленное нужное решение той или иной задачи, как, например, по польскому вопросу, то тем не менее и здесь открываются более благоприятные перспективы. Я надеюсь на то, что эти московские беседы принесут пользу и в том отношении, что при будущей встрече нас троих мы сможем принять определенные решения по всем неотложным вопросам, представляющим для нас общий интерес». Однако ни при встрече «большой тройки» в Ялте, ни в последующей переписке между руководителями трех держав вопрос о «процентном соотношении» не затрагивался.
Все это ясно говорит о том, что с советской стороны не было никакого намерения вступать в сделку с Лондоном о «разделе сфер влияния». Это с достаточной определенностью подтверждает и Гарриман:
«Я не понимаю сейчас и вряд ли понимал тогда, что именно хотел достичь Черчилль путем этих процентов. Мне известно, что он хотел получить свободу рук в Греции с помощью Соединенных Штатов и стремился заполучить долю влияния на формирование нового югославского правительства, которое было бы составлено из представителей правительства в изгнании, находившегося в Англии, а также Тито и его группы. Черчилль, конечно, знал, что президент Рузвельт настаивает на том, чтобы не быть связанным никакими решениями, пока „большая тройка“ не встретится вновь вся вместе. Интересно то, что, когда все трое встретились в Ялте, вопрос о процентах больше не поднимался».
Во время пребывания Черчилля в Москве состоялся ряд встреч между представителями Польского комитета национального освобождения и специально прибывшим в СССР Миколайчиком.
Делегация Польского комитета национального освобождения во главе с Болеславом Берутом выразила свою готовность договориться с представителями эмигрантского правительства при условии отмены фашистской конституции 1935 года и восстановления конституции 1921 года, провозгласившей элементарные демократические свободы. Берут отмечал, что делегация Польского комитета национального освобождения «всегда считала своей основной задачей реализацию, объединения польского народа и во имя этого принципа готова содействовать всем искренним стремлениям для осуществления этой идеи».
Делегация заявила о своем желании обеспечить существование дружественной Советскому Союзу и сильной Польши в границах по линии Керзона на востоке и по линии, включающей исконные польские земли, на западе. Она согласилась на образование польского правительства национального единства во главе с Миколайчиком, но при условии предоставления большинства мест в этом правительстве Польскому комитету национального освобождения. Советское правительство поддержало позицию Польского комитета национального освобождения. Однако представители польского эмигрантского правительства и лично Миколайчик категорически отвергли эти предложения. Чтобы добиться принятия своих предложений о составе будущего правительства, они пытались сделать предметом торга вопрос о советско-польской границе.
Во время этих переговоров английский премьер занял двусмысленную позицию. Он, с одной стороны, подчеркивал, что его правительство стоит за сохранение предложения об установлении границы между СССР и Польшей по линии Керзона, и даже заявил, что вопрос о советско-польской границе уже решен. Когда союзники встретятся за столом мирной конференции, утверждал он, Англия поддержит претензии русских на ту линию границы, которая была согласована еще в Тегеране. Черчилль добавил, что эта позиция утверждена английским кабинетом.
С другой стороны, Черчилль внес 16 октября на рассмотрение Советского правительства проект соглашения, в котором нашли отражение лишь ранее согласованные взгляды относительно польской границы на западе. Что же касается восточной границы, то в проекте говорилось, что «польское правительство принимает линию Керзона в качестве демаркационной линии между СССР и Польшей».
Советское правительство не могло согласиться с таким толкованием вопроса. Содержавшаяся в нем формулировка о линии Керзона лишь как о демаркационной линии была неприемлема, так как вопрос о границе оставался бы открытым. В результате никакого соглашения по польскому вопросу достигнуто не было.
Однако следует отметить, что в ходе переговоров была более полно выяснена позиция сторон по польскому вопросу и можно было надеяться на справедливое решение польской проблемы в будущем.
В этой связи стоит напомнить заявление, сделанное правительством СССР о советско-польских отношениях еще 11 января 1944 г. В нем говорилось: «5 января в Лондоне опубликовано заявление эмигрантского Польского Правительства по вопросу о советско-польских отношениях, в котором содержится ряд неправильных утверждений, в том числе неправильное утверждение о советско-польской границе. Как известно, Советская Конституция установила советско-польскую границу в соответствии с волей населения Западной Украины и Западной Белоруссии, выраженной в плебисците, проведенном на широких демократических началах в 1939 году. При этом территории Западной Украины, населенные в своем подавляющем большинстве украинцами, вошли в состав Советской Украины, а территории Западной Белоруссии, населенные в своем подавляющем большинстве белорусами, вошли в состав Советской Белоруссии. Несправедливость, допущенная Рижским договором 1921 года, который был навязан Советскому Союзу, в отношении украинцев, населяющих Западную Украину, и белорусов, населяющих Западную Белоруссию, была таким образом исправлена. Вхождение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав Советского Союза не только не нарушило интересов Польши, а наоборот — создало надежную основу для прочной и постоянной дружбы между польским народом и соседними с ним украинским, белорусским и русским народами».
В дополнение к этому заявлению была опубликована официальная справка о линии Керзона следующего содержания:
«„В Заявлении Советского Правительства о советско-польских отношениях“, опубликованном 11 января сего года, говорится о восточных границах Польши и указывается, что эти границы могут быть установлены по соглашению с Советским Союзом, причем Советское Правительство не считает неизменными границы 1939 года. В эти границы могут быть внесены исправления в пользу Польши в том направлении, чтобы районы, в которых преобладает польское население, были переданы Польше. В этом случае советско-польская граница могла бы пройти примерно по так называемой линии Керзона, которая была принята в 1919 году Верховным Советом Союзных Держав и которая предусматривает вхождение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав Советского Союза».
Что такое линия Керзона?
Вопрос о восточных границах Польши обсуждался на мирной конференции в Париже, открывшейся 18 января 1919 г. и закончившейся, как известно, заключением Версальского мирного договора. На этой конференции была создана специальная комиссия по польским делам под руководством французского посла в Берлине Жюля Камбона. При подготовке решения вопроса о польско-русской границе эта комиссия исходила из решения делегаций главных союзных держав — Англии, Франции, Соединенных Штатов Америки, Италии, Японии, считавших необходимым включить в состав территории Польши лишь этнографически польские области.
На основе вышеизложенного решения главных союзных держав территориальная комиссия Парижской мирной конференции выработала линию восточной границы Польши, которая была принята союзными державами уже после заключения Версальского мирного договора и опубликована в «Декларации Верховного Совета Союзных и Объединившихся держав по поводу временной восточной границы Польши» от 8 декабря 1919 г. за подписью председателя Верховного совета Ж. Клемансо. Позднее, в июле 1920 года, та же линия восточной границы Польши была подтверждена на конференции союзных держав в Спа и явилась основой для ноты британского министра иностранных дел Керзона о советско-польской границе, направленной им Советскому правительству 12 июля 1920 г.
Решения Верховного совета и конференции в Спа при определении линии советско-польской границы исходили из этнографического принципа, в соответствии с которым на западе от намеченной линии должны были находиться лишь области, населенные по преимуществу поляками, а на востоке — области, населенные в подавляющем большинстве украинцами и белорусами.
Но польские правящие круги претендовали также и на территории Западной Украины и Западной Белоруссии. Пользуясь тяжелым экономическим и военным положением молодой Советской республики, в 1920 году Польша напала на Советскую Россию. Получив, однако, мощный отпор и убедившись в бесперспективности затеянной ею войны, Польша обратилась к союзным правительствам за посредничеством в переговорах с Советским правительством. Тогда министр иностранных дел Англии Керзон направил указанную выше ноту Советскому правительству, в которой изложил примерную линию советско-польской границы, ставшую известной как линия Керзона.
Польское правительство не согласилось, однако, с границей по линии Керзона и продолжало войну против Советской России. Пользуясь тяжелым положением Советской страны, Польша навязала нам во время мирных переговоров в Риге в марте 1921 года другую границу, захватив западные области Советской Украины и Советской Белоруссии. Эта несправедливость, допущенная Рижским договором 1921 года в отношении украинцев, населяющих Западную Украину, и белорусов, населяющих Западную Белоруссию, была исправлена лишь в 1939 году, когда в соответствии с волей населения этих областей, выраженной в плебисците, проведенном на широких демократических началах, была установлена новая граница.
Переговоры с У. Черчиллем в Кремле в октябре 1944 г. Сидят слева направо: У. Черчилль, И. В. Сталин, А. Иден. Стоят: переводчик Бирз и Ф. Т. Гусев.
Переговоры, которые состоялись между польскими деятелями в Москве во время визита Черчилля, открывали возможность для решения проблемы. Однако Миколайчик и на этот раз занял негативную позицию. Он отказался признать советско-польскую границу по линии Керзона, сославшись на то, что должен проконсультироваться с коллегами в Лондоне. К тому же он не только требовал для себя поста премьер-министра, но и сверх того 50 % мест в правительстве. Черчилль и в этом поддержал его. Однако представители Польского комитета национального освобождения решительно отвергли такие домогательства. В конце концов Миколайчик вернулся в Лондон, так и не имея никакой договоренности.
Между советскими руководителями и Черчиллем состоялся также обмен мнениями относительно ведения военных действий против общего врага, что в целом положительно сказалось на дальнейшем развитии сотрудничества между союзниками.
Во время пребывания Черчилля в Москве Сталин принял приглашение на обед в посольство Великобритании в Москве, которое тогда, как и теперь, находилось на Софийской набережной. Это был совершенно беспрецедентный случай, так как обычно Сталин не ездил в иностранные посольства. На этот раз он, видимо, решил проявить особую любезность по отношению к Черчиллю.
Обед, на котором присутствовал также посол Гарриман, прошел в непринужденной, приподнятой атмосфере. Произнося тост в честь отсутствовавшего на этом торжестве президента США, Сталин высоко оценил вклад Соединенных Штатов в дело победы союзников. Было время, сказал Сталин, когда Великобритания и Россия могли друг с другом улаживать дела Европы. Вместе они нанесли поражение Наполеону. Они сражались вместе против немцев в первой мировой войне, но во второй мировой войне вклад США особенно важен.
Это заявление имело определенный подтекст: глава Советского правительства еще раз дал понять Черчиллю, что он не: намерен вступать с ним в сепаратные сделки насчет будущего Европы.
Итоги визита
Важнейшим военно-политическим итогом советско-английских переговоров в Москве в октябре, 1944 года было то, что стороны пришли, к соглашению о необходимости направить все усилия на ликвидацию отступавших с Балкан германских войск. Черчилль смог убедиться, что правительство СССР не намерено посылать свои войска в Грецию и на Адриатическое побережье и выведет войска из Югославии после выполнения стоящих перед ними задач.
В Москве главы правительств Советского Союза и, Англии обсудили также многие неурегулированные проблемы, касавшиеся балканских государств, и пришли по ним к соглашению. Были рассмотрены условия перемирия с Болгарией. Когда обсуждался вопрос о создании Союзной контрольной комиссии для Болгарии, Черчилль и Иден настаивали на равном положении в этой комиссии представителей США и Англии с представителями СССР. Советское правительство не пошло на это, сославшись на пример Союзной контрольной комиссии для Италии, где руководство принадлежало представителю англо-американского командования, и для Румынии, где председателем в Союзной контрольной комиссии был советский представитель. Естественно, что и в Союзной контрольной комиссии для Болгарии председательствовать должен был представитель Советского Верховного Главнокомандования. В конечном счете стороны достигли взаимоприемлемого соглашения об условиях перемирия в Болгарии.
Во время переговоров рассматривался вопрос о положении в Югославии. Англичане заявили о необходимости проведения согласованной политики в отношении этой страны. Иден рекомендовал направить послания Тито и Шубашичу с предложением встретиться на югославской территории и договориться об образовании единого югославского правительства. Советское правительство не возражало против этого.
Представители Великобритании предложили обсудить вопрос о будущем Германии, сославшись на то, что в Тегеране он был рассмотрен «очень поверхностно». Черчилль и Иден изложили план раздела Германии на три государства: Пруссию, Зону международного контроля в составе Рурской, Вестфальской и Саарской областей и Австро-Баварское государство с включением в него южногерманских провинций. Обосновывая план расчленения Германии, Черчилль указал, что, по его мнению, «причиной зла является Пруссия. Поэтому Пруссию надо отделить от Германии».
Предложение о создании Зоны международного контроля английские представители мотивировали тем, что Германию необходимо лишить промышленной мощи, которая позволила ей возродиться после первой мировой войны. Черчилль заявил, что считает справедливым восстановление хозяйства западных областей Советского Союза путем изъятия оборудования с германских предприятий.
Нетрудно было догадаться, что истинная цель плана раздела Германии состояла в стремлении Англии устранить Германию как опасного конкурента. Одновременно Черчилль выдвигал идею объединить в одну группу (в конфедерацию или федерацию) Польшу, Чехословакию, Австрию и Венгрию.
Советское правительство, соглашаясь с необходимостью уничтожения военно-промышленного потенциала Германии для обеспечения безопасности в Европе, отказалось, однако, принять какие-либо обязательства по ее расчленению. Дальнейшее рассмотрение германского вопроса было отложено до встречи руководителей трех держав.
Что касается высказывания Черчилля об объединении ряда государств в конфедерацию или федерацию, то тут нельзя было не усматривать попытки создания антисоветского «санитарного кордона» после войны. В связи с обсуждением этого вопроса Сталин заявил Черчиллю и Идену, что «сейчас невозможно думать об объединениях, тем более что освобожденные от фашистского ига народы, естественно, захотят жить полной национальной жизнью, без помех».
Во время бесед рассматривался также вопрос о перспективах ведения военных действий. Представители Англии, СССР и США сделали обзор положения на фронтах и сообщили о выполнении военных планов, согласованных ранее в Тегеране. Была выражена твердая уверенность в успешном развитии союзных операций на всех фронтах.
Обсуждался также вопрос о будущем вкладе СССР в поражение Японии. Военные действия на Тихом океане развивались в целом неплохо. Западными союзниками были одержаны крупные морские победы, сильно ослабившие Японию. Ее растянутые линии снабжения постоянно подвергались атакам. Более половины торгового флота Японии было потоплено. Однако британские и американские начальники штабов понимали, что окончательную победу удастся одержать лишь тогда, когда будут разбиты мощные японские армии, находившиеся в Китае, Маньчжурии и на собственно Японских островах. В этой конечной кампании решающую роль должны были сыграть Советские Вооруженные Силы.
При предварительном обмене мнениями с Черчиллем по этому вопросу присутствовавший на беседе Гарриман настаивал на консультациях с< участием американцев. Он заявил, что, поскольку США несут главное бремя тихоокеанской войны, именно они должны принимать наиболее активное участие в предстоящих переговорах по этой проблеме. В конце концов, Черчилль с этим согласился и во время встречи 14 октября с главой Советского правительства американскому генералу ну было поручено сделать обзор военных действий на тихоокеанском театре. Доложив обстановку, генерал Дин по поручению Верховного командования Соединенных Штатов поставил перед Сталиным три вопроса:
1. Сколько понадобится времени после поражения Германии до вступления Советского Союза в войну против Японии?
2. Сколько потребуется времени для наращивания удара советских войск после того, как они смогут начать наступление?
3. Какая часть пропускной способности транссибирской железной дороги может быть использована для накапливания сил, а также средств поддержки американской стратегической авиации?
Когда англичане и американцы покидали Кремль, Черчилль покровительственным тоном сказал генералу Дину:
— Молодой человек, я восхищен смелостью, которую вы проявили, задавая Сталину эти три вопроса. Но я не думаю, что вы получите на них ответы, хотя их и был смысл поставить…
Черчилль ошибся. На следующий день Сталин ответ дал. Он сказал, что потребуется три месяца после поражения Германии до того момента, когда Красная Армия сможет предпринять наступательные действия против Японии. Для этого необходимо создать резервы снабжения, которые следует накопить в Сибири и которые должны быть достаточными для трехмесячных операций. Только после этого можно будет начать военные действия. В соответствии с этим, учитывая ограниченные возможности транссибирской магистрали, базы, предоставляемые в Приморье американским военно-воздушным силам, придется снабжать самим американцам через океан. Для этого, пояснил Сталин, Соединенные Штаты смогут использовать порт Петропавловск-на-Камчатке. Еще раз подтвердив, что Красная Армия начнет военные действия против Японии через три месяца после поражения Гитлера, Сталин добавил, что при этом должны быть соблюдены два условия: Соединенные Штаты помогут в накапливании крупных резервов снабжения в Сибири и будет внесена ясность в политические аспекты участия Советского Союза в этой войне.
— Русские должны знать, за что они воюют, — сказал Сталин. — Мы имеем определенный счет для предъявления Японии…
Еще во время Тегеранской конференции при обсуждении перспектив войны против Японии Сталин спросил Рузвельта и Черчилля, что готовы сделать союзники для СССР на Дальнем Востоке, где наша страна не имеет свободного выхода в океан. Рузвельт упомянул тогда возможность превращения Дайрена в «свободный порт». Черчилль высказался в более общей форме, заметив, что «законные нужды России должны быть удовлетворены».
Тот факт, что в октябре 1944 года Сталин поставил вопрос не только в чисто военном, но и в политическом плане, дав ясно понять, что СССР необходим свободный выход в океан, не был неожиданным ни для Лондона, ни для Вашингтона. К тому же британские и американские политики не могли не заметить повышенного интереса советской общественности к Дальнему Востоку и к некоторым историческим аспектам в этом регионе. Именно в это время в Советском Союзе стала бестселлером книга Степанова «Порт-Артур», представлявшая собой, по сути дела, воспоминания участника русско-японской войны 1904–1905 годов, облеченные в форму романа. Все, кто тогда прочел эту объемистую книгу, как бы прикоснулись к событиям сорокалетней давности, переживая по поводу поражений, которые из-за нерадивости царских властей терпели русская армия и флот, между тем как солдаты, матросы и офицеры героически исполняли свой воинский долг. Советские люди хорошо помнили и годы интервенции на Дальнем Востоке, все то зло, которое причинили японские самураи нашей родине. И когда Красная Армия вступила в войну против империалистической Японии, произнесенные тогда в Кремле слова о том, что старшее поколение 40 лет ждало этого момента, были с пониманием встречены советским народом.
Обсуждение всех этих вопросов с Черчиллем и Гарриманом в октябре 1944 года позволило лучше выяснить позиции сторон и имело, несомненно, важное значение для совместных решений, принятых впоследствии тремя союзными державами.
ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Перед новой встречей трех
Вопрос о новой встрече глав правительств трех великих держав стал активно обсуждаться с осени 1944 года. После Тегеранской конференции произошло множество важных событий. Вооруженные силы союзных держав одерживали все новые блестящие победы. Красная Армия очистила от захватчиков советские земли и завершала изгнание фашистских войск из восточноевропейских государств. Приближался час победы антигитлеровской коалиции в этой невиданной по своим масштабам и жертвам вооруженной схватке. И хотя еще предстояли тяжелые сражения и с гитлеровской Германией, и с милитаристской Японией, проблемы послевоенного устройства все больше выдвигались на первый план.
Вместе с тем сильнее давали себя знать и противоречия внутри антигитлеровской коалиции. В значительной мере они были связаны с попытками империалистических сил сохранить свое господство в мире и с этой целью по возможности ослабить Советский Союз, уменьшить его влияние на мировой арене. Важным элементом такого курса были и попытки подавить прогрессивные движения в странах, освобождающихся от фашистского порабощения, навязать народам этих стран реакционные режимы, послушные западным державам. Наконец, немаловажное значение имели и различные тенденции внутри правящих группировок западных держав. Особенно явственно они наблюдались в руководящем ядре Соединенных Штатов. Там происходило размежевание на сторонников послевоенного сотрудничества с Советским Союзом и на приверженцев «жесткого курса» и конфронтации с СССР, вплоть до развязывания войны против социалистической державы.
В этой обстановке встреча «большой тройки» приобретала особое значение. Практическая подготовка к ней осложнялась, однако, двумя факторами: предстоявшими в США в ноябре 1944 года президентскими выборами и трудностями, связанными с согласованием места проведения конференции.
Во время беседы со Сталиным 23 сентября 1944 г. Гарриман, выполняя инструкцию Рузвельта, сказал, что президент думает о ноябре как о возможном времени встречи. Поскольку, однако, это время года слишком позднее для Аляски, которая предлагалась американцами, он теперь рекомендует провести совещание где-нибудь в Средиземноморье. Сталин ответил, что такая встреча была бы желательна, но он опасается, что врачи не разрешат ему совершить столь далекое путешествие.
— Сказывается возраст, — пожаловался он. — В прошлые годы я мог справиться с гриппом за два-три дня, а теперь болезнь затягивается на неделю, а то и две.
Гарриман упомянул о целебных свойствах средиземноморского солнца. Тогда Сталин заметил, что врачи считают любую перемену климата опасной. Он предложил направить на встречу Молотова, который, добавил Сталин, пользуется его полным доверием. На это присутствовавший на беседе нарком иностранных дел возразил, что он никогда не сможет заменить маршала Сталина.
— Ты слишком скромен, — сказал Сталин, обращаясь к Молотову.
Гарриман принялся пояснять, что хотя президент всегда рад встретиться с Молотовым, он надеется, что в Кремле еще раз взвесят ситуацию.
Переговоры британского премьера в Кремле в октябре не могли, конечно, заменить встречу «большой тройки». Вопрос о такой встрече был снова поднят американским послом в дни пребывания Черчилля в Москве. Причем Гарриман намекнул на возможность приезда Рузвельта в район Черного моря. Он сослался при этом на Гарри Гопкинса, который высказал эти же соображения советскому послу в Вашингтоне А. А. Громыко.
Такой вариант вполне устраивал Сталина, о чем он и написал Рузвельту 19 октября 1944 г.: «Посол Громыко информировал меня о недавней своей беседе с г-ном Гопкинсом, в которой Гопкинс высказал мысль о том, что Вы могли бы прибыть в конце ноября в Черное море и встретиться со мной на советском черноморском побережье. Я весьма приветствовал бы осуществление этого намерения. Из беседы с Премьер-Министром я убедился, что он также разделяет эту мысль. Таким образом, в конце ноября могла бы состояться встреча нас троих, чтобы рассмотреть накопившиеся… после Тегерана вопросы. Я буду рад получить от Вас сообщение об этом».
Ответ от президента был получен в Москве 25 октября. В нем выражалась уверенность, что успех, достигнутый советским и британским руководителями во время недавнего визита Черчилля в Москву, «облегчит и ускорит нашу работу при следующей встрече, когда мы втроем должны будем прийти к полному соглашению о наших будущих действиях, политике и взаимных интересах».
По вопросу о подготовке такого совещания Рузвельт указывал, что следует «изучить вопрос пригодности различных пунктов, где можно устроить нашу ноябрьскую встречу, то есть с точки зрения наличия жилых помещений, безопасности, доступности и т. д. Я был бы признателен за Ваши предложения, — продолжал Рузвельт. — Я рассматривал вопрос о пригодности Кипра, Афин или Мальты на тот случай, если бы мое прибытие в Черное море… оказалось слишком трудным или неосуществимым. Я предпочитаю совершать поездки и жить на корабле. Нам известно, что условия на Кипре и Мальте с точки зрения безопасности и жилья удовлетворительны.
Я с большим удовольствием ожидаю новой встречи с Вами. Я был бы рад получить Ваш совет и предложения». Спустя четыре дня глава Советского правительства направил президенту ответ, в котором продолжал настаивать на своем варианте. Он подчеркивал, что условия для встречи на советском черноморском побережье вполне благоприятны, и выражал надежду, что ко времени встречи можно будет обеспечить безопасный доступ президентского корабля к месту назначения. Вопрос о месте встречи так и остался открытым.
Тем временем в США состоялись президентские выборы, принесшие победу Рузвельту. Поздравляя его по этому случаю, глава Советского правительства выразил уверенность, что под испытанным руководством Рузвельта «американский народ завершит совместно с народами Советского Союза, Великобритании и других демократических стран дело борьбы против общего врага и обеспечит победу во имя освобождения человечества от нацистской тирании».
В последующем у Рузвельта возникли новые идеи относительно сроков встречи трех. В телеграмме, адресованной Сталину и полученной в Москве 19 ноября, президент высказывал мысль о том, что было бы более удобно отложить встречу на время после его формального вступления в должность 20 января. Поэтому предлагалось собраться в подходящем месте 28 или 30 января 1945 года. Рузвельт сообщил, что американские военно-морские органы решительно высказываются против Черного моря. Они, пояснял президент, не хотят идти на проход через Эгейское море и Дарданеллы крупного корабля, так как это потребовало бы очень сильного эскорта, в котором ощущается большая нужда в других местах. Далее президент сообщал, что Черчилль предложил в качестве места встречи Александрию, Иерусалим или Афины. Он указывал также, что не следует откладывать встречу на более поздний срок, чем конец января или начало февраля, и выражал надежду, что к этому времени Сталин сможет совершить поездку до какого-нибудь пункта в Средиземноморье. «Мне, — говорилось в послании, — доступен почти любой пункт в районе Средиземного моря, где я могу находиться на таком расстоянии от Вашингтона, которое будет невелико для авиасвязи, с тем чтобы я мог исполнять свои обязанности в отношении законодательства — вопрос, с которым Вы знакомы».
В итоге этого обмена мнений вопрос о времени и месте встречи «большой тройки» стал еще более неопределенным. Ведь совершенно очевидно, что в условиях развернувшегося на советско-германском фронте широкого наступления Красной Армии и происходивших на ряде участков ожесточенных сражений глава Советского правительства, являвшийся также и Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами, никак не мог себе позволить длительные экзотические путешествия, подобные тем, которые так красочно описывал Рузвельт.
Впрочем, и сам президент понимал, что его рассуждения не очень-то убедительны. Он выдвигал новые предложения о месте встречи скорее для того, чтобы утихомирить противников его политики в самом Вашингтоне. Об этом весьма откровенно писал Гопкинс:
«…Все ближайшие советники президента были против его поездки в Россию; большинству не нравились русские или они, во всяком случае, не доверяли им. Они не могли понять, зачем президенту Соединенных Штатов разъезжать по всему свету, чтобы встретиться со Сталиным. Эти доводы для меня ничего не значили. Самое главное было в том, чтобы встреча состоялась. Невозможно было провести встречу где-либо помимо Крыма. Советники президента немало критиковали меня, когда узнали, что именно я разговаривал с Громыко относительно возможности отправиться в Крым. Когда они насели на президента, пытаясь заставить его не ехать, президент снова стал лавировать и выдвинул множество контрпредложений, ни одно из которых не имело смысла. Я был уверен, что президент в конечном счете отправится в Крым. И основная причина тут в том, что в этой части света он никогда не бывал, а его авантюрная душа всегда влекла его в необычные места. К тому же, поскольку выборы миновали, его решение больше не осложнялось политическими соображениями».
23 ноября Сталин послал Рузвельту краткий и твердый ответ: «Очень жаль, что Ваши военно-морские органы сомневаются в целесообразности Вашего первоначального предположения о том, чтобы местом встречи нас троих избрать советское побережье Черного моря. Предлагаемое Вами время встречи в конце января или в начале февраля у меня не вызывает возражений, но при этом я имею в виду, что нам удастся избрать местом встречи один из советских портовых городов. Мне все еще приходится считаться с советами врачей об опасности дальних поездок».
В конце концов Рузвельт объявил о согласии. 27 декабря он дал Гарриману инструкцию сообщить главе Советского правительства, что готов прибыть на встречу «большой тройки» в Ялту в феврале. В целях конспирации было условлено впредь именовать эту встречу кодовым названием «Аргонавт»…(позднее дали новое название — «Магнето»). Началась активная подготовка к Ялтинской конференции. Ее участники условились не приглашать представителей прессы, а ограничиться фотокорреспондентами.
В Крыму приготовления шли полным ходом. Главные заботы легли на плечи советской стороны, хотя в подготовке соответствующих жилых помещений участвовали также американцы и англичане. Рузвельту предоставили апартаменты в Ливадии, где проходили и пленарные заседания конференции. Черчилль получил в свое распоряжение Воронцовский дворец в Алупке. Глава советской делегации разместился на вилле в Кореизе.
Надо иметь в виду, что Крым лишь незадолго до того был освобожден от гитлеровских захватчиков. Повсюду еще оставались следы ужасных разрушений, разбоя и грабежа. Для оборудования отведенных для конференции и делегаций зданий всем необходимым была проделана огромная работа. Нужно было отобрать и доставить мебель, капитально отремонтировать помещения, водопровод, расчистить прилегающую территорию. Наконец, необходимо было осуществить надлежащие меры по обеспечению безопасности глав правительств и других участников конференции. Все это было проделано советскими властями на высоком уровне и в очень сжатые сроки. Многие из участников Ялтинской конференции впоследствии в своих мемуарах отдавали должное работе по обеспечению нормальной деятельности делегаций.
Наряду с технической подготовкой новой встречи «большой тройки» в предшествующие ей недели проходил, также интенсивный обмен мнениями по основным политическим проблемам.
Для такого обмена мнениями частично были использованы переговоры с Черчиллем в Москве. В последующие месяцы шла оживленная переписка, а также встречи советских руководителей с послами США и Англии. Американцы проявляли особый интерес к тому, чтобы договориться с Советским правительством о вступлении СССР в войну против Японии. В свою очередь советская сторона отстаивала свои интересы на Дальнем Востоке.
Позиция СССР была несколько уточнена во время визита посла Гарримана к главе Советского правительства 14 декабря 1944 г.
Действуя по инструкции президента, Гарриман спросил, каковы требования Советского Союза на Дальнем Востоке. Подойдя к карте, Сталин сказал, что Южный Сахалин и Курильские острова должны быть возвращены России. При этом он подчеркнул, что сейчас подступы к Владивостоку полностью контролируются японцами. СССР, продолжал Сталин, вправе рассчитывать на защиту путей, ведущих в этот важный порт. Между тем в настоящее время все выходы в Тихий океан блокирует противник. Наконец, заключил Сталин, Советский Союз желает снова арендовать Дайрен и Порт-Артур с окружающими их территориями.
Гарриман ответил, что, насколько он помнит, в Тегеране этот вопрос обсуждался, и Рузвельт согласился тогда, что Советский Союз нуждается в доступе к незамерзающим портам Тихого океана. С другой стороны, добавил Гарриман, как он полагает, президент имел в виду не аренду этих районов Советским Союзом, а скорее превращение их в международные свободные порты.
Сталин в ответ сказал, что советская сторона хотела бы также арендовать построенную в свое время русскими железную дорогу от Дайрена до Харбина и далее на северо-запад. Сталин пояснил, что СССР не намерен вмешиваться во внутренние дела или нарушать суверенитет Китая в Маньчжурии. В руководстве США были, конечно, определенные элементы, стремившиеся не допустить усиления советского влияния на Дальнем Востоке. Они считали, что контроль над железнодорожными путями в этом районе может привести к размещению там советских войск и это скажется на развитии политической ситуации в Китае и приведет к успехам «китайской красной армии» в борьбе против гоминдановцев. Учитывая активность этих кругов, Гарриман рекомендовал Вашингтону запросить у Москвы более подробную дополнительную информацию относительно претензий СССР на Дальнем Востоке. Однако ответа на свое предложение посол не получил. Правительство США сочло целесообразным ограничиться теми сведениями, которые оно получило в результате приведенной выше беседы в Кремле. Видимо, тут сыграла роль заинтересованность Вашингтона в скорейшем вступлении Советского Союза в войну против Японии. Имело значение и то, что германское командование как раз в тот момент начало мощное наступление в Арденнах, поставив генерала Эйзенхауэра, командовавшего англо-американскими войсками в Западной Европе, в весьма затруднительное положение. Американо-британский генералитет бомбардировал Лондон и Вашингтон запросами относительно советских планов. По существу, то была настоятельная просьба о помощи. 24 декабря Рузвельт направил Сталину послание, в котором просил «ввиду крайней срочности дела» принять высшего офицера из штаб-квартиры генерала Эйзенхауэра «для обсуждения с Вами положения дел у Эйзенхауэра на западном фронте и вопроса о взаимодействии с восточным фронтом». Советское правительство сразу же дало согласие, и в Москву был направлен британский главный маршал авиации А. Теддер. Еще до его прибытия в советскую столицу 6 января 1945 г. Черчилль обратился к главе Советского правительства со специальным посланием. «На Западе, — сообщил он, — идут очень тяжелые бои… Генералу Эйзенхауэру очень желательно и необходимо знать в общих чертах, что Вы предполагаете делать, так как это, конечно, отразится на всех его и наших важнейших решениях; Согласно полученному сообщению наш эмиссар главный маршал авиации Теддер вчера вечером находился в. Каире, будучи связанным погодой… Если он еще не прибыл к Вам, я буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января… Я считаю дело срочным».
На следующий день Сталин ответил Черчиллю: «Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем все, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам».
Советское командование тщательно готовило эту операцию, имевшую целью полное освобождение Польши. Теперь оно решило сократить до минимума сроки подготовки наступления. 12–15 января Красная Армия широким фронтом протяженностью в 700 км вновь двинулась на запад. К 1 февраля в направлении главного удара советские войска продвинулись на 500 км, освободили столицу Польши Варшаву и вышли на реку Одер.
Когда 15 января Теддер и его группа прибыли наконец в Москву, наступление на советско-германском фронте было в полном разгаре. На первой же встрече в Кремле глава Советского правительства сообщил американо-британскому эмиссару, что советское командование использует крупные силы, способные вести, наступление на протяжении, двух месяцев или даже большего срока. Затем собеседники обменялись информацией по ряду вопросов — о состоянии германских резервов, о нехватке обученных пилотов у «люфтваффе», о координации сроков весенних операций на обоих фронтах. Теддер поблагодарил за помощь союзным войскам, оказавшимся в трудном положении.
— У нас нет письменного соглашения, но мы — боевые товарищи, — ответил Сталин. — Правильно, разумно и в обоюдных интересах помогать друг другу в трудные моменты. Было бы глупо, если бы я стоял в стороне и дал возможность гитлеровцам уничтожить вас. Равным образом в ваших интересах сделать все возможное для того, чтобы не дозволить немцам уничтожить нас…
Надо полагать, главному маршалу авиации Теддеру было не очень-то приятно выслушать эти слова, в которых сквозил намек на союзников, долгие годы тянувших с открытием второго фронта и стоявших в стороне, когда наша страна находилась в особенно тяжелом положении.
Сразу же после этой встречи Сталин направил Рузвельту телеграмму, в которой говорилось:
«Сегодня, 15 января, имел беседу с маршалом Теддером и сопровождавшими его генералами. Как мне кажется, взаимная информация получилась достаточно полная. С обеих сторон были даны исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. Должен сказать, что маршал Теддер производит самое благоприятное впечатление.
После четырех дней наступательных операций на советско-германском фронте я имею теперь возможность сообщить Вам, что, несмотря на неблагоприятную погоду, наступление советских войск развертывается удовлетворительно. Весь центральный фронт, от Карпат до Балтийского моря, находится в движении на запад. Хотя немцы сопротивляются отчаянно, они все же вынуждены отступать. Не сомневаюсь, что немцам придется разбросать свои резервы между двумя фронтами, в результате чего они будут вынуждены отказаться от наступления на западном фронте. Я рад, что это обстоятельство облегчит положение союзных войск на западе…».
В ходе консультаций, предшествовавших встрече в Крыму, затрагивались и проблемы послевоенного устройства. Поскольку на конференции в Думбартон-Оксе не удалось достичь договоренности относительно процедуры голосования в Совете Безопасности — новой международной организации, предпринимались усилия с целью сблизить позиции и выработать взаимоприемлемую формулу. Немалые надежды возлагались и на предстоящий личный контакт высших руководителей трех держав.
В Вашингтоне шла оживленная дискуссия о послевоенном устройстве. В конце октября Гарриман получил письмо от своего личного друга Джеймса Форрестолз — тогдашнего министра военно-морского флота США, в котором говорилось:
«В Думбартон-Оксе была проделана хорошая работа, хотя она еще далеко не закончена. Я думаю, что имеется общее согласие, что Англия, Россия и мы должны сотрудничать. Это потребует терпения и выдержки каждого из нас, тем более что напряженность и трудности станут увеличиваться все больше, по мере того как мы будем удаляться от общей опасности, угрожающей нам всем… Здесь существует большое восхищение Россией и, я думаю, честное желание даже со стороны так называемых „капиталистических кругов“ прийти к договоренности. Некоторые из энтузиастов скорее мешают, чем помогают нам достигнуть тех результатов, к которым мы стремимся. Эти результаты, как я их понимаю, состоят в реалистическом подходе и здравом смысле, в осознании того, что совместно мы трое (то есть три великие державы. — В. Б.) можем обеспечить мир во всем мире на многие годы. Но если мы разойдемся в разные стороны, новая война неизбежно возникнет в будущем».
В последующем Дж. Форрестол, как и многие другие политические деятели, вошедшие в кабинет президента Трумэна, оказался зараженным вирусом «холодной войны». Но в 1944, году он, как мы убедились, разделял господствовавшее в администрации Рузвельта мнение о возможности и даже необходимости послевоенного сотрудничества между главными участниками антигитлеровской коалиции.
Одновременно в столице США происходил обмен мнениями относительно будущих двусторонних отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Эта проблема особенно волновала президента Рузвельта, который не раз высказывался в пользу взаимовыгодного сотрудничества и создания солидной экономической базы для советско-американских отношений. 10 января 1945 г. тогдашний министр финансов США Генри Моргентау направил в Белый дом проект плана, предусматривавшего предоставление СССР кредитов на весьма льготных условиях. Речь шла о 10 млрд. долл. при 2 % годовых со сроком выплаты в 35 лет. Неделю спустя Г. Моргентау посетил нового государственного секретаря США Эдварда Стеттиниуса, с которым обсудил этот план. Излагая свои соображения, Моргентау сказал, что его цель — убедить Советское правительство в решимости США сотрудничать с СССР в послевоенный период. «Настало время, — заявил он, — четко изложить наши благоприятные предложения, которые были бы рассмотрены Советским правительством как конкретный жест нашей доброй воли».
Вскоре помощник государственного секретаря Клейтон уведомил Гарримана, что президент чрезвычайно заинтересован в идее предоставления крупного кредита СССР, но что ничего не следует предпринимать, пока он сам не обсудит весь этот вопрос лично со Сталиным в Ялте.
Что касается Черчилля, то он, готовясь к «Аргонавту», особенно хлопотал насчет предварительных переговоров с американцами в целях создания на предстоящей конференции единого фронта против Советского Союза. Зная, что Рузвельт холодно относится к этой идее, Черчилль предложил провести на Мальте совещание начальников объединенных штабов США и Великобритании, в котором могли бы также принять участие английский премьер и президент США накануне отлета в Крым. По этому поводу Черчилль писал Рузвельту, что двум западным лидерам следует обсудить «некоторые вопросы, не касающиеся русских».
Президент Рузвельт отклонил это предложение. Он ответил, что при самых благоприятных погодных условиях не сможет прибыть на Мальту с достаточным запасом времени и что поэтому ему придется сразу же отправляться дальше, чтобы поспеть в Ялту к сроку, согласованному со Сталиным. Тем не менее Черчилль продолжал настаивать на своем. 8 января он послал президенту новую телеграмму, убеждая его в необходимости проведения предварительного англо-американского совещания хотя бы на уровне министров иностранных дел. Чтобы успокоить американцев, Черчилль писал о возможности пригласить на эту встречу и Молотова. После этого президент пошел на частичную уступку: Он согласился, чтобы американские генералы Кинг, Арнольд и Маршалл прибыли для встречи-с британскими коллегами на несколько дней раньше и обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Однако Рузвельт отклонил идею встречи министров иностранных дел.
Он пояснил, что в отсутствие президента государственный секретарь должен оставаться в Вашингтоне и вылетит на конференцию в самый последний, момент. Все же, уступая новым просьбам Черчилля, президент Рузвельт обещал направить в Лондон в качестве своего личного представителя Гарри Гопкинса. 21 января Г. Гопкинс прибыл в столицу Англии. Он обсудил с Черчиллем и Иденом не только вопросы, стоявшие на повестке дня «большой тройки», но также и некоторые проблемы англо-американских отношений. В частности, речь шла о действиях английских властей в Италии, вызвавших отрицательную реакцию Вашингтона.
Суть дела заключалась в том, что англичане стремились сохранить на итальянском троне короля Виктора-Эммануила, санкционировавшего в свое время фашистский режим Муссолини. Вашингтон считал это не очень удобным и предлагал создать в Италии более либеральный правительственный фасад. С этой целью США организовали прибытие в Рим находившегося в эмиграции известного буржуазного политического деятеля графа Сфорца. Однако англичане не допустили его в правительство, созданное ими в Риме, что и побудило незадолго до того назначенного государственным секретарем США Э. Стеттиниуса выступить с соответствующим заявлением. Это взорвало Черчилля, который обрушился на американцев в одном из своих личных посланий президенту.
«Меня сильно задело то, — писал Черчилль, — что разногласия в отношении графа Сфорца стали поводом для попытки государственного департамента публично сделать выговор правительству Его Величества. В условиях исключительно опасной военной ситуации, создавшейся в настоящее время, было бы очень прискорбно, если бы нам приходилось разглашать в процессе публичного спора естественные разногласия, неизбежно возникающие в действиях такого великого союза. Я не припомню ни одного высказывания государственного департамента о России или любом другом союзном государстве, подобного данному документу, которым г-н Стеттиниус ознаменовал свое вступление в должность».
Гопкинсу стоило немалого труда успокоить Черчилля и несколько приглушить англо-американские противоречия в этом регионе.
Из Лондона Гопкинс отправился в Париж для встречи с, де Голлем. Известно, что правительство США, делавшее ставку на генерала Жиро, не жаловало де Голля, и Гопкинс хотел выяснить перспективы отношений США с Францией. Затем Гопкинс посетил Рим, где имел аудиенцию у папы Пия XII, а также более детально ознакомился с ситуацией в Италии.
31 января Гопкинс прилетел на Мальту, где согласно достигнутой ранее договоренности состоялись переговоры начальников объединенных штабов Великобритании и США. Но этим дело не ограничилось. Черчилль все же добился встречи с Рузвельтом, хотя тот и противился этому, не желая создавать в Москве впечатление о предварительном англо-американском сговоре. Когда президент и сопровождавшие его лица прибыли 2 февраля на американском тяжелом крейсере «Куинси» в порт Ла-Валлетта, на рейде уже стоял британский корабль «Орион» с Черчиллем на борту. Встреча двух лидеров состоялась в тот же день в 6 часов вечера на крейсере «Куинси».
В ходе обсуждения военной ситуации в Европе Черчилль убеждал президента поскорее оккупировать как можно большую часть австрийской территории, чтобы задержать продвижение Красной Армии. Рузвельт не проявил особого энтузиазма. Крайние авантюры Черчилля явно претили ему. Они не согласовывались с высокими целями послевоенного сотрудничества великих держав, на которые он рассчитывал после победы над общим врагом.
Вечером Рузвельт пригласил британских представителей на обед в кают-компанию крейсера. За столом, как свидетельствуют участники этой трапезы, дело ограничилось лишь обменом мнениями в самой общей форме по вопросам, которые должны были обсуждаться в Ялте. Глубокой ночью делегации отправились в дальний путь. Самолеты стартовали один за другим каждые десять минут. Им предстояло пересечь Средиземное и Черное моря. На аэродром Саки, близ Симферополя, самолет Черчилля прибыл одним из первых, и британский премьер находился среди лиц, встречавших президента. «Священная корова» подрулила к скромному зданию аэровокзала, в почти касавшемся бетона фюзеляже открылись двери и в проеме появился Рузвельт. Его снесли по трапу вниз и усадили в джип. Машина медленно двигалась вдоль почетного караула. Рядом шли Черчилль и Молотов, приветствовавшие высоких гостей на советской земле.
После торжественной церемонии встречи на аэродроме делегации разместились по машинам и направились в Ялту. В то время еще не было нынешней широкой автострады и путешествие по узкому, извилистому шоссе заняло почти 9 часов, На перевале была сделана кратковременная остановка. Все направились в просторное помещение, где был подан ланч. Черчилль отмечает в своем дневнике, что не ожидал от русских такой предусмотрительности и потому еще в самолете запасся сэндвичами. Вместе с личным врачом лордом Мораном, с которым они ехали в одной машине, они съели бутерброды вскоре после выезда из Симферополя. Однако, пишет Черчилль, русский ланч был столь хорош, что он, хотя и не чувствовал голода, никак не мог от него отказаться.
Немного передохнув, двинулись дальше. Вдоль петлявшего шоссе через равные промежутки стояли регулировщицы в военной форме и солдаты войск охраны. Наконец кортеж достиг цели.
За и против
Проходившая с 4 по 11 февраля 1945 г. Ялтинская конференция заняла важное место в дипломатической истории второй мировой, войны. Это была вторая встреча руководителей трех великих держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Англии, и она, так же как и Тегеранская конференция, прошла под знаком преобладания тенденции к выработке согласованных решений как в деле организации окончательной победы, так ив области послевоенного устройства.
Впоследствии в годы «холодной войны» противники сотрудничества с Советским Союзом по обе стороны Атлантики приложили немало сил к тому, чтобы опорочить ялтинские решения. Они пытались изобразить дело так, будто западные державы сдали в Крыму свои позиции, позволив советской стороне извлечь всю выгоду «в ущерб Западу». Тогда же была пущена в обращение легенда о «больном человеке в Ялте» — президенте Рузвельте, который, дескать, из-за тяжелого состояния здоровья вообще не ведал, что творил, и не мог оценить последствий решений конференции.
Эта легенда до сих пор имеет приверженцев, хотя она и была в свое время авторитетно опровергнута. Когда «большая тройка» встретилась в Крыму, Рузвельту действительно оставалось жить менее чем два месяца. Однако резкое ухудшение здоровья наступило лишь в самые последние недели его жизни. Что же касается Ялтинской конференции, то личный врач президента, находившийся с ним в Ливадии, доктор Говард Бруэн утверждал, что состояние здоровья Рузвельта было нормальным, «его легкие были чистыми, а сердечная деятельность и кровяное давление — без изменений». То же свидетельствует и супруга президента Элеонора Рузвельт: «Франклин глубоко надеялся, что на этой конференции он сможет достичь подлинного прогресса, в деле укрепления личных взаимоотношений с маршалом Сталиным… Он понимал, что переговоры неизбежно должны включать элемент торга, но он отлично умел торговаться, хорошо играл в покер и любил игру переговоров. Я уверена, что даже на Ялтинской конференции необходимость скрестить шпагу своего интеллекта с другими стимулировала его и способствовала бодрому состоянию духа и заинтересованности, каким бы ни был он порой усталым».
Стоит отметить еще одну версию, распространявшуюся апологетами «холодной войны». Советский Союз будто бы впоследствии нарушил ялтинские решения, что, дескать, и привело к отчуждению между союзниками военного времени. Тут явно не сходятся концы с концами. Ибо если решения Крымской конференции были выгодны Советскому Союзу, то непонятно, зачем ему понадобилось их нарушать. Впрочем, бессмысленно было бы искать здесь логику. Выполнялся социальный заказ: любыми средствами дискредитировать соглашения, совместно принятые военными союзниками в Крыму. Суть заключалась в том, что эти соглашения были бельмом на глазу у тех, кто в Вашингтоне и Лондоне решил круто повернуть курс от сотрудничества к конфронтации с Советским Союзом.
Еще в канун ялтинской встречи в США и Англии активно действовали силы, стремившиеся не допустить договоренности между тремя главными участниками антигитлеровской коалиции. Сокрушительные удары, которые Красная Армия наносила гитлеровцам, стремительное продвижение советских войск на запад, освобождение Красной Армией территории ряда восточноевропейских государств — все это всполошило, те круги, которые усматривали в укреплении роли Советского государства угрозу своим социальным привилегиям и империалистическим амбициям. Они считали, что настало время занять по отношению к Москве «жесткую позицию».
Именно в таком духе составил свою записку, посланную в Ялту, тогдашний советник посольства США в Москве Джордж Кеннан. Сейчас Дж. Кеннан склонен критически относиться к некоторым грехам своей молодости. Но в 40-х годах он был общепризнанным идеологом «холодной войны». Вот что писал тогда Кеннан американским участникам ялтинской встречи: «Я вполне осознаю реальности этой войны, а также тот факт, что мы слишком слабы, чтобы выиграть ее без сотрудничества России. Я признаю, что военные усилия России блестящи и эффективны и должны в определенной степени быть вознаграждены… Но наряду с этим я не вижу необходимости связывать нас с политической программой, столь враждебной интересам атлантического сообщества в целом, столь опасной для всего, что мы хотим сохранить в Европе». Далее Кеннан выдвигал следующую программу:
1. Планы учреждения Организации Объединенных Наций следует «похоронить как можно скорее», поскольку единственным практическим результатом создания международной организации будет обязательство Соединенных Штатов защищать «раздутую и нездоровую русскую сферу влияния».
2. Необходимо разъяснить американскому народу ошибочность мнения, будто безопасность мира зависит от принятия нами безоговорочных обязательств использовать наши вооруженные силы в каких-то конкретных обстоятельствах, предусмотренных неким юридическим документом. Соединенные Штаты должны сохранить право самим решать, где следует использовать наши вооруженные силы.
3. Соединенным Штатам придется «списать» Восточную и Юго-Восточную Европу, если они не будут обладать волей «идти до конца» и сопротивляться всеми физическими и дипломатическими ресурсами установлению русского влияния в этом районе.
4. Соединенные Штаты, должны принять как свершившийся факт полный раздел Германии и начать консультации с англичанами и французами о создании западноевропейской федерации, включающей западные районы Германии.
По сути дела, это была программа раскола мира на два враждебных лагеря. Президент Рузвельт и его ближайшее окружение не вняли призывам Кеннана и продолжали курс на развитие боевого сотрудничества, на совместное строительство послевоенного мира. Когда 4 февраля в Ливадийском дворце открылась конференция трех, Черчилль поспешил выразить «глубокое восхищение той мощью, которая была продемонстрирована Красной Армией в ее наступлении». И. В. Сталин ответил, что зимнее наступление Красной Армии, за которое Черчилль выразил благодарность, было выполнением товарищеского долга. Согласно решениям, принятым на Тегеранской конференции, Советское правительство не было обязано предпринимать зимнее наступление… «Советское командование начало наступление, и даже раньше намеченного срока. Советское правительство считало это своим долгом, долгом союзника, хотя у него не было формальных обязательств на этот счет». Сталин предложил руководителям союзных держав учесть, что «советские деятели не только выполняют свои обязательства, но и готовы выполнить свой моральный долг по мере возможности».
Западным политикам тем самым напомнили события недавнего прошлого. Когда Красная Армия в первые годы войны вела тяжелые бои с преобладающими силами вермахта, Лондон и Вашингтон не только не подумали о своем моральном долге перед союзником, но и систематически нарушали свои собственные неоднократные обязательства об открытии второго фронта. Деятелям союзных держав нечего было сказать на это. Черчилль лишь выразил пожелание, чтобы «наступление советских армий продолжалось столь же успешно». Таким образом, в дни Ялтинской конференции ситуация на фронтах сложилась так, что западным политикам пришлось признать: без активного участия Советского Союза Соединенные Штаты и Англия не в состоянии справиться с гитлеровской Германией.
Была и другая, не менее важная военная проблема, которая наложила отпечаток на атмосферу ялтинской встречи, — стремление западных союзников, прежде всего США, получить от Москвы конкретные обязательства насчет вступления СССР в войну против Японии. США считали тогда своей важнейшей задачей добиться договоренности с Советским Союзом, по этому вопросу.
Предварительные встречи
До официального открытия конференции между руководителями трех держав имели место предварительные встречи. 4 февраля в 3 часа, дня И. В. Сталин прибыл в Воронцовский дворец для беседы с Черчиллем. В мемуарах премьер-министра отмечается, что произошла «интересная дискуссия» относительно дальнейшего хода войны против Германии. Сталин сказал, что в Германии не хватает хлеба и угля, а ее транспортная система серьезно, повреждена. Весь военный организм Германии тяжело болен. Самые лучшие генералы сошли со сцены. И хотя Гитлер все еще располагает значительными бронетанковыми силами, его рейх уже не является мировой державой, которая могла бы держать войска повсюду, где ей заблагорассудится. Выслушав эти рассуждения, Черчилль обратил внимание на военную ситуацию в Западной Европе. Подойдя к карте и показав прохождение фронтов, он особо остановился на обстановке в Италии.
В 4 часа Сталин нанес визит Рузвельту в Ливадийском дворце. Ссылаясь на виденные им по пути в Ялту разрушения, президент сказал, что сейчас он еще более «кровожаден» по отношению к гитлеровцам, чем был в Тегеране в 1943 году. Сталин заметил, что разрушения в Крыму не идут ни в какое сравнение с тем, что нацисты творили на Украине. Там они разрушали методично и продуманно. Коснувшись своего путешествия на крейсере «Куинси» через Атлантику, Рузвельт рассказал, что держал пари насчет того, придут ли русские в Берлин раньше, чем американцы освободят Манилу. Сталин высказал мнение, что американцы возьмут столицу Филиппин до того, как Красная Армия вступит в Берлин, поскольку на рубеже Одера идут очень тяжелые бои. Хотя советским войскам удалось создать несколько предмостных укреплений, они встречают ожесточенное сопротивление врага.
Затронув положение на Западном фронте, Рузвельт сообщил, что генерал Эйзенхауэр не предполагает форсировать Рейн ранее марта, поскольку сейчас течение в реке слишком стремительно и ледоход затрудняет понтонные операции. Поэтому, заключил Рузвельт, решающее наступление на Германию придется, видимо, перенести на весну…
Настало время отправляться в Большой зал Ливадийского дворца, где на 5 часов намечалось первое пленарное заседание конференции. Из соседней комнаты появился морской пехотинец. Став за спинкой кресла-коляски, в которой сидел президент, он покатил ее к выходу. Сталин шел рядом. По пути он спросил Рузвельта:
— Не думает ли господин президент, что французам следует иметь зону оккупации в Германии?
— Это неплохая идея, — ответил Рузвельт и, помолчав, добавил: — Но если это будет сделано, то исключительно в порядке любезности. — Он недолюбливал де Голля, и это сказывалось на его отношении к французским делам.
— Пожалуй, таков единственный резон для предоставления французам зоны оккупации, — согласился Сталин.
Первое пленарное заседание Ялтинской конференции открыл, по предложению Сталина, президент Рузвельт.
— Ни в законе, ни в истории, — начал он, — не предусмотрено, что я должен открывать совещания. Лишь случайно я открывал совещания в Тегеране. Но я считаю для себя большой честью открыть нынешнее совещание. Прежде всего хотел бы выразить благодарность за оказанное мне гостеприимство.
Немного помолчав и окинув взглядом общество, разместившееся за большим круглым столом, в центре которого были укреплены три флажка участников антигитлеровской коалиции, президент продолжал:
— Руководители трех держав уже хорошо понимают друг друга, и взаимопонимание между ними растет. Все они хотят скорейшего окончания войны и прочного мира. Поэтому участники совещания могут приступить к своим неофициальным беседам. Я считаю, что нужно беседовать откровенно. Опыт показывает, что откровенность в переговорах позволяет быстрее достичь хороших решений. Перед участниками совещания будут карты Европы, Азии и Африки. Но сегодняшнее совещание посвящено положению на Восточном фронте, где войска Красной Армии столь успешно продвигаются вперед. Прошу кого-либо доложить о положении на советско-германском фронте.
По предложению Сталина доклад сделал заместитель начальника Генерального штаба Красной Армии генерал армии Антонов. Он подробно рассказал о ходе наступления, начатого советскими войсками 12–15 января на фронте от Немана до Карпат протяженностью в 700 км, указав главные направления отдельных группировок.
— Вследствие неблагоприятных погодных условий, — пояснил Антонов, — предполагалось эту операцию начать в конце января, когда ожидалось улучшение погоды. Поскольку операция эта рассматривалась и подготавливалась как операция с решающими целями, то хотелось провести ее в более благоприятных условиях. Однако ввиду тревожного положения, создавшегося на Западном фронте в связи с наступлением немцев в Арденнах, Верховное командование советских войск отдало приказ начать наступление не позже середины января, не ожидая улучшения погоды.
Далее Антонов доложил о соотношении сил на направлении главного удара советских войск, о целях, поставленных Ставкой, и о достигнутых результатах. В заключение он высказал пожелания советской стороны к западным союзникам:
— ускорить переход союзных войск в наступление на западном фронте… начав наступление в первой половине февраля;
— ударами авиации по коммуникациям препятствовать противнику производить переброски своих войск на восток с Западного фронта, из Норвегии и из Италии; в частности, парализовать узлы Берлин и Лейпциг;
— не позволять противнику снимать свои силы из Италии.
Текст сообщения генерала армии Антонова был вручен в письменном виде Рузвельту и Черчиллю.
Когда доклад о положении на советско-германском фронте был окончен, Сталин спросил, нет ли вопросов.
Рузвельт поинтересовался, как советская сторона предполагает поступить с немецкими железными дорогами.
Антонов ответил, что, поскольку подвижной состав и паровозы, оставляемые немцами, малопригодны для использования, германские железные дороги придется на ряде главных направлений перешить.
Рузвельт предложил, чтобы штабы союзников совместно обсудили этот вопрос, поскольку их войска сейчас быстро сближаются друг с другом. Сталин не возражал против этого.
Затем Черчилль сказал, что у него имеется ряд вопросов, которые следовало бы обсудить трем штабам. Например, сколько времени потребуется немцам для того, чтобы перебросить из Италии восемь дивизий на советский фронт, и что следовало бы предпринять, чтобы предотвратить такую переброску? Не следует ли перебросить часть войск союзников через Люблянский проход на соединение с Красной Армией?
Это, конечно, была не случайная импровизация. Британский премьер уже давно настаивал на продвижении западных союзников наперерез советским войскам. Не получив в свое время поддержки Рузвельта, он сейчас, в последний момент, снова попытался протащить свой «балканский вариант», делая вид, будто хочет помочь Красной Армии. Впрочем, он сам тут же засомневался в успехе своего предложения, заметив: «…Не будет ли слишком поздно это предпринимать».
В конечном счете Черчилль выразил пожелание, чтобы эти и другие вопросы были обсуждены штабами трех держав. Все согласились.
Об операциях на Западном фронте сообщил американский генерал Маршалл, рассказав о сложностях, связанных с положением в Арденнах, где немцы сосредоточили «весьма большие силы». Далее Маршалл сообщил, что вскоре немцы, вероятно возобновят подводное наступление, так как они создали улучшенный тип подводной лодки. Сложность в том, что имеющиеся у союзников приборы не могут обнаруживать эти лодки. Вот почему действия английских и американских тяжелых бомбардировщиков были направлены в последнее время против верфей, на которых строятся подводные лодки. Эти операции, как заявил Маршалл, не шли, однако, в ущерб ударам авиации союзников по промышленным объектам Германии.
Когда генерал Маршалл закончил, свой доклад, Черчилль сказал, что, прежде чем участники совещания перейдут к невоенным вопросам, он хотел бы остановиться на проблеме, связанной с форсированием рек. Мы, пояснил Черчилль были бы благодарны, если бы находящийся сейчас в Ялте офицер, ведающий этим вопросом у западных союзников, мог войти в контакт с советскими военными в целях получения информации о форсировании рек. Известно, добавил британский премьер, что русские обладают большим опытом, в особенности что касается форсирования рек по льду.
Сталин обещал помочь в этом деле, задал ряд вопросов относительно предстоящих военных операций союзников. Он поинтересовался длиной фронта, на котором предполагалось осуществить прорыв, наличием на этом участке укреплений противника, а также тем, располагают ли союзники необходимыми резервами, в частности, имеется ли достаточно танковых дивизий, что особенно важно. Генерал Маршалл обстоятельно ответил на эти вопросы, подчеркнув, что на 35 пехотных дивизий союзники имеют примерно 10–12 танковых.
Далее состоялся обмен мнениями относительно координации военных действий. Сталин заметил, что имеется разнобой в действиях союзников. Советские войска прекратили свое наступление осенью. В это время начали наступление союзники. Затем все получилось наоборот. Подчеркнув необходимость избегать этого в будущем, он предложил согласовать планы дальнейших операций. Черчилль высказался в пользу того, чтобы военные занялись всеми этими вопросами, пока главы правительств будут обсуждать политические проблемы. Его предложение было принято.
Британский премьер предложил обсудить на следующем пленарном заседании политические вопросы, а именно о будущем Германии. И добавил:
— Если у нее будет какое-либо будущее. Сталин тут же бросил реплику:
— Германия будет иметь будущее!
О будущем Германии
Открывая пленарное заседание 5 февраля, президент Рузвельт сказал, что, обращаясь к проблеме Германии, следует прежде всего рассмотреть вопрос о зонах временной оккупации, который, по его мнению, становится все более актуальным.
Сталин сразу же взял слово и заявил, что необходимо обсудить следующие вопросы. В первую очередь предложения о расчленении Германии, которые были выдвинуты США и Англией еще на Тегеранской конференции. Следует также обсудить, продолжал Сталин, допустим ли мы образование в Германии какого-либо центрального правительства или ограничимся тем, что в Германии будет создана администрация, или если будет решено все же расчленить Германию, то там будет создано несколько правительств по числу секторов, на которые будет разбита Германия.
Третий вопрос, выдвинутый Сталиным, был вопрос о конкретном содержании безоговорочной капитуляции Германии. В заключение глава Советского правительства предложил обсудить вопрос о возмещении Германией убытков, о размерах этого возмещения.
Выслушав соображения Сталина, президент Рузвельт сказал, что, насколько он понимает, поставленные вопросы вытекают из вопроса о зонах оккупации Германии.
— Может быть, эти зоны будут первым шагом к расчленению Германии? — спросил президент.
Это была довольно уклончивая формулировка, и Сталин счел необходимым заметить, что если союзники предлагают расчленить Германию, то так и надо сказать. Пока же имел место лишь обмен мнениями по этому вопросу.
Наступила пауза, после которой слово взял Черчилль. Он принялся пространно рассуждать насчет различных вариантов расчленения Германии. Начал он с утверждения, что сам метод проведения границ отдельных частей Германии слишком сложен, чтобы по нему можно было принять решение в течение пяти-шести дней, пока будет работать конференция, что потребуется тщательное изучение исторических, этнографических, экономических факторов и длительное обсуждение вопроса.
— Если Пруссия будет отделена от Германии, — продолжал премьер-министр, — то ее способность начать новую войну станет сильно ограничена. Создание еще одного большого германского государства на юге, столица которого могла бы находиться в Вене, обеспечило бы линию водораздела между Пруссией и остальной Германией.
На этот раз Черчилль говорил уже не о пяти-семи мелких германских государствах, а прежде всего о более крупных образованиях, одно из которых, со столицей в Вене, видимо, мыслилось им скорее как противовес Советскому Союзу.
Коснувшись далее вопросов, связанных с долиной Рейна и промышленными районами Рура и Саара, Черчилль предложил создать специальный аппарат для подготовки доклада правительствам, по которому они смогли бы принять окончательное решение.
При обсуждении проблем, связанных с намерениями союзников предъявить Германии требование о безоговорочной капитуляции, Черчилль заметил, что безоговорочная капитуляция дает возможность предъявить немцам дополнительное требование о расчленении Германии. На это Сталин возразил, что требование о расчленении — это не дополнительное, а очень существенное требование. Рузвельт предложил решить вопрос о расчленении в принципе, а детали отложить на будущее. В итоге было решено поручить министрам иностранных дел рассмотреть этот вопрос.
Затем участники совещания перешли к вопросу о репарациях. Сообщение по этому поводу сделал И. М. Майский, изложив основные положения советских предложений. Они сводились к тому, что Германия должна производить натуральные платежи как путем изъятия примерно 80 % ее национального богатства, так и в виде ежегодных товарных поставок. Цели репараций должны были также сводиться к разоружению Германии. Поэтому специализированные военные предприятия подлежали изъятию на 100 %. Срок репараций устанавливался в 10 лет, причем они должны были производиться под строгим англо-советско-американским контролем. Советская сторона считала справедливым в возмещение своих прямых материальных потерь получить в порядке изъятия и ежегодных поставок не менее 10 млрд. долл. Причем это, разумеется, была лишь очень незначительная часть всей суммы прямых материальных потерь Советского Союза.
Выслушав советское предложение, Черчилль сказал, что проблема репараций очень сложна. Это показал опыт разработки мирных условий после первой мировой войны и реализации репарационных требований, в частности Англии. От Германии удалось с большим трудом получить лишь 1 млрд. ф. ст. Причем осуществлено это было только благодаря тому, что Англия и США инвестировали большие суммы в Германии. В итоге Англия взяла у Германии несколько старых океанских пароходов, а на деньги, которые Германия получила от Англии, она построила себе новый флот. Черчилль сказал, что не следует повторять этот негативный опыт.
Далее обсуждался вопрос о целесообразности использования германской рабочей силы, причем Сталин заметил, что СССР пока еще к этому не готов.
Черчилль коснулся дальнейшей судьбы 80 млн. немцев — что будет с ними после безоговорочной капитуляции Германии?
— Призрак голодающей Германии, с ее 80 млн. человек, встает перед моими глазами, — воскликнул Черчилль. — Кто будет ее кормить? И кто будет за это платить? Не выйдет ли в конце концов так, что союзникам придется хотя бы частично покрывать репарации из своего кармана?
Конечно, все это были важные проблемы. Но столь трогательная забота Черчилля о еще продолжавшей войну гитлеровской Германии, разорившей почти всю Европу и принесшей небывалые опустошения, голод, нищету, страдания и смерть миллионам и миллионам людей на оккупированных нацистами территориях, прозвучала несколько странно. Рузвельт сразу же почувствовал это и сказал:
— Я согласен с Черчиллем, что нужно немного подумать о будущем Германии. Но, несмотря на великодушие Соединенных Штатов, которые оказывают помощь другим странам, мы не можем гарантировать будущее Германии. Соединенные Штаты не хотят, чтобы в Германии жизненный уровень населения был выше, чем в СССР. Соединенные Штаты желают помочь Советскому Союзу в получении из Германии всего необходимого…
Если внимательно проследить за дискуссией по вопросу о репарациях с Германией, то становится очевидным, что Черчилль, ссылаясь на все новые сложности на пути справедливой компенсации Советскому Союзу его гигантских потерь, не хотел думать о жертвах советского народа, подвергшегося гитлеровской агрессии. Его гораздо больше заботил вопрос о том, как создать благоприятные условия для послевоенной Германии. В этом смысле президент Рузвельт занимал противоположную позицию, неизменно подчеркивая необходимость прежде всего удовлетворить справедливые требования Советского Союза.
В итоге обмена мнениями была достигнута договоренность о создании Репарационной комиссии из представителей трех держав со штаб-квартирой в Москве. После этого Сталин предложил выработать основные руководящие линии для Репарационной комиссии. Он высказал мнение, что основным принципом при распределении репараций должен быть следующий: репарации в первую очередь получают те государства, которые вынесли на своих плечах основную тяжесть войны и обеспечили победу над врагом. Эти государства — СССР, США и Великобритания. Возмещение должны получить не только русские, но также американцы и англичане, и притом в максимально возможном размере. «Если Соединенные Штаты, — сказал далее Сталин, — не заинтересованы в получении из Германии машин или рабочей силы, то могут найтись другие формы репараций, более подходящие для них, например сырье и т. п. Во всяком случае, должно быть твердо установлено, что право на репарации прежде всего имеют те, кто сделал наибольший вклад в разгром врага».
Рузвельт и Черчилль согласились с этими соображениями.
Мысли о послевоенном мире
Третье пленарное заседание Ялтинской конференции, состоявшееся 6 февраля, началось с обсуждения вопросов, оставшихся открытыми после конференции в Думбартон-Оксе, где вырабатывался проект устава новой международной организации безопасности. Несогласованными остались правила голосования в Совете Безопасности. Для внесения новых американских предложений слово было предоставлено государственному секретарю США Э. Стеттиниусу.
Эти предложения содержали новые элементы, и советская сторона согласилась их изучить. Однако окончательно вопрос о процедуре голосования был решен уже после Ялтинской конференции в ходе обмена посланиями между Рузвельтом и Сталиным. Записанная в конечном счете в Уставе ООН формула основывается на принципе единогласия великих держав и обеспечивает такой порядок, который исключает возможность навязать державе — постоянному члену Совета Безопасности ООН волю других государств в вопросах, имеющих принципиальное с точки зрения ее интересов значение.
Высказывания руководителей трех держав в Ялте в связи с планами послевоенного устройства дают представление о том, как мыслился тогда послевоенный мир.
Прежде всего следует подчеркнуть, что при различии позиций по тем или иным вопросам все три лидера сходились в одном — в том, что единство великих держав — участниц антигитлеровской коалиции имеет решающее значение для поддержания прочного мира на земле. Так, Черчилль признал, что вопрос о том, будет ли мир построен на прочных основах, зависит от дружбы и сотрудничества трех великих держав. Президент Рузвельт в свою очередь напомнил, что в Тегеране «три державы заявили о своей готовности принять на себя ответственность по созданию такого мира, который получит одобрение народов всего мира». Сталин заявил, что «самое важное условие для сохранения длительного мира — это единство трех держав».
Однако в рамках этого общего положения каждый из трех участников ялтинской встречи имел свои специфические приоритеты. Черчилль, естественно, прежде всего был озабочен судьбами Британской империи. В одном из своих выступлений он прямо заявил об этом, приведя конкретный пример, который он квалифицировал как «трудный для Англии». Если, сказал он, Китай попросит возвратить ему Гонконг, то Великобритания будет иметь право высказать свою точку зрения и защитить ее, однако Великобритания не сможет принять участия в голосовании. Со своей стороны Китай имел бы право полностью изложить свой взгляд по вопросу о Гонконге, и Совет Безопасности должен был бы решить вопрос без участия британского правительства в голосовании… Поскольку, однако, продолжал Черчилль, этот вопрос затрагивает суверенитет Британской империи, британскому правительству было бы обеспечено право вето. Обращаясь к другому примеру, Черчилль сказал, что если, бы Египет поднял вопрос относительно возвращения ему Суэцкого канала, то он, Черчилль, допустил бы обсуждение этого вопроса без всякого опасения, так как британские интересы также были бы обеспечены правом вето. Таким образом, Черчилль и мысли не допускал, что народы, территории которых находились тогда под господством британских империалистов, могли бы использовать новую организацию безопасности для обеспечения их суверенных прав. Напротив, он считал, что процедура, предложенная Соединенными Штатами, дает возможность не только сохранить империю, но и улучшить маскировку этого устремления. Он заявил, что «было бы нежелательно создавать впечатление, будто бы три державы хотят властвовать над всем миром, не давая другим странам высказывать свое мнение». Иными словами, говорите сколько угодно, лишь бы все оставалось по-прежнему.
Именно на это и обратил внимание глава советской делегации. Он сказал, что, как ему представляется, решения, принятые в Думбартон-Оксе, имеют своей целью обеспечить различным странам не только право высказывать свое мнение. Его никто не отрицает. Однако дело обстоит серьезнее. Если какая-либо нация поднимет вопрос, представляющий для нее большую важность, она сделает это не для того, чтобы только иметь возможность высказать свое мнение, но и для того, чтобы добиться решения по нему. «Среди присутствующих, — продолжал Сталин, — нет ни одного человека, который оспаривал бы право наций высказываться в Ассамблее. Однако не в этом суть дела. Черчилль, по-видимому, считает, что если Китай поднимет вопрос о Гонконге, то он пожелает только высказаться. Неверно. Китай потребует решения. Точно так же, если Египет подымет вопрос, о возврате Суэцкого канала, то он не удовлетворится тем, что выскажет свое мнение по этому поводу. Египет потребует решения вопроса. Вот почему сейчас речь идет не просто об обеспечении возможности излагать свои мнения, а о гораздо более важных вещах».
Коснувшись опасения, высказанного Черчиллем относительно того, как бы не подумали, что три великие державы хотят господствовать над миром, Сталин отметил, что пока две державы приняли предложения, которые, как они полагают, защитят их от обвинения в стремлении к такому господству. Что касается Советского Союза, то он изучит эти предложения. Далее Сталин продолжал: «Черчилль говорил, что нет оснований опасаться чего-нибудь нежелательного даже в случае принятия американских предложений. Да, конечно, пока мы все живы, бояться нечего. Мы не допустим опасных расхождений между нами. Мы не позволим, чтобы имела место новая агрессия против какой-либо из наших стран. Но пройдет 10 лет или, может быть, меньше, и мы исчезнем. Придет новое поколение, которое не прошло через все то, что мы пережили, которое на многие вопросы, вероятно, будет смотреть иначе, чем мы. Что будет тогда? Мы как будто бы задаемся целью обеспечить мир по крайней мере на 50 лет вперед… Вот почему вопрос о будущем уставе международной организации безопасности приобретает такую важность. Надо создать возможно больше преград для расхождения между тремя главными державами в будущем. Надо выработать такой устав, который максимально затруднял бы возникновение конфликтов между ними. Это — главная задача».
То была глубокая, принципиальная постановка вопроса, проникнутая подлинной заботой о будущем. Следовало создать такой механизм международной организации безопасности, который обеспечил бы возможность сохранения мира для грядущих поколений. Тогда говорилось о десяти годах, но Сталин прожил лишь восемь лет. Гораздо раньше, спустя неполных шесть недель после ялтинской встречи, умер Рузвельт, и его преемники круто повернули курс США в сторону конфронтации и подготовки войны против Советского Союза. Одним из инициаторов этого поворота оказался и Черчилль, хотя он уже и не находился у власти. Все это произошло вскоре после окончания военных действий против гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Но в административной машине США и Англии и раньше были элементы, исподволь готовившие такой крутой поворот.
В последние годы мне не раз приходилось бывать в Западной Германии, беседовать там с людьми самых различных политических взглядов. Те из них, кто в начале 1945 года находился в вермахте в офицерском звании, неизменно рассказывали одну и ту же историю: попав в плен к американцам или англичанам, они проходили через особые комиссии, где представители командования западных союзников на допросе всегда задавали вопрос — готовы ли вы выступить на стороне Англии и США против Советского Союза?
Ответы бывали разные, но тем не менее немецкие пленные, попавшие в руки англичан и американцев, оставались в своих военных подразделениях, а захваченное у них оружие хранилось в боевой готовности на складах. Оно могло в любой момент быть пущено в ход против СССР.
В свете всего этого важно отметить, что на встрече лидеров трех держав в Ливадийском дворце еще преобладала атмосфера сотрудничества. Причем не только на пленарных заседаниях, но и при неофициальных встречах. На позднем обеде в Юсуповском дворце, который дал Сталин 8 февраля в честь руководителей Англии и США, как обычно, произносилось немало тостов. Главной темой было единство трех великих держав. Особенно это подчеркивал британский премьер.
— Никогда, — заявил он, — на протяжении этой войны даже в самые тяжелые часы я не чувствовал такую ответственность, как ту, которая лежит на мне на этой конференции. Мы уже на вершине горы, и перед нами раскрывается широкая панорама. Давайте не будем недооценивать трудностей. Нации — товарищи по оружию — в прошлом нередко расходились в разные стороны через 5 или 10 лет после войны. Таким образом, миллионы людей оказывались в заколдованном кругу, падали в пропасть и должны были снова подниматься вверх ценой огромных жертв. Перед нами теперь имеется шанс избежать ошибок прошлых поколений и обеспечить надежный мир… Защищать свою страну — это славная участь, но нам предстоят еще более важные завоевания. Мы должны воплотить в жизнь всеобщую мечту о том, что люди будут жить в мире, защищенные нашей непобедимой силой от агрессии и зла. Моя надежда на славного президента Соединенных Штатов и маршала Сталина. В них мы видим борцов за мир, которые, повергнув врага, поведут нас на выполнение задачи борьбы против бедности, смятения, хаоса и угнетения. Таковы мои надежды, и, говоря от имени Англии, я заверяю, что мы не будем в этом позади. Мы не ослабим наши усилия в поддержании ваших усилий. Затем слово взял Сталин:
— Я предлагаю тост за наш союз, за то, чтобы он не потерял характера близости и свободного высказывания мнений. Я не знаю в истории дипломатии такого тесного союза трех великих держав, как этот, когда союзники имели бы возможность так открыто высказывать свои взгляды. Я знаю, что в некоторых кругах расценят это замечание как наивное, но в условиях союза не следует обманывать друг друга. Опытные дипломаты могут сказать: почему я не должен обманывать своего союзника? Но я думаю, что лучше не обманывать союзника. Возможно, что наш союз потому так прочен, что мы не обманываем друг друга, а может быть, и потому, что не так-то легко обмануть друг друга. Я предлагаю тост за прочность нашего союза трех держав. Пусть он будет сильным и стабильным, и пусть мы будем как можно более откровенны…
Подождав, пока будет закончен перевод, Сталин продолжал:
— В эти дни в истории Европы произошло радикальное изменение. Очень хорошо иметь союз главных держав во время войны. Было бы невозможно выиграть войну без такого союза. Но союз против общего врага — это нечто ясное и само собой разумеющееся. Гораздо более сложным является союз после войны для обеспечения длительного мира и плодов победы. То, что мы боролись вместе, — это хорошее дело, но это было не так уж трудно. Я предлагаю тост за то, чтобы наш союз, родившийся как требование войны, был прочным и продолжался после войны, чтобы наши страны не замкнулись в своих внутренних делах, а помнили, что помимо их собственных проблем есть также большое общее дело и что они должны защищать дело единства с таким же энтузиазмом в мирное время, как они делали это во время войны.
Президент Рузвельт поддержал эти пожелания и в свою очередь подчеркнул значение сотрудничества с Советским Союзом.
Британское наследство
9 февраля во время пленарного заседания произошел инцидент, главным действующим лицом которого был Черчилль. Все шло как обычно, Спокойно и чинно, пока государственный секретарь США Э. Стеттиниус, говоря о подготовке к предстоящей конференции Объединенных Наций, не затронул проблему опеки. Он, собственно, не сказал ничего такого, что могло бы задеть англичан. Стеттиниус лишь упомянул, что постоянным членам Совета Безопасности следовало бы еще до конференции провести в дипломатическом порядке консультации об опеке над колониальными и зависимыми народами. Вот и все.
Однако Черчилль усмотрел в этом покушение на интересы Британской империи. Поэтому-то одно лишь упоминание Стеттиниусом проблемы опеки до крайности взбудоражило Черчилля.
— Я решительно возражаю против обсуждения этого вопроса, — воскликнул он. — Великобритания в течение стольких лет ведет тяжелую борьбу за сохранение в целости Британского содружества наций и Британской империи. Я уверен, что эта борьба закончится полным успехом, и, пока британский флаг развевается над территориями британской короны, я не допущу, чтобы хоть какой-либо кусок британской земли попал на аукцион с участием 40 государств. Никогда Британская империя не будет посажена на скамью подсудимых в международном суде по вопросу об опеке над несовершеннолетними нациями.
Эта бурная тирада нарушила спокойный ход конференции. Стеттиниус принялся уверять Черчилля, что он имел в виду вовсе не Британскую империю.
— Американская делегация, — поспешил он успокоить британского премьера, — желает, чтобы мировая организация в случае необходимости учредила опеку над территориями, которые будут отняты у врага.
Тогда Черчилль сказал примирительным тоном:
— Если речь идет о вражеских территориях, то я не имею возражений. Возможно, над этими территориями целесообразно учредить опеку.
— Совещание трех министров иностранных дел, — повторил Стеттиниус, — признало желательным обсудить вопрос об опеке на конференции Объединенных Наций.
Но Черчилль отлично знал, куда в действительности метят американцы. Поэтому он принялся настаивать на том, чтобы в тексте решения была сделана специальная оговорка о том, что обсуждение вопроса об опеке ни в коем случае не затрагивает территории Британской империи.
Черчилль уже давно подозревал американцев в коварном намерении прибрать к рукам некоторые из английских владений. И не без основания. В Вашингтоне предвидели, что из войны Великобритания выйдет ослабленной и окажется не в состоянии справиться с развивавшимся национально-освободительным движением. К тому же в США преобладало мнение, что старые колониальные методы господства отжили свой век и могут оказаться непригодными в середине XX века. Отсюда — повышенный интерес Вашингтона к так называемой системе международной опеки, где за ширмой Организации Объединенных Наций американский империализм получил бы возможность утвердить к своей выгоде систему неоколониализма. Тут, конечно, примешивалась и идея мирового господства Америки, осуществлению которой мешал «старый», в том числе и британский, колониализм.
В этой связи между Лондоном и Вашингтоном не раз происходили столкновения, что отражалось и в секретной переписке между Черчиллем и Рузвельтом. Так, в начале 1944 года президент США сообщил британскому премьеру, что он поручил государственному департаменту, проконсультировавшись со специалистами, изучить вопрос о нефти. 22 февраля того же года американский межведомственный комитет по нефти составил первый проект документа, озаглавленный «Внешняя политика США в области нефти». В документе говорилось, что Соединенные Штаты считают своей первой задачей распространение на нефть положения Атлантической хартии относительно «равного доступа».
Рузвельт успокаивал Черчилля: «Пожалуйста, примите мои заверения, что мы не бросаем завистливых взоров на ваши нефтяные промыслы в Иране и Ираке, однако, — продолжал он, — я не могу откладывать далее переговоры по этой проблеме». Британский премьер реагировал на планы американцев весьма нервозно. 4 марта он писал Рузвельту: «Очень Вам благодарен за Ваши заверения в том, что вы не бросаете завистливых взоров на наши нефтяные промыслы в Иране и Ираке. Позвольте мне в свою очередь заверить Вас, что мы совершенно не собираемся покушаться ни на ваши интересы, ни на вашу собственность в Саудовской Аравии. Моя позиция в этом, как и во всех других вопросах, сводится к тому, что Великобритания не ищет от войны никаких выгод, ни территориальных, ни каких-либо еще. С другой стороны, она не потерпит, чтобы ее лишили чего-либо, по праву ей принадлежащего, после того как она посвятила все свои силы правому делу, по крайней мере до тех пор, пока Ваш покорный слуга уполномочен вести ее дела».
Британский лев, как видим, показал когти. Но они были уже изрядно обломаны. В Вашингтоне это хорошо знали. Понимал это и Черчилль, хотя и отказывался признавать вслух. Но, опасаясь за будущее империи, он неоднократно пытался получить от Рузвельта заверение поддержать британские позиции. Вашингтон же от такого обязательства уклонялся. 28 ноября 1944 г., вскоре после избрания президента Рузвельта на четвертый срок, Черчилль направил в Белый дом пространное секретное послание, в котором делился своими тревогами и заботами. Особенно беспокоило его выдвинутое американцами предложение о передаче в их пользование английских баз во всем мире.
«Разрешите мне также сказать, — писал Черчилль, — что я никогда не проповедовал конкурентной борьбы за „величие“ в какой бы то ни было области между нашими двумя странами на их нынешнем этапе развития. У нас будет величайший в мире военно-морской флот. У вас будет, я надеюсь, величайший воздушный флот. У вас будет величайшая торговля. У вас — все золото. Но все это не внушает мне страха, ибо я убежден, что американский народ под Вашим вновь провозглашенным руководством не станет предаваться тщеславным стремлениям и что советчиками, озаряющими его путь, будут справедливость и честная игра».
Этим довольно льстивым посланием Черчилль рассчитывал «разжалобить» своего заокеанского друга и получить от него соответствующие заверения. Но Рузвельт оставался тверд. Его ответное послание может, пожалуй, служить образцом дипломатического документа эпохи расцвета пресловутой «американской мечты» о мировом господстве.
«Я тщательно продумал Ваше послание и перечисленные в нем проблемы, — говорилось в письме Рузвельта от 30 ноября 1944 т. — Вам известно, что я не стремлюсь к каким-либо мерам, благодаря которым наш народ извлек бы выгоду из жертв вашего народа в этой войне. Ваша вера в справедливость и честную игру американского народа, я убежден, обоснована. Я в равной степени уверен, что в той же мере обладает этими качествами и ваш народ. Я знаю, что он хочет иметь равные возможности в воздушном пространстве, и он, безусловно, должен их иметь. Не могу поверить, что он хотел бы, чтобы авиация, в которой вам, как и нам, предстоит великое будущее, была задавлена и удушена лишь потому, что ваш народ в данный момент находится в менее благоприятном для конкуренции положении.
Вы говорите, что Британской империи предлагается предоставить свои базы во всем мире в распоряжение других стран. Конечно, это так. Хотели бы Вы, чтобы порты всех стран мира были закрыты для всех судов, кроме своих собственных, или открыты для одного или двух иностранных судов только в том случае, если они станут перевозить пассажиров и грузы с начала до конца рейса из Ливерпуля в Шанхай? Где была бы теперь Англия, если бы судоходство подверглось таким ограничениям? Я не могу поверить, что Вы в такое время не хотите соглашения.
Я не могу согласиться с таким решением вопроса, которое бы противодействовало движению вперед. Оно скорее должно позволить всем идти вперед вместе. Мне известно, с какими трудностями ваша авиационная промышленность сталкивается всю войну. В прошлом мы находили пути помогать вам, и я убежден, что нам удастся изыскать пути, чтобы помочь вам преодолеть и эти трудности. Мы готовы предоставлять полностью в ваше распоряжение транспортные самолеты на тех же условиях, на каких их может получать наш народ. Наше единственное условие — авиации надо разрешить развиваться при соблюдении только разумных мер предосторожности, причем настолько широко и настолько быстро, насколько это доступно для человеческой изобретательности и предприимчивости.
У нас нет стремления монополизировать воздушное сообщение во всем мире. Я не понимаю, как увеличение периодичности полетов по авиалиниям большой протяженности могло бы влиять на движение по авиалиниям малой протяженности, если все авиалинии будут пользоваться равным правом увеличивать периодичность полетов на равной основе. Не понимаю я также, как в конечном счете такой порядок мог бы стать более благоприятным для нас, чем для других, несмотря на то что начинать будем мы.
Вы просили, чтобы я еще раз продумал основы Вашей позиции и изложил эти проблемы так, как я их представляю себе. Я сделал и то, и другое и убежден больше, чем когда-либо, что ответ заключается в том, чтобы не противодействовать движению вперед, а идти вперед вместе».
Вопрос о воздушном транспорте был, разумеется, лишь одним из элементов в борьбе американского империализма за овладение британским наследством. Но в тот момент этот вопрос, пожалуй, наиболее выпукло отражал существо противоречий между Англией и США. Любопытны в этой связи ссылки на «честную игру», «одинаковые возможности» и т. д. Ведь совершенно очевидно, что в тогдашних условиях американские монополии при их преобладающей мощи были вне конкуренции и рассчитывали получить все выгоды. Это стремление довольно прозрачно сквозило в аргументации Рузвельта.
Однако в то время английские тори надеялись, что Британия еще долго будет править морями и оставаться ведущей колониальной державой. Но не прошло и четырех лет после окончания второй мировой войны, как столь дорогое сердцу Черчилля «содружество наций» стало трещать по швам. От империи откалывались все новые и новые куски. Не удалось в полной мере осуществить свои неоколониалистские планы и американским правящим кругам. Сотни миллионов бывших подданных Британской империи, как и колониальных империй Франции, Голландии, Бельгии и других метрополий, пошли по пути самостоятельного развития.
Договоренность о границах Польши
Обсуждение польской проблемы началось на пленарном заседании Ялтинской конференции 6 февраля. Рузвельт, взявший слово первым, высказался в пользу проведения восточной границы Польши по линии Керзона, но добавил, что было бы хорошо рассмотреть вопрос об уступках полякам на южном участке этой линии. Он имел в виду район Львова, но не сказал этого. Президент США внес далее предложение о создании президентского совета «в составе небольшого количества выдающихся поляков», на который была бы возложена задача создания временного правительства Польши. Вместе с тем, добавил Рузвельт, мы надеемся, что Польша будет в самых дружественных отношениях с Советским Союзом.
Сталин тут же вставил реплику, что Польша будет находиться в дружественных отношениях не только с Советским Союзом, но и со всеми союзниками.
Следуя приглашению Рузвельта высказаться по его предложениям, Черчилль сказал, что он уполномочен заявить о положительном отношении к ним британского правительства. Черчилль добавил, что постоянно публично заявлял в парламенте и в других местах о намерении британского правительства признать линию границы в том виде, как она толкуется Советским правительством, то есть с оставлением Львова у Советского Союза. Он, Черчилль, всегда считал, что после той трагедии, которую пережил СССР, защищая себя от германской агрессии, и после тех усилий, которые СССР приложил для освобождения Польши, претензии Москвы на Львов и на линию Керзона базируются не на силе, а на праве. Что же касается проблемы образования польского правительства, то британский премьер заявил, что он поддерживает предложение Рузвельта и выступает за создание такого временного правительства, которое признают СССР, США и Англия и которое будет существовать до того момента, когда польский народ сможет свободно избрать правительство. Рузвельт ничего не возразил против этих соображений британского премьера, и, таким образом, в вопросе о восточной границе Польши была достигнута договоренность.
Изложенная позиция руководителей США и Англии по вопросу о границе Польши, которая, впрочем, была ими высказана еще на Тегеранской конференции, заслуживает особого внимания, поскольку в последующем со стороны западных держав предпринимались попытки отойти от нее и представить дело так, будто Советский Союз нарушил совместно принятые решения по этому вопросу. В действительности СССР неизменно оставался на принципиальной позиции, выступая за претворение в жизнь того, что было согласовано между тремя державами.
На этом же заседании 6 февраля глава Советского правительства чётко изложил точку зрения Москвы.
«…Для русских, — сказал он, — вопрос о Польше является не только вопросом чести, но также и вопросом безопасности. Вопросом чести потому, что у русских в прошлом было много грехов перед Польшей. Советское правительство стремится загладить эти грехи. Вопросом безопасности потому, что с Польшей связаны важнейшие стратегические проблемы Советского государства. Дело не только в том, что Польша — пограничная с нами страна. Это, конечно, имеет значение, но суть проблемы гораздо глубже. На протяжении истории Польша всегда была коридором, через который проходил враг, нападающий на Россию. Достаточно вспомнить хотя бы последние тридцать лет: в течение этого периода немцы два раза прошли через Польшу, чтобы атаковать нашу страну. Почему враги до сих пор так легко проходили через Польшу? Прежде всего потому, что Польша была слаба. Польский коридор не может быть… закрыт только изнутри собственными силами Польши. Для этого нужно, чтобы Польша была сильна. Вот почему Советский Союз заинтересован в создании мощной, свободной и независимой Польши. Вопрос о Польше — это вопрос жизни и смерти для Советского государства».
Что касается линии Керзона, то Сталин напомнил, что эта линия придумана не русскими. Ее авторами являются Керзон, Клемансо и американцы, участвовавшие в Парижской конференции 1919 года. Линия Керзона была принята на базе этнографических данных вопреки воле русских. Ленин не был согласен с этой линией. Он не хотел отдавать Польше Белосток и Белостокскую область, которые в соответствии с линией Керзона должны были отойти к Польше.
— Что же вы хотите, чтобы мы были менее русскими, чем Керзон и Клемансо? — продолжал Сталин. — Этак вы доведете нас до позора. Что скажут украинцы, если мы примем ваше предложение? Они, пожалуй, скажут, что Сталин и Молотов оказались менее надежными защитниками русских и украинцев, чем Керзон и Клемансо… Нет, пусть уж лучше война с немцами продолжится еще немного дольше, но мы должны оказаться в состоянии компенсировать Польшу за счет Германии на западе.
Перейдя к вопросу о западной, границе Польши, Сталин сказал, что она должна проходить по Западной Нейсе. Он попросил Рузвельта и Черчилля поддержать его в этом.
Затем Сталин коснулся вопроса о составе польского правительства. Он напомнил, что, когда прошлой осенью Черчилль приезжал в Москву, он привез с собой из Лондона Миколайчика, Грабовского и Ромера. В Москву были тогда же приглашены и представители люблинского правительства. Между польскими деятелями велись переговоры. Наметились некоторые пункты соглашения, о чем Черчилль знает. Затем Миколайчик уехал в Лондон с тем, чтобы вскоре вновь вернуться в Москву для завершения шагов по организации польского правительства. Однако Миколайчик был изгнан из польского правительства в Лондоне за то, что отстаивал соглашение с люблинским правительством.
— Нынешнее польское правительство в Лондоне, — продолжал Сталин, — возглавляемое Арцишевским и руководимое Рачкевичем, против соглашения с люблинским правительством. Больше того: оно относится враждебно к такому соглашению. Лондонские поляки называют люблинское правительство собранием преступников и бандитов. Разумеется, бывшее люблинское, а теперь варшавское правительство не остается в долгу и квалифицирует лондонских поляков как предателей и изменников. При таких условиях, как их объединить?
Указав, что руководящие деятели варшавского правительства не хотят и слышать о каком-либо объединении с польским правительством в Лондоне, глава Советского правительства подчеркнул, что вместе с тем они могли бы терпеть в своей среде таких лиц из числа лондонских поляков, как Грабовский и Желиговский, но они решительно возражают против того, чтобы Миколайчик был премьер-министром. Все же, заверил Сталин, он готов предпринять любую попытку для объединения поляков, но только в том случае, если эта попытка будет иметь шансы на успех.
Сославшись на предложение Черчилля о том, чтобы создать польское правительство здесь же, на конференции, Сталин сказал, что, как он думает, Черчилль оговорился: можно ли создать польское правительство без участия поляков?
Многие называют меня диктатором, продолжал Сталин, считают недемократом, однако у меня «достаточно демократического чувства для того, чтобы не пытаться создавать польское правительство без поляков. Польское правительство может быть создано только при участии поляков и с их согласия».
Сталин высказал мнение, что решение вопроса о польском правительстве следует отложить до его обсуждения с поляками. Среди поляков, подчеркнул он, есть люди различных взглядов.
Черчилль, чувствуя, что попал в неловкое положение, принялся уверять, что он стремится лишь к тому, чтобы, вернувшись в Англию, провести через парламент вопрос о восточной границе Польши. Он считает это возможным, если сами поляки между собой смогут решить вопрос о правительстве. Однако, добавил Черчилль, он сам невысокого мнения о поляках.
Все почувствовали, что Черчилль допустил еще одну бестактность, и Сталин сразу же отреагировал на это, заявив, что среди поляков имеются очень хорошие люди. Поляки, сказал он, храбрые бойцы. Польский народ дал выдающихся представителей науки и искусства. На это Черчилль лишь ограничился замечанием, что он стремится обеспечить равные возможности всем сторонам.
Сталин подчеркнул, что все нефашистские и антифашистские силы будут иметь равные возможности. Однако эта формулировка не понравилась Черчиллю, и он заявил, что считает не совсем правильным проводить водораздел по линиям: фашистский или нефашистский. Он предпочитает термин «демократы».
Подкрепляя свои мысли, Сталин процитировал положение, содержащееся в подготовленном для принятия конференцией проекте Декларации об освобожденной Европе. Там было сказано: «Установление порядка в Европе и переустройство национальной экономической жизни должно быть достигнуто таким путем, который позволит освобожденным народам уничтожить последние следы фашизма и нацизма и создать демократические учреждения по их собственному выбору». Приведя эту выдержку, Сталин добавил, что, как следует из данного текста, между демократией и фашизмом не может быть единства.
Черчилль согласился, что такого единства не должно быть и не будет.
Здесь счел уместным вступить в беседу и президент Рузвельт. Он заявил, что пример Польши будет примером осуществления на практике принципов Декларации об освобожденной Европе. Фраза, которую зачитал маршал Сталин, продолжал Рузвельт, имеет важное значение, ибо она дает нам возможность уничтожить всякие следы фашизма. В следующем абзаце проекта декларации сказано, что народы могут учредить временные правительственные власти, представляющие все демократические слои населения, а затем создать постоянные с помощью свободных и справедливых выборов. Мне хотелось бы, заключил президент, чтобы польские выборы, подобно жене Цезаря, были выше подозрений.
— О жене Цезаря так только говорили. На самом деле у нее были кое-какие грешки, — заметил Сталин.
— Но выборы в Польше, — продолжал настаивать Рузвельт, — должны быть совершенно «чисты», так чисты, чтобы они никем не могли быть взяты под сомнение…
В ходе обсуждения проблемы формирования польского правительства Сталин коснулся также чисто военного аспекта. Он поставил вопрос: что он как военный требует от правительства страны, освобожденной Красной Армией? Он требует только одного: чтобы это правительство обеспечивало порядок и спокойствие в тылу Красной Армии, чтобы оно предотвращало возникновение гражданской войны позади нашей линии фронта. В конце концов, рассуждал Сталин, для военных довольно безразлично, какое это будет правительство; важно лишь, чтобы им не стреляли в спину. В Польше имеется варшавское правительство. В Польше имеются также агенты лондонского правительства, которые связаны с подпольными кругами, именующимися «силами внутреннего сопротивления». Сравнивая деятельность тех и других, неизбежно приходишь к выводу: варшавское правительство неплохо справляется со своими задачами по обеспечению порядка и спокойствия в тылу Красной Армии, а от «сил внутреннего сопротивления», подчеркнул Сталин, мы не имеем ничего, кроме вреда. Эти «силы» уже успели убить 212 военнослужащих Красной Армии. Они нападают на наши склады, чтобы захватить оружие. Они нарушают наши приказы о регистрации радиостанций на освобожденной Красной Армией территории… «Силы внутреннего сопротивления, — заключил Сталин, — нарушают все законы войны. Они жалуются, что мы их арестовываем. Но я должен прямо заявить, что если эти „силы“ будут продолжать свои нападения на наших солдат, то мы будем их расстреливать».
Выслушав соображения советской стороны, президент Рузвельт предложил отложить обсуждение польского вопроса до следующего заседания и добавил, что эта проблема на протяжении пяти веков причиняла миру головную боль.
Черчилль заметил, что надо постараться, чтобы польский вопрос больше не причинял головной боли человечеству.
— Это обязательно нужно сделать, — подтвердил Сталин. На следующем, четвертом пленарном заседании в Ливадийском дворце, состоявшемся 7 февраля, президент Рузвельт во вступительном слове подчеркнул, что его больше всего интересует вопрос о преемственности польского правительства. Ведь известно, что в течение нескольких лет в Польше не было вообще никакого правительства. Он полагает, однако, что США, СССР и Великобритания могли бы помочь полякам в создании временного правительства, пока для них не окажется возможным провести свободные выборы. Надо, продолжал Рузвельт, сделать в этой области что-нибудь новое, что-то такое, что было бы похоже на струю свежего воздуха…
Сталин с этим согласился, а Черчилль сказал, что если участники совещания разъедутся, не достигнув соглашения по польскому вопросу, то все это будет расцениваться как неудача конференции.
В целом на конференции польскому вопросу было уделено довольно много времени. Американская идея «президентского совета» была в конечном счете отклонена. Участники конференции договорились, что Польша получит компенсацию за счет Восточной Пруссии к югу от Кенигсберга и Верхней Силезии, вплоть до Одера.
Американская делегация представила проект, который лег в основу документа, принятого после длительной дискуссии. В итоге в декларации «О Польше», опубликованной после окончания конференции, говорилось, что «действующее ныне в Польше Временное Правительство должно быть… реорганизовано на более широкой демократической базе с включением демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы». Что касается границы Польши, то была принята на востоке линия Керзона, а на западе — новая граница по Одеру и Западной Нейсе. В декларации об этом сказано лишь в общей форме. Там говорилось, что «восточная граница… должна идти вдоль линии Керзона с отступлениями от нее в некоторых районах от пяти до восьми километров в пользу Польши». Далее указывалось, что, как считают главы трех правительств, «Польша должна получить существенное приращение территории на севере и на западе», причем по вопросу о размере этих приращений в надлежащее время будет спрошено мнение нового Польского правительства национального единства и вслед за тем «окончательное определение западной границы Польши будет отложено до мирной конференции».
Дела дальневосточные
Состоявшийся в предварительном порядке обмен мнениями по вопросу о вступлении СССР в войну против Японии и по другим вопросам, связанным с этим, в значительной степени облегчил рассмотрение данной проблемы в Ялте. Имело значение и то, что начальники объединенных штабов США накануне встречи в Крыму представили президенту Рузвельту довольно пессимистические соображения относительно перспектив военных действий США против Японии. По их мнению, потребовалось бы по меньшей мере полтора года после капитуляции Германии для того, чтобы добиться победы. Вовсе не рассчитывая на скорую капитуляцию Японии, они планировали вторжение на Японские острова лишь зимой 1945/46 года. А в случае затяжки европейской войны, что отсрочило бы переброску войск на тихоокеанский театр военных действий, предлагалось вообще отложить вторжение до более поздней даты 1946 года. Стремясь сократить американские потери в операции, которую генерал Макартур представлял себе как «чрезвычайно ожесточенную кампанию по вторжению и оккупации индустриального сердца Японии через Токийскую низменность», начальники объединенных штабов возлагали надежду на помощь СССР. В меморандуме, адресованном президенту и датированном 23 января 1945 г., они заявляли:
«Вступление России (в войну против Японии. — В. Б.) на такой ранней стадии, какая только была бы совместима с ее способностью принять участие в наступательных операциях, совершенно необходимо для обеспечения максимальной помощи нашим действиям на Тихом океане. Соединенные Штаты обеспечат максимально возможную поддержку, какую допускают наши главные усилия против Японии. Целями военных усилий России против Японии на Дальнем Востоке должны быть поражение японских сил в Маньчжурии, воздушные операции против собственно Японии в сотрудничестве с военно-воздушными силами Соединенных Штатов, базирующимися в Восточной Сибири, и максимальные помехи японскому судоходству между Японией и азиатским континентом».
Эти соображения высшего американского командования, несомненно, в немалой степени определяли позицию Рузвельта на Ялтинской конференции. Вопрос этот обсуждался 8 февраля в узком кругу при встрече главы Советского правительства и президента США. На беседе с советской стороны присутствовал Молотов, а с американской — Гарриман. Больше никого, кроме переводчиков, не было. Рассказывая об этой встрече, Гарриман отмечает, что во вступительном слове Сталин сослался на состоявшуюся. Москве беседу с послом США и заявил, что советская сторона хотела бы обсудить политические условия, на которых СССР был бы готов вступить в войну против Японии. Далее он изложил соображения, представленные американскому послу в декабре прошлого года.
Рузвельт ответил, что не усматривает сложностей в том, чтобы Советскому Союзу были возвращены Южный Сахалин и Курильские острова. Что же касается Дайрена, то, как он уже упоминал в Тегеране, СССР безусловно должен иметь свободный доступ к незамерзающему порту на конечном отрезке Маньчжурской железной дороги. Но он, Рузвельт, в настоящий момент не может говорить за китайское правительство. Пожалуй, он мог бы поставить перед китайцами вопрос об аренде Дайрена, который стал бы свободным портом под международным наблюдением. Этот метод, продолжал Рузвельт, он предпочитал бы не только в отношении Дайрена, но также и Гонконга. Что же касается Маньчжурской железной дороги, то он склоняется к тому, чтобы вместо аренды она управлялась совместно русскими и китайцами.
Столь уклончивый ответ никак не устраивал советскую сторону. Сталин продолжал настаивать на своем. Если его условия не будут приняты, заявил он, то советским людям будет трудно понять, зачем СССР вступает в войну против Японии. Они прекрасно понимают смысл войны с Германией, которая угрожала самому существованию Советского Союза, но они не поймут, зачем СССР понадобилось атаковать Японию. Если же его политические условия будут приняты, то дело можно будет гораздо проще объяснить как народу, так и Верховному Совету СССР, поскольку тут будут затронуты национальные интересы страны.
Рузвельт, за неимением других аргументов, принялся говорить о том, что он не успел обсудить это дело с Чан Кайши, что с китайцами вообще трудно говорить откровенно, потому что все, о чем с ними беседуешь, становится известно всему свету, включая и Токио, через 24 часа.
Сталин заметил, что нет необходимости спешить с информированием китайцев. Он лишь хотел бы, чтобы его предложения были изложены в письменном виде и получили одобрение Рузвельта и Черчилля до окончания конференции. Рузвельт не возражал.
10 февраля Молотов пригласил Гарримана на виллу Кореиз в резиденцию советской делегации, и вручил ему английский текст советских предложений насчет политических условий вступления СССР в войну против Японии. Ознакомившись с документом, Гарриман заметил, что, как он полагает, президент пожелает сделать в нем следующие поправки: Порт-Артур и Дайрен должны быть свободными портами, а Маньчжурская железная дорога должна быть в ведении совместной русско-китайской комиссии. К тому же вся эта договоренность должна быть одобрена китайцами.
Вернувшись в Ливадию, Гарриман получил согласие Рузвельта на сформулированные им поправки, а весь вопрос был окончательно урегулирован после пленарного заседания конференции вечером того же дня. Сталин, оставшись наедине с Рузвельтом, сказал, что он согласен, чтобы Маньчжурская железная дорога управлялась совместной комиссией. Не возражал он и против подтверждения китайцами достигнутой договоренности. Он добавил, однако, что китайцы должны при этом подтвердить и статус-кво Монгольской Народной Республики. Сталин согласился также с тем, чтобы Дайрен стал свободным портом, но настаивал, чтобы Порт-Артур, поскольку там будет советская военно-морская база, использовался на основе аренды. Рузвельт согласился с этим изменением, заявив, что принимает на себя ответственность за последующую консультацию с Чан Кайши, когда глава Советского правительства уведомит его, что считает время для этого созревшим.
На основе достигнутой договоренности был составлен документ, подписанный 11 февраля И. Сталиным, Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем. Руководители трех держав, указывалось в нем, согласились, что «через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз вступит в войну против Японии на стороне Союзников при условии:
1. Сохранения status quo Внешней Монголии (Монгольской Народной Республики).
2. Восстановления принадлежавших России прав, нарушенных вероломным нападением Японии в 1904 г., а именно:
a) возвращения Советскому Союзу южной части о. Сахалина и всех прилегающих к ней островов;
b) интернационализации торгового порта Дайрена с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза в этом порту и восстановления аренды на Порт-Артур, как на военно-морскую базу СССР;
c) совместной эксплуатации Китайско-Восточной железной дороги и Южно-Маньчжурской железной дороги, дающей выход на Дайрен, на началах организации смешанного Советско-Китайского Общества с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза, при этом имеется в виду, что Китай сохраняет в Маньчжурии полный суверенитет.
3. Передачи Советскому Союзу Курильских островов».
Далее в документе говорилось, что соглашение относительно Внешней Монголии и вышеупомянутых портов и железных дорог потребует согласия китайской стороны и что «претензии Советского Союза должны быть безусловно удовлетворены после победы над Японией».
Стоит отметить, что Гарриман, как он пишет в своих мемуарах, возражал против формулировки о преимущественных интересах и правах Советского Союза. Он даже пытался убедить Рузвельта выступить против такой формулировки. Но президент ответил отказом, считая, что в этом деле Советский Союз, совершенно естественно, имеет преимущественные интересы по сравнению с США и Англией.
Пример равноправных отношений
Крымская конференция руководителей США, СССР и Великобритании имела большое историческое значение. Она явилась одним из крупнейших международных совещаний военного времени, важной вехой сотрудничества держав антигитлеровской коалиции в ведении войны против общего врага. Принятие Крымской конференцией согласованных решений по важным вопросам вновь показало возможность и эффективность международного сотрудничества государств с различным общественным, строем. Выступая перед конгрессом США сразу же после возвращения из Ялты, президент Рузвельт заявил:
«Конференция в Крыму ознаменовала, я надеюсь, поворотный момент в нашей истории и потому в истории всего мира… Крымская конференция должна подвести черту под системой односторонних действий, замкнутых союзов, сфер влияния, баланса сил и всех других аксессуаров, которые использовались на протяжении столетий и всегда безуспешно. Мы предлагаем замену всему этому всемирную организацию, в которой все миролюбивые государства смогут принять участие».
Существо ялтинских решений в том, что они учитывали интересы всех сторон. Встреча в Крыму вполне могла служить примером равноправных отношений на международной арене. По существу, она означала признание принципа мирного сосуществования государств с различными общественными системами.
Подводя итоги Крымской конференции, Гарри Гопкинс говорил: «Мы действительно верили в глубине души, что это была заря нового дня, о котором все мы молились и говорили на протяжении многих лет. Мы были абсолютно убеждены, что выиграли первую великую победу за дело мира — и, говоря „мы“, имею в виду всех нас, все цивилизованное человечество. Русские доказали, что они могут быть разумными и дальновидными, и у президента, как и у всех нас, не было никакого сомнения, что мы можем жить с ними и сотрудничать в мире до самого далекого будущего, которое только мог вообразить любой из нас».
Решения Крымской конференции способствовали укреплению антифашистской коалиции на заключительном этапе войны и достижению победы над гитлеровской Германией. Борьба за всестороннее и полное осуществление этих решений стала одной из главных задач советской внешней политики не только в конце войны, но и в послевоенные годы.
В период работы Крымской конференции Советские Вооруженные Силы продолжали активные наступательные действия на всем советско-германском фронте. В феврале — марте 1945 года главные усилия Красной Армии были сосредоточены на форсировании завершающего удара на берлинском направлении. С этой целью советские войска осуществляли наступательные операции против фланговых группировок противника на территории Восточной Померании, Нижней и Верхней Силезии, Восточной Пруссии и вели упорные бои за расширение занятых плацдармов на левом берегу Одера в районах Кюстрина и Франкфурта.
На ходе переговоров в Ялте не мог не сказываться огромный рост международного авторитета Советского Союза. Выдающиеся победы Советских Вооруженных Сил обеспечили принятие таких решений, которые соответствовали интересам свободолюбивых народов. Весьма показательно в этом отношении признание английского консервативного журнала «Экономист». 3 февраля 1945 г. журнал писал, что «наиболее существенные вопросы решаются не в посольствах, а на полях сражений в Померании и Бранденбурге».
В целом работа Ялтинской конференции проходила в конструктивном духе, в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества. Участники конференции могли с полным основанием констатировать: «…Совещание в Крыму вновь подтвердило нашу общую решимость сохранить и усилить в предстоящий мирный период то единство целей и действий, которое сделало в современной войне победу возможной и несомненной для Объединенных Наций. Мы верим, что это является священным обязательством наших Правительств перед своими народами, а также перед народами мира… Победа в этой войне и образование предполагаемой международной организации представляет самую большую возможность во всей истории человечества для создания в ближайшие годы важнейших условий такого мира».
Но именно эти цели, провозглашенные в Ялте руководителями трех держав антигитлеровской коалиции, не устраивали тех, кто готовился развязать «холодную войну». Потому-то они и обрушились на решения ялтинской встречи.
В 70-е годы, в условиях разрядки многие буржуазные историки, в том числе и в Соединенных Штатах, начинают более трезво подходить к оценке Ялтинской конференции, критически относиться к огульному охаиванию ее итогов. На Западе появилась так называемая «ялтинская школа» международников. В отличие от представителей так называемой «рижской школы» (между двумя мировыми войнами в Риге находился основной центр по подготовке американских советологов, воспитывавшихся в резко антисоветском духе) сторонники «ялтинской школы» выступают в пользу нормализации отношений между США и СССР, справедливо отмечают, что решения, принятые в Ялте, давали альтернативу «холодной войне».
Действительно, если бы послевоенное развитие шло в духе этих решений, ситуация в мире могла бы сложиться по-иному. В связи с этим теперь нередко задают вопрос: если сотрудничества, о котором заявляли участники ялтинской встречи, не получилось, то можно ли рассчитывать, что на современном этапе разрядка на международной арене может принять необратимый характер?
Разумеется, прогнозировать развитие международной обстановки — дело нелегкое. Но есть основополагающие факторы, правильное понимание которых дает возможность заглянуть в будущее. Научный марксистско-ленинский анализ этих факторов позволил XXIV съезду КПСС в новых исторических условиях выработать Программу мира, поддержанную всеми миролюбивыми силами. Программа мира, развитая XXV и XXVI съездами КПСС, дает основание с оптимизмом смотреть в будущее.
От Ялты до Потсдама
ПОВОРОТ В АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИКЕ
На берлинском направлении
Вскоре после возвращения советской делегации из Ялты в Москву в Ставке Верховного Главнокомандующего рассматривались предложения генштаба о проведении берлинской операции. Сталин утвердил их и приказал дать фронтам необходимые указания о всесторонней подготовке этой решающей операции. Советские Вооруженные Силы стали готовиться к последней схватке с гитлеровской Германией. При этом наше командование строго придерживалось согласованного с союзниками требования о безоговорочной капитуляции Германии.
Решениями Ялтинской конференции советская зона оккупации Германии была определена значительно западнее Берлина. Красная Армия уже находилась на Одере, примерно в 70 км от столицы рейха, и была готова начать берлинскую операцию. Но и в этот момент Черчилль все еще продолжал носиться с мыслью о том, чтобы первыми Берлин заняли англо-американские войска. Не исключало такой возможности и верховное командование западных союзников. Информируя 7 апреля 1945 г. объединенный штаб относительно завершающих операций на Западном фронте, генерал Эйзенхауэр отметил: «Если после взятия Лейпцига окажется, что можно без больших потерь продвигаться на Берлин, я хочу это сделать… Я первый из тех, кто считает, что война ведется в интересах достижения политических целей, и если объединенный штаб решит, что усилия союзников по захвату Берлина перевешивают на этом театре чисто военные соображения, я с радостью исправлю свои планы и свое мышление так, чтобы осуществить такую операцию».
К тому же и гитлеровцы были готовы прекратить сопротивление на западе и открыть американским и английским войскам дорогу на Берлин, чтобы не допустить его взятия Красной Армией. Не случайно в середине апреля американский радиообозреватель Дж. Гровер констатировал: «Западный фронт фактически уже не существует». И действительно, форсирование Рейна войсками союзников проходило в облегченных условиях, по существу, без сопротивления немцев. Не дожидаясь ликвидации рурской группировки германских войск, главное командование западных союзников поспешно бросило основные силы на берлинское направление с целью выхода на Эльбу.
Все это показывает, сколь важное значение приобретала берлинская операция Красной Армии. Верховный Главнокомандующий дал директиву в течение 12–15 дней выйти на Эльбу. В огненном шквале, обрушившемся в 5 часов утра 16 апреля на гитлеровцев, были похоронены надежды Черчилля, а также некоторых других западных политиков на захват Берлина до прихода туда советских войск. Основная цель на данном этапе войны заключалась в полной ликвидации фашизма в общественном и государственном строе Германии, привлечении к строжайшей ответственности всех главных нацистских преступников за их зверства, массовые убийства, разрушения и издевательства над народами оккупированных стран и территорий.
Но при этом советские люди никогда не ставили знак равенства между гитлеровскими преступниками и немецким народом. Несмотря на все то, что пришлось пережить нашей стране, Советский Союз не собирался ни расчленять, ни уничтожать Германию. В этом духе в частях Красной Армии, вступивших на германскую территорию, проводилась большая разъяснительная работа. Впоследствии некоторые западные пропагандисты не раз проводили лживые кампании по поводу так называемых «эксцессов» советских войск в Германии. Это — злостная выдумка. Мне приходилось нередко беседовать в ФРГ с лицами, бывшими свидетелями вступления Красной Армии в Восточную Пруссию, Силезию, Померанию. Всех их поражала дисциплина и тактичное поведение советских военнослужащих. Мои собеседники говорили также, что, если в первые дни кое-где на немецкой территории и были отдельные инциденты, их строго пресекло советское командование, и они больше не повторялись.
Приходится лишь удивляться тому, как мало их было, учитывая крайнее ожесточение людей, прошедших через пепелища родных городов и сел, видевших чудовищные зверства нацистов. К тому же, действительно, советские люди никогда не давали чувству мести ослепить себя, хотя они и пережили страшные лишения в годы Великой Отечественной войны.
В этом отношении большую воспитательную роль сыграла в тот сложный период советская печать. Она будила священную ненависть к захватчикам, но одновременно и напоминала о снисходительности к поверженному врагу. Любопытна полемика, происшедшая в нашей прессе в дни, когда завершалась подготовка к грандиозной операции на берлинском направлении. 14 апреля 1945 г. в «Правде» была опубликована статья «Товарищ Эренбург упрощает». В статье делалась ссылка на помещенную в газете «Красная Звезда» от 11 апреля корреспонденцию Ильи Эренбурга, озаглавленную «Хватит». Известный публицист и писатель, много сделавший для мобилизации народа на борьбу против гитлеровских захватчиков, в этой корреспонденции затронул вопрос о положении в Германии и о причинах, позволивших германскому командованию сосредоточить большое количество войск на советско-германском фронте при одновременном ослаблении сопротивления на западе. Как указывала «Правда», основные положения статьи Эренбурга были «не продуманы и явно ошибочны». «Правда» писала:
«Читатель не может согласиться ни с его изображением Германии как единой „колоссальной шайки“, ни с его объяснением причин отхода немецко-фашистских войск с Западного фронта и сосредоточения всех сил германской армии на востоке.
Тов. Эренбург уверяет читателей, что все немцы одинаковы и что все они в одинаковой мере будут отвечать за преступления гитлеровцев. В статье „Хватит“ говорится, будто бы „Германии нет, есть колоссальная шайка, которая разбегается, когда речь заходит об ответственности“. В статье говорится также, что в Германии „все бегут, все мечутся, все топчут друг друга, пытаясь пробраться к швейцарской границе“.
Не составляет труда показать, что это уверение т. Эренбурга не отвечает фактам. Ныне каждый убедился, и это особенно ясно видно на опыте последних месяцев, что разные немцы по-разному воюют и по-разному ведут себя. Одни из них с тупым упорством всеми средствами отстаивают фашизм, фашистскую партию, фашистское государство, гитлеровскую клику. Другие предпочитают воздерживаться от активной борьбы за гитлеризм, выждать или же сдаться в плен. Одни немцы всемерно поддерживают фашизм, гитлеровский строй, другие, разочаровавшись в войне, потеряв надежду на победу, охладели к диким, сумасбродным планам фюрера. И это можно сказать не только о гражданском населении, но и о немецкой армии. Разъедающая кислота проникла в тело немецко-фашистской армии. Не удивительно, что если одни немецкие офицеры бьются за людоедский строй, то другие бросают бомбы в Гитлера и его клику или же убеждают немцев сложить оружие».
В статье подчеркивалось, что времена фашистского угара в Германии на исходе и что идет быстрый распад тыла немецко-фашистских войск. «В жизни, — говорилось далее, — нет единой Германии и не все немцы одинаково ведут себя. Между тем именно гитлеровская пропаганда призывает немцев к единству, лживо уверяя, будто армии Объединенных Наций намерены истребить германский народ, в связи с чем все немцы должны сплотиться и подняться на битву за сохранение Германии. „Участие в войне в той или другой форме обязательно для всех без исключения жителей Германии“, — призывал в те дни Геббельс».
«Спрашивается, — ставила вопрос „Правда“, — почему на шестом году войны гитлеровцы так неистово завопили о необходимости единства германского народа перед грозящей фашистскому государству опасностью? Это объясняется весьма просто. Стремясь связать судьбу всего немецкого населения и всей германской армии с судьбой фашистской клики, гитлеровцы рассчитывают почерпнуть некоторые дополнительные силы для продолжения преступной войны, затянуть неизбежную развязку, получить время для военно-политических и дипломатических маневров, отсрочить час справедливого суда свободолюбивых народов над кровавыми гитлеровскими преступниками…
Понятно отсюда, почему ошибочна точка зрения т. Эренбурга, который изображает в своих статьях население Германии как некое единое целое… Если признать точку зрения т. Эренбурга правильной, то следует считать, что все население Германии должно разделить судьбу гитлеровской клики.
Незачем говорить, что т. Эренбург не отражает в данном случае советского общественного мнения. Красная Армия, выполняя свою великую освободительную миссию, ведет бои за ликвидацию гитлеровской армии, гитлеровского государства, гитлеровского правительства, но никогда не ставила и не ставит своей целью истребить немецкий народ. Это было бы глупо и бессмысленно…
В полном соответствии с этой советской точкой зрения находятся и решения Крымской конференции, в которых говорится: „В наши цели не входит уничтожение германского народа. Только тогда, когда нацизм и милитаризм будут искоренены, будет надежда на достойное существование для германского народа и место для него в сообществе наций“.
Отсюда ясно, что жизни немцев, которые поведут, борьбу с Гитлером или будут лояльно относиться к союзным войскам, не угрожает опасность. Конечно, тем из них, кои ведут и будут вести борьбу против Красной Армии и войск союзников за сохранение фашистских порядков, не будет никакой пощады».
«Правда» обращала внимание и на другое высказывание Эренбурга, а именно на то, как он объяснял ожесточенное сопротивление немцев на советско-германском фронте — их страхом, боязнью ввиду предстоящей расплаты за совершенные злодеяния на советской земле.
«Нет слов, — писала „Правда“, — немцы, повинные в преступлениях на нашей земле, страшатся ответственности, тем более что час расплаты близок. Несомненно также, что это обстоятельство усиливает сопротивление тех из них, кои повинны в преступлениях против советских людей. Известно, что гитлеровцы нигде так не палачествовали, нигде не проявляли так разнузданно свою людоедскую сущность, как в оккупированных районах СССР. Народ наш ожесточен. Может быть, большей ненависти, чем ненависть советских людей к фашистским поработителям, еще не видел мир. Но вместе с тем было бы упрощением и наивностью объяснять современную расстановку германских вооруженных сил между Западным и Восточным фронтами только лишь страхом, боязнью гитлеровских преступников. Причины оголения немцами своего Западного фронта и продолжающегося сосредоточения войск на советско-германском фронте лежат глубже, нежели чувствительность гитлеровцев к страху».
Действительно, за последние два с половиной месяца германское командование перебросило на советско-германский фронт с Западного фронта, из центральных районов Германии, из Норвегии и Северной Италии 44 дивизии. Сосредоточив их на советско-германском фронте, немцы оставили фактически без серьезной защиты весь Западный фронт.
«Какую цель преследует командование германской армии таким распределением своих вооруженных сил между Западом и Востоком?.. Гитлеровцы стремятся породить своими действиями недоверие в лагере Объединенных Наций, вызвать раздор между союзниками, отвести хотя бы на время от себя последний смертельный удар союзных армий и сохранить при помощи провокаторского военно-политического трюка то, что не удалось достигнуть при помощи вооруженных сил».
Говоря о «военно-политическом трюке», «Правда», несомненно, имела в виду и другие маневры гитлеровцев, в которых были, впрочем, замешаны и некоторые влиятельные круги западных держав.
Бернский инцидент
Во второй половине февраля 1945 года Управление стратегической службы США (американская разведка, возглавлявшаяся в то время генералом Доновеном. — В. Б.) получило из нейтральной Швейцарии сообщение о том, что высший чин СС в Италии генерал Карл Вольф пытается установить контакты с западными союзниками по поводу условий прекращения германского сопротивления в Северной Италии. После предварительной проверки этих сведений генерал Вольф был приглашен в Цюрих для встречи с Алленом Даллесом, который в то время был резидентом Управления стратегической службы в Швейцарии. Такая встреча состоялась, после чего Даллес в посланном в Вашингтон отчете предложил продолжить переговоры, которые проводились в Берне в глубокой тайне.
Только 12 марта послу США в Москве было наконец поручено проинформировать Советское правительство о состоявшихся переговорах. Встретившись с Молотовым, Гарриман сообщил, что прибывший в Берн германский генерал Вольф обсуждает с представителями армий Соединенных Штатов и Великобритании вопрос о капитуляции германских вооруженных сил в Северной Италии. Американский посол добавил, что английскому фельдмаршалу Александеру было поручено командировать своих офицеров в Берн для встречи с немецкими эмиссарами. Гарриман поинтересовался точкой зрения Советского правительства по этому вопросу.
В тот же день нарком иностранных дел сообщил послу США, что Советское правительство не возражает против переговоров с генералом Вольфом в Берне. Однако в них должны принять участие офицеры, представляющие советское военное командование. Поскольку СССР и Швейцария не имели тогда дипломатических отношений, Молотов выразил надежду, что Соединенные Штаты окажут помощь в тол, чтобы три советских офицера могли прибыть в эту страну и присоединиться к переговорам, происходящим в Берне.
Американцы ответили отказом. Гарриман приписывает себе инициативу в принятии такого решения. Он пишет, что, информируя Вашингтон о встрече с Молотовым, посоветовал отклонить просьбу Москвы, аргументируя тем, что подключение СССР с политической точки зрения не даст западным союзникам никаких выгод. Если, пояснял он, русские будут допущены к этим «чрезвычайно деликатным» переговорам, они могут затруднить дело, выдвигая неприемлемые требования. Трудно сказать, докладывалась ли данная проблема уже на этой стадии президенту Рузвельту, но доподлинно известно, что генерал Маршалл поддержал Гарримана, которому были посланы в Москву соответствующие инструкции.
16 марта посольство США направило Молотову письмо, из которого следовало, что правительство Соединенных Штатов формально отклонило советскую просьбу. В тот же день нарком иностранных дел СССР отправил послу США письмо, в котором говорилось, что «отказ Правительства США в участии советских представителей в переговорах в Берне явился для Советского Правительства совершенно неожиданным и непонятным с точки зрения союзных отношений между нашими странами. Ввиду этого Советское Правительство считает невозможным дать свое согласие на переговоры американских и британских представителей с представителями германского командования в Берне и настаивает на том, чтобы уже начатые переговоры были прекращены».
Советское правительство настаивало также, чтобы и впредь была исключена возможность ведения сепаратных переговоров одной или двух союзных держав с германскими представителями без участия третьей союзной державы.
В письме от 21 марта американская сторона всячески оправдывалась, уверяя, что переговоры в Берне носят, дескать, чисто военный характер и что Советское правительство неправильно представляет себе цель этого контакта. Западные союзники пытались представить дело так, будто речь шла о переговорах по поводу капитуляции германских войск на ограниченном участке фронта и поэтому, мол данный вопрос находится в компетенции соответствующего командования. Однако тот факт, что США и Англия отказались допустить на эти переговоры советских представителей, говорил о другом: тут, несомненно, имела место попытка закулисного сговора с врагом в отсутствие одного из трех главных участников антигитлеровской коалиции. На это и обратил внимание нарком иностранных дел в своем письме Гарриману от 22 марта. Он констатировал:
«…Должен заявить, что не вижу никаких оснований для Вашего заявления о том, что Советское Правительство неправильно представляет себе цель контакта в Берне между немецким генералом Вольфом и представителями фельдмаршала Александера, так как в данном деле имеет место не неправильное представление о цели контакта и не недоразумение, а нечто худшее.
Из Вашего письма от 12 марта видно, что германский генерал Вольф и сопровождающие его лица прибыли в Берн для ведения с представителями англо-американского командования переговоров о капитуляции немецких войск в Северной Италии, Когда Советское Правительство заявило о необходимости участия в этих переговорах представителей Советского Военного Командования, Советское Правительство получило в этом отказ.
Таким образом, в Берне в течение двух недель за спиной Советского Союза, несущего на себе основную тяжесть войны против Германии, ведутся переговоры между представителями германского военного командования, с одной стороны, и представителями английского и американского командования — с другой. Советское Правительство считает это совершенно недопустимым и настаивает на своем заявлении, изложенном в моем письме от 16 марта сего года».
Поскольку дело приобрело такую остроту, в переписку включился президент Рузвельт. 25 марта в Кремле было получено личное и строго секретное послание президента, адресованное маршалу Сталину. В нем Рузвельт, сославшись на ставший ему известным обмен письмами между Гарриманом и Молотовым относительно переговоров в Швейцарии, высказывал мнение, что «в результате недоразумения факты, относящиеся к этому делу не были изложены Вам правильно». Далее Рузвельт довольно пространно излагал американскую версию истории этих переговоров, которые якобы сводились к тому, чтобы «договориться с любыми компетентными германскими офицерами об организации совещания с фельдмаршалом Александером в его ставке в Италии с целью обсуждения деталей капитуляции». Представив таким образом ситуацию, Рузвельт добавил, что «если бы можно было договориться о таком совещании, то присутствие советских представителей, конечно, приветствовалось бы». Сообщая далее, что «до настоящего времени попытки… организовать встречу с германскими офицерами не увенчались успехом», президент уверял, что был бы рад «при любом обсуждении деталей капитуляции командующим нашими американскими войсками на поле боя воспользоваться опытом и советом любых из Ваших офицеров, которые могут присутствовать». Вместе с тем Рузвельт заявлял, что не может прекратить «изучение возможности капитуляции».
Заканчивалось послание в примирительном тоне: «…Надеюсь, что Вы разъясните соответствующим советским должностным лицам желательность и необходимость того, чтобы мы предпринимали быстрые и эффективные действия без какого-либо промедления в целях осуществления капитуляции любых вражеских сил, противостоящих американским войскам на поле боя».
Нельзя было не видеть, что те, кто помогал составлять это послание, пытались представить в невинном свете переговоры, которые могли повлечь за собой пагубные последствия. К тому же дело изображалось так, будто никаких разговоров по существу во время контактов с генералом Вольфом вообще не было и речь шла лишь о техническом вопросе — организации встречи в Казерте, в штаб-квартире фельдмаршала Александера. В свете имевшихся у Советского правительства данных из других источников было очевидно, что переговоры уже находились в серьезной фазе и что американцы лишь пытались затушевать факты. Естественно поэтому, что советская сторона мимо этого пройти не могла.
В послании от 29 марта глава Советского правительства сообщал американскому президенту, что он не только не против, но, наоборот, целиком стоит за то, чтобы использовать случаи развала в немецких армиях и ускорить их капитуляцию на том или ином участке фронта, поощрить их в деле открытия фронта союзным войскам.
«Но я согласен, — продолжал Сталин, — на переговоры с врагом по такому делу только в том случае, если… будет исключена для немцев возможность маневрировать и использовать эти переговоры для переброски своих войск на другие участки фронта, и прежде всего на советский фронт.
Только в целях создания такой гарантии и было Советским Правительством признано необходимым участие представителей Советского военного командования в таких переговорах с врагом, где бы они ни происходили — в Берне или Казерте. Я не понимаю, почему отказано представителям Советского командования в участии в этих переговорах и чем они могли бы помешать представителям союзного командования.
К Вашему сведению должен сообщить Вам, что немцы уже использовали переговоры с командованием союзников и успели за этот период перебросить из Северной Италии три дивизии на советский фронт».
Подчеркнув далее, что провозглашенная на Крымской конференции задача согласованных ударов против немцев с запада, с юга и с востока состоит в том, чтобы приковать войска противника к месту их нахождения и не дать ему возможности перебрасывать войска в нужном ему направлении, Сталин отметил, что эта задача Советским командованием выполняется. Глава Советского правительства отметил, в частности, что под Данцигом или Кенигсбергом немецкие войска окружены и не могут открыть фронт советским войскам, так как фронт ушел далеко на запад. Совсем другое положение у немецких войск в Северной Италии, сказал Сталин. Они не окружены. Если в Северной Италии немцы добиваются переговоров, чтобы открыть фронт союзным войскам, то «это значит, что у них имеются какие-то другие, более серьезные цели, касающиеся судьбы Германии».
Между тем сепаратные переговоры в Берне продолжались. Втягиваясь все больше в эту акцию, американское правительство понимало, что должно как-то разъяснить ситуацию советской стороне. К тому же не была исключена и возможность утечки информации.
1 апреля от Рузвельта поступило новое послание. В нем говорилось, что вокруг «будущих переговоров с немцами о капитуляции их вооруженных сил в Италии… создалась теперь атмосфера достойных сожаления опасений и недоверия». Далее Рузвельт уверял, что «никаких переговоров о капитуляции не было, и если будут какие-либо переговоры, то они будут вестись в Казерте все время в присутствии Ваших представителей… Все это дело возникло в результате инициативы одного германского офицера, который якобы близок к Гиммлеру, причем, конечно, весьма вероятно, что единственная цель, которую он преследует, заключается в том, чтобы посеять подозрения и недоверие между союзниками».
Такой вывод был ближе к истине, но и на этот раз американцы не раскрыли подлинного смысла переговоров в Берне. Поэтому советская сторона сочла необходимым проинформировать Рузвельта более подробно относительно сведений, которыми она располагала. Об этом и говорилось в телеграмме Сталина от 3 апреля 1945 г.
«Вы совершенно правы, что в связи с историей о переговорах англо-американского командования с немецким командованием где-то в Берне или в другом месте „создалась теперь атмосфера достойных сожаления опасений и недоверия“.
Вы утверждаете, что никаких переговоров не было еще. Надо полагать, что Вас не информировали полностью. Что касается моих военных коллег, то они, на основании имеющихся у них данных, не сомневаются в том, что переговоры были и они закончились соглашением с немцами, в силу которого немецкий командующий на западном фронте маршал Кессельринг согласился открыть фронт и пропустить на восток англо-американские войска, а англо-американцы обещали за это облегчить для немцев условия перемирия.
Я думаю, что мои коллеги близки к истине. В противном случае был бы непонятен тот факт, что англо-американцы отказались допустить в Берн представителей Советского командования для участия в переговорах с немцами.
Мне непонятно также молчание англичан, которые предоставили Вам вести переписку со мной по этому неприятному вопросу, а сами продолжают молчать, хотя известно, что инициатива во всей этой истории с переговорами в Берне принадлежит англичанам.
Я понимаю, что известные плюсы для англо-американских войск имеются в результате этих сепаратных переговоров в Берне или где-то в другом месте, поскольку англо-американские войска получают возможность продвигаться в глубь Германии почти без всякого сопротивления со стороны немцев, но почему надо было скрывать это от русских и почему не предупредили об этом своих союзников — русских?
И вот получается, что в данную минуту немцы на Западном, фронте на деле прекратили войну против Англии и Америки. Вместе с тем немцы продолжают войну с Россией — с союзницей Англии и США.
Понятно, что такая ситуация никак не может служить делу сохранения и укрепления доверия между нашими странами.
Я уже писал Вам в предыдущем послании и считаю нужным повторить здесь, что я лично и мои коллеги ни в коем случае не пошли бы на такой рискованный шаг, сознавая, что минутная выгода, какая бы она ни была, бледнеет перед принципиальной выгодой по сохранению и укреплению доверия между союзниками».
Но американцы все еще не хотели признать, что вели с гитлеровцами сепаратные переговоры за спиной советского союзника. Ответная телеграмма Рузвельта была полна возмущения тем, что в Москве не верят американской версии. Президент повторял, что в Берне не происходило никаких переговоров, что имевшая там место встреча вообще не носила политического характера. Но в этом же послании были и некоторые новые моменты. Президент заявлял, что в случае капитуляции каких-либо вражеских армий в Италии союзники не будут нарушать согласованный между ними принцип безоговорочной капитуляции. Это, несомненно, была попытка задним числом объяснить тот факт, что в действительности германское командование открывало фронт в Италии, где уже оставалось незначительное количество войск, тогда как за ширмой переговоров оно успело перебросить наиболее боеспособные соединения на советско-германский фронт.
В последующем из германских архивных документов стало известно, что, предвидя неминуемую гибель, многие заправилы «третьего рейха» усматривали последнюю надежду в сговоре с Англией и США о прекращении сопротивления на западе с тем, чтобы сконцентрировать все силы на востоке и как можно дольше задержать Красную Армию. При этом нацисты были готовы сдать как можно большую часть германской территории западным союзникам. В составленной министром вооруженных сил Альбертом Шпеером памятной записке, предназначенной для личного ознакомления фюрера, говорилось о катастрофических последствиях занятия советскими войсками промышленного района Силезии. Записка начиналась словами: «Война проиграна». Шпеер обосновывал свой вывод целым рядом соображений. Он указывал, что в результате разрушения воздушными бомбардировками шахт Рурской области Силезия поставляла 60 % всей потребности Германии в угле. Железные дороги, электростанции и фабрики располагали лишь двухнедельным запасом. С потерей Силезии надвигался полный крах.
Гитлер отказался обсуждать эти неприятные факты. Но в его окружении все более интенсивно шли поиски выхода из отчаянного положения. 25 января 1945 г. генерал Гудериан, понимая всю безнадежность положения Германии, обратился к министру иностранных дел Риббентропу с предложением предпринять попытку договориться с западными державами о немедленном перемирии на западе с тем, чтобы еще остающиеся в распоряжении командования военные силы могли быть сконцентрированы на востоке. Спустя два дня в имперской канцелярии во время ситуационного совещания состоялся любопытный обмен мнениями. Из протокольной записи видно, что Гитлер, Геринг и другие высшие руководители рейха допускали возможность сепаратного сговора с западными державами. При этом они считали, что можно даже не проявлять инициативы с германской стороны, поскольку сами англичане и американцы будут искать возможности выступить совместно с рейхом против большевизма.
Стоит привести соответствующую выдержку из протокола:
«Гитлер: Неужели вы думаете, что англичане все еще с искренним восхищением наблюдают за всем развитием у русских?
Геринг: Чтобы мы там (на Западном фронте. — В. Б.) держались и тем временем позволили бы русским завоевать всю Германию, — это безусловно их не устраивает…
Йодль: Они к ним (русским. — В. Б.) всегда относились с недоверием.
Геринг: Если так пойдет дальше, то мы через пару дней получим от англичан телеграмму».
Впрочем, нацистские бонзы не ограничились пассивным ожиданием предложений с Запада. Гиммлер установил через своих агентов в Швейцарии контакт с Даллесом с целью договориться с западными союзниками о перемирии и пропуске англо-американских войск в глубь Германии при концентрации всех германских сил на востоке против Красной Армии. Несколько позже Геринг вошел в связь с западными союзниками через шведского эмиссара графа Бернадотта. Уже давно не является секретом, что Черчилль да и некоторые весьма влиятельные американские политики склонялись к возможности выступить совместно с немцами против Советского Союза.
То, что англичане и американцы шли на такого рода сепаратные переговоры с гитлеровцами, находилось, конечно, в вопиющем противоречии с их союзническими обязательствами. Поэтому-то они так нервно реагировали, когда советская сторона разгадала их маневры. Свою очередную телеграмму по этому поводу Рузвельт заканчивал такими резкими словами: «Откровенно говоря, я не могу не чувствовать крайнего негодования в отношении Ваших информаторов, кто бы они ни были, в связи с таким гнусным, неправильным описанием моих действий или действий моих доверенных подчиненных».
Нельзя, конечно, исключить, что президент Рузвельт и в самом, деле не знал всей правды о бернских переговорах и «доверенные, подчиненные» скрыли от него свои подлинные замыслы. Располагая сейчас многочисленными данными о грязных акциях ЦРУ, можно допустить, что и его предшественник — Управление стратегической службы проводило некоторые свои тайные операции за спиной президента. Во всяком случае, советская сторона сочла необходимым еще раз терпеливо разъяснить Рузвельту, как она понимала сложившуюся ситуацию.
«У меня, — писал глава Советского правительства, — речь идет о том, что в ходе переписки между нами обнаружилась разница во взглядах на то, что, может позволить себе союзник в отношении другого союзника и чего он не должен позволить себе. Мы, русские, думаем, что в нынешней обстановке на фронтах, когда враг стоит перед неизбежностью капитуляции, при любой встрече с немцами по вопросам капитуляции представителей одного из союзников должно быть обеспечено участие в этой встрече представителей другого союзника. Во всяком случае это безусловно необходимо, если этот союзник добивается участия в такой встрече. Американцы же и англичане думают иначе, считая русскую точку зрения неправильной. Исходя из этого, они отказали русским в праве на участие во встрече с немцами в Швейцарии. Я уже писал Вам и считаю не лишним повторить, что русские при аналогичном положении ни в коем случае не отказали бы американцам и англичанам в праве на участие в такой встрече. Я продолжаю считать русскую точку зрения единственно правильной, так как она исключает всякую возможность взаимных подозрений и не дает противнику возможности сеять среди нас недоверие».
Сталин указал на то, что немцы имеют на Восточном фронте 147 дивизий и могли бы без ущерба перебросить 15–20 дивизий в помощь своим войскам, на западе. Однако они этого не делают, продолжая с остервенением драться за какую-нибудь малоизвестную станцию, а на западе без всякого сопротивления сдают такие важные города в центре Германии, как Оснабриж, Мангейм, Кассель. «Что касается моих информаторов, — продолжал Сталин, — то, уверяю Вас, это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо. Эти люди многократно проверены нами на деле».
Вопрос этот был закрыт примирительной телеграммой Рузвельта, поступившей в Москву 13 апреля. В ней говорилось:
«Благодарю Вас за Ваше искреннее пояснение советской точки зрения в отношении бернского инцидента, который, как сейчас представляется, поблек и отошел в прошлое, не принеся какой-либо пользы.
Во всяком случае не должно быть взаимного недоверия, и незначительные недоразумения такого характера не должны возникать в будущем. Я уверен, что, когда наши армии установят контакт в Германии и объединятся в полностью координированном наступлении, нацистские армии распадутся».
Это была не только заключительная депеша, касающаяся бернского инцидента, но и вообще последняя телеграмма президента Рузвельта. Он отправил ее 12 апреля, за несколько часов до своей кончины.
Смерть Рузвельта
В посольстве США в Москве проходил прием, посвященный отъезду одного из сотрудников в Вашингтон, когда около часа ночи Гарриман получил известие о кончине президента. Посол ничего не сказал гостям, а лишь попросил их разойтись. Когда все покинули Спасо-хауз, посол позвонил в Кремль наркому иностранных дел Молотову, известил его о печальном событии и попросил приема. Однако нарком настоял на том, чтобы, несмотря на поздний час, самому приехать в резиденцию посла США на Арбат. Вскоре Молотов уже входил в парадную залу особняка, где на мраморной подставке был помещен большой портрет Рузвельта, обрамленный крепом. К стоявшему тут же государственному флагу Соединенных Штатов была прикреплена черная лента.
«Молотов выглядел очень озабоченным, — сообщал Гарриман об этой встрече в Вашингтон. — Он провел некоторое время в посольстве, говоря о той роли, которую президент Рузвельт сыграл в ходе войны и в выработке планов на послевоенное, мирное время, а также о том уважении, которое маршал Сталин и все русские люди питали по отношению к нему. Молотов подчеркнул также, что маршал Сталин очень высоко ценит визит президента в Ялту».
Затем Гарриман перевел разговор на президента Гарри Трумэна и заверил Молотова, что новая администрация будет продолжать политику президента Рузвельта.
Провожая наркома, Гарриман попросил устроить для него встречу с маршалом Сталиным по возможности в тот же день. В своем послании новому президенту Гарриман указывал, что намерен заверить Сталина в преемственности политики США и в том, что с «американской стороны будут приложены все усилия к тому, чтобы развивать отношения с Советским Союзом в духе Крымской конференции».
Разумеется, такого рода заверения носили скорее характер протокольной акции. В действительности же Гарриман не мог не понимать, что появление нового хозяина Белого дома, к тому же такого как Трумэн, антипатия которого к Советской стране была широко известна, внесет коррективы в практическую американскую политику, причем именно в сторону ужесточения. Не случайно в этой же телеграмме он поставил вопрос о своем приезде в Вашингтон, чтобы на месте сориентироваться в обстановке. Через несколько часов из Вашингтона поступила депеша, в которой государственный секретарь Стеттиниус после консультации с президентом Трумэном сообщал Гарриману, что «сейчас, больше чем когда-либо», необходимо его присутствие в Москве. Посол был несколько обескуражен таким ответом. Ему казалось важным установить более тесный контакт с Трумэном. Поскольку, однако, его поездка в США откладывалась, Гарриман решил при встрече с главой Советского правительства вновь поставить вопрос о направлении в ближайшие дни Молотова на конференцию Объединенных Наций в Сан-Франциско, чтобы по пути нарком мог остановиться в Вашингтоне для разговора с новым президентом.
Вопрос о советском представительстве на первой конференции ООН уже был на протяжении некоторого времени предметом переписки между руководителями советского и американского правительств. Сталин, ссылаясь на занятость Молотова в связи с предстоявшей сессией Верховного Совета СССР, а также учитывая другие его обязанности, не считал возможной его поездку в Сан-Франциско в апреле 1945 года. Рузвельт настаивал, заявляя, что «отсутствие г-на Молотова будет истолковано во всем мире как признак отсутствия должного интереса со стороны Советского Правительства к великим задачам этой конференции». На это Сталин ответил президенту 27 марта следующим посланием:
«Мы весьма ценим и придаем важное значение созываемой в Сан-Франциско Конференции, призванной положить начало международной организации мира и безопасности народов, но обстоятельства так сложились, что В. М. Молотов, действительно, не имеет возможности принять участие в Конференции. Я и В. М. Молотов крайне сожалеем об этом, но созыв по требованию депутатов Верховного Совета в апреле Сессии Верховного Совета СССР, где присутствие В. М. Молотова совершенно необходимо, исключает возможность его участия даже в первых заседаниях Конференции. Вы знаете также, что Посол А. А. Громыко вполне успешно выполнил свою задачу в Думбартон-Оксе, и мы уверены, что он с большим успехом будет возглавлять советскую делегацию в Сан-Франциско.
Что же касается разных истолкований, то, как Вы понимаете, это не может определить принимаемые решения».
На этом вопрос и был закрыт. Однако теперь, после вступления в должность нового президента, создавалась иная ситуация, и поездка Молотова в США могла бы быть воспринята как проявление намерения продолжать политику сотрудничества между обеими державами. «Это был момент большой эмоциональной силы, — вспоминает Гарриман, — и, прежде чем отправиться к Сталину, я очень много думал над тем, что именно я ему скажу с тем, чтобы исключить всякие случайности».
Они встретились в тот же день, 13 апреля, в 8 часов вечера. Присутствовал также Молотов. Вот как описана эта беседа в мемуарах Гарримана:
«Сталин приветствовал Гарримана молча… Он, быть может, в течение тридцати секунд держал его руку в своей, прежде чем попросить его сесть. Он выглядел глубоко озабоченным. Подробно расспрашивал посла относительно обстоятельств смерти Рузвельта. „Я не верю, — сказал Сталин, — что будет какое-то изменение в американской политике при Трумэне“.
Гарриман подтвердил, что именно так дело и обстоит в тех областях, где президент довольно ясно изложил свои планы, в частности в отношении военной и внешней политики. Трумэн, сказал Гарриман, был человеком Рузвельта еще в тот период, когда он находился в сенате, всегда следуя за президентом. Он — человек, который может понравиться Сталину. Человек действий, а не слов.
Затем Гарриман перешел к своей главной цели. Он сказал, что президент Трумэн, конечно, не может иметь того большого престижа, какой был у президента Рузвельта. До того как стать вице-президентом, Трумэн был мало известен как в Соединенных Штатах, так и за рубежом. Это, сказал Гарриман, не может помочь делу, а скорее вызовет период неопределенности как во внутреннем, так и во внешнем плане. Причем не только в отношении ведения войны, а по всем проблемам внешней и внутренней политики. Конференция в Сан-Франциско, например, может вызвать немало трудностей. Америка не знает, может ли президент Трумэн проводить программу президента Рузвельта. Американский народ, продолжал Гарриман, знает, что президент Рузвельт и маршал Сталин имели тесные личные контакты и что это существенно влияло на американо-советские отношения.
Здесь Сталин прервал Гарримана. Он сказал, что президент Рузвельт умер, но его дело должно жить. „Мы будем поддерживать президента Трумэна всеми нашими силами и всей нашей волей“, — заявил Сталин. Он попросил посла передать об этом новому президенту Соединенных Штатов.
Гарриман пообещал сделать это безотлагательно, добавив, что, как он полагает, самым эффективным средством заверить американское общественное мнение и весь мир в желании Советского правительства продолжать сотрудничество с американцами и другими Объединенными Нациями была бы поездка Молотова в Соединенные Штаты именно сейчас. Молотов, продолжал Гарриман, мог бы остановиться в Вашингтоне и встретиться там с президентом, а затем проследовать в Сан-Франциско и пробыть там хотя бы несколько дней.
После короткого обмена репликами между Сталиным и Молотовым относительно даты конференции в Сан-Франциско и сроков созыва сессии Верховного Совета СССР Сталин спросил посла, выражает ли он лишь свое собственное мнение? Гарриман ответил, что это именно так, но добавил, что тем самым он выразил взгляды и президента и государственного секретаря.
— Я уверен, что оба они готовы подтвердить все то, что я сказал, — заключил Гарриман.
Тогда Сталин сказал, что, хотя в данный момент поездка Молотова в Соединенные Штаты очень трудное дело, все же он думает, что ее можно будет устроить».
В тот же день глава Советского правительства направил президенту Трумэну телеграмму с соболезнованием:
«От имени Советского Правительства и от себя лично выражаю глубокое соболезнование Правительству Соединенных Штатов Америки по случаю безвременной кончины Президента Рузвельта…
Правительство Советского Союза выражает свое искреннее сочувствие американскому народу в его тяжелой утрате и свою уверенность, что политика сотрудничества между великими державами, взявшими на себя основное бремя войны против общего врага, будет укрепляться и впредь».
Вскоре одна из магистралей Ялты была переименована в улицу Франклина Рузвельта как дань уважения советского народа выдающемуся американцу.
По-своему реагировали на смерть Рузвельта в Берлине. Там по мере приближения катастрофы не переставали надеяться на чудо. Гитлера все чаще донимали припадки истерии, и чтобы его успокоить, Геббельс в апрельские вечера читал ему вслух выдержки из «Истории Фридриха Великого». Речь шла о периоде Семилетней войны и отчаянном положении, в котором оказался король Фридрих. Он даже заявил, что, если до 15 февраля не произойдет поворота к лучшему, он, король, примет яд. Но вот 12 февраля умерла царица Елизавета. Ее наследник — Петр III был другом и почитателем Фридриха. «Для дома Бранденбургов наступило чудо», — декламировал Геббельс. Были также старые гороскопы, предсказывающие хорошие перемены для Германии на середину апреля 1945 года.
Когда 13 апреля Геббельсу стало известно о смерти Рузвельта, он тотчас же позвонил Гитлеру, прятавшемуся в бункере имперской канцелярии.
— Мой фюрер, — вскричал Геббельс, — я поздравляю Вас! Рузвельт мертв! Звезды предсказывают, что вторая половина апреля принесет нам перемену. Сегодня пятница, 13 апреля. Это день чуда!
Но чуда не произошло.
Конфронтация в Белом доме
Согласившись направить наркома иностранных дел Молотова в Соединенные Штаты, Советское правительство сделало жест доброй воли по отношению к администрации президента Трумэна. Но такая поездка высокопоставленного советского деятеля имела, конечно, в данной ситуации и вполне определенный практический смысл. Непосредственный личный контакт с новым президентом давал возможность выяснить настроения в Белом доме, обменяться мнениями о перспективах советско-американских отношений. Имелись и конкретные области, которые было полезно обсудить на высоком уровне, — завершающая стадия войны против гитлеровской Германии, предстоящее участие Советского Союза в войне на Дальнем Востоке, проблемы послевоенного устройства. Вместе с тем можно было ожидать, что американская сторона вновь поднимет вопрос о Польше, в частности о сформировании правительства с участием лондонских поляков.
В последние недели жизни президента Рузвельта Вашингтон вновь и вновь ставил этот вопрос, что нашло отражение в переписке между Вашингтоном и Москвой. В послании президента главе Советского правительства от 1 апреля 1945 г. высказывалось недовольство тем, что комиссия, созданная по решению Ялтинской конференции и состоявшая из наркома иностранных дел СССР и послов США и Англии в Москве, не продвинулась вперед в вопросе о сформировании правительства Польши. При этом президент выступил в поддержку требования американского и английского послов о создании, по существу, нового правительства, хотя в Ялте было условлено, что базой для такого реорганизованного правительства должно стать действовавшее в Варшаве Временное правительство. Рузвельт также поддержал претензии западных участников комиссии на то, что каждый из них может пригласить на переговоры любое количество лиц, как из самой Польши, так и из Лондона, по своему усмотрению, причем эти лица могли бы в свою очередь предлагать на рассмотрение комиссии других кандидатов в новое правительство Польши.
Изложив все эти претензии, президент Рузвельт счел возможным сделать довольно резкое заявление. «Я хотел бы, — сказал он, — чтобы Вы поняли меня, насколько важно справедливое и быстрое решение этого польского вопроса для успешного осуществления нашей программы международного сотрудничества. Если это не будет сделано, то все трудности и опасности, которые угрожают единству союзников и которые мы так ясно осознавали, когда разрабатывали наши решения в Крыму, предстанут перед нами в еще более острой форме».
Сталин ответил 7 апреля. Он согласился с тем, что дела с польским вопросом действительно зашли в тупик. Причина, по мнению Сталина, состояла в том, что послы США и Англии в Москве — члены московской комиссии — отошли от установок Крымской конференции и внесли в дело новые элементы. «На Крымской конференции, — пояснял глава Советского правительства, — мы все трое рассматривали Временное Польское Правительство как ныне действующее правительство в Польше, подлежащее реконструкции, которое должно послужить ядром нового. Правительства Национального Единства. Послы же США и Англии в Москве отходят от этой установки, игнорируют существование Временного Польского Правительства, не замечают его, в лучшем случае — ставят знак равенства между одиночками из Польши и из Лондона и Временным Правительством Польши. При этом они считают, что реконструкцию Временного Правительства надо понимать как его ликвидацию и создание совершенно нового правительства… Понятно, что такая установка Американского и Английского Послов не может не вызвать возмущения у Польского Временного Правительства. Что касается Советского Союза, то он, конечно, не может согласиться с такой установкой, так как она означает прямое нарушение решений Крымской конференции».
Разобрав далее конкретно требования послов США и Англии, глава Советского правительства показал, что именно их позиция мешает решению польского вопроса. С советской стороны был предложен ряд практических шагов. Прежде всего необходимо было установить, что реконструкция Временного правительства Польши означает не его ликвидацию, а реконструкцию путем его расширения, причем ядром будущего Польского правительства национального единства должно быть Временное польское правительство. Предлагалось вернуться к наметке Крымской конференции и ограничиться вызовом в Москву восьми польских деятелей — пятерых из Польши и трех из Лондона. При этом речь могла идти только о таких деятелях, которые признают решения Крымской конференции о Польше и стремятся на деле установить дружественные отношения между Польшей и Советским Союзом. Предлагалось также, чтобы реконструкция Временного польского правительства была произведена путем замены части нынешних министров этого правительства новыми министрами из числа польских деятелей, не участвующих во Временном правительстве. «Я думаю, — говорилось в заключение послания Сталина, — что при учете изложенных выше замечаний согласованное решение по польскому вопросу может быть достигнуто в короткий срок».
Ответ на эти предложения советской стороны был дан уже после смерти Рузвельта, 18 апреля, в совместном послании Черчилля и Трумэна. Оба они продолжали в весьма резкой форме настаивать на условиях, совершенно неприемлемых как для советской стороны, так и для Временного польского правительства и представлявших собой явное отступление от согласованных в Ялте установок. Причем теперь, при Трумэне, эта негативная позиция была еще более ужесточена.
Сразу же после того как Трумэн стал президентом, он 13 апреля направил Черчиллю телеграмму, в которой заявил что считает польский вопрос «срочной и опасной» проблемой и что готов к «новой конфронтации со Сталиным». Таким образом, Трумэн уже с первых дней своего президентства решил дать бой Советскому Союзу именно по польскому вопросу. Тогда же Гарриману было поручено при встрече со Сталиным заявить, что в Вашингтоне придают польскому вопросу первостепенное значение.
Надо сказать, что в тот момент ситуация была не очень-то благоприятна для подобного рода американских демаршей: команда одного из американских самолетов, приземлившихся на аэродроме близ Полтавы после бомбежек глубинных районов Германии, пыталась нелегально вывезти из СССР какого-то молодого поляка, переодетого в форму американского солдата. Попытка была вовремя пресечена, и советская сторона, естественно, реагировала на это самым резким образом. Всем американским самолетам, находившимся в Полтаве, запретили покидать советскую территорию, а посольство США получило соответствующее представление.
При первой же встрече с Гарриманом глава Советского правительства упомянул об этом инциденте и обвинил американцев в том, что они вообще поддерживают реакционное польское подполье в его борьбе против Красной Армии.
Гарриман, воспользовавшись ситуацией, заметил, что Польша стала главной, проблемой, омрачающей советско-американские отношения.
— Президент Рузвельт, — продолжал посол, — пытался разрешить эту проблему и занимался ею до самой смерти. Теперь же президент Трумэн полон решимости добиться договоренности. Было бы хорошо, если бы Молотов получил полномочия во время пребывания в Соединенных Штатах совместно со Стеттиниусом и Иденом предпринять попытку договориться.
Сталин, не вдаваясь в подробности, сказал, что Молотов получит соответствующие инструкции.
Вскоре после этой беседы Гарриман покинул Москву. Он торопился встретиться с новым президентом до того, как советский нарком иностранных дел прибудет в Вашингтон. Вылетев 17 апреля через Балканы, Италию, Атлантику и Азорские острова, он уже через 48 часов оказался в столице Соединенных Штатов — по тем временам рекордно короткий срок! Молотов предпочел более длинную трассу — через Сибирь и Аляску и прибыл в Вашингтон значительно позднее. Этот промежуток Гарриман использовал для подготовки Трумэна к встрече с наркомом иностранных дел СССР.
Первая беседа Гарримана с новым президентом состоялась 20 апреля. Из того, как сам Гарриман описывает эту первую встречу с новым президентом США, видно, что он всячески пытался настроить его на более «твердый» курс по отношению к Советскому Союзу. Впрочем, посол признал, что Москва проводит по отношению к Соединенным Штатам и Англии политику сотрудничества, но вместе с тем он резко осудил политическое развитие в Восточной Европе. Ничего иного от Гарримана как представителя крупных промышленно-финансовых интересов США, конечно, нельзя было в то время ожидать.
Разумеется, никаких нарушений Советским Союзом имевшейся договоренности не было. Дело обстояло по-иному. Заинтересованность советской стороны в том, чтобы в странах этого региона, особенно в тех, которые непосредственно граничили с СССР, возникли дружественные режимы, вызывала отрицательную реакцию капиталистических кругов Запада. Они усматривали в этом угрозу для своих социально-политических позиций. Именно этим руководствовался Гарриман, информируя нового президента. Он высказал мнение, что, поскольку «русские нуждаются в американской помощи для послевоенного восстановления», они не захотят порывать с США, а посему Вашингтон может без серьезного риска занять «жесткие» позиции по всем важнейшим вопросам.
Трумэну это понравилось. Он сказал: «Я не боюсь русских. Я буду с ними твердым, но справедливым. Во всяком случае, русские нуждаются в нас больше, чем мы в них».
После этого Гарриман принялся говорить о том, что, несмотря на все сложности, он считает возможным «достичь рабочих взаимоотношений с русскими», добавив, что «обе стороны должны будут сделать уступки в процессе взаимного торга». Трумэн согласился, что было бы нереалистично рассчитывать на стопроцентное советское согласие с американскими предложениями. Он рассчитывает на 85 %. Тем самым новый президент дал понять, что намерен вынудить Москву пойти на серьезные уступки. «Я сразу же почувствовал большое уважение к Трумэну», — подытожил эту часть беседы Гарриман.
Затем обсуждалась польская проблема. Посол, напомнив требования западных держав, предупредил, что дальнейшее давление на Москву может вызвать осложнения, что СССР, возможно, не согласится участвовать в новой международной организации, и спросил:
— Будет ли президент готов развивать планы создания Организации Объединенных Наций, даже если русские уйдут из нее?
Трумэн понял, о чем спрашивает его посол, но уклонился от прямого ответа.
— Истина состоит в том, — сказал он, — что без русских не будет никакой всемирной организации.
Вероятно, кое-кто в США думал тогда о том, что будущая международная организация может действовать и «без русских», а по существу против русских. Нечего и говорить, что в такой организации безраздельно господствовали бы Соединенные Штаты. Такую организацию можно было бы назвать «международной», но ни в коем случае не «всемирной».
Находясь в Вашингтоне, Гарриман встретился также с руководящими сотрудниками государственного департамента. Он заявил им, что настало время устранить «элемент боязни» из отношения США к Советскому Союзу и показать, что американцы «полны решимости настаивать на своем». Когда Гарримана спросили о позиции англичан, он ответил, что они «настроены еще более решительно, однако не могут действовать в одиночку» — США должны их поддержать.
Все это не могло не усилить и без того распускавшиеся в Вашингтоне пышным цветом антисоветские настроения. К приезду в американскую столицу наркома иностранных дел СССР атмосфера была уже достаточно подогрета.
Первая встреча Молотова с президентом Трумэном, состоявшаяся 22 апреля, носила протокольно-вежливый характер. Трумэн высказал восхищение советским народом, уверял, что намерен соблюдать заключенные между США и СССР соглашения, обещал позаботиться о том, чтобы обе стороны могли следовать по пути, избранному Рузвельтом. Затем были кратко затронуты вопросы, связанные с созданием новой всемирной организации безопасности, и состоялся предварительный обмен мнениями по польской ситуации. Каждая из сторон изложила свою, уже известную позицию.
На следующий день, 23 апреля, Трумэн созвал в Белом доме специальное совещание, на которое были приглашены руководящие деятели американского правительства: Стеттиниус, Стимсон, Форрестол, Леги, Маршалл, Кинг, а также посол Гарриман и глава военной миссии США в СССР генерал Дин. Государственный секретарь Стеттиниус, который сделал несколько вступительных замечаний, заявил, что в польском вопросе «возник полный тупик».
Через несколько часов Трумэн должен был снова встретиться с Молотовым, и потому он хотел проиграть сценарий предстоящей беседы, проверить намеченную аргументацию на своих советниках. Трумэн начал с того, что должен дать бой русским либо сейчас, либо никогда. Он намерен при всех условиях продвигать дальше планы в отношении новой международной организации и «если русские не присоединятся к нам, то пусть идут к дьяволу».
Итак, президент окончательно решил, что может обойтись в новой международной организации без Советского Союза. Возможно, он даже полагал, что без СССР он окажется полновластным хозяином ООН, которую легко будет использовать против Советского Союза. Сформулировав свою новую установку, Трумэн предложил участникам совещания высказаться.
Первым слово взял военный министр Стимсон. Он ратовал за более осторожный подход, напомнив, что в важных и крупных военных делах Россия всегда держала свое слово, а часто даже делала больше, чем обещала. «Их представления о независимости и демократии в районах, которые они рассматривают жизненно важными для безопасности России, конечно, отличаются от наших, — сказал Стимсон. — Однако Соединенные Штаты могут попасть в очень опасные воды, если не выяснят, насколько серьезно Россия относится к польскому вопросу».
Особенно шокировала Стимсона «грубая откровенность», которую Трумэн предлагал применить в разговоре с наркомом иностранных дел. Стимсон выражал опасение по поводу того, что «сильные слова президента по очень важной проблеме» могут серьезно осложнить атмосферу взаимоотношений Соединенных Штатов и Советского Союза. При этом он имел в виду, в частности, заинтересованность американской стороны в помощи, которую мог оказать Советский Союз Вашингтону на Дальнем Востоке.
Генерал Маршалл также предпочитал более осмотрительный подход. «Я не знаком с политической ситуацией в Польше, — сказал он, — но с военной точки зрения полагаю, что было бы неразумно затеять ссору с русскими, потому что Сталин может задержать присоединение к войне против Японии и нам придется взять на себя всю грязную работу».
Министр военно-морских сил Форрестол поддержал президента. Он сказал, что Польша — это не единственный пример нежелания русских считаться с интересами союзников. «Я полагаю, — добавил Форрестол, — что Советский Союз убежден в том, что мы не будем возражать, если они возьмут в свою орбиту Восточную Европу. Поэтому лучше иметь с ним конфронтацию сейчас, чем позже. Военно-морской флот и военно-воздушные силы, в отличие от армии, пришли к выводу, что русская помощь не будет необходима для того, чтобы заставить Японию капитулировать».
Адмирал Леги занял промежуточную позицию между Стимсоном и Форрестолом. Еще в Ялте он был уверен, что в польском вопросе Советский Союз будет стоять на своем. К тому же, по его мнению, ялтинское соглашение по Польше «можно толковать двояким образом», и было бы опасно пойти сейчас на разрыв с Россией.
В итоге дискуссии Трумэн заявил, что не намерен предъявлять ультиматум Молотову — он будет твердым, но не агрессивным.
Когда Молотов вечером того же дня вошел в кабинет президента в Белом доме, Трумэн, как пишет Гарриман в своих мемуарах, сразу же «взял быка за рога». Он заявил, что сожалеет по поводу отсутствия прогресса в польском вопросе. Соединенные Штаты, продолжал он, пошли навстречу русским так далеко, как могли. Однако он «не может признать польского правительства, которое не представляет все демократические элементы». Трумэн напомнил о предупреждении, которое сделал Рузвельт в послании к Сталину от 1 апреля относительно того, что никакая американская политика, внешняя или внутренняя, не может иметь успеха, если она не будет пользоваться «доверием и поддержкой общественности США». Затем Трумэн сказал, что конгресс должен одобрить предоставление денег для любой послевоенной экономической помощи и он, Трумэн, не видит возможности провести такие меры через Капитолий без общественной поддержки. Он надеется, что Советское правительство будет иметь это в виду. То уже была совсем прозрачная угроза.
Молотов ответил, что единственная приемлемая основа для сотрудничества заключается в том, чтобы правительства трех держав обращались друг с другом как с равными. Нельзя допустить, чтобы одно или два из них пытались навязать свою волю третьему. «Соединенные Штаты, — возразил Трумэн, — требуют лишь того, чтобы советская сторона выполняла ялтинские решения по Польше».
Молотов отпарировал, что Советское правительство не может рассматриваться нарушителем соглашения из-за изменения позиции других.
Трумэн резким тоном повторил, что Соединенные Штаты готовы выполнять лояльно все соглашения, подписанные в Ялте. Того же он требует и от Советского Союза. Он хочет, чтобы в Москве это ясно поняли.
Молотов заявил, что Советское правительство неизменно придерживалось и придерживается взятых им на себя обязательств.
Описав эту сцену, Гарриман заключает: «Честно говоря, я был несколько шокирован тем, что президент столь сильно атаковал Молотова. Я полагаю, с Молотовым никогда никто таким тоном не говорил, во всяком случае, никто из иностранцев… Я сожалел, что Трумэн так жестко подошел к делу. Его поведение давало Молотову основание сообщить Сталину, что от политики Рузвельта отходят. Жаль, что Трумэн дал ему такую возможность. Я думаю, что это была ошибка, хотя и не столь уж решающая».
После этой конфронтации в Белом доме нарком иностранных дел СССР отправился на Западное побережье, в Сан-Франциско, для участия в конференции Организации Объединенных Наций. Но он пробыл там лишь несколько дней и вскоре вернулся в Москву.
День Победы
Эта среда началась как любой другой рабочий день мая 1945 года. Но уже на протяжении двух суток происходили события, которые должны были сделать 9 мая всенародным праздником Победы. В ночь на 7 мая в 1 час 30 минут находившийся во Фленсбурге немецкий адмирал Дениц — его Гитлер перед тем, как отравиться в бункере имперской канцелярии, объявил своим наследником — направил генералу Йодлю телеграфную директиву подписать безоговорочную капитуляцию. В 2 часа 40 минут соответствующий акт был подписан в г. Реймсе, в небольшом школьном здании, где помещалась штаб-квартира генерала Эйзенхауэра. Со стороны союзников капитуляцию принял американский генерал Смит. В качестве свидетелей подписи поставили советский генерал Суслопаров и французский генерал Сэвэ. От Германии, акт о капитуляции подписали адмирал Фриденбург и генерал Йодль.
Последний попросил разрешения сказать несколько слов, что ему было позволено. «Этой подписью, — сказал Йодль, — немецкий народ и германские вооруженные силы сдаются на милость победителя… В этот час я могу лишь выразить надежду, что победитель проявит снисхождение».
Наконец-то нацистский вояка вспомнил об этом слове — «снисхождение». До того оно вовсе отсутствовало в лексиконе фашистских палачей. Присутствовавшие выслушали Йодля молча и ничего не ответили. Церемония быстро закончилась.
Но еще не закончились боевые действия. На протяжении. 7 и 8 мая отдельные соединения вермахта продолжали сопротивление. Даже в эти последние дни агонии гитлеровского рейха продолжали гибнуть люди. Только в ночь на 9 мая в Европе замолкли орудия, прекратились воздушные бомбардировки. Наступила тишина, непривычная, но желанная. Она воцарилась впервые после того, как 1 сентября 1939 г. нацистская Германия развязала вторую мировую войну. За прошедшие с того дня пять лет восемь месяцев и восемь дней на бесчисленных полях сражений, в разбомбленных городах, в гитлеровских концлагерях погибли десятки миллионов людей. Таков был страшный итог бредовой, гитлеровской идеи мирового господства.
Гигантским масштабам только что закончившегося вооруженного конфликта никак не соответствовала скромная церемония в Реймсе. Нельзя было, также допустить, чтобы Советская страна, внесшая решающий вклад в разгром гитлеровского рейха, была представлена при этом лишь наблюдателем. Советское правительство настояло на том, чтобы капитуляция была подписана перед представителями верховного командования всех держав антигитлеровской коалиции. Причем акт о капитуляции следовало подписать в Берлине, в центре фашистской агрессии. Подписанный же в Реймсе акт о капитуляции союзники решили считать предварительным протоколом.
В Берлине, в Карлхорсте, акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 9 мая в 0 часов 43 минуты. С немецкой стороны подписи поставили генерал-фельдмаршал Кейтель, генерал Штумпф и адмирал Фриденбург. Они привезли соответствующие полномочия от Деница. В Москве об этом было объявлено в первой половине дня. Одновременно день 9 мая был провозглашен всенародным праздником Победы.
Мы все так привыкли за годы войны работать без выходных и без отпусков, что сперва не знали, как распорядиться этими первыми свободными часами. Я принялся обзванивать друзей.
Договорились вечером встретиться на Красной площади. Туда стекались огромные массы народа. Радость и веселье той ночи не поддаются описанию. Незнакомые люди обнимали друг друга, смеялись, плакали. Восторг великой победы охватил всех от мала до велика. Ликующие толпы заполняли не только Красную площадь, но и Охотный ряд, Манежную площадь, Моховую и прилегающие улицы.
В то время посольство США находилось на Манежной площади в здании, соседствующем с гостиницей «Националь» (там сейчас находится правление «Интуриста»). Оттуда, из-за занавески, за бурлящей стихийной демонстрацией той ночи наблюдал советник посольства Соединенных Штатов Дж. Кеннан. Присутствовавшие, при этом вспоминали его слова:
— Ликуют… Они думают, что война кончилась. А она еще только начинается.
Кеннан имел в виду уже широко обсуждавшиеся в Вашингтоне планы выступления США и Великобритании против Советского Союза. Причем сам он стал активным участником теоретического обоснования нового антисоветского курса. Выше уже упоминались его предложения на Ялтинской конференции руководителей трех великих держав. Тогда, при президенте Рузвельте, этим рекомендациям не последовали. При президенте Трумэне ситуация изменилась. Особенно нашумела статья Кеннана, появившаяся в 1947 году в журнале «Форин афферс» и подписанная одной буквой «X».
В этой статье Кеннан сформулировал стратегию «сдерживания» СССР путем «искусного и бдительного применения контрсилы в ряде постоянно меняющихся географических и политических точек, соответствующих изменениям и маневрам советской политики».
Парад Победы на Красной площади в Москве.
Впоследствии Кеннан уверял, что он имел в виду не военную, силу, а политическое давление. Но так или иначе, выдвинутая им стратегия «сдерживания» сыграла важную роль в развертывании «холодной войны». В статье мистера «X» Советский Союз изображался как государство, не допускающее и мысли о мирном сосуществовании с капиталистическими странами, стремящееся лишь к их «тотальному уничтожению». Претворяя стратегию «сдерживания» в жизнь, президент Трумэн делал из нее главный вывод: надо попытаться ликвидировать Советский Союз и другие социалистические страны. Иными словами, стратегия «сдерживания» в практической политике вашингтонской администрации воплотилась в активном антисоветском курсе с упором на использование военной силы.
Спустя 30 лет после появления статьи мистера «X», в ноябре 1977 года, мы встретились с Кеннаном в Западном Берлине на организованном американским Аспиновским институтом международном семинаре, посвященном 60-летию Октябрьской революции. За неделю, в течение которой длился семинарпредставилась возможность о многом побеседовать с Кеннаном. Следя за работами Кеннана — он уже на протяжении ряда лет является профессором Принстонского университета, — я, разумеется, знал, что, сохраняя отрицательное отношение к миру социализма, он во многом пересмотрел свои внешнеполитические концепции. В мемуарах, опубликованных в 1968 году, Кеннан весьма критически оценил свои изыскания 1947 года. По его словам, «самый серьезный недостаток статьи мистера „X“ заключается в неясности относительно того, что, говоря о сдерживании советской мощи, я имел в виду не сдерживание военными средствами военной угрозы, а политическое сдерживание политической угрозы». Вместе с тем Кеннан не отрицал, что сформулированная им стратегия была нацелена на изменение политико-территориальных реальностей в послевоенной Европе и что целью «сдерживания» вовсе не было соблюдение статус-кво, сложившегося в результате второй мировой войны. Иными словами, речь шла о том, чтобы вернуть в лоно капитализма если не Советский Союз, то хотя бы другие социалистические страны, возникшие после победы над фашизмом.
В дальнейшем Кеннан поддерживал: курс на нормализацию советско-американских отношений, высказывался в пользу взаимоприемлемых договоренностей. В 1977 году он выпустил новую книгу под названием «Туча, таящая угрозу», в которой указывал на опасности продолжения гонки вооружений и критиковал правительство США, в том числе и администрацию Картера, за задержку с выработкой нового соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений.
В конце 1977 года в газете «Вашингтон пост» появилась пространная статья Кеннана, посвященная перспективам американо-советских отношений. В этой статье содержится любопытный анализ побудительных мотивов противников разрядки и группировок, к которым они относятся. Это, по мнению Кеннана, прежде всего те, кто не осознал перемен, происшедших между 1947 и 1977 годами, кто говорит о проблемах советско-американских отношений терминами, присущими «холодной войне». Это также те, кто не хочет принять Советский Союз таким, какой он есть, но стремится изменить саму природу советского строя. Еще более влиятельная группировка состоит, по словам Кеннана, из тех, кто рассматривает советско-американские взаимоотношения исключительно как военное соперничество. Сюда входят военные, профессиональные обязанности которых включают создание образа воображаемого военного противника, наделение его вымышленными качествами. А затем к этому «противнику» относятся так, будто он действительно существует.
«Как и многие другие американцы, — пишет Кеннан, — я старался понять аргументы этих энтузиастов. Я пытался следовать за ними в их сложных калькуляциях: в расчетах относительно возможных военных преимуществ и недостатков современных систем оружия в какой-то момент в будущем, Я пытался следовать за ними в их расчетах, связанных с кодированными цифрами, различными системами оружия, порой реальными, порой выдуманными, в их сравнениях возможностей взаимодействия в случае подлинного вооруженного конфликта. Я возвращался из этих экскурсий полный отчаяния».
Кеннан считает подобные калькуляции совершенно лишенными реального понимания ситуации. Между тем те, кто на основе таких расчетов выступает против политики разрядки, обладают существенным влиянием на формирование практической политики Вашингтона. «Эти круги, — резюмирует Кеннан, — считают, что обладают — и они действительно могут это сделать — правом вето на любое советско-американское соглашение в военной и экономической областях, которое не соответствует их требованиям. А я все больше подозреваю, что они не хотят вообще никакого соглашения».
По сути дела, речь идет о попытке повернуть вспять историческое развитие к тому рубежу, когда во второй половине 40-х годов администрация Трумэна взяла курс на отказ от соглашений и сотрудничества с Советским Союзом, выбросив за борт политику президента Рузвельта.
Миссия Гарри Гопкинса
Уже на протяжении длительного времени Гарри Гопкинс: — ближайший друг и наперсник Рузвельта — был тяжело болен. После смерти президента состояние его здоровья значительно ухудшилось. Он уединился в небольшом доме в Джорджтауне, фешенебельном районе Вашингтона, никуда не выходил, сам почти никого не принимал и большую часть времени отлеживался в постели. Но когда вскоре после конференции ООН в Сан-Франциско его посетил Гарриман с предложением отправиться в Москву, Гопкинс, ни минуты не колеблясь, согласился.
Идея этой необычной миссии имела свою историю. Заметное ухудшение американо-советских отношений после прихода в Белый дом президента Трумэна вызвало серьезное беспокойство не только в широких кругах американской общественности, но и внутри кабинета, который в первый период нового президентства в значительной мере состоял из деятелей, работавших вместе с Рузвельтом. В высшем правительственном эшелоне шли горячие дебаты вокруг дальнейшего курса по отношению к. Советскому Союзу. Обмен мнениями, состоявшийся между Трумэном и его ближайшими советниками в апреле, в дни пребывания В. М. Молотова в Вашингтоне, показал, что намечавшийся новым президентом резкий поворот в сторону конфронтации не встречает поддержки у многих влиятельных членов администрации.
В средствах массовой информации также преобладали в то время настроения в пользу продолжения политики сотрудничества с СССР. Гарриман убедился в этом, когда, будучи в Сан-Франциско, выступил на пресс-конференции перед журналистами, освещавшими работу первой конференции ООН. Его высказывания в духе «жесткого» курса по отношению к Москве вызвали возмущение корреспондентов, многие из которых покинули в знак протеста пресс-конференцию.
В этих условиях Трумэну и тем, кто его поддерживал, пришлось предпринять обходный маневр. Перечитывая теперь свидетельства о действиях Вашингтона в тот период, нельзя не прийти к выводу, что усилия предпринимались одновременно в нескольких направлениях. Во-первых, Белый дом, стремясь унять страсти, решил публично продемонстрировать готовность продолжать курс на сотрудничество с Советским Союзом. При этом, однако, предполагалось поставить Москве такие условия, которые были бы для нее явно неприемлемы. Отсюда возникало второе направление: свалить на Советский Союз вину за невозможность продолжать рузвельтовский курс. Третьим направлением была последовательная обработка общественного мнения во враждебном СССР духе и соответствующая работа со средствами массовой информации.
Тут, однако, возникала одна трудность: Трумэн, как говорится, уже выпустил кота из мешка, проявив непозволительную грубость в беседе с наркомом иностранных дел СССР. Еще одним враждебным актом нового президента по отношению к советскому союзнику было подписание им 8 мая 1945 г. приказа о резком сокращении поставок в Советский Союз по ленд-лизу. Сделано это было не только без предварительной консультации с Москвой, но к тому же еще и самым вызывающим образом. Уже на следующий день после подписания приказа были даны указания прекратить в американских портах погрузку материалов для СССР, а те суда, которые находились в пути, получили распоряжение возвратиться из открытого моря в Соединенные Штаты. Многие американские деятели, в том числе и Гарриман, были шокированы столь грубой акцией Трумэна, представлявшей собой явную попытку извлечь политические уступки путем экономического давления. Президенту настоятельно советовали отменить свой приказ, и спустя некоторое время он это сделал. Но советско-американским отношениям уже был нанесен существенный ущерб, и в Москве не могли не зарегистрировать этот факт.
В свете сказанного можно было без особого труда разгадать подлинные мотивы Вашингтона и увидеть настоящую цену заверений Трумэна в добрых намерениях. Тут-то, видимо, и возникла идея о посылке в Москву Гарри Гопкинса. Есть основания считать, что сам Гопкинс не был посвящен во все детали закулисных маневров Вашингтона, хотя он перед отъездом и был проинструктирован Трумэном. Несмотря на недомогание, он дал согласие отправиться в столицу СССР, потому что был искренним сторонником американо-советского сотрудничества и, наблюдая за быстрым ухудшением отношений между обеими державами, горячо надеялся, что положение можно еще исправить. Он был готов лично внести вклад в это дело. Что касается Белого дома, то кандидатура Гопкинса устраивала по вполне понятным причинам: он был ближайшим помощником Рузвельта, его доверенным лицом и участником планов послевоенного сотрудничества с Советским Союзом; он пользовался доверием Советского правительства и лично Сталина, тем более что в Москве хорошо помнили, что именно Гопкинс в тяжелые дни июля 1941 года был послан Рузвельтом в столицу СССР для выяснения способности СССР выстоять и, ознакомившись с положением на месте, со всей решительностью высказал убеждение, что Гитлер не пройдет. Наконец, Гопкинс был страстным сторонником такого послевоенного устройства, в котором развивалось бы равноправное сотрудничество между всеми государствами, и прежде всего между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Поэтому он мог, не кривя душой, говорить о важности и необходимости продолжения политического курса, который был разработан с его, Гопкинса, участием президентом Рузвельтом.
Пребывание Гарри Гопкинса в Москве с 25 мая по 6 июня 1945 г. достаточно подробно описано в его биографии, составленной Генри Адамсом и вышедшей в Нью-Йорке в 1977 году, а также в мемуарах Гарримана.
Уже на следующий день после прибытия в СССР в 8 часов вечера Гопкинс и Гарриман были приняты в Кремле главой Советского правительства. И. В. Сталин приветствовал Гопкинса как старого друга и внимательно выслушал его рассказ о последних днях Рузвельта. Затем Гопкинс стал говорить о том, как велика была уверенность покойного президента в возможности сотрудничества Америки и России в мирное время исходя из опыта их единства в годы войны. Он упомянул далее о том, с каким большим уважением относился Рузвельт к маршалу Сталину, вспомнил о своей миссии в Москву летом 1941 года и о быстром решении президента Рузвельта оказать помощь Советскому Союзу, между тем как многие тогда думали, что Гитлер разобьет СССР в течение нескольких недель. Теперь, продолжал Гопкинс, русские и американцы вместе с другими союзниками разгромили гитлеровский рейх.
Сталин выслушал все это благожелательно.
Решив, что сделано достаточно комплиментов и произнесено много добрых слов, Гопкинс перешел к современному положению. Начал он с того, что в последние полтора-два месяца возникли некоторые новые тенденции, очень беспокоящие всех американцев, веривших в политику Рузвельта. Поэтому-то он, Гопкинс, будучи больным, все же поднялся с постели, чтобы лететь в Москву по поручению Трумэна.
Причина, по которой Трумэн послал его сюда, сказал Гопкинс, именно и связана с тем, что многие американцы озабочены и встревожены тенденциями во взаимоотношениях с СССР. Ему трудно указать на конкретную причину этого изменения, но решающим пунктом было то, что Трумэн нашел затруднительным для себя продолжать политику Рузвельта по сотрудничеству с Россией. Однако Гопкинс объяснил это не взглядами самого президента, а тем, что он, дескать, заметил «ухудшение общественной поддержки», вызванное «неспособностью разрешить польскую проблему». Если, продолжал Гопкинс, польский вопрос быстро не разрешится, ситуация может ухудшиться.
Сталин заметил, что ответственность за эту неудачу лежит на британских консерваторах. Все, что требует Советский Союз, — это дружественной Польши, но англичане хотят возродить довоенный «санитарный кордон».
Гопкинс ответил, что ни правительство, ни народ Соединенных Штатов не имеют такого намерения. Сталин повторил, что он говорит в данном случае только об Англии, консервативные лидеры которой не хотят видеть Польшу дружественной по отношению к Советскому Союзу.
Гопкинс заверил Сталина, что Соединенные Штаты вовсе не возражают, но, напротив, хотят видеть дружественные страны вдоль границ России.
— Если это так, мы легко придем к соглашению, — сказал Сталин.
Проблема Польши заняла большую часть времени на переговорах в Кремле, которые проходили между 26 мая и 6 июня. В целом атмосфера царила благоприятная, стороны откровенно излагали свои взгляды по широкому кругу вопросов. Вместе с тем с советской стороны были высказаны серьезные претензии к западным союзникам.
Во время второй встречи, 27 мая, Сталин поставил вопрос о представительстве Аргентины на конференции в Сан-Франциско. «Большая тройка», сказал он, согласилась в Ялте, что только государства, которые объявили войну Германии до 1 марта, будут приглашены в Сан-Франциско. Между тем Аргентина, которая объявила войну только 27 марта, оказалась представленной на конференции. Какова цена соглашения между главными державами, спросил Сталин, если их решения могут быть так просто отброшены?
Гопкинс принялся объяснять, что произошло. Он напомнил, что в соответствии с соглашением, достигнутым в Ялте, Стеттиниус в Сан-Франциско попросил латиноамериканские делегации поддержать допуск в Организацию Объединенных Наций Украины и Белоруссии. Они согласились и сдержали свое слово. Но латиноамериканские послы пытались обусловить свой голос в пользу советских республик американской поддержкой в отношении допуска Аргентины. Стеттиниус пытался убедить их, что аргентинский вопрос должен быть отложен, но не имел успеха, и в конце концов ему ничего не оставалось, как присоединиться к латиноамериканцам и проголосовать вместе с ними.
— Что уже сделано, нельзя исправить, — сказал Сталин, — и так или иначе, Аргентина — это пройденный этап.
Затем Сталин затронул вопрос о составе комиссии по репарациям. В Ялте была достигнута договоренность о трехсторонней комиссии. Между тем сейчас Соединенные Штаты настаивают, чтобы Франция была четвертым ее членом. Но ведь Франция, сказал Сталин, потерпела военное поражение. Если Франция должна стать членом комиссии, то почему тогда речь не идет о Польше и Югославии, которые решительно боролись и гораздо больше пострадали от рук немцев? Гопкинс ответил, что допуск Франции ему представляется логическим шагом, поскольку она будет одной из четырех оккупирующих держав. Однако если Россия возражает, он полагает, что Соединенные Штаты настаивать не будут.
Сталин выразил также беспокойство по поводу приостановки поставок по ленд-лизу.
— Та манера, в которой все это было сделано, — сказал он, — очень неловка и груба. Если решение было сделано для того, чтобы оказать давление на Россию, то это было коренной ошибкой. Хотя распоряжение Трумэна было затем отменено, оно вызвало у Советского правительства большую озабоченность. Я должен сказать господину Гопкинсу откровенно, что если к русским будут относиться искренне, на дружеской основе, то очень многое может быть сделано, но репрессии в любой форме приведут лишь к прямо противоположному результату.
В оправдание правительства США Гопкинс сослался на «техническое недоразумение», допущенное одним американским учреждением, ни в коем случае не представляющее собой политического решения.
Сталин более примирительным тоном сказал, что окончание войны в Европе, несомненно, требует от Соединенных Штатов пересмотра старой программы ленд-лиза. Он подтвердил, что в течение всей истории ленд-лиза Соединенные Штаты выполняли свои обязательства. Он, Сталин, полностью понимает право Соединенных Штатов ограничить поставки по ленд-лизу Советскому Союзу в нынешних условиях, поскольку американские обязательства в этом отношении вообще были приняты добровольно. Дело, однако, в манере, в какой все это было сделано: соглашение, существовавшее между двумя правительствами, пытались порвать недостойным и внезапным образом. Если бы об этом заранее предупредили Советское правительство, то не было бы такого впечатления.
Гопкинс ответил, что в заявлении Сталина его больше всего беспокоит то, что в Москве, возможно, верят, что Соединенные Штаты готовы использовать ленд-лиз как средство выразить недовольство Советским Союзом. Он заверил, что, какое бы неблагоприятное впечатление этот инцидент ни производил, Советское правительство не должно усматривать в нем попытку или желание Соединенных Штатов использовать все это как орудие давления.
Затем Сталин поднял вопрос о судах немецкого военного и торгового флота и сказал, что треть тоннажа, захваченного западными союзниками, должна быть передана СССР. «Будет неприятно, если Соединенные Штаты и Великобритания сейчас отвергнут это советское пожелание», — предупредил Сталин.
Гопкинс ответил, что Соединенные Штаты не возражают против передачи захваченных немецких судов, добавив, что, как он думает, вопрос может быть положительно урегулирован на предстоящей встрече Трумэна, Сталина и Черчилля.
Наиболее острым вопросом по-прежнему оставался польский. В одной из последующих бесед Сталин поднял его по своей инициативе. Он заявил, что не может понять американской позиции. На конференции в Ялте Рузвельт и Черчилль согласились с тем, что польское правительство должно быть сформировано на базе существующего режима.
Когда Гопкинс сослался на американское общественное мнение, Сталин резко ответил:
— Я не советовал бы использовать общественное мнение в качестве ширмы. Я говорю об ощущении, которое возникло в Советском правительстве. Оно подсказывает, что, как только война окончилась, американцы стали действовать так, будто они больше не нуждаются в Советском Союзе.
Дискуссия по польскому вопросу продолжалась до самой последней встречи, которая произошла 6 июня. Гопкинс вновь и вновь подчеркивал, что Польша важна прежде всего «как символ способности США достичь договоренности с Советским Союзом». Отвергая предположения, что Америка имеет какой-то «особый интерес» в этой стране, Гопкинс все же продолжал оказывать давление на Советское правительство. На обеде в Кремле, который Сталин дал в честь американских гостей 1 июня, Гопкинс заявил:
— Вы должны верить мне, если я говорю, что все наши взаимоотношения находятся под угрозой из-за тупика в польском вопросе…
Но советская сторона никак не могла уступить требованиям Вашингтона, ибо это фактически означало бы возрождение реакционного польского режима, враждебного Советскому Союзу. Опасные последствия подобной уступки для мира в Европе, для безопасности СССР и для национальных интересов самого польского народа очевидны. Вместе с тем советская сторона всячески подчеркивала стремление к дальнейшему сотрудничеству с Соединенными Штатами. Это сказывалось даже в жестах личного порядка.
Во время показа кинохроники, устроенного Сталиным для гостей после позднего обеда 1 июня, Гарриман с восхищением отозвался о лошади, на которой принимал первомайский парад генерал Антонов. Узнав, что Гарриман — искусный наездник, Сталин сказал, что подарит послу двух русских лошадей. Гарриман счел это сперва за шутку; но спустя два дня в его резиденции появился кавалерийский генерал и вручил послу красивую папку из красного сафьяна. В ней находились родословные и фотографии двух прекрасных лошадей. Теперь у Гарримана и его дочери Кэтрин, которая жила вместе с ним в Москве, появились неожиданные заботы: где содержать лошадей? Но, как вспоминает Кэтрин, все устроилось как нельзя лучше. Лошадей держали в конюшне кавалерийской школы в Москве, причем и сам Гарриман, и его дочь могли в любое время ездить на них верхом. Когда Гарриман покинул Москву, лошади были отправлены пароходом в Соединенные Штаты и дожили свой век в потомственном имении Гарриманов под Нью-Йорком.
Поздно ночью 6 июня Гарри Гопкинс распрощался с И. В. Сталиным и другими советскими руководителями и рано утром вылетел из Москвы в Берлин. В Берлине Гопкинс был гостем маршала Жукова, который организовал для него поездку по разбомбленному городу, а затем пригласил его на завтрак. За столом обсуждался вопрос о предстоящей встрече «большой тройки».
В целом визит Гопкинса в Москву вполне мог послужить отправной точкой для возобновления дружественных отношений между обеими державами. С советской стороны это неоднократно подчеркивалось. Сам Гопкинс, подводя итоги беседам в Кремле, пришел к выводу, что дальнейшее позитивное развитие советско-американских отношений вполне возможно, хотя оно будет и не без сложностей. Он никак не предвидел наступления «холодной войны», считая, что США и СССР должны, несмотря на все трудности, найти пути к взаимоприемлемому сотрудничеству. Возвратившись в Вашингтон, Гопкинс обнаружил, что пресса оценивает результаты его поездки очень положительно, отмечая, что переговоры, которые он вел в Москве, открывают новую эру взаимопонимания и сотрудничества с Советским Союзом.
На следующий день после прибытия домой Гопкинс завтракал с президентом Трумэном. Он подробно рассказал о своих переговорах в Москве и постарался дать президенту как можно более подробную информацию о личности Сталина, о его манере вести беседу, что, как полагал Гопкинс, могло пригодиться Трумэну на предстоящей Потсдамской конференции и вообще в последующих контактах с советским лидером.
Пресса предсказывала, что после столь успешной миссии Гопкинс получит высокий пост в новой администрации, а возможно, даже станет личным советником Трумэна, как это было при Рузвельте. Но обстановка быстро и резко менялась. За два месяца, прошедшие после смерти Рузвельта, в новой администрации появились люди совсем иного склада. Услуги Гопкинса не потребовались. Он сделал свое дело — постарался создать своей поездкой в Москву впечатление, будто Вашингтон по-прежнему намерен проводить рузвельтовский курс. Это избавило нового хозяина Белого дома от излишнего нажима американской и мировой общественности, выступавшей в пользу продолжения сотрудничества, и развязало ему руки для беспрепятственного развертывания «жесткого» курса в отношении Советского Союза. Все же Трумэн пригласил Гопкинса участвовать в Потсдамской конференции. Но Гопкинс отказался. После того как Трумэн заменил Стеттиниуса на посту государственного секретаря Джеймсом Бирнсом, Гопкинс понял, что ему лучше вовсе уйти с государственной службы.
Спустя немногим более полугода, 29 января 1946 г., Гарри Гопкинс скончался в госпитале, где провел последние месяцы своей жизни.
Последние приготовления
На этот раз вопрос о дате и месте новой встречи руководителей трех держав не вызвал разногласий. Все сошлись на том, чтобы провести ее в середине июля в районе Берлина. Участники антигитлеровской коалиции после тяжелейших испытаний добились наконец победы над общим врагом, и то, что они решили собраться в столице поверженного рейха, имело, помимо всего прочего, большое символическое значение.
Советское командование пришло к выводу, что наиболее подходящим местом для встречи «большой тройки» будет Потсдам — некогда фешенебельный пригород германской столицы, где многие помещения сохранились в сравнительно хорошем состоянии и где находился дворец Цецилиенхоф, построенный кайзером для кронпринца в годы первой мировой войны. Дворец окружен большим парком, огороженным высокой каменной стеной, что делало его вполне подходящим для встречи руководителей трех держав и с точки зрения безопасности. Поблизости — в Бабельсберге — уцелело много вилл бывшей германской элиты, которые и были предоставлены для глав делегаций и персонала каждой из участвующих в конференции держав. Предложение о проведении встречи в Потсдаме было принято без особых дискуссий, и советское командование, не теряя времени, приступило к подготовке и оборудованию помещений для рабочих заседаний и размещения делегаций. Открытие конференции наметили на 17 июля, и, хотя времени оставалось мало, советское командование успело не только подготовить в срок все необходимое, но и благоустроить прилегающую территорию.
Одновременно велись последние приготовления к «встрече трех» и в политическом плане. В некотором отношении, во всяком случае, что касается Черчилля, они носили весьма своеобразный характер.
В течение мая и июня 1945 года Черчилль торопил Трумэна с новой конференцией «большой тройки». Время, как уверял британский премьер, работает в пользу Сталина, по мере того как значительные контингента американской армии перебрасывались из Европы на тихоокеанский театр перед решающей атакой Японских островов. Премьер-министр пытался также убедить президента не возвращать территории, захваченной в Германии американцами, после того как они перешли границы, намеченные для советской зоны оккупации.
Подхватив измышления геббельсовской пропаганды, распространявшейся в последние дни гитлеровского рейха, Черчилль писал Трумэну, что отвод армии Соединенных Штатов с этих территорий означал бы, что русское господство продвигается вперед на 120 миль, по фронту от 300 до 400 миль. Черчилль уверял, что союзнические войска не должны отходить обратно, «пока мы не получим сатисфакции по поводу Польши, а также относительно временного характера русской оккупации Германии».
В Вашингтоне все еще шла борьба вокруг политического наследия Рузвельта. Некоторые влиятельные деятели убеждали нового президента в необходимости занимать «промежуточную позицию» между Британией и Россией. В этих условиях Трумэн не мог последовать за Черчиллем и ответил ему, что хотел бы избежать ситуации, которая дала бы советской стороне возможность обвинить Лондон и Вашингтон в сговоре против Москвы. Черчиллю в конце концов пришлось с этим согласиться, хотя он и продолжал выражать тревогу по поводу отвода американских войск из Европы. 12 мая он направил Трумэну еще одно послание, где впервые взял на вооружение геббельсовскую выдумку о «железном занавесе» в центре Европы.
«Что произойдет через год или два, — рассуждал он, — когда британские и американские армии растают и когда французских почти еще не будет, или во всяком случае, их не будет в широком масштабе, и когда мы сможем располагать лишь горсткой дивизий, тогда как русские, возможно, захотят держать в Европе две или три сотни дивизий в активном состоянии? В таком случае „железный занавес“ опустится вдоль их фронта. Мы не знаем, что происходит за этим занавесом. Мало сомнения в том, что весь район к востоку от линии Любек — Триест — Корфу будет скоро полностью в их руках. К этому надо добавить дальнейший, огромный район, захваченный американскими армиями между Эйзенахом и Эльбой, который, как я полагаю, через несколько недель будет оккупирован русской мощью, если американцы отойдут. Тогда русские, если они этого пожелают, смогут продвинуться к водам Северного моря и Атлантики».
Однако в Вашингтоне как государственный департамент, так и военное министерство возражали против того, чтобы использовать занятые американскими войсками территории, предназначенные для советской оккупации, в качестве разменной монеты. Гопкинс настоятельно советовал президенту проявлять сдержанность и предупреждал его, что отказ США отвести войска с выдвинутых вперед позиций будет выглядеть как нарушение договоренности, достигнутой по доброй воле сторон полгода назад. Нарушение этой договоренности, заявлял он, не будет понято не только в России, но ив самих Соединенных Штатах. В соответствии с этими рекомендациями Трумэн написал Черчиллю 11 июня: «Я не могу отложить отвод американских войск из советской зоны для того, чтобы использовать их в качестве давления в урегулировании других проблем».
Помимо того, с советской стороны дали понять, что согласие на функционирование Союзной контрольной комиссии в Берлине не будет дано до тех пор, пока американские и английские войска не выведены из советской зоны. «Мне рекомендуют, — писал Трумэн, — что было бы чрезвычайно неразумно и неполезно для наших отношений с Советским Союзом откладывать эту акцию до встречи в Берлине». Черчилль не мог скрыть своего разочарования. «По-видимому, нам придется согласиться с Вашим решением, — ответил он президенту. — Я искренне надеюсь, что Ваша акция в конечном счете будет способствовать миру в Европе». О каком мире хлопотал Черчилль, понять нетрудно.
Интересно свидетельство Гарримана, который, комментируя теперь в своих воспоминаниях этот инцидент, пишет: «Зональные границы были установлены заранее, потому что мы все считали, что было важным не допустить столкновения с русскими по территориальному вопросу. Наши начальники штабов считали, что зональное соглашение, о котором была достигнута договоренность в Лондоне, вполне удовлетворительно. Конечно, они недооценили действительной ситуации на месте, несколько переоценив скорость советского продвижения с востока и недооценив глубину проникновения союзных войск с запада. (В действительности дело было в том, что гитлеровцы фактически открыли фронт на западе, сосредоточив все силы против Красной Армии. — В. Б.). Но я не могу их критиковать за это. Никто не был в состоянии предвидеть с достаточной степенью точности, как произойдет последняя битва за Германию. Важно было то, что нам удалось достичь соглашения с русскими, уточнявшего, какая армия должна оккупировать какую территорию, и нам следовало придерживаться этого соглашения. Если бы мы отказались отвести наши войска из советской зоны в Германии, русские, несомненно, отказались бы уйти из зон, предназначенных для нас в Австрии».
Кроме того, продолжает Гарриман, важно было учитывать, что еще предстояло выиграть войну на Тихом океане. Военные планы США предусматривали массированную переброску американских войск из Европы на Дальний Восток.
По пути в Европу Трумэн, пересекавший океан на крейсере «Аугуста», занялся изучением проблем, которые предстояло обсудить в Потсдаме. Каждый день в кают-компании корабля президент проводил совещания узкого штаба с участием своего нового государственного секретаря Дж. Бирнса, советника государственного департамента Б. Коэна, начальника европейского отдела госдепартамента Ф. Метьюса, адмирала Леги и Ч. Болена, считавшегося к тому времени наиболее информированным экспертом по советским делам.
Среди вопросов, обсуждавшихся американской делегацией в преддверии потсдамской встречи, особое место занимала проблема участия СССР в войне против Японии. Объединенные начальники штабов представили Трумэну и Черчиллю письменный доклад. В нем перечислялись шаги, которые следовало предпринять для скорейшего поражения Японии. «Русское вступление в войну против Японии должно поощряться, — говорилось в этом документе. — Любая помощь, которая повысит боеспособность России, должна быть ей оказана». Президент не сомневался в том, что рекомендации начальников штабов разумны. «Конечно, моя непосредственная цель заключалась в том, чтобы добиться вступления России в войну против Японии как можно скорее», — писал он позднее в своих мемуарах. Того же мнения придерживался военный министр Стимсон.
Ко времени открытия Потсдамской конференции многие американские деятели, еще недавно занимавшие ведущие позиции, были отстранены от практических дел. Весьма скромной оказалась и роль Аверелла Гарримана. Хотя он и присутствовал на всех пленарных заседаниях, важнейшие решения внутри американской группы принимались без него. Новый государственный секретарь США Дж. Бирнс отстранил от практических дел не только Гарримана. Такая же участь постигла военного министра Стимсона, видимо, в связи с тем, что он отрицательно отнесся к попыткам повернуть курс Соединенных Штатов в сторону от сотрудничества с Советским Союзом. Гарриман, считая себя обойденным, при одной из встреч с Трумэном сказал, что намерен вскоре уйти в отставку.
— Я готов, — заявил он президенту, — пробыть в Москве, если вы того пожелаете, лишь до тех пор, пока война с Японией не окончится. После этого я хочу уйти и вернуться домой…
Президент не возражал, что было воспринято Гарриманом как показатель того, что новая администрация не очень заинтересована в его услугах. Надо сказать, что и отношения между Трумэном и Бирнсом носили весьма своеобразный характер. Новый государственный секретарь никак не мог простить Трумэну того, что из-за него он, Бирнс, не стал президентом. Когда в 1944 году в Чикаго проходил съезд демократической партии, Бирнс был в полной уверенности, что Трумэн выдвинет его на пост вице-президента. В дальнейшем, однако, на этом посту оказался сам Трумэн. Бирнс так и не примирился внутренне с тем, что Трумэн его «обставил». К тому же Бирнс был о себе весьма высокого мнения. Да и другие считали его опытным политиком. Впервые избранный в сенат еще в 1930 году, он пользовался там немалым влиянием. Считают, что Рузвельт неизменно выигрывал битвы в конгрессе, когда Бирнс его поддерживал, и проигрывал, когда сенатор оказывался не на его стороне. Однако у Бирнса совершенно отсутствовал опыт в международных делах, и он имел весьма смутное представление о том, что происходит во внешнем мире.
Военным советником Трумэна на Потсдамской конференции формально был адмирал Леги, который длительное время являлся ближайшим помощником президента Рузвельта. Однако Трумэн и его мало привлекал к практическим вопросам. В своей книге «Я был там» Леги вспоминает главным образом события протокольного характера. Похоже, что он вообще не очень-то вникал в существо происходящего вокруг. Леги оставался лояльным по отношению к новому президенту, хотя и не представлял для него существенной пользы как советник.
Уже тогда начался процесс реорганизации вашингтонской администрации. Трумэн отстранил от участия в Потсдамской конференции многих политических деятелей, активно помогавших в прошлом президенту Рузвельту. Это был важный показатель кардинальных перемен во внешнеполитическом курсе США.
Трумэн и Черчилль в Берлине
Американская и английская делегации прибыли в Берлин раньше советских представителей, и Трумэн, уступая нажиму Черчилля, согласился обменяться с ним мнениями до встречи со Сталиным.
Раньше Черчилль видел Трумэна только один раз, когда приезжал в Вашингтон для переговоров с президентом Рузвельтом. Поэтому британский премьер не вполне представлял себе, как следует вести дела с новым президентом. По-видимому, аналогичные чувства испытывал и Трумэн. Во всяком случае, еще в ходе подготовки к Потсдамской конференции он направил в Лондон посла Дэвиса для предварительного зондажа. При первой же встрече с премьер-министром Дэвис заговорил об «озабоченности» президента по поводу серьезного ухудшения отношений США и Англии с Советским Союзом. Надо полагать, что Дэвис, который всегда был горячим сторонником проводимой Рузвельтом политики сближения с СССР, принял рассуждения Трумэна насчет «озабоченности» за чистую монету. Поэтому он заявил Черчиллю, что, как ему представляется, без продолжения единства «большой тройки» нет разумных перспектив для мира. Характеризуя обстановку, возникшую после победы союзников в Европе, Дэвис сослался на всякого рода проявления недоверия и подозрения с обеих сторон. Дело осложняется тем, сказал Дэвис, что, по мнению Советского Союза, Англия и Америка пытаются сговариваться против СССР. Учитывая все это, продолжал он, а также и то, что новый президент никогда раньше не встречался с главой Советского правительства, Трумэн желал бы иметь возможность переговорить со Сталиным до начала запланированной «встречи трех».
Черчилль, который давно держал курс на конфронтацию с Советским Союзом, по-своему понял «озабоченность» президента. Он усмотрел в этом скорее намек на возможность дальнейшего проведения политики конфронтации в условиях ухудшившихся отношений с СССР. Но в пожелании Трумэна отдельно встретиться со Сталиным он почувствовал опасность. Это выглядело как отстранение Лондона от «большой политики» или, во всяком случае, как оттеснение его на второстепенные позиции. Встав в возмущенную позу, Черчилль сказал, что «удивлен и обижен» тем, что его хотят исключить из первой послевоенной встречи со Сталиным.
— Разве, — воскликнул премьер, — я не поддерживал Соединенные Штаты на всем протяжении войны и неужели такова должна быть плата за эту поддержку? Разве я не поддерживал американской формулы о безоговорочной капитуляции Германии, когда мог добиться сепаратного мира с Гитлером? Что все это означает? Такая встреча выглядит как нечестная сделка. Я никогда, никогда, никогда не соглашусь на это!..
Черчиллю казалось, что американцы не намерены всерьез считаться с ним. Сначала Вашингтон отклонил его предложение оставить американские войска в зонах Германии, отведенных Советскому Союзу, затем Трумэн вопреки настойчивым рекомендациям Черчилля решил вывести значительную часть американских контингентов из Европы. Теперь намечается эта сепаратная встреча Трумэна со Сталиным. Не собирается ли Вашингтон вообще покинуть своего старого союзника. Не думает ли Вашингтон самостоятельно вести дела с Москвой, тогда как Черчилль приложил столько усилий, чтобы, убедить американцев, что Советский Союз представляет для Соединенных Штатов страшную угрозу. Обращаясь к послу Дэвису, британский премьер драматическим тоном вопрошал:
— Хотите ли вы сказать от имени президента, что Соединенные Штаты решили устраниться от участия в европейских делах?
Дэвис уклонился от прямого ответа, и тогда Черчилль дал волю своим эмоциям. Он хвастливо заявил, что если американцы не понимают угрозы, которую Россия представляет для Европы, то Англия будет стоять одна. Британия не является фактором, которым можно пренебречь в мировых делах. Она еще может за себя постоять. Англия выстоит одна, как она это делала прежде…
Посол Дэвис не дал себя сбить этой бравадой. Он напомнил Черчиллю, что Советский Союз внес огромный вклад в дело победы над общим врагом, и добавил, что не следует возрождать старые подозрения. Подводя итог дискуссии, Дэвис заявил, что, как полагают многие, Англия, которая теперь оказалась без третьей соперничающей державы на континенте, с помощью которой можно было бы сбалансировать возрастающую мощь России, хочет попытаться использовать людские ресурсы и экономический потенциал Америки для поддержания классической британской политики «разделяй и властвуй».
Дэвис так метко вскрыл подлинные мотивы Черчилля, что тот при всей своей находчивости на этот раз не знал, что ответить. Он ограничился лишь замечанием, что хотел бы как можно скорее изложить свои соображения президенту.
Трумэну, судя по всему, такая напористость Черчилля понравилась, и он больше не возражал против предварительной встречи с британским премьером до прибытия в Потсдам советской делегации.
Беседа двух западных лидеров состоялась утром 16 июля в гостиной виллы в Бабельсберге, в которой остановился президент и которую поэтому окрестили «малым Белым домом». Обсуждение началось с Японии. Черчилль заявил, что может предоставить свежие британские контингента для войны на Тихом океане. Однако Трумэн дал понять, что не нуждается в английской помощи. Более того, несмотря на достигнутую в Ялте официальную договоренность о присоединении Советского Союза к войне против Японии после капитуляции гитлеровской Германии, Трумэн заявил Черчиллю, что не собирается «просить» русских вступать в эту войну. Это несколько подсластило пилюлю, полученную Черчиллем. Воспрянув духом, он снова сел на своего конька, принявшись распространяться об «угрозе», которую, дескать, представляет Советский Союз как для Европы, так и для США. В целом Черчилль остался доволен этой встречей. Он отметил в своем дневнике, что на него произвела большое впечатление твердость Трумэна и его способность принимать решения.
Во второй половине этого же дня военный министр США Стимсон явился на виллу к Черчиллю, чтобы проинформировать его о предварительных данных об испытании атомной бомбы в Нью-Мексико. Черчилль не мог скрыть своего восторга. Он воскликнул:
— Вот быстрейшее средство для окончания второй мировой войны!
Затем, немного помолчав, добавил:
— А может быть, и еще для кое-чего…
Позднее Черчилль записал в дневнике:
«До этого момента наше военное планирование исходило из необходимости вторжения на собственно японскую территорию с помощью интенсивных бомбежек и высадки крупных армий. Мы полагали, что отчаянное сопротивление японцев, которые будут стоять насмерть с самурайской преданностью в любой пещере и в любом укрытии, приведет к тому, что завоевание Японии шаг за шагом может потребовать миллион американских и полмиллиона английских жизней. Теперь этот кошмар исчез. Вместо него появилось видение яркое и захватывающее — окончание всей войны путем одного или двух сильных ударов… Мы теперь не нуждаемся в русских. Теперь мы располагаем возможностью сразу же прекратить бойню на Дальнем Востоке, Но открываются и более приятные перспективы в Европе. Я не сомневаюсь, что эти же мысли бродили и в головах американских друзей».
Стимсон напрасно убеждал Черчилля в необходимости сообщить советской стороне подробности о новом оружии. Черчилль и слышать об этом не хотел. Его реакция была та же, что и Бирнса, с которым. Стимсон говорил ранее.
ПОТСДАМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Сталин встречается с Трумэном.
17 июля ровно в 12 часов дня лимузин главы Советского правительства остановился у подъезда «малого Белого дома» в Бабельсберге. Ближайшие помощники президента Г. Воган и Дж. Вордеман вышли навстречу гостям. И. В. Сталину только что было присвоено высшее воинское звание генералиссимуса в знак признания успехов и исторических побед Красной Армии в Великой Отечественной войне. Вместе с И. В. Сталиным, прибыл В. М. Молотов и, в качестве переводчика, советник Наркоминдела С. А. Голунский. Советские представители поднялись по устланной толстым ковром лестнице на второй этаж в кабинет Трумэна, где их ожидали президент США, государственный секретарь Бирнс и переводчик Болен.
Как записал переводчик президента, Сталин был спокоен, сердечен, говорил мягко и дружественно.
В ходе состоявшейся беседы Трумэн и Сталин обсудили повестку дня конференции, причем Сталин внес несколько дополнений, включая вопрос о режиме Франко в Испании. Трумэн, как бы пропустив, мимо ушей замечание относительно Франко, спросил, в котором часу, по мнению Сталина, было бы удобно встретиться на первом пленарном заседании. Сталин ответил, что Молотов и Иден договорились о 17 часах сегодня, 17 июля. Бирнс в шутку напомнил о хорошо известной привычке Сталина работать по ночам и вставать поздно на следующий день. Сталин в тон ему ответил, что его привычки после окончания войны изменились.
— Что касается режима Франко, — уже серьезным, тоном продолжал Сталин, — то я хотел бы разъяснить мою точку зрения. Франкистский режим не явился результатом внутреннего развития в Испании. Он был навязан Испании Германией и Италией и поэтому представляет опасность для Объединенных Наций. Режим Франко опасен и вреден, поскольку в Испании предоставляют убежище различным осколкам фашизма. Поэтому мы думаем, что надо покончить с этим режимом…
Трумэн ответил, что у него нет достаточных материалов относительно Франко, но он обязательно изучит этот вопрос. В дальнейшем Трумэн решил вести беседу менее официально. Он сказал:
— Я приехал сюда, чтобы установить с Вами дружественные отношения и иметь дело с Вами непосредственно чтобы можно было сразу решить по тому или иному вопросу «да» или «нет», тем более что я не дипломат.
Сталин ответил, что откровенность — хорошее дело и она будет помогать Советскому Союзу вести дела с Соединенными Штатами.
Трумэн сказал, что если у США и СССР сложатся дружественные отношения, то возникающие расхождения можно будет урегулировать быстро и в обстановке откровенности.
— Разумеется, — согласился Сталин, — расхождения могут быть, но их надо урегулировать.
Трумэн как бы невзначай заметил, что он уже встречался с Черчиллем. Сталин реагировал на это спокойно. Он лишь упомянул, что позиция англичан недостаточно ясна относительно войны в Японии. Что касается русских и американцев, продолжал Сталин, то они выполнят свои обязательства. Англичане же, судя по всему, считают, что в основном война вообще закончилась.
Трумэн рассказал о том, что премьер-министр предложил ему помощь в войне на Дальнем Востоке.
— Это несколько странная идея, — заметил глава Советскокого правительства. — Ведь Англию бомбили немцы, а не японцы. Для них война, собственно, закончилась, и эти чувства английского народа, возможно, сыграют против английского премьер-министра. Американский народ помог Англии на первоначальном этапе войны. Может быть, Черчилль думает сейчас о том, чтобы помочь американцам в войне против Японии?
— Мы не в таком тяжелом положении, в каком была Англия по отношению к Германии, — сказал Трумэн.
— Что касается нас, то мы будем готовы к середине августа, — твердо сказал Сталин.
Это замечание явно смутило Трумэна. Ведь он был вообще против вступления Советского Союза в войну на Дальнем Востоке, считая, что больше не нуждается в такой помощи. Ему не понравилось, что Сталин теперь так определенно напомнил о просьбе Америки и о его обещании вступить в войну против Японии после победы над Германией.
Вместе с тем Трумэн понимал, что уже ничего не может поделать и что Советский Союз вступит в войну независимо от того, что сейчас он сделает или скажет. Поэтому президент предпочел промолчать.
Воспользовавшись этим, Сталин перешел к другой теме. Он проинформировал Трумэна о переговорах, которые Советское правительство вело с националистическим правительством Китая по вопросам, согласованным на Ялтинской конференции. Сталин сказал, что с китайцами не все пошло гладко и сейчас они отправились домой для консультации.
После беседы Трумэн пригласил Сталина остаться на ланч, во время которого разговор носил общий характер. Тем не менее время, проведенное вместе, позволило Сталину и Трумэну пристальнее присмотреться друг к другу. Об этой первой встрече со Сталиным Трумэн в своем дневнике, в частности, писал: «На меня особое впечатление произвели его глаза, выражение его лица… Он смотрел мне прямо в глаза, когда говорил. Он был в хорошем расположении духа, он был чрезвычайно вежлив. Он произвел на меня большое впечатление, и я решил говорить с ним напрямик».
Специфика обстановки
Третья и последняя конференция руководителей трех держав антигитлеровской коалиции во многом отличалась от двух предыдущих совещаний такого рода. Прежде всего своеобразие этой конференции состояло в том, что она проходила вскоре после победоносного завершения войны в Европе над гитлеровской Германией и ее сателлитами. Это, с одной стороны, создавало атмосферу приподнятости и как будто должно было облегчить решение стоявших перед конференцией задач. С другой стороны, давали себя знать определенные центробежные силы, затруднявшие согласованные действия и как бы уводившие участников встречи в разные стороны.
Еще одной особенностью Потсдамской конференции было то, что она и по составу отличалась от встреч в Тегеране и Ялте. Соединенные Штаты на этот раз представлял Трумэн, взгляды и методы действия которого существенно отличались от практики Рузвельта. Британская делегация только на первой части конференции возглавлялась Черчиллем. После его поражения на всеобщих выборах Англию с 28 июля представлял К. Эттли, лидер победившей лейбористской партии. Появление новых политических фигур западных держав не могло, разумеется, не наложить отпечатка на работу Потсдамской конференции.
В отличие от двух предыдущих встреч «большой тройки», где многие вопросы ставились и решались изначально, Потсдамская конференция уже располагала многими важными конкретными соглашениями, достигнутыми между союзниками как в отношении дальнейшего ведения войны (например, о выступлении Советского Союза против Японии), так и по вопросам послевоенного устройства. Поэтому участникам встречи в Потсдаме в ряде случаев оставалось лишь подтвердить или конкретизировать уже имевшиеся принципиальные решения. Это, однако, оказалось не таким простым делом, ибо западные представители пытались ревизовать некоторые из имевшихся соглашений, в связи с чем на конференции шла порой острая дипломатическая борьба. Наряду с этим возникли, конечно, и новые проблемы, которые надо было обсудить и решить.
Пожалуй, наиболее важным вопросом, подвергшимся всестороннему обсуждению, был вопрос о переустройстве безоговорочно капитулировавшей Германии. Тут также имелись рекомендации, выработанные Европейской консультативной комиссией, созданной по решению Московской конференции министров иностранных дел в 1943 году. Однако после окончания военных действий в Европе возникла новая ситуация. В правящей верхушке западных держав все более охотно играли с черчиллевской идеей использования людского и экономического потенциала Германии для возможной в перспективе войны против Советского Союза. Поэтому намечавшиеся ранее планы полной демилитаризации и демократизации Германии теперь не устраивали вашингтонских и лондонских политиков. Советской делегации пришлось вести на Потсдамской конференции решительную борьбу против такого рода тенденций. Это была борьба во имя безопасности Европы и в то же время борьба за мирное будущее Германии, за подлинные национальные интересы немецкого народа.
Советский Союз добился принятия конференцией совместных решений о денацификации, демократизации и демилитаризации Германии как единого целого. Известно, что США и Англия в годы войны разработали план расчленения Германии на несколько отдельных государств, преимущественно сельскохозяйственного характера. Тем самым Вашингтон и Лондон рассчитывали одним махом покончить с опасным конкурентом и создать благоприятные условия для империалистических махинаций в сердце Европы. Этим планам не суждено было свершиться, поскольку СССР с самого начала занимал в отношении к ним отрицательную позицию. Выступая 9 мая 1945 г., в День Победы, глава Советского правительства И. В. Сталин заявил, что Советский Союз «не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию».
В утвержденном на Потсдамской конференции Соглашении о политических и экономических принципах для руководства при обращении с Германией в начальный контрольный период были поставлены следующие цели: полное разоружение и демилитаризация Германии; ликвидация всей германской промышленности, которая может быть использована для военного производства; уничтожение национал-социалистской партии и ее филиалов; роспуск всех нацистских учреждений; предотвращение всякой нацистской и милитаристской деятельности и пропаганды; подготовка к окончательной реконструкции германской политической жизни на демократической основе. В разделе об экономических принципах четко указывается, что Германия должна рассматриваться как единое экономическое целое и что германскую экономику следует децентрализовать с целью «уничтожения существующей чрезмерной концентрации экономической силы, представленной особенно в форме картелей, синдикатов, трестов и других монополистических соглашений».
Нацистские военные преступники на скамье подсудимых в Нюрнберге.
Слева направо: Риббентроп, Геринг, Кейтель.
В дальнейшем западные державы пошли на срыв достигнутой договоренности. Столкнувшись с невозможностью использовать всю Германию в своих империалистических целях, они решили вопреки духу и букве потсдамских соглашений превратить ее западную часть в плацдарм готовившейся агрессии против СССР и стран народной демократии. Был взят курс на ремилитаризацию Западной Германии и включение ее в военный блок НАТО. Тогда трудящиеся восточной части страны создали свое, социалистическое государство — Германскую Демократическую Республику, ставшую оплотом мира в Европе и социального прогресса на немецкой земле.
За прошедшие годы о Потсдамской конференции написано много — ив нашей стране, и за рубежом. Надо отдать должное тем западным исследователям, которые пытаются объективно оценить ее работу, так же как и последующее развитие. Но немало, и предвзятых суждений. В американской и английской литературе особое место занимают мемуары деятелей, причастных к событиям того периода. Цель их ясна: представить по возможности: в благоприятном свете свои действия и набросить тень на политику Советского Союза, приписав ему всякого рода неблаговидные мотивы.
Для Советского Союза третья встреча руководителей трех держав антигитлеровской коалиции имела особое значение. Война, победоносно закончившаяся менее чем три месяца назад, была одним из тягчайших испытаний, когда-либо пережитых нашей Родиной. В этой войне решалась судьба первого в мире социалистического государства, решалось будущее мировой цивилизации, прогресса и демократии. Чтобы завоевать победу, советскому народу пришлось вынести на своих плечах основную тяжесть битв, принести огромные жертвы. После окончания войны в Европе советская дипломатия видела главную задачу в том, чтобы закрепить добытую такой дорогой ценой победу, надежно оградить Советское государство и другие свободолюбивые народы от новых посягательств реакционных сил, создать условия для обеспечения прочного мира.
В основе своей это была та же принципиальная линия, которую Советский Союз проводил на протяжении всей своей истории, не исключая и периода войны. Трехсторонние соглашения, заключенные на конференциях глав правительств и на других международных форумах в годы совместных боевых действий, отражали интересы каждой из сторон. Разумеется, западные державы и тогда имели свои взгляды как на конкретные проблемы ведения войны, так и на послевоенное устройство. При выработке решений нередко шли горячие споры. Но в условиях продолжавшейся борьбы против общего врага, к тому же в обстановке, когда Советский Союз нес основное бремя войны против гитлеровской Германии, не было иной альтернативы, кроме достижения согласованной позиции, приемлемой для всех участников переговоров. Все это требовало немалых усилий, позитивного подхода, готовности пойти на разумный компромисс, терпения, доброй воли, желания достичь соглашения. Важное значение имело и то, что во главе правительства США стоял в военные годы такой реалистически мыслящий политик, как Рузвельт. Своей трезвой позицией он, не в пример Черчиллю, не раз способствовал принятию в конечном счете разумного решения по самым острым вопросам. Американский исследователь Стэнли Гофман в сборнике «Размышления о холодной войне» констатирует: «Со стороны Рузвельта имелось совершенно явное большое желание мирного сотрудничества с Советским Союзом. Президент понимал советскую заботу о своей безопасности, что нередко вызывало его крайнее раздражение Черчиллем на протяжении войны».
Но дело было не только в стремлении Рузвельта понять и учесть позицию и интересы партнера по переговорам. Имела также значение его принципиальная установка на продолжение сложившегося в годы войны сотрудничества с Советским Союзом и в послевоенный период. По сути дела, это означало отказ от проводившейся правящими кругами западных держав между двумя мировыми войнами политики, направленной на конфронтацию с Советским Союзом, а по мере возможности и на ликвидацию социалистического строя, появление которого в октябре 1917 года многие влиятельные политики Вашингтона, Лондона и Парижа считали «ошибкой истории». Для исправления этой «ошибки» они даже были готовы воспользоваться услугами германского фашизма;
Важнейшим политическим итогом практики сотрудничества держав антигитлеровской коалиции как раз было то, что многие западные деятели, прежде всего американские, продемонстрировали готовность сотрудничать с Советской страной во время войны и в послевоенный период на равноправной основе. В какой мере был готов к такому решающему, повороту Черчилль — вопрос особый. Но он так или иначе оказался вынужденным поддержать важнейшие положения этой политики, в частности основополагающий принцип единогласия великих держав, на котором базируется Устав ООН. Что же касается президента Рузвельта, то он, как известно, неоднократно подчеркивал свою решимость осуществить такой поворот и коренным образом перестроить отношения с Советским Союзом по сравнению с довоенным периодом.
Рузвельт отдавал себе отчет в том, что в Соединенных Штатах действовали весьма влиятельные противники такого нового подхода, ни в коем случае не желавшие распространять практику военного сотрудничества с Советским Союзом на мирное время. Поэтому он не хотел откладывать практические соглашения с СССР, касающиеся послевоенного периода.
Тут, несомненно, проявилась дальновидность президента Рузвельта и его единомышленников. Они приложили немало усилий к тому, чтобы еще до окончания войны провести ряд союзнических конференций на различных уровнях и заложить основы политического и экономического послевоенного сотрудничества. Инерция этого курса, а также настроения широких масс американского народа в пользу продолжения сотрудничества с СССР вынудили американскую делегацию на Потсдамской конференции подтвердить ранее принятые союзниками решения и пойти на совместную договоренность по ряду других вопросов, хотя сменившееся в Вашингтоне руководство уже поворачивало руль американской политики в другую сторону. Но дело было не только и даже не столько в инерции. Положительные решения, которые в конечном счете приняла Потсдамская конференция, были достигнуты прежде всего благодаря упорной борьбе советской дипломатии, подкрепленной мощью социалистической державы.
Помимо указанных выше причин новое американское руководство, не решилось тогда порвать с практикой военного сотрудничества, видимо, и потому, что чувствовало себя еще не совсем уверенно: новая администрация пришла к власти лишь за несколько месяцев до Потсдамской конференции. Ч. Болен, присутствовавший в качестве переводчика на всех конференциях «большой тройки», отмечал, что «Потсдам отличался от двух предыдущих конференций военного времени — отличался по атмосфере, по стилю и по существу». Характеризуя настроения в западных делегациях, он писал:
«Хотя внешне все были дружелюбны, с каждой стороны была сдержанность, которая символизировала существовавшее недоверие… В дополнение к новому президенту в американской группе были и другие перемены на важных дипломатических постах… Начиная от президента все члены американской делегации действовали как бы наощупь. Личная цель Трумэна была проста. Он хотел доказать Сталину, что вполне самостоятелен, что он подлинный лидер и крепко держит в руках правительство Соединенных Штатов.
Черчилль, этот старый боевой конь, повернулся почти на 180 градусов в своем отношении к Советскому Союзу. Как и другие британские лидеры до него, он не хотел, чтобы какая-то другая держава господствовала в Европе… Так велик был страх Черчилля в связи с усилением Советского Союза, что он готов был покинуть конференцию, если Советы не согласятся передвинуть в восточном направлении границу между Польшей и Германией».
Напомним, что на Тегеранской и Ялтинской конференциях, где американцами и англичанами ставился вопрос о расчленении Германии на несколько государств, Вашингтон и Лондон согласились на изменение западной границы Польши за счет территорий, входивших ранее в Германию. Такая позиция объясняется наряду с другими причинами также и тем, что тогда влиятельные круги Англии и США все еще рассчитывали на создание буржуазной Польши, которая служила бы «барьером против коммунизма». К моменту Потсдамской конференции, однако, американские и английские политики убедились, что тенденция развития идет в сторону возникновения народно-демократической, дружественной Советскому Союзу Польши. Отсюда перемена их позиции в надежде, что если не Польша, то Германия станет оплотом реакции и орудием, которое империалистические силы могли бы использовать в своих целях.
Для более полной картины приведем свидетельство еще одного американского дипломата — Р. Мэрфи, который был весьма близок к новому президенту и принимал активное участие в формировании его политического курса. «Хотя Трумэн, — писал Мэрфи, — публично и обещал выполнять с честью все обязательства Ф. Рузвельта, он Никогда не чувствовал себя ответственным за его великий план… заключавшийся в следовании повсюду совместно с русскими».
Итак, еще одна особенность Потсдамской конференции заключается в том, что, хотя по идее она вполне могла бы увенчать целую серию военных конференций и ознаменоваться триумфом политики сотрудничества держав антигитлеровской коалиции, такая возможность была утрачена еще до начала ее работы. Двое из трех ее участников, а именно делегации США и Великобритании, отправлялись в Берлин с прямо противоположными целями. Они уже приняли решение похоронить саму идею сотрудничества с Советским Союзом и шли по пути конфронтации с социалистической державой. Вопреки планам, разрабатывавшимся при Рузвельте, они возвращались к довоенному курсу, направленному на изоляцию СССР, на отстранение его от решения мировых проблем. Они были озабочены приобретением «позиции силы», с которой они могли бы диктовать Советскому Союзу свою волю.
Уже тогда в недрах политической кухни США формировалась мессианская идея американского руководства всем миром. Сразу же по вступлении в должность президента Трумэн с присущими ему грубой откровенностью и самоуверенностью заявил: «Русские скоро будут поставлены на место, и тогда США возьмут на себя руководство развитием мира по пути, по которому его следует вести». Эти мечтания подогревала атомная бомба, работа над созданием которой была близка к завершению. Дж. Бирнс информировал в апреле 1945 года президента Трумэна о том, что атомное оружие «может оказаться столь мощным, что будет потенциально в состоянии стирать с лица земли целые города и уничтожать население в беспрецедентном масштабе». При этом он выразил веру в то, что бомба может дать прекрасные возможности «диктовать наши собственные условия в конце войны».
Становилось все более очевидным, что вашингтонские политики взяли курс на конфронтацию, а при определенных условиях и на войну против Советского Союза. 18 мая заместитель государственного секретаря Дж. Грю заявил в узком кругу: «Будущая война с Россией очевидна… США должны исходить из этого, формируя свою „межвоенную“ дипломатию… Война может разразиться в ближайшие годы. Поэтому нам следует поддерживать в готовности свои вооруженные силы».
Все же на том этапе правительство Трумэна еще не решалось открыто провозгласить свой новый курс и приняло участие в Потсдамской конференции. На то были свои причины: во-первых, открытый разрыв с СССР уж слишком шокировал бы тогда мировое общественное мнение, во-вторых, Вашингтон предвидел, что резкий поворот в политике США натолкнется на сильное сопротивление внутри страны. Дж. Бирнс свидетельствует, что «к окончанию войны надежды американского народа на продолжение американо-советского сотрудничества были столь велики, что возникло бы огромное разочарование, если не негодование, не попытайся мы сотрудничать с русскими». Но попытка эта в значительной мере делалась лишь для отвода глаз.
Расхождения относительно дальнейшей внешнеполитической линии имели место и в самом правительстве США. Многие министры, работавшие еще с Рузвельтом, сомневались в правильности антисоветского курса. Американский историк А. Шлезингер, исследуя тот период, считает, что борьба шла между сторонниками раздела мира на сферы влияния и так называемыми «универсалистами», претендовавшими на вмешательство США во всех уголках земного шара. Конечно, в этом споре участвовали различные школы мысли, были разные нюансы, но если смотреть в корень, то вопрос стоял так: продолжать ли практику сотрудничества между государствами с различными общественными системами, сложившуюся в годы войны, или отказаться от нее и вернуться к старому курсу, враждебному Советскому Союзу и исключающему всякие серьезные соглашения с ним. В этой связи не лишены интереса суждения представителей течения в современной американской историографии, которое окрестили как «ревизионистское». Их вывод следующий: появившаяся после окончания войны «новая американская политика — это лишь возобновление Трумэном дорузвельтовской политики ярого антикоммунизма». Сейчас в США многие полагают, что, если бы рузвельтовская линия не была изменена, «холодная война» не началась бы. «Ее можно было избежать, — пишет С. Гофман, — если бы мы придерживались более умеренных взглядов».
В 1975 году в США вышла книга Чарльза Ми «Встреча в Потсдаме», содержащая немало подробностей о ходе конференции. Хотя в ряде случаев в книге дается весьма объективное освещение обсуждавшихся в Потсдаме проблем, автор пытается изобразить дело так, будто все участники конференции не были склонны сохранять характер отношений, сложившихся в годы войны. Если это верно в отношении западных деятелей, то совершенно не соответствует позиции советской стороны. Советская делегация прибыла на Потсдамскую конференцию с готовностью внести конструктивный вклад в ее работу. Советский Союз неизменно стремился продолжать плодотворно осуществлявшееся в годы войны сотрудничество с западными державами. Выступая в июне 1973 года по американскому телевидению, Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев говорил: «Можно было ожидать, что союз военных лет откроет новую эру широкого мирного сотрудничества между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Могу сказать с уверенностью: наша страна стремилась к этому, мы хотели закрепить и развить добрые отношения, основа которых была заложена в период войны».
Известно, однако, что для согласия необходимо стремление к этому по крайней мере двух партнеров, для ссоры — достаточно воли одной стороны. Причем тот, кто поворачивает на дорогу конфронтации и войны, нуждается в соответствующих силовых средствах. Президент Трумэн и его окружение уповали на силу атомного оружия. Направляясь в Потсдам, американский президент с нетерпением ждал сообщения об испытании первой атомной бомбы. На борт крейсера «Аугуста», который вез его через Атлантику, регулярно шли шифровки о ходе подготовки к испытаниям в Нью-Мексико.
День первый
17 июля около 5 часов после полудня тенистый тихий парк дворца Цецилиенхоф огласился шумом моторов и скрежетом тормозов: участники Потсдамской конференции съезжались на первое пленарное заседание. Англичане прибыли раньше всех. В сопровождении детективов в штатском Черчилль вышел из машины и направился в апартаменты, предназначенные как рабочее помещение для британской делегации. Через несколько минут с шумом, под аккомпанемент воя сирен прибыла группа Трумэна. Сначала на усыпанной галькой дорожке появился эскорт мотоциклистов, затем — бронированный джип и наконец машина президента, на подножках которой застыли детективы. Процессию завершал бронетранспортер, полный вооруженных людей. Все они выскочили на площадку перед дворцом, держа наготове пистолеты и автоматы. Образовался живой коридор, по которому Трумэн и Бирнс прошли во дворец, широко улыбаясь. Вслед за ними подъехали машины советской делегации. Все собрались за большим круглым столом, покрытым кремовой скатертью, с флажками трех держав в центре.
Непосредственно за столом в креслах с высокими спинками расположились главы делегаций, а в обычных креслах — их ближайшие советники. Остальные члены делегаций и эксперты заняли места позади. Рядом с И. В. Сталиным находились В. М. Молотов, А. Я. Вышинский, А. А. Громыко и переводчик В. Н. Павлов; рядом с Трумэном — Бирнс, Леги, Дэвис и переводчик Болен; рядом с Черчиллем — Иден, Кадоган, Эттли и переводчик Бирз. К. Эттли был приглашен Черчиллем в качестве наблюдателя на случай, если в итоге предстоявших парламентских выборов в Англии консерваторы потерпят поражение и лидер лейбористской партии возглавит британское правительство и, соответственно, делегацию на Потсдамской конференции.
Журналистам и фотокорреспондентам было предоставлено 10 минут, чтобы заснять историческое событие. После того как они покинули зал, Черчилль спросил:
— Кому быть председателем на нашей конференции?
— Предлагаю президента Трумэна, — сказал Сталин.
— Английская делегация поддерживает это предложение, — поспешил присоединиться британский премьер.
Трумэн явно был польщен, но внешне реагировал сдержанно, даже сухо. Он лишь заметил, что принимает на себя председательствование.
Первое заседание началось с согласования повестки дня конференции. Но уже после предварительного обмена мнениями Трумэн почувствовал неловкость из-за того, что не прореагировал более эмоционально на избрание председателем конференции. Он решил поскорее исправить эту оплошность.
— Так как меня неожиданно избрали председателем этой конференции, — заявил он, — то я не мог сразу же выразить своих чувств. Я очень рад познакомиться с Вами, генералиссимус, и с Вами, господин премьер-министр. Я отлично знаю, что здесь я заменяю, человека, которого невозможно заменить, — бывшего президента Рузвельта. Я рад служить, хотя бы частично, той памяти, которая сохранилась у вас о президенте Рузвельте. Я хочу закрепить дружбу, которая существовала между ним и вами…
Затем Черчилль от имени британской делегации выразил Трумэну благодарность за то, что он принял на себя председательствование на конференции, и чувства доброй памяти о президенте Рузвельте. Сталин кратко добавил, что чувства, выраженные Черчиллем, полностью разделяются советской делегацией.
Что касается повестки дня конференции, то Трумэн предложил рассмотреть вопрос о создании специального Совета министров иностранных дел для урегулирования вопроса о мирных переговорах. Далее он сказал о необходимости обсудить и утвердить принципы, которыми должен руководствоваться Контрольный совет для Германии. Перейдя к вопросу об обязательствах, взятых союзными державами на Ялтинской конференции, президент отметил, что многие из этих обязательств остаются невыполненными, в частности, что касается Декларации об освобожденной Европе. Трумэн предложил, чтобы настоящая конференция рассмотрела этот вопрос. Прием Италии в Организацию Объединенных Наций президент также поставил в ряд проблем, подлежащих обсуждению. Заканчивая свое выступление, Трумэн сказал:
— Вопросы, которые я поставил перед вами, являются, конечно, очень важными. Но это не исключает того, чтобы были поставлены дополнительные вопросы.
— Мне кажется, — сказал Черчилль, — что нам следовало бы составить некоторую программу нашей работы, чтобы посмотреть, сможем ли мы сами выполнить всю повестку дня конференции или же часть вопросов следует передать министрам иностранных дел. Мне кажется, нам не нужно устанавливать всю программу работы сразу, а ограничиться определением круга вопросов на текущий день. Мне, например, хотелось бы добавить польский вопрос.
Сталин выразил сомнение по поводу процедуры, предложенной Черчиллем.
— Все-таки, — сказал он, — хорошо было бы всем трем делегациям изложить вопросы, которые они считают нужным поставить на повестку дня. У русских есть вопросы о разделе германского флота и другие… Второй вопрос — это вопрос о репарациях. Затем следует обсудить вопрос об опекаемых территориях.
Черчилль сразу насторожился и тут же спросил:
— Вы имеете в виду территории в Европе или во всем мире?
Глава советской делегации уклонился от прямого ответа. Он сказал, что еще не знает точно, что это за территории, но добавил, что «русские хотели бы принять участие в управлении опекаемыми территориями». Далее, излагая свои соображения по повестке дня, Сталин сказал, что следовало бы обсудить вопрос о восстановлении дипломатических отношений с бывшими сателлитами Германии. Необходимо также поговорить о режиме в Испании. Затем глава Советского правительства упомянул проблемы Танжера, Сирии и Ливана как возможные темы для обсуждения. Что касается польского вопроса, то, по мнению Сталина, его необходимо обсудить в аспекте решения тех вопросов, которые вытекают из факта установления в Польше правительства национального единства и необходимости, в связи с этим, ликвидации эмигрантского польского правительства в Лондоне.
Эти предложения не вызвали возражений. Участники переговоров договорились, чтобы три министра иностранных дел регулярно собирались и выбирали те конкретные вопросы повестки дня, которые должны быть рассмотрены руководителями держав на очередном пленарном заседании.
Когда обсуждался вопрос о функциях Совета министров иностранных дел, Сталин спросил:
— Это будет совет, подготавливающий вопросы для будущей международной мирной конференции?
— Да, — ответил Трумэн.
— Для мирной конференции, которая закончит войну, — патетически продекламировал Черчилль.
— В Европе война закончилась, — уточнил Сталин. — Совет определит и подскажет срок созыва мирной конференции.
Трумэн, как известно, вовсе не хотел созыва мирной конференции. Но он не решался тогда раскрыть свои карты и на вопрос Сталина ответил недвусмысленным «да». Пожалуй, он чуть-чуть выдал себя лишь тем, что особо подчеркнул: «Конференция не должна созываться до тех пор, пока мы не подготовимся к ней должным образом». Участники встречи, по предложению Трумэна, договорились начинать пленарные заседания не в 5, а в 4 часа после полудня.
— Если это принято, — сказал Трумэн, — отложим рассмотрение вопросов до завтра, до 4 часов дня.
Но перед тем как заседание было закрыто, произошел любопытный диалог, который представляется важным привести в протокольной записи.
«Сталин. Только один вопрос: почему г-н Черчилль отказывает русским в получении их доли германского флота?
Черчилль. Я не против. Но раз вы задаете мне вопрос, вот мой ответ: флот должен быть потоплен или разделен.
Сталин. Вы за потопление или за раздел?
Черчилль. Все средства войны — ужасные вещи.
Сталин. Флот нужно разделить. Если г-н Черчилль предпочитает потопить флот, — он может потопить свою долю, я свою долю топить не намерен.
Черчилль. В настоящее время почти весь германский флот в наших руках.
Сталин. В том-то и дело, в том-то и дело. Поэтому и надо нам решить этот вопрос».
Советское правительство уже имело неприятный опыт с итальянскими трофейными судами, захваченными западными державами. Естественно, что оно сочло необходимым проявить такую настойчивость в отношении германского флота.
Дилемма атомной бомбы
18 июля в 1 час 15 минут дня президент Трумэн прибыл на виллу Черчилля. Британский премьер пригласил его на ланч. Трумэн захватил с собой только что поступившую из Вашингтона телеграмму о результатах испытания атомной бомбы в Нью-Мексико. Ознакомив Черчилля с ее содержанием, президент поднял вопрос о том, что и как следует сообщить по этому поводу Сталину. Он, Трумэн, разумеется, не имел в виду, подобно Стимсону, продемонстрировать русским добрую волю. Он думал о другом: как избежать обвинений в том, что он проявил злую волю.
Трумэн считал, что если ознакомить советских представителей с подробностями взрыва, то это лишь ускорит их вступление в войну против Японии, чего он вообще предпочел бы избежать. Оба западных лидера полагали, что поскольку больше нет нужды в советской помощи на Дальнем Востоке, то самое лучшее было бы вообще ничего русским не говорить. Но это в дальнейшем могло иметь отрицательные последствия. Конечно, рассуждали собеседники, неплохо бы просто потянуть время, пока из Вашингтона не поступят более полные данные об испытании бомбы. Но все же оставался кардинальным вопрос: каким образом и что именно сказать Сталину… Если его проинформировать в письменном виде, то это придаст информации слишком официальный характер и к сообщению о бомбе будет привлечено излишне пристальное внимание. С другой стороны, если Сталину сказать об этом на каком-то специальном заседании, то он может серьезнее, чем хотелось бы западным лидерам, отнестись к возможностям нового оружия и ускорить переброску советских войск на Дальний Восток. Между тем и Трумэн, и Черчилль лелеяли надежду, что с помощью атомной бомбы война против Японии закончится до вступления в нее Советского Союза.
Взвесив различные возможности, собеседники пришли к тому, что лучше всего сказать о бомбе невзначай, как бы мимоходом, когда Сталин будет отвлечен какими-то своими мыслями.
Трумэн подытожил:
— Я думаю, что лучше всего мне сказать ему после одной из наших пленарных встреч. Причем ограничиться замечанием, что у нас есть совершенно новый тип бомбы, не упоминая слова «атомная». Сказать, что это нечто совершенно необычное, что, как мы полагаем, будет иметь решающее влияние на волю японцев к продолжению войны…
Немного подумав, Черчилль сказал:
— Согласен.
Западных лидеров особенно тревожило то, как бы Япония не объявила о капитуляции по советским дипломатическим каналам прежде, чем американцы успеют «выиграть» войну. Черчилль рассказал Трумэну о пробных шагах японцев, о чем Сталин сообщил накануне британскому премьеру.
— Суть этих шагов сводилась к тому, — пояснил Черчилль, — что Япония не может принять безоговорочной капитуляции, но готова согласиться на другие условия.
Трумэн спросил Черчилля, почему Сталин не сказал ничего американцам об этой новости. Черчилль высказал мнение, что, возможно, глава Советского правительства не хотел создавать у американцев впечатления, что он оказывает на них нажим. Англичане, продолжал Черчилль, также не хотят, чтобы американцы подумали, будто Англия не склонна присоединиться к войне против Японии. Однако, подчеркнул премьер, следует иметь в виду огромную цену, которую американцы и в меньшей степени англичане должны заплатить жизнями своих солдат, чтобы навязать Японии безоговорочную капитуляцию. Поэтому, заключил Черчилль, быть может, следовало бы подумать о том, не стоит ли выразить это же требование каким-то иным образом, чтобы союзники получили в основном то, чего они добиваются, и в то же время дали бы японцам какую-то возможность спасти свою военную честь.
Президент, не задумываясь, отклонил это предложение. Он опасался, что в случае какой-то модификации требования о безоговорочной капитуляции японцы сдадутся через посредничество Москвы и тогда победа может выскользнуть из американских рук. Трумэну нужно было, чтобы на данном этапе японцы продолжали ожесточенное сопротивление. Это, с одной стороны, давало бы оправдание для использования против них атомной бомбы и тем самым для демонстрации перед всем миром, и не в последнюю очередь перед Советским Союзом, «американской мощи», а с другой стороны, было бы наилучшим способом дать Вашингтону возможность воспользоваться в полной мере плодами победы. С приближением момента атомной бомбардировки японских городов стратегия Белого дома вырисовывалась все более явственно: выиграть войну прежде, чем Советский Союз будет в состоянии в нее вступить.
Что же касается рассуждений Черчилля насчет «военной чести» японцев, то они не произвели на Трумэна ни малейшего впечатления. Он сказал, что японцы давно потеряли свою военную честь — тогда, когда предательски напали на Пёрл-Харбор.
Как видно из мемуаров Черчилля, весь этот разговор произвел на него неприятное впечатление. Он почувствовал «решимость и агрессивность» нового президента, который в условиях возросшей силы Соединенных Штатов хотел вести дела так, будто мир уже вступил в «американский век».
Все же Черчилль рассчитывал кое-что выторговать и для Англии. Он жаловался на тяжелое положение Великобритании, которая потратила больше половины своих зарубежных инвестиций на общее дело, когда сражалась одна. Трумэн заметил, что Америка многим обязана Великобритании. Если бы вы, сказал он Черчиллю, рухнули, подобно Франции, то сейчас мы, возможно, вели бы бои против немцев на американском побережье. Поэтому американо-английские отношения следует рассматривать не только в чисто финансовом плане.
После этих утешительных слов Трумэн перевел разговор на вопрос о военно-воздушных базах, которые Америка построила «путем огромных затрат на британских территориях». Американцы, сказал он, не могут просто покинуть эти базы. Следует выработать какой-то справедливый план для совместного использования этих баз. Черчилль ответил, что он готов пойти на взаимоприемлемую договоренность между Англией и США относительно военно-воздушных и «других баз по всему миру». Великобритания сейчас меньшая держава, чем Соединенные Штаты, продолжал премьер-министр, но она «может дать многое» из того, что у нее еще осталось от великих дней империи.
— Почему бы нам совместно не использовать те средства обороны, которые разбросаны по всему миру? Мы могли бы добавить 50 % к мобильности американского флота, — сказал Черчилль, — довольно прозрачно намекая и на то, что Лондон также претендует на использование американских владений.
Трумэн насторожился: ему показалось, что Черчилль слишком уж быстро идет на договоренность.
— Любой план, — сухо заметил он, — должен соответствовать политике Объединенных Наций.
Трумэн рассчитывал, что США будут играть главную роль в Объединенных Нациях и во всем мире. И помочь ему в достижении этой цели должна была американская монополия на атомную бомбу. Поэтому мысли президента все вновь и вновь улетали в Нью-Мексико, где было осуществлено первое испытание атомной бомбы.
Развернутый доклад об этом испытании поступил в Потсдам только на четвертый день совещания — 21 июля. Вот как описала этот момент дочь президента — Маргарет Трумэн в объемистой книге, посвященной политической карьере своего отца: «В разгар этой сложной борьбы (на конференции. — В. Б.) пришел подробный отчет об атомном взрыве на военно-воздушной базе Аламогордо… Это доложил президенту в 15 часов военный министр Стимсон. Отец пригласил к себе государственного секретаря Бирнса. Взволнованным голосом Стимсон прочел сообщение о взрыве, проведенном 16 июля 1945 г. Стимсон отметил в своем дневнике, что Трумэн был „сильно возбужден“, услышав подробности взрыва, и сказал, что „все это дает ему совершенно новое положение на конференции“… Это дало возможность моему отцу вести переговоры более смело и решительно… Сцена была расчищена для жесткого торга в Потсдаме».
Известие об успешном испытании атомной бомбы и о ее разрушительной силе окрылило Трумэна. Роберт Мэрфи записал в мемуарах: «Когда Трумэн председательствовал на четвертом пленарном заседании, мы заметили перемену в поведении президента. Он казался гораздо более уверенным в себе, более склонным к активному участию в дискуссии, к оспариванию некоторых заявлений Сталина. Было очевидно, что что-то случилось». Именно в тот день Трумэн выдвинул возражения против отделения восточных земель Германии и передачи их Польше.
Трумэну не терпелось дать понять советской стороне, что за козырь зажат у него в кулаке. Выждав несколько дней, он 24 июля сразу по окончании пленарного заседания осуществил намеченный ранее план. Маргарет Трумэн пишет: «Мой отец тщательно обдумал вопрос о том, как и что сообщить Сталину об атомной бомбе. Он решил сказать ему как можно скорее, но ограничиться замечанием самого общего характера… Он подошел к советскому лидеру и сообщил ему, что Соединенные Штаты создали новое оружие „необыкновенно разрушительной силы“. Премьер Черчилль и государственный секретарь Бирнс находились в нескольких шагах и пристально наблюдали за реакцией Сталина. Он сохранил поразительное спокойствие… Мой отец, г-н Черчилль и г-н Бирнс пришли к заключению, что Сталин не понял значения только что услышанного».
В действительности же Сталин просто не подал виду, что понял. Маршал Г. К. Жуков, также находившийся в Потсдаме, вспоминает:
«Вернувшись с заседания, И. В. Сталин в моем присутствии рассказал В. М. Молотову о состоявшемся разговоре с Трумэном.
В. М. Молотов тут же сказал:
— Цену себе набивают.
И. В. Сталин рассмеялся:
— Пусть набивают. Надо будет сегодня же переговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы.
Я понял, что речь идет о создании атомной бомбы».
Трумэн был явно в растерянности — как быть дальше? Его обескуражило, что первая попытка атомного шантажа прошла мимо цели. Советская делегация держала себя так же, как и прежде: будто бы ничего и не произошло. Трумэн по-прежнему хотел, не теряя времени, воспользоваться преимуществами, которые, как ему представлялось, давало Соединенным Штатам обладание атомным оружием. Вместе с тем он не решался слишком раскрывать карты: новое оружие еще не применили на поле боя. Он дал указание представителям военного командования сбросить бомбу над Японией как можно скорее, но ни в коем случае не раньше того, как он покинет Потсдам. Трумэн хотел к тому времени «находиться подальше от русских и их вопросов и быть на пути домой, прежде чем упадет первая бомба».
Можно считать, что Трумэну в Потсдаме так и не удалось реализовать «атомное преимущество».
В кулуарах конференции
Помимо переговоров, проходивших на пленарных заседаниях, главы трех правительств вели интенсивный обмен мнениями и в ходе неофициальных встреч или, как принято выражаться на дипломатическом языке, в кулуарах конференции. Сюда можно отнести и беседы, проходившие как на трехсторонней, так и на двусторонней основе во время завтраков и обедов. Здесь, в более непринужденной атмосфере, чем на официальных заседаниях, многие вопросы обсуждались в предварительном порядке.
В этом смысле представляет интерес упомянутая выше беседа Трумэна с Черчиллем во время ланча 18 июля. Из резиденции британского премьера президент направился прямо на виллу главы Советского правительства.
Трумэн решил нанести короткий визит Сталину в ответ на его посещение «малого Белого дома» накануне. Президента сопровождал государственный секретарь Бирнс. Вместе со Сталиным был Молотов. После взаимных приветствий. Сталин сказал, что хочет сообщить президенту одну новость. Он передал Трумэну копию послания японского императора, полученного Советским правительством через посла Японии в Москве. Трумэн сделал вид, что читает, но он уже знал о послании из недавней беседы с Черчиллем. Поскольку на прошлой встрече с президентом Сталин об этом не упомянул, Трумэн, возможно, недоумевал, почему его информируют именно сейчас. Возможно, Сталин хотел прощупать, в какой степени президент уже осведомлен Черчиллем, и выяснить, убеждал ли британский премьер президента в целесообразности изменения формулы о безоговорочной капитуляции Японии. Некоторые американские историки считают, что советская сторона уже кое-что знала об испытании атомной бомбы в Нью-Мексико. Они полагают, что Сталин решил только теперь рассказать об обращении японцев в расчете получить от Трумэна другую, конфиденциальную информацию. Но президент, как мы видели, все еще считал несвоевременным выдавать свой секрет.
Сталин спросил собеседника, стоит ли отвечать на обращение японцев. Трумэн прямо не ответил, но заметил, что он не верит в добрую волю японцев.
— Может быть, целесообразно, — сказал Сталин, — усыпить бдительность японцев, дав им по возможности самый общий и неопределенный ответ и ограничившись замечанием, что характер их предложения недостаточно ясен?
Трумэн промолчал, видимо, обдумывая ситуацию.
— Имеются и альтернативы, — продолжал Сталин. — Можно полностью игнорировать их обращение и вообще ничего не отвечать. Или, наконец, отправить определенный отказ.
Трумэн сказал, что первое предложение представляется ему наиболее подходящим.
— Действительно, — заметил Молотов, — это было бы верно и по существу. Ведь вовсе не ясно, что имеют в виду японцы.
На том и порешили. Трумэн поднялся и стал прощаться. Скоро начиналось очередное пленарное заседание конференции.
Вечером того же дня, 18 июля, Сталин пригласил британского премьера на поздний обед. Черчилль прибыл на виллу главы Советского правительства в 8 часов 30 минут и оставался там до 1 часа 30 минут ночи. Премьер-министра сопровождал один лишь переводчик Бирз.
Впоследствии Черчилль подробно описал эту встречу Он отметил в своем дневнике, что Сталин был в очень хорошем расположении духа. Британский гость принес с собой.
Много лет спустя, в 1968 году, мне довелось побывать в Шанском государстве — далекой горной провинции на севере Бирмы. Мы долго ехали на моторной лодке по прекрасному горному озеру и к полудню оказались на островке, где в тот воскресный день шумела живописная экзотическая ярмарка. Чего только там не предлагалось жителям окрестных деревень, раскинувшихся по берегам озера. Проходя между пестрыми рядами продавцов, я увидел разложенные на циновке большие сигары. Тут же находилась этикетка с надписью на местном и английском языках: «Сигары Черчилля». А рядом в раскрытых картонных коробках виднелись кривые коричневые трубки. Их предлагали покупателям как «трубки Сталина». Поразительно было видеть это своеобразное напоминание о давно ушедшей в историю поре антигитлеровской коалиции.
За обеденным столом Сталин, видимо, хотел сделать гостю приятное. Поскольку британский премьер тогда особенно тревожился за исход предстоявших парламентских выборов, Сталин выразил надежду, что Черчилль одержит победу. Видимо, он считал сомнительным, чтобы военный лидер, приведший страну к победе, мог быть в момент триумфа отвергнут избирателями. Когда на Ялтинской конференции Черчилль как-то полушутя заметил, что если он сделает что-то такое, что не понравится в Англии, его, пожалуй, могут «выгнать», Сталин в тон ему ответил: «…Победителей не выгоняют». Впрочем, Черчилль, хорошо зная настроения в Англии, далеко не был уверен в успехе. Попросив сделать перерыв в работе Потсдамской конференции, с тем чтобы съездить вместе с Эттли в Лондон, где им предстояло узнать результаты выборов, Черчилль сказал: «…Нам придется выехать отсюда в среду 25 июля вместе с министром иностранных дел. Но мы вернемся к вечернему заседанию 27 июля». Немного помедлив, он добавил: «…Или только некоторые из нас вернутся».
Что касается Трумэна, то он, надо полагать, предпочел бы видеть Черчилля победителем. Ведь в нем он сразу нашел единомышленника. Маргарет Трумэн утверждает, что у ее отца и Черчилля «возникла дружба с первого взгляда». Она же приводит слова личного врача Черчилля лорда Морана о том, что «Уинстон влюбился в президента».
Консерваторы потерпели поражение, и в Потсдам вернулся К. Эттли и новые деятели. Министром иностранных дел Великобритании стал Э. Бевин. Впрочем, внешнеполитическая линия лейбористского премьера и нового руководителя Форин оффис, по существу, ничем не отличалась от черчиллевской.
Поскольку в результате победы на парламентских выборах К. Эттли пришлось сформировать новый кабинет, он задержался в Лондоне на день дольше, и конференция возобновилась не 27, как намечалось, а 28 июля.
Но все это было позднее, а пока Сталин и Черчилль продолжали неторопливую беседу за поздней трапезой. Поскольку у Черчилля еще теплилась надежда на победу, он принялся убеждать собеседника, что его политика будет заключаться в том, чтобы «Россия стала великой морской державой».
— Я хотел бы, — продолжал премьер-министр, — видеть суда России плавающими по океанам мира. Россия была до сих пор подобна гиганту, ноздри которого зажаты узкими выходами из Балтийского и Черного морей.
Сталин спокойно слушал, не перебивая.
— Я лично поддержал бы, — развивал свою мысль Черчилль, поощренный вниманием Сталина, — идею внесения, поправок в конвенцию в Монтре, исключив оттуда Японию и предоставив России доступ в Средиземноморье. Я приветствую появление России на океанах, и это относится не только к Дарданеллам, но и к Кильскому каналу. Эти проливы должны иметь такой же режим, как и Суэцкий канал, и теплые воды Тихого океана…
Неизвестно, куда еще унесла бы фантазия Черчилля, если бы Сталин не охладил его пыл трезвым вопросом. Посулы британского премьера были далеки от фактического положения вещей. Ведь Советский Союз понес на морях огромные потери. Строительство нового флота требовало больших средств и времени. Черчилль как бывший глава адмиралтейства прекрасно понимал это и потому не скупился на обещания, зная, что в тот момент они имеют не очень-то большое практическое значение, К тому же западные державы не только не способствовали утверждению СССР как морской державы, но всячески препятствовали этому, задерживая передачу советскому союзнику полагающейся ему по праву части захваченных военно-морских кораблей противника. Сталин, естественно, счел момент подходящим, чтобы спросить:
— А как насчет германского флота? Советский Союз хотел бы получить свою часть…
Черчилль осекся. Он тут же сообразил, что риторика занесла его слишком далеко. Надо было выходить из положения, как-то избежать прямого ответа. Премьер-министр сказал, что «некоторые люди серьезно обеспокоены возможными намерениями русских. Уже все столицы восточноевропейских государств находятся в руках русских и создается впечатление, что Советский Союз намерен двигаться дальше на запад».
Сталин выразил удивление подобного рода домыслами. Он сказал, что Советский Союз выводит войска с запада. Два миллиона человек будут отправлены домой и демобилизованы в ближайшие четыре месяца. Советская страна, продолжал он, понесла огромные потери, и как можно больше солдат необходимо возвратить домой, с тем чтобы они приняли участие в восстановлении разрушенного. После этих слов Черчилль перевел разговор на другую тему.
Вообще же британский премьер в те несколько дней, пока он возглавлял английскую делегацию, всячески пытался привлечь к себе внимание публики. На одном из заседаний «большой тройки» Черчилль заявил, что в Берлин прибыло около 180 иностранных корреспондентов, которые все время требуют информации о конференции, но не получая ее, становятся раздражительными и озлобленными, а это, по его мнению, может через их репортажи сказаться на настроениях общественности.
— Это целая рота. Кто их сюда пропустил? — спросил Сталин.
— Они находятся, конечно, не здесь, не внутри этой зоны, а в Берлине, — пояснил Черчилль. — Конечно, мы можем работать… только при условии сохранения секретности, и эту секретность мы обязаны обеспечить. Если оба мои коллеги согласятся со мной, то я, как, старый журналист, мог бы переговорить с ними, объяснив им необходимость сохранения секретности нашей встречи, сказал бы им, что мы относимся к ним с симпатией, но не можем рассказать то, что здесь происходит. Я считаю, что надо им погладить крылья, чтобы они успокоились.
Трумэн, который имел свой опыт обращения с прессой, не хотел, разумеется, позволить Черчиллю пожинать лавры и позировать перед журналистами. Он холодно сказал:
— У каждой из наших делегаций имеются специальные представители по вопросам печати, и их дело защищать нас от претензий корреспондентов. Пусть они занимаются своим делом. Можно поручить им переговорить с журналистами.
Черчилль был весьма расстроен, поняв, что его предложение отклонено.
Во время неофициальных встреч не обошлось и без курьезов. На одном из обедов, устроенных главой Советского правительства, перед гостями выступали два прекрасных пианиста и виртуозные скрипачки. Трумэн, который стремился во всем быть первым, решил посоревноваться и в этой области. По его указанию из Парижа был срочно вызван служивший там в войсках США известный американский пианист Юджин Лист. Трумэн распорядился, чтобы Ю. Лист, среди прочего, сыграл один из вальсов Шопена, но этих нот в Бабельсберге не оказалось. Тогда командованию американских войск была послана соответствующая шифровка — ноты удалось разыскать в Париже, и их доставили самолетом в Берлин. К вечеру они уже находились в «малом Белом доме». Уязвленный всем этим, Черчилль похвастался адмиралу Леги: «По части музыки я их обставлю». Он тут же дал в Лондон распоряжение, чтобы к обеду, на который он пригласил советского и американского лидеров, в Бабельсберг прибыл в полном составе оркестр королёвских военно-воздушных сил.
Вечером 23 июля Черчилль принимал за обеденным столом Сталина и Трумэна. Поначалу все шло как обычно, но вдруг грянула музыка с такой силой, что гости должны были почти кричать, чтобы общаться друг с другом. Находившийся позади стола оркестр во всю мощь исполнял английские, американские и русские марши. Через некоторое время Сталин с бокалом в руке подошел к дирижеру оркестра, провозгласил тост в честь музыкантов и попросил сыграть несколько более спокойных мелодий.
В конце вечера Сталин, взяв карточку меню; предложил всем на ней расписаться. Его примеру последовали Черчилль и Трумэн. Меню передавалось из рук в руки под шутки и смех присутствующих. Атмосфера была самая непринужденная. Вскоре после полуночи оркестр исполнил три национальных гимна и гости стали расходиться.
Помимо встреч глав правительств параллельно с пленарными заседаниями имели место и другие совещания. Регулярно проходил обмен мнениями между тремя министрами иностранных дел, собирались военные эксперты, группы советников по различным проблемам.
1945-й или 1937-й
На пленарном заседании 18 июля при рассмотрении политических полномочий Контрольного совета в Германии Черчиллем внезапно был поднят вопрос: что следует понимать под «Германией». «Я замечаю, — сказал он, — что здесь употребляется слово „Германия“. Что означает теперь „Германия“? Можно ли понимать ее в том же смысле, как это было до войны?»
Трумэн сразу же подключился к этой теме:
— Как понимает этот вопрос советская делегация?
Глава советской делегации, почувствовав, что западные лидеры затевают новую интригу, твердо ответил:
— Германия есть то, чем она стала после войны. Никакой другой Германии сейчас нет. Я так понимаю этот вопрос.
Но западные делегаты этим не удовлетворились. Они продолжали разматывать новый клубок, брошенный на стол конференции.
— Можно ли говорить о Германии, — спросил президент, — как она была до войны, в 1937 году?
— Как она есть в 1945 году, — настаивал Сталин.
— Она все потеряла в 1945 году, Германии сейчас не существует фактически, — возразил Трумэн.
— Германия представляет, как у нас говорят, географическое понятие, — пояснил советский представитель. — Будем пока понимать так. Нельзя абстрагироваться от результатов войны.
— Да, но должно же быть дано какое-то определение понятия «Германия», — твердил Трумэн. — Я полагаю, что Германия 1886 года или Германия 1937 года — это не то, что Германия сейчас, в 1945 году.
— Она изменилась в результате войны, так мы ее и принимаем, — подытожил Сталин.
Трумэн все же продолжал настаивать на своем. Он вновь сказал, что должно быть дано определение понятия «Германия».
Желая прощупать, куда клонят собеседники, советский представитель спросил, не думают ли они, например, установить германскую администрацию в Судетской части Чехословакии, откуда немцы изгнали чехов? Трумэн пропустил эту реплику мимо ушей, сказав, что, может быть, все же следует говорить о Германии, какой она была до войны, в 1937 году.
— Формально можно так понимать, по существу это не так, — заметил Сталин. — Если в Кенигсберге появится немецкая администрация, мы ее прогоним, обязательно прогоним.
Трумэн не отступал. Он напомнил, что на Крымской конференции было установлено, что территориальные вопросы должны быть решены на мирной конференции. «Как же мы определим понятие „Германия“?» — снова спросил он.
Упоминая о мирной конференции, президент США, несомненно, делал это лишь для отвода глаз, ибо уже решил, что мирной конференции быть не должно. Впрочем, такая ссылка предоставляла американской делегации возможность откладывать в долгий ящик те вопросы, по которым Вашингтон не хотел договариваться с Советским Союзом.
Дискуссия о понятии «Германия» продолжалась еще довольно долго. Глава Советского правительства предложил: «Давайте определим западные границы Польши, и тогда яснее станет вопрос о Германии. Я очень затрудняюсь сказать, что такое теперь Германия. Это — страна, у которой нет правительства, у которой нет определенных границ, потому что границы не оформляются нашими войсками. У Германии нет никаких войск, в том числе и пограничных, она разбита на оккупационные зоны. Вот и определите, что такое Германия. Это разбитая страна».
Картина Германии того времени, нарисованная Сталиным, впечатляла. Она еще раз показала, в какую бездну ввергнул немецкий народ Гитлер, гоняясь за сумасбродной идеей мирового господства. Несомненно, над этим должны были задуматься и те, кто теперь, после разгрома нацизма, претендовал на «руководство миром».
Дальнейший обмен мнениями по этому вопросу изложен в протокольной записи следующим образом:
«Трумэн. Может быть, мы примем в качестве исходного пункта границы Германии 1937 года?
Сталин. Исходить из всего можно. Из чего-то надо исходить. В этом смысле можно взять и 1937 год.
Трумэн. Это была Германия после Версальского договора.
Сталин. Да, можно взять Германию 1937 года, но только как исходный пункт. Это просто рабочая гипотеза для удобства нашей работы.
Черчилль. Только как исходный пункт. Это не значит, что мы этим ограничимся.
Трумэн. Мы согласны взять Германию 1937 года в качестве исходного пункта».
Как стало ясно в дальнейшем, настойчивость западных держав в этом вопросе была связана отнюдь, не только с германской проблемой. Тут нашли отражение далеко идущие цели США, а также в определенной мере и Англии относительно всего послевоенного устройства, в первую очередь в отношении западной границы Польши. Понимая, что им не удастся использовать эту страну в качестве одного из главных звеньев «санитарного кордона» против СССР, вашингтонские и лондонские политики стремились по возможности ослабить дружественное Советскому Союзу польское государство, а заодно и пытались оказать нажим на СССР. По существу, речь в значительной степени шла о занятии определенных позиций для дальнейшего торга по польскому вопросу. Правда, эта попытка предпринималась довольно осторожно, ибо в тот момент правящие круги западных держав не считали себя достаточно сильными, чтобы пойти на открытую конфронтацию е Москвой.
Неудавшаяся атака Трумэна
После того как 21 июля президент Трумэн ознакомился с поступившим из Вашингтона подробным отчетом генерала Гровса о результатах испытания атомной бомбы в Нью-Мексико, он впервые по-настоящему осознал, каким грозным оружием обладают теперь Соединенные Штаты. Военный министр Стимсон, докладывающий президенту об этом документе, впоследствии записал в своем дневнике: «Трумэн и Бирнс невероятно обрадовались. Президент был очень доволен. Он сказал, что это дает ему совершенно новое чувство уверенности, и он благодарит меня за то, что я прибыл сюда на конференцию и мог быть полезен ему таким образом».
Стимсон принял эту похвалу за чистую монету, не поняв, что, умышленно ограничив его функцию ролью передатчика новости из Нью-Мексико, Трумэн тем самым фактически увольнял его в отставку. Когда два дня спустя Стимсон, снова встретившись с президентом, пожаловался, что его отстраняют от конфиденциальных бесед, где обсуждаются политические вопросы, связанные с новой бомбой, Трумэн грубо оборвал его и сказал, что он может отправляться домой в любое время. Получив информацию об атомной бомбе, Трумэн больше не нуждался в Стимсоне. К тому же, зная, что Стимсон настаивал на необходимости ознакомить Советское правительство с подробностями испытания нового оружия, президент хотел поскорее избавиться от идущего не в ногу министра. 25 июля Стимсон покинул Потсдам и вернулся в США. Вскоре он вышел в отставку.
Между тем в узком кругу высших руководителей американской делегации в Потсдаме интенсивно обсуждался вопрос об использовании бомбы для «запугивания русских» в Европе. В тот же день, 21 июля, во время пленарного заседания Трумэн попытался предпринять атаку против Советского Союза, избрав поводом вопрос о новой западной границе Польши.
Приведу соответствующую выдержку из протокольной записи:
«Трумэн. Разрешите мне сделать заявление относительно западной границы Польши. Ялтинским соглашением было установлено, что германская территория оккупируется войсками четырех держав — Великобритании, СССР, США и Франции, которые получают каждая свою зону оккупации. Вопрос относительно границ Польши затрагивался на конференции, но в решении было сказано, что окончательно этот вопрос должен быть разрешен на мирной конференции. На одном из наших первых заседаний мы решили, что исходным пунктом для обсуждения будущих границ Германии мы принимаем границы Германии, как они были в декабре 1937 года.
Мы определили наши зоны оккупации и границы этих зон. Мы отвели свои войска в свои зоны, как это было установлено. Но сейчас, по-видимому, еще одно правительство получило зону оккупации, и это было сделано без консультации с нами. Если предполагалось, что Польша должна явиться одной из держав, которой отводится своя зона оккупации, об этом следовало бы договориться раньше. Нам трудно согласиться с таким решением вопроса, поскольку никакой консультации по этому вопросу с нами не было проведено. Я дружественно отношусь к Польше и, возможно, полностью соглашусь с предложениями Советского правительства относительно ее западных границ, но я не хочу этого делать теперь, так как для этого будет другое место, а именно — мирная конференция».
Но, как было показано выше, Трумэн к тому, времени уже твердо решил, что мирной конференции не будет вообще. Предлагая отложить проблему до мирной конференции, он откладывал ее, как говорится, до греческих календ. Вместе с тем он, по сути дела, обвинял советскую сторону в том, что она будто бы нарушила договоренность между тремя державами и односторонне приняла решение по вопросу, переданному в компетенцию мирной конференции. Это должно было облегчить ему самому срыв договоренности о созыве мирной конференции. Он при этом хотел также опереться на атомную бомбу и вообще на мощь Америки, полагая, что Соединенные Штаты смогут через некоторое время по-своему перекраивать карту мира и урегулировать международные проблемы, не связывая себя никакими обязательствами перед мирной конференцией.
Но вернемся к пленарному заседанию. На заявление Трумэна с советской стороны был сразу же дан ответ:
«Сталин. В решениях Крымской конференции было сказано, что главы трех правительств согласились, что восточная граница Польши должна пойти по линии Керзона, таким образом восточная граница Польши на конференции была установлена. Что касается западной границы, то в решениях конференции было сказано, что Польша должна получить существенные приращения своей территории на севере и на западе. Там дальше сказано: они, то есть три правительства, считают, что по вопросу о размерах этих приращений в надлежащее время будет спрошено мнение нового польского правительства национального единства и что вслед за этим окончательное определение западной границы Польши будет отложено до мирной конференции.
Трумэн. Я тоже так понял. Но у нас не было и нет никакого права предоставлять Польше зону оккупации.
Сталин. Польское правительство национального единства выразило свое мнение относительно западной границы. Его мнение теперь всем нам известно.
Трумэн. Об этой западной границе никогда не было заявлено официально.
Сталин. Я говорю сейчас о мнении польского правительства. Оно теперь всем нам известно. Мы можем теперь условиться относительно западной границы Польши, а окончательно эта западная граница должна быть оформлена на мирной конференции.
Трумэн. Г-н Бирнс только сегодня получил заявление польского правительства. Мы с ним еще не успели как следует ознакомиться».
Но дело было вовсе не в том, что американская делегация не успела изучить эти предложения. Они вообще мало интересовали Трумэна. Его цель заключалась в другом — продемонстрировать «твердость» по отношению к Советскому Союзу. Теперь он уже был готов открыто идти на срыв ранее достигнутой договоренности и хотел показать, что не намерен считаться с чьим бы то ни было мнением, если оно не устраивало Америку. Правда, он еще не открыл секрет своей внезапной несговорчивости. Но он чувствовал за собой невероятную мощь нового оружия и предвкушал момент, когда он сможет поразить этой новостью советских представителей.
Несомненно, советская сторона не могла не заметить «жесткости» американского президента. Но она оставалась невозмутимой и спокойно разъясняла свою точку зрения.
«Сталин. Наше предложение сводится к тому, чтобы мы высказали свое мнение относительно желания польского правительства иметь такую-то западную границу. Сегодня мы выскажем свое мнение или завтра — это не имеет никакого значения.
Что касается вопроса о том, что мы предоставили оккупационную зону полякам, не имея на это согласия союзных правительств, то этот вопрос поставлен неточно. В своих нотах американское правительство и британское правительство нам предлагали несколько раз не допускать польскую администрацию в западные районы, пока не будет окончательно решен вопрос о западной границе Польши. Мы этого не могли сделать, потому что немецкое население ушло вслед за отступающими германскими войсками на запад. Польское же население шло вперед, на запад, и наша армия нуждалась в том, чтобы в ее тылу, на той территории, которую наша армия занимала, существовала местная администрация. Наша армия не может одновременно создавать администрацию в тылу, воевать и очищать территорию от врага. Она не привыкла к этому.
В этом духе мы и ответили тогда нашим американским и английским друзьям. Мы тем более пошли на это, что знали, что Польша получает приращение своих земель к западу от своей прежней границы. Я не знаю, какой может быть вред для нашего общего дела, если поляки устраивают свою администрацию на той территории, которая и без того должна остаться у Польши…»
Президент США, видимо, почувствовал, что зашел слишком далеко. Во всяком случае, он взял более примирительный тон. Вместе с тем он поспешил подключить к обсуждаемой теме новую проблему — репарации, изобразив дело так, будто установление польской администрации в указанных районах затрудняет выплату Германией репараций.
«Трумэн. У меня нет никаких возражений против высказанного мнения относительно будущей границы Польши. Но мы условились, что все части Германии должны находиться в ведении четырех держав. И будет очень трудно согласиться на справедливое решение вопроса о репарациях, если важные части Германии будут находиться под оккупацией державы, не входящей в состав этих четырех держав.
Сталин. Что же, вас репарации пугают? Мы можем отказаться от репараций с этих территорий, пожалуйста.
Трумэн. У нас нет намерения получить их,
Сталин. Что касается этих западных территорий, то никакого решения об этом не было, речь идет о толковании крымского решения. Насчет западной границы никаких решений не было, вопрос об этом остался открытым. Было только дано обещание о расширении границ Польши на западе и севере.
Черчилль. Я имею довольно много сказать относительно линии западной границы Польши, но, насколько я понимаю, время для этого еще не пришло».
Трумэн воспользовался замечанием Черчилля для новой ссылки на мирную конференцию. Он сказал: определение будущих границ принадлежит мирной конференции.
Сталин повторил, что восстановить немецкую администрацию в западной полосе очень трудно, поскольку все сбежали.
«Трумэн. Если Советское правительство хочет получить помощь для восстановления немецкой администрации на этих территориях, то этот вопрос можно обсудить».
Похоже было, что Трумэн готов поднять вопрос чуть ли не о возвращении бежавшего немецкого населения на территории, которые, как уже было согласовано ранее, подлежали передаче польскому государству. Но его замечание повисло в воздухе.
Таким образом, участники переговоров вновь вернулись к исходному положению. Атака Трумэна дала осечку. Советская делегация твердо стояла на своем, решительно отстаивала свою принципиальную позицию. В конце заседания Трумэн попытался еще раз связать вопрос о передаче Польше восточных районов Германии с проблемой репараций. Он заявил:
— Я хочу откровенно сказать то, что я думаю по этому вопросу. Я не могу согласиться с изъятием восточной части Германии 1937 года в смысле разрешения вопроса о репарациях и снабжении продовольствием и углем всего германского населения.
Тут содержался вполне определенный намек на то, что США могут потребовать в качестве платы за передачу Польше этих районов фактического отказа от взимания репараций с Германии. В таком случае, по мнению Вашингтона, удалось бы сохранить нетронутым индустриальный потенциал Рура и использовать его в интересах Соединенных Штатов. Но и эта угроза не подействовала на советскую делегацию.
В результате настойчивости и убедительной аргументации советской делегации удалось в конце концов добиться согласия западных держав на приглашение в Потсдам представителей польского правительства, находящегося в Варшаве.
Делегацию польского правительства возглавлял Болеслав Берут. Американские и английские деятели имели с ним обстоятельные беседы. Польские представители подробно обосновали свою точку зрения относительно западной границы. Она должна идти от Балтийского моря несколько западнее Свинемюнде, включая Штеттин в состав Польши, дальше по р. Одер до р. Западная Нейсе и по этой реке, до границы Чехословакии.
Однако делегации западных держав по-прежнему отказывались признать эту линию и пытались добиться пересмотра договоренности, достигнутой в Тегеране и Ялте. Приведем несколько выдержек из протокола:
«Трумэн. Вчера было сделано предложение продолжить сегодня дискуссию о западной границе Польши.
Сталин. Хорошо.
Трумэн. Я помню, что у г-на Черчилля было дополнительное предложение.
Черчилль. Мне нечего добавить. Я имел беседу с польской делегацией, а сегодня утром имел удовольствие опять встретиться с г-ном Берутом. Вчера с польской делегацией говорил г-н Иден… Я считаю, что этот вопрос связан с вопросом о репарациях, а также с вопросом о зонах оккупации Германии четырьмя державами.
Трумэн. Я считаю правильным замечание г-на Черчилля. Бирнс также встречался с польской делегацией и намерен встретиться еще раз. Разрешите мне сделать предложение относительно процедуры. Так как эти беседы г-на Бирнса и г-на Идена будут продолжаться, я думаю, что будет полезно отложить нашу дискуссию до… пятницы.
Сталин. Хорошо».
Итак, английские и американские представители поспешили связать вопрос о западной границе Польши с совсем другими проблемами: о репарациях и о зонах оккупации Германии.
Дальнейшее обсуждение вопроса о польской западной границе проходило после перерыва в работе конференции, который был объявлен в связи с поездкой Черчилля и Эттли в Лондон.
На этот раз польский вопрос был связан западными делегациями в один «пакет», причем не только с вопросом о репарациях, но и с проблемой приема новых членов в Организацию Объединенных Наций. Настаивая на приеме в ООН Италии, западные державы уклонялись от допуска в эту организацию Болгарии, Венгрии и Румынии. Хотя между этими тремя проблемами не было никакой связи, на что и обратила внимание советская делегация, Бирнс и новый министр иностранных дел Великобритании Бевин заявили, что они пойдут «на уступку» в отношении польской западной границы лишь в том случае, если одновременно будет достигнуто соглашение по двум другим вопросам. В конечном счете по всем трем проблемам, включая вопрос о польской западной границе в том виде, как его излагала делегация Польши, была достигнута договоренность. Соединенным Штатам и Англии так и не удалось добиться пересмотра ранее принятых принципиальных решений.
Продолжение дискуссии
Активно навязывая свою точку зрения в отношении стран, освобожденных Красной Армией, представители западных держав в то же время всячески старались отстранить Советский Союз от участия в решении проблем, связанных с районами и государствами, оккупированными американскими и английскими войсками. Примером может служить обсуждение проблем Италии.
Известно, что значительные контингенты итальянских войск действовали на советско-германском фронте. Они дошли до Волги и принимали участие в разорении советской территории. Естественно поэтому, что Советскому Союзу было небезразлично, как решаются итальянские проблемы. В частности, советскую сторону интересовали вопросы о репарациях с Италии, о судьбе бывших итальянских колоний. Уже в первый период после капитуляции Италии американские и английские военные власти старались решать все вопросы в обход советских представителей в Союзной контрольной комиссии. Такую же тактику теперь пытались проводить и более высокие инстанции. Характерна дискуссия на Потсдамской конференции вокруг вопроса об опеке. Она возникла после того, как советская делегация предложила обсудить судьбу колониальных владений Италии в Африке и на Средиземном море. Вот как это изложено в официальном протоколе.
«Черчилль. Конечно, возможно иметь обмен мнениями по любому вопросу, но если окажется, что стороны разошлись в своих взглядах, то результатом будет только то, что мы имели приятное обсуждение. Мне кажется, что вопрос о мандатах был решен в Сан-Франциско… но не более того. Так как вопрос об опеке находится в руках международной организации, я сомневаюсь в желательности обмена мнениями по этому вопросу здесь…
Сталин. Из печати, например, известно, что г-н Иден, выступая в английском парламенте, заявил, что Италия потеряла навсегда свои колонии. Кто это решил? Если Италия потеряла, то кто их нашел? (Смех)…
Черчилль. Я могу на это ответить. Постоянными усилиями, большими потерями и исключительными победами британская армия одна завоевала эти колонии.
Сталин. А Берлин взяла Красная Армия (Смех).
Черчилль. Я хочу закончить свое заявление… Я имею в виду следующие итальянские колонии: Итальянское Сомали, Эритрея, Киренаика и Триполи, которые мы завоевали одни в очень трудных условиях…
Теперь относительно заявления, сделанного Иденом в парламенте, в котором он сказал, что Италия потеряла свои колонии… Это не исключает обсуждения, во время подготовки мирного договора с Италией, вопроса о том, не следует ли вернуть Италии часть ее бывших колоний. Я не поддерживаю такое предложение, но мы не возражаем против обсуждения… В настоящее время все эти колонии находятся в наших руках. Кто хочет их иметь? Если есть за этим столом претенденты на эти колонии, было бы хорошо, чтобы они высказались.
Трумэн. Нам они не нужны. Мы имеем у себя достаточное количество бедных итальянцев, которых нужно кормить.
Черчилль. Мы рассматривали вопрос о том, не подойдут ли некоторые из этих колоний для расселения евреев. Но мы считаем, что для евреев там не было бы удобно поселиться.
Конечно, мы имеем большие интересы на Средиземном море и всякое изменение статус-кво в этом районе потребовало бы от нас долгого и тщательного изучения.
Мы не вполне понимаем, чего хотят наши русские союзники».
В конечном счете вопрос был передан на рассмотрение трех министров иностранных дел. Независимо от того, что судьба этих территорий сложилась совсем не так, как рассчитывал Черчилль, интересно отметить его попытки уклониться от обсуждения с союзниками по антифашистской коалиции вопроса об опеке над бывшими колониями одного из участников фашистской оси, стремление, присущее старому «строителю империи»… распорядиться добычей по праву завоевателя, и его поразительное пренебрежение к коренному населению этих территорий — как будто то были необитаемые земли!
На конференции происходило немало острых споров по многим вопросам, но в целом в итоге дискуссий и обмена мнениями были приняты важные позитивные решения. Перечень документов, согласованных и утвержденных на Потсдамской конференции, показывает, что был рассмотрен весьма широкий круг проблем, что принятые там решения могли иметь важное значение для развития всей международной обстановки. Был учрежден Совет министров иностранных дел; участники встречи согласовали политические и экономические принципы по обращению с Германией в начальный контрольный период; была достигнута договоренность о репарациях с Германии, о германском военно-морском и торговом флоте, о передаче Советскому Союзу города Кенигсберга и прилегающего к нему района, о предании суду военных преступников. Были согласованы заявления об Австрии, Польше, о заключении мирных договоров, приеме новых членов в Организацию Объединенных Наций, о подопечных территориях и т. д. В официальном сообщении об итогах встречи говорилось, что конференция «укрепила связи между тремя Правительствами и расширила рамки их сотрудничества и понимания». Было заявлено, что правительства и народы трех держав — участниц конференции «вместе с другими Объединенными Нациями обеспечат создание справедливого и прочного мира».
Значение решений, принятых на Потсдамской конференции, трудно переоценить. Однако сейчас, когда перечитываешь выступления западных делегатов на этой конференции, не можешь избавиться от ощущения, что они как бы выполняли не очень приятную для них миссию, доставшуюся от чуждого им и уходящего в прошлое этапа военного сотрудничества с Советским Союзом: Они как будто спешили поскорей разделаться с этим наследием, подвести под ним черту.
Ажиотаж на крейсере «Аугуста»
Закрывая Потсдамскую конференцию, президент Трумэн сказал: «До следующей встречи, которая, я надеюсь, будет скоро».. Однако думал он совсем о другом. Как свидетельствует Дж. Бирнс, пересекая Атлантику на крейсере, увозившем его из разрушенной войной Европы в «процветающую» Америку, уже сбросившую атомную бомбу на Хиросиму, Трумэн рассуждал: «Потсдамский эксперимент привел меня теперь к решению, что я не допущу русских к какому-либо участию в контроле над Японией… Сила — это единственное, что русские понимают».
В Соединенных Штатах уже размышляли над тем, как использовать преимущества, связанные с обладанием атомной бомбой, против Советского Союза. Некоторые американские ученые, привлекавшиеся к созданию бомбы, поощряли «глобальный» фанатизм политиков, уверяя их в том, что, хотя «русские и разгадают атомные секреты в ближайшие два-три года», они не смогут реально создать бомбу ранее чем через шесть-семь лет. «Никто не казался слишком встревоженным такой перспективой, поскольку представлялось очевидным, что за семь лет мы должны уйти далеко вперед по сравнению с Советами в данной области», — пишет Бирнс. Из этого государственный секретарь США делал далеко идущие выводы: «Сперва мы обладали только прутиком, а не дубинкой… по мере возрастания военной мощи мы могли проявить свою твердость в отношениях с Советским правительством».
Американские дипломаты, возвращавшиеся домой с Потсдамской конференции на том же крейсере, что и президент, вели оживленные дискуссии относительно будущего внешнеполитического курса: «Мы сознавали возможность конфликта между Соединенными Штатами и Советским Союзом и были глубоко озабочены этим, — вспоминает Болен. — Мы говорили об атомной бомбе и о том, как мы могли бы использовать чувство безопасности и силу, которые она нам давала, в наших отношениях с Советским Союзом. Мы признавали, что Советский Союз не будет реагировать ни на что, кроме как на меры, которые смогут представить угрозу Советской стране или советской системе. Мы рассматривали шаги, которые мы могли бы предпринять, начиная от прямого ультиматума с требованием, чтобы Советы ушли за пределы своих границ, до различных степеней давления».
Пожалуй, трудно изложить откровеннее ход размышлений тогдашних руководителей американской внешней политики. Таковы были «идеи», с которыми играли на крейсере «Аугуста», увозившем делегацию США с конференции недавних союзников. Вскоре эти идеи воплотились в воинственном антисоветском курсе. Когда в сентябре 1945 года в Лондоне собралась предусмотренная потсдамскими решениями сессия Совета министров иностранных дел, поворот западных держав на 180 градусов завершился. Тогда же к формированию внешней политики США подключился и такой рыцарь «холодной войны», как Джон Фостер Даллес. Сам он так охарактеризовал обстановку на совещании в Лондоне: «В этот момент родилась наша послевоенная политика — „никакого умиротворения“ (т. е. никакого сотрудничества с Советским Союзом. — В. Б.). В целом мы неизменно придерживались ее… Наши действия на встрече в Лондоне имели важные последствия: они ознаменовали конец целой эпохи — эпохи Тегерана, Ялты, Потсдама… Тот факт, что я был в Лондоне вместе с государственным секретарем Бирнсом в качестве республиканца, опирающегося на мощную поддержку своей партии, дал мне возможность сыграть значительную роль в важном решении — покончить с политикой поисков соглашения с русскими». Нельзя сказать, чтобы Дж. Даллес проявил тут нескромность или слишком переоценил свою роль. Он действительно внес немалый вклад в крайнее обострение международной напряженности.
Империалистические круги глубоко заблуждались, полагая, что обладание бомбой раскрыло широкий и беспрепятственный путь к установлению мирового господства Америки. Быстрая ликвидация Советским Союзом атомной монополии США, рост могущества социалистического содружества и другие факторы коренным образом изменили ситуацию на земном шаре.
Потсдамские решения вполне могли заложить основу для плодотворного послевоенного сотрудничества великих держав — участниц антигитлеровской коалиции. Однако их судьба сложилась по-иному. Только некоторые из них, и то лишь на самом раннем этапе, удалось полностью претворить в жизнь. И все же остается фактом, что в ходе этой конференции, как и других важных совещаний трех союзников, была на практике доказана возможность эффективного политического и военного сотрудничества государств с различным социальным строем и в мирное время.
УРОКИ КОАЛИЦИЙ
Антигитлеровская коалиция, сложившаяся уже в самом начале Великой Отечественной войны советского народа против фашистской Германии, явилась большим успехом советской дипломатии, победой ленинской внешнеполитической линии социалистического государства. Реакционные круги западных держав приложили немало усилий к тому, чтобы изолировать Советский Союз, лишить его друзей и союзников, вынудить его сражаться один на один с вооруженным до зубов агрессором. Именно таков был потаенный смысл политики «умиротворения» Гитлера и Муссолини, проводившейся в 30-е годы правящими кругами буржуазных демократий.
И сейчас еще приходится порой слышать на Западе недоуменные вопросы: как удалось тогда Гитлеру обвести вокруг пальца многоопытных политиков Лондона, Парижа, Вашингтона? Почему ни Англия, ни Франция, ни Соединенные Штаты не приняли настойчивых предложений Советского правительства, направленных на пресечение нацистских авантюр уже в самом зародыше? Почему западные державы отвергли советский план создания системы коллективной безопасности? Почему Лондон и Париж не выступили против наглых захватов в Европе, осуществленных гитлеровской Германией почти без единого выстрела, хотя тогда она была намного слабее любой из западных держав? Отчего так поразительно легко добивался Гитлер своих целей? В самом деле, отчего?
Ответ на все эти вопросы один: те, кто стоял тогда у кормила власти на Западе, готовы были все позволить Гитлеру, лишь бы он выполнил провозглашенную в «Майн кампф» свою «историческую миссию» — уничтожить большевизм.
По существу, поход Гитлера против Советского Союза был в конечном счете не чем иным, как кульминационным пунктом многолетних усилий мировой реакции, стремившейся ликвидировать единственное в то время на земном шаре социалистическое государство и восстановить безраздельное господство капитализма. То была отчаянная попытка старого мира остановить поступательный ход истории, застопорить общественный прогресс. Что только не предпринимали империалистические державы, чтобы «исправить ошибку истории», в результате которой, дескать, появилась страна социализма, удушить Советскую Россию, не допустить распространения марксизма-ленинизма, удержать народы в капиталистическом ярме. Это — интервенция 14 держав против молодой Советской республики, создание пресловутого «санитарного кордона», призванного не допустить проникновения идей социалистической революции в Западную Европу, натравливание против Советского Союза китайских милитаристов и японских самураев, наконец, поощрение и попустительство по отношению к гитлеровской Германии, которую буржуазные политики рассматривали как главную ударную силу против большевизма.
В Лондоне и Париже меньше всего думали об интересах международной безопасности и о том вкладе, который мог бы внести в решение этой задачи Советский Союз. Олимпийское спокойствие, с которым западные державы встречали грубое нарушение Гитлером международных договоров, их бездействие в дни «аншлюса» Австрии, их предательство Чехословакии в Мюнхене — таков был аванс, выданный Гитлеру за его обещания направить нацистскую агрессию на Восток, против Советского Союза. Но политика «умиротворения» агрессора обернулась в конце концов против ее инициаторов. Аппетиты фашистских захватчиков разыгрались с такой силой, что западные державы сами оказались перед смертельной опасностью. Дальнейшее развитие событий, прежде всего героическое сопротивление советского народа агрессии и последовательный курс советской дипломатии, привело к образованию антигитлеровской коалиции.
Созданию военного союза трех великих держав в немалой степени способствовали и процессы, происходившие в Соединенных Штатах и Англии. Там все более обострялись разногласия между силами, понимавшими, что борьба советского народа против фашистского агрессора была вместе с тем и борьбой за национальную независимость, свободу, за само существование их же стран, и реакционными элементами, выступавшими против любого сотрудничества с Советским Союзом. Нельзя забывать, что в то время сторонники сговора с Гитлером были еще весьма сильны и в США, и в Англии. Именно на их поддержку рассчитывал заместитель фюрера Рудольф Гесс, когда он в мае 1941 года совершил свой сенсационный полет на Британские острова.
В конечном счете в Лондоне и Вашингтоне одержали верх политики, более реалистически оценивавшие сложившуюся обстановку. Соединенные Штаты и Англия стали военными союзниками Советской страны. Идея «крестового похода» капиталистических держав против большевизма провалилась. Совместные действия участников антигитлеровской коалиции помогли приблизить победу над державами фашистской оси.
Опыт союзнических отношений трех великих держав еще долго будет предметом интереса не только историков, но и тех, кто занимается проблемами современности. Прежде всего этот опыт доказал всем, кто способен извлекать уроки из хода событий, насколько лживой была пропаганда врагов Советской власти того, что Советскому Союзу нельзя, дескать, доверять. История Великой Отечественной войны свидетельствует о том, что Советский Союз как участник антигитлеровской коалиции всегда был верен союзническому долгу, неукоснительно выполнял взятые на себя обязательства. Таких примеров немало. Один из них — период битвы в Арденнах, в ходе которой западные союзники, вскоре после высадки в Нормандии, попали в очень тяжелое положение. В те дни Советский Союз поспешил им на выручку, ускорив очередные наступательные операции на советско-германском фронте. Верность Советского Союза своим обязательствам в совместной борьбе засвидетельствовали тогда и руководители западных держав. В послании конгрессу от 6 января 1945 г. президент Рузвельт, говоря о выдающейся роли Советского Союза в войне, подчеркивал: «В будущем мы никогда не должны забывать урок, полученный нами, мы должны иметь друзей, которые будут так же сотрудничать с нами в мирное время, как они сражались на нашей стороне в войне».
Советский народ всегда высоко ценил вклад своих партнеров по антигитлеровской коалиции, как и движения Сопротивления, в дело разгрома общего врага. Советские люди помнят добрые чувства, которые проявляли к Советскому Союзу миллионы американцев и англичан. Не забыли они ни героических подвигов моряков, охранявших конвои с военными грузами, ни подвигов летчиков, наносивших по гитлеровской Германии удары с воздуха.
Вместе с тем нельзя забывать и того, что западные союзники далеко не всегда и не во всем выполняли свои обязательства. Наиболее разительным примером тут может служить проблема второго фронта. По сути дела, высадка в Нормандии произошла только тогда, когда советские войска вплотную приблизились к границам Германии, когда дальнейшая оттяжка такой операции могла повредить политическим целям западных держав. Уже тот факт, что вторжение англо-американских войск в оккупированную гитлеровцами Северную Францию произошло через долгих три года после нападения Германии на Советский Союз, говорит о многом. На протяжении всех этих лет Советская страна фактически одна отражала натиск отборных гитлеровских полчищ. Нетрудно понять, что позиция западных держав в этом вопросе свидетельствовала об их стремлении продиктовать свои «условия мира» ослабленным кровопролитной войной странам. Аналогичная тенденция сказалась и в сокращении в наиболее трудный для Советского Союза период поставок по ленд-лизу, задержке конвоев и т. д. Все это следует иметь в виду при оценке политики западных союзников в годы существования антигитлеровской коалиции.
Опыт Великой Отечественной войны показывает, что и на полях сражений, и на дипломатическом фронте Советский Союз одержал решающие победы. Они достались дорогой ценой. Но жертвы и усилия советского народа не пропали даром. Из горнила войны наша страна вышла еще более могучей, чем прежде. Неизмеримо вырос авторитет Советского Союза на международной арене. Европа и весь мир были избавлены от смертельной угрозы фашистского порабощения. Силы реакции хотели ликвидировать единственную страну социализма — Советский Союз. А в итоге после войны в Европе, Азии, Латинской Америке появились новые социалистические страны, возникло целое содружество социалистических государств.
За истекшие годы о второй мировой войне написано много трудов — правильных и превратно представляющих минувшие события, а порой и заведомо лживых. Немало работ посвящено послевоенным годам. Один из коренных вопросов, фигурирующих в этих работах, — это о том, был ли неизбежен после войны крутой поворот великих держав в их взаимоотношениях в сторону от союзнических отношений.
Отвечая на этот вопрос, важно уберечься от чисто эмоционального подхода к проблеме. Нельзя не видеть, что отношения, существовавшие между союзниками военного времени, не могли, конечно, сохраниться неизменными после окончания войны. И не только потому, как о том свидетельствует опыт истории, что после победы над общим врагом пути вчерашних союзников, какими бы близкими ни были их отношения, нередко начинают расходиться. В данном случае дело обстояло сложнее. Речь идет о взаимоотношениях государств с различными общественно-политическими системами, с разными классовыми подходами к возникающим проблемам. К тому же в результате войны в мире произошли глобальные перемены, отношения к которым со стороны социалистических и капиталистических стран отличаются коренным образом.
Практика последних лет подтверждает, что, несмотря на идеологические расхождения, вполне возможно сотрудничество государств с различными общественно-политическими системами по самому широкому кругу вопросов. Об этом говорят взаимовыгодные отношения между Советским Союзом и Францией, Финляндией, Италией, а также другими странами. Это же подтверждает и благоприятное развитие отношений между СССР и ФРГ.
Имеется ли реальная возможность для дальнейшего развития взаимовыгодных советско-американских отношений? Конечно, принципиальные идеологические расхождения между Советским Союзом и Соединенными Штатами — главными партнерами антигитлеровской коалиции периода второй мировой войны — остались. Сохранился и различный подход этих двух держав к общественно-политическим явлениям нашего времени. Но, руководствуясь ленинским принципом мирного сосуществования государств с различным общественным строем, Советский Союз вовсе не считает, что все это закрывает путь к деловым контактам. Ведь аналогичные различия существовали и в годы второй мировой войны, но они не помешали СССР и США сотрудничать в борьбе против общего врага.
В настоящее время у СССР и США нет общего противника в обычном и прямом смысле этого слова. Зато есть нечто другого рода, что представляет одинаковую опасность для всех народов мира. Прежде всего — это угроза возникновения новой мировой войны, причем неизбежно ядерной. Такая опасность отнюдь не абстрактна. Ее таят в себе серьезные локальные конфликты, возникавшие в послевоенный период в разных районах земного шара. Ведь во вторую мировую войну человечество «вползало» именно через локальные конфликты (Абиссиния, Маньчжурия, Испания и т. д.). Повторение такого опасного пути чревато особенно серьезными последствиями в наше время, когда в распоряжении держав имеются вооружения огромной разрушительной силы.
Серьезную угрозу представляет и гонка вооружений. Есть и другие проблемы, в решении которых заинтересованы как советский, так и американский народы: развитие экономических связей, научно-технический обмен, защита окружающей среды и т. д.
Вместе с тем нельзя закрывать глаза и на то, что в США имеются влиятельные круги, стремящиеся помешать нормализации советско-американских отношений. Находясь в плену ностальгии по «холодной войне», они склонны не замечать изменений в мировой обстановке, которая в середине 40-х годов коренным образом отличалась от положения, складывающегося на международной арене в наши дни.
Второй момент — это коренное различие между ситуацией в самих США тогда и теперь. Участие США во второй мировой войне привело к небывалому развитию производственной машины США, создало полную занятость в стране, породило надежды на беспредельное «просперити». Все это способствовало усилению иллюзий относительно исключительности «американского образа жизни», ставших источником всякого рода мессианских идей в правящей верхушке Вашингтона, ее непримиримости к иным формациям, особенно к социалистическому строю.
К концу войны Соединенные Штаты были единственным обладателем атомного оружия. Международные позиции Вашингтона казались незыблемыми. Америка могла, по сути дела, диктовать свою волю остальному капиталистическому миру. Доллар был крепок, как никогда. Отсюда претензии на установление американского мирового господства. Считая, что Советский Союз, будучи ослаблен войной, не сможет обойтись без американской помощи, вашингтонские политики полагали, что путем экономической блокады, угроз и шантажа смогут оказывать давление на Советскую страну. Смерть президента Рузвельта в апреле 1945 года и приход к власти деятелей другого типа (Трумэн, например, никогда не скрывал своей враждебности к Советскому Союзу) привели к изменению соотношения политических сил в Вашингтоне, усилив позиции экстремистских, шовинистических кругов.
Эти изменения предопределили отход от намечавшейся в годы войны линии на американо-советское сотрудничество и переход к противоположному курсу — к враждебности и конфронтации, характеризовавшим весь период «холодной войны».
Если сопоставить все это с нынешней ситуацией, то станет очевидным, что сейчас обстановка радикальным образом изменилась. Мечты апологетов капитализма США о «постоянном просперити» канули в вечность. «Американский образ жизни» оказался вовсе не таким привлекательным, как кое-кому казалось: язвы капиталистической системы особенно резко выявились именно в США. Давно кончилась американская монополия на ядерное оружие. Доллар катится от кризиса к кризису. Бывшие младшие партнеры США встали на ноги и превратились в опасных конкурентов американских корпораций. Доктрины «сдерживания», «отбрасывания» коммунизма и прочие потерпели полный крах.
Решающее значение имеет то, что Советский Союз и другие страны социалистического содружества за истекшие годы добились огромных успехов в социально-экономической, политической и военной областях. Неизмеримо возрос авторитет стран социализма в мире, без участия которых ныне не могут быть решены никакие важные международные проблемы.
Возвращаясь к урокам антигитлеровской коалиции, опыту сотрудничества великих держав во второй мировой войне, нельзя не отметить, что они сохраняют свое значение и для наших дней. Важнейшие из них заключаются в том, что при наличии доброй воли, при трезвом, реалистическом подходе к проблемам нашего времени может быть налажено плодотворное сотрудничество между государствами с различными общественными системами.
Примечания
1
Административный район Оберцфальц на границе с Чехословакией.
(обратно)


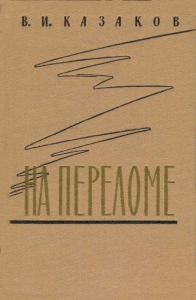
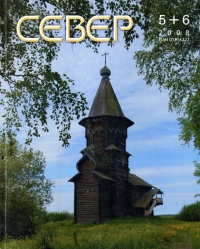


Комментарии к книге «Страницы дипломатической истории», Валентин Михайлович Бережков
Всего 0 комментариев