Тукай
От автора
Такого Казань еще не видела.
Хмурым, пасмурным утром 4 апреля 1913 года у Клячкинской больницы, в переулке, выходящем на центральную улицу города — Проломную, начал собираться народ. К двенадцати весь квартал был затоплен морем голов — в шляпах, кепках, фуражках, в малахаях, круглых ватных шапках без ушей — татарках, в шляпках с перьями, в платках, тюбетейках, а то и вовсе ничем не покрытых.
Пробило час дня. В воротах больницы показались женщины с венками, за ними заваленные цветами погребальные носилки. Позади квартал, второй, третий, а людской поток не убывал, заполняя главную улицу города. Процессия от Университетской повернула вправо, к Сенному базару.
Тротуары запружены людьми, к стеклам окон в домах прильнули липа, лица, лица.
— Кого хоронят?
— Татары своего поэта.
— Как звать?
— Тукаев, кажется.
— Пожилой?
— Какое там! Говорят, и тридцати нет.
Толпа росла, к ней присоединялись все новые и новые люди. Подле мечети у Сенного базара покойного сфотографировали, а затем нонесли по Евангелистовской (ныне улица Татарстан. — И. Н.), повернули налево и по Екатерининской (ныне Тукаевская) направились к Юпусовской площади. Народ уже знал: тут будет совершена прощальная церемония, а новые тысячи людей собрались на площади в ожидании.
Прозвучали последние слова прощания, снова защелкали фотокамеры, и шествие возобновило свой путь. Все трудней становилось шагать: ноги по щиколотку увязали в грязи пополам со снегом, но толпа не редела. В знак уважения к поэту все продолжали путь пешком, позади тащились десятки пустых колясок с кучерами на козлах, и только в одной был седок — близкий друг покойного, писатель Фатых Амирхан, разбитый параличом.
Медленно и безмолвно двигалась процессия, головы опущены, лишь чавканье тысяч ног по грязи нарушало тишину.
Вот наконец и Новотатарская слобода. Кладбище. Чтобы сдержать напор толпы, передние ряды, взявшись за руки, оцепили свежую могилу неподалеку от ворот, высвобождая место для друзей поэта, членов похоронной комиссии, для тех, кто должен выступить с прощальным словом.
Глухо падают комья мерзлой земли, над могилой медленно вырастает холмик красноватой глины. Женщины подносят венки, цветы. На шелковых лентах — названия издательств, медресе, газет и журналов, фамилии, имена...
Когда отзвучали прощальные речи и толпа разошлась, у могилы можно было видеть лишь нескольких седобородых стариков, сидящих на корточках и углубленных себя.
Так завершился последний путь поэта Тукая.
Но путь этот вел не в забвение. На похороны пришло около десяти тысяч человек. 4 апреля 1913 года почти все татарские газеты посвятили ему специальные номера, в знак траура был отменен рабочий день в издательствах и книжных магазинах, занятия во всех медресе. Целую неделю в газетах продолжалась публикация телеграмм соболезнования из самых разных уголков России. Все это было лишь предвестником бессмертия Тукая.
Прошел год, и газеты снова посвящают свои страницы воспоминаниям, стихам и статьям о поэте, информациям о «Тукаевских вечерах», которые с этого дня стали традиционными.
Издатели, не теряя времени, начинают выпускать большими тиражами книги Тукая. В 1913 году увидели свет пять его сборников, а в следующем — восемь! Выходит однотомник его произведений в четыреста страниц, который начал готовить к изданию еще сам поэт. Появляется целая библиотека воспоминаний о Тукае. Стихи Тукая публикуются в русской печати, выходят обширные статьи о нем на русском языке.
Тукай завещал пятьсот рублей, которые ему следовало получить с издателей, на стипендии для обучения двух подростков в русских учебных заведениях. После смерти поэта началась кампания сбора средств для создания специального стипендиального фонда Тукая. Тут Мусульманское благотворительное общество в Петербурге оказалось проворнее казанского. В его отчете за 1913 год появился следующий пункт: «Во исполнение постановления общего собрания правление назначило две стипендии имени покойного поэта Габдуллы Тукаева, по сто рублей каждая».
Не дремлют и торговцы. Они принимаются за продажу раскрашенных открыток с портретом Тукая, карамели и мыла, упакованных в бумагу с изображением поэта.
Как же, однако, воспринял смерть Тукая простой народ?
Среди провожавших поэта в последний путь было много кустарей и рабочих, дворников и извозчиков, но крестьян в похоронном шествии не оказалось. Статьи в газетах и журналах — дело рук интеллигенции, голос скорби мужика в них не слышен. Может, он вовсе и не знал Тукая?
Через десять лет филолог Джамалетдин Валиди вспоминал: «Когда умер Тукай, я сотрудничал в газете «Вакыт» («Время»). За десять лет существования газеты ни один вопрос, ни одно событие не вызывало столько писем и статей, сколько вызвала смерть Тукая. Подавляющее большинство статей и стихов в нашем почтовом ящике было написано полуграмотным сельским людом и рабочими (разрядка моя. — И.Н.), но чувствовалось, что все написано искренне, от души».
Как рождались подобные послания, видно из сообщения, которое прислал в газету «Кояш» («Солнце») учитель из дальнего татарского села. Весть о смерти Тукая пришла туда в субботний день. Два экземпляра газеты «Кояш» и три экземпляра «Юлдуз» («Звезда») переходили из дома в дом, передавались из рук в руки. Стар и млад читали, слушали, горевали, молились за спасение души покойного поэта.
После вечернего намаза учитель пришел на берег озера. Неподалеку, у баньки, собрались парни и, тихо наигрывая на гармошке, напевали какую-то грустную мелодию. Услышав слово «Тукай», учитель смекнул: слагают баит (один из эпических жанров народной поэзии. — И. Н.) на смерть поэта.
На другой день учитель раздобыл текст баита в вместе с письмом прислал его в газету.
Баит довольно длинный. После традиционных жалоб на несправедливость судьбы, на ангела смерти Азраила, который «пришел не за гем, за кем надо», идут такие строки:
Брат Тукай, тебя мы знали молодым, как новый месяц.
Не тревожься, не забудем ни тебя, ни твоих песен.
Еще при жизни поэта, обреченный на нищету, на иссушающий душу подневольный труд народ заучивал наизусть стихи поэта, а вместе с ними его имя достигло самых глухих татарских деревень. Не успели завянуть цветы на могиле Тукая, как наиболее прозорливые критики на удивление точно определили его место в литературе.
Писатель Фатых Амирхан юворил: «Когда он был еще очень молод, народ признал его своим поэтом, почувствовал: то, о чем поет Тукай, взято из народной души».
Историк и литературовед Гали Рахим утверждал: «Народ сам нашел и выбрал своего певца... Он навсегда останется нашим первым «народным поэтом».
Глава первая Детство сироты
1
Кушлауч стоит на горке, по обеим сторонам глубокой лощины, пробитой в течение столетий ныне совсем обмелевшим ручьем. Взору путника, едущего на лошади или в машине, деревня открывается лишь за две-три версты. Но вот, будто вырастая из земли, показывается полумесяц на минарете, а вслед за ним и сам минарет, потом кроны деревьев, отдельные крыши. И только после этого глазу является вся деревня с небрежно разбросанными приземистыми домами.
Дорога идет вниз, перебирается через ручеек в низине, опять подымается на пригорок.
Слева, на той стороне ручья, у самого обрыва, — густые заросли черемухи. На этом месте некогда стоял дом, где родился отец будущего поэта — Мухамметгариф. Здесь корень Тукаевых.
Дом на другой стороне улицы, тоскливо взирающий двумя малюсенькими окнами на небольшую рощицу из ивняка, черемухи и акации, по словам стариков, ничем не отличается от того, что поставил когда-то на этом месте отец поэта, выделившись в самостоятельное хозяйство.
В этом домишке под соломенной крышей 14 (26) апреля 1886 года в семье муллы Мухамметгарифа увидел свет Габдулла Тукай.
Татарские муллы, как любые другие церковники, веками отравляли сознание народа реакционной идеологией ислама, призывали к покорности, рабскому повиновению господствующим классам. Но среди представителей духовенства были и честные, талантливые люди, стремившиеся распространять знания среди народа.
Многие татарские парни, отправляясь учиться в медресе Бухары, Каира или Стамбула, годами были вынуждены зазубривать догмы ислама. Но иные из них, овладев арабским и персидским языками, знакомились с произведениями великих мыслителей и поэтов — Низами, Хайяма, Навои, Авиценны — и возвращались на родину совсем не с теми мыслями, которые следовало бы иметь покорным служителям аллаха.
Зимняя морозная ночь. Деревня погружена в сон. Только в одном из домов светится огонь. Это дом хазрета, как почтительно именовали крестьяне муллу. Его жена — остабике, его сын — махдум, его дочь — махдума давно спят. За окном протяжно завывает ветер. Хазрет сидит, поджав ноги, возле низенького столика и при свечке что-то пишет, скрипя гусиным пером. То ли переписывает книгу, то ли сочиняет толкование какого-нибудь полюбившегося ему произведения, то ли, подражая великим поэтам Востока, изливает свои мысли и чувства в стихах.
Утром он нехотя исполнит обязанности муллы: что поделать, семью кормить надо. А потом приступит к занятию, которое доставляет ему истинное удовлетворение: начнет уроки с шакирдами — учениками духовной шкоты — медресе, чтобы передать молодым тот духовный и умственный багаж, который накопил за свою жизнь...
Род Тукаевых, по преданию, насчитывал семь поколений мулл. Сам же Тукай в автобиографических заметках, названных «Что я помню о себе», кроме отца, упоминает только о дедушке — мулле Мухамметгалиме.
Откуда пошла фамилия Тукаевых, сказать с достоверностью трудно. Согласно одних преданий, которые дошли до нас от стариков, кого-то из далеких предков поэта звали Туктаргалием, а потому, дескать, после сокращения получилось Тукай. Другие связывают с именем Тукая название горы Тукый, которая находится близ Кушлауча.
Из архивных записей явствует, что Мухамметгалим был сыном Шамсуддина и в 1835 году получил «указ». Так называлось разрешение муфтиата (духовного мусульмайского управления) занять должность муллы. Дозволение давалось лишь тем, кто сдал экзамен. Выдержавшие испытание назывались «указными» муллами, в отличие от тех, кто исполнял обязанности муллы, но не получил достаточной подготовки и образования.
Гаяим-хазрет особым фанатизмом не отличался, однако к своим обязанностям относился с должной серьезностью: старался все делать так, как велит ислам, и держал деревню в рамках религиозных обычаев. Односельчане рассказывали, что как-то раз по дороге в гости Галим-хазрет со своей остабике столкнулся на улице с парнями, которые распевали песни под гармонь. При виде муллы они разбежались в такой панике, что уронили инструмент. Хазрет гневно ткнул палкой, гармошка взвизгнула. И мулла Галим изрек: «Ты и на меня рычишь, вражина?»
«Сын Мухамметгалима Мухамметгариф, — говорится в записках Тукая «Что я помню о себе», — лет в четырнадцать поступил в Кышкарское медресе и, пробыв там ровно столько, сколько нужно для окончания учебы, еще при жизни своего престарелого родителя вернулся в нашу деревню Кушлауч, где стал муллой». Свидетельство поэта дополняют архивные данные: в 1864 году Мухамметгариф выдержал экзамен и двадцати двух лет от роду стал указным муллой.
В старых медресе шакирды обычно учились лет по пятнадцать-двадцать, а то и больше. И если Мухамметгариф сумел окончить учение за восемь лет, то этим он обязан своим способностям и незаурядному прилежанию. Какую-то роль сыграло тут и желание его отца поскорее уступить место сыну: здоровье Галима-хазрета ухудшилось, обязанности муллы стали ему в тягость.
Как водится, сразу же встал вопрос: как побыстрее женить молодого муллу? Подыскали невесту — ею оказалась дочь муллы Гафифа из деревни Ямаширма. Сыграли свадьбу, и вскоре молодая остабике подарила супругу сына. Его нарекли — Мухамметшарифом. За сыном родилась дочь Газиза.
Мулла Гариф тихо-мирно прожил с женой тринадцать лет, но в 1885 году она внезапно заболела и умерла.
Гариф-мулла недолго ходил вдовцом: через положенный обычаем срок он посватался к дочери муллы из деревни Училе, по имени Мэмдудэ, которой и суждено было стать матерью поэта.
Отец Мэмдудэ Зиннатулла сын Зайнельбашира так же, как и Гариф-мулла, учился в Кышкарском медресе. Затем служил муэдзином в том же Кушлауче, а позже по просьбе жителей Училе пошел к ним муллой. Таким образом, Зиннатулла хорошо знал и Галима-муллу, и его сына Тарифа.
Однако новой семье не суждено было долголетие. В деревенской метрической книге за 1886 год можно прочесть следующую запись: «Мухамметгариф сын Мухамметгалима скончался от рези в животе 29 числа августа в возрасте 44 лет». Четырех с половиной месяцев от роду будущий поэт остался сиротой.
Из «указа», которым отца поэта удостоил муфтиат, мы знаем, что он был не только муллой, но и преподавателем медресе, пользовался правом выступать с назиданиями перед населением и считался искусным проповедником. По рассказам современников, он собрал довольно богатую библиотеку, сам занимался перепиской книг и сочинительством. Воспоминания его дочери Газизы содержат любопытное свидетельство: «Обязанности муллы отец не любил. Говаривал: «Буду жив, не допущу, чтобы мои дети стали муллами». Человек способный и любознательный, он явно томился духовными обязанностями.
На родине поэта ходили слухи, что к концу жизни Гариф-хазрет, мол, попивал. Тетка поэта с материнской стороны признавала, что слухи эти не лишены оснований. Очевидно, и обращение Гарифа-муллы к спиртному, строжайше запрещенному исламом, было вызвано сомнениями в правильности избранного им пути и бессилием что-либо изменить.
Не был лишен литературных интересов и дед поэта с материнской стороны. Он тоже собирал книги и сам пробовал сочинять стихи. В архиве сохранилась его мерсия — элегия на смерть дочери Мэмдудэ. Зиннатулла-хазрет был, ко всему прочему, человеком честным, незлобивым и чадолюбивым.
Многие добрые черты своего отца унаследовала и Мэмдудэ. Из воспоминаний современников видно, что она умела читать и писать, отличалась живым умом и, что было особенной редкостью для женщин того времени, слагала стихи.
Как-то раз Гариф-хазрет вместе с молодой женой отправился погостить к тестю в Училе. Утром он успел съездить на базар в Арск, погулять там со знакомыми муллами. Зиннатулла заметил, что зять навеселе, взял книгу и написал дочери на внутренней стороне обложки: «Выходит, он пьет. Может, тебе, дочка, лучше с ним разойтись?» Мэмдудэ тут же ответила стихами:
Отец родной, пойми меня: Разлука с ним — страшней огня.В воспоминаниях Тукай писал: «Какое-то время я прожил со своей овдовевшей матерью, потом она отдала меня на воспитание одной бедной старушке, по имени Шарифа, из нашей деревни, а сама вышла замуж за муллу из деревни Сасна».
Из этих скупых строк можно заключить, что Мэмдудэ тотчас же после смерти мужа сочла за благо устроить свою судьбу. На самом же деле все было иначе. На первых порах молодая вдова и не думала покидать Кушлауч: деревня успела ей понравиться, здесь жил и умер ее любимый муж и делгие годы служил ее отец. Да и сама она, по-видимому, появилась на свет в этой деревне. Вдобавок ее старый уважаемый свекор был серьезно болен, и на руках Мэмдудэ осталось еще двое детей от его первой жены. В Училе ее никто особенно не звал: мать умерла, когда Мэмдудэ была еще подростком, а Зиннатулла вновь женился на вдове муллы с шестью детьми. И Мэмдудэ, недавно избавившейся от своевластной и крутой нравом мачехи, вовсе не хотелось, возвращаться в дом, который стал для нее адом.
Но вскоре умер и старик Мухамметгалим. Родственники отдали Шарифа и Газизу на воспитание к чужим людям и назначили опекуна над наследниками Гарифа-муллы. Тут уж Мэмдудэ волей-неволей пришлось вернуться в отчий дом.
Муллы были тесно связаны друг с другом, составляя нечто вроде замкнутого сословия. Эта сословность поддерживалась браками. Недолго оставались без мужа и овдовевшие остабике. Если Зиннатулла женился на остабике с шестью детьми, то разве могли оставить в покое дочь уважаемого всеми хазрета, вдову известного в окрестностях муллы Тарифа, молодую и красивую Мэмдудэ!?
К ней засылает сватов некто Шакир — мулла из деревни Кучкэн Сасна. Сколь бы ни желала Мэмдудэ остаться верной памяти покойного мужа, ей, живущей под укоризненным взглядом Мачехи в многодетной семье, еле сводившей концы с концами, не оставалось ничего другого, как принять предложение. Не зная, как отнесется будущий муж к ее ребенку, Мэмдудэ решает пристроить его куда-нибудь на время. Но куда? Бросить дорогое чадо на мачеху, которая о Габдулле и слышать не желала, было невозможно. Так будущий поэт снова оказался в Кушлауче.
Тукай вспоминал: «В избушке старухи Шарифы я оказался обузой, лишним ртом, и потому, вполне понятно, она не очень-то занималась моим воспитанием. Какое там! Даже ласки, так необходимой любому ребенку, я от нее не видел. Мне говорили, что зимними ночами я выходил на двор босой, в одной рубахе, а потом долго стоял у двери, ожидая, когда меня впустят в избу. Зимой не только ребенку, но и взрослому человеку нелегко отворить примерзшую дверь деревенской избы. Естественно, сам я был не в силах это сделать и подолгу трясся в сенях, иногда до тех пор, пока ноги мои не примерзали ко льду. А старуха по своей «доброте» небось думала: «Ничего, не подохнет, бесприютный!» И впускала меня, когда ей вздумается, да еще бранила при этом».
Но прошло время, и Мэмдудэ, попридыкнув к новому мужу, испросила у него позволения привезти ребенка домой. Мулла послал за ним лошадь. Первое детское впечатление Габдуллы связано с этой поездкой: «То ли я в те самые мгновения, когда садился на подводу, стал кое-что соображать, то ли по какой иной причине, но сейчас мне сдается, будто я помню все: и как ехал в Сасну, и как ощущал себя в широком, счастливом мире, и, кажется, будто всю дорогу перед моими глазами сверкал какой-то яркий свет».
Габдулле было тогда от силы три года. «Как приехал, кто меня встречал — сказать не могу. Но до сих пор помню, словно краткий пятиминутный сон, как отчим обласкал меня, а за чаем намазал мне сотовым медом белый калач, помнится, хотя и смутно, мой тогдашний восторг».
В памяти ребенка не сохранилось, встречала ли его мать. Может быть, она сама за ним ездила? Но вот ломоть белого хлеба с медом — это врезалось навсегда. Запомнилась и ласка мужской руки, вручившей этот ломоть, хотя, кто знает, ласкала ли она его от души или просто приличия ради.
Не успел он наесться досыта хлеба, а душа его — насладиться материнской лаской, как опять горе. 18 января 1890 года то ли от родов, то ли от побоев Шакира-муллы, а может, от того и другого вместе, скончалась Мэмдудэ.
Смерть матери, которая была для него единственным источником света и тепла, потрясла четырехлетнего мальчика. Об этом он сам пишет так: «До сих пор помню: увидев, как выносят мою покойную мать, я, босой, с непокрытой головой, вылез из-под ворот и долго бежал за процессией, захлебываясь слезами: «Верните маму! Отдайте маму!»
Мулла деревни Сасна отвез теперь уже круглого сироту в Училе, в дом Яиннатуллы.
2
Скудные наделы в Заказанье обычно давали так мало хлеба, что его но хватало и на жизнь впроголодь. Что до Училе, то эта деревушка (по-татарски Училе значит «Трехдомная») была еще бедней своих соседей. Почти все ее жители занимались разными промыслами: точили веретена, гнули коромысла, плели лапти, мастерили деревянные башмаки. Кто батрачил на соседних богатеев, кто уходил на заработки куда подальше. В холщовых штанах да в тоненьком чекмене, в липовой обутке топал крестьянин в трескучие морозы по дороге в Казань.
Не могла Училе прокормить как подобает и своего муллу. Зиннатулла был к тому же некорыстолюбив. Довольствовался тем, что давали, а нет — перебивался как мог.
Наступил 1891 год. Хлеба совсем выгорели, Поволжье охватил страшный голод. «Бедствовали до такой степени, — пишет поэт, — что дедушка, как я помню, отправлялся в соседние деревни, где жили чуть побогаче, и приносил оттуда куски». Мальчонку постоянно мучил голод, мало того, на каждом шагу сыпались на него попреки и оскорбления: «приблудыш», «лишний рот», «приживал».
«Среди шести голубков моей названной бабушки я был галчонком, поэтому никто не утешал меня, когда я плакал, не ласкал, когда я нуждался в ласке, не жалел, когда я хотел есть или пить. Только и знали, что толкали да обижали».
Из всех детей Зиннатуллы особой злобностью отличалась Гульчира. В 1903 году в одном из писем к сестре Габдулла писал: «Раны, нанесенные ее жестокостью и притеснениями, не сотрутся в моем сердце, даже если я удостоюсь рая». Лишь одна Саджида — старшая дочь деда от второго брака — питала к нему добрые чувства. Она навсегда осталась в детском сердце «как добрая фея».
В этот период жизнь Габдуллы не раз висела на волоске. По его собственным словам, он переболел здесь оспой, перенес еще какие-то недуги и очень ослабел.
Судьба, однако, хранила Габдуллу. В один прекрасный день к дому подъехал ямщик, усадил его на подводу и увез в Казань. Очевидно, вторая жена деда приложила немало усилий, чтобы судьба распорядилась с мальчонкой именно так.
«Доехав до места, — пишет поэт, — а наша деревня стоит в шестидесяти верстах от Казани, ямщик отправился на Сенной базар. «Кто возьмет мальчика на воспитание?» — кричал он, бродя в толпе. Вышел какой-то человек, взял меня за руку и увез к себе домой».
Но не страх и не горечь переполняют сердце пятилетнего мальчонки, а изумление: вокруг огромные дома, множество лошадей, впряженных в повозки, вагоны конки... Сидя на возу, он широко раскрытыми глазами глядит на кишащую вокруг толпу, на товары, расставленные прямо на земле, на прилавках, в ларьках торговцев.
Человеком, взявшим Габдуллу на воспитание, оказался житель Новотатарской слободы по имени Мухамметвали. Чем он занимался, поэт толком не запомнил: «То ли торговал на толкучке, то ли был кожевником, не могу сказать точно». Очевидно, Мухамметвали был мелким кустарем, кожевником, продававшим на толкучке свои изделия. Его жена шила тюбетейки по заказам торговцев.
Два года, которые Габдулла провел в Новотатарской слободе, были светлой полосой его детства. Й Мухамметвали, и его жена Газиза трудились не покладая рук, и мальчонке голодать не приходилось. Но главное — они не имели своих детей, и Габдулла оказался в этом доме желанным. Ему довелось изведать здесь и родительскую ласку, и душевное тепло.
Это, конечно, не значит, что жизнь маленького Габдуллы была безоблачна. Были у него и свои горести, казавшиеся ему в то время огромными, не обходили стороной и болезни. «Однажды у меня заболели глаза, и меня повели к знахарке, — вспоминал Тукай. — Та пыталась насыпать мне в глаза сахарной пыли, а я не давался, бился, изо всех сил стараясь ей помешать». В результате на левом глазу Габдуллы образовалось небольшое бельмо.
Не забывалось сиротство: о нем ему то и дело напоминали приятели в минуты размолвок. Да и Газиза, видать, не всегда понимала тонкости детской души: «Изредка мы с матерью бывали на Ташаякской ярмарке, с завистью смотрел я на горы игрушек, на счастливую детвору, кружившуюся на кару.селях. Как я мечтал оседлать деревянного коня! Но денег у меня не было, а спросить у матери я не смел. Сама же она предложить не догадывалась. И я возвращался домой с острой завистью к чужому счастью».
На первых порах все в городе приводило мальчонку в восторг. Вместе с матерью, относившей тюбетейки заказчикам, доводилось ему бывать и в купеческих домах. «С любопытством рассматривал я красивую обстановку байского дома: бьющие, как церковные колокола, часы, зеркало от пола до потолка, фисгармонии громадные, как сундуки. Мне казалось, что баи живут в раю. Однажды, когда мы пришли в такой дом, я никак не мог наглядеться на павлина, который ходил по двору, распустив свой блестевший на солнце хвост с золотистыми перьями».
Но его приятелями были сыновья бедняков. С ними он «носился между двумя слободами по зеленому лугу, гоняяеь за летящим гусиным пухом», а когда уставал, шел «к казанской мечети — отдыхал на зеленой травке». Спускался он и в темные, сырые подвалы, где жили эти мальчишки, заходил в осевшие, покосившиеся домишки. Ужасающая бедность многодетных рабочих овчинно-меховых предприятий, кустарей, ломовых извозчиков не прошла мимо его взгляда. Но нищета была ему привычна, лишь потом отозвались горечью в его душе эти впечатления детства.
А пока что Казань радовала деревенского мальчонку. И долгие годы этот город сверкал дотом в его мечтах радужными, как хвост павлина, красками...
«Года два с небольшим прожил я у этих людей, — вспоминает Тукай. — Неожиданно они разом захворали и, подумав, что смерть не за горами, решили: «Если нас не станет, ребенок погибнет. Надо отправить его в родную деревню». Разыскали ямщика, который привез меня в Казань, и тот доставил меня обратно в деревню Училе».
Очевидно, приемные родители Габдуллы хорошо знали, чей он сын и где живут его родственники. Из воспоминаний современников Тукая известно также, что Габдуллу навещала в Казани его сестра Газиза. Она жила тогда в городе у своей тетки, которая была замужем за воинским муллой. В своих мемуарах Газиза упоминает, что как-то раз накупила яблок, сходила в Новотатарскую слободу и вернулась оттуда довольная, убедившись, что братишка живет хорошо.
Вероятно, ямщик, о котором пишет Тукай, тоже время от времени навещал его в городе. Позднее выяснилось, что этого ямщика звали Гильфаном, жил он по соседству с Зиннатуллой и, по отзывам самого поэта, который сохранил к нему уважение на долгие годы, был человеком недюжинных талантов: мастером на все руки, грамотеем и ходатаем по крестьянским делам.
Габдулла снова очутился в Училе в многодетной семье своего деда. Тут же начались поиски нового места, новых «родителей», для сироты. И они нашлись в деревне Кырлай, в доме бедного крестьянина по имени Сагди.
3
«Выйдя из дома дедушки, я сел в телегу Сагди-абзыя (абзый — почтительное обращение к старшему по возрасту. — И. Н.). Дед с бабкой, наверное, оттого, что им было неловко перед ним, вышли меня провожать...
Я уселся рядом с Сагди-абзыем, и телега тронулась.
— Вот приедем в Кырлай, — говорил Сагди-абзый по дороге, — там, наверно, мать тебя уже ждет. У нас, слава аллаху, много катыка( национальное блюдо наподобие кислого молока. — И. Н.), молока, хлеба, будешь есть сколько хочешь...
Так он старался меня утешить, об.ещая счастье, от которого меня отделяло всего лишь несколько верст».
Шел июнь 1892 года. Изголодавшиеся за зиму люди ели в деревнях траву. Хлеб, молоко и катык были для Габдуллы действительно счастьем.
Кырлай, подобно Кушлаучу, расположен по обоим берегам небольшого ручейка в лощине, но окружают его не поля, а смешанные леса. От дороги они отстоят довольно далеко, но темно-зеленые пики елей всегда перед глазами обитателей деревни.
В знаменитой поэме «Шурале» («Леший») Габдулла так описал впоследствии окрестности Кырлая:
Эта сторона лесная вечно в памяти жива. Бархатистым одеялом расстилается трава. ................................................ От малины, земляники все в лесу пестрым-пестро, Набираешь в миг единый ягод полное ведро. Часто на траве лежал я и глядел на небеса. Грозной ратью мне казались беспредельные леса1.Крытая соломой приземистая избенка за плетнем, принадлежавшая Сагди-абзыю, стояла возле самой околицы. Новая приемная мать Зухра встретила Габдуллу приветливо. Сняв с телеги, она ввела его в дом.
— Жена, принеси-ка мальчику хлеба с катыком, пусть поест!
То были первые слова, которые Сагди-абзый произнес, переступив через порог.
Сагди с женой давно искали мальчонку, которого можно было бы взять на воспитание. У них было две дочери: старшая Сабира двадцати трех лет от роду и хроменькая четырнадцатилетняя Саджида, ходившая с костылем. Их единственный сын умер два с половиной года назад, и, потеряв надежду родить своего, они решили взять чужого, чтобы было кому содержать их на старости лет и похоронить с молитвой. К тому же приближался передел земли, а наделы, как известно, выделялись по числу едоков мужского пола.
Поэт так вспоминал свой первый день в Кырлае:
«Наевшись досыта и спросив разрешения у новой матери, я вышел на улицу. Боясь заблудиться, я поминутно оглядывался по сторонам. Неожиданно меня со всех сторон обступили невесть откуда взявшиеся мальчишки. Они глазели на меня с изумлением. Видно, было чему изумляться: впервые попал им на глаза незнакомый пацан да еще в ситцевой рубашке, которую мне купили в Казани, в тюбетейке из разноцветных лоскутов бархата, которую сшила мне казанская матушка перед тем, как отправить в Училе». Ко всему прочему на Габдулле в отличие от всех деревенских детей были старенькие, но аккуратные кожаные сапожки.
Не сразу приняли его деревенские мальчишки в свою среду. От их зоркого глаза не укрылись ни рябинки на его лбу, ни бельмо на левом глазу. И потому его прозвали «Чагыр» («Кривой»).
Первое лето в Кырлае прошло для Габдуллы беззаботно. Старшие спозаранку уходили в поле, а Габдулла, выспавшись и перекусив чем попало, выбегал на улицу: купался в речке, вместе с приятелями ловил штанами мальков, лазил по чужим грядкам и потихоньку от старух, присматривавших за огородами, выдергивал перья лука. Когда его одолевал голод, шел домой, забирался в комнату через боковое окно, съедал оставленный для него хлеб с картошкой — и снова на улицу.
Со временем ситцевая вышитая рубашонка на нем износилась, щегольская бархатная тюбетейка уже ничем не отличалась от тюбетеек деревенских пацанов, а покрытые цыпками ноги позабыли про сапоги. Габдулла превратился для своих сверстников в такого же, как они, деревенского мальчишку.
Но беды и несчастья, столь часто омрачавшие жизнь сироты, лишь затаились на время. Старшая дочь его приемных родителей внезапно «впадает в буйство» и умирает. С языка обезумевшей от горя Зухры то и дело срываются жестокие слова: «Недаром говорят: корми дитя-сироту — нос и рот будут в крови, а корми теленка-сироту — нос и рот будут в масле. Видно, этот мальчишка принес в дом несчастье».
Минуло лето, наступила осень, и руки маленького Габдуллы впервые знакомятся с крестьянским трудом. Его берут с собой собирать картофель, поручают складывать в мешки вырытые клубни. Осень выдалась холодная. Спасаясь от стужи, Габдулла зарывал босые ноги в рыхлую землю. Хромая Саджида, орудуя возле него лопатой, как-то нечаянно поранила ему ногу. Задень она лопатой родного брата, тот, конечно, поднял бы крик, прибежали бы старшие, осмотрели рану — утешили мальчика. Но Габдулла был приемышем. «Я охнул. — вспоминал он, — вскочил и, отбежав прочь, заплакал. Рана оказалась глубокой. Я засыпал ее землей и опять принялся за работу».
Когда окончились осенние работы, Габдуллу отправили учиться. Поначалу его отдали к остабике Фатхеррахмана-муллы, то есть в своего рода подготовительный класс. Был он так мал и худ, что никто не давал ему шести с половиной лет. «Моя будущая учительница сидела с прутиком в руке. Вокруг нее было много девочек — и моих ровесниц, и постарше. А среди них, словно горошинки в пшенице, виднелись мальчики», — пишет поэт.
Остабике с гибким прутиком в руках — типичная фигура в истории татарской школы. Прутик был одним из важнейших средств обучения и у мулл. В картине, которую нарисовал Тукай, не хватает еще одной детали: обычно остабике учили девочек, рассадив их на полу в «черной» половине дома, рядом с телятами.
В стихотворении «Татарским девушкам» Тукай пишет:
У невежества все вы берете урок. Жизнь во тьме — вот учения вашего прок! Ваша школа — с телятами рядом, в углу. Вы сидите, «иджек» бормоча, на полу!Учеба у абыстай начинается с книги «Иман шарты» («Основы веры»). Эта тоненькая брошюрка из молитвенных текстов на арабском языке. Перед текстом — арабский алфавит. Каждая буква имеет свое название: а — алиф, б — би, т — ти, д — дал. Сперва дети хором заучивают названия букв, это и есть «иджек». Потом приступают к чтению, вернее к заучиванию самих молитв. Чтобы прочесть, например, слова «аль-хамд эль-илля» —-«хвала аллаху», ребенок должен перечислить название всех букв: элиф, лэм, хый, мим, дал, лэм, элиф. Семь потов сойдет, прежде чем из этой бессмысленной цепочки составятся начальные слова молитвы. Надо еще при этом учесть, что в арабском письме, которым пользовались татары, гласные звуки не обозначаются буквами.
В первый год успехи Габдуллы были куда как скромны. «Кажется, мне на всю зиму хватило изучения иджека и первой суры (сура — глава Корана, священной книги мусульман. — И. Н.) из «Иман шарты». Всю зиму я топтался вокруг этой книженции».
Наступила весна, а вместе с нею и пора праздника сохи — сабантуя, которым отмечают начало пахоты. От сугубо религиозных праздников сабантуй отличался веселым раздольем: в нем прежде всего проявлялся народный дух.
Целый год ожидал крестьянин сабантуя. Заранее выбирал овцу, которую зарежет к торжеству, собирал яйца, готовил обновы — одежду, обутку.
За несколько дней до праздника назначаются распорядители. Спозаранку с длинным шестом в руках одни из них обходят деревню, заглядывают в каждый дом. Им выносят кто что может: полотенце, платок, скатерть, а то и просто носовой платок. Все это привязывают к шесту. Другие ходят с ведрами, собирают яйца.
На улицах пока что тихо. Лишь улыбки на лицах да мир в душе. И щекочет ноздри запах яств, готовящихся в каждом доме.
Солнце поднимается все выше, и настает час, когда празднично одетые люди стекаются на лужок — майдан, специально выбранный для торжества. Там уже выстроились в ряд телеги с поднятыми оглоблями: прибыли торговцы из соседних деревень с орехами, семечками, пряниками, особым успехам пользуются расписные. Бери сколько душе угодно, были бы деньги.
Распорядитель и его помощники усаживают всех в круг. Посредине — гладкий столб с кожаным сапогом наверху, тут же козлы для борьбы с мешком, набитым сеном.
Начинаются игры: бег в мешках, разбивание горшков с завязанными глазами, бег с ведрами, полными воды, поиски ртом монеты в чашке с катыком. Но гвоздь программы — татарская борьба — кряш и скачки.
Когда скрываются из виду всадники, отправляющиеся к старту, на майдан выходят борцы. Начинают борьбу дети. Опытные борцы сидят в стороне и чинно дожидаются своей очереди. На них поглядывают с уважением, но они невозмутимы — знают себе цену.
Детей сменяют подростки. Потом настает черед настоящих батыров. За их схватками народ следит самозабвенно, подзадоривает, громко обсуждает ход состязаний. Борцы и болельщики съезжаются на кряш со всей округи и, конечно же, поддерживают земляков из своей деревни. Не обходится и без сословных пристрастий: бедняки подбадривают своих, кулаки и прихлебатели — своих парней, откормленных на пышных хлебах.
Батыров становится все меньше, проигравшие выбывают, пока наконец на майдане не остается всего двое борцов. Это вершина всего сабантуя. Последняя пара долго топчется на месте, батыры много раз хватаются за кушаки, падают, вскакивают. Но вот наступает миг, когда один из борцов, улучив момент, стискивает противника железной хваткой, поднимает его на воздух и припечатывает к земле.
Все с гиканьем бросаются к победителю. Над головами мелькает баран: это джигит-батыр, взяв за ноги доставшегося ему в награду барана, вскинул его к себе на плечи и совершает по майдану круг почета.
За победу в скачках награждают не всадников, а лошадей. Не успевает первый конь очутиться в толпе, как ему на шею накидывают самый лучший из подарков — ватный цветной халат, чапан, ковер или в худшем случае — расшитое полотенце. Затем по порядку награждают других коней, в том числе и занявшего последнее место.
Торжественная часть праздника окончена. Люди расходятся по домам, вместе с родственниками и друзьями, приехавшими из соседних деревень, распивают заранее приготовленную брагу или медовуху, затягивают песни. Парни под хмельком выходят на улицы с гармошкой, а вечером спускаются к поросшему кустарником берегу, заводят там игры, пляски, поют частушки.
Дети в день сабантуя просыпаются раньше всех, берут приготовленный с вечера мешочек и начинают ходить из дома в дом. Их одаривают кто пряником или конфеткой, кто копеечной или полукопеечной монетой, кто крашеным яйцом.
В тот памятный день сабантуя приемная мать разбудила Габдуллу чуть свет и выпустила на улицу. «В какой бы дом я ни заходил, зная, что я — осиротевший сын муллы, мне давали сверх положенных каждому мальчишке конфеты и двух пряников еще и крашеное яйцо.
Поэтому мой мешочек скоро наполнился, и я воротился домой раньше всех».
Вручив мешочек изумленной и обрадованной Зухре, Габдулла опять выбежал на улицу. Бродил с теми, кто все еще собирал подарки, играл, возился, боролся. Потом отправился на майдан.
«Но вот скачки прошли, мальчишки набегались, платки все раздарили, словом, сабантуй окончился. Теперь я не могу припомнить, сколько длился праздник, может быть, дня три, а то и четыре, но мне видится только один день, его я и описал». Таким на всю жизнь запал в сердце Тукая сабантуй.
После того как мальчик в день сабантуя явился домой с мешком яиц, Зухра стала относиться к нему с заметным уважением. И Габдулла стал понемногу забывать о своем сиротстве, ласкаться к приемным родителям как к родным, иногда капризничал, а порой, забывшись, позволял себе и перечить. Он понемногу становился самим собой, нормальным ребенком, а не униженным, забитым существом. Судя по воспоминаниям сверстников, Габдулла в играх был самозабвенен. Острый на язык, он охотно потешался над другими, но не любил, когда смеялись над ним. Играя в салочки, норовил резко увернуться, а когда прыгали через натянутую веревку, разбегался с серьезным видом и неожиданно нырял под нее. Иногда, засучив рукав, сжимал кулачок и, показывая свои жидкие мускулы, хвастался: «Как дам раз, так дух из вас вон». Юмор помогал ему скрыть тоску по силе и здоровью.
Перед жатвой Сагди с женой обрели наконец долгожданное счастье: у них родился сын.
«В прошлом году, когда взрослые уходили на работу, я носился по улицам. Теперь взяли в поле и меня. На моем попечении находился маленький Садри, которого я должен был возить в тележке».
Это бы еще полбеды: таких ребят, как Габдулла, которые ходят в поле и ухаживают за малыми детьми, в Кырлае было много. Взять того же Халилрахмана, сына Фатхеррахмана-муллы, ровесника и друга Габдуллы. Обиднее другое — приемная мать Зухра снова круто из менилась к Габдулле. «После рождения Садри отец продолжал любить меня по-прежнему, но мать совсем перестала со мной разговаривать, кроме тех случаев, когда нужно было что-нибудь приказать. Даже ее хромая дочь и та старалась обидеть меня. Лаская Садри, она то и дело приговаривала: «Мой собственный братишка! Родненький братишка!»
Осенью Габдулла снова убирает картофель, а затем продолжает ученье. На сей раз его определили не к жене, а к младшему брату Фатхеррахмана-муллы, то есть классом повыше. Но и тут все ученики занимались вместе. Уровень их знаний определялся тем, какую они в данное время читали книгу. Азбуку здесь также зубрили по «Основам веры». Кое-как овладев ею, приступали к «Хэфтияку» — эта книжка включала седьмую часть Корана. За ней следовали книжки на старотатарском языке — «Бэдэвам» и «Кисекбаш». Затем начиналось изучение арабской морфологии — сарыфа и синтаксиса — нэху. Грамматику арабского язьгка шакирды проходили по учебнику на персидском языке, который назывался «Мулла джэлал». Таков был курс наук по кадиму, то есть по-старому. Кроме того, в Медресе обучали начальным действиям арифметики. Таких же предметов, как география, история, родной язык, родная литература, не было и в цомине.
Борьба за введение нового метода — джадида, за включение светских дисциплин еще только начиналась, и Тукаю пришлось шагать в медресе со ступеньки на ступеньку по-старому.
Мектебы и медресе находились не в ведении министерства просвещения, и тяготы по их содержанию целиком ложились на плечи крестьян, поэтому вряд ли стоит удивляться, что обучение было поставлено из рук вон плохо. Тем не менее, по сведениям историков, татар характеризовала сравнительно высокая степень грамотности. В многотомном издании «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» (1901 г.) говорилось: «Муллы и их многочисленные помощники, вполне обеспеченные сбором десятины со своих прихожан (как они были обеспечены, мы уже видели, — И.Н.), учат мальчиков, а жены их — девочек, вследствие чего ереди татар грамотность распространена гораздо больше, чем среди русских» (т. 6, с. 165). На это же позднее обратил внимание и В. И. Ленин. Конспектируя книгу одного историка, он выписал оттуда следующие слова: «...у казанских татар на 150 человек приходится сейчас 1 мечеть и 1 мулла, у русских и инородцев того же района 1 священник приходится только на 1500 душ; у первых одна школа на 100 душ обоего пола; у православных — одна на 1500—3000 человек»2. И рядом поставил три восклицательных знака.
Речь, кцнечно, идет о грамотности в самом примитивном смысле слова: об умении татар читать на своем родном языке.
«В медресе я очень скоро изучил иджек и суры «Хэфтияка», — вспоминал Тукай, — после чего принялся за «Бэдэвам» и «Кисекбаш». Уроки усваивал быстро, и, чтобы я не бездельничал, мне поручали заниматься с отстающими мальчиками».
Успехи Габдуллы далеко выходили за обычные рамки. Известно, что он на равных спорил со своим учителем Хабри, в каких случаях нужно ставить твердую арабскую букву «г» — гайн, а в каких — мягкую. На исключительные способности и сообразительность: мальчика обратил внимание сам мулла и вскоре перевел его в свой класс.
И все же не одной только одаренностью объясняется страсть восьмилетнего мальчика к учебе в медресе, где господствовали схоластика и розга, страсть, позволившая ему стать младшим учителем подростков, которые на целую голову, а то и две были выше ростом. Отношение Габдуллы к ученью в немалой степени объясняется его происхождением: он был сыном муллы, и это обстоятельство поддерживало его рвение.
В пословицах, анекдотах и сказках татарского народа муллы частенько выступают в неприглядном виде, служат постоянным объектом насмешек. В жизни, однако, они пользовались большим авторитетом в первую очередь как носители знаний, а уважение к знаниям в угнетенном народе всегда велико. К тому же от муллы зависела вся жизнь татарского крестьянина: родился ребенок — нужен мулла, женился — зови муллу, не обходились без него и похороны. Мулла был и советчиком, и судьей, и, наконец, представителем самого аллаха на земле: в его руках находились ключи от райских врат. Жаден он или щедр, зол или добр, благочестив или безнравствен, его благословение все равно необходимо.
В «Колыбельной песне» Тукай впоследствии выразил это отношение татарской деревни к мулле:
Баю-баю-баю, сын, В медресе поедет сын, Все науки превзойдет. Всех ученей будет сын.Почтение к мулле, естественно, переносилось и на его детей. Габдулла же был не просто махдумом, а еще и сиротой: тут к уважению примешивалась жалость. Если милосердие вообще считалось угодным аллаху, то милосердие к осиротевшему махдуму тем более. Не раз, встречая Габдуллу на улице, старухи ласково гладили его по голове, приговаривая: «Как живешь-можешь, милок?», одаривали его копеечкой или гостинцем: молитва безгрешного дитяти быстрей дойдет, мол, до бога.
Ласков был к Габдулле и мулла Фатхеррахман. «То ли потому, что был он однокашником моего отца по медресе, то ли еще по какой причине, но он еженедельно давал мне по пятаку», — вспоминал Тукай. Все это поддерживало в мальчике чувство собственной значимости, внушило со временем мысль о своем особом предназначении, не позволяя согнуться под тяготами сиротства, и, потеряв силу воли, подобно щепке, плыть по течению, уповая на то, куда вынесет волна.
Сын муллы и внук муллы, повзрослев, конечно же, должен был стать муллой, а для этого нужно, прилежно и старательно учиться. Ученье оказалось тем единственным поприщем, на котором он мог утвердить себя. Как ни восхищался Габдулла батырами на сабантуях, героями-джигитами народных сказок, как ни сильно было желание самому стать таким же могучим, мальчик вынужден считаться с горькой действительностью: ростом он не вышел и силой не отличался, в играх со сверстниками всегда оказывался побежденным, бегая наперегонки — отставал. Но примириться с этим не мог. В чем-то он должен был опередить других, оказаться победителем. Не пропустил он мимо ушей и народную поговорку: «У кого крепкие руки, свалит одного, у кого крепкие знания — тысячу».
Надо еще принять во внимание, что как сыну муллы ему меньше всех доставалось от вышеупомянутого учительского прута, который в медресе свистел беспрестанно. «Что правда, то правда: за шалости или невыученный урок другим частенько от меня попадало, но Габдуллу я ни разу пальцем не тронул», — вспоминал Халилрахман-хальфа.
Одолев положенные шакирду книжки, Габдулла ими не ограничился. В татарских селах в редком доме не было на полке книг. Длинными зимними вечерами какая-нибудь старушка, поправляя едва держащиеся на ниточках очки, нараспев читала «Книгу о Юсуфе» или «Тахире и Зухре», каждую на свой мотив, а ее родичи и зашедшие на огонек соседи слушали, шмыгая носом и вытирая слезы. То была довольно обычная для тех времен картина, и маленькому Габдулле, несомненно, доводилось присутствовать на таких чтениях. Когда он подрос, его «обуяла страсть к книгам», и Габдулла сам стал читать другим. Кроме «Тахира и Зухры», он упоминает стихотворное произведение среднеазиатского поэта XVII века Аллахьяра Суфи «Собат эль-гаджизин» и книгу «Рисаляи Газиза», которая представляет собой прозаическое переложение того же сюжета.
И если Тукай счел нужным сказать, что именно в Кырлае у него «раскрылись глаза на мир», то, вероятно, в первую очередь имел в виду школу, которая приоткрыла ему дверь в литературу.
Хотя Зухра после рождения сына лишила Габдуллу своей любви, он все же не чувствовал себя в доме чужим; приемный отец по-прежнему к нему благоволил, да и Габдулла становится нужным в доме, заставляя Зухру считаться с собой.
«Я не только хорошо учился, но стал пригодным для кое-каких работ. Так, я должен был по утрам открывать трубу, вязать снопы соломы для топки, гнать корову в стадо, встречать ее и т. д.».
Друг детства поэта Сафа Мухаметшин, который по поручению Сагди учил Габдуллу боронить, свидетельствует: «Когда настала страда, Сагди-абзый стал брать с собой и Габдуллу. Я до сих пор хорошо помню, как Сагди-абзый сказал: «Жаль, сын мой порезал палец, а то совсем было научился жать». Вряд ли восьмилетнему Габдулле поручали самому жать хлеба. Справиться и взрослому мужику с этой работой нелегко. Скорей всего, когда маленький Садри спал или мать садилась его кормить, он сам брал в руки серп, а Сагди с ухмылкой поощрял его, приговаривая: «Вот ведь какой у меня сын, смотри-ка, получается...»
Но как бы то ни было, Габдулла уже в этом возрасте не только видел, что такое крестьянский труд, но в какой-то мере ощутил и на себе его тяжесть.
Давая уроки, Габдулла бывал в домах своих учеников.
«Один из моих подопечных — байский сын, иногда приглашал меня к себе, — пишет Тукай. — У них я пил чай и ел беляши с начинкой из полбы». Сытый дом кулака, разговоры, которые он там слышал, были так непохожи на дом его приемного отца и таких же бедняков, как он, с их постоянными жалобами на малоземелье, на тяжесть налогов и поборов! Вероятно, Габдулле самому довелось видеть, как собирают недоимки, распродают скарб бедняков, которые не в состоянии их выплатить, как за недоимки порют розгами, — случалось в Кырлае и такое.
Память Габдуллы жадно впитывала произведения народного творчества. У крестьянина, мыслящего образно и конкретно, что ни фраза, то поговорка. На молодежных гулянках с гармошкой, хотя они и запрещались муллой, муэдзинам и стариками фанатиками, на вечерних посиделках в кустарнике у речки, а зимой в домах, откуда отлучались старшие, на помочах по случаю валянья сукна, на вечеринках по окончании работ звучали песни и частушки. Пели и взрослые за праздничным столом, игры и танцы сопутствовали каждому сабантую. Габдулла в Кырлае заучил много песен и понял, что тот, кто умеет петь, в деревне всегда желанный гость.
Сказки стали для впечатлительного Габдуллы тем миром, где можно на время спрятаться от неприглядной действительности. Воображая себя в роли сказочного героя, он не раз преодолевал моря и океаны, во имя спасения похищенной принцессы вступал в единоборство со страшными дивами и в своем воображении выходил победителем в схватках с мальчишками, которые были куда сильнее его, с угнетавшими людей баями, их приспешниками и урядниками. В Кырлае были искусные сказители. Но и сами мальчишки любили рассказывать друг другу сказки.
Сказка-поэма Тукая «Шурале», несомненно, связана с Кырлаем. Именно здесь он впервые услышал эту легенду. Один из современников Тукая рассказывает: «Габдулла любил щекотать других, как Шурале. Неподалеку от нас стояла бедная деревенька Новый Менгер. Говаривали, что жители этой деревни забили насмерть Шурале, потому, мол, они и такие бедные. Очевидно, Габдулла слышалоб этом». В Кырлае он узнал, как складываются байты, сам их распевал и, по утверждению некоторых односельчан, пытался даже их сочинять.
В 1894 году на семью Сагди обрушиваются несчастья. 30 апреля умирает от туберкулеза хромая Саджида. А затем паралич разбивает самого Сагди. Неизвестно, вспоминала ли Зухра на этот раз свое старое присловье: «Корми дитя-сиротку, рот и нос будут в крови...» Но как бы там ни было, Габдулла ей теперь нужен. Сагди выжил, но стал волочить ногу, да и рука его плохо слушалась. Он не переставал работать по хозяйству, но силы были уже не те: помощник ему необходим. Младший сын Садри когда еще подрастет, а Габдулла через три-четыре года мог бы взять хозяйство в свои руки.
Этим надеждам, однако, не суждено было осуществиться: Габдулле осталось жить в Кырлае считанные дни.
Младшая сестра Гарифа-муллы — Газиза, выйдя замуж за купца Галиасгара Усманова, поселилась в Уральске. У нее было три дочери и один сын. В 1892 году в эту семью взяли на воспитание и сестру Габдуллы — Газизу-младшую.
В феврале 1894 года у Усмановых один за другим умерли пятилетняя дочь и одиннадцатилетний сын. То ли Газиза-младшая рассказывала о том, что ее братишка Габдулла мыкается по чужим людям, то ли Газизе-старшей самой пришло в голову вызвать Габдуллу к себе: ведь он как-никак приходился ей племянником и мог заменить умершего сына. Так или иначе, но они поручили крестьянину по имени Бадреддин, который часто приезжал из Кушлауча в Уральск, разыскать и привезти к ним Габдуллу.
В один из осенних дней, когда Габдулла, пользуясь тем, что маленький Садри спит, углубился в чтение «Риса ляи Газизы», у ворот дома остановилась подвода. Сагди с Зухрой в это время молотили на току рожь. Гость попросил Габдуллу позвать их в дом. Перекинувшись несколькими словами с приезжим, родители пригласили его к столу, поставили самовар. Обычно детей не сажали за стол с гостями. Но на этот раз позвали и Габдуллу и, к его удивлению, положила перед ним кусок сахара.
Наконец гость объявил, зачем он приехал.
«Родители, — вспоминает Тукай, — очень расстроились.
— Вот ведь как получается! Выходит, зря кормили его столько лет? Знаешь сам, почем тогда был пуд хлеба! А теперь, когда паренек подрос и может работать, мы должны отдать его тебе? Нет на то нашего согласия. Если он им родной, почему они раньше о нем не вспоминали?
Тогда гость стал угрожать:
— Не имеете права задерживать чужого ребенка! Я вот заявлю уряднику! Мы его ищем, ищем, а он у вас. Да я вас под суд упеку!
Для деревенской бедноты этих слов оказалось достаточно, бедные мои родители сдались».
Бадреддин несколько иначе рассказывал, как он увез Габдуллу из Кырлая. По его словам, он привел с собой муллу, и разговор также начал мулла. В ответ на его слова Зухра из-за полога будто бы сказала: «У нас нет лишнего ребенка, чтобы его отдать другим». Видя, что от муллы толку нет, за дело взялся сам Бадреддин. Вытащил из кармана какие-то старые бумаги на русском языке:
— Вот приказ урядника!
И только тогда приемные родители Габдуллы смирились.
Впрочем, какая из этих версий точнее, не столь важно. Ясно главное — отъезд Габдуллы стал для его приемных родителей большим горем. Обратимся снова к воспоминаниям поэта.
«...Мать расплакалась:
— Ну, отец, ничего не поделаешь. Видно, не суждено нам воспитать чужого ребенка. Да сохранит нас аллах, беды с ним не оберешься...
Отец склонил голову. Правда, напоследок он еще попытался было воспротивиться, но его сопротивление было похоже на зыбь после бури.
На меня напялили старый бешмет, надели залатанные пимы, усадили на подводу. Бедные мои родители провожали нас до околицы, обливаясь слезами».
Сагди по-настоящему любил Габдуллу, относился к нему как к собственному сыну. Что до Зухры, то в эти минуты она открылась для него с неожиданной стороны. Она бывала с Габдуллой сурова, иногда чуралась его, но, оказывается, по-своему тоже любила. Ее слезы смыли последний осадок горечи в душе мальчонки, и эти бесхитростные, добродушные люди навсегда заняли в сердце Габдуллы место дорогих и милосердных родителей.
Бадреддин слыл довольно состоятельным, можно даже сказать, богатым жителем деревни Кушлауч. Его большой шестистенный дом был неплохо обставлен, особое внимание привлекал письменный стол — вещь весьма редкая в тогдашней деревне; амбары были полны круп, пшеницы и ржи, в большом саду стояли ряды ульев. Рослая голубоглазая жена с добрым лицом родила ему троих детей: мальчику в ту пору стукнуло пятнадцать, дочери — двенадцать, и в колыбели качался грудной младенец.
Бадри перевез Габдуллу к себе и по какому-то делу уехал в Казань чуть ли не на месяц. Габдулла не сидел этот месяц сложа руки. Вместе с Камалетдином, сыном Бадреддина, ходил на уроки, читал книги, играл на улице. Как сам он потом признавался, где бы он ни был, люди обращались с ним «серьезно, по-взрослому, как с сыном муллы, и потому даже на игрищах среди сверстников мне казалось зазорным играть в таккаравыл (народная татарская игра, напоминающая горелки. — И. Н.), с девочками. Я старался вести себя, как подобает махдуму, и поступать сообразно с прочитанным в книгах. Однажды в дом Бадри-абзыя зашел довольно уважаемый человек из нашей деревни, по имени Ситдик. Подойдя ко мне, он поздоровался, но, заметив, что он нетрезв, я не ответил на его приветствие: он протянул руку, а я ему своей не дал. Когда меня спросили, почему так поступил, я ответил стихами из «Бэдэвама»:
Пьяного не приветствуй. Его привета не принимал.Семья Бадри-абзыя была так поражена, что слухи о моем благочестии быстро распространились по деревне».
Тут самое время рассказать о незначительной на первый взгляд, но имевшей важное значение для будущего Габдуллы встрече. Но прежде небольшое отступление.
В романе татарского писателя Ахмета Файзи «Тукай» есть такой эпизод. Каюм Насыри, оказавшись как-то раз в Новотатарской слободе, встречает на улице маленького Габдуллу, гладит его по голове, беседует с ним и... дарит ему огрызок карандаша. Это, разумеется, художественный вымысел. Но в нем заложен глубокий смысл.
Каюм Насыри (1825—1902) был одним из наиболее образованных людей своего времени. Он родился в семье муллы, проучился пятнадцать лет в медресе, готовясь стать муллой, но первым из татар отказался от этой карьеры и посвятил себя делу просвещения народа. Хотя всю свою жизнь он пропагандировал русскую культуру и получил за это прозвище «урыс Каюм» — «русский Каюм», с виду он ничем не отличался от обычного старика татарина: волосы, борода и усы подстрижены по национальной моде, на голове — шапка, на плечах — казакин, на ногах — ичиги с калошами. Он не был женат и жил в своей квартире один-одинешенек. К нему в прямом смысле может быть отнесена поговорка: «Джигиту и семидесяти ремесел мало». Насыри был и писателем, и переводчиком, и историком, и фольклористом, и языковедом, и этнографом. Он автор многих популярных книг и учебников по математике, физике, географии, ботанике, анатомии, агрономии, кулинарии, по ювелирному и слесарному делу, сочинений по этике, педагогике и методике преподавания.
Помимо всего прочего, Каюм Насыри в течение многих лет вел уроки татарского языка в духовном училище и духовной семинарии, собирал группы ребят и учил их русскому. Если кто-либо из учеников не являлся на урок, он сам отправлялся к нему домой, на свои деньги покупал одежду детям бедняков.
При жизни Каюм Насыри опубликовал более сорока томов своих сочинений. В его книге «Февакихель-джоляса» («Плоды бесед») шестьсот страниц, разбитых на сорок глав. В них собраны мысли многих ученых Востока и самого Каюма Насыри по различным областям знаний, а также анекдоты и поучительные истории, приведенные в качестве иллюстраций к ним. В последней, сороковой, главе помещены произведения татарского народного творчества: пословицы, загадки, песни, байты. Все эти материалы ученый систематизировал, классифицировал и дал им свою оценку. Так Каюм Насыри раздавал «карандашные огрызки» будущим ученым, писателям, поэтам, учителям.
Что касается Габдуллы, то он получил свою долю из рук Каюма Насыри не в Казани, а в родном Кушлауче.
Домашняя библиотека Бадреддина состояла не из одной-двух книг, как у других крестьян. Вот «Бэдэвам». Ее Габдулла знал наизусть. «Кисекбаш». И эту книгу он мог пересказать, не заглядывая в текст. Его нельзя было удивить и «Тахиром и Зухрой», и «Рисаляи Газизой», и «Собат эль-гаджизином». Но вот эта самая толстая, самая тяжелая, кирпич да и только, была ему незнакома. Он прочел заглавие на обложке. Большими буквами с завитушками выведено: «Февакихель-джоляса». Маловероятно, чтобы Габдулла между уроками да играми на улице за один месяц одолел шестьсот страниц. Скорее всего он полистал их, останавливаясь на особо занимательных историях, и так добрался до последней части. Здесь он увидел стихи и песни, те самые, которые распевали в Кырлае парни и девушки.
А это что за длиннющая песня? «Байт о нерадивой снохе». Оказывается, и о неряшестве нерасторопной снохи можно слагать баиты.
«Стихи в последней главе мне очень понравились, — вспоминал Тукай, — в Кырлае читал я только «Газизу» и «Собат эль-гаджизин», поэтому, встретив в книге неприличные слова, я в недоумении спрашивал себя: «Неужели о таких вещах можно писать в книгах?»
Тут было чему удивляться: песни или баиты, которые распевали в деревне, и дидактические поэмы вроде «Кисекбаша» и «Собат эль-гаджизина» до сей поры казались Габдулле несовместимыми, как вода и масло. А вот поди ты, оказалось, что между ними есть нечто общее: и те и другие напечатаны в книге. Книге же Габдулла верит безгранично, для него это святыня. Живя в Кырлае, он привык смотреть на книгу как на извечно данное, всегда существовавшее, вроде травы, цветов и деревьев, луны или звезд. Теперь же, познакомившись с «Февакихель-джолясой», он увидел запечатленными в книге те самые песни, которые слагали Асат и Мингали, Маннигуль и Джамиля. Габдулла сделал для себя открытие: книги-то, оказывается, сочиняют. Ведь кто-то собрал эти песни и баиты и напечатал их.
«Иногда, под впечатлением «Февакихель-джолясы», я отправлялся к тетушке Гайше. Она стирала белье в курной избе и ругала мужчин. Я насмехался над женщинами, и у нас разгорались жаркие споры».
Тукай, безусловно, имел в виду баит о «Нерадивой снохе». Габдулла как-никак родился мужчиной, да еще намеревался стать муллой, а в глазах благочестивых мусульман женщина стоит на ступень ниже мужчины. Недаром пословица гласит: «Муж — голова, а жена — шея». Да тут еще байт о «Нерадивой снохе»! Разве он не доказывает, что женщины куда хуже мужчин? Нет уж, Гайша-апа (апа — обращение к старшей по возрасту женщине. — И. Н.) не может быть права, когда их ругает. И тем не менее вступать в спор, как равному, мальчишке с женщиной, уже имеющей взрослых детей, было не принято. Видно, Габдулла к этому времени стал уже отнюдь не тем замкнутым и застенчивым сиротой, каким он приехал в Кырлай, а сделался довольно самоуверенным отроком.
«Наконец вернулся Бадри-абзый, — вспоминает Тукай. — Он привез мне новые шапку, валенки, бешмет. Обновы я надел с несказанной радостью, а старую шапку спрятал на чердаке: «Авось когда-нибудь приеду посмотрю». Теперь этот поступок удивляет меня самого».
Вскоре Габдулла с Бадреддином отправились в путь. Через сутки они приехали в Казань и остановились на Сенном базаре.
То ли Мухамметвали заранее знал о предстоящем приезде Габдуллы, то ли вышло это случайно, сказать теперь трудно, но они встретились. Его бывший приемный отец постарел, борода стала совсем седая. Он увел его к себе ночевать. Увидев Габдуллу, расплакалась и его жена Газиза.
Супруги не знали, куда посадить Габдуллу, угощали, ласкали-голубили. На другой день Газиза вымыла его в тазу и дала на дорогу, чтобы не замерз, меховые штаны и новую тюбетейку. Хотела подарить ему четки и еще какие-то обновы, но Габдулла отказался:
— Не надо! Ничего мне не надо! Я ведь еду в богатую семью!
Человек, который должен был отвезти его в Уральск, запаздывал, и Габдулле вместе с Бадреддином пришлось около двух недель прожить на постоялом дворе, неподалеку от Сенного базара.
Как ни грустно было расставаться с Сагди и Зухрой, а потом покидать Кушлауч, все это теперь осталось позади. Веселый и довольный, разгуливал он вместе с Бадри-абзыем в новом бешмете, новой шапке и новеньких валенках. На базаре Бадри покупал ему даже сладости.
Шум большого города, суета и многолюдье Сенного базара, вкусные запахи — все радовало мальчика. Тешило и сознание, что в далеком Уральске его ждут близкие люди да еще из «богатой семьи».
Но когда наступило время прощаться с Бадри-абзыем и остаться наедине с совершенно чужими людьми, которые должны были увезти его за тридевять земель, горечь разлуки комом застряла в горле Габдуллы. «Я просил Бадри-абзыя повременить хотя бы день. Но он, как мог, утешил меня и уехал». Покуда его новый знакомец из Уральска занимался в городе своими делами, Габдулла один-одинешенек пролил в номере немало слез.
Наконец в кошевке, устроившись в ногах у жены Алтыбиш Сапыя, как звали провожатого, он отправляется в далекий путь.
Глава вторая По ступеням мектебов
1
При слиянии Урала с его притоком Чаган приютился на полуострове небольшой городок.
В первой половине XVI века, в царствование Ивана Грозного, тысячи смелых, отчаявшихся крестьян, спасаясь от притеснений бояр и воевод, стали переселяться из центральных областей Русского государства на его южные окраины.
После того как были завоеваны Казанское и Астраханское ханства и все Поволжье присоединено к Московскому государству, поток беженцев с Волги, а также с берегов Дона и из центральных областей России, где усиливалась феодальная эксплуатация, устремился в Сибирь и к берегам реки Яик. Здесь они теснят местные народности, ногайцев, казахов, оседают на земле, живут ловлей рыбы, охотой.
По мнению царя и его приказных, беглецы эти, конечно, такой парод, что им палец в рот не клади, но, если погладить по шерстке, быть может, удастся их заставить и послужить. Как-никак, а они расширяют владенья державы и, хотя бы ради спасенья шкуры своей, ограждают ее от набегов кочевников.
Разбойничавшие до той. поры беглецы получают одну привилегию за другой. Мало-помалу складывается то полувоенное сословие, которое известно под именем казаков.
Яицкие казаки много раз меняли свою «столицу», пока наконец в 1613 году не поставили острог при слиянии рек Урал и Чаган и в том же году вошли в состав Московского государства. Со временем сложился особый казацкий уклад жизни. Все острее становились и противоречия внутри самого казачьего войска: атаманы богатели, а большинство еле сводило концы с концами. Отсюда, с берегов Яика, взяла свое начало Крестьянская война под руководством Емельяна Пугачева, половодьем разлившаяся по всей стране. Яицкий городок, впоследствии переименованный в Уральск, служил своего рода щитом, который преграждал путь кочевникам, и одновременно боевой пикой, нацеленной на Среднюю Азию. Городок играл еще одну немаловажную роль — торговых ворот, открывавшихся в сторону востока. Из казахских степей сюда устремлялись многочисленные караваны с шерстью, тысячные стада овец, табуны лошадей. А навстречу с запада шли обозы, груженные мануфактурой, изделиями из металла. После того как в 1894 году была построена железнодорожная ветка Уральск—Покровск (ныне Энгельс), здесь начала зарождаться и промышленность: мельницы, маслобойни, мыловарни, кирпичный, пивоваренный и водочный заводы, оживились ремесленники.
Поскольку торговля, предпринимательство, ремесло и работа по найму для казачества считались зазорными, по мере роста города его население пополнялось за счет так называемых «иногородних». В 1897 году из 36 тысяч 597 человек, проживающих в Уральске, 23 тысячи 560, то есть 64,3 процента, составляли «иногородние», и среди них было немало татар, калмыков, казахов.
Академик Паллас, который побывал в Уральске еще в 1773 году, писал: «На главной улице стоит хорошая каменная церковь и рынок, где продают всевозможные съестные припасы и мелочные товары. Далее находится множество лавок под домами, в коих иностранные купцы продают много хороших товаров. Если следовать по сей же улице дальше, начинается Татарская слобода, в которой живут татары, имеющие деревянную побеленную мечеть».
В конце XIX века приток татар в город усилился. В 1897 году, по данным переписи, татары занимали в Уральске второе место по численности после русских. Они жили тремя махалля (махалля — квартал, религиозная община у мусульман. — И. Н.) и соответственно имели три мечети.
Немало было переселенцев и из Заказанья. Жизнь там из года в год становилась труднее, и Уральск притягивал к себе все больше народу. В одной деревне говорили, что сын такого-то уехал в Уральск и неплохо там устроился. Может, туда попробовать съездить? В другую приходило письмо из Уральска: «И пошлите ко мне младшего брата, тут он хоть будет сыт и одет». А то приезжал на родину кто-нибудь из односельчан, в свое время подавшийся в Уральск и развернувший там торговлю, и увозил с собой мальчика, чтобы тот прислуживал ему по дому. Так один за другим тянулись переселенцы в Яицкий городок, пока наконец очередь не дошла и до Габдуллы.
2
Через восемнадцать дней Габдулла прибыл под вечер в Яицкий городок. Напившись с дороги чаю, он со своими спутниками направился к дому Галиасгара Усманова.
«По дороге встретилась нам молодка в зеленом чапане.
— Это твоя сестра. Поздоровайся!
Я поздоровался. Оказалось, что дом зятя всего лишь в десяти саженях. Мы вошли в ворота, поднялись по высокой лестнице и очутились на втором этаже».
Этими словами заканчивает Тукай свою автобиографию «Что я помню о себе».
Сестра Газиза-младшая, та самая «молодка в зеленом чапане», вошла в жизнь Габдуллы «вторым добрым ангелом» после Саджиды. Газиза обращалась с ним ласково, стирала, обшивала, укладывала спать и всячески нежила его. Что еще нужно ребенку, который терпел лишения, жил пусть в хороших, но чужих семьях и потому всегда чувствовал себя лишним? Габдулла оттаял душой. Хороши были с Габдуллой и Газиза-старшая, и ее муж Галиасгар-бай. Галиасгар был тверд в торговых делах, особенно в отношениях со степными казахами, но к родственникам своей жены мягок, предупредителен. Он любил отца Габдуллы, а уж про Газизу-старшую и говорить не приходится. К тому же супруги все еще тяжело переживали смерть своего единственного сына, и Габдулла поначалу служил для их горя отдушиной.
Из воспоминаний Газизы-младшей видно, что Галиасгар горевал по сыну еще и как глава торговой фирмы, оставшийся без наследника. Кому теперь завещать добро, нажитое по крупицам в тяжких трудах?
Сразу же по приезде Габдуллы он обновил одежду мальчика и определил его в медресе. В свободные от учебы часы Габдулла должен был выполнять кое-какую работу по дому. Но все остальное время мальчонка проводил со своими сверстниками. Добрые, беззаботные времена!
Только длились они недолго. Мало-помалу Галиасгар изменил к Габдулле свое отношение. Ему не нравилось, что тот занят одними играми да забавами. По его убеждению, человек должен зарабатывать свой хлеб сызмальства. Но это не главное. Больше всего Галиасгара возмущала неблагодарность мальчишки. Он сделал для него столько добра, а Габдулла будто и знать этого не желает. В самом деле, Галиасгар вызвал его сюда из далекой Казани, одел, обул и содержит как родного сына, учит, поит-кормит, положил спать на мягкую постель. Все это стоит денег. Казалось бы, круглый сирота должен денно и нощно благодарить его. Ан нет, чем яснее мальчик понимает, чего ждет зять, тем больше его сторонится.
С наступлением лета Галиасгар с женой отправились в родные края и привезли оттуда двух сирот, дальних родственников, брата и сестру. Мальчика звали Мухаметгали, девочку — Файруза. Как видно, кроме желания помочь родственникам, купец все больше был озабочен судьбой своего дома. А надежды, которые он поначалу возлагал на Габдуллу как своего преемника, с каждым днем таяли. К тому же Габдулла был по крови ему чужой.
Когда прибыло «пополнение», всех трех сирот разместили на первом этаже, вместе с прислугой Гимади и Гайни. Комната у них небольшая, да к тому же у самих был грудной ребенок, и супруги, конечно, не обрадовались, когда вместе с ними поселили еще троих детей. Гимади был, правда, человеком тихим и добродушным и своего огорчения вслух не высказывал, зато от острой на язык, бойкой Гайни, у которой, по словам Газизы-младшей, «гнев и милость ходили рядышком», троице доставалось хоть куда.
С лета отношения зятя с Габдуллой окончательно испортились. Габдулла видел, что Галиасгар открыто предпочитает ему Мухаметгали. Зять же, в свою очередь, махнул на Габдуллу рукой, чувствуя, что он совсем от него отдалился, замкнувшись в своей гордыне. Газиза-старшая как-то пожаловалась на Габдуллу Газизе-младшей: «Кушать наверх не поднимается, дичится, к зятю не подойдет. То ли дело Мухаметгали — души в нем не чает, только и твердит «абзый да абзый», встречает у ворот, Габдулла не такой».
Очевидно, и сам Галиасгар стал вслух выражать недовольство. Однажды с досады молвил даже: «Да будет проклят твой отец». Для сироты, который немало натерпелся за свой короткий век и был чрезвычайно чуток к малейшему оскорблению, этого оказалось достаточно: между ними легла неодолимая преграда. В 1900 году, когда Галиасгар неожиданно умер, Габдулла принес весть о его смерти уже замужней Газизе-младшей. Сестра заплакала, и тогда Габдулла будто бы сказал: «Чего ты плачешь! Он ведь моего покойного отца обругал, говорил: «Будь проклят твой отец». Нелады с зятем оказали немалое влияние на судьбу Габдуллы. Подружись он с первых дней с Галиасгаром, как знать, быть может, он принял бы и образ его жизни, увлекся его занятиями и в конце концов встал на иной путь.
Переселившись на первый этаж, Габдулла не просто сменил обстановку, он как бы спустился на ступеньку по социальной лестнице. И прежде его жизнь текла среди людей труда, здесь, несмотря на то, что он очутился в семье состоятельного купца, она пошла по той же дороге. Лихая тетушка-судьба, будто опомнившись, поспешила исправить свою ошибку. «Твое место, — словно предрекала она, — не наверху, а среди тех, кто живет там, внизу».
3
В Уральске было три медресе: «Ракыйбия», «Гайния» и «Мутыйгия», где хозяином был хазрет Мутыйгулла Тухватулин. Во всех трех преподавание велось по кадиму, то есть по-старому. И все же «Мутыйгия» отличалось от других. Известный татарский артист Габдулла Кариев, который в то время учился в медресе «Гайния», в своих воспоминаниях пишет: «Поскольку дамелля (наставник. — И. Н.) Мутыйгулла был человеком образованным — он учился в Египте, — у них (то есть в «Мутыйгия». — И. Н.) не было тех мелких притеснений, которые делали невыносимым учение в других медресе».
Мутыйгулла-хазрет, сын муллы из деревни Малые Кайбицы Свияжского уезда Казанской губернии, рано осиротев, воспитывался в семье тетки. Новый мулла вскоре приметил способность махдума и его прилежание в учебе. Когда Мутыйгулла кончил школу, жители деревни, взяв на себя расходы, отправили мальчика в Кышкар, в то самое медресе, где в те годы учился и отец Габдуллы. Оба шакирда, без сомнения, знали друг друга, общались между собой.
Мутыйгулла окончил Кышкарское медресе в 1867 году, и в том же году для совершенствования в науках его послали в Каир, в старейший мусульманский университет «Аль-Азхар», где он провел десять лет. Возвратившись на родину, он приехал в Уральск, чтобы повидаться с сестрой, и по существовавшему в те времена обычаю первым делом отправился в мечеть — познакомиться с уважаемыми людьми города. Те заинтересовались человеком, который учился в самом Каире, а когда в один прекрасный день гость прочитал в мечети Коран на египетский манер, старейшины были покорены. Весть о приезде большого ученого дошла и до ушей Гайни-бая, одного из самых влиятельных людей Уральска. С согласия Мутыйгуллы тот определил его вторым муллой в одну из мечетей города, а затем выдал за него шестнадцатилетнюю девушку, находившуюся у него в услужении, и подарил небольшой домик, что находился неподалеку от мечети. Вскоре Мутыйгулла становится главным муллой мечети. Расширяется медресе, растет и семья — один за другим рождаются дети. Прошло немного лет, и Мутыйгулла-хазрет уже ахун — главный мулла округи.
Мутыйгулла-хазрет был человеком сравнительно прогрессивных взглядов. Собрал довольно богатую библиотеку. Выписывал газеты: «Траблис» («Триполи») на арабском языке и издававшиеся на татарском языке — одна в Крыму, другая в Тифлисе — «Терджиман» («Толкователь») и «Шарки рус» («Русский восток»). После переезда в двухэтажный дом, завещанный Мутыйгулле тем же Гайни-баем, в семье появился рояль, девочки стали учиться музыке, в доме устраивались концерты-экспромты. Не случайно сын Мутыйгуллы — Камиль Мутыгый — впоследствии стал популярным певцом и народная артистка Татарской АССР Галия Мутыйгулловна Кайбицкая, исполнявшая в годы возникновения татарской оперы почти все заглавные партии, также вышла из этой семьи. Но все это случилось позднее. А в тот год, когда Габдулла определился в медресе «Мутыйгия», хазрет с двумя или тремя детьми еще жил в маленьком деревянном домике у мечети.
Габдулла и в Уральске взялся за учебу с присущей ему страстностью. «Он стремился к ученью всей душой. Иногда, чтобы не опоздать на уроки, даже уходил из дома без завтрака», — вспоминает Газиза-младшая. Да и как могло быть иначе! Уральск не деревня, а город, хотя и не такой большой, как Казань, и медресе здесь не то, что в Кырлае, похожее на курятник, а большое двухэтажное здание. Одних учителей около десятка, а до мударриса (старшего преподавателя в медресе. — И. Н.) и не добраться. Говорят, сам он учит только тех шакирдов, у которых уже усы пробились. Габдулла же всего-навсего деревенский мальчишка, того и гляди засмеют — дай только промашку.
Но Габдулла не тратил попусту время в Кырлае. Он научился свободно читать по-татарски, знал наизусть «Иман шарт», прошел «Хэфтияк». Убедившись в этом, Фатхетдин, его первый учитель в Уральске, посадил Габдуллу за Коран, а для чтения дал ему на арабском языке «Сорок хадисов» (х а д и с — предание о речах и поступках основателя ислама. —И. Н.).
Следующей зимой вместе с Габдуллой к тому же учителю посылают и Мухаметгали. Но родственник Галиасгара, на которого тот возлагал большие надежды, оказался в учебе не силен: и способностей маловато, и лени хоть отбавляй. Вероятно, Фатхетдин, который к тому же доводился Галиасгару зятем, не раз жаловался ему на Мухаметгали и расхваливал Габдуллу.
Галиасгар, с уважением относившийся к знаниям, призадумался. Мухаметгали много потерял в его глазах, а Габдулла, напротив, возвысился. «Наслышавшись об успехах Габдуллы, — пишет Газиза-младшая, — и решив, что из «этих» (то есть из Мухаметгали и Файрузы. — И. Н.) толку не выйдет, супруги стали больше загружать Мухаметгали и Файрузу работой». Что до Габдуллы, то зять, убедившись, что «у него учеба идет», не слишком обременяя работой по дому, решил учить его дальше. Ему по-прежнему не нравилась «чрезмерная гордыня» мальчишки. Но, учитывая его способности и считаясь с мнением жены, Галиасгар перестал выражать свою неприязнь к нему и старался ничем не отличать ни в еде, ни в одежде от Мухаметгали.
Так бы оно и шло, если бы Газизу-младшую через год не выдали замуж за Габдрахмана Забирова, работавшего у бая приказчиком. Церемония сватовства и свадьбы, шумные «действа», связанные с ними, показались мальчику завлекательными. Как единственный брат невесты, он, разумеется, был в самой гуще событий. Впечатления от свадьбы своей сестры вылились позднее в стихотворении «Ишек-бавы».
Габдрахман привел молодую жену в дом своих родителей, в многодетную семью. Не могло быть и речи о том, чтобы взять с Газизой и Габдуллу. А после того как молодые отделились и начали жить самостоятельно, Габдрахман об этом и не заикался. Легкоранимый Габдулла и сестру свою навещал лишь в отсутствие мужа.
4
В это время произошло событие, сыгравшее решающую роль в судьбе Габдуллы: он начал изучать русский язык.
В Уральске для шакирдов медресе существовал так называемый «русский класс», а по сути, школа, содержавшаяся за счет правительственного бюджета. Обучение в ней было трехлетнее, и «класс» делился поэтому на три отделения: младшее, среднее и старшее. Почетным попечителем «русского класса» был Муртаза Губайдуллин, а единственным учителем — Ахметша Сиразетдинов, окончивший в 1878 году Оренбургскую учительскую школу.
Галиасгар, как человек трезвых взглядов на жизнь, то ли по своей инициативе, то ли по чьему-то совету пожелал, чтобы Габдулла посещал и «русский класс», Из воспоминаний однокашника поэта Яруллы Моради следует, что это произошло в 1896 году.
Габдулла будто бы так рассказывал Моради про свой первый день в «русском классе»: «Когда я поступил в школу, мне было всего-навсего восемь лет (в действительности десять. — И. Н.). Я не только не знал своей фамилии, но и не имел представления о том, что означает это слово. В первый день учитель спросил меня: «Как твоя фамилия?» Я ничего не смог ответить. Тогда он сказал: «В таком случае, как зовут твоего отца?» — «И этого не знаю», — ответил я. Учитель прогнал меня: «Иди узнай имя твоего отца!» Я пошел домой, узнал у сестер, что моего отца звали Тарифом, и сказал об этом учителю. Тот записал меня в журнал под фамилией Гарифов».
Трудно себе представить, что мальчик, которому пошел одиннадцатый год, не знал имени своего отца. Неужели дед никогда при нем не рассказывал о зяте и Габдулла ни разу не слышал, как Сагди не без гордости говорил односельчанам: это, мол, сын Гариф-хазрета из аула Кушлауч! Да и Фатхеррахман-хазрет, который каждую неделю давал Габдулле пять копеек как сыну своего покойного коллеги, вряд ли не поминал имени Тарифа.
Габдулла, конечно же, знал, кто его отец, но по наивности не разобрался, о каком отце ему следует говорить! О Гарифе-мулле или о Мухамметвали, а может быть, о Сагди? Он никого не хотел обидеть.
Можно себе представить, каким взрывом смеха встретил класс ответы Габдуллы.
Много лет спустя Тукай писал:
Иль в сиротской доле мало испытать пришлось невзгод? Кто растил меня с любовью? Только, ты, родной народ.Русская школа поначалу ошеломила Габдуллу. Дом большой, двухэтажный, каменный, класс просторный, светлый. Перед рядами парт — стол учителя, на стене — черная доска, географическая карта.
Это тебе не медресе, где сидишь на полу, поджав под себя ноги, положив книгу на низенький, со скамейку, столик и учишь уроки хором. А учитель?! Рядом с Фатхетдином-хальфой, с его козлиной бородкой, тоненькими, как ниточка, усами, который ходит в тюбетейке, в казакине, в ичигах, — этот просто генерал. Форменная тужурка с блестящими медными пуговицами, на ногах штиблеты, толстые усы срослись с бородой. И уроки он ведет совсем по-другому. У него не «алиф» и не «ба». Он говорит: «а», «бэ». И, произнося буквы, пишет их на черной доске, показывает в книжке с картинками. Заставляет переписать в тетрадь.
Одна беда: Габдулла ни слова не понимает по-русски, а старшие мальчики, проучившись год-другой, свободно беседуют с учителем. Во всяком случае, так казалось Габдулле.
Через несколько месяцев Габдулла выучил много русских слов, стал читать русские книги, но понимает еще не все. Он умеет и переписывать из книги в тетрадь, и писать под диктовку учителя, хорошо усвоил четыре действия арифметики. Но больше всего он потрясен совершенно невероятным фактом: земля, оказывается, не висит на рогах быка, как сказано в старых книгах, а летает вокруг солнца и по форме напоминает арбуз.
На третьем году обучения Габдулла стал первым учеником и в «русском классе». «Однажды учитель, — пишет Я. Моради, — объявляя шакирдам отметки за месяц, сказал: «Габдулла Тарифов — кругом пять!» Габдулла стал любимым учеником Ахметши. Когда Тукай начал печататься в газетах, Ахметша, глубокий старик, с гордостью рассказывал, что Габдулла учился у него.
Вскоре Габдулла уже частенько скучал на занятиях. Но что поделать — запрягся в одну телегу с ломовыми лошадьми, приходится шагать с ними в ногу, хоть по природе ты явный скакун. Не в силах уделять Габдулле и двум-трем способным ученикам много внимания на уроках, Ахметша занимался с ними отдельно. Уже на первом году Габдулла стал приносить домой книжки, которые давал ему учитель. То были легкодоступные сборники стихов, хрестоматии и учебники для начальных школ. В них Габдулла впервые увидел стихи многих русских поэтов и впервые прочел их вслух. Пушкин поразил Тукая и навсегда занял дорогое место в его сердце. Сыграло тут свою роль и еще одно обстоятельство: в 1833 году поэт посетил Яицкий городок, собирая материалы к «Истории Пугачевского бунта». Об этом рассказал шакирдам учитель Ахметша.
Как и по всей стране, в Уральске широко отмечалось столетие со дня рождения великого поэта. Общество вспомоществования начальному образованию составило программу торжеств и в марте 1899 года опубликовало ее в газете «Уралец». Программа предусматривала открытие Пушкинского народного дома, создание там бесплатной библиотеки и читального зала, проведение литературно-музыкальных вечеров, установление бюста поэта. 21 апреля Обществом друзей леса в городе был заложен сад, которому присвоили имя Пушкина. В закладке сада приняло участие более полутора тысяч человек.
Подготовка к торжествам не прошла мимо Габдуллы, который уже третий год учился в «русском классе». Он своими глазами видел открытие Пушкинского дома, сам участвовал в закладке сада. Учитель Ахметша водил на эти торжества весь класс.
Г. Кариев, имея в виду 1902—1903 годы, пишет: «Из русской литературы Габдулла с особой любовью читал произведения Лермонтова и Пушкина. Каждый раз посещая их медресе, я обращал внимание на две толстые русские книги. То были сборники произведений Лермонтова и Пушкина, но я узнал об этом гораздо позднее».
В своей оде «Пушкину», написанной в 1906 году, Тукай говорит:
Я мудрость книг твоих постиг, познал источник сил я, Вступил я в щедрый твой цветник, твоих плодов вкусил я.Учась в «русском классе», Габдулла продолжает ходить и в медресе. С прежней настойчивостью он изучает Коран, богословские книги по шариату. На первых порах школа и медресе, не мешая друг дружке, мирно уживались в душе Габдуллы. Ему сказали: чтобы прожить на этом свете, нужно научиться читать, писать, разговаривать по-русски, это дает школа. А религиозные знания нужны для ахирета, то есть для мира загробного. К тому же Габдулле предстоит продолжить дело деда и отца, стать ученым богословом, мудрецом и, может быть, превзойти самого Мутыйгуллу-хазрета. Но тут в жизни Габдуллы снова произошел крутой поворот. 30 июля 1900 года умирает от болезни желудка Галиасгар Усманов. Трудно теперь сказать, много ли было у него наследников, помимо двух дочерей, или же состояние его было обременено долгами: известно, торговцы часто вели свои дела в кредит, так или иначе Газиза-старшая лишилась былого богатства, а вместе с ним и возможности содержать большой дом с прислугой. Добро бы Габдулла был один, но ведь приемышей — трое.
Габдулла в последнее время и без того томился в доме зятя. То ли дело в медресе: ни перед кем не надо заискивать, покорно склонять голову, живи как хочется. Да и товарищи рядом, с ними веселей. Тут тебе и бой подушками, и жмурки, и сказки всю ночь напролет. Еще при жизни зятя он частенько оставался ночевать в медресе и тогда еще заводил разговоры о переезде. Но Газиза-старшая удерживала его от такого шага. Теперь все решилось само собой. Габдулла забрал книги и подушку с. матрацем и переехал в медресе.
В то время дети татар чаще всего учились и жили в самом медресе. Дело в том, что и мулла и родители желали, чтобы, помимо занятий, дети получали бы еще и чисто мусульманское воспитание. Шариат, к примеру, требует от верующих пять раз в день творить намаз и аккуратно совершать тэхарэт, то есть омовение перед намазом. А разве дома ребенок в состоянии точно соблюдать все требования шариата?!
В медресе обычно тридцать-сорок шакирдов жили и учились в одной комнате. Здесь не было даже нар, спали прямо на полу. То и дело раздавался окрик учителя или назначенного старшим шакирда: «Лежи, как алиф!», нередко сопровождавшийся ударом прута. Выражение «лежать, как алиф» стало поговоркой, вошло в литературу: это значило лежать, вытянувшись, как первая буква арабского алфавита — алиф, похожая на палку. Стоило кому-нибудь поджать ноги, и остальным не хватало на полу места. От потных тел, промокших валенок и шерстяных чулок стояла невыносимая духотища, а зимой еще в сырость — шакирды тут же, в этой комнате, и умывались. Клопы и вши становились их непременными спутниками.
В медресе «Мутыйгия» было несколько попросторней: здесь спали и занимались в разных помещениях. Но и тут царила теснота и духота.
Сперва Габдулла спал где придется, а то и в запечке. Лишь на второй год ему выделили постоянное место. Со временем его переселили в «худжру». Собственно, «худжра» означает «отдельная комната», «келья». Но в медресе «Мутыйгия» это был лишь угол, отделенный занавеской от общих, на всю комнату нар.
Питались кто как мог: одни варили похлебку на общей кухне, другие жили на хлебе и чае. Некоторые готовили в складчину, их называли чайдашами, то есть сочаевниками. Иногда сочаевники решали устроить себе праздник и сварить мясной суп. Каждый опускал в котел свой кусок мяса, предварительно привязав его за нитку.
Учились с утра и до вечера. Пять раз в день вставали на молитву. Выходили из медресе только во время мусульманского поста — ураза на вечернее разговенье — ифтар или к какому-нибудь баю на похороны — помочь вынести покойника, чтобы заработать несколько копеек милостыни.
В стихотворении «Что рассказывают шакирды, покинувшие медресе», написанном в 1907 году, Тукай рисует такую картину:
Ищем наслажденья В запахе гнилом. В привкусе гниенья Сладость познаем. Все мы зачахли И пожелтели, Мы — как мокрицы В подвале сыром. Ни воды, ни хлеба. Свечи не горят. Да простит нас небо, — Всюду грязь и смрад! Только нам снится, Будто бы в праздник Мы омовенья Свершаем обряд.В потертой феске, залатанном джиляне и старых ичигах, бледный, словно отросток картофеля в погребе, сутулый, с мутными глазами — вот типичный портрет шакирда, десять-пятнадцать лет проучившегося в медресе. Смерть в тридцать, а то и в двадцать лет была обычна, лишь немногие доживали до старости.
Но калечащая душу и тело молодых людей атмосфера медресе поначалу показалась не такой уж страшной. Габдулла стремился к свободе, к обществу сверстников. Учеба ему давалась легко. Заодно он избавился и от своего прежнего хальфы — безграмотного и сварливого выпивохи Фатхетдина и попал к мягкому в обращении и начитанному Сиразетдину. Я. Моради пишет: «Однажды трое из наших — Габдулла, Ахсан и Муртаза начали заниматься морфологией с Сиразетдином. Это обстоятельство завоевало Габдулле некоторую известность среди шакирдов». Почему только Габдулле? Да потому, что был он самым младшим. На морфологию и синтаксис уходило два года. Потом тафсир — комментарии к Корану, хадис — слова и поступки, приписываемые самому пророку Мухаммеду, кялам — труды по богословию. На это еще три-четыре года. Габдулла за десять лет усвоил то, что другие проходят за пятнадцать, и не как-нибудь, а основательно, глубоко.
После того как Габдулла перебрался в медресе, шакирды узнали, что он ко всему прочему еще и большой мастер петь. Правда, голос его не отличался особой красотой и силой. Но пел он как-то по-особенному, протяжно, до тонкостей передавая мельчайшие переливы мелодии, вкладывая в пенье всего себя, отчего оно действовало на слушателей порой сильнее, чем исполнение профессиональных певцов. «В медресе по четвергам, — вспоминает Тукай, — хальфы покупали в складчину фунт семечек и полфунта орехов и устраивали вечеринку. Не забывали они и про меня. Я сидел за самоваром, исполняя по их заказу песни, за это мне перепадала горсть семечек. Когда семечки кончались, запевал снова».
Еще в Кырлае Габдулла убедился, как любят и уважают в народе певцов. В Уральске певческое искусство еще больше возвысилось в его глазах. Чтобы добиться успеха на этом поприще, мало одного умения исполнить мелодию, надо еще знать много песен. И Габдулла старается в этом преуспеть. «Нет песни, которую я бы не знал», — сказал он как-то сестре.
Память у Габдуллы была превосходная: раз заучил — всю жизнь помнит. Но ему так хотелось знать все лесни на свете, что, не доверяя своей исключительной памяти, он каждую услышанную или вычитанную в книге песню записывает в особую тетрадь.
Со временем это чисто прикладное собирательство стало страстью, превратившись в серьезное занятие фольклором. Еще в Кушлауче книга К. Насыри заставила его впервые взглянуть на песни с непривычной для деревенского человека стороны. В Уральске он познакомился с другими сборниками и хрестоматиями, включающими песни, пословицы, поговорки, загадки и сказки, и пришел к убеждению, что собирание, систематизация и издание произведений устного народного творчества — дело серьезное и нужное. «По весне, с началом таяния снегов, — пишет его однокашник, — большинство шакирдов отправлялось по деревням на работу. Тукай просил записывать песни, баиты, сказки. До сих пор помню, как я обрадовал Тукая баитом о «Гайше-утопленнице» и множеством песен, которые записал в своей деревне».
Современники свидетельствуют, что Тукай в юности знал уйму сказок и мастерски их рассказывал. Его с охотой слушали, особенно шакирды младшего возраста. Габдулла был безжалостен к тем, кого он не любил, в особенности к фанатичным зубрилам и тупицам, но к младшим внимателен, отзывчив, приветлив. Он не заигрывал с ними: когда надо — ругал, язвил, был мастером на прозвища. Но мальчишки — народ чуткий. Когда в один прекрасный день Габдулла-абый (абый — старший брат, обращение к старшему по возрасту, но не старому. — И. Н.) рассказал им еще и сказку, то мальчишек от него нельзя было уже оторвать. Как только наступал вечер, они окружали его и начинали умолять: «Ну, расскажи, Габдулла-абый!» Габдулла поначалу делает вид, что колеблется: вы, дескать, уснете. «Нет, нет, не уснем, только рассказывай». Ладно, но слово дороже золота — не спать! Он удобно усаживается на полу между общими нарами, обхватывает колени руками. Мальчики располагаются вокруг. «Когда Тукай рассказывал сказки, — писал один из его слушателей, — он не просто излагал события, а изображал всех в лицах, шла ли речь о людях или дивах, о животных или о птицах. В его сказках были песни, стихи и байты».
Сказки, байты и песни вызывали в его душе воспоминания о редких радостях детства, воскрешали перед глазами родные места.
Хотя Заказанье и Уральск далеки друг от друга, между ними существовали тесные связи. Почти каждый год в Уральск наезжали земляки Габдуллы. А Бадри-абзый, оставивший в сердце Габдуллы светлый след, через год или два перебрался с семьей в Уральск навсегда.
Не прекращался и обмен письмами с сестрой Саджидой, с Сагди. Так, 30 июня 1903 года он писал Саджиде: «Ваши гостинец и письмо, родная моя, я получил прошедшей зимой. Их положили у моего изголовья, когда я спал. Встал, смотрю: лежат коробка монпансье и пастила. Пастилой я угостил и сестер... Этой зимой прислала малиновую пастилу и мама из Кырлая».
Вкус малиновой пастилы возвращал Габдуллу к лесам Кырлая, полянам и ягодникам, к шуму деревьев, запаху цветов на лугу, к приветливым, ласковым к нему людям.
6
Лет с четырнадцати-пятнадцати Габдулла начал жить на свой кошт. Конечно, обе Газизы не бросили его на произвол судьбы и время от времени оказывали кое-какую помощь. Но что могла дать без согласия мужа Газиза-младшая? Полно своих забот и у старшей. Габдулла ходил к ним редко и не любил ничего просить, а потому они зачастую толком и не знали, как он живет и в чем нуждается.
У многих шакирдов дела шли и того хуже. Они прислуживали богатым однокашникам: ставили им самовар, готовили еду, выполняли разные поручения или же ходили на похороны. Габдулла на похоронах был всего раз и поклялся никогда больше не ходить, а прислуживать богатым шакирдам тем более не считал для себя возможным. Не зря за ним закрепилось прозвище «Мутакаббир» — Гордец.
Иные шакирды победней с наступлением лета отправлялись учить детей в казахские степи, иные держали путь в сторону Макарьевской ярмарки, чтобы наняться в трактир половым или найти какую-нибудь другую работу. Габдулла ничего подобного не предпринимал.
Тукай вообще не любил менять образ жизни, не был склонен к переездам и путешествиям и целое лето проводил в одиночестве или же в обществе какого-нибудь слепого суфия (последователя мистико-аскетического направления в исламе, нищенствующего мусульманского монаха. — Пер.), неотлучно живущего при медресе или случайно туда забредшего.
«В годы ученья в медресе Габдулла-эфенди жил очень бедно, — вспоминал Г. Кариев, — летом, когда денег не было даже на еду, выходил с удочками к реке Чаган и питался тем, что наловит. Весь его доход состоял из одного-двух рублей, которые он зарабатывал репетиторством, а летом перепиской метрических книг для хазрета. Впрочем, он еще учил русскому языку старших шакирдов. В иные годы он, кажется, получал материю на одежду, а иногда приходили небольшие суммы денег из Гурьева не то от муллы, который приходился ему дальним родственником, не то от какого-то богатого торговца».
В 1903 году Тукай писал в письме: «В этом году на учебу совсем не было денег, но аллах не оставил в беде: богатые родственники из Гурьева прислали пятнадцать рублей и наш зять, ахун, дал пять фунтов чаю».
Всех этих доходов едва хватало на то, чтобы не голодать и не ходить в лохмотьях. К деньгам, к своему бытовому устройству Тукай относился с безразличием. Деньги всегда доставались ему с огромным трудом, но вылетали из его кармана в мгновение ока. Так было в медресе. Так было вэ все годы его жизни.
«Когда я вернулся из Египта (в 1902 году. — И. Н.), Габдулла стал совсем взрослым парнем и выглядел так до самой своей смерти», — пишет Камиль Мутыгый. В 1902 году Габдулле стукнуло шестнадцать. И те, кто знал его в казанский период жизни, в один голос утверждают, что он выглядел шестнадцатилетним юношей до конца своих дней.
К этому времени складывается характер Габдуллы. В полную силу он развернется лишь позднее, в Казани, но главные его черты определились уже в Уральске. Если судить по воспоминаниям, характер его внешне проявляется весьма противоречиво. Я. Моради пишет: «Пока учитель не входил в класс, татарские мальчишки успевали так разыграться, что порой устраивали потасовку чуть ли не на всю школу... Только один, небольшого росточка, обративший на себя всеобщее внимание с первых дней учебы в русском классе, ни в чем не участвовал, а сидел смирно, глядя прямо перед собой. То был Габдулла».
Между тем другие источники, напротив, рисуют Габдуллу разговорчивым, острым на язык, жизнерадостным.
Очевидно, дело здесь в том, что воспоминания написаны в разное время и разными людьми. Подчас мемуаристы старались и приукрасить юность поэта задним числом.
В действительности Габдулла бывал и весел, и подавлен, и молчалив, и разговорчив, и сосредоточен, и шутлив, и добр, и зол, и пуглив, и амел, и наивен, как младенец, и мудр, как много повидавший старец, но никогда равнодушен, самодоволен и напыщен.
В мае, когда реки Урал и Чаган выходили из берегов, шакирды иногда выбирались за город. Габдулла не отставал от других ни в играх, ни в дружеских потасовках. Лишь когда состязались в беге, в борьбе, в прыжках через веревку, он отходил в сторонку: не хотел быть последним и, как в Кырлае, отделывался шутками.
Увлекаясь, Габдулла порой входил в такой раж, что не помнил себя. В старых медресе было принято устраивать словесные состязания. Как-то раз шакирды из соседнего медресе явились на подобное состязание в «Мутыйгию». Габдулла, повзрослев, недолюбливал эти схоластические упражнения. Некоторое время он сидел молча, но вдруг не выдержал, бросился в полемику — престиж своего медресе оказался ему слишком дорог, и так при этом распалился, что изо всех сил стукнул кулаком по столу, и абажур от лампы упал на пол.
Острословие Габдуллы вызывало ненависть безграмотных, тупых и фанатичных шакирдов. Спрятавшись за занавесками, они всячески поносили его, распространяли сплетни. Но в глаза перечить ему не смели, страшась его языка, напротив, всячески стремились выказать к нему дружеское расположение.
До приезда в Уральск деревенский мулла Фатхеррахман казался Габдулле светочем знаний, позднее его затмил мударрис Мутыйгулла. За годы ученья понемногу померк и этот идеал: сыграли свою роль и русский класс — иные методы обучения, простые понятные слова учителя Ахметши, русские книги, и новая татарская литература, сложившаяся в последней четверти XIX века под воздействием просветительства. Помнились ему и слова отца: «Буду жив, не допущу, чтоб мои дети стали муллами». Долго не давали они о себе знать, подобно зерну, брошенному с осени в почву и всю зиму пролежавшему без движения, но под лучами света набухли и дали ростки.
Есть воспитание примером. Но есть и воспитание по контрасту. Для тех самых шакирдов, которых Габдулла терпеть не мог, должность муллы была самой заветной мечтой: жениться на дочери богача, а то и взять себе нескольких жен, обзавестись домом, ходить к прихожанам на беляши, отъесть солидный живот. Габдулла на них ни в чем не желал походить, и карьера муллы потеряла для него свою привлекательность.
К 1902 году Габдулла заметно переменился. Однажды он прочитал нараспев из книги «Мухаммедия»: «Об этом не узнал рахман (бог милостивый. — И.Н.), вселивший веру в них». И неожиданно спросил у Газизы-младшей: «Видишь, тут говорится, будто аллах не знал о том, что Адам и Ева отведали запретного плода. Как же это понять: всевидящий, вездесущий и вдруг оказался не в курсе?»
Подобными богохульными вопросами Габдулла не раз ставил в тупик своих сверстников, приводил в ужас спесивых шакирдов.
Это не дает, конечно, оснований считать, что уже в шестнадцать лет Тукай сделал шаг в сторону атеизма. Просто старательный и умный шакирд вникает в Коран и хадисы, не ограничиваясь заучиванием, старается понять их смысл и замечает, что многие прописи и правила, внушаемые татарину с рожденья, оказывается, ничего общего с исламом не имеют. Мало того, цепкий ум Габдуллы уловил в Коране и хадисах места, где концы не сходятся с концами, и не преминул заметить, что многие утверждения и легенды, приведенные там, противоречат друг другу.
Смелые для своего времени высказывания Габдуллы означали одно: он стал критически относиться к тому, что преподносили в медресе, к отжившим свой век обычаям и обрядам.
По обычаю, мусульманин не должен ходить с непокрытой головой, а он вдруг снимает свой головной убор. И в ответ на упреки сестер, держа в руках разошедшийся по шву каляпуш, однажды замечает: «Сколько ни теребил, надеясь, авось оттуда выскочит вера, а ее все нет — только нитки да тряпки».
Мусульманин должен брить голову, а он отпускает длинные волосы. Мусульманину запрещено курить, употреблять спиртное, а он пьет пиво, дымит папиросой. Мусульманин должен пять раз совершать намаз, а он частенько пропускает молитву.
Один из современников рассказывает: «Как-то во время уразы в нижнем этаже нашего корпуса, где младших учили уже по-новому, мы под вечер варили похлебку. Тукай сидел с папиросой в зубах, держа в руке спички. Спрашивает: «А что, шакирды, вечерний азан (призыв к молитве, совершаемый с минарета муэдзином пять раз в день. — И. Н.) уже был? Если был, значит, можно закурить». Но я знал, что он в тот день поста не соблюдал: дурачился. Я вообще не видел, чтобы он постился. Да и к намазу относился небрежно. Как-то утром он мне говорит: «Чтобы казий не придрался, давай, Гали, почитаем быстренько фарыз, а суннет — к черту».
Образованный мулла, мударрис, богослов, казался ему кладезем учености и благочестия. Теперь этот идеал потускнел. Кто заменит его? Может быть, просветитель Каюм Насыри?
Как известно, просветительство представляет собой общественно-политическое движение, направленное против феодализма и его надстройки. В. И. Ленин указал на три черты, характерные для западноевропейских и для русских просветителей: первое — горячая вражда «...к крепостному праву и всем его порождениям в экономической, социальной и юридической области»; второе — «...горячая защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России»; третье — «...отстаивание интересов народных масс, главным образом крестьян (которые еще не были вполне освобождены и только освобождались в эпоху просветителей), искренняя вера в то, что отмена крепостного права и его остатков принесет с собой общее благосостояние и искреннее желание содействовать этому»3.
Наиболее последовательно идеи просветительства были воплощены в деятельности русских революционных демократов В. Г. Белинского, А. И. Герцена, Н. П. Огарева, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева. Вопросы общественного развития они решали с революционных позиций и видели в народных массах силу, способную совершить революцию. Последовательные и решительные защитники интересов народных масс, революционные демократы боролись за самое широкое распространение просвещения в народе, передовой демократической науки, культуры, искусства. С позиций просветительства выступали и некоторые либеральные общественные деятели и ученые. Деятельность просветителей в России оказала большое и плодотворное влияние на формирование просветительства у народов России и славянских стран, что нашло яркое выражение в творчестве Т. Шевченко, И. Чавчавадзе, А. Церетели, К. Хетагурова, Абая Кунанбаева, М. Налбандяна, X. Ботева, Я. Домбровского и многих других.
Хотя с просветительскими идеями у татар мы встречаемся и в первой половине XIX века, однако как общественное движение и идеология оно сформировалось лишь во второй половине прошлого столетия, точнее говоря, после отмены крепостного права. Запоздалое появление просветительского движения равно как все предшествовавшее историческое развитие татарского народа обусловили и некоторое своеобразие татарского просветительства. В воззрениях татарских просветителей доминировала отмеченная В. И. Лениным вторая черта. При этом они ориентировались не столько на Европу, сколько на Россию, на русскую прогрессивную общественную мысль и передовую русскую культуру.
Новая татарская литература, исходившая из просветительских идей, носила дидактический, утилитарно-рационалистический характер, ибо писатели-просветители главной задачей литературы считали нравственное воспитание людей. Это был уже реализм, но так называемый реализм просветительский.
Вместо египетского фараона и Иосифа Прекрасного в роли орудия божественного провидения, Сейфульмулюка, который ищет свою возлюбленную Бадигыльджамал, усыпленную силой волшебства, Ибн-Сины, превращающего с помощью алхимии мякину в халву, Тахира и Зухры, сгоревших в огне любви, недоступной простым смертным, в литературу пришли обыкновенные торговцы, муллы, шакирды, живущие на берегах Волги или на отрогах Уральских гор, пришли самая обыкновенная татарская девушка, свахи и иные вполне земные персонажи.
В 1886 году у татар появляется первая книга, которую можно причислить к современной прозе: Мусы Акъегетзаде «Хисаметдин мулла». Через год — первый роман Захира Бигиева «Тысячи и красавица Хадича» — явное подражание переведенному на русский язык французскому роману. Еще через три года выходит в свет второй роман того же автора — «Грехи великие». А затем один за другим появляются рассказы и повести Ф. Карими, Р. Фахретдинова, Ш. Мухаммедова.
В 1887 году выходит из печати первая, хотя и примитивная, пьеса — «Бедная девушка» Г. Ильяси. Она вызывает к жизни еще одно драматическое произведение: «Против бедной девушки», принадлежащее перу Ф. Халиди. В 1899 году опубликована первая пьеса основоположника реалистической татарской драматургии Галиасгара Камала — «Несчастный юноша». Не проходит и года, как в руки читателя попадает его вторая пьеса — «Трое злосчастных».
«В сундучке Габдуллы-эфенди, — пишет Я. Моради, — стали появляться книги рассказов. Он где-то раскопал даже пьесу «Против бедной девушки», читал ее вслух, доставляя слушателям большое удовольствие. Из персонажей драмы ему особенно понравилась сваха Биби. Габдулла-эфенди часто изображал, как старушка поступила бы в том или ином случае. Когда летом я был в родном Гурьеве, Габдулла писал мне, чтобы подбодрить во время болезни: «Бабушка Биби говорит: в молодости, доченька, это бывает, как заболела, так и выздоровела».
В одной из статей, написанных позднее, Тукай отмечал: «Много лет назад, когда я был почти ребенком, пьесы Галиасгара-эфенди посеяли в моем сердце любовь к нему, сохранившуюся до сей поры».
Знакомство Габдуллы в Уральске с новой литературой не ограничивается названными выше произведениями. Издатели новых авторов стремились с лихвой окупить свои расходы. Используя торговые каналы, они засылают книги всюду, где живет татарское население, продают в лавках рядом с сахаром, чаем, солью, спичками и мануфактурой. Иные торговцы, взвалив книги на салазки, бродят зимой по деревням. Уральск не был исключением. Когда Г. Хикматуллин, учившийся в медресе вместе с Габдуллой, не выдержав материальных лишений, бросил ученье, Габдулла посоветовал ему заняться книжной торговлей. Надо думать, в сундучке Габдуллы были все перечисленные выше повести и рассказы. Если не хватало денег, чтобы купить книгу, Габдулла брал ее на время у знакомых, пользовался довольно богатой библиотекой семьи Тухватуллиных.
Какие поэты оказали на него влияние в ранней юности? Известно, что он был знаком с поэзией русской, турецкой, в какой-то мере арабской и иранской. Но поэзия любого народа растет и развивается по своим законам, и поэтому внимание Тукая в первую очередь должна была привлечь поэзия татарская.
Произведения татарской поэзии, созданные в течение нескольких столетий до Тукая, можно разделить на три группы: религиозно-дидактическую, суфийскую и светскую. Религиозно-дидактическая поэзия представляла традицию, от которой Тукай отталкивался, которой он противостоял. Светская стала для него на первых порах образцом. Сложнее было отношение Тукая к поэзии суфизма, то есть мистико-аскетического направления в исламе. Питаемая философией пантеизма, она призывала людей отказаться от радостей земной жизни, помышлять только об аллахе и готовить себя к потусторонней жизни. И это, конечно, отвращало от нее Тукая. В статье, написанной в 1907 году и озаглавленной «Наши стихи», он говорит: «Суфи Аллахияр и Утыз Имэни писали мелодичные стихи, но их творчество было связано с суфизмом. Их имена почитались бы сейчас куда более, если бы они хоть каким-то вниманием удостоили реальный мир и живущих в нем людей».
В то же время поэзия суфизма дала таких лириков, как Мавля Колый, Хибатулла Салихов; Шамсетдин Заки, сумевших в русле традиций выразить тоску человека по лучшей, справедливой жизни. Тукай, отбрасывая обветшалые, религиозные идеи суфийской поэзии, не мог пройти мимо ее достижений в области формы и скрытого за отрешенностью от мира человеческого отчаяния.
В двадцатые-тридцатые годы прошлого столетия пользовались большой известностью стихи муллы из деревни Старая Кандала (ныне Ульяновская область. — И. Н.) Габдельджаббара-хазрета. Острослов, жизнелюб и сибарит, он сыпал стихотворными прибаутками, посылая кого-нибудь с поручением, обычно излагал свою просьбу в стихах. Часто влюблялся и писал длинные письма в стихах предметам своей страсти. (Впрочем, отправлял ли он их адресатам, неизвестно.) В стихотворных посланиях девушкам из трех деревень Габдельджаббар Кандалый говорит о любви, которая пламенем сжигает его сердце, пытается зажечь такое же пламя в сердцах девушек, уговаривая их выйти за него замуж. Для пущей убедительности он в розовых красках рисует прелести жизни с мужем-муллой. И наоборот, с натуралистическими деталями и подробностями расписывает однообразие и тяжесть жизни за мужиком. Чтобы разочаровать свою возлюбленную в простом деревенском парне, распалившийся мулла всячески поносит мужика, представляет его грубым, нечистоплотным и неспособным на ласку. Об этих посланиях Тукай писал: «Хотя стихотворения Габдельджаббара Кандалыя-эфенди совсем не бессвязны, многое в них противоречит и благопристойности и поэтичности».
Тем не менее стихи Кандалыя были новаторскими для татарской поэзии. Здесь мало заимствований из турецкого, арабского и персидского, поэтические средства близки к фольклору, И главное, в них отсутствует религиозно-дидактический и суфийско-мистический дух.
К сожалению, прошли долгие годы, прежде чем этот новый голос был услышан. Лишь в 1884 году три упомянутых поэтических послания увидели свет в книге К. Насыри «Февакихель-джоляса». И тогда уже ни один поэт, в том числе и Тукай, не мог обойти их молчанием.
Устное поэтическое творчество народа, старая татарская поэзия и просветительская литература, стихи Пушкина и Лермонтова, арабская, персидская и турецкая лирика — таковы были первые литературные впечатления юного Тукая. Но, для того чтобы Габдулла, взяв в руки перо, стал сам писать стихи, помимо природных задатков и увлечения литературой, нужен был какой-то пример, внешний толчок, иными словами, нужно было, чтобы он попал в литературную атмосферу.
7
В 1900 году в Уральск опять приехал поэт Мирхайдар Чулпаный. Много лет назад он учился в медресе «Мутыйгия», потом служил муллой в одной из деревень близ города Бузулука. В 1890 году он привез в Уральск одну насильно крещенную девушку, хлопотал, чтобы помочь ей вернуться в лоно ислама, попал за это под суд и несколько месяцев просидел в тюрьме. Из-за этого были неприятности и у Мутыйгуллы-хазрета, и у некоторых других жителей Уральска.
То ли потому, что Мутыйгулла в свое время протянул ему руку помощи, то ли потому, что Мирхайдар вообще почитал его как своего учителя, он каждый год приезжал в Уральск и несколько недель жил в его медресе.
Мирхайдар был неплохим поэтом, но стихи писал так же, как его учителя Абельманих Каргалый, Хибатулла Салихов и Шамсетдин Заки, — в «высоком стиле», на труднодоступном, вычурном языке.
Габдулла впервые в жизни увидел живого поэта. В следующие приезды Чулпаныя в Уральск между семнадцатилетним юношей и пятидесятилетним поэтом устанавливается своеобразная дружба. Они вместе ходят на берег реки, гуляют в парке, Чулпаный рассказывает юному другу о пережитом и читает свои стихи. Иногда они распевают песни. Несколько строк из такой песни осталось в памяти современников:
Осыпает нас проклятьями низость, Погубило нас черное невежество.Габдулла с удивлением отмечает, что поэт не сверхъестественное создание, не полубог, как представлялось ему прежде. Он мог учиться в том же медресе, где учится Габдулла, а после окончания стать обычным деревенским муллой. Правда, у него нет печатных книг. Но лишь потому, что он и не ставил перед собой такой цели. А стихотворения у него ничуть не хуже тех, что печатаются в книгах. К тому же он хорошо знает аруз — классическую арабо-персидскую систему стихосложения. Его никак не отнесешь к разряду обычных сочинителей баитов...
Почему бы в таком случае Габдулле не сделаться самому поэтом? Надо бы только освоить аруз.
Сохранилось свидетельство Мутыигуллы: «В те годы (в 1902—1903 гг. — И. Н.) в нашем медресе, — писал он, — прожил зиму и лето один шакирд, турок, по имени Абдал Вели, который, как выяснилось, был поэтом. Тукаев за несколько лет до этого занимался у меня по арабскому учебнику стихосложения. Раздел о рифмах он пропустил, его интересовал лишь аруз. Так он усвоил десять-пятнадцать размеров арабского стиха и их вариантов и овладел основами стихосложения».
Габдулла стал интересоваться арузом после знакомства с Мирхайдаром Чулпаныем и по его совету занимался весьма старательно. В 1905 году Тукай писал:
О аруз, вдохновения вечный источник, Сколько строк я сложил, вдохновленный тобой.Упомянутый Мутыйгуллой Абдал Вели Эмруллах был студентом Стамбульского университета. Он участвовал в начавшемся тогда движении против кровавого султана Абдулла-Хамида II и бежал за границу, спасаясь от ареста. В Россию попал он скорее всего по совету Камиля Мутыйги, которого встретил в Стамбуле. Абдал Вели был на несколько лет старше Габдуллы, выше его ростом и крепче сложением. Оба они презирали прозу жизни, оба любили литературу и поэтому быстро нашли общий язык, подружились и в конце концов стали побратимами. «Габдулла-эфенди рассказывал об этом шакирде, как о своем самом лучшем друге тех времен, — пишет Г. Кариев. — Они провели вместе целое лето. Пели, гуляли, и хотя подчас бывали голодны, но чувствовали себя счастливыми».
Но наступила осень, и их свободе пришел конец. Безграмотные, невежественные шакирды смотрели на Абдала Вели косо, задирали его, старались как могли отравить ему жизнь дикими «шутками». А друзья Тукая недолюбливали его из ревности. С чего, дескать, этот Габдулла и некоторые другие шакирды увлеклись каким-то пришлым турком и повернулись спиной к своим товарищам?
Если бы не Габдулла и несколько его близких друзей, вряд ли Абдал Вели смог вообще остаться в медресе. Габдулла поддерживал его и морально и материально. И сам за этот год немало узнал от своего нового друга. Тот рассказывал ему о турецкой литературе, ее истории, познакомил с произведениями писателей и поэтов.
Абдал Вели, разумеется, читал своему юному другу и собственные стихи, которые Габдулла то ли по памяти, то ли по записям не раз повторял Кариеву.
И все же решающую роль в судьбе Габдуллы как поэта сыграли не Мирхайдар Чулпаный и не Абдал Вели. Эта честь принадлежит в первую очередь Камилю Мутыгыю Тухватуллину.
Первый ребенок в семье ученого хазрета, Камиль рос баловнем, окруженным всеобщим вниманием. Учиться он начал в медресе отца. «Сын видного хазрета, — пишет К. Мутыгый, — я был для шакирдов достойным всяческого уважения махдумом. Поэтому они относились ко мне с почтением».
Мутыгый учился в медресе до шестнадцати лет. Каковы были его успехи, нам неизвестно. Можно лишь предполагать, что ученье давалось ему легко. И неудивительно: он пришел в медресе с солидной подготовкой, ко всему тому, что говорил учитель, прибавлялось слышанное дома от отца. Но легко доставшиеся знания обычно бывают непрочными. Бросается в глаза одно существенное отличие между отношением к науке Габдуллы и Камиля. Первый не обращает особого внимания на форму, а старается вникнуть в суть. Второй придает значение не столько содержанию, сколько форме, берет не глубиной, а широтой.
Настало время, когда Камиль, его мать, а может быть, и сам Мутыйгулла пришли к выводу, что Уральское медресе для него узковато. Отец отдавал предпочтение Кышкарскому медресе, где учился сам, но остабике воспротивилась: «Нет уж, мой сын не тебе чета. Он родился не в доме деревенского муллы. Пусть учится в большом городе».
Они проводили Камиля в Казань, в медресе Касыйма-хазрета.
Через год Камиль вернулся в Уральск. Женился. Еще год занимался в медресе отца, потом отправился в Стамбул, затем в Египет, где поступил в университет «Аль-Азхар» в Каире.
Вернулся он из Египта в зеленом чапане. Под чаданом носил фрак с двумя хвостами, как у ласточки, и белый жилет, на голове — красную феску, на ногах — заграничные черные штиблеты. Ходил важно, чуть откинувшись назад. Да и как ему было не важничать? Камилю не исполнилось еще двадцати, а он уже преподавал старшим шакирдам предметы, которые до этого вел сам мударрис. И какие предметы! Логику! Мусульманское право! Толкование Корана! Хадисы! Трудно сказать, глубоко ли разбирался он в этих материях и довольны ли были его уроками шакирды, но Камиль был упоен собой и всячески старался продемонстрировать свою ученость. Почему-то он особенно гордился умением читать Коран на египетский лад. Просто влюблен был в свой голос. Иногда даже поднимался на минарет вместо муэдзина и совершал азан.
Импозантной внешностью, умением держаться и рассказами о дальних странах он произвел сильное впечатление на шестнадцатилетнего Габдуллу, который постарался сблизиться с ним. «В это время, — пишет Мутыгый, — Тукаев стал моим самым любимым учеником и питал ко мне большое уважение».
В Мутыгые будущего поэта привлекало также его стремление к новому, энергия, увлеченность. Правда, увлечения Камиля были недолговечны, на смену одному тут же приходило другое. Но каждый раз они захватывали его целиком, из него так и брызжет энергия, которой он заражает других.
Став учителем, Камиль увлекается преподаванием по образцу каирского «Аль-Азхара». Пробует и так и эдак, но сразу ввести новые порядки не удается. А ему нужно, чтобы новшество непременно исходило от него и бросалось в глаза.
Он создает в медресе нечто вроде литературного кружка, который громко именуется научным обществом. В нем собираются наиболее развитые шакирды, высказывают свое мнение об учебе, о жизни, читают стихи. По инициативе Камиля шакирды начинают выпускать стенную газету «Магариф» («Просвещение») и рукописный журнал «Эль-гаср эль-джадид» («Новый век»).
В 15-м номере «Магарифа» за 1904 год была «опубликована» заметка «Научное общество».
«В прошлый четверг вечером в медресе «Мутыйгия» состоялось первое заседание научного общества. Пришли все шакирды нашего медресе. Много говорилось о литературе. Каждому была предоставлена возможность высказаться. Состоялось обсуждение и обмен мнениями по некоторым важным для нас вопросам. Заседание прошло чрезвычайно организованно. Не останавливаясь подробно на рассмотренных вопросах, удовлетворимся стихотворением, посвященным новому попечителю нашего медресе Валиулле Хамидуллину, которое с успехом прочитал первый поэт медресе «Мутыйгия» Габдулла Тукаев».
Камилю Мутыгыю доставляло большое удовольствие возглавлять научное общество и рукописные издания медресе. Однако это поприще вскоре показалось ему тесным: рукопись и есть рукопись, вот если бы отпечатать газету или журнал типографским способом! О периодическом издании в те годы не могло быть и речи. Но книги на татарском языке издавались. Тогда почему бы не заняться этим Камилю?!
Он раздумывает недолго. Сочиняет повесть «Счастливая Марьям» и отправляет рукопись в Петербург. Летом 1903 года книга выходит в свет.
Окрыленный успехом, Камиль в том же году издает книгу «Тарджемат эль-Джазария» («Перевод Джазарии»), а в 1904 году — «Моназара» («Диспут»). Тут уж он вовсе возомнил себя писателем и продолжал считать себя таковым много лет спустя, когда отошел от редакционной и издательской деятельности и стал профессиональным певцом. В ту пору он снялся на фотографии со сложенными на груди руками. Это фото превратил в почтовую открытку. И подписал под своим портретом: «Мусульманский концертный певец и писатель».
«Счастливую Марьям» Камиль сочинял на глазах у Габдуллы. К этому времени они стали встречаться едва ли не каждый день. Прежде чем отдать рукопись в печать, Камиль, по всей вероятности, прочел свое творение Габдулле и, может быть, даже учел его замечания. Во всяком случае, Габдулла знал, что Камиль отправил рукопись в Петербург, но не очень-то верил, что она вернется в виде книги, ибо стал уже замечать некоторые недостатки в характере Камиля и был невысокого мнения о его литературных способностях.
Сам Мутыгый писал: «Тукай говорил товарищам по застолью, что я будто бы человек слабый. Позднее, в 1905 году, услышав, что я, не имея достаточных средств, хлопочу об издании нескольких газет и журналов, он во всеуслышание заявил: «Это у Камиля не выгорит, взялся из пустого бахвальства, но долго не протянет, выдохнется».
И вот в один прекрасный день Габдулла с превеликим удивлением берет в руки пахнущую типографской краской книгу Камиля. Это не изменило его мнения о писательском даровании автора, но заставило призадуматься.
Особое внимание Габдуллы привлекла книга Мутыгыя «Событие». Она включала в себя баиты некоего Минхаджетдина Гайнетдинова, который жил в то время в Уральске. Во вступлении Мутыгый приводит подробные сведения о личности, жизни и переживаниях этого человека. Он утверждает, что в «книге нет ничего выдуманного, поэтому она непохожа на обычные беспочвенные фантазии». То обстоятельство, что героем книги сделался обыкновенный живой человек, побудило Габдуллу самого взяться за перо. Он начал большое стихотворение о мелком торговце из Уральска по имени Сафи и его жене Фатиме. «Первое стихотворение, которое он мне прочитал, — вспоминает Газиза-младшая, — было написано о Сафи-абзые и Фатиме-апе. Выслушав его, я спросила: «Это ты сам сложил или Камиль?» — «Откуда Камилю знать про их жизнь? — ответил он. — Ведь навещал их я!»
Мутыгый счел к этому времени писательскую и издательскую деятельность своим основным занятием. Л если он за что-нибудь брался, то ставил дело на широкую ногу. Если уж быть издателем, то солидным, а солидное издательство прежде всего должно иметь контору. Где контора, там и конторщик. Им стал не кто иной, как Габдулла Тукаев. Об изданных или подлежащих изданию книгах во все концы России рассылаются письма-объявления, наложенным платежом отправляются книги. Сохранилось одно из деловых писем, составленных Габдуллой Тукаевым-конторщиком.
«Достопочтенный эфенди!
Ваши деньги за книгу «Цивилизация, или Исламское просвещение» (работа К. Мутыгыя. — И. Н.)... пришли вовремя. Адрес Ваш зарегистрирован в приходной книге. Но по некоторым причинам труд о цивилизации своевременно не смог выйти в свет. Ныне указанное издание в третий раз представлено в цензуру. Надеемся, что с помощью аллаха нам все же удастся выпустить эту книгу. В этом случае мы направим ее Вам в любом количестве экземпляров.
За Мухамметкамиля эль-Мутыгыйя Тухватуллина
конторщик Габдулла Тукаев.
1904 год, 11 декабря, г. Уральск».
Общее дело, общие интересы еще больше сблизили Габдуллу и Камиля. Свидетельством тому может служить фото. Инициатива, как обычно, исходила от Камиля. Теперь он уже не считал для себя зазорным стоять перед объективом рядом с юношей-шакирдом в помятой одежде. По всей вероятности, Камиль признал в Габдулле талант и, убедившись, что у того бойкое перо, решил вовлечь в дело. Правда, временами ему приходилось выслушивать от своего юного друга весьма резкие слова. Он обижался, но не держал на него зла.
8
30 июня 1903 года Габдулла писал сестре Саджиде: «Я теперь сам себя могу прокормить и живу самостоятельно. Стану посылать тебе гостинцы. Но пока еще не смог, не обессудьте». В другом письме без даты он сообщает, что отправил полфунта чая, платок и душистое мыло.
Из чего же складывались его доходы? К перечисленным ранее источникам прибавилось жалованье конторщика. Очевидно, именно его имеет в виду Камиль Муты-гый, когда пишет: «В то время я оказал Тукаю большую помощь, поддержал его и морально и материально».
В 1904 году хальфа Гумер Хусаинов, занимавшийся с младшими шакирдами, уехал в Мекку. Часть учеников передали Габдулле, что тоже увеличило его заработок, а главное — улучшило его настроение. С Габдуллой теперь, брат, не шути, он не просто шакирд, а учитель.
Ш. Каюмов, учившийся у него в это время, пишет: «За короткое время (Тукай преподавал всего четыре месяца. — И. Н.) он многое успел изменить. Впервые ввел в медресе черную доску. Ее повесили у низенького столика, за которым прежде сидел Гумер-хальфа... Обучая детей, Тукай особое внимание обращал на письмо, язык, счет, заставлял нас много переписывать. Тем, кто учился у Тукая, хотелось учиться у него и дальше. Но когда Гумер-хальфа вернулся из Мекки, все опять пошло по-старому. Только черная доска осталась на месте. Хотел того или нет Гумер, от доски он уже не мог отказаться».
В эти годы Габдулла вовсе пренебрегает установлениями шариата: курит он теперь не украдкой, как прежде, а открыто, ходит с непокрытой головой. Мутыгый пишет: «В 1904—1905 годах до начальства во множестве стали доходить слухи о том, что Габдулла с друзьями пьют спиртное и в медресе. Им было сделано несколько строгих внушений. Кое-кто настаивал даже на исключении».
Разумеется, все это было лишь внешними признаками его конфликта со старотатарским укладом жизни. Правда, пока его положительный идеал не преступает границ воззрений татарских просветителей XIX века. Он видит недостатки медресе, понимает, что знания, преподносимые шакирдам, не соответствуют духу времени. Стихийный протест Габдуллы и его единомышленников направлен не столько против конкретных недостатков медресе «Мутыйгия», сколько против косности, темноты, фанатизма в жизни. Это особенно ярко проявляется в легкомысленном отношении Тукая и его друзей к религиозным обрядам и предписаниям. Так, Кааба, мусульманский храм в Мекке, священен для всех мусульман, в том числе и поволжских татар. А вот для группы шакярдов во главе с Габ-дуллой он становится предметом насмешек.
Вернувшись домой из паломничества в Мекку, Гумер-хальфа по просьбе Габдуллы рассказал шакирдам о своем путешествии и, в частности, о церемонии поклонения Каабе. Однокашник Тукая так передает рассказ Гумера: «Каждый паломник должен обойти Каабу семь раз, но не обычным шагом, а особым. Надо упереть руки в боки, чуть присесть, делать шаг наискось влево, затем вправо и притом поворачиваться во все стороны, словом, надо привести в движение все свое тело». По настойчивой просьбе Габдуллы хальфа даже показал, как это делается. Шакирды покатывались со смеху, а Габдулла и вовсе довел их до колик, заметив: «Зачем так далеко ездить, чтобы повидать, как ходят паломники в Мекке? Можно заглянуть в ближайший сумасшедший дом!»
Долго еще потешались шакирды. «Каждый день посредине комнаты ставили сундук или стол, и начиналась ходьба вокруг Каабы. Первым эту операцию проделывал Тукай, а вслед за ним и остальные», — пишет тот же однокашник.
Очень рано Тукай стал задумываться о вопросах, касающихся не только «мусульманского» мира. Общественно-политическая жизнь всей России так или иначе проникла и в старые татарские медресе.
Медресе, стремившиеся сохранить независимость от властей, причиняли начальству немало беспокойства, Чему там учат? В каком духе воспитывают шакирдов? Не распространяют ли таких крамольных идей, как панисламизм или сепаратизм? Не настраивают ли молодежь против царя?
В министерстве просвещения одни считали, что надо незамедлительно взять медресе под жесткий контроль министерства, прекратить обучение на родном языке, другие же (и их точка зрения перевесила) стояли за гибкую политику. То есть пусть пока все будет как есть, следует лишь усилить надзор за учащимися.
Мы не знаем, посещал ли медресе «Мутыйгия» инспектор министерства просвещения, но из воспоминаний достоверно известно, что едва ли не каждую неделю приходил полицейский.
Едва длинноусый толстый полицейский с надменным видом появлялся перед шакирдами, ему навстречу выходил Габдулла. Изобразив на лице сладкую улыбку, он гнусавым голосом обращался к околоточному: «Джантимер-ага, Джантимер-ага» (буквально — железная душа, одно из татарских имен. — И.Н.). И, мешая русские слова с татарскими, прибавляя к последним окончание «ский», ловко вкрапливал в свою речь оскорбительные для полиции выпады, а шакирды давились от смеха.
Любопытно, что позднее Тукай в своих фельетонах часто называл полицейских джантимерами.
Веселое богохульство Габдуллы, а также попытка писать стихи по-русски были вызваны уверенностью в себе, которой он проникался в эти годы. Он становится известен как поэт не только в стенах медресе «Мутыйгия», но и во всем городе.
Теперь Габдулле писалось легко — к этому времени он усвоил технику стиха, ему не надо было мучительно искать рифмы, они приходят сами собой. Нет недостатка в темах и сюжетах. А в наблюдательности ему отказать трудно. В новом классе началось обучение по джадиду. Учителем там стал Нури-хальфа. Но Габдулла видит, что Нури безграмотен, хотя мнит себя эрудитом, любит погулять, поесть, повеселиться и знает, что ему многое сойдет с рук, ибо навязан он был в медресе попечителем Муртазой Губайдуллиным, коему доводится зятем. Нури, чтобы не идти в солдаты, принял какой-то яд, от которого у него перекосило рот.
Габдулла сочинил на Нури сатиру, где высмеивает невежество, скрывавшееся под огромной чалмой и напускной важностью. Умственное и физическое убожество Ну-ри вызывало прямые ассоциации с запущенностью самого медресе — «не жилье, а логово для зверя». Стихи Габдуллы были написаны на разговорном языке, сравнения взяты из реального быта.
Но вот вместо Муртазы-бая попечителем назначают Валиуллу Хамидуллина, который засучив рукава принимается за ремонт медресе. И вот из-под пера Габдуллы выходит стихотворение, где купец Валиулла в духе старой поэзии сравнивается с солнцем, уподобляется «святым угодникам», именуется «защитником веры Мухаммеда, любимцем пророков».
Он привел медресе в такой вид, Что оно, словно жемчуг, блестит, Красотою своей, чистотою своей уподобилось раю.Если принять во внимание, насколько ограничены были материальные возможности медресе, то надо думать, что во время ремонта удалось лишь залатать дыры, подправить рамы да перекосившиеся двери и, может быть, покрасить полы. Валиулла Хамидуллин к своим обязанностям относился добросовестно, но, конечно уж, на святого угодника никак не походил. Кое-кто может предположить, что неумеренная хвала была не столько данью старой поэтике, сколько хорошо замаскированной иронией, но вряд ли это предположение основательно. Габдул-ла слагал в эти годы подобные же панегирики, в которых никак невозможно усмотреть иронии и сегодня. Так, однажды, когда приятель написал о нем хвалебную статью, он в ответ послал стихи, где называл приятеля «превосходным писателем, чье перо служит нации», а его статью именовал «зерцалом истины».
Габдулла жаждет попробовать себя во всех поэтических жанрах, в том числе и панегирических, которые занимали важное место в классической восточной и старотатарской поэзии. Он пока еще убежден, что поэзия делится на низкую и высокую и что превознесение до небес — главная отличительная черта последней.
Габдулла в эти годы сочинял много. Но не хранил написанного, не дорожил им. Так было в юности, так было и позднее. И потому от той поры дошли до наших дней лишь те его стихотворения, которые попали в рукописные издания или сохранились в памяти современников. Справедливости ради нужно заметить, что стихи этого периода Тукай в свои книги не включал, очевидно, сознавая их несовершенство. И действительно, если сейчас они представляют интерес, то лишь потому, что помогают увидеть ступени, по которым поэт поднимался к зрелости.
В конце 1904 года Габдуллу вместе с другими шакир-дами пригласили на свадьбу: женился сын бывшего попечителя медресе Муртазы-бая. На пиршестве Габдуллу усадили рядом с мелкими торговцами. В стихотворении сложенном по этому поводу, он написал:
Там было мясников немало. Там шкурами и мясом провоняло. Там говорили: где продал-купил, Какой в базарный день барыш нажил Шкурьем и мясом я пропах и сыт. Велик аллах, ему я дал зарок, Туда я в гости больше не ходок.Эти строчки уже предвещали: недолог срок, когда Габдулла, став Тукаем, напишет знаменитую поэму «Сенной базар, или Новый Кисекбаш».
Глава третья На заре творчества
1
Винтовочными залпами, прозвучавшими на Дворцовой площади столицы, начался 1905 год. Эти залпы убили у простых людей веру в добрые намерения царя.
Кровавый отсвет петербургского неба пробудил и уральцев. Подпольные кружки социал-демократов распространяли листовки и прокламации с призывом бросать работу. Весной... впервые в истории Уральска открыто проводится маевка. Учащаяся молодежь, передовая интеллигенция, рабочие в назначенное время собрались у здания женской гимназии на Большой Михайловской и, выстроившись в колонну, направились в Ханскую рощу, любимое место отдыха горожан. Как только колонна вышла за город, над ней взвилось красное знамя, заалели на солнце слова: «Да здравствует Первое мая — праздник труда!» Полиция пыталась разогнать демонстрантов, но часть из них переправилась на другой берег Урала и довела манифестацию до конца.
Был ли Габдулла свидетелем первой в Уральске демонстрации и маевки? Несомненно.
Такие бойкие шакирды, как он, не оставляли без внимания ни одного события в городе. Женская гимназия расположена недалеко от медресе «Мутыйгия», всего в одном квартале от дома Галиасгара Усманова, и напротив здания «русского класса», где учился Габдулла. Скорее всего он сам был в колонне демонстрантов, по крайней мере до налета полиции.
События 1905 года, точно масло, подлитое в огонь, принесли Габдулле вдохновение и новые силы: он встретил революцию как праздник. Позднее, когда был обнародован «Манифест 17 октября» и в Уральске стала выходить долгожданная газета на татарском языке, Габдулла приветствовал революцию стихами:
Куда цензуры делся гнет, Гоненья, рабство и разброд? Как далеко за этот год Все унеслись невзгоды!Пока же его «революционность», помимо смелых слов, выражалась в манере одеваться и вести себя. Вот, сбросив с головы меховую шапку и каляпуш, он разгуливает по улицам в кепке. В руке трость с изогнутой ручкой, брюки навыпуск, а на ногах по-прежнему ичиги с кожаными галошами — кавешами. Заметив, что навстречу ему идет какой-нибудь благочестивый татарин, он вытаскивает из кармана папиросу и, чиркнув спичкой, закуривает. Товарищ пытается его остеречь, но Габдулла лишь роняет сквозь зубы: «Пусть лопнет от злости лавочник!»
По словам современников, Габдулла часто выходил на улицу и в русском картузе, и в длинной холщовой рубахе, и в лаптях. В таком виде он, бывало, появлялся даже в садах.
Впрочем, здесь сыграл свою роль и интерес молодого Тукая к личности Льва Толстого, которого он не только читал, но о котором много слышал. С его обликом поэт был хорошо знаком по репродукциям картин, где великий писатель изображен в крестьянской одежде, за сохой-До сей поры Габдулла бунтовал против уклада жизни татар, который, по его мнению, должен был решительно измениться. Но когда вспыхнула революция, он начал сознавать, что жизнь его народа связана с состоянием дел во всей России, что корень зла в общественно-политическом строе, в колониальной политике царского правительства и его бюрократии. Этот скачок во взглядах Габдуллы готовился давно, исподволь. Бурное общественное движение сделало его неизбежным.
В воспоминаниях Камалетдина Хисамутдинова, сына уже известного нам Бадри из Кушлауча, мы наталкиваемся на любопытный факт. Оказывается, Габдулла на русском языке написал стихотворение о русско-японской войне и, улучив момент, вручил его редактору газеты «Уралец», скрыв при этом свое авторство. Когда через несколько дней Габдулла пришел в редакцию за ответом, его не хотели пускать: явился какой-то плохо одетый подросток и требует свидания с редактором! Пришлось признаться, что стихи написал он сам. Редактор будто бы его ободрил и пообещал платить впредь по пяти копеек за строчку.
Неизвестно, были ли напечатаны эти стихи, — ни в одной библиотеке нет полной подшивки «Уральца». Для нас важно, однако, другое: Габдулла регулярно читал русские газеты, интересовался событиями в стране и в мире.
По-видимому, упомянутое стихотворение написано не без влияния официальной патриотической шумихи. К такой мысли приводят и воспоминания Хисамутдинова. Вероятно, молодому Тукаю, как многим другим, эта война вначале представлялась нападением моськи на слона, успевшей, правда, показать крепость своих зубов. Но что это? Наши прославленные войска никак не могут добиться успеха. Мало того, мы сдали Порт-Артур, потеряли целую армию. Кто виноват, что слон терпит поражения и запрашивает мира? Простой народ показал свою отвагу во многих войнах, его обвинить невозможно. Значит, виноваты неспособные офицеры, воры-интенданты, продажные генералы. Но только ли они? Может, доля вины ложится и на министров, и на самого царя?
Так или примерно так протекал ход дальнейших размышлений Габдуллы о русско-японской войне. Отсюда уже недалеко до понимания истинных причин войны, которые сводятся к гнилости самодержавного строя, выражавшейся в слабости военно-экономического потенциала России. В начале 1905 года В. И. Ленин писал, что «...военный крах, понесенный самодержавием, приобретает еще большее значение, как признак крушения всей нашей политической системы»4.
Ленин подчеркивал: «Эта война всего более разоблачила и разоблачает гнилость самодержавия...»5.
Свидетельством общественной активности Габдуллы в то время служит и перевод с русского брошюры «Война и Государственная дума», который он сделал для журнала «Эль-гаср эль-джадид» в 1906 году. Сущность русско-японской войны, причины, ее породившие, поражение России как результат отсталости ее общественно-политического строя — обо всем этом разговор ведется в брошюре с большевистских позиций. В 1905—1906 годах в стране печаталось немало революционных статей и книг, много появилось их и в Уральске. Но выбор для перевода брошюры большевистской сам по себе знаменателен.
После того как революция 1905 года отвоевала у самодержавия «свободу печати», начали выходить десятки татарских газет и журналов. Третья по времени основания газета, первый литературный и второй сатирический журналы появились в Уральске. Человеком, который писал прошение за прошением, чтобы получить разрешение на их издание, обивал пороги присутствий, то и дело ездил в Петербург, хлопотал о деньгах для начала дела, был Камиль Мутыгый.
Выпуская рукописную газету и журнал, пытаясь напечатать и распродать свои книги, Камиль до сухости во рту толковал с Габдуллой о своей издавней мечте — настоящей газете, которая выходила бы если не каждый день, то хотя бы раз или два в неделю, и, конечно же, о ежемесячном литературном журнале! В 1904 году -Камиль сделал к этому первые практические шаги, хотя в то время добыть разрешение было не легче, чем пойти пешком по воде. В письме к известному публицисту и писателю Фатыху Карими от 23 ноября 1904 года он сообщал: «...По поводу издания журнала я намерен обратиться при посредничестве некоторых влиятельных русских людей в соответствующие учреждения». Камиль уже тогда думал о типографии, о приобретении татарского шрифта, о том, чтобы обучить нескольких шакирдов профессии наборщика. В рукописном журнале «Эль-гаср эль-джадид» от 8 декабря он перечисляет имена людей, к которым он обратился с просьбой писать для журнала. В этом списке числится и «наборщик Габдулла Тукаев». Почему «наборщик»? На этот вопрос мы находим ответ в самой статье: «Имеется договоренность с Габдуллой Тукаевым, что он на средства редакции поедет учиться в Оренбург в типографию Мухаммеда Фатыха-эфенди» (то есть Фа-тыха Карими. — И. Н.).
План хоть куда! Дело было за малым: не имелось разрешения властей. Камиль обивал пороги местных присутствий — не вышло. Послал прошение в Петербург — получил отказ.
В начале 1905 года он снова пишет прошение. Ответ пришел не скоро. Разрешение выдано не было, но и отказа тоже не последовало. Для издания газеты или журнала нужны, мол, определенные гарантии — состоятельность владельца, материальная база (то есть типография и прочее), если все это будет налицо, то можно будет снова вернуться к вопросу. Мутыгый развивает бурную деятельность. Наконец редактор газеты «Уралец» Л. Н. Ядрин-цев говорит: «Для чего вам липшие хлопоты и расходы? Купите «Уралец» вместе с типографией, и дело в шляпе». Совет пришелся Мутыгыю по душе. Он залезает по уши в долги, заставляет раскошелиться родню, находит двух-трех «меценатов», добавляет сюда приданое жены, и, сколотив нужную сумму, становится хозяином типографии и издателем «Уральца». Властям не остается ничего другого, как выдать разрешение на издание татарской газеты и журнала.
«Когда в 1905 году, — пишет К. Мутыгый, — купив типографию, я решил издавать газету на татарском языке, Габдулла-эфенди по его собственной просьбе поступил в мою типографию наборщиком».
Я. Моради вспоминает: «Мы с Габдуллой, встретив как-то Камиля-эфенди, стали его расспрашивать, когда же наконец он начнет издавать «Эль-гаср эль-джадид». Камиль-эфенди тут же попросил нас обоих войти в состав редколлегии и, называя нас «господами писателями», дал понять, что ожидает от нас хороших произведений».
Очевидно, Камиль Мутыгый пришел к мысли, что ему не стоит расходоваться на подготовку наборщиков где-то на стороне, если можно пригласить грамотных людей и обучить их на месте. Заметив способности Габдуллы, он со временем укрепился в мысли, что юношу надо использовать и на более «достойной» работе.
Габдулла рассуждает по-своему. Раз Камиль купил типографию и стал издателем «Уральца», то лучшей возможности, чтобы избавиться от медресе и зажить самостоятельно, ждать нечего. Почему бы не поступить на работу в типографию?
У кого же он учился наборному делу? В 1904 году совсем подростком поступил в типографию «Уральца» учеником наборщика Александр Гладышев. В 1905 году он по-прежнему ученик. Но дело знает. К нему и поставили Габдуллу. Саша открывал своему «шакирду» секреты наборного дела, а Габдулла делился с «наставником» своими знаниями о литературе и поэзии.
В этот период Тукай все еще шакирд медресе: он живет в «келье», ходит на уроки, хотя и не на все. Но большую часть времени проводит в типографии. Он не получает жалованья, как другие, тем не менее приходит утром, до обеда трудится не поднимая головы, а после обеденного чая снова бежит на работу.
Рвение Габдуллы объяснимо: ему не терпелось поскорее увидеть им самим набранные татарские издания. А время это было уже не за горами.
Мутыгый ездит в Петербург, Казань, Оренбург, добывает татарский шрифт, типографское оборудование.
Наконец из Казани прибывает шрифт. Вслед за ним приезжают наборщик Сафи Насыбуллин и печатник Гариф Кальтеев. Наступает памятное 27 ноября 1905 года. В этот день Камнль и Габдулла взяли в руки первый пахнущий краской номер газеты «Фикер» («Мысль»). «Выходит раз в неделю... Издатель и редактор К. Мутыгый Тух-ватуллин». Трудно описать их радость. Одновременно идет спешная подготовка к выпуску журнала «Эль-гаср эль-джадид».
Как мы знаем, еще до получения официального дозволения Мутыгый направил письма к известным людям с просьбой о сотрудничестве в журнале. Вскоре начали поступать материалы. Камиль составил сборник под названием «Подробное содержание журнала «Эль-гаср эль-джадид», который начнет выходить с 1906 года». И выпустил его в свет 15 сентября 1905 года, напечатав в Оренбурге пять тысяч экземпляров. По тем временам этот тп-раж намного превышал обычный, страсть Камиля к размаху дала себя знать и тут.
Одно из писем с предложением, о сотрудничестве было, очевидно, отправлено и Габдулле. Во всяком случае, мы располагаем документом, подтверждающим, что Тукай обещал принять в журнале участие. Вот он:
«Медресе «Мутыйгия» в Уральске. 29 августа 1905 года.
Уважаемый Мухаммет Камиль-эфенди!
Прослышав о получении Вами долгожданного разрешения на издание журнала «Эль-гаср эль-джадид», все мы испытали глубокое удовлетворение и искреннюю радость. Если таким, как мы, на страницах Вашего журнала будет предоставляться место, то в меру моих возможностей я обещаю свое сотрудничество в прозе и стихах и в подтверждение обещания посылаю Вам эти скромные стихи, посвященные Вашему журналу. Выражаю надежду, что в одном из уголков найдется место и для них».
К письму приложены два стихотворения без названий. В первом молодой поэт высокопарным слогом выражает радость по поводу того, что «нация восстала ото сна», приветствует берущуюся за перо молодежь, воспевает просвещение, говорит о пользе печати, призывает к труду, к знаниям. Второе, начинающееся словами: «Когда бы Камиль Мутыгый», до небес превозносит журнал, который должен появиться на свет: дескать, это и светоч, и зеркало, и солнце, его надо ценить, поскольку он первый на татарском языке, надо на него подписываться. Таковы первые два стихотворения Габдуллы, опубликованные в печати.
В 1906 году газета «Фикер» начинает выходить три раза в неделю. Она продается по всей России. Увидел свет наконец и первый номер «Эль-гаер эль-джадида», а через месяц второй. На повестке дня издание сатирического журнала «Уклар» («Стрелы»). То были, пожалуй, самые радостные, самые счастливые дни в жизни Габдуллы. Они наполнены трудом, заботами — некогда дух перевести, но, сколь пи тяжко любимое дело, оно приносит удовлетворение.
Штат редакции «Фикер» сперва состоял из одного человека. Издателем, редактором, ответственным секретарем, заведующим всеми отделами был Мутыгый. Даже корректуру первого номера держал он сам.
Габдуллу, который позже официально был определен корректором, тоже нельзя равнять с его сегодняшним коллегой. Если не успевал наборщик, Габдулла вставал к наборной кассе. У конторщика дел невпроворот? Помогает и ему. Когда «Фикер» стала выходить три раза в неделю и появился журнал, хлопот у Габдуллы, естественно, прибавилось втрое.
Мутыгый пишет: «Работа Габдуллы-эфенди радовала меня. Он был к тому же необычайно прилежным, и я ежемесячно повышал ему жалованье. Так, начав служить за восемь рублей в месяц, он очень скоро начал получать двадцать пять».
Как бы хорошо ни чувствовал себя Габдулла в редакции, с каким бы желанием ни выполнял он обязанности корректора и наборщика, все же это не было для него главным.
«Однажды (речь идет о лете 1905 года. — И. Н.) Габдулла решил заняться писательским трудом, — вспоминает Я. Моради, — взял у меня 10 копеек и, купив бумагу и карандаши, принялся переводить на татарский язык басни Крылова».
В изложении Моради эпизод этот выглядит курьезно. Но он свидетельствует об одном: мысль о призвании не оставляла Габдуллу. Он стал первым поэтом медресе, затем известность его вышла за пределы школы. На него возлагал надежды К. Мутыгый, сам учитель Мутыйгул-ла-хазрет одобрил его пробы пера. Но, пока в Уральске не было ни газеты, ни журнала на татарском языке, он не представлял себе, что может стать профессиональным литератором. Теперь же дело приняло иной оборот. И Габдулла принялся за работу.
Казалось, прорвало плотину. За восемь месяцев до июля 1906 года в газетах «Фикер» и «Hyp» («Луч») в каждом номере журнала «Эль-гаср эль-джадид» появлялись его стихи. Кроме того, в газете «Фикер» увидели свет пять статей, рассказов и фельетонов, некоторые с продолжением из номера в номер и в журнале «Эль-гаср эль-джадид» один рассказ и два больших перевода. Шестьдесят пять басен Крылова, которые Тукай начал переводить еще до выхода газеты, печатались в «Эль-гаср эль-джадиде» в 1906—1907 годах.
Все эти произведения опубликованы за подписью Тукая или же несомненно принадлежат ему. А кроме них, в газете и в журнале множество материалов, авторство которых не установлено. Известно лишь, что они могли принадлежать или К. Мутыгыю, или же Габдулле.
Собственно писательским трудом Тукай мог заниматься только в ночное время, когда в медресе все затихало. С той поры и выработалась у него привычка работать по ночам. Редакция «Уральца» размещалась в трех комнатах. В одной — контора, в другой — экспедиторская, в третьей — кабинет редактора. Внизу, в четырех подвальных комнатах — типография. В одной из них — наборный цех газеты «Фикер».
Основное рабочее место Тукая было в наборном цехе. Спертый, пропитанный свинцовой пылью воздух, шум, теснота. По соседству стучит печатный стан. Где-то в углу Габдулла над шрифтовыми кассами правит гранки. Отдав их наборщику, он кладет перед собой бумагу и начинает быстро писать статью или фельетон в номер,
Время от времени он работал и в доме Тухватуллиных: Мутыгый приглашал его к себе для чтения материалов, поступающих со стороны, для правки и редактирования. Иногда Габдулла писал у него в доме и свои статьи, которые срочно шли в номер. Но так бывало лишь в начале их совместной работы. Позднее он стал ходить к ним редко, и на то имелись свои причины.
Тухватуллины жили в то время в двухэтажном каменном доме, широко и зажиточно. Мутыйгулла-хазрет не стремился к роскоши, но его семья старалась жить по-иному, держаться современного образа жизни, беря пример с богатых семей. Пренебрежение к старым обычаям и религиозным догмам, свободомыслие, стремление к культуре, к искусству — все это хорошо, но Габдуллу не могли не отталкивать церемонность, высокомерие и чванство, которые, подобно многим недавно разбогатевшим семьям, были свойственны и Тухватуллиным. Если хаз-рет и Камиль признавали талант Габдуллы, то для других членов семьи, для абыстай, для жены Камиля, для детей Мутыйгуллы-хазрета Габдулла был всего-навсего одним из бедных шакирдов. Поэтому неудивительно, что поэт в конце концов предпочел для работы угол в типографии или «худжру» за занавеской.
Если, помня об этом, сопоставить написанное Габдул-лой за восемь месяцев 1905—1906 годов с творческой продукцией других татарских авторов, начавших печататься в ту же самую пору, то можно только восхищаться его работоспособностью.
2
О чем же и как писал Тукай в эти восемь месяцев? Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать, что происходило в Уральске, какое участие принимал молодой поэт в этих событиях. Социал-демократы, только что вышедшие из стадии кружковщины, начали создавать в Уральске свою организацию. Типография «Уральца» использовалась ими для выпуска листовок, текстов революционных песен и другого агитационного материала. Были среди типографских рабочих и члены социал-демократической партии.
По свидетельству Саши Гладышева, они вместе с Габ-дуллой участвовали в распространении прокламаций и революционных песен. Отправлялись на Анисимовское озеро и подкладывали листовки рыбачившим там мастеровым, разбрасывали даже на центральной улице города Большой Михайловской.
По словам Гладышева, рабочие любили Габдуллу и прозвали его «интеллигентным татарином». «Нам разрешали приходить и на собрания, — вспоминал Глады-шев, — но мы еще не пользовались правом полного голоса».
Габдуллу, естественно, не могло удовлетворять такое «детское» занятие, как распространение листовок. Он читает от корки до корки все приходившие в редакцию столичные газеты. Особенно интересовали юношу подпольная печать, брошюры революционного содержания. Интерес к такого рода литературе и знакомство с нею подтверждается и переводами брошюр «Царь-Голод» и «Война и Государственная дума», которые были сделаны Тукаем для «Эль-гаср эль-джадида».
Революционный подъем масс вынудил царя опубликовать документ, который вошел в историю под названием «Манифест 17 октября». В нем обещались свобода слова, печати, собраний, созыв законодательной думы, конституция. То была первая явная победа революции. Либерально-буржуазные партии принялись восхвалять царский манифест, сеять конституционные иллюзии. Социал-демократы с первого дня объясняли народу, что манифест — пустая бумажка, маневр, с помощью которого хотят потушить революционный пожар. Они призывали продолжать наступление с целью свержения самодержавия.
Молодой Тукай, узнав о манифесте, а затем и прочитав этот документ, опьянел от радости.
Его величеством царем От мук все спасены кругом: Встревожен смутой, мятежом, Царь волю дал навеки. Среди татар есть люди с избытком свежих сил. Нам стародум не нужен, невежда нам постыл. Нам государь российский свободу возвестил, — Отныне будем сами вершить свои дела.Поэту представляется, что, как только соберется дума и будет принята конституция, народы России обретут наконец права и подлинную свободу. А потому надо забыть внутринациональные распри и, «единые, как тело и душа», приняться за работу, начать борьбу против косности и невежества, за просвещение.
О мой народ, глаза раскрой: Мир изменяет облик свой! Довольно спать! Над головой Заря взошла навеки.Как же мог Тукай столь наивно предаваться надеждам? Можно подумать, что никогда он не общался с рабочими, не слышал мнения социал-демократов, не держал в руках запрещенной литературы!
Дело в том, что Тукай воспитывался на идеях татарских просветителей, а они подобно просветителям других народов, по выражению В. И. Ленина, «не выделяли как предмет своего особенного внимания, ни одного класса населения, говорили не только о народе вообще, но даже и о нации вообще»6.
В начале XX века, когда среди татар возникло довольно мощное национальное движение, в центре внимания татарской интеллигенции, как интеллигенции одной из угнетенных народов царской России, стояло пробуждение национального сознания, подъем национальных чувств, словом, не столько социальная, сколько национальная идея.
Под влиянием просветительских идей Тукай замечает, что по сравнению с его народом другие нации — русские, японцы, армяне, не говоря уже о французах и англичанах, ушли далеко вперед. «А мы? — спрашивает себя Тукай. — Не остались ли мы там, где были сто лет назад?»
Революционный подъем, пробудивший от спячки народы России, послужил толчком к дальнейшему быстрому развитию и татарской культуры. Среди тысяч молодых людей, внесших в него свой вклад, одним из самых страстных, преданных и талантливых оказался Тукай.
17 апреля 1906 года он напечатал в газете «Фикер» статью под заголовком «Умерла ли наша нация или она только спит?». «Не умерла и не опит, — пишет Тукай, — а упала в обморок. Чтобы привести ее в чувство: давайте окропим нашу нацию душистым нектаром цветов литературы, овеем ее мягким ветерком газетных вееров и вольем в ее уста живительную влагу объединения и совместного труда; вдохновим ее музыкой, услаждающей душу, в ярких картинах отразим ее собственное лицо; пусть раскроются ее глаза, пусть оглянется она вокруг, соберется с мыслями».
В стихотворении «К народу», написанном в октябре 1906 года, поэт говорит:
Днем и ночью, в горе, в счастье я с тобой, родной народ. Я здоров твоим здоровьем, твой недуг меня гнетет.Вряд ли равнодушный к своему народу человек может искренне любить другие народы. Тукаю, который в самом начале своего пути призывал татарский народ жить с другими нациями в дружбе и согласии, было не по пути с буржуазными националистами. Но «Манифест 17 октября» Габдулла принимает, исходя в первую очередь из интересов нации, в надежде па будущую Государственную думу, которая даст стране конституцию. Больше всего радуют его равноправие, которое якобы даровано отныне всем народам, обещанная свобода печати: «Куда цензуры делся гнет, гоненья, рабство и разброд?» Он возглашает: «Свободны перья и умы».
Разумеется, на Тукая не мог не произвести впечатления и хвалебный хор либерально-буржуазной прессы на русском и татарском языках в адрес манифеста. Хотя высказывания передовых рабочих и социал-демократов по поводу думы и конституции, мысли, вычитанные в левых газетах и нелегальной литературе, были известны Тукаю, на его взгляды они пока заметного влияния не оказали.
Поэт приветствовал в стихотворных посланиях новые газеты и журналы, обращался к читателям с призывом подписываться на них, слагал оды в честь науки, поэзии и литературы; призывал молодое поколение усердно учиться, беречься от распущенности и расточительства, советовал упорно трудиться, высмеивал консервативное духовенство.
Хотя родословная Тукая насчитывала не менее семи поколений мулл и он сам некогда мечтал стать одним из них, а позднее брал себе за образец лучших представителей этого сословия, именно оно в первую очередь испытало на себе силу сатирических ударов молодого поэта.
Еще весной 1906 года, пародируя одного из суфийских поэтов, он заклеймил ишанов как врагов нации и шарлатанов.
Они народ на части рвут, питаясь мертвой плотью, Ишан — шакал, он падаль жрет, а я не знал об этом.В 1905 году в стихотворении «Слово к друзьям» Тукай с иронией пишет:
Мы наших мулл не затрудним в таких делах. Немало дел им поручил аллах. Мы не оставпм дел мирских у них в руках, Джигитов просвещенных мы найдем теперь.В журнале «Уклар» была помещена карикатура на муллу: голова служителя божьего занята обнаженными девицами, золотыми монетами, жирными беляшами и бутылями с вином. Подпись, принадлежащая Тукаю, гласит:
Невежда и ханжа — лишь этим он живет, Поесть, попить, поспать — вот круг его забот!В статье «Национальные чувства» (1906) Тукай издевается и над мударрисами, которые ходят из дома в дом с книгами под мышкой, изображая себя светочами учености, а на деле занятые лишь поисками дарового угощения. «Наша нация, — пишет он, — нуждается в джигитах, которые подобно сынам других наций отстаивали бы интересы беззащитного, обездоленного рабочего народа, сами понимали и могли бы разъяснить другим, что времена, когда пятерых бедняков можно было выменять на одну собаку, давно прошли... И наша нация нуждается в настоящих писателях и художниках... в истинно национальной поэзии и музыке, во всем, что способствовало бы прогрессу».
Усиленное внимание Тукая-сатирика к духовенству в этот период объяснимо: он мечтает о просвещении народа, а муллы и ишаны как сословие заинтересованы в народном невежестве. Тукай не оставлял духовенство в покое и позднее, хотя тогда его критика уже была направлена не столько против пережитков феодальной старины, сколько против несправедливостей буржуазного общества.
Что до языка и стиля стихов Тукая, написанных, в этот период, то о принципах народности здесь говорить пока что не приходится. Габдулле казались настоящей поэзией лишь те стихи, язык которых на две трети состоял из турецких, арабских и персидских слов и выражений. Только этот стиль, высокопарный и напыщенный, считался достойным для передачи высоких идей и страстей. Очевидно, «уроки» Мирхайдара Чулпаныя и Абдала Вели не прошли для него даром.
Лишь около десятка стихотворений, опубликованных поэтом за эти восемь месяцев, написаны на собственно татарском языке. В чем здесь дело? Возьмем, к примеру, стихотворение «Сон мужика». Это вольный перевод стихотворения А. Кольцова «Что ты спишь, мужичок?». Оно адресовано мужику. И естественно, поэт обращается к нему на языке разговорном, то есть татарском. То же самое относится и к стихотворениям «О свободе», «Несколько слов к друзьям», «О единстве». Правда, в них поэт обращается к нации в целом. Но ведь большинство нации составляет «простонародье», то есть в первую очередь крестьянство.
В основу небольшой стихотворной повести «Фатима» легли жизненные перипетии одной уральской семьи. Бойкая, плутоватая жена смирного, как забитая лошадь, мелкого торговца начала привечать к себе парней и окончательно сбилась с пути. Об этом, конечно же, нельзя было писать в напыщенном стиле, языком, полным арабизмов и фарсизмов.
Так, «адресат» стихотворения или жизненный материал порой заставляли поэта писать на родном разговорном языке. Сам по себе факт обращения к народному языку заслуживает всяческого одобрения. Но с точки зрения художественных достоинств можно сказать, что это всего-навсего зарифмованная и уложенная в размер дидактическая проза. Впрочем, это скорее не вина, а беда Тукая.
Дело в том, что литературный татарский язык, способный передать все оттенки мысли и чувства, не прибегая к иноязычным заимствованиям, еще только предстояло создать. И вклад Тукая в создание такого языка огромен. Но это еще впереди.
В том же 1906 году он создал и образцы высокой лирики. Ода «Пушкину», стихотворения «После разлуки», «Не я ли тот, кто скорбит?», «О, эта любовь!» свидетельствовали о незаурядном поэтическом даре их автора. Плохо одно — ныне их нужно переводить на татарский язык.
3
Восторги, которым предавался Габдулла после «Манифеста 17 октября», оказались недолгими: события, следовавшие одно за другим, быстро развеяли его иллюзии. Рабочие и крестьяне продолжали борьбу. Каждый день до Уральска доходили новые вести: московские рабочие, выйдя на баррикады, в течение десяти дней держали город в своих руках, в Казани революционеры, забаррикадировавшись в помещении городской думы, отстреливались от войск и полиции.
Царские же посулы явно остадись на бумаге: говорили, свобода личности, а людей продолжают бросать в тюрьмы; говорили о свободе собраний, а стоит собраться на улице десятку людей, и полиция с казаками тут как тут; говорили, свобода печати, а цензура постоянно сует свой нос в дела редакции, охранка не дает покоя.
4 января 1906 года мировой судья второго участка, помощник прокурора и пристав вместе с понятыми вломились в редакцию «Уральца» и произвели обыск, перевернув вверх дном и редакционные помещения, и типографию. Поводом, оказывается, послужили «крамольные» материалы в номере от 1 января.
Начались разбирательство, допросы. Долго мучили работников редакции, типографии, в том числе Мутыгыя. В конце концов газету закрыли, а редактора Н. Д. Аржанова отдали под суд. Вот тебе и свобода печати!
Окончилась избирательная кампания, члены думы выехали в Петербург. Вначале известия из столицы поступали обнадеживающие. Левые депутаты, в том числе татарские трудовики, смело выдвигали перед правительством свои требования, обвиняли министров. Однако время шло, своды Таврического дворца сотрясались от речей, а перемен в стране никаких.
Нужен был лишь толчок, чтобы окончательно растаяли последние надежды. И он не заставил себя долго ждать: царское правительство разогнало I Государственную думу. Это событие, тяжело переживавшееся демократической интеллигенцией, отрезвило и Тукая.
Коротенькая передовица газеты «Фикер» в номере от 14 июля начинается следующими словами: «8 июля Государственная дума была распущена. Вернее — разогнана».
Тукаем ли написана передовица, мы пока не знаем.
Но в стихотворении «Государственной думе», опубликованном в той же газете, поэт открыто высказывает свое отношение к этому событию, а заодно и к самой Думе.
Безземельному бедняге Говорила: «Не тужи». Ах ты, Дума, Дума, Дума. Мало дела, много шума! Обнадежила, сулила. Где ж земля-то? Покажи! Ах ты, Дума, Дума, Дума. Мало дела, много шума! Любопытны следующие строки: Что ж подверглась ты разгону, Их самих не разогнав?Кто же это «они», которых следовало бы разогнать? Очевидно, правительство, возглавляемое царем.
Теперь Тукай освободился наконец от конституционных иллюзий и окончательно встал на позиции революционной демократии. Как известно, в России начала XX века революционными демократами были люди, проникнутые идеями свержения самодержавия и установления демократического строя, боровшиеся за насильственное изъятие помещичьих и казенных земель и передачу их крестьянам, не осознавшие, однако, исторической миссии рабочего класса и значения социалистической революции. С революционно-демократическими идеями мы встречаемся в ряде статей, фельетонов и стихотворений Тукая, в частности, в статьях «Рассказ деда Петра» и «Дорого очень», в стихотворениях «Паразитам» и «Свобода». Наиболее страстно выражены они в знаменитом стихотворении Тукая «Не уйдем!», написанном летом 1907 года.
В ответ черносотенцам типа Пуришкевича и Келеповского, с провокационой целью указавшим татарам путь в Турцию, Тукай заявил:
Мы не уйдем, мы не уйдем в страну ярма и вечных стонов! Там вместо здешних десяти пятнадцать мы найдем шпионов! И там нагайки, как у нас, для тех, кто бьется за права, И там казаки, как у нас, да лишь под феской голова. Там есть казна, и у казны там есть грабители, — спасибо! Пограбить нищих мужиков там есть любители, — спасибо! Здесь родились мы, здесь росли, вот здесь мы встретим смертный час, Вот с этой русскою землей сама судьба связала нас.Тукай отнюдь не ратовал за безропотное примирение с общественным строем царской России. Он за демократическое преобразование страны.
Прочь, твари низкие, не вам, не вам смутить мечты святые: К единой цели мы идем, свободной мы хотим России.После разгона Думы в стихах, статьях и фельетонах Тукая появляется слово «социализм». В стихотворении «Паразитам» он пишет:
Мал я, но в борьбе неистов, ибо путь социалистов — Это и моя дорога, справедливая, прямая.В фельетоне «Условия» Тукай негодует:
«Пока не рухнет капиталистическая система, не установится социалистический строй и капитал не перестанет быть завесой истины, я не вижу никакого смысла в том, чтобы считаться мусульманином.
Я хочу сказать, что тот, кто в душе доволен этой действительностью, тот и не правоверный, и не мусульманин, и не человек.
...Поэтому если даже у тебя недостает смелости засучив рукава служить победе социализма, то, по крайней мере, не следует поносить его и в душе враждовать с ним».
Тукай убежден, что социализм непременно наступит. Надо ли доказывать, что тукаевский социализм — это еще отнюдь не социализм научный. Он не видит принципиальной разницы между ним и социализмом эсеровским, мелкобуржуазным.
Г. Кариев вспоминает: «В ту зиму (конец 1906— начало 1907 года. — И. Н.) Тукаев увлекался левыми партиями, и несколько его стихотворений в левацком духе, написанных под влиянием этого увлечения, были опубликованы в «Тавыш» («Голос») — одной из газет татарских эсеров».
В апреле 1907 года Тукай обращается к этой газете с приветственными стихами:
Рабочие! Ваш «Голос» вышел, истын друг. Прислушайтесь, чтобы каждый слышал чистый звук.И далее:
Борись, рабочий! За права свои дерись, В безропотных — клыки вонзают... не мирись!В последних строках явно слышен отзвук эсеровского лозунга «В борьбе обретешь ты право свое!».
Стихотворение «Размышления одного татарского поэта» в первой публикации содержало и такие строки: «Душа моя бесстрашна, как эсер, душа моя подобна аду».
Нет ничего удивительного, что левые эсеры представлялись молодым татарским интеллигентам, недовольным существующими порядками, в том числе п Тукаю, героями, окутанными романтическим ореолом. Их экспроприаторские и террористические подвиги многим вскружили голову. Рассказывали, что они послали некоему богатею записку: «Если в такое-то время, в такое-то место не принесешь тысячу рублей, лишишься головы». Что тому было делать, отнес тысячу рублей. Одна группа эсеров, по слухам, ограбила банк, другая — почтовый поезд, где-то бросили бомбу в губернатора, где-то застрелили жандармского полковника.
Освободившегося от конституционных иллюзий молодого Тукая переполняет ненависть к полиций, чиновникам, пузатым богачам, их адвокатам, и естественно, что на первых порах эсеры подкупают его своей внешней эффектной «революционностью». Не могли не прийтись ему по душе и такие строки из эсеровской программной статьи, опубликованной в газете «Танг юлдузы» («Утренняя звезда»): «Партии, борющиеся за счастливую жизнь во всем мире, за всеобщее братство, отныне будут вынуждены силе противопоставить силу».
В. И. Ленин писал: «Мы считаем по-прежнему воззрения социалистов-революционеров воззрениями не социалистическими, а революционно-демократическими...» (курсив мой. — И. И.)7.
Симпатии к эсерам, которые в конце 1906 — начале 1907 года питал молодой поэт, были недолговечны. Но они были еще одним свидетельством перехода Тукая на позиции революционной демократии.
4
6 января 1907 года газета «Фикер» поместила следующее объявление:
«На днях я покинул медресе «Мутыйгия». Исходя из этого, сообщаю друзьям и близким, что с сегодняшнего дня адресованные мне письма следует направлять по адресу: «Уральск. Гостиница «Казань». Тукаеву. С уважением Г. Тукаев».
То была не простая перемена места жительства, а официальный разрыв с медресе. Габдулла становится профессиональным журналистом, публицистом и поэтом. Все решилось в декабре 1906 года. «Мы просидели чуть ли не до утра, — утверждает Кариев, — и решили втроем, Тукаев, Белюков и я, покинуть медресе. Хотя я был из другого медресе, мы договорились поселиться вместе в гостинице». Наняли извозчика и прибыли в гостиницу «Казань», которая была только что открыта и к тому же считалась «национальной»: ее содержала компания, возглавляемая Муртазой Губайдуллиным.
Тукай поселился в отдельном номере. Комната была невелика: вся обстановка — кровать, стол и два стула, но стоила немало — пятнадцать рублей в месяц. Став обладателем отдельного номера в настоящей гостинице, двадцатилетний Габдулла взялся за работу. Свет горел в его окне ночи напролет.
Журнал «Уклар» целиком на Тукае. В других изданиях его обязанности тоже не ограничиваются корректурой: мало-помалу Мутыгый взваливает на его плечи все редактирование. «Он стал ведущим поэтом и публицистом в «Фикере», «Эль-гаср эль-джадиде» и «Укларе» и мог всю работу целиком взять в свои руки», — пишет о нем Мутыгый. Если помнить, что Мутыгый любил во всем на первый план выставлять собственную персону, эти слова говорят о многом..
И вдруг в самый разгар работы Мутыгый неожиданно увольняет Габдуллу из редакции. Если перелистать стихи и статьи Тукая, посвященные Мутыгыю, то недоумение возрастает еще более. Так, в августовском номере журнала «Эль-гаср эль-джадид» (1906) в стихотворении «Редактор» Габдулла писал:
Правдолюб гоним повсюду и всегда. Но день придет — И любовь свою в награду даст народ родной тебе.И вот Тукая, написавшего о нем такие слова, Мутыгый увольняет с работы. Как это объяснить?
«Встав в модную в те годы позу человека, подстрекающего рабочих к забастовкам, он принялся подговаривать рабочих моей типографии бросить работу и потребовать прибавки к жалованью. Я узнал о его роли в этой истории и неоднократно делал ему внушения, но без толку. Габдулла-эфенди продолжал свои подстрекательства. Поэтому мне в конце концов пришлось {всего за две недели до закрытия моей типографии) уволить его с работы». Так писал Мутыгый в 1914 году.
Личные отношения Тукая с Мутыгыем складывались непросто. Габдулла уже давно заметил слабости Камиля. В 1905 году, когда Мутыгый стал хозяином типографии, издателем и редактором, такие качества его натуры, как честолюбие, стремление выделиться, приняли комический характер. В начале 1906 года он вознамерился даже выставить свою кандидатуру в думу. Все это, естественно, претило Тукаю, давало повод для иронии. Но основной причиной, которая привела к окончательному разрыву, все-таки были расхождения во взглядах. Если Мутыгый не мог еще отделаться от своих либеральных убеждений, то Тукай, как мы заметили, твердо встал на революционно-демократические позиции. А это, конечно, не могло не сказаться на их отношениях.
Г. Гадельшин, служивший в издательстве конторщиком, вспоминал: «Он постоянно спорил с Камилем Мутыгыем по разным вопросам. Однажды, помнится, они поссорились из-за большого объема работы и ничтожного гонорара. Под конец Тукай свел разговор к эксплуатации рабочей силы и заметил: «Что ж, тебе слава, а нам работа».
От этих слов до агитации среди рабочих один шаг. Нужно остановиться и на другой версии увольнения (Гукая. В воспоминаниях, написанных в тридцатые годы и сохранившихся в архиве, Мутыгый утверждал, что Тукай «был уволен из типографии вовсе не за призыв рабочих к забастовке, он никогда этим не занимался, а потому, что часто не являлся на работу, а если и приходил, то в нетрезвом виде и вообще нарушал дисциплину».
Но ведь это противоречит тому, что Мутыгый говорил прежде. Как же он объясняет это? Очень просто. В 1914 году он, видите ли, желал изобразить Тукая передовым человеком в целях революционного воспитания читателей. К тому же в условиях цензуры, утверждает Мутыгый, подлинную правду и писать было нельзя.
Странная логика! О призыве Тукая к забастовке можно было писать, а о нарушении дисциплины нельзя.
Впрочем, Камиля Мутыгыя можно понять: в тридцатые годы, когда он писал свои последние воспоминания, положение у него было незавидное. Общественность, забыв о его полезной деятельности в 1905—1907 годах, смотрит на него косо. Сыграла свою роль и сатира Тукая, направленная против него. Да тут еще, оказывается, он прогнал поэта с работы за революционную деятельность. И вот, не в силах изменить установившееся к нему отношение, Мутыгый, чтобы снять с себя хоть одно из тяжких обвинений, выдумывает новую версию...
Что касается Тукая, то для юноши, который не желал довольствоваться печатанием и распространением листовок и стремился к большему, было совершенно естественным призвать рабочих типографии к забастовке, когда прекратили работу на мелькомбинате и в железнодорожном депо.
Но как тогда объяснить похвальные слова Тукая в адрес Мутыгыя? Не двуличие ли это, не беспринципность ли?
Да, Габдулла видел недостатки Мутыгыя, взгляды их не во всем совпадали, но он понимал, что Мутыгый делал полезное для народа дело, зпал, в каких нелегких условиях ему приходилось работать. Во-первых, материальные затруднения: подписка и розничная продажа не покрывали и половины расходов на издание двух газет и двух журналов. Во-вторых, за «Фикером», так же как за «Уральцем», цензура следила в оба глаза. Постоянно приходилось куда-то ходить, объясняться, утрясать, изыскивать возможность для спасения то одного, то другого материала. И наконец, в-третьих, и сам Мутыгый, и его детища постоянно подвергались травле татарскими консерваторами, реакционной печатью. В Казани клерикальная газета «Баян эль-хак» дошла до призывов к погрому, после чего купец Хайрулла Гадельшин и Гайнутдин-кари начали собирать «отряд» для разгрома типографии и редакции «Фикера» и избиения семьи Мутыгыя.
Тукай, конечно, не остался в стороне от этой борьбы. Он пишет фельетоны, высмеивающие газету «Баян эль-хак» и ее издателя А. Сайдашева, издевается над злопыхателями «Фикера» в самом Уральске. Стихотворение «Редактору» написано именно в эти дни, чтобы поддержать Мутыгыя.
Тучи над головой Мутыгыя между тем продолжали сгущаться. В конце 1906 года он вместе со своим отцом Мутыйгуллой-хазретом попадает на скамью подсудимых. Когда в январе 190В года редактор «Уральца» Н. Д. Аржанов был привлечен к суду и газета была запрещена, Мутыгый, отделавшись легким испугом, недолго думая, подал прошение с просьбой вместо закрытого издания разрешить новое, газету «Уральский дневник», и предложил себя в качестве издателя и редактора. В горячие месяцы 1905 года приобретение типографии и получение разрешения на издание газеты «Фикер» не встретило особых препятствий. Теперь же у Мутыгыя потребовали предъявить свидетельство о рождении. Дело в том, что получить издательские права по закону мог человек не моложе двадцати пяти лет.
Камилю всего двадцать три, но что с того? Ведь регистрация рождений, женитьб, смертей в руках его отца, ахуна-хазрета! И у Камнля на руках оказывается свидетельство, где в графе «Год рождения» вместо 1883-го указан 1880-й. Прибавив себе три года, Мутыгый преследовал и другую цель: преодолеть возрастной ценз для участия в избирательной кампании.
Сперва все шло гладко. Мутыгый начал издавать «Уральский дневник», участвовал в выборах, если и не в качестве депутата, то все же не простым избирателем, а выборщиком.
Но вскоре чей-то донос раскрыл тайну свидетельства о рождении. В Начале 1907 года прокуратура возбудила следствие. 12 ноября состоялся суд, который приговорил Мутыйгуллу Тухватуллина к пяти месяцам заключения в крепости, а Мухаметкамиля Тухватуллина — к году тюрьмы. Лишь после долгого обивания порогов и апелляций в апреле 1908 года это постановление суда было аннулировано Саратовской судебной палатой.
Между тем власти, не дожидаясь судебного разбирательства, 22 февраля 1907 года лишили Камиля Мутыгыя издательских прав. Типографию вместе с редакциями купил один из самых богатых татар Уральска, Муртаза Губайдуллин, которому захотелось поиграть в прогрессивного деятеля. Он назначил редактором Валиуллу Хамидуллина, до этого подвизавшегося в медресе по хозяйственной части, и тот снова взял на работу Габдуллу: надо же было кому-то выпускать газеты и журналы.
Но радость Тукая длилась Еедолго. «Фикер», «Эль-гаср эль-джадид», «Уклар», с трудом дотянув до мая, навсегда прекратили свое существование. Новый владелец, сообразив, что издания приносят одни убытки да беспокойство, поспешил их закрыть. Ему Тукай посвятил стихотворение «Богачу, спекулирующему типографией»:
Я полагал: он честным стал, купив станок печатный... Какой ты честный человек? Ты дустозвон, как прежде! Я думал: он теперы борец на ниве просвещения... Увы, ты на руку нечист, ты загрязнен, как прежде!Поэт снова без работы. Деньги тают с каждым днем. Хорошо еще, что есть такой друг, как Габдулла Кариев! Он неплохо зарабатывает чтением Корана, а деньги отдает в общий котел.
У Мутыгыя был еще а книжный магазин «Прогресс», закрывшийся вместе с типографией. Распродажу оставшихся книг за определенный процент с выручки Мутыгый поручает Кариеву. «Конечно, — пишет Кариев, — у меня не было разрешения на продажу книг. Да я и не знал, что оно необходимо. Вскоре после начала распродажи полиция за неимением разрешения конфисковала книги, а меня сутки продержали в части». Кариев, однако, недоговаривает. В архиве сохранилось свидетельство о том, что 8 июля 1907 года в руки пристава попали две прокламации, отпечатанные Уральской организацией РСДРП (Екатеринбург). Человек, доставивший их в полицию, утверждал, что получил их у Минлебая Хайруллина (Г. Кариева). Полиция вломилась в номер Кариева с обыском и нашла несколько брошюр революционного содержания. Юноша заявил, что нашел прокламации на улице, а брошюры оказались среди книг Мутыгыя.
В другом из архивных документов прокурор Саратовской судебной палаты извещается о том, что следствие по делу М. Хайруллина закончено и материалы высланы. До суда, однако, дело не дошло: Кариев поспешил уехать из Уральска и с августа месяца того же года стал актером в незадолго до того организовавшейся труппе «Сайяр» («Кочующий театр»).
«После этого (то есть после обыска. — И. Н.) Тукаев окончательно порвал с партией, — продолжает Кариев, — мы оба дали такой зарок». Неудивительно, что Кариев, который и позже не отличался особой политической активностью, едва не попав в когти жандармерии, отшатнулся от революционеров. Возможно, что в воспоминаниях, опубликованных в 1913 году, упирая на данный ими «зарок» и ничего не говоря о прокламациях и брошюрах, он думал о своей безопасности.
Что касается Тукая, то, как мы знаем, он не был официально членом какой-либо партии и, симпатизируя эсерам, охотно общался с социал-демократами. В 1907 году Тукай решил, что главное его дело — литературное творчество, и отошел от практической работы в эсеровском духе, и это вполне объяснимо. Но от сложившихся в Уральске убеждений, от своих революционно-демократических взглядов поэт не отступал никогда.
С середины 1806-го до осени 1907-го, то есть за год с лишним, Тукая написал около пятидесяти стихотворений, одну поэму, а также свыше сорока статей и фельетонов. Но главное не в количестве. Почти все его стихи написаны теперь по-татарски, хотя иногда, словно куколь среди янтарных зерен пшеницы, встречаются и арабско-персидскне выражения. Он берет язык народа, отражающий его образное мышление, и, огранив его, подобно мастеру, обрабатывающему «сырой» алмаз, возвращает народу.
Понемногу исчезает из его стихов и дидактика. Исполненные риторики стихи юного Тукая были написаны не от «я», а от «мы». В одном из произведений он даже поучал: «Не говори «я», это приводит к беде». Теперь в стихах, поднимающих социальные проблемы, он говорит от своего имени.
Стихотворение «Приятелю, который просит совета, стоит ли жить на свете» (весна 1907 года) написано в традиционном жанре назидания. Но это лишь поэтический прием, в чем мы убедимся, прочтя хотя бы следующие строчки:
На свете стоит жить, — услуживать пером, Лаская богача, дрожа пред богачом, Скрывая истину, не ведая стыда, Учтя, что истина не дружит с животом. Жить тяжко, если ты не молишься мошне, Поклоны ей не бьешь, не предан ей вполне. Блаженствуй, если ты — реакции слуга, «Прямое» — говоришь о явной кривизне.Здесь Тукай подвергает уничтожающей критике уже не столько остатки феодальной старины, как это чаще всего было до сей поры, сколько нравы буржуазного общества, их первооснову — власть капитала. Даже строфа, заключающая стихотворение, где речь, казалось бы, идет лишь о его личном отвращении к жизни, звучит как протест, как отрицание мира лавочников и торгашей.
В эту пору написана им и поэма-сказка «Шурале». В примечании к ней поэт замечает: «Шурале» я написал, вдохновившись воссозданными Пушкиным и Лермонтовым фантастическими сказками, которые они слышали в деревне».
Если пушкинская поэма «Руслан и Людмила» знаменовала собой начало новой русской поэзии, современного литературного языка, то «Шурале» суждена была аналогичная роль в поэзии татарской. Она послужила темой для пьес, для балета, обошедшего сцены нашей страны, для песен и симфоний, в ней черпали вдохновение целые поколения татарских скульпторов и художников.
Еще не вышла из печати ни одна книга Тукая, а его имя уже становится известным за пределами Уральска. Драматург Галиасгар Камал писал: «Я стал выискивать в газетах стихи Тукая, ждать их». Редактор газеты «Утренняя звезда» Сагит Рамиев свидетельствовал: «...Он стал нам посылать стихи, и мы с удовольствием печатали их в нашей газете». Писатель и критик Фатых Амирхан вспоминал: «Я обратил внимание на его фамилию после того, как прочел несколько его стихов в журнале «Эль-гаср эль-джадид». Риза Фахретдинов, писатель и педагог, историк и журналист, пользовавшийся большим авторитетом среди татарской интеллигенции, познакомившись в 1906 году со стихотворениями Тукая, опубликованными в периодической печати, сказал: «Этот юноша станет татарским Маари».
Из различных журналов и газет к Тукаю начали поступать предложения сотрудничать. В начале 1907 года пришло письмо из редакции газеты «Вакыт», издававшейся в Оренбурге. Летом того же года Габдулла получил приглашение из Казани, от учредителей газеты «Эль-ислах» фактическим редактором которой стал потом Ф. Амирхан.
В 1907 году казанское издательство Гильмутдина Шарафа приступило к выпуску серии «Библиотека поэзии». Габдулла обратился в это издательство с предложением опубликовать его стихи отдельной книгой. Ответ был положительным, и, подготовив сборник, Габдулла отправил его в Казань с сопроводительным письмом: «Внимательно посмотрите книгу сами и, если согласитесь на издание, то вышлите поскорее 50 рублей. Если нет, то верните рукопись».
До тех пор пока это письмо не было опубликовано, с легкой руки Г. Кариева считалось, что Шараф и его сотрудники сами испросили дозволения у Тукая издать отдельной книгой его стихи, опубликованные в «Фикерв» и «Эль-гаср эль-джадиде», и, получив согласие, купили авторские права за тридцать рублей. «Тукаев, — писал Кариев, — со смехом говорил мне: «Как я обставил Шарафа! Разве стоит покупать напечатанные стихи?!»
Как ни симпатично выглядит, по этой версии, юношеская простота Тукая, все же он был не настолько наивен. Рассказ Кариева не отвечает истине. Да, в это время практический опыт Тукая оставлял желать лучшего. Тем не менее он, конечно, знал, что при издании опубликованных в газетах и журналах стихотворений отдельной книгой издатель платит гонорар.
Шараф в короткий срок выпустил не одну, а две книжки молодого поэта.
Габдулла и прежде верил в свой талант. Теперь же, когда его рукопись была принята известным издателем, а из газет поступили предложения о сотрудничестве, когда о нем лестно отозвался такой авторитет, как Риза Фахретдинов, и без того крохотный Уральск стал казаться Габдулле еще меньше. Ему не терпится вырваться из него в широкий мир. Куда же? Конечно, в Казань! Только в центре татарской культуры может он исполнить обет, данный своему народу.
Сколь ни печальным было детство, родная земля священра. Унижения, голод, холод уже забыты. За сизой дымкой времени редкие радости детства кажутся прекрасными. Леса Кырлая, цветущие луга, узкая речушка и холодные родники тревожат сердце, зовут к себе Габдуллу.
А о Казани и говорить нечего! Каменный город, показавшийся ему когда-то необыкновенно величественным, через двенадцать лет, вне всякого сомнения, представлялся ему в мечтах сверкающим, сказочным.
О всевозраставшем нетерпении Тукая свидетельствует и стихотворение «Пара лошадей». Сев в повозку, поэт прощается с городом «своей жизни» и держит путь в Казань. Противоречивые чувства и мысли обуревают его в дороге. Наконец возглас кучера приводит его в себя:
— Эй, шакирд, вставай скорее! Вот Казань перед тобой! — Вздрогнул я, услышав это, и на сердце веселей. — Ну, айда быстрее, кучер! Погоняй своих коней! — Слышу я: призыв к намазу будит утреннюю рань. О Казань, ты грусть и бодрость! Светозарная Казань!Долгое время даже специалисты считали, что Тукай иаписал это стихотворение после возвращения в Казань. Но перелистаем подшивку газеты «Фикер» за 1907 год. Стихи опубликованы 6 мая. Значит, они написаны за пять месяцев до отъезда Тукая из Уральска. Здесь отразилась его мечта.
Что же мешает ее осуществить? В Уральске Тукая ничто, пожалуй, не удерживает. Газеты и журналы закрылись, сам он без работы, а из Казани зовут и зовут. К тому же осенью все равно надо ехать туда на призывную комиссию. Почему же он медлит, почему все лето сидит в Уральске? Может, нет денег?
Еще больше удивляет следующий документ: «Мы, нижеподписавшиеся, решили издавать в городе Уральске газету на татарском языке под названием «Яна Турмуш» («Новая жизнь») на паях...» Далее говорится о том, что стоимость одного пая равняется ста рублям, что делом будет руководить Мутыгый. За сим следуют подписи и размер внесенного пая: К. Мутыгый Тухватуллин — 500 рублей, Мухамметгали Мусин — 100 рублей, Г. Тукаев — 100 рублей. Дата и место свершения: «Город Уральск. Июля 20 дня 1907 года».
Значит, и в конце июля Тукай еще не утвердился в своем решении перебраться в Казань? Мало того, еслп газета пойдет, он и после призывной комиссии — только бы не забрили в солдаты — готов был вновь возвратиться в Уральск.
Странность эта, по-видимому, объясняется нелюбовью Габдуллы к переменам, нерешительностью, когда речь идет о его личной судьбе. В самом деле, в Уральске жизнь у него налажена: хоть с клопами, но свой номер в гостинице, он одет-обут и пока что сыт. Здесь его окружают родственники, друзья. А как сложится жизнь в Казани? Где он устроится, на какие средства будет жить?
Есть и другая причина, о которой Габдулла, по всей видимости, не хочет признаться себе самому. В Уральске Тукай играет первую скрипку. А как будет в Казани?.. Пока он прозябал здесь, в глуши, казанская молодежь, наверное, ушла далеко вперед. Не станут ли там глядеть на него свысока, как на провинциала?
В колебаниях и размышлениях проходят дни, недели. Тукай занят своими сборниками, которые готовятся к изданию в Казани, пишет новые стихи, посылает их Г. Шарафу. Дом, оставшийся от отца, к этому времени еще был цел. Брат Габдуллы Мухамметшариф давно умер, а сестра Газиза, видимо, на него и не претендовала. По просьбе Габдуллы этот дом был продан и вырученные за него сто рублей отправлены в Уральск. А призыв тем временем приближается.
Наступает сентябрь. Вот и день, когда нужно наконец оставить город, где прожита большая часть жизни.
Сборы были недолги: в небольшую камышовую корзинку с крышкой Габдулла сложил белье, мелочишку и до отказа набил сверху книгами, среди них тома Пушкина и Лермонтова.
В тот же день или несколько раньше он сфотографировался с друзьями на память: буфетчиком гостиницы «Казань» Назипом Зариновым, счетоводом купца Губайдуллина Курушкиным, приказчиком Рахматуллой Хайруллиным, Сиразетдином Белюковым, вместе с которым Тукай покинул медресе. К сожалению, на фото нет Г. Кариева, очевидно, он уже покинул Уральск.
Все готово. Подкатили лошади. По обычаю провожающие, присев, прочитали молитву. А затем все отправились на станцию.
Поезд, ускоряя ход, увозит поэта в его любимую Казань. Что-то ждет его там? В его душе надежды и сомнения, радость и печаль — все слилось воедино.
Глава четвертая На родной земле
1
В начале октября 1907 года секретарь казанской газеты «Юлдуз» («Звезда») Галиасгар Камал сидел за работой. Раздался стук в дверь, и вошел невысокий худощавый юноша, почти подросток. На нем был не то казакин, не то летнее пальто, на ногах не то сапоги, не то ичиги. Брюки навыпуск. Голова непокрыта. Волосы длинные.
Поскольку шакирды являлись в редакцию довольно часто, Камал, не удостоив посетителя вниманием, снова склонился над столом. Но странное дело: гость без стеснения подошел к редакторскому столу, уселся на стул и принялся листать лежавшие на столе газеты. Развязность «юнца» пришлась Галиасгару не по душе, он с неодобрением глянул на посетителя. Тот помолчал. Потом спросил с независимым видом:
— Скоро ли придет Хади-эфенди?
Ясно. Сынок какого-то хазрета. Явился передать редактору поклон от отца. Галиасгар что-то буркнул в ответ, после чего вновь воцарилось длительное молчание. Через некоторое время «сынок хазрета» снова спросил:
— Вы, наверное, получали наши газеты и журналы, Галиасгар-эфенди?
— Какие газеты и журналы?
— «Фикер», «Эль-гаср эль-джадид», «Уклар».
— Вы из Уральска?
— Да...
— Может, знаете и Габдуллу Тукая, который пишет стззхи?
Чуть улыбнувшись, «юнец» ответил:
— Это я и есть!
Так Тукай познакомился с драматургом Галиасгаром Камалом.
В том же духе состоялось знакомство Тукая и с редактором газеты «Танг юлдузы» («Утренняя звезда») поэтом Сагитом Рамиевым. В тот вечер, когда Тукай постучался в его номер в гостинице «Булгар», Сагиту был свет немил: шли аресты его единомышленников. Тукай, ничего об этом не ведая, сообщил, что он из Уральска, и передал привет от Камиля Мутыгыя. Хозяин, неприязненно глянув на незваного гостя, подошел к окну и уставился в темноту. Не ожидая приглашения, Тукай сел на свободный от книг стул. По-прежнему глядя в окно, поэт спросил:
— Вы там были шакирдом?
— И шакирдом и учителем.
«Как бы не так, похож ты на учителя!» — подумал Сагит. После затянувшейся паузы Тукай вновь нарушил молчание:
— Сагит-эфенди, я послал вам перевод «Царя-голода». Вы его не напечатали и не ответили мне.
Хозяин быстро обернулся.
— Кто вы такой?
— Габдулла Тукаев...
Габдулла с почтением относился и к Рамиеву и к Камалу. Ведь это люди известные в таком городе, как Казань! Велико было желание познакомиться с ними, а может, подружиться. Но как его примут? Не сочтут ли за деревенщину? У Габдуллы своя гордость. И он не торопится первым протягивать руку. С наивной хитростью скрывает истинную цель своего прихода.
Мы не знаем, в какой день Тукай приехал в Казань, и не можем точно сказать, в каком из номеров гостиницы «Булгар» он остановился сначала. Известно лишь, что после призывной комиссии он поселился в комнате под номером сорок. Этот номер стал впоследствии «знаменит» — ему посвящено множество стихов, поэма, он упоминается в статьях о Тукае, в исследованиях.
В Казани Тукай встретился с ведущими публицистами, завел знакомства среди литературной молодежи. Подготовился он и к поездке на родину: обновил гардероб, купил гостинцы для родных и близких. Не мог он теперь явиться домой после 12-летнего отсутствия бедняком: ведь он уже не только сын Гарифа-муллы, но и поэт. В Куш-лауче и в Кырлае живут друзья детства, там его названые мать и брат Садри, в деревне Каенсар — сестра Саджида, «белокрылый ангел», образ которой он хранит в душе.
По воспоминаниям современников выходит, что в связи с призывом Тукай провел в Заказанье месяц-полтора. В действительности в Заказанье он пробыл не более двух недель.
15—16 октября он все еще в городе: надо просмотреть корректуру статьи «Критика — предмет нужный», которую он написал для газеты «Эль-ислах» («Реформа»). «Критика в наше время, когда появляются буквально горы книг, брошюр, газет и журналов, не только нужна, она крайне необходима... — утверждал Тукай, — но критиком не должен быть случайный человек».
Призыв окончился 27 октября. И Тукай тут же вернулся в Казань. Как ни считай, больше двенадцати-четырнадцати дней не получается.
Первым делом Тукай заехал в Каенсар. Саджида утверждает, что «до комиссии Габдулла прожил у нас дней десять», но ей явно изменяет память.
По дороге из Каенсара в Кушлауч Тукай останавливался в Кырлае, пил чай у своего первого учителя, муллы Фатхеррахмана, зашел в дом сверстника Ахуна Сабирзянова. Но ни сына муллы Халилрахмана, ни Ахуяа он не застал: они уехали на призывной пункт. Посетил Габдулла и дом покойного уже Сагди.
В Кушлауче Габдулла остановился на постоялом дворе Сидтика, того самого дядьки, которого маленький Габдулла не пожелал приветствовать, потому что тот был пьян.
Рано утром 24 октября по первой пороше Габдулла выехал в село Большая Атня. Возле волостной управы столпотворение: шел призыв рекрутов из четырех волостей. Призывников собралось более пятисот. Прибавьте сюда родителей и близких родственников да собравшихся поглазеть на призыв сельчан. Рядом выстроились тележки мелких торговцев. На весах, привязанных к оглобле, продавались конфеты, пряники, орехи, подсолнух. Площадь гудела как улей.
Старосты подвели рекрутов к крыльцу управы. Из дверей вышел воинский писарь, и началась перекличка, за нею жеребьевка. Скрученные бумажки с номером положили в бочонок, перемешали. Призывники по очереди стали тянуть жребий, руки у них дрожали: счастливый или несчастливый выпадет номер. Вытянув бумажку, протягивали ее писарю. Тот, записав номер, возвращает бумажку рекруту. Какой номер выпал Габдулле, неизвестно.
После жеребьевки местные, как обычно, разошлись по своим домам, приезжие — по квартирам. Подвыпили, снова высыпали на улицу и пошли по деревне из конца в конец, распевая песни под гармошку. Старики с муллой смотрели на них с неодобрением, но молчали: как-никак на царскую службу уходят.
После жеребьевки Габдулла уехал за восемь верст от Атни в деревню Большой Менгер и остановился в доме своих знакомых по Уральску. Здесь он прожил три дня, до конца призыва.
В Большом Менгере Габдулла побывал в медресе, сходил к мечети, но в самую мечеть не зашел, а посидел на подоконнике, «в сенях».
И в Атне и в Менгере на Тукая сразу обратили внимание. Рекруты были в бешметах и армяках, на ногах лапти, лишь немногие в сапогах. А на Габдулле, несмотря на холод, демисезонное пальто й штиблеты, на голове кепка. Как есть байский сынок. Таких рекруты не жаловали: если освободится от призыва и не угостит остальных на славу, мог и по зубам схлопотать.
Конечно же, пошло перешептывание:
— Это еще кто?
— Говорят, сын хазрета из Кушлауча.
— Иди ты! Разве у него такой взрослый сын?
— Не у этого, а у покойного хазрета. В Уральске живет. Ученый, бают, парень.
То обстоятельство что Тукай был махдумом, а также слава о его учености, простота и естественность обращения обезоруживали даже самых задиристых парней. С водкой к нему не приставали, пить с собой не заставляли. А если и подходили, то для того, чтобы высказать уважение, услышать совет, пожаловаться.
Наблюдательный и отзывчивый Габдулла немало повидал за эти три дня. Богатырского вида парни в подпитии хвастали, стуча себя кулаками в грудь: «Пусть только нас возьмут, покажем чужеземному царю кузькину мать!»
А из дверей управы выходили белее стены. У тех, кто избавился от призыва, рот до ушей.
В этой самой Атне, где собрались взрослые джигиты из четырех волостей, их отцы и родичи, Тукаю снова пришлось столкнуться с несправедливостью и неравенством. В архивных фондах призывных комиссий хранятся десятки жалоб, из которых следует, что нередко совершенно здоровые парни освобождались от повинности, а тем, кого брать не следовало, брили лоб. Подкупы членов комиссии, особенно врачей, были явлением обыденным.
Габдулла комиссию не прошел. По свидетельству современников, его отвергли единодушно: «И ростом не вышел, и силенок маловато. Да еще глаз с изъяном».
Он поспешил в Каенсар обрадовать Саджиду. Как та его ни уговаривала погостить еще денек, Габдулла не остался. Его ждала Казань.
На прощанье Саджида снабдила его шерстяными варежками, подарила валенки. Но эти валенки недолго согревали поэта. Вскоре Саджида получила письмо из Казани, в котором Габдулла, между прочим, сообщил: «А те самые валенки сгорели».
2
Вход в гостиницу «Булгар» был с Евангелистовской улицы, ныне Татарстан. У парадных дверей гостей приветствовал швейцар Закир в картузе с позументом. Если по железной лестнице подняться на третий этаж и пройти направо вдоль длинного коридора, то слева от ресторана, на самой крайней двери, можно было увидеть четырехугольную жестянку с цифрой 40. Когда на стук никто не отзывался, посетители открывали дверь сами: хозяин, уходя из номера, никогда не запирал.
Справа стояла узкая железная кровать, покрытая серым одеялом, слева, у единственного окна, выходящего на озеро Кабан, — письменный стол. Подоконник, стол, под столом — все было завалено книгами, рукописями, бумагами. На краю столешницы стояла обгоревшая свеча — электричество часто выключали. Два простых стула. Что еще? Да, слева у двери, на гвозде кепка и пальто, повешенные за пуговичную петлю на лацкане. Комната маленькая, тесная, по нынешним меркам не больше десяти квадратных метров. Так выглядел сороковой номер во времена Тукая.
Избавившись от солдатчины, он окончательно решил поселиться в Казани. Но для этого нужно было поступить на службу, которая давала бы хоть какой-то заработок. В первый же день Габдулла расспросил редактора «Эль-ислаха» В. Бахтиярова, как идут дела у газеты, и услышал в ответ: «Пока что трудимся вдвоем с Фатыхом Амирханом, обещает сотрудничать и кое-кто еще». — «В таком случае третьим буду я», — сказал Тукай.
30 декабря 1907 года он пишет в одном из писем: «По собственному желанию служу в «Эль-ислахе», но жалованье получаю в другом месте». За серьезным тоном письма слышится горькая усмешка.
Тукай не только печатал в газете свои стихи и статьи. Он ходил в редакцию как постоянный сотрудник, принимал участие в обсуждении и обработке материалов и, по словам Амирхана, «стал считать себя членом редколлегии». Ему было даже поручено вести литературный отдел. Но без вознаграждения.
Что поделать? За «Эль-ислахом» не стояли толстосумы: Деньги, необходимые для издания, составляли личные средства Амирхана и Бахтиярова, взносы нескольких состоятельных друзей Амирхана и гроши, собранные у шакирдов. Жалованье — пятнадцать рублей — получал лишь редактор В. Бахтияров. Двадцать рублей в месяц предназначались на расходы секретариата и авторский гонорар, который выплачивался редко и в ничтожных суммах.
Иным было положение другой газеты, «Эхбар» («Известия»). Она издавалась на средства компании крупных казанских баев: Сулеймана Аитова, Садыка Галикеева, Садыка Мусина, Гайнутдина Муэминова и других. Руководители «Эхбара» за приличное жалованье пригласили Тукая сотрудничать в газете. Но тот, поколебавшись, отказался и вскоре поступил экспедитором в небольшое издательство «Китап» («Книга») с месячным окладом в двадцать пять рублей.
Современники терялись в догадках, почему поэт, отказавшись от приглашения «Эхбара», взялся за работу, которую мог выполнять любой мало-мальски грамотный человек, умеющий надписать адрес по-русски. Габдулла же помалкивает и работает. Читает корректуры, зашивает посылки и не гнушается сам таскать их на почту.
Лишь через несколько лет он сказал одному из своих приятелей: «Меня приглашали в «Эхбар». Там я должен был переводить все подряд, хочу я этого или нет, и к тому же писать по двести-триста строк в каждый номер. В русском языке после приезда из Уральска я еще хромал, да к тому же и не испытывал желания переводить все, что дадут, хотя уменья, пожалуй, и хватило бы. То была тайна, которую я скрывал в глубине души, не считая возможным кому-либо открыться. Мне не хотелось оконфузиться, поступив в «Эхбар».
Конечно, боязнь оконфузиться сыграла в этой истории свою роль. Об этом говорит и другое признание: «Войдя в среду казанской молодежи, я вначале совсем было потерялся. Тоска напала: зачем я так долго прозябал в Уральске. О многих вещах я был мало осведомлен, а байские сынки чувствовали себя в истории русской литературы как рыба в воде.
Один молодой человек — я считал его обыкновенным переводчиком, — оказывается, так хорошо разбирался в русской литературе, что осмеливался спорить с самим Белинским, критиковавшим даже Пушкина. Чувствуя пробелы в своих знаниях, я молчал и спешил перевести разговор на другие темы».
В первые месяцы после прибытия в Казань Тукай получил еще одно предложение. В письме к Амирхану он спрашивал: «Меня приглашает в Оренбург Фатых Каримов (редактор газеты «Вакыт». — И. Н.). Может, там будет определенная работа и полезный круг серьезных людей. Что делать? Ехать, что ли?»
Тукай в Оренбург не поехал. Мало того, в сатирических куплетах высмеял принявших подобные предложения Бургана Шарафа и Кабира Бакирова: мол, потянулись за длинным рублем.
Он и не мог уехать, что явствует из того же письма: «Если здесь «Эль-ислах» пойдет, да еще будет издаваться юмористический журнал, я с радостью стану служить в горячо любимой газете своей идее». Ясно, что от поездки в Оренбург Тукая в первую очередь удержало политическое направление газеты «Вакыт». Если бы появилась возможность служить своей идее, а она совпадала с программой газеты «Эль-ислах», он и думать не стал бы об Оренбурге.
А «Эхбар»? В одном из донесений Комитета по делам печати казанскому губернатору говорится: «Эхбар» — газета умеренная, еще правее «Баян эль-хака» и «Казанского вестника». Цензор перестарался: «Эхбар», конечно, не была правее клерикального «Баян эль-хака». Но в том, что она стояла правее оренбургской «Вакыт», сомневаться не приходится. Почему же Тукай должен рваться к сотрудничеству в «Эхбаре», если и «Вакыт» для него не подходит? Лучше сотрудничать в «Эль-ислахе», пусть даже получая «жалованье в другом месте», то есть за работу экспедитора.
Еще недавно издавалась газета «Урал» под руководством большевика Хусаина Ямашева, но власти быстро закрыли ее. Недолговечной оказалась издаваемая Галиасгаром Камалом «Азат халык» («Свободный народ»). Были газеты у татарских эсеров, громогласно призывавшие к разрушению старого мира. И они канули в Лету. Была «Фикер», душой которой являлся сам Тукай. И она приказала долго жить.
Единственной революционно-демократической газетой оставалась «Эль-ислах». Но и жандармское управление, и цензура не спускали с газеты бдительного ока. Не оставляли ее без внимания и татарские реакционеры. Казанскому губернатору было подано следующее прошение за подписью городского ахуна и девяти мулл: «В городе Казани с недавних времен издается татарская газета «Эль-ислах», сотрудниками каковой состоят не проявляющие прилежания ученики из разных наших училищ, известные своим неудовлетворительным поведением. Их целью является не прогресс, а, напротив, бунт. Уповая сполна на милостивое внимание Вашего превосходительства, всепокорнейше просим сделать надлежащее распоряжение о приостановлении дальнейшего издания вышеозначенной газеты «Эль-ислах».
О том, что «Эль-ислах» была прогрессивной газетой, свидетельствует, например, следующий отрывок из ее программной статьи: «...политические партии, которые ставят своей целью политические и экономические преобразования, в равной мере открывающие путь к образованию для всех классов (то есть левые партии и в первую очередь социал-демократы. — И. Н.), являются нашими друзьями».
Не желая отсиживаться на третьих ролях, с новой энергией занялся Тукай своим образованием. Он тянется к людям, которых сам считает авторитетами в тех или иных областях, и, прибегая к наивным хитростям, чтобы не обнаружить своего невежества, а то и напрямик выведывает у них, какие книги ему надо прочесть. Если книга есть в продаже, он покупает ее, если нет, находит в библиотеке или у товарищей. «Расходов много, — пишет он сестре Газизе. — Надо читать. На покупку книг, на оплату номера, на белье, на еду, на одежду — на все нужны деньги». Известно, что он пользовался советами Шахара Шарафа, который считался знатоком арабской культуры. Бывал у Н. В. Никольского, задавал ему вопросы, касающиеся литературного языка и истории. Находил наставников для изучения истории русской литературы и среди студентов — русских и татар. Кое-кто из них обитал в том же «Булгаре».
Каких же авторов и что читал в это время Габдулла? Его библиотека исчезла бесследно, как вода, впитавшаяся в песок. Записные книжки и другие бумаги постигла та же участь.
Одному из своих друзей он рассказывал: «Про моего Пушкина, которого я, как драгоценность, вез из самого Уральска, говорят так небрежно: «Надоел!» О нем самом уже не толкуют, а сравнивают критические статьи Белинского и Писарева. Один за Белинского, другой за Писарева».
Габдулла, не вступая в спор, отмечает про себя: «Ага, значит, надо почитать этих критиков».
Прошли месяцы, годы. Тех молодых людей, перед которыми Тукай по приезде в Казань робел, он теперь понимал: «Оказывается, они демонстрировали передо мной сведения, которые только что получили на уроке от учителя».
Да, Тукай не терял зря времени. Он многое постиг и узнал. В стихах, статьях, в фельетонах, в автобиографических заметках и письмах Тукай упоминает имена Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Жуковского, Крылова, Кольцова, Л. Толстого, Гоголя, Островского, Никитина, Куприна, Горького, Л. Андреева, Дмитриева, Буренина, Познякова, Потапенко, Петрова-Скитальца, Иванова-Классика, Измайлова, Сологуба, Надсона, Шекспира, Гёте, Шиллера, Байрона, Гейне, Гамсуна.
Одна из образованных татарских хаиум как-то заметила Амирхану, что такому поэту, как Тукай, необходимо знать хотя бы один европейский язык. Эти слова Фатых с улыбкой передал Габдулле. Сыграли ли они свою роль, неизвестно, но Габдулла вскоре начал брать уроки немецкого языка у некой обрусевшей немки Марии Карловны.
Самообразование, начатое в Казани из самолюбия, усердное чтение, влияние друзей убедили его в необходимости для поэта широких и основательных знаний. «Природный талант Никитина, по-моему, не меньше, чем у Пушкина, — писал он одному из товарищей, — но, не получив систематического образования, он не сумел как нужно воспитать свой дух. Это немаловажный фактор».
В духовном развитии поэта особая роль принадлежала Амирхану.
Фатых Амирхан родился на четыре месяца раньше Тукая, в семье казанского муллы, придерживавшегося умеренных взглядов. Проведя детство в Новотатарской слободе, он был отдан в лучшее медресе Казани — «Мухаммедия» и одновременно посещал «русский класс», который успешно окончил в 1901 году.
В медресе Фатых был одним из лучших учеников. Организатор рукописных газет и журналов, литературных вечеров и спектаклей, он стал руководителем движения шакирдов за реформу обучения. Его имя среди шакирдов, покинувших «Мухаммедию» в знак протеста против тамошних ретроградских порядков.
Фатых, по его словам, принялся «учиться заново»: нанял репетиторов и стал готовиться по гимназической программе. Одним из его учителей был сосланный в Казань студент социал-демократ С. Н. Гассар. Во время революционных событий 1905—1906 годов Фатых помогал Гассару и его товарищам печатать на гектографе листовки. Тогда же он записывает в дневнике: «Арестовали моего учителя Гассара, может, на днях арестуют и меня».
Когда революция пошла на убыль, обострились противоречия между умеренно настроенным отцом и вставшим на «дурной» путь сыном. Фатых почувствовал себя в Казани неуютно. Б это время его пригласили секретарем в журнал «Тербиятель-этфаль» («Детское воспитание»), который должен был выходить в Москве. «В Москве я завел знакомство со множеством семей татарских и русских интеллигентов и даже сановников», — писал он своему другу. Для кругозора и жизненного опыта общение с этой средой оказалось небесполезным.
Лето 1907 года Амирхан провел в Казани. Тут его постигло несчастье: 15 августа его разбил паралич, он ослеп на один глаз. Позднее зрение восстановилось, руки стали слушаться, но ни грязи, ни воды не помогли ему встать на ноги, и он на всю жизнь остался прикованным к коляске.
Тем не менее Амирхан продолжал готовиться к экзамену за гимназический курс, руководил газетой «Эль-ислах», где писал для каждого номера передовую статью, один-два фельетона, рецензию или рассказ.
Только избранные работы Амирхана составили два толстых тома, среди которых немало великолепных произведений. Все это было написано за неполных десять дореволюционных лет человеком, который без посторонней помощи не мог даже сесть в поданный к крыльцу экипаж.
Знакомство Тукая с Амирханом состоялось на первой неделе октября 1907 года в доме Амирхановых, куда привел поэта Бурган Шараф.
Как вспоминал впоследствии Амирхан, «усевшись на указанное место, гость некоторое время разглядывал меня. На все мои вопросы отвечал односложно, отрывисто. Один глаз его был поврежден бельмом, но в его взгляде даже не очень внимательный человек сразу обнаруживал и проницательность, и некоторую уязвимость.
На мой вопрос: «Как вы находите казанскую молодежь?» — он ответил: «Казани не пристало быть на уровне Уральска». Краткость его ответов долго не позволяла нам завязать беседу. Лишь к концу нашего почти двухчасового свидания мы немного привыкли друг к Другу».
Сотрудничество в «Эль-ислахе» положило начало дружбе молодых писателей. «Там, в редакции газеты, — вспоминает Амирхан, — мы с Тукаем сблизились окончательно и в скором времени стали питать друг к другу уважение и симпатию».
Тукай трудно сходился с людьми. В случае с Фатыхом Амирханом все было необычно. И в письмах и в разговорах вежливо-холодное «эфенди» вскоре вышло у них из обихода. «Вы» превращается в «ты». Не прошло и полугода, как Тукай, который так не любил рассказывать о себе, делится своими мыслями и чувствами, неожиданно раскрывается перед Фатыхом Амирханом.
В один из весенних дней 1908 года Габдулла дождался в редакции, когда Фатых кончит дела, и дал понять, что хочет поговорить. Они сели в тарантас. Фатых Амирхан пишет: «К моему удивлению, Тукай, до этого упорно молчавший, едва мы выехали за город, вдруг заговорил, и притом с необычайной серьезностью и волнением.
— Я недоволен своим окружением. С тех пор как я приехал в Казань, совсем выбился из колеи. В моей комнате день и ночь болтаются бездельники, которые не знают, как убить время...
Не останавливаясь и не дожидаясь от меня ответа, Тукай говорил о своей жизни с горечью и сарказмом». По словам Амирхана, с этого дня они и стали друзьями. Но дружба эта была довольно своеобразной. Идеалы у них были общие, но характеры и привычки очень разные.
Не было между ними ни открытого проявления симпатий, ни юношеских изъяснений в дружеских чувствах. Встречаясь во время общей работы, они говорили только о деле. Вне работы виделись чрезвычайно редко: Амирхан в номере Тукая не бывал, да и Тукай нечасто посещал дом Амирхановых. Часто спорили, бывало, обижались — чаще Тукай. Иногда и ссорились. Тукай, например, находил у Амирхана массу недостатков. С точки зрения Амирхана, у Тукая их тоже было немало. Оба мастера на шутку, любили подтрунить, съязвить. Разве что один делал это с необыкновенным изяществом, другой погрубее, позлее.
Амирхан часто посмеивался над тукаевским костюмом: носит что попало, ни галстука, ни белых воротничков, ни манжет, за одеждой своей не следит. Когда ему пытались деликатно на это указать, пропускал мимо ушей. Но однажды все же прислушался к советам друзей.
«В один прекрасный день, — пишет Ф. Амирхан, — к удивлению всех присутствовавших в редакции, Тукай явился при галстуке, в белом воротничке. Правую манжету нацепил на левую руку, левую — на правую. Вид у манжет был страдальческий. Крахмальный воротничок на нем болтался, словно был рассчитан на две такие шеи. Галстук сдвинут на сторону, вот-вот сорвется и убежит. Товарищи невольно рассмеялись.
— Вот видите, — сказал Тукай, — я ведь говорил. Так всегда получается, когда послушаешься других».
Как-то весной Тукай явился в редакцию в непомерно широкой рубахе, подпоясанной женским поясом, который он купил на Ташаякской ярмарке. Когда ему сказали, что пояс женский, он отделался обычным своим: «Так и знал, зря людей послушал». И принялся за работу. В этой рубахе с тем же поясом он проходил все лето.
Костюм его, действительно, не интересовал, как и вообще житейские мелочи. И в этом выражался протест Тукая против следования моде. Он полагал, что привычка и мода порабощают человека, делают его мелочным, суетным.
В те годы было много молодых людей, одевавшихся с иголочки, но не заботившихся о своем образовании. То было время быстрой европеизации татар, а одеться европейцем куда проще, чем перестроить мышление. Таких лощеных молодых людей прозвали «манекенами». Тукай, презиравший «манекенов», не желал одеваться как они. Рассказывают, что однажды в редакцию «Эль-ислаха» вошел шикарно одетый человек и с умным видом пустился рассуждать о высоких, но, увы, недоступных ему материях. Тукай слушал, морщась, то и дело вставляя колкости. Посетитель не оставался в долгу. Тукай вышел из комнаты. Когда он возвратился, все разразились хохотом: на руках у него были вырезанные из газеты «манжеты» размером в пол-аршина, на шее болтался из той же газеты широкий воротник, уныло висел галстук из мочалы. Выпрямив спину, будто аршин проглотил, и поигрывая воображаемой тростью, он прошелся по комнате.
— Ну как? Похож?
В одной из эпиграмм Тукай писал:
С виду очень образован, обо всем судить привык. За пятак купил манжеты, за копейку — воротник.В свободное время Тукай выходил во двор редакции и играл с мальчишками в «бабки». Сражался азартно, скинув пиджак, расстегнув ворот, иногда разувшись, и обязательно хотел победить. Хорошо, если бы играл только во дворе! А то выходил и на многолюдную Екатерининскую — ныне улицу Тукая.
Габдулла много возился с кошками и собаками, особенно с важным черным котом, принадлежавшим хозяину дома, в котором помещалась редакция. Случалось, нередко приносил к себе в номер котят и щенят, кормил их молоком с хлебом. Кто знает, может, поэтому в стихах Тукая, особенно для детей, много кошек и собак, а кошка стала и «героиней» поэмы Тукая «Мяубике».
Но особенно удивляло друзей, вызывало насмешки врагов и служило поводом для сплетен его настойчивое стремление избежать общества женщин. Стоило появиться в «Эль-ислахе» женщине — у Амирхана было много знакомых и поклонниц среди курсисток и гимназисток, — Тукай порывался сбежать. Если это оказывалось невозможным, сидел, не поднимая головы. Как-то явился к Амирхану по делу и, узнав, что у того посетительницы, ушел. Вернулся через какое-то время: девушки все еще щебечут, время от времени из комнат доносится голос Фатыха. Габдулла вернулся домой, а на следующий день устроил Амирхану разнос.
Однажды Ахметгарей Хасани — о нем речь еще впереди — пригласил Амирхана и Тукая погостить несколько дней на своей даче в двадцати километрах от города.
«Мы согласились, — пишет Амирхан, — но не прошло и часа, как Тукай с озабоченным видом вошел в мою комнату.
— Там у него, наверное, и жена?
— Известное дело.
— Хм, вот это очень неудобно.
— Очень даже удобно. Жена у него весьма гостеприимная женщина, интересуется литературой. Она будет довольна знакомством с тобой.
— Нет, нет, там, где женщины, я чувствую себя неловко. Поезжай уж ты один».
Это не просто застенчивость. Тукаю известно, что по стихам его представляют интересным мужчиной, высоким, статным. При встрече с ним у молодой девушки или женщины не может не отразиться на лице невольное чувство разочарования. А при его гордости это как нож острый.
В первые дни после приезда в Казань один из новых знакомых стал расспрашивать Тукая о его жизни и работе в Уральске. Узнав, что на плечах Тукая лежала газета и два журнала, он поинтересовался, какое Тукай получал жалованье.
— Рублей двадцать — двадцать пять, — ответил Тукай.
— Если б ты столько работал в Казани, тебе платили раза в два, а то и в три больше.
Тукай, не задумываясь, ответил:
— А к чему деньги? Лишь бы хватило на еду да житье. Тех денег в Уральске мне вполне хватало.
Ответ, достойный Тукая. Его слова «к чему деньги?» потом вспоминали как анекдот.
Не проходит и двух лет, как Тукай становится одним из трех татарских писателей, получавших самые большие гонорары. Его книги издаются одна за другой. Семьи у него нет, личные потребности тоже небольшие. Значит, заработанного должно хватить с избытком. Но деньги не держатся в его кармане. У него берут в долг и не возвращают, около него кормится множество людей. Он покупает вещи не торгуясь и часто совсем не те, что ему нужны. Приобретает массу книг, которые уплывают в чужие руки.
Не таков Фатых Амирхан. Он одевается со вкусом, по-европейски, не отстает от моды, хотя и не делает из нее фетиша. С людьми прост, весел, держится непринужденно, но умеет сохранить достоинство. Любит женское общество. До денег не жаден, но стремится иметь доход, дающий возможность жить широко, свободно. Если Фатыху многое в Тукае казалось чудачеством, то образ жизни и манеры Фатыха представлялись Габдулле чем-то чуждым, едва ли не буржуазным. Они не раз обменивались колкостями и насмешками. Но жили эти два незаурядных человека одними идеалами, питали друг к другу огромное уважение. Для Тукая эта дружба была подобна солнечному теплу для зерна. Немало сил придала она и Фатыху Амирхану.
3
Не прошло и года после приезда Тукая в Казань, как он начал жаловаться. Вот отрывок из его письма к Амирхану, лечившемуся на курорте в Серноводске:
«Думаю, думаю и говорю себе: «Боже милосердный! Неужто искра таланта, которую я сберег даже тогда, когда был голоден и нищ, когда меня продавали из деревни в деревню, когда я батрачил на бездушных татарских баев и жил в татарском медресе, погибнет теперь среди пьянства и пьяных товарищей, чтобы никогда не вспыхнуть вновь? Вот уже год, как я переливаю из пустого в порожнее!»
В окружении Тукая были и купеческие сынки, которым нравилось болтаться около журналистов и писателей. Но были и другие, например Султан Рахманкулов. В 1905 году его выгнали из реального училища за участие в студенческом движении. Зарабатывая на жизнь переводами и сотрудничеством в газетах, он стал готовиться к экзаменам на аттестат экстерном. Человек способный, прямой, не терпящий фальши и лицемерия, он трудно сходился с людьми. Неудачи и отсутствие устоявшихся убеждений приохотили его к спиртному. Тукай, видимо, сошелся с Султаном довольно близко. Некоторые черты его характера импонировали поэту. Переводчиком он был неплохим. Отлично играл на мандолине, обладал приятным голосом, и Тукай частенько просил Рахманкулова петь песни на свои стихи.
Но со временем Габдуллу все больше раздражали его бесцеремонность и пьяные выходки. Когда все слова убеждения оказались исчерпанными, он написал на него эпиграмму: «Будь человеком, не ходи, тряся шапкой шестилетнего образования, ожидая, когда поднесут тебе на водку от байских сынков». Но, щадя самолюбие Султана, так ее и не опубликовал.
Как попал Тукай в среду «недорослей», почему, раскусив их, сразу не порвал с ними? Вначале они показались Габдулле представителями передовой молодежи: много знают, не страдают излишней церемонностью, что на уме, то и на языке. Веселые, к жизни относятся беззаботно. На вечеринках в обществе этих «друзей» он чувствует себя свободней, чем рядом с Амирханом и другими серьезными людьми.
Но шло время, и атмосфера постоянного «праздника» стала стеснять его. Надо было писать, читать, учиться. Едва сядешь за работу — являются шумной гурьбой приятели. Бумаги, газеты, книги отодвигаются на край стола или совсем сметаются на пол, начинается застолье. Со стуком выставляют бутылку водки, выстраивают батареи пива. И пошло веселье. Крохотный номер наполняется дымом, хоть топор вешай. Играют в карты.
Когда Тукая нет дома, друзья не стесняются. Номер всегда открыт, равно как и карман хозяина. Кутеж начинается без него. Тукаю по возвращении остается только присоединиться к веселью.
Подчас такие пирушки продолжались в ресторане, в пивной, а иногда завершались в каком-нибудь сомнительном заведении.
Тукай не был аскетом. Почему не выпить? Но вино ему не в радость. Да и здоровьем он не может похвастаться. К тому же дел у него было по горло. А после долгой пирушки на другой день чувствуешь себя как мяч, из которого выпустили воздух.
«...Тукай не выпивал и рюмки без настойчивого упрашивания, а высидев вечер до конца, никогда не терял разума. Говорил мало, все больше слушал, громко не смеялся.
...Я никогда не видел, чтобы Тукай выражал желание выпить или сам был зачинщиком выпивки» — вспоминали впоследствии современники.
Иногда Тукай ходил в пивные, дешевые трактиры. Знавшие его люди утверждали, что привлекал его туда отнюдь не «зеленый змий», а потребность быть среди людей, послушать разговоры, понаблюдать. И это, очевидно, недалеко от истины. В одном из писем он не без юмора сообщает: «По вечерам, заглянув в соседнее питейное заведение, общаюсь с кожевниками, извозчиками, жуликами».
Сказав, что окружение «недорослей» не принесло Тукаю ничего, кроме вреда, мы погрешили бы против истины. Исследователи удивляются исключительной осведомленности Тукая в казанской жизни. Действительно, в его куплетах, эпиграммах, сатирических стихах, поэмах, фельетонах полнокровно, ярко отражается жизнь и быт Казани 1907—1913 годов.
А ведь Тукай не репортер по своему характеру, нет у него ни подвижности, ни расторопности. Его жизнь относительно бедна внешними событиями и почти не выходит за пределы редакций и гостиничных номеров.
Откуда же черпал он такое количество сведений для своей сатиры? Отовсюду. Сумел он извлечь пользу даже из общения со своими легкомысленными приятелями.
Память Тукая просто удивительна: он моментально впитывает в себя услышанные им сведения и факты. Не только впитывает, но тут же «просеивает», существенное отделяет от несущественного. Потом включается фантазия. И глядишь, казалось бы, из незначительного факта вырастает произведение, несущее серьезный оощественный смысл.
Но, конечно, «веселая» жизнь была вредна здоровью Тукая, мешала его духовному росту и творчеству. Как видно из его исповеди Амирхану, поэт и сам это быстро понял. Тукаю, который ради своих идеалов готов на все, никого не щадит, режет правду в глаза, казалось, было бы проще простого дать этим приятелям от ворот поворот. Тут ему готовы помочь и словом и делом товарищи, которые беспокоятся о его здоровье и таланте. И в первую очередь Амирхан. Он пишет: «Мне было ясно еще до разговора с Тукаем, что среда, в которую он попал, ему не подходит. После его жалоб, потратив довольно много усилий, я принялся вводить его в другой круг. Но не добился желаемой цели, вернее, добился лишь отчасти. Тукай относился к числу людей, живущих исключительно чувствами, действовать по какому-либо заранее принятому плану не в его обыкновении».
В какой же круг хотел ввести поэта Амирхан? Надо полагать, в круг казанской интеллигенции. Здесь были и люди с университетским образованием, ученые. Как мы знаем, Амирхан не избегал и общества аристократии, и европеизированных богачей.
Но если демократическая натура Тукая не принимала светских манер, то еще меньше был он расположен с улыбкой на лице выслушивать разглагольствования просвещенных купчиков и либеральных адвокатов.
Но жить одному трудно. Оставалось несколько близких людей: Фатых, Галиасгар, Сагит. То были все же люди иного склада. С ними он часто чувствовал себя стесненным. А вот в кругу, от которого он сам хотел бы избавиться, ему не надо взвешивать каждое слово, что ни скажи — все сойдет, да и обидятся — невелика беда. И твои недостатки на этом фоне никому не лезут в глаза.
Вот почему Тукай, как бы он того ни хотел, долгое время не мог избавиться от своего чересчур веселого окружения.
4
И все же, сколько ни жаловался Тукай на «переливание из пустого в порожнее», с конца 1907 по 1908 год он напечатал в газете «Эль-ислах», в сатирическом журнале «Яшен» («Молния») около шестидесяти стихотворений, одну небольшую поэму и две поэмы-сказки. Эти произведения, дополненные стихами, не публиковавшимися в периодике, составили два сборника: «Утеха» и «Сборник стихотворений Г. Тукая». Очевидно, их он имел в виду, когда писал сестре Газизе: «После приезда в Казань написал две книги и получил по пятьдесят рублей за каждую — итого, сто». Правда, книжки эти не толще тетрадки. Но если сюда добавить еще отдельное издание — сказку «Золотой петушок» (вольный перевод из Пушкина) и сатирическую поэму «Сенной базар, или Новый Кисекбаш», то окажется, совсем немало. Присовокупим также около двух десятков статей и фельетонов.
Все это было написано после читки чужих корректур, утомительной беготни с посылками, в перерывах между встречами с разгульными приятелями.
Как мы знаем, Габдулла рос удивительно чутким человеком. Крошечная радость становилась для него праздником, ничтожное горе рисовалось трагедией. Хотя внешняя жизнь его довольна бедна событиями, духовная была исключительно богата.
Под его пером впечатления от окружающей жизни преображаются, становятся поводом для пронзительных по своему лиризму стихов.
Трудное детство, необходимость самому защищать себя научили его схватывать и высмеивать недостатки сверстников. Чем старше он становился, тем больше развивалась в нем способность отмечать комические стороны жизни.
Старая татарская поэзия в основном носила религиозно-проповеднический характер. Иначе и быть не могло: убеждения, что человек — раб божий, что «от судьбы не уйдешь» и что «без воли божьей волос с головы не упадет», отводили поэзии чисто служебную роль: ей полагалось лишь иллюстрировать заранее известные религиозные истины. Лирика была в ней представлена слабо, и та занималась выяснением отношений личности с божеством.
Надо было выразить языком поэзии мысли и чувства нового человека, в душу которого революция заронила искру надежды. Новое время потребовало новых лириков.
Революция, обострив социальные противоречия, помогла яснее увидеть те силы, которые противостояли народу. То были духовенство, старозаветное купечество, державшиеся за ооьгчаи средневековой давности и сопротивлявшиеся всему новому. Феодальные пережитки, за которые цеплялись эти сословия, превратились в анахронизм, их бытие, их претензии обрели комедийный характер. Новое время потребовало новой сатиры.
В нежной и страстной лирике Тукая, в его желчной, язвительной сатире эти требования нашли свое выражение.
Между тем Амирхан в статье «Тукай и женщины» писал: «При рассмотрении всей поэзии Тукая не может не броситься в глаза бедность его лирики». Из самого названия статьи видно, что под лирикой Амирхан имел в виду исключительно лирику любовную. По его мнению, «бедность» связана с тем, что поэт сторонился женщин, бегал даже от девушки, которую любил, и не открыл ей своего чувства. Такое мнение о поэзии Тукая разделялось и некоторыми другими критиками.
А какую же роль сыграла в его жизни любовь?
Рассказывают лищь, будто в Уральске он заглядывался на девушку, которая жила со старухой матерью по соседству с медресе. Но каких-либо заметных следов это первое увлечение ни в творчестве, ни в его памяти не оставило. Правда, до переезда в Казань он написал три-четыре возвышенно-романтических стихотворения о любви, но они свидетельствуют лишь о влиянии на него восточной, в частности турецкой, лирики.
Весной 1908 года в редакцию газеты «Эль-ислах» пришли три девушки. Одна из них, Зайтуна Мавлюдова, давно хотела познакомиться с Тукаем. Зная, что Тукай, если ему заранее сказать об этом, сбежит, кто-то из друзей поэта привел их в редакцию и представил. Первой в комнату вошла Зайтуна, Тукай поднял глаза и тут же их опустил. Все так же глядя перед собой, поздоровался. Девушки посидели и, не дождавшись от него ни слова, ушли. Тукай так и не поднял глаз. После этого посещения друзья заметили в Тукае перемену. Если ему чудилось неуважение, когда говорили о Зайтуне, он выходил из себя.
Один из современников рассказывал; «Однажды, когда мы ехали с Тукаем в трамвае по Екатерининской, он заметил в окно идущую по улице З. Тукай поклонился и залился при этом каким-то младенческим румянцем. Прошло несколько дней, и в печати появилось стихотворение Тукая, посвященное «...не», то есть «Зайтуне». Подпись— «Шурале».
Внезапно возникшее чувство прячется в стихах за шутливой иронией. Встретив девушку на улице, поэт и этим уже счастлив. Ему на ум приходит кораническое восхваление красавицы: она так хороша, что подобной «ни на Западе нет, ни на Востоке». Пораженный, откуда в Коране мог взяться портрет его возлюбленной, лирический герой стихотворения бежит в книжную лавку «Сабах» и покупает священную книгу мусульман.
По поводу другого стихотворения, связанного с именем Зайтуны, сам Тукай писал Амирхану: «Понравилось ли Вам стихотворение «Странная любовь» в «Эль-ислахе»? Как еж прячется в свои иголки, так и я, стоит что-нибудь написать про любовь, укрываюсь за ложной подписью». Это стихотворение опубликовано под псевдонимом Меджнун. Так звали героя древней арабской легенды, сошедшего с ума от любви. Этим псевдонимом Тукай никогда больше не пользовался.
Поведав притчу о чудаке, который пожелал искупаться, но, боясь холодной воды, плеснул ее из ведра через плечо и радовался тому, что вода не попала на его тело, Тукай продолжает:
Я это потому пишу, что случай данный — Подобие моей любви, такой же странной. Я горячо влюблен, но как-то бестолково: Я милой сторонюсь, как чудища лесного. При встрече не смотрю, ее не вижу будто, Не выдаю себя, хотя на сердце смута. Подписывая стих, чужое ставлю имя, Боюсь: она поймет, что ею одержим я. Она заговорит — я холодно отвечу, Хоть втайне я горю, едва ее замечу. Я слышал, что она уехала отсюда. И что ж? К ней от меня помчалась писем груда? Какое там! Чудак, я рад, забыл тревогу. «Исчезла, не узнав», — твержу, и слава богу!Нет, это сказано не от имени «лирического героя». Это сам Тукай. Такова тукаевская любовь.
О, как сладки муки эти, муки тайного огня! Есть ли кто-нибудь на свете, понимающий меня;Нетрудно себе представить переживания Тукая после внезапного отъезда Зайтуны из Казани: ему вдруг показалось, что погасло солнце, весь свет стал немил. Осенью 1912 года он поведал одному из своих друзей, что все еще любит Зайтуну, тоскует, не может ее забыть. И в то же время доволен: хорошо, что уехала, так ничего и не узнав. Пока она жила в Казани, очень трудно было при встречах скрывать сжигавшее его пламя. Любить, не видя, спокойнее.
После первого знакомства с Тукаем Зайтуна продолжала приходить в «Эль-ислах». Амирхан писал: «Как сейчас помню, я высказал ему, что не понимаю, по какой причине он избегает любимой девушки, и считаю это неестественным.
Он помолчал немного, а потом показал на свой глаз: «Печать проклятья». И тут я почувствовал в его голосе трагическую безнадежность».
Вряд ли Амирхан стал говорить об этом с Тукаем, если бы не надеялся на взаимность Зайтуны.
После смерти Тукая, летом 1913 года, Галимжан Шараф встретился с Зайтуной и оставил нам ее словесный портрет: «Среднего роста, чернобровая, востроглазая, с правильными чертами лица, во взгляде какая-то притягательная сила, голос звонкий и красивый».
Зайтуна Мавлюдова родилась и выросла в Чистополе, в трудовой семье. То была бойкая, любознательная и довольно начитанная девушка.
В начале 1908 года, пятнадцати лет от роду, она с матерью приехала в Казань к братьям, служившим приказчиками, надеясь здесь обосноваться. Зайтуна была хорошо знакома с татарской литературой, знала и любила стихи Тукая. Ее желание увидеть самого поэта, познакомиться с ним было вполне естественным. Тукай действительно невысоко ставил свою внешность. Но это, думается, было не главной, во всяком случае, не единственной причиной его застенчивости.
Предположим, что молодые люди объяснились. А что дальше? На семейную жизнь у Тукая свой устоявшийся взгляд. Он ясен из его произведений. В стихотворении «Наставление» поэт советует остерегаться любви: она иссушит, испепелит, принесет страданья. Даже если ты соединил жизнь с любимой, счастье будет недолгим. Однажды нагрянет старость, и ты, увидев морщинистый лик старухи, будешь горько рыдать в тоске и горе, душа твоя будет отравлена воспоминаниями о прежних днях, когда на ее щеках горел жар румянца.
И все-таки он не считал брак вообще чем-то нежелательным. «Мнение мое о семье определенно, — делится он в одном из писем. — Если ты в молодости попусту не растратил своих сил и потому не загубишь надежд своей подруги, если вы близко знаете и любите друг друга, да к тому же имеется возможность зарабатывать не меньше пятисот рублей в год, чтоб семья не испытывала унижения, жениться следует всякому».
Летом 1908 года, когда Зайтуна уехала и поэт, казалось, даже обрадовался этому, друзья стали замечать, чтр порой его снедает глубокая тоска, которую он пытался заглушить в обществе беспутных приятелей. Они решили принять свои меры — женить его на девушке, которая, зная, кто он такой, смогла бы упорядочить его жизнь. Такая девушка нашлась. Мать Фатыха уговорила и ее родителей. Подыскали даже квартиру.
А что же Тукай? Под давлением друзей поэт как будто покоряется. Затем отказывается, снова соглашается. Потом опять упрямится. В результате, конечно, дело разлаживается.
В этот момент на сцене снова появляется та самая ханум, которая советовала Тукаю изучать немецкий язык. Она сообщает Фатыху, что собирается снять квартиру и обосноваться в Казани. Говорит о своем сочувствии Тукаю, выражает огорчение по поводу его образа жизни и довольно прозрачно намекает, что была бы не прочь ее наладить. Прослышав об этом, Габдулла бросает занятия немецким языком. Он пишет стихотворение «Ей», которое, по-видимому, посвящено этой даме.
Говоришь ты: «За поэта замуж выхожу!» Нет, поэт тебе не пара, вот что я скажу. «Ведь поэт поет, как птица», — ты мне говоришь. «Любо песней насладиться!» — ты мне говоришь. Чем так делать, по-другому лучше поступи, — Ты пойди и в лавке птичьей соловья купи. Посади певца ты в клетку, пододвинь к окну, Пусть, красу хозяйки славя, чахнет он в плену.После переезда в Казань Тукай часто болеет. Заключение призывной комиссии, которая списала его в «брак», утвердило Габдуллу в убеждении, что он не доживет до седых волос. А раз так, зачем связывать любимую девушку (он имел в виду Зайтуну), губить ее будущее? Он должен отказаться от личного счастья, так просто дающегося другим людям. Тукай никогда не отступал от своего решения. Позднее из-под его пера вышли эти потрясающие душу строки, обращенные к матери:
С той поры, как мы расстались, страша грозная любви Сына твоего от двери каждой яростно гнала. Всех сердец теплей и мягче надмогильный камень твой. Самой сладостной и горькой омочу его слезой.21 мая 1908 года в газете «Волжско-камская речь» была напечатана обзорная статья А. Пинкевича «Очерки новейшей татарской литературы». Сравнивая произведения трех поэтов — Сагита Рамиева, Габдуллы Тукая и Маджита Гафури, обозреватель находит, что лишь стихи первого из них, несмотря на формальные изъяны, могут быть причислены к подлинной поэзии, поскольку лишены морализаторства. Стихи Тукая совершенны по форме, но зачастую грешат дидактикой, а что касается Гафури, то он, по мнению А. Пинкевича, вообще не может называться поэтом.
Статья вызвала бурную дискуссию.
В газете «Волжский листок» выступил Касим Уралец, который обвинил Пинкевича в незнании татарской поэзии, в переоценке поэзии Тукая и чуть ли не в шовинизме. В двух книжицах Тукая, писал он, всего-навсего с десяток оригинальных стихотворений, остальные — переводы из Пушкина и Лермонтова, а язык вообще не имеет никакого отношения к поэзии: много русских слов, уличных выражений. Иное дело Гафури, «гордость нации», прославленный на всю Россию и всю Сибирь поэт. Проповедник добродетели, поборник культуры не только внешней, «костюмной», но и внутренней. И язык у него, дескать, изящный. А некоторые произведения по содержанию и по форме напоминают американского поэта Уитмена.
Касим Уралец тут же получил отповедь. Некто под псевдонимом Татарин в статье «Невежество или глупость», опубликованной в «Волжско-камской речи», обвинил М. Гафури в национализме и морализаторстве. «Его произведения, без боязни ошибиться, можно назвать проповедями святых, которых, к сожалению, у нас и так в изобилии». Одновременно в статье отмечались упреки, брошенные в адрес Тукая.
Не остался в стороне от полемики и Амирхан. 13 августа в статье «Татарские поэты», помещенной в «Эль-ислахе», он с иронией спрашивал Касима Уральца: «Господин критик утверждает, что Гафури близок к американскому поэту Уитмену. Я спрашиваю, может быть, он еще ближе к европейскому поэту Гёте по глубине своей философии?»
В пылу дискуссии, как это часто бывает, спорящие перегибали палку. Некоторые произведения М. Гафури, отмеченные национальной ограниченностью, они объявляют националистическими, не замечают у него стихотворений, наполненных высокими гражданскими чувствами. Не отрицая наличия дидактизма в первых сборниках Тукая, нельзя не сказать, что Пинкевич умудрился найти морализирование и там, где его не было. Тем не менее воз" никновение этой дискуссии в середине 1908 года — да еще в русской печати — говорит о многом. И прежде всего о том, что критика ощутила: наступил новый период в татарской литературе. Тукай впервые оказал,ся в центре внимания. Если Пинкевич не спешит поставить его на первое место, то в ходе дискуссии С. Рамиев выпадает, и разговор продолжается только вокруг двух поэтов: Тукая и Гафури.
Полемика в печати заставила задуматься и самого Тукая и сделать свои выводы. Известно, что он с интересом следил за ее ходом.
Из-под его пера один за другим продолжают выходить переводы из Пушкина и Лермонтова, стихотворения, написанные в подражание им, по их мотивам. Он то и дело упоминает великих поэтов и в своих собственных стихотворениях ссылается на их авторитет.
За несколько дней до смерти он писал:
Пушкин, Лермонтов — два солнца — высоко вознесены. Я же свет их отражаю наподобие луны.Из Кольцова он сделал один вольный перевод. И упомянул его имя в лекции о народном творчестве.
Из Никитина тоже перевел несколько стихотворений для детей.
В четырехтомнике Тукая, в примечании к одному небольшому стихотворению для детей можно прочесть: «Должно быть, написано по мотивам стихотворения Н. А. Некрасова (1821 — 1878) «Дедушка». Рискуя обидеть критиков, которые с самыми лучшими намерениями пытались сблизить Тукая с поэтом «мести и печали», даже выдать его за ученика Некрасова, это примечание так и осталось едва ли не единственным документом, подтверждающим влияние творчества Некрасова на Тукая. Странно, но факт. Как же его объяснить?
Тукай пришел в литературу, когда на повестку дня встала задача создания подлинно национальной поэзии. «Юсуф и Зулейха», «Тахир и Зухра», стихотворения Габдрахмана Утызимени или Шамсетдина Заки — произведения еще не столько татарские, сколько мусульманские, общетюркские. Нужно было выработать татарский литературный язык, который был бы способен выразить национальные чувства, психологию татарского народа, создать новые и поэтические жанры. В русской поэзии все это совершил Пушкин, естественно, что Тукай, перед которым стояла сходная задача, выбрал своим наставником в первую очередь его.
5
В начале мая 1908 года в канцелярию казанского губернатора поступило заявление:
«Его превосходительству господину казанскому губернатору от крестьянина Мамадышского уезда Новочурилинской волости деревни Сикиртан Г. Г. Камалетдинова, жительствующего во 2-й части г. Казани, на Большой Мещанской улице в доме Хайбуллина.
Покорнейше прошу Ваше превосходительство разрешить мне издавать в г. Казани под моим ответственным редакторством иллюстрированный журнал под названием «Яшен» («Молния») по следующей программе...»
Программа, состоящая из двадцати пунктов, обычных для литературного издания, и только два пункта имели отношение к сатире. Автор заявления Галиасгар Камал (по паспорту Камалетдинов) решил, видимо, не выдавать заранее сатирический характер предполагавшегося журнала, чтобы легче получить разрешение.
Г. Камал родился в 1879 году в семье меховщика-кустаря. Отец решил сделать его муллой и отдал в медресе «Мухаммедия». Медресе он окончил, но стать муллой не пожелал. Тогда по совету наставников сына отец решил женить его на богатой девице и приохотить к коммерции. Но у того на уме иное. Он усердно изучает русский язык, ходит в театр и сам мечтает писать. В 1899 году он сочиняет первую пьесу.
Старики все же частично достигли своего: женили его на дочери состоятельного купца Хайбуллина. Галиасгар соглашается стать и коммерсантом, но при одном условии: предметом его торговли будут книги. В 1901 году он основал книготорговую фирму, которую назвал «Магариф» («Просвещение»).
Революцию 1905 года Камал встретил с радостью: приветствовал ее в своих стихах и статьях. Работая в газете «Азат» («Свобода»), а затем редактируя газету «Азат халык» («Свободный народ»), он близко сошелся с татарскими социал-демократами и превратил свое издание в последовательный революционно-демократический орган.
Габдулла, как мы знаем, давно слышал о Галиасгаре Камале, любил его пьесы. Эта любовь и привела Тукая в первые же дни после приезда в Казань в редакцию газеты «Юлдыз», где после закрытия «Азат халыка» работал секретарем Галиасгар.
В воспоминаниях, изданных через двадцать лет после смерти Тукая, Камал пишет, что он принял Тукая с большим почетом. На самом же деле их первая встреча, как нам известно, была отнюдь не столь теплой. Галиасгар сам говорит, что после нее Тукай больше в редакции не появлялся. Это и неудивительно: до приезда в Казань Тукай довольно чувствительно ужалил Камала в своих стихах за то, что тот после закрытия «Азат халыка» поступил секретарем в самую беззубую из либеральных газет, избравшую своим принципом беспринципность. Тукай был разочарован позицией уважаемого им писателя, а ядовитая сатира не могла, по-видимому, не испортить Камалу настроения.
Некоторые мемуаристы и исследователи пытаются представить Камала лучшим другом Тукая. Но это вряд ли соответствует истине. Во всяком случае, их отношения нельзя приравнять к дружбе с Амирханом. Габдулла с Галиасгаром никогда не откровенничал. Сам Камал пишет: «Много лет работая вместе с Тукаем, я ни разу не сумел зазвать его к себе домой».
В пору работы в «Юлдузе» Галиасгар несколько округлился, отяжелел. Носил костюм-тройку, в кармане жилета — часы на цепочке. У него был новый, хотя и полученный за женой, но свой дом. Он держал приказчика, мальчика-ученика, прислугу. Нельзя ему было не считаться и с родней: тестем и тещей, шурином и свояками. Все это так чуждо Тукаю, что он долгое время не поддерживал едва завязавшееся знакомство. Но со временем его непримиримость снова сменилась симпатией. Он видит, что Галиасгар, несмотря на чуждый Тукаю образ жизни, остался верен своему призванию. На сцене с успехом шла драма Камала «Несчастный юноша». Только что им была закончена одноактная комедия «Первый театр», которая вошла впоследствии в золотой фонд татарской литературы. На страницах «Юлдуза» Камал печатал рецензии, где выступал в защиту новой, демократической литературы, в фельетонах бичевал не только старозаветников, но и либералов националистического толка. Короче, стремился привнести в газету демократический дух.
Забот у Галиасгара, в самом деле, было по горло: театр, пьесы, издательство «Магариф», редакция «Юлдуз». К тому же он состоял членом совета в татарском культурном центре — клубе «Шарык» («Восток»). И тем не менее он решился взять на себя еще одну нелегкую ответственную задачу: издание сатирического журнала. В его воспоминаниях мы читаем: «Журнал «Яшен» я начал издавать, поддавшись уговорам Тукая».
Почему Тукай выбрал для этой цели именно Галиасгара? Во-первых, у того были кое-какие деньги. Во-вторых, опыт журналистской и редакторской работы. Да и чувством юмора он не был обделен: его сатирические комедии пользовались большим успехом. Кроме того, Галиасгар недурно рисовал карикатуры. И главное, Тукай убедился: сам Камал сохранил, несмотря ни на что, демократические убеждения.
Для разрешения журнала надо было доказать свою благонадежность в глазах государственных чиновников. В 1905—1906 годах Галиасгару делались серьезные предупреждения. Но со временем это как-то забылось. А Хади Максуди, редакюр «Юлдуза», в глазах цензуры, полиции и жандармерии был человеком надежным. Отраженный свет его благонадежности, очевидно, упал и на его секретаря.
Надо полагать, Тукай ждал разрешения губернатора с большим нетерпением, чем Галиасгар. Вспомним: «Если здесь пойдет «Эль-ислах» и будет издаваться юмористический журнал...» (1908, 23 июня). Для Галиасгара в этой затее был немалый риск, для Тукая — возможность любимой работы.
Чиновники, как обычпо, не торопятся. Канцелярия губернатора сначала запросила сведения о Галиасгаре Камалетдинове. Но и после того, как была получена соответствующая бумага от пристава, прошло полтора месяца. Свидетельство о разрешении попало в руки Камала лишь 10 июля.
Итак, с августа 1908 года в Казани впервые начинает издаваться сатирический журнал. Впервые? Но ведь первый юмористический журнал на татарском языке появился еще два года назад в Уральске. Мало того, в Оренбурге в тот же год почти одновременно стали издаваться три журнала: «Чикертке» («Стрекоза»), «Карчыга» («Ястреб») и «Чукеч» («Молот») (последний продолжал выходить и в 1908 году). В том же 1906 году появился и исчез юмористический журнал «Туп» в Астрахани. Лишь центр татарской культуры — Казань — до августа 1908 года жил без юмористического журнала. То ли Казань не умела смеяться, то ли ей было не до смеха перед хмурым ликом цензуры, которая находилась в этом городе, сказать трудно, но факт остается фактом.
Один из современников писал: «В первом номере от начала до конца присутствует перо Тукая. В передовой статье, в стихотворениях «Ляхауля» («На все воля божья»), «Свисток», «Если москвичи возьмут за воротник...», «Кадимист» чувствовался присущий Тукаю сатирический дар, который придавал журналу блеск, достойный его названия, — «Молния». Тукай с большой любовью работал в «Яшене», считал журнал своим и отдавал ему много сил. Он не хотел, чтобы «Яшен» выходил кое-как, и добивался, чтобы каждый номер был лучше предыдущего».
Второй номер журнала тоже почти целиком заполнен произведениями Тукая, да и третий тоже. Для поэта характерна еще одна черта: газетам и журналам, в которых он сотрудничает, в которых сам задает тон и считает «своими», он предан беззаветно. К их числу относилась газета и два журнала в Уральске, «Эль-ислах», «Яшен», а позднее журналы «Ялт-юлт» («Зарница») и «Ант» («Сознание»). Он не выносит никакой критики в их адрес, на любой укол отвечает залпами картечи. В большинстве случаев она поражала врагов, но иногда бомбардир хватался за шнур сгоряча. И тогда доставалось и своим.
Тукай старался все написанное им помещать только в своей газете, в своем журнале. Между тем его стихи готовы были печатать и другие издания, скажем, «Вакыт», «Юлдыз», «Шуро» («Совет»), и платить приличные гонорары. Но Тукай щепетилен. Он печатается в «Яшене» и в «Эль-ислахе», хотя там гонораров не платят. Лишь однажды он отступил от своего правила. То ли в это время очень нуждался, то ли друзья уговорили, но он написал длинное стихотворение, восхваляющее чай фирмы «Караван-чай», и получил за это двадцать пять рублей от реакционной газеты «Баян эль-хак».
Вспоминая свои прегрешения — а он их тяжело переживал, — Тукай впоследствии говорил Бахтиярову об этом случае «с чаем», как об одной из двух своих самых больших ошибок.
Второй оказалось выступление в ресторане на Макарьевской ярмарке в Нижнем Новгороде. Галиасгар Камал пригласил его с собой, отправляясь туда в качестве специального корреспондента газеты «Юлдуз». Сперва Тукай упорно отказывается: не хочет бросать дела, да и переезды, перемены в образе жизни давались ему с трудом. А может, сердцем чуял, что ничего хорошего его не ждет. В конце концов он согласился. Что ни говори, то была самая большая ярмарка в стране. «Если Петербург—мозг России, а Москва — сердце, то Нижний — ее карман», — говорили тогда.
По чьим-то подсчетам, на ярмарке, бывало, якобы до десяти-пятнадцати тысяч мусульман, и большинство из них — татары. «Короли» торговли Хусаиновы, фабриканты сукна Акчурины и Дибердеевы занимали место рядом с хозяевами Макария. Они держали в Нижнем большие магазины, огромные каменные склады. Ахмет Хусаинов, кроме того, открыл гостиницу, прозванную «Двухсветной» из-за двух рядов окон, расположенных друг над другом. За богатеями тянулись на ярмарку торговцы средней руки, подогреваемые надеждой сбыть залежавшиеся товары.
Срывались с мест и шакирды, думая подработать денег на учебу в качестве официантов. Приезжали деревенские и городские бедняки, предлагая свои рабочие руки, торопились театральные труппы и «артисты»-одиночки: певцы, танцоры, гармонисты, дрессировщики медведей. Здесь можно было встретить и сборщиков пожертвований на постройку мечети, и всякого рода проходимцев и нищих.
Немногие, однако, возвращались с Макария довольными. Об этом, очевидно, говорит и бывшая тогда в ходу шутка: «Куда едешь?» — «На Макарий!» — «Откуда едешь?» — «Да с Макария же...»
В середине августа Камал и Тукай приехали на пароходе в Нижний Новгород и остановились в «Двухсветной». Она стояла в стороне от ярмарки, перед ее фасадом шумел старыми тополями огромный сквер, который одновременно выполнял функции биржи труда. Здесь безработные усаживались в ряд на длинных скамейках под тополями или прямо на траве. Но предложение всегда превышало спрос, и получали работу немногие счастливчики. Остальные сутками напролет томились в ожидании и тоске. Не знаю, как называли этот сквер в Нижнем, татары же попали в самую точку: «Сад тоски». Говорили, что один шакирд долго мыкал горе в этом саду, ожидая работы, и вырезал ножом на стволе старого тополя такие строки:
Дом поставил баи Ахмет. Рядом — сад тоски и бед. Макарий, чтоб тебе пропасть! Денег нет — домой попасть.Рядом, в одном и том же городе — «сад тоски» и «главный дом» ярмарки, где торговали только драгоценными металлами, камнями и изделиями из них. На одной стороне — безработные, которые за счастье считали, если находили работу грузчика, на другой — миллионеры, заключающие контракты, которые приносили разом сотни тысяч барыша. Нищие без числа, сидящие с протянутой рукой, облепившие церковь или мечеть, и богачи и их сыночки, швыряющие тысячи в ресторанах и публичных домах.
Тукай с серьезным видом катался на карусели, с увлечением смотрел на танцующих медведей и дрессированных обезьян. Много времени он проводил с артистами труппы «Сайяр», с ее руководителем, своим старым уральским другом Габдуллой Кариевым, ходил на репетиции и спектакли.
Но вскоре Тукай охладел к ярмарке. По словам Камала, ему осточертели гвалт, суматоха, множество телег, тарантасов, фаэтонов — из-за них и улицу перейти страшновато. Но, конечно, дело было не только в этом. Мы знаем о привычке Тукая не распространяться о своих чувствах. Скорее всего, как он когда-то писал, его стало «тошнить от запаха мяса и кож». Погоня за наживой, обман, картины жестокой нужды и беззастенчивого разгула не могли не произвести на поэта тягостного впечатления.
Тут под руку ему подвернулся некий Тимерша Соловьев. Этот господин заведовал типографией Каримовых-Хусаиновых в Оренбурге и был редактором журнала «Чукеч» («Молот»). На Макарьевской ярмарке он исполнял обязанности управляющего гостиницы «Двухсветная». Соловьев обратился к артистам «Сайяра» с предложением: «Свободное время у вас, ребята, есть. Не выступите ли в ресторане с чтением национальных стихов и пением национальных песен? Обед и ужин бесплатно».
Артисты согласились. Времени и впрямь хватало: в репертуаре всего две-три пьесы, давно известные, с репетициями много возиться не приходится. Да и сцена в саду «Фоли Бержер» в их распоряжении не каждый день. Что до бесплатного обеда и ужина, то в их положении это тоже не последнее дело. Татарскому профессиональному театру исполнился всего-навсего один год. Он не имел ни своего здания, ни богатого мецената. Реакционная татарская печать вела против театра яростную кампанию. Власти на каждом шагу чинили препятствия. В любом городе приходилось долго обивать пороги, прежде чем удавалось получить разрешение на гастроли. Но разрешения мало — нужна сцена. Ее не дают, а дадут — заломят такую цену, что волосы встанут дыбом. Да еще неизвестно, будет ли сбор. Случалось сайярцам и надевать одни и те же брюки по очереди, и нацеплять под костюм манишку на голое тело, и сидеть без гроша в кармане, а то и без куска хлеба.
Заинтересовало предложение Тимерши-эфенди и Тукая. Ему надоело болтаться без дела, и к тому же он помнил, какое удовлетворение приносили ему литературные вечера в Уральске, в которых он участвовал вместе с Г. Кариевым и К. Мутыгыем. Загоревшись, Габдулла берет дело в свои руки. Быстренько составляет программу, проводит репетицию. И вот на крошечной, едва вмещавшей пианино эстраде Тукай встал к артистам лицом, взмахнул рукой, оркестр — несколько мандолин — проиграл вступление, п певцы начали.
Публика в ресторане была разная, Бородатые старцы и молодежь, тароватые купцы и дядьки, оборотистые дельцы и приказчики. По свидетельству Кариева, выступавшего в составе «ансамбля», вся эта шатия-братия приняла новшество с интересом. Много аплодировали. Слышались крики: «Браво!», «Век живите!» Сыграло свою роль и то, что управляющий гостиницей наказал официантам аплодировать первыми.
Тимерша Соловьев остался доволен. Пожав руки Тукаю и артистам, он отвел их в отдельный кабинет и хорошо угостил.
На следующий день Тимерша приклеил на стекло парадной двери объявление: «Читаются национальные стихи, исполняются народные песни». Этого ему показалось мало. Он купил для артистов шесть красных фесок и одну голубую для Тукая. «Когда были надеты фески, — пишет Кариев, — мы, кажется, пели еще лучше. Тукай в тот день дирижировал нами как завзятый капельмейстер». Во время аплодисментов он даже повернулся к залу и поклонился.
Выступления продолжались почти неделю. Управляющий гостиницей разнообразил угощение, а Тукай — репертуар.
Кончилась, однако, эта затея комически. Откуда ни возьмись объявился гармонист, с позволения управляющего он забрался на эстраду и начал петь под гармонь высоким, как у женщины, голосом. Его репертуар, состоявший из уличных песен, голос и ужимки произвели такой фурор, что, по словам Кариева, весь ресторан стал стучать стульями, аплодировать, кричать. Короче говоря, «Двухсветная» безумствовала.
Тимерша Соловьев нанял гармониста до конца ярмарки. А ансамбль Тукая закончил на этом свое существование.
Сомнения закрадывались в душу Тукая еще во время выступлений. Когда же все кончилось позором, Габдулла не находил себе места. В самом деле, что же это такое? Поэт Габдулла Тукай возглавляет балаган, устроенный Тимершоп для увеличения выручки, и, выйдя на ресторанную эстраду, машет руками перед сытыми купчиками да еще кланяется им! Где была его голова? Чем он лучше дрессированного медведя?
Этого Тукай долго не мог простить ни себе, ни Камалу — ведь тот-то должен был как артист сообразить, чем все это пахнет. «Через несколько лет, — вспоминал Кариев, — подшучивая, я неоднократно пытался выяснить, где он усвоил капельмейстерские замашки, которые мы наблюдали на Макарьевской ярмарке. И каждый раз Тукай, волнуясь и краснея, обрывал меня: «Оставь, пожалуйста», и быстро переводил разговор».
6
В начале октября 1908 года Тукай принес в свой номер небольшую книжку. На обложке стояло: «Книга о Кисекбаше — отрубленной голове». Эту фантастическую поэму Тукай помнил с детства. И тем не менее снова внимательно ее перечитал.
Однажды, когда пророк Мухаммед, говорилось в поэме, сидел и беседовал с четырьмя сподвижниками и тридцатью тремя тысячами последователей, к его ногам подкатилась отрубленная человеческая голова. Начальник войска Гали хотел ее поднять, но не смог даже сдвинуть с места — столь велика была тяжесть наполнявшей ее святости.
Голова просила у пророка помощи. Дело в том, что злой див проглотил ее тело, сожрал сына, похитил жену, а сам нырнул в колодец. Хотя Мухаммед и не одобряет, Гали берется помочь Кисекбашу. Взяв в руки зульфикар — мифический меч, батыр садится верхом на легендарного коня Дольделя и выступает в поход.
Впереди катится Кисекбаш, Гали едет на коне. Через несколько суток прибывают они к колодцу в пустыне. У батыра с собой аркан в тысячу пятьсот обхватов. Он привязывает конец аркана к срубу и кидается вниз. Через семь дней его ноги касаются земли. Разбив железные ворота, Гали попадает во дворец, где луноликая жена Кисекбаша творит намаз. В следующих хоромах герой видит пятьсот связанных мусульман. В третьих палатах спит сам див. Гали его будит, и начинается битва. Дубиной в тысячу батманов весом (двести пятьдесят пудов. — И. Н.) див три раза ударяет Гали. Батыр уходит по пояс в землю, но остается жив. Разрубает мечом зульфикаром на куски злое чудище. На смену одному диву являются сотни новых. Поскольку силу Гали дает аллах, он, естественно, побеждает всех, освобождает мусульман, раздает им имущество дива и вместе с женой Кисекбаша поднимается наверх. Когда они возвращаются к пророку, тот берет голову в руки, и к ней возвращается тело. Пошептав над костями сына Кисекбаша, пророк оживляет и его. Поэма о Кисекбаше, по мнению ученых, весьма древнее произведение. Веками она служила книгой для чтения в медресе. Ее можно было обнаружить едва ли не в каждом татарском доме.
Для чего же она заново понадобилась Тукаю? Ведь он был о ней весьма невысокого мнения и в одном из фельетонов даже назвал ее «Тишекбаш» — «Дырявая голова».
После возвращения с ярмарки Тукай с головой ушел в издание юмористического журнала. Много времени уделял ему и Камал, но материалов постоянно не хватало: новый журнал, что новорожденный младенец, постоянно требовал есть.
В конце августа в цирк братьев Никитиных приехал турецкий борец Карахмет. Его приезд привлек к себе внимание казанских татар. Почуяв запах денег, хозяева цирка решили подзаработать. Злые языки говорили, что Никитин наказал борцам: делайте вид, что боретесь, а сами поддавайтесь Карахмету. Объявление в «Волжском листке» наводит на мысль, что эти слухи имели под собой почву. «В пятницу, 5 сентября, будет дано грандиозное представление в честь мусульманского праздника, — сообщала газета, — Карахмет выступит в роли Геркулеса: сломает две колоды карт и подкову, намотает на руку железный обруч, разорвет цепь и кулаком забьет в доску большой гвоздь».
После «грандиозного представления» и в особенности после того, как Карахмет побросал на ковер нескольких борцов, он превратился в «национального героя» для казанских мещан и «сеннобазарцев».
Камал посоветовал Тукаю использовать эту историю, чтобы высмеять фанатизм и невежество татарских лавочников и черносотенцев.
Карахмет жил в той же гостинице «Булгар» через несколько номеров от Тукая. Поэт с любопытством разглядывал высоченного толстого силача в феске с кисточкой. Очевидно, его облик вызвал в памяти поэта образ Гали-батыра, но в сниженном, комично-бытовом виде. Как бы там ни было, именно Карахмет навел Тукая на мысль написать пародию на «Книгу о Кисекбаше». Не замедлил явиться кандидат и на место дива.
В середине прошлого века некий Багауддин Хамзин из Свияжского уезда Казанской губернии уехал в Среднюю Азию. Занимался там торговлей, общался с духовенством и читал религиозные книги. Вернувшись в Казань, он объявил себя гази — победителем в борьбе за веру. Открыл в 1862 году молитвенный дом и, собрав в Казани и ее окрестностях, в других губерниях и даже в Средней Азии учеников-мюридов, основал религиозную секту. В народе он был известен как Багави-ишан. Сам же он принял имя Ваиси — героя одной из мусульманских легенд, который был так предан пророку Мухаммеду, что, когда пророк потерял на войне зубы, выбил себе зубы камнем.
После смерти Ваиси секту возглавил его сын Гайнанутдин Вайсов. Мюриды построили ему в Новотатарской слободе большой дом. Над крыльцом повесили вывеску на русском языке: «Всего мира государственный молитвенный дом. Автономное духовное управление и канцелярия Сардара Ваисовского божьего полка — Мусульманская академия».
Над воротами взвился зеленый флаг ислама с изображением месяца и звезды. Секта не признавала утвержденных правительством мулл, мечетей и официальных религиозных обычаев. Призывала не подчиняться государственной власти, не иметь дел с правительственными учреждениями, не идти в солдаты, а если заберут, не выполнять приказов. Членам секты запрещалось также платить налоги.
Как видно, в «программе» секты нашел своеобразное отражение протест против политики царизма. Но это отнюдь не делало секту явлением прогрессивным. То был, так сказать, протест справа: «программа» ваисовцев уводила татарский народ в сторону от русского пролетариата, классовой борьбы, социальной революции.
Татарская демократическая интеллигенция и, в частности, Тукай относились к ваисовцам резко отрицательно.
У ваисовцев были и свои планы по переустройству общества. Согласно этому плану все мусульмане, а не только татары должны были войти в секту. Тогда царское правительство вынуждено будет издать указ, признающий секту самостоятельной государственной властью. И вся территория древнего государства Булгар окажется в руках Гайнана Ваиси, а самые близкие его сподвижники в зависимости от внесенных ими в секту денежных сумм станут управлять губерниями.
Программа, как видно, не только бредовая, но и по сути своей реакционная.
Тукай не ограничился заочным интересом к ваисовщине, а специально занимался личностью Гайнана Ваисова и через его учеников изучал обычаи и порядки в секте. Много материалов он почерпнул из брошюры торговца колбасами Габдуллы Кильдишева «Западня Гайнана Ваисова». Кильдишев три года состоял в секте, а потом вступил в конфликт с ишаном Ваисовым, порвал с ним и разоблачил тайны секты.
Кильдишев и сам бывал у Тукая: раза два приходил играть в карты. Как-то по приглашению Кильдишева к нему в гости зашел и Тукай.
Иногда сведения о ваисовцах попадали в руки Тукая совершенно неожиданным путем. Читатель, наверное, помнит приемную мать Тукая — Газизу. Едва приехав в Казань, Габдулла принялся ее разыскивать. «Когда у мамы умер муж, — писал Габдулла своей сестре, — она вышла замуж за одного из мюридов Багави-ишака. (Это не опечатка. Тукай пишет «ишак» вместо «ишан». — И. Н.) Этот мюрид заявил, что я ей чужой, и решил не допустить моей встречи с мамой».
Нелюдимый, ревнивый и фанатичный мюрид держал Газизу чуть ли не под замком, и Тукаю долго не удавалось ее повидать. В конце декабря 1907 года, накануне религиозного праздника жертвоприношения, курбан-байрама, Габдулла через посыльного отправил матери подарок и из тактических соображений — отрез на белье для ее мужа. Через несколько дней Габдуллу привели в полуразвалившийся, наполовину ушедший в землю домишко
в Новотатарской слободе, который принадлежал матери Газизы. «Был уже поздний вечер, — вспоминал Тукай. — Спустившись по ступенькам в темноте, я вошел в дом. В глубине увидел чернобровую, черноглазую полную женщину не старше сорока лет. Я узнал ее и поздоровался: «Здравствуй, мама». Она подала мне руку со словами: «Ты жив-здоров?» — и заплакала. Я тоже расчувствовался, с трудом сумел себя сдержать».
У бабушки на столе стоял самовар, сели за чай, вспомнили прошлое. Старушка, помня о характере зятя, все время их торопила. Наконец Газиза, собравшись уходить, сказала: «Я пойду соберу на стол, а потом ты придешь к нам». Видно, отрез на белье сделал свое дело, и мюрид разрешил Тукаю бывать у них в доме. Но одно он решил твердо: Габдулла не должен видеть его жену.
Заинтересовавшись сектой Гайнана, Тукай, надо думать, бывал в доме его мюрида, сидел с хозяином и кое о чем сумел его расспросить.
Фантазия Тукая мало-помалу превратила ишана Гайнана Ваисова в дива из «Книги о Кисекбаше». Внешность у него была подходящая: здоровенный как дуб, с ястребиным носом и властным взглядом удава. На голове — красная феска с черной кисточкой.
Что до Кисекбаша, то, кажется, у него не было определенного прототипа. В газете «Баян эль-хак» промелькнуло письмо, в котором самарский торговец Зиннатулла жаловался, что ишан Гайпан отобрал у него жену. На этом основании кое-кто счел, что Кисекбаш списан Тукаем с него. Во всяком случае, верно одно: Кисекбаш — торговец, так или иначе обиженный Гайнаном. Роли пророка Мухаммеда и его сподвижников Тукай роздал представителям штаба казанских религиозных фанатиков «Уголок кяфура».
А теперь попробуем заглянуть в сороковой номер гостиницы «Булгар» и представить себе, что там происходило.
Придвинув стол к кровати, в номере играли в карты человек шесть. Игра шла вяло. Хозяин лежал за спинами сидевших на кровати приятелей. Все, очевидно, полагали, что он спит. Но это было не так. Перед его взором сказочный мир, где смешались быль и фантастика.
Наконец игроки, оставив в комнате облако дыма, ушли. Будто желая увериться, что гости не вернутся, поэт еще немного полежал на кровати, потом быстро встал и принялся рыться в грудах книг, газет и журналов, лежащих на подоконнике, на полу. После долгих поисков он нашел наконец бумагу. Пера и чернил нет: наверняка унесли. Это бывало часто: кому-нибудь из обедавших в ресторане понадобятся перо и чернила, ни у кого не спрашивая, он заходит в соседнюю комнату, берет у Тукая прибор и уходит. А вернуть забывает. Видимо, так случилось и на сей раз. Тукай идет в буфет, берет там перо и садится писать.
Что ж, начнем-ка прямо с Карахмета сказ, Может, и похвалит кто за это нас.Перо строчит! Мелькают листы бумаги разного цвета и формата.
Как-то по Сенному я базару шел, Там-то для рассказа пищу и нашел.Базар кипит, бурлит. Одни обманывают, другие обманываются. Вдруг народ бросается к «Уголку кяфура». Автор бежит вместе со всеми. Что же он видит?
При честном народе вдоль по мостовой Катится булыжник, схожий с головой. Батюшки, и вправду это голова! Туловища нету, а она жива.Докатившись до «Уголка кяфура», голова останавливается. Она принадлежит седобородому мусульманину и излучает сияние святости. Свечник Гали, нищие девчонки, даже тюбетейки на магазинных полках, шкуры под ногами, мешки с мукой — и те от жалости разражаются слезами.
Отрубленная голова рассказывает: девяносто девять раз он бывал в Мекке, десять лет подряд был гласным в думе, взял в Москве товары в кредит, объявил себя банкротом и положил в карман девять гривен с рубля. Он пятнадцать раз женился и, хотя по ночам он иногда ходил в публичный дом, днем слыл святым человеком. И вот его жена, которую он взял за себя на закате лет, унесена дивом. Этот див и проглотил его туловище.
Старики начинают совещаться. Каждый предлагает своё:
— Попросим у царя солдат!
— Нет, пусть Садри Максуди сделает запрос в думе. Зря, что ли, его депутатом избирали!
— Надо позвать яшана с плетью!
Наконец один говорит:
— Это дело только Карахмету под силу.
Его слова вызывают всеобщее одобрение. Призывают Карахмета. Батыр пытается поднять голову, пыхтит, потеет. Все напрасно: «фанатизма тысяча пудов» в этой голове.
За окном светает. Небо за озером Кабан занялось зарей. Лицо у Габдуллы горит, в висках стучат молотки, веки слипаются. На сегодня хватит.
На следующий день, кое-как перекусив, он снова садится к столу.
Карахмет, любимый батыр обитателей Сенного базара, не заставляет себя упрашивать. Народ, воздев руки, совершает молитву, желает батыру счастливого пути. Тот садится в трамвай. Вагон трогается. Голова катится за ним по земле. Мальчишки закидывают ее камнями. Приходят в ярость стаи собак, отирающихся возле мясных лавок.
Целой сворой скачут, силятся кусать. Эх, хвосты кривые, разве вам догнать!Мимо издательства «Китап» и редакции «Эль-ислах» батыр и голова добираются до завода Крестовниковых. Через семь дней и семь ночей они прибывают на пустырь. Дальше батыр следует пешком. Впереди озеро Кабан. Див-злодей забрался в колодец, вырытый на дне озера.
Тукай не может обойти молчанием предание, будто, оставляя Казань, ханы, дабы сокровища не достались врагу, утопили их в озере. Шакирды приозерного медресе уверены, что в один прекрасный день разбогатеют. Дело за малым — нужно лишь дождаться, когда озеро высохнет.
Ждут-пождут шакирды. Движутся года, Но... не высыхает в озере вода.Пора в редакцию. Журнал «Яшен», газета «Эль-ислах» требуют Тукая к себе. Но образы начатой поэмы не покидают его. Вернувшись домой, он сразу же садится за стол, и перо опять бежит по бумаге.
Батыр, привязав веревку в тысячу аршин к языку Кисекбаша, ныряет в озеро. Отыскав колодец, опускается в него. Через десять дней он обнаруживает прекрасный дворец. Над воротами на зеленой доске та же самая вывеска, которая висела над домом ишана, с той лишь разницей, что поэт слово «назия» — «спасители», заменил словом «джания» — «преступники». И получилось следующее: «Здесь пребывают преступники, последователи Гайнана».
Карахмет ломает ворота и входит во дворец. В первой комнате он натыкается на ясноликую жену Кисекбаша, во второй — пятьсот мусульман со связанными руками и ногами, то есть мюридов ишана. Входит в следующую: там спит сам див.
Вон башка, что купол, велика, грузна, Феска на макушке дьявольской видна, А с губы усищи виснут, как жгуты. Длинны и противны, словно крыс хвосты.Портрет Гайнана Ваисова и в этих строках нарисован довольно точно.
Карахмет расталкивает дива. Тот просыпается и начинает плевать огнем.
— По какому праву входишь, не спросись, Сон мой нарушаешь сладкий, не стыдясь? — Здесь мой суд и право, — заявляю я. — Здесь моя держава, — заявляю я.В словах дива содержится недвусмысленный намек на бредовые планы руководителей секты.
Поэт не рассказывает, как происходила схватка дива с Карахметом, а возвращает нас на Сенной базар. Сеннобазарцы мрачны и подавлены, мусульмане в печали. Вот уже целый месяц нет вестей от Карахмета. И вдруг:
Будто загремела тысяча громов, Расколовши землю до ее основ; Будто львы пустыни появились тут, Будто, сбившись в кучу, все ослы ревут.Поднялась песчаная буря, померк день. Наконец из пыли, поднятой бесноватым дивом, показался трамвай. Через три дня он подъезжает к базару. Из вагона, гордо подняв голову, выходит Карахмет. Затем появляются мальчик — сын Кисекбаша и его жена в чапане. Народ ликует. Приходит духовник Камчылы-ишан и совершает молитвенный обряд перед отрубленной головой. Кисекбаш превращается в юношу. Див же, обернувшись пламенем, укрывается в Новотатарской слободе.
А за то, что веру поддержал батыр И за веру храбро воевал батыр, Парню золотые поднесли часы. Только без цепочки полной нет красы.Так кончается эта поэма, ставшая классическим образцом сатиры в татарской поэзии. Тукай написал ее за пять дней. И радовался и гордился этим.
В стихотворении «Добавление к Кисекбашу», напечатанном в газете «Эль-ислах» 5 ноября 1908 года, он писал, что когда закончил поэму, то ходил, «выпятив грудь, как командир перед стройными рядами своих войск».
Летом при газете «Эль-ислах» был организован «Литературный кружок», где раз в неделю читали и обсуждали новые произведения. В начале октября сюда принес свою поэму и Тукай. Шараф, присутствовавший на чтении, пишет: «Слушатели не раз прерывали Тукая аплодисментами — творческая фантазия поэта вызвала всеобщий восторг. Я не припомню ни одного произведения, которое могло бы произвести такое же сильное впечатление, как «Новый Кисекбаш, или Сенной базар».
Очевидно, на этом же заседании решили провести литературно-музыкальный вечер в пользу газеты «Эль-ислах». И чтобы сделать сбор, уговорили Тукая прочесть на нем новую поэму.
Вечер состоялся 14 октября в зале Купеческого собрания, где ныне помещается казанский ТЮЗ.
Перед началом Тукай казался встревоженным, взволнованным. Он подошел к одному из товарищей, наблюдавших за порядком, и спросил: «Посмотри-ка, Карахмет не пришел?» Заметив недоумение на лице товарища, он пояснил с усмешкой: «Ты что, не видел, какие у него кулачищи?»
Для Габдуллы, который тяжело переносил любой пренебрежительный взгляд, даже намек на жалость, сама мысль, что на него могут поднять руку, была оскорбительна. А фантазия работала быстро. Как бы там ни было, Тукай выступил.
Успех был грандиозным. Чтение то и дело прерывалось смехом. Амирхан писал своему другу: «Публика от смеха надорвала животы, а Тукаева непрерывно награждали аплодисментами».
Тукай писал «Кисекбаш» для журнала «Яшен», но товарищи убедили его, что выпускать поэму по частям — только портить впечатление. Ее надо издать отдельной книгой. Тукай согласился и отдал поэму Гильметдину Шарафу.
Ловкий и энергичный Гильметдин выпустил ее пятитысячным тиражом через неделю. Весь огромный по тем временам тираж разошелся в течение месяца. Шараф пишет, что из двадцати изданных им до 1914 года книг ни одна не имела такого успеха.
,Единодушна была и вся прогрессивная критика. Фатых Амирхан, одним из первых откликнувшийся на поэму, писал: «Познакомившись с последним произведением Г. Тукаева и его юмористическими стихотворениями в журнале «Яшен», мне хочется сказать ему, что отныне он стал крупнейшим мастером юмора во всем татарском мире».
Глава пятая Звуки печального саза
1
В стихах 1909—1910 годов Тукай пишет о боли своей израненной души.
Что свершил на этом свете? Право, не на что взглянуть! Только ясно мне, что где-то мимо — настоящий путь. В песне есть ли толк народу, не пойму я никогда. Кто? Шайтан иль ангел света с песнями идет сюда?Как бы тяжко ни приходилось Тукаю, никогда прежде его не посещали сомнения в полезности дела, которое он делает. Но наступила эпоха столыпинской реакции — освободительное движение было разгромлено, страна залита кровью, воцарились гнетущая тишина и молчание. Казалось, этому не будет конца.
Духота какая! Нечем мне дышать. Что мне дальше делать, надобно решать. Если хватит силы, — мрак тюрьмы покинь, А не хватит силы, — сдайся, сдохни, сгинь!Единственным, что связывало его с жизнью, оставалось творчество.
Когда за горем — горе у дверей И ясный день ненастной тьмы темней; Когда сквозь слезы белый свет не мил, Когда не станет сил в душе моей, — Тогда я в книгу устремляю взгляд, Нетленные страницы шелестят.Чрезвычайно мрачным стихотворением «Татарскому писателю» открывает Тукай и 1910 год. Весною, когда просыпается природа, он пишет стихотворение «Отчаяние».
На мир, испорченный вконец, о солнце, больше не свети! Стань кругом черным, закатись, не сей живую благодать!И наконец, глухой осенью 1910 года из-под его пера выходит «Разбитая надежда». Имея в виду это стихотворение, Максим Горький в письме к Сергееву-Ценскому писал: «Вы жалуетесь, что проповедники хватают за горло художников. Это ведь всегда было. Мир не для художников, — им всегда было тесно и неловко в нем, — тем почтенней и героичней их роль. Очень хорошо сказал один казанский татарин-поэт, умирая от голода и чахотки: «Из железной клетки мира улетает, улетает — юная душа моя»... В повторении «улетает» я слышу радость. Но лично я, разумеется, предпочитаю радость жить: страшно интересно это — жить». В этих словах содержится точная оценка и душевного состояния Тукая, и причин, его вызывавших.
Читая эти стихи, можно предположить, что целых два года Тукай предавался лишь отчаянию и думам о смерти. Так, конечно, не бывает. Сам Тукай говорил: «Див и тот не выдержал, если бы постоянно был объят пламенем горя».
За 1909—1910 годы поэт написал около ста стихотворений, две стихотворные сказки, автобиографический очерк «Что я помню о себе», статью о татарском народном творчестве, около тридцати фельетонов и рецензий, выпустил в свет двенадцать книжек. Само обилие бед, сыпавшихся на него одна за другой, не позволяло, замкнуться в отчаянии, он вынужден был им противостоять.
Над своей смеюсь печалью и смеяться буду впредь, — Слезы высохли от горя, и не в силах я скорбеть.Как смертельно уставшему человеку твердый камень кажется мягче пуховой подушки, а голодному — корка черствого хлеба вкуснее райских яств, так маленькие радости могли вдохновить Тукая на создание пронизанного светлой надеждой стихотворения. Бывало, после мрачных, отчаянных строк из-под его пера выходили строки, проникнутые светлым юмором. Или, наоборот, после жизнерадостных нот следовало нечто горестное, заунывное.
В стихотворении «После страданий» Тукай говорит:
В этот миг наполняют отрада и гордость меня, О страданьях своих с благодарностью думаю я. Разве горе минувшее не было к счастью ключом? К цели светлой ступенями? Мглой перед первым лучом?Поэзия не давала ему замкнуться в отчаянии, продолжала связывать с миром, с людьми. Тукай прежде всего считал себя борцом, и его талант был призван служить общественным идеалам. Он не мог молчать, когда идейные враги внутри нации и вне ее пытались залить тот огонь, который был зажжен в сердцах тысяча девятьсот пятым годом, он сражался с ними из последних сил оружием сатиры.
И все же 1909—1910 годы были самыми мучительными в его жизни.
Многие из тех, кто еще вчера кричал о своей готовности «умереть за свободу», попрятались по углам. Одни принялись торговать, другие шли на службу куда угодно, лишь бы за это хорошо платили. Иные подыскивали себе невест побогаче. Какие уж там идеалы! У кого перо побойчее, пристроившись в коммерческих газетах, брались за любой заказ.
У нас писатель лишь начнет писать, Бросается немедля торговать, —с горечью замечал Тукай.
Силы людей, продолжавших противостоять реакции, таяли день ото дня. Если бы среди отступников были только люди, не занимавшие заметного места ни в литературе, ни в общественной жизни, это бы еще куда ни шло, — когда из телеги выпадает лишний груз, коню только легче. Но не успел Тукай пережить поступок Галиасгара Камала, нанявшегося секретарем в газету «Юлдуз», как Сагит Рамиев, и того хуже, подрядился на службу в черносотенную «Баян эль-хак», которую издавал Ахметзян Сайдашев. Падение Сагита Рамиева было для Тукая тяжким ударом. Он почитал его как публициста и поэта, похвально отзывался о его стихах. Совсем недавно Рамиев осыпал проклятьями и правительство, и баев со страниц «Танг юлдузы», «Тавыща» и «Танг меджмуасы», когда эти издания закрылись, на какое-то время примкнул к «Эль-ислаху», теперь же, вольно или невольно, поставил свое перо в услужение реакции.
Тукай понимал, что поступок Рамиева вынужденный: он остался без работы и без денег и махнул на все рукой. Но от этого, как говорится, не легче. Тем не менее, щадя самолюбие поэта, который был ему дорог, Тукай долго воздерживается от публичной оценки его поступка.
А Бурган Шараф? Способный журналист, по взглядам своим близкий к «Эль-ислаху». Одним из первых приветивший Тукая в Казани, познакомивший его с Амирханом. Теперь этот человек принял приглашение золотопромышленников Рамиевых и отправился служить в их газету. Его примеру последовал и Кабир Бакир, постоянный сотрудник «Эль-ислаха», человек, настолько близкий Тукаю и Амирхану, что они одно время жили коммуной, втроем снимая домик.
Все это заставило Тукая задуматься. Еще в Уральске он был близок к революционным демократам, которые ратовали за свержение самодержавия, установление демократического строя, требовали изъятия помещичьих и казенных земель и передачи их крестьянам. Допустим, первая русская революция осуществила бы эту задачу. А что дальше? Тукай прекрасно понимал, что можно быть свободным гражданином, сидеть на своей земле и не вылезти из нужды. Ведь существуют капиталистические отношения, эксплуатация человека человеком. Стало быть, революционно-демократические преобразования необходимо дополнить чем-то еще, дабы утвердить отношения дружбы, братства, взаимной помощи, чтобы люди жили счастливо и красиво. Чем же? Мы бы сказали — социалистической революцией, построением социалистического общества. Но стать борцом за эту идею Тукай не успел.
«...Он начал с идеалистических, наивных представлений о путях искоренения зла, порождаемого частной собственностью, — пишет известный тукаевед Г. Халит. — Во многом сочувствовал толстовской проповеди отказа от богатства. ...Этико-философские идеи Толстого не случайно получили такой резонанс во взглядах Тукая. «Толстой отразил накипевшую ненависть, созревшее стремление к лучшему, желание избавиться от прошлого, — и незрелость мечтательности, политической невоспитанности, революционной мягкотелости»8. Эту мысль В. И. Ленина в какой-то мере можно приложить и к противоречиям в мировоззрении татарского народного поэта». Тукай возлагал надежды на нравственное воспитание людей и просвещение: на школы, печать, литературу, искусство, не отказываясь и от услуг религии.
Его представления о социализме были утопическими. Именно просветительско-утопические иллюзии и подвергались испытанию в период реакции.
Но революция оказалась подавленной, и народ не получил свободы, а крестьяне — земли. Фабрично-заводские рабочие, еще вчера поднявшиеся против угнетателей, сегодня опять впряжены в оглобли и, подгоняемые кнутом, безропотно тянут груз. А те, которые, казалось, могли бы снова поднять их на борьбу, разбегаются как крысы с тонущего корабля.
Долго ли продлится реакция? Повторится ли пятый год? Тукаю, довольно далекому от мировоззрения пролетариата, нелегко было ответить на эти вопросы.
Между тем успехи просвещения были налицо. Открывались все новые школы, выходили десятки газет и журналов, одно за другим рождались книжные издательства, выпускавшие книги тысячными тиражами. За несколько лет невиданный доселе скачок сделала литература. Первый татарский профессиональный театр «Сайяр» разъезжал почти по всей России. Казалось бы, нравственное зло и своеволие должны были стушеваться или, по крайней мере, уменьшиться. Ан нет! Насилие и корысть продолжали господствовать в мире. Неужто просвещение столь бессильно? А если так, какой толк с ним носиться? К чему тогда писать стихи, выпускать книги? Вот чем вызваны были слова поэта: «Я пою, но от моих песен есть ли польза моему народу?»
Ко всему этому добавились нападки идейных противников, сплетни вчерашних «друзей», преследования цензуры, обострившаяся болезнь.
Но в этом худом юноше с прозрачной, в синих прожилках кожей жил могучий дух.
2
Народ помог молодому поэту найти в себе силы, чтобы устоять. Всем сердцем отзывался Тукай на каждую весточку из родных мест. Родственники, друзья, земляки часто наезжали к поэту, эта живая связь с деревней не прерывалась никогда. Судя по опубликованным и хранящимся в архивах материалам, по воспоминаниям, которые удалось собрать в деревнях Заказанья автору книги, за эти годы в номер Тукая приходили, оставались там ночевать или же подолгу беседовали с ним, чаевничали, а то и просто встречались на улице десятки его земляков. Среди них друзья детства — Ахун, Ахли, Халилрахман, с которыми он вместе играл в Кырлае, его первый учитель Фатхеррахман-мулла, его дядя Кашфелькабир, сын Сагди Садри, Сафиулла и Лутфулла Хисматуллины из Кушлауча.
Ахун Сабирзянов рассказывал: «По дороге из Баку в родную деревню, остановившись в Казани, я снял номер в гостинице «Булгар». При встрече Тукай меня обругал: почему-де я не остановился в его номере. Взял мои вещи и повел ночевать к себе. Мы проговорили целую ночь. Он рассказывал о своей жизни в Уральске, я — о бакинских делах. На другой день он нанял извозчика, повез меня в музей, в кино, а вечером мы ходили в цирк. Он говорил: «Раньше, чем через три дня, не отпущу». Но на другой день я заторопился в Кырлай... Когда меня призвали в солдаты, мы с Ахли приехали к воинскому начальнику в Казань. Узнав о нашем приезде, Габдулла снова пригласил нас в свой номер. Долго сидели, разговаривали. Он нас хорошо угостил. Поскольку из Казани мы уехали нескоро, то заходили к нему еще несколько раз».
Эти воспоминания, конечно, нельзя брать на веру. Прошло немало лет, многое забылось, спуталось. О Тукае было уже столько написано, что авторы воспоминаний невольно стремились подчеркнуть свою близость к нему.
Можно поверить, что, встретившись через двенадцать лет с другом детства Ахуном, Тукай привел его в свой номер и оставил ночевать. Но вот что он говорил ему: «Раньше, чем через три дня, не отпущу» или целую неделю не расставался с Ахлием и Ахуном, маловероятно. Не водил он Ахуна и в музей, в кино и в цирк. Это, без сомнения, примыслено позже!
Но не подлежит сомнению одно: татарские крестьяне, земляки, друзья детства, не считаясь с тем, удобно это поэту или пет, не задаваясь мыслью о том, что их посещение может отнять у него время, частенько с мешком в руках появлялись в крохотном номере Тукая. Радушия и гостеприимства Тукаю было не занимать. Он приветливо встречал всех, кто бы они ни были, угощал чем мог и терпеливо сносил неудобства, когда его комната превращалась чуть ли не в постоялый двор. Многие жители Кушлауча работали возчиками у казанских баев, чернорабочими на пивоваренном заводе Петцольда, на фабрике Крестовниковых. Крестьяне соседней с Кушлаучем деревни Нижняя Серда трудились в Казани «барабузами», как назывались извозчики, катавшие седоков в розвальнях.
Чаще всего земляки приходили к нему по делу. Вот, не утруждая себя стуком в дверь, появляется очередной односельчанин лет двадцати — двадцати пяти. Высокого роста, рыхловат, но силен. Молча смотрит на хозяина, ничком лежащего на кровати, и молча садится на корточки у двери, прислонившись спиной к стене. Вытаскивает из кармана кисет, сворачивает толстую козью ножку.
Проходит полчаса, час. Тукай погружен в свои мысли, а земляк знай себе чадит.
Он приходит уже не первый раз. И так всегда: сидит и сидит, а когда настанет пора уходить, говорит странным для крупной фигуры высоким голосом:
— Ну ладно, Габдулла, напиши уж...
Земляк работает на пивоваренном заводе. Человек он смирный, хоть режь на куски, слова не вымолвит. Приходит он к Тукаю неспроста: здорово обижает его «мачтыр Аскар Дварич», то есть мастер Оскар Эдуардович. Ругает, бьет. Вот он и ищет защиты: не напишет ли Тукай жалобу на этого «Аскар Дварича». Неплохо было бы его пропечатать в газете: ведь Тукай работает в «пуграфии», то есть в типографии.
Габдулла не раз говорил ему: толку из этого не выйдет, но земляку невдомек.
— Напиши уж, Габдулла...
— Что он, такой сильный?
— Кто?
— Твой Аскар Дварич...
— Какое там! Пальцем тронешь — умрет. После долгого молчания поэт говорит:
— Ты вот что, возьми-ка это полотенце.
— А зачем? У меня свое полотенце есть...
— Не помешает. Когда побьет Аскар Дварич, будешь слезы им вытирать...
Тукай с болью писал в своих стихах, очерках и фельетонах о покорности народа. Жалость и гнев рождала она в его душе.
Годами Тукай собирал народные песни. В эпоху реакции его интерес к народному творчеству принял новые формы. В 1910 году он выпустил собранные им песни отдельной книгой, назвав ее «Национальные мелодии». В том же году поэт выступил в восточном клубе с лекцией о народном творчестве.
По словам Тукая, дело было так: «Однажды полушутя я сказал одному из товарищей: «Буду читать лекции о народной литературе».
Он поверил, а я, прежде чем он ушел, забыл предупредить, что мои слова не следует принимать всерьез. Он возьми и напечатай в одной из влиятельнейших газет: Тукаев-де прочтет лекцию. Так из шутки неожиданно для меня вышло дело. Я не стал опровергать сообщения и взял на себя смелость высказать публично некоторые мысли о народной литературе».
В это время в татарской либеральной печати стали появляться «ученые» статьи, вся ученость которых часто сводилась к употреблению множества научных терминов и ссылок на десятки имен русских и западноевропейских фольклористов.
В лекции, позднее опубликованной отдельной брошюрой, Тукай высказал лишь свои личные соображения, соображения поэта. Но в его словах был точно схвачен дух народной литературы, угадано ее предназначение.
Он начал читать негромким глуховатым голосом, то и дело сбиваясь от волнения: ведь лекций ему читать никогда еще не доводилось. Затем, увлекшись, забыл о смущении, и речь его потекла плавно. Все больше и больше воодушевляясь, он говорил: «Народные песни — самое дорогое и ценное наследие наших предков. Да, дорогое наследие, ценное наследие! Булгарские города, их оригинальная архитектура, булгарские деревни исчезли без следа, будто их и не было. А народных песен и пушки не разбили, и стрелы не пронзили. Пережив много бед и напастей, они вопреки всем невзгодам сохранились в памяти народа... Народные песни дороже жемчугов и рубинов, их надо знать и беречь. Стараться не растерять. Надо помнить, что песни — это нетускнеющее, чистое, прозрачное зеркало народной души. Зеркало особое, волшебное: какую из них ни возьми, вникнув, увидишь, что она раскрывает душу народа, рассказывает о его чаяниях и думах».
В подтверждение своей мысли поэт приводит несколько примеров и наконец произносит знаменитые, множество раз цитировавшиеся слова:
«По правде говоря, народ велик. Он могуч, страстен, музыкален. Он — писатель, он — поэт...»
Тукай впервые выдвигает в своей лекции еще один важный тезис: «Народные песни, без сомнения, станут основой нашей будущей литературы».
Он сам подал пример творческого освоения фольклорных традиций. Написал несколько прекрасных стихотворений, подобных «Опозоренной татарской девушке» и «Национальным мелодиям», в которых, отказавшись от метрической системы стихосложения — аруза, творчески использовал размеры, ритмику и изобразительные средства народных песен.
Его предсказание оказалось вещим — вся живая струя в татарской поэзии после Октября от Хади Такташа и Хасана Туфана до Мусы Джалиля и Сибгата Хакима питалась песенной народной стихией.
3
В преодолении духовного кризиса, который Тукай пережил в 1909—1910 годах, немалую роль сыграл первый татарский большевик Хусаин Ямашев, оказавший на поэта заметное идейное влияние.
Жизнь Хусаина, родившегося в семье торговца, сначала шла по знакомой нам стезе: школа, медресе. К счастью, преодолев сопротивление родни, он сумел поступить в татарскую учительскую школу. В этой школе Ямашев с помощью русских социал-демократов знакомится с марксизмом и после ее окончания уходит в революционное движение. В 1905 году он член Казанского комитета РСДРП (б). Центральный орган партии, газета
«Пролетарий» писала о нем: «...при комитете находится организатор-татарин, мнение которого очень ценится комитетом... Он основательный социал-демократ «ортодоксального» толка, без малейшей примеси национализма».
Хусаин Ямашев был одним из организаторов и идейным руководителем большевистской газеты «Урал» в Оренбурге. После закрытия газеты Ямашев на два месяца раньше Тукая возвращается в Казань. Здесь и состоялась встреча признанного революционера с поэтом.
Тукай писал о своих встречах с Ямашевым так:
Считаюсь друзьями я гостеприимным певцом — Бедняк и сынок богача были в доме моем. Когда же ко мне благородный мой друг приходил — Казалось, луна в полнолунье спускалась в мой дом.Материалов об отношениях Тукая с Ямашевым тем не менее очень мало.
Тукай встречался с X. Ямашевым нечасто. У Хусаина было по горло своих дел, и в основном нелегальных. Вдобавок за каждым его шагом следила полиция: их редкие встречи по большей части происходили без свидетелей, в лучшем случае в них могли участвовать единомышленник Ямашева драматург Гафур Кулахметов и еще два-три человека.
Хусаин дневников не вел и умер раньше Тукая. Тукай посвятил его памяти два стихотворения, но прожил на свете после него меньше года. Что до Кулахметова, то он никаких воспоминаний не оставил. Писать мемуары было не в его характере.
Но не располагай мы вообще никакими иными свидетельствами, одного стихотворения Тукая «Светлой памяти Хусаина» было бы достаточно, чтобы понять, как поэт относился к первому татарскому большевику.
Угас он — тот, кто нам светил, как яркая звезда, то был сильней морских глубин, прозрачней, чем вода. И даже если я себе представлю всех святых, Мне не найти столь светлый лик, наверно, и тогда. Силен иль слаб, богат иль нищ — всяк был ему как брат. Ни одного пятна на нем не обнаружит взгляд. Как жемчуг, совестью глаза, светили у него — азалось, тонкий от ресниц исходит аромат. Он путь насмешкой, как мочом, прокладывал вперед — Так солнце летнее лучом холодный плавит лед. Был острый ум его ценней и чище серебра, Правдивым словом он разил вернее, чем стрела. Никто не видел, чтобы куст зимой благоухал. Никто не видел, чтоб храбрец просить пощады стал. Да разве мы таких людей умеем уважать? Об этом он пи слова нам при жизни не сказал.Если даже отбросить условности жанра посмертной элегии, то все равно любовь и восхищение Тукая несомненны. Совесть — вот главное, что привлекало поэта в Ямашеве.
Тукай в первую очередь говорит о человеческих качествах Ямашева, ибо убежден: плохой человек не может стать настоящим революционером.
С большой для того времени смелостью поэт ставит Ямашева выше «всех святых». Любопытно, что газета «Юлдуз» снабдила это стихотворение примечанием, в котором объяснялось: слово «святые» следует понимать как «друзья». Тукай по этому поводу написал следующее разъяснение, которое опубликовал в журнале «Ялт-юлт»: «Слово «святые» должно быть понято только в своем собственном смысле, то есть как «святые».
На основании стихотворения «Светлой памяти Хусаина» кое-кто уже в наше время, увлекшись, пытался «подтянуть» Тукая к Ямашеву, сделать поэта чуть ли не марксистом. Но фраза Тукая: «Силен иль слаб, богат иль нищ — всяк был ему как брат»,. — еще раз свидетельствует о неправомерности таких попыток. «Неточность», допущенная поэтом, отнюдь не случайная оговорка: она проистекала из самой сути его революционно-демократического мировоззрения. Противопоставляя Ямашева буржуазным националистам, которые на словах клянутся в своей любви к народу, а на деле с пренебрежением относятся к беднякам и защищают иптересы богачей, Тукай говорит, что Ямашев якобы не таков, для него все едины. Как видно, и тут сказались остатки просветительских иллюзий поэта.
В действительности Ямашев, конечно же, боролся против богатых во имя счастья обездоленных.
Хочется обратить внимание на концовку стихотворения, смысл которой во всех переводах смазан. Поэт бросает горький упрек обществу, которое не в состоянии оценить таких людей, как Ямашев. Нашему народу, говорит он, дороже цирковой силач, нежели идейный борец. А тому, кто совершает беспримерный, но не броский подвиг, остается утвердить свое величие лишь... собственной смертью.
Есть у Тукая стихотворение «Неведомая душа», датированное 23 августа 1910 года, которое начинается словами:
Питаю к людям ненависть порой, Родится скорбь из ненависти той.Вероятно, стихотворение написано после очередного удара судьбы, когда все ему опостылело. Это предположение подтверждают следующие строки:
В любви обманутое сердце Все вкруг себя обрызжет ядом, Подобно раненой змее.Очевидно, после измены дорогого ему человека (может быть, С. Рамиева?) Тукаю на какой-то миг показалось, что мир пуст, что в нем ни на кого нельзя положиться.
Но разум поэта пытается утихомирить ярость сердца: подумай, не спеши, не может быть, чтобы не стало людей, достойных любви. И память вызывает образ такого человека, такой личности, которой ему хотелось бы открыть свою душу без утайки, «тогда б она избавилась от ран, словно ее коснулась рука целителя». Слова этого человека поэт сравнивает с «утренним ветром».
Быть может, эта личность — идеал поэта, плод его воображения? Или же у нее есть реальный прототип? Амирхан? Но они близки уже три года, а личность, так поразившая поэта, появилась, как следует из его же слов, неожиданно. К тому же это личность необыкновенная своей отрешенностью, напоминающая святых. Я перебираю в памяти всех, с кем Тукай общался в то время, но ни у кого не обнаруживаю качеств, которые позволили бы им стать прототипом героя «Неведомой души».
Несомненно, лишь сходство этой «личности» с образом Хусаина Ямашева в стихотворении, посвященном его памяти. Поэт говорит о них одними и теми же словами, прилагает к ним одни и те же эпитеты. Хусаина поэт ставит выше всех святых, и в этом стихотворении его герой уподобляется святому: «Прикосновение к его одежде рождает в душе бесконечную радость». У Хусаина «тонкий от ресниц аромат», у необыкновенной личности — «слова — благоухание цветов».
Найдется ли когда-нибудь документ, который превратил бы это предположение в несомненный факт, сказать пока трудно. Но как бы там ни было, огромное духовное и идейное влияние Ямашева на Тукая сомнению не подлежит. Он был человеком иного воспитания и, естественно, не мог воспринять взгляды Ямашева сразу на веру. Но подобно тому, как глина, встретившись с огнем, превращается в твердый кирпич, общение с Ямашевым, его убеждения укрепили демократические идеалы Тукая.
Хусаин Ямашев и его единомышленники помогли Тукаю и его товарищам по перу осознать неоднородность сил, противостоявших старому, оценить противоречия между демократами, с одной стороны, и идеологами либеральной буржуазии, или, выражаясь принятой тогда терминологией, «узкими националистами» — с другой. А это, в свою очередь, обострило противоречия демократов с либералами.
Вплоть до революции 1905 года борьба в татарском обществе шла главным образом между группами, стремящимися сохранить в незыблемости старые порядки, то есть сторонниками кадимизма, и теми, кто добивался преобразования общества с помощью реформ, то есть просветителями. Противоречия внутри просветительского движения только начинали зарождаться.
Революция 1905 года обострила противоречия и резко разделила лагерь просветителей. Группа интеллигентов, близко стоявших к татарской либеральной буржуазии, образовала буржуазно-националистическое течение. Молодежь, большинство которой составляли выходцы из низших слоев общества, поднялась на борьбу за интересы крестьянства и ремесленников и образовала революционно-демократическое течение.
Естественно, что либеральная интеллигенция в тех случаях, когда она пе мирилась с политикой царского правительства, играла позитивную роль. К буржуазно-либеральному лагерю принадлежали к тому же круппые педагоги, ученые, писатели и публицисты — Риза Фахретдинов, Фатых Карими, Габдулла Буби и другие, которые пользовались авторитетом и среди демократов.
Что касается социальных проблем, то здесь, разумеется, позиции демократов и либералов совпадать не могли. Они оказались по разные стороны баррикады.
Когда Тукай переехал в Казань, во главе революционно-демократического движения стоял Фатых Амирхан и его газета «Эль-ислах».
Газета «Вакыт», главный орган либерально-буржуазного течения, занимавшаяся в основном пропагандой общепросветительских идей, разоблачением откровенно реакционных сил внутри нации и легкой критикой правительства в национальном вопросе, не могла не заметить, что среди татар усиливается пролетарское движение и все шире распространяются социалистические идеи. В нескольких статьях, опубликованных под псевдонимом и за подписью редактора Ф. Карими, газета попыталась объединить социализм... с исламом, мало того, отождествить ах. Отсюда следовал вывод: татарам нечего ломать голову над решением социальных вопросов, они решены в исламе и без теории классовой борьбы. Единственно подлинное оружие против нищеты и отсталости — это знания.
Фатых Амирхан одним из первых выступил против этой философии газеты «Вакыт»: «Господствующий ныне во всем мире капиталистический строй предполагает, что плодами человеческого труда пользуются не трудящиеся, а хитрецы (капиталисты). Этот строй самые жирные куски из всего созданного руками человека отдает тем, кто не шевельнул ни рукой, ни мыслью во имя счастья людей».
В декабре 1908 года Амирхан сообщает в одном из писем: «Мы теперь решили изменить формат газеты и сделать ее содержание политическим (разрядка моя. — И. Н.)». С 1909 года газета начинает решительно выступать против буржуазного либерализма.
Естественно, что Тукай как один из главных авторов «Эль-ислаха» становится и одним из основных противников «узкого национализма». Но прежде чем говорить о выступлениях Тукая на эту тему в печати, стоит, пожалуй, познакомиться с одпим из видных представителей татарской либеральной буржуазии, тем более что личная встреча с ним во многом помогла Тукаю уяснить сущность либерализма татарской буржуазии.
4
В середине XJX века, разбогатев на поставках шерсти суконным мануфактурам симбирских помещиков, некий Курамша Акчурин поставил в деревне Зиябаши свою суконную фабрику. Постепенно это предприятие вытеснило или поглотило крепостные мануфактуры и стало создавать свои «дочерние» фабрики. Одна из них выросла в деревне Гурьевка и впоследствии превзошла по размерам производства фабрику в Зиябаши.
После смерти Курамши его сыновья решили вести дело сообща. Главой фирмы стал Тимсрбулат — в народе его прозвали Тимай-баем, — отличавшийся оборотистостью, смекалкой и недюжинным умом. Недостатка в казенных заказах не было, спрос на их товар на российских рынках был велик, и фабрики работали с полной отдачей, а капитал Акчуриных рос день ото дня.
Предприятие мало-помалу переходило в руки сыновей Тимая. Обострилась конкурентная борьба с русскими фабрикантами. Начинают проявлять недовольство рабочие, большинство которых составляли татары, до сей поры безропотно гнувшие спину. В 1905 году на предприятиях Акчуриных разразилась довольно мощная стачка. Акчурины загорелись мыслью о создании акционерного общества. Другие Акчурилы — потомки братьев Курамши — в большинстве своем тоже были заняты суконным делом, а кроме них, в Саратовской губернии этим делом занимались Дибердеевы, Агишевы. В акционерном обществе, разумеется, главную скрипку играли выкормыши главного гнезда — Хасан и Якуб.
Интересующий нас Хасан Тимербулатович Акчурин, успешно продолжая доставшееся от отца дело, слыл к тому же грамотным человеком, сведущим в татарской и русской культуре. Время от времени он участвовал в общественных делах, меценатствовал. Когда Тукай приехал в Казань, Акчурин продолжал считаться директором-распорядителем акционерного общества, но фактически от руководства отошел — подвело здоровье, он безобразно растолстел и передал дела младшему брату Якубу. Времени у него теперь было много, а дел маловато. От скуки он просматривал русские газеты, внимательно читал татарские, следил за развернувшейся на их страницах борьбой мнений и спорами. Та же скука влекла его и к делам куда менее почтенным. Он любил стравливать собак и наслаждался их грызней, устраивал мальчишеские драки.
В один прекрасный день Хасану Акчурину пришла в голову новая идея: почему бы не пригласить к себе молодого поэта Габдуллу Тукаева. Что им руководило, сказать трудно: то ли желание позабавиться, то ли продемонстрировать власть денег, то ли избавиться от скуки. Хасан-бай направил письмо крупному купцу и землевладельцу Бадретдину Апанаеву, в котором просил довести до сведения Тукая, что он желает видеть его своим гостем, и переслал деньги на расходы. Апанаев, учитывая, что Тукай его недолюбливает и совсем недавно задел в одной из сатир, обратился не к самому поэту, а к его друзьям, в частности к Амирхану. Фатых посоветовал Тукаю поехать. Видя, что друг колеблется, стал уговаривать: надо, мол, повидать людей этого круга вблизи, самому составить о них представление, это никогда не повредит. Поэт наконец согласился.
Встретили его по первому классу. А как же иначе? Это не кто-нибудь — Акчурины. Знай наших! На станции Тукая ждал на двух тройках сам Хасан-бай с друзьями и родичами. Под звон бубенчиков, с ветерком довезли до огромного каменного особняка Хасана Акчурина, отвели большую светлую комнату.
Вечером в честь поэта был устроен прием. За большим длинным столом расположились братья и сестры Хасан-бая, приближенные из служащих фабрики, интеллигенция Гурьевки, все одеты по-европейски, в ушах и на пальцах у женщин поблескивают бриллианты. Один лишь Хасан Акчурин, сидевший во главе стола, был одет по-мусульмански.
— Габдулла-эфенди! — начал хозяин. — По примеру культурных наций мы желали бы сегодня поднять тост, налив бокалы любимым вином нашего дорогого гостя! — Он показал на поблескивающие всеми цветами радуги бутылки: — С чего начнем?
Многие из стоявших на столе напитков Тукай видел впервые. Совладав со смущением, он сказал:
— Откройте шампанское!
В тот вечер Тукай на все расспросы отвечал коротко и, сколько его ни просили произнести тост или прочитать стихи, под разными предлогами отказывался.
Поэт пробыл у Акчуриных около недели. О чем шел разговор, когда в его честь звали гостей, о чем беседовали они с глазу на глаз с фабрикантом, сказать трудно. Из воспоминаний Кадыри, бывшего тогда учителем в медресе Акчуриных, мы знаем лишь, что Тукай научился играть на бильярде и каждый день в свободное время они с учителем гоняли шары. Кадыри упоминает и о том, что Тукай ходил осматривать фабрику. Неизвестно, спрятали ли в тюках шерсти к его приходу работавших на фабрике детей школьного возраста, как прятали при посещениях фабричного инспектора. Если даже это и было сделано, сердце поэта не могло не содрогнуться при виде дышавших шерстяной пылью изможденных мужчин и женщин. А может, он заглянул и в жилые бараки, и страшная нищета, царившая в «фатерах» рабочих, отделенных друг от друга лишь занавесками, вонь и теснота ужаснули его.
Через неделю поэт вернулся в Казань.
«Услышав о приезде Тукая, я поднялся к нему, — вспоминал Камал.
— Ну как дела, хорошо съездил, хорошо угощали?
— Угощать-то угощали, хоть лопни. Но я тосковал по своей кровати. Эти люди нам не чета. Прислуги да горничные кормят тебя, как няньки, поят, как няньки, даже спать укладывают. Как хочется, не поспишь, не поешь. Коньяк да шампанское не для наших простонародных желудков.
Тукай жалел, что согласился поехать».
Это путешествие помогло поэту лишний раз убедиться в том, что хваленые представители либеральной буржуазии отнюдь не преисполнены заботы об интересах нации, что между демократами и либералами лежит пропасть.
В это же время из печати вышла книга ученого-богослова Мусы Бигиева «Доказательства милости Аллаха». В ней автор утверждал, что не только мусульмане, но и достойные люди других вероисповеданий могут заслужить божью милость и сподобиться райского блаженства.
Это утверждение вызвало насмешки на страницах татарской печати. Бигиева критиковали и «слева» и «справа». Хасан Акчурип неодобрительно назвал его «миссионером» и написал Тукаю письмо, в котором предлагал выступить против богослова с позиций ортодоксального ислама, не сомневаясь, что добьется своего. Как-никак поэт был у него в гостях — не может быть, чтобы он остался недоволен приемом, а долг платежом красен, тем более что Тукай уже опубликовал одну эпиграмму из Бигиева.
«Что же сделал поэт, маленький ростом, но великий сердцем? — пишет редактор журнала «Ялт-юлт» А. Урмапчиев. — Получив письмо, он тут же написал ответ и прочел его мне. Ответ был до такой степепи едким, что богач, гордящийся своим золотом, несомненно, понял, насколько все его богатство ничтожно по сравнению с настоящей гордостью».
Тукай критиковал Бигиева, но, естественно, с иных позиций, высмеивал его попытки приспособить догмы религии к демократическому движению.
К идеологам либеральной буржуазии Тукай подходил по-разному: с одними полемизировал, над другими подтрунивал, над иными издевался. Объектом его сатиры становятся и политическая деятельность, и высказывания, и личные недостатки этих людей.
Габдерашита Ибрагимова, редактора газеты «Ульфет», который носился с идеей распространения в Японии мусульманской религии, Тукай приравнивал к «черным как деготь» консерваторам-кадимистам. В эпиграмме на Юсуфа Акчурина, идеолога буржуазной партии «Мусульманский союз», он насмехается над низкопоклонством последнего перед всем турецким, над его разъездами по Турции и арабским странам, где он «печется о благе нации». В фельетоне «Кто ужасается при каких словах» он пишет, что Акчура приходит в ужас, когда ему говорят: «В твою статью случайно попало татарское слово». Так Тукан срывает демагогический покров с националистов, готовых предать и родной л зык, и родную землю.
В фельетоне «Гадание по словарю» мы находим фамилии многих так называемых «узких националистов».
Спачад.ч я открыл словарь на Юсуфа Акчурина. Вышло: «Солдатский чин в Турции». А я-то думал, что он уже генерал.
Стал гадать на шаха: «Ядовитая, вредная трава, произрастающая в Иране». Не стал вдаваться в смысл этого выражения.
Занялся Мутыйги. Получилось: «Бессмысленное мудрствование, пустозвонство». Подумал: «Неужели дошло и до этого?»
Открываю на Фатыха Карими, «Представитель одной торговой фирмы». Вначале не хотел было верить, но, вспомнив, что он сейчас пишет не от себя, а по заказу издателей, решил удовольствоваться таким определением.
Риза-казый: «Тихий и незлобивый». Поверил, хотя вспомнил, что однажды он «сильно бушевал против Рашита-казыя».
Последний комментарий требует пояснений. Риза-казый Фахретдинов заслужил уважение демократов своими научными трудами. Несколько добрых слов сказал он и в адрес самого Тукая. Однако Тукай его не пощадил. Чтобы понять, в чем здесь дело, следует вспомнить установку либералов на «единство нации». Они объявляли недопустимой любую внутринациональную полемику и борьбу. Одним из тех, кто рьяно отстаивал этот принцип, был и Риза-казый. Он ставил превыше всего благовоспитанность, писал и говорил изящным языком, чтобы никого не обидеть. А это, по мнению Тукая, непростительная уступка реакции.
В другом фельетоне Тукая мы читаем: «Вся разница между учебными пособиями Ризы-казыя и книгами «Раунак эль-ислам» и «Дуррат эль-насихин» заключается в том, что последние написаны древними святыми, а первые — святошей двадцатого века».
Когда речь идет о борьбе Тукая с либералами, не надо забывать, что поэт, конечно, отличал их от кадимистов. Так, Тукай не раз высмеивал X. Максуди, называя его газету «гнилушкой», и в то же время он говорил: «Хотя сахар и мед не одно и то же, но они противостоят хрену и соли, равно как «Баян эль-хак» — «Юлдузу».
Тут стоит вспомнить статью одного из соратников Хусаина Ямашева, социал-демократа Галимзяна Сайфетдинова под названием «Открытое письмо редактору «Баян эль-хака» Мухаммедзяну-ага», где автор дает уничтожающую характеристику реакционной газете «Баян эль-хак», которая подвергала травле либеральную «Вакыт», и замечает: «У меня нет особой дружбы и с «Вакыт», поскольку она является узконационалистической газетой. И все же я не могу обвинить ее в беспринципности и в том, что она печатает реакционные статьи».
Как видно, Тукай ставил вопрос так же, как Сайфетдинов. Определение «узконационалистическая)) в отношении к газете «Вакыт» часто встречается и в статьях и фельетонах Ф. Амирхана и Г. Тукая.
В 1908 году в стихотворении «Националисты» Тукай едко высмеял именно «узких националистов» как прислужников буржуазии. Они громогласно объявляют себя служителями народа, говорит поэт, но неспособны жертвовать собой ради его блага. И подобны тем, кто утешает больного в надежде вытянуть последние гроши из его тощего кармана.
Стихотворец из фельетона «Националист» (1909), однажды воспламенившись особо страстной любовью к нации, одним махом сочинил стихотворение и вечером отправился в ресторан. Увидев, как толстопузый татарин в вышитом жемчугом каляпуше и роскошном бешмете пьет коньяк из изящной рюмки — «Нация отпила из самшитового бокалакясы!» — наш поэт восторженно цитирует собственное сочинение, а затем направляется в зал для «черной» публики. Там, среди рабочих и мужиков, он закуривает национальную трехкопеечную папиросу и, выковыривая из национальных перемячей национальных тараканов, вновь цитирует, несколько перефразируя, строки своего стихотворения:
Кто долго погрязал, спасение обрел От рук спасителя, что чай попить зашел.Обмакнув перемячи в хрен, националист кладет их в рот, на глазах у него выступают слезы, и снова следуют стихотворные строчки:
О моих священных мыслях говорит моя слеза, Так сиянье отличает от каменьев жемчуга.Не в характере Тукая, начав борьбу, останавливаться на полпути. В фельетоне «Философские слова» он обвиняет в мягкотелости даже своего друга Амирхана: «Говорят, слово, что стрела, выпущенная из лука, — обратно не вернешь. А вот Амирхан-эфенди: взял назад свои слова о Ризе-казые».
Нажив многочисленных врагов в борьбе против кадимистов, поэт восстанавливает теперь против себя и лагерь либералов. Считавшие себя столпами нации, они смотрели на сгруппировавшихся вокруг газеты «Эль-ислах» и «Яшен» молодых писателей, в том числе и на Тукая, как на взбалмошных мальчишек, не имеющих понятия о приличиях, вернее, стремились создать у общественности подобное представление о них. Солидные люди не станут унижаться до ответа на неприличную «брань» каких-то недорослей, лучшая тактика — хранить молчание. Пусть думают, что стрелы Тукая для них не больней комариного укуса. Храня «олимпийское» спокойствие, столпы либерализма не погнушались, однако, спустить на Тукая, говоря словами Амирхана, «курносых щенков». Одним из них был Зариф Башири, исполнявший обязанности секретаря редакции журнала «Чукеч». Этот молодой человек учился в Казани в медресе «Мухаммедия», шакирдом посещал редакцию газеты «Эль-ислах», помогал ее распространению. Покинув медресе, он некоторое время учительствовал в родных краях, а в 1908 году уехал в Оренбург и стал работать в «Чукече». Журнал, основанный в 1906 году, в программной статье обещал защищать интересы рабочего люда, но слова своего не сдержал. Одновременно с газетой «Вакыт» журнал стал поносить учение о социализме, что означало: его редактор, уже известный читателю Тлмерша Соловьев, вполне разделял взгляды Ф. Карими и Р. Фахретдинова.
В первое время после приезда в Оренбург 3. Башири, по-видимому, делал какие-то попытки вести журнал в более демократическом направлении. Но достаточно было одного хмурого взгляда хозяина, чтобы от его намерений не осталось и следа. В письме к Амирхану он сообщал, что журнал выпускает один, почти все материалы пишет сам, и продолжал: «Но голова моя зажата под мышкой у баев, ибо ответственным редактором у нас — Соловьев. Приведу в качестве примера статью о медресе «Хусаиния», которую он снял уже после набора... Но больше всех мне надоел Фатых Карими. Если ему кажется, что хоть как-то могут быть задеты баи, он становится настоящим черносотенцем». Эти слова не следует принимать за чистую монету: в письме чувствуется стремление угодить Амирхану, представить себя в выгодном свете.
Башири был вообще человеком неразборчивым. Что только не выходило из-под его пера! Кроме журнала «Чукеч», он буквально завалил своими рукописями редакции всех издававшихся в то время газет и журналов. Но среди великого множества его стихотворений, рассказов и статей лишь немногие достойны внимания. Тукай, разумеется, не мог спокойно наблюдать за спекуляциями Башири на интересе читателей к национальной поэзии и начал наносить ему болезненные уколы.
Большинство своих вещей Башири публикует за подписью Тутый (Попугай). Имея в виду Башири, Тукай в фельетоне «Люди — животные» пишет: «Тутый. Тварь эта водится в типографии «Каримов и Хусаинов» под кассами шрифта, среди запаха олова. Для поддержания жизни питается главным образом травой, именуемой «Жвачка из чужих мыслей».
Этого оказалось достаточным, чтобы Башири превратил «Чукеч» в орудие борьбы против «Эль-ислаха» и «Яшена». Он принялся охаивать все, что выходило из-под пера Амирхана и в особенности Тукая.
Хотя в «сатире» Башири преобладают выпады, оскорбляющие личность Тукая, временами он касается и его творчества. Автора «Нового Кисекбаша» он, например, называет «поэтом Сенного базара», мальчиком-частушечником.
Тукай не утруждает себя ответом, если дело касается его одного, в особенности его личных качеств, — лишь иногда откликается эпиграммами вроде этой:
От зловонья нос зажмешь, — все равно спасенья нет! Говоришь, откуда это? «Чукеч» снова вышел в свет.Башири, однако, не унимается. Он называет поэта «коровой, забредшей в сады литературы», осуждает его за то, что тот переводит Пушкина и Лермонтова. Тукай для него — «татарский Пушкин с обсопленными рукавами и засаленными полами».
На сей раз Тукай решается ответить. Он пишет:
Пушкин — море, море — Лермонтов. В небе вечности свекай Негасимое созвездие: Пушкин, Лермонтов, Тукай! Ты ж язык свой длинный вытянул, а до звезд достать невмочь, Не старайся, не дотянешься — уходи, собака, прочь! Убирайся, но прислушайся к слову, сказанному мной: Лай весь век на звезды яркие — не погасишь ни одной.Стихотворение это было, однако, обнаружено среди рукописей Тукая и опубликовано лишь после революции. Почему же поэт не дал его в печать? Разгадку подсказывает стихотворение «Перу, пожелавшему ответить подлому человеку»:
Не смешно ли из пушки горохом палить, Если пушка горы способна пробить? С сотворения мира так было всегда: Подлецы изойдут, не оставя следа.Опубликовать ответ значило оказать Башпри слишком много чести. И потому вместо набора стихи попали в ящик письменного стола. Лишь недавно сотруднику Казанского института языка и литературы Р. Гайнанову удалось доказать, кому адресовал Тукай свой «Ответ».
Но огорчения, которые доставляли Тукаю журнал «Чукеч» и органы черносотенной печати, надо думать, потускнели по сравнению с бранью С. Рамиева.
5
Мы знаем, что Габдулла в принципиальных вопросах не считался ни с чем. Критикуя своих товарищей, он не допускал мысли, что то могут принять его критику в штыки, напротив, он искренно полагал, что хоть про себя они должны благодарить его за это. Разумеется, случалось и так. Были у него друзья, которые, правда, не благодарили за критику, но и не становились его врагами. С Рамиевым же случилось иначе.
Тукай старался поддерживать с Сагитом Рампевым дружеские отношения, признавал его талант, хотя ему и не импонировала романтическая приподнятость его поэзии. Известно, что они частенько спорили о метрике и ритмике стиха. Тукай перенес эту полемику на страницы печати. В пародия «Рехнувшийся», поводом для которой послужило стихотворение Рамиева «Обманутый», Тукай представил лирического героя человеком, несущим в бреду всякую околесицу. Пародия, однако, еще не испортила ах отношений, хотя, надо полагать, она задела Рамиева за живое — тот был человеком чрезвычайно самолюбивым.
Черная кошка пробежала между ними после того, как Сагит поступил в редакцию «Баян эль-хака». Возможно, за этот шаг Тукай и обругал своего товарища крепким словом, но от критики в печати долгое время воздерживался.
«Военные действия» открыл Рамиев. Причина? «Яшен» и «Эль-ислах» по-прежнему беспощадно высмеивают газету «Баян эль-хак» и выходящую в качестве приложения к ней «Казан мухбире» («Казанский вестник»). Имя Рамиева не упоминалось, но он, будучи ответственным секретарем газеты, принял критику на свой счет.
И вот «Казан мухбире» в номере от 4 марта 1909 года публикует статью «Провокации журнала «Яшен». Гром и молнии в адрес либералов и черносотенцев расцениваются в этой статье как доносы. Возможно, что статья была написана и не Рамиевым, но без его согласия она напечатана быть не могла.
14 марта Рамиев объявляет о том, что в газете открывается новый раздел: «Музей шуток и смеха». Сообщается, что отдел создан по инициативе самого редактора «Баян эль-хака» Мухаммеджана Сайдашева, который поручил вести его «сторожу музея Тимербулату-эфенди», то есть Сагиту Рамиеву. Тимербулат выражает согласие и тут же объявляет программу «музея»: борьба с сатирическими журналами. Осуществляя свою программу, «сторож музея» заводит на старом патефоне песнь, в которой приглашает «яшенцев» не печатать свои статьи, а прямо звать городового.
На этот раз Тукай не медлит с ответом:
Ой, баиньки, баиньки, Мы у баев паиньки, В сторожа нанялись К Сайдашеву дяденьке.Рамиев, потеряв самообладание, отбросил всякие околичности и перешел на рифмованную брань.
Не удержался и Тукай. В фельетоне «Люди — животные» он снова лягнул Рамиева: «Собака — С. Р. — неприхотливое животное, которое никогда не обижается на своих хозяев — разорившихся баев (Сайдашевых. —И.Н.), даже если они его бьют и держат голодным. Когда хозяева бросят обглоданную кость, животное не устает, помахивая хвостом, выражать им за это свою благодарность».
Полемика все больше выходила за рамки приличий. Рамиев ответил: «Свинья — Г. Т. — животное, любящее грязь. Сколько бы ни старались «собаки» укусами выгнать его из грязи, оно норовит обойти стороной озера с чистой водой и продолжает валяться в грязи».
Читая эти фельетоны, испытываешь сейчас чувство недоумения и неловкости за их авторов. Так и хочется сказать: «Да прекратите же вы перебранку! Для чего превращать тысячи читателей в свидетелей вашей свары и давать врагам повод для злорадства? Ведь по взглядам своим вы куда ближе друг к другу, чем вам сейчас кажется, и враги у вас одни и те же».
Но так легко рассуждать теперь, спустя многие десятилетия. Раз начав, трудно остановиться. Оба болезненно самолюбивы, легкоуязвимы, и тут, как гласит поговорка, рука обгоняет руку, язык обгоняет язык.
Разлад с Сагитом Тукай переживал очень тяжело. Думается, что в стихотворной строке Тукая: «Полюбив одного человека, как душу свою, и затем обманувшись», речь идет именно о Рамиеве.
Таковы главные причины, по которым жизнь Тукая в 1909—1910 годах была мучительной и тревожной. Ко всему прочему сюда необходимо присовокупить и зависть так называемого литературного мещанства. После революции 1905 года за перо взялись многие. Среди них было немало посредственных, а то и просто бездарных людей. Они пыжились, вставали на цыпочки, а если это не помогало, норовили, свалив своего товарища, встать ему на спину. Страшнее всего в этой среде — нетерпимость к настоящему таланту. Тем, кто на две головы выше их, они всеми силами пытаются пригнуть голову или вовсе ее отсечь. И, лишь убедившись, что кость оказалась не по зубам, начинают прилагать к имени талантливого художника такие эпитеты, как «выдающийся» и «великий». Пришлось пройти Тукаю и через это.
Подумать только! Приехал из какого-то городишки и через два года стал претендовать на первенство в татарской поэзии. Одна за другой появляются его книги и расходятся с молниеносной быстротой. Не ходит на поклон к издателям, напротив, издатели стараются опередить друг друга, чтобы выпустить хоть какой-нибудь сборничек Тукая, да еще платят ему больше всех. Добро бы хоть вид у него был внушительный, а то и поглядеть не на что. И сочиняет отнюдь не одни шедевры, в основном переводит Пушкина и Лермонтова, во всяком случае, его стихи не сравнить с произведениями Дэрдменда. Тот пишет мало, зато каждое стихотворение — перл. Но о нем мало кто знает, а имя Тукая у всех на устах: деревенские мужики и те заучивают его стихи.
Так рассуждает литературное мещанство, пытаясь опорочить творчество Тукая в глазах общества. Тем, кому досталось от поэта, шли на все, лишь бы ему отомстить: клеветали, пытались поссорить с товарищами.
Презрением к завистникам и лицемерам, к подлости и беспринципности дышат многие стихи Тукая:
Обложили с четырех сторон меня лгуны, И не видно мне ни солнца, ни луны.В стихотворении «Враги» он пишет:
Много змей кругом, на счастье зарятся они, Извиваясь, проклиная, мпе отсчитывают дни. Мало, что охвачен мраком дом, где жизнь влачит поэт, — Беспокоит их, что ясный надо мною веет свет. Что ни враг, в пяту он жалит и не судит выше ног, Все во мне разул плохое, доброты ж понять не смог.Особенно часто, пытаясь доказать поэтическую несостоятельность Тукая, враги называли его переводчиком. За этим, с позволения сказать, обвинением кроется куда больше, чем может показаться на первый взгляд. Ему вменяют в вину, что он с любовью переводит именно русских поэтов. Спекулируя на национальных чувствах, враги Тукая пытались изобразить любовь Тукая к передовой русской культуре неуважением к сяоей нации, представить как измену национальным интересам, стремлением «продаться русским». Но Тукай и Амирхан умели различать светлое и темное, прогрессивное и реакционное в русском обществе.
В рецензии на повесть М. Гафури «Дети-сироты» Амирхап критикует автора за то, что тот «ставит на одну доску русскую нацию и бюрократию». Тукай высмеивал таких деятелей в России, как Пуришкевич, Трепов, Дорошевич, и открыто выражал симпатии великим сынам русского народа, не обращая внимания на попытки обвинить его в национальной измене, продолжал переводить произведения классиков, опираться на их опыт.
К травле поэта не замедлила присоединиться и охранка. Еще в 1908 году агент по кличке Персии направил своему начальнику донос, в котором докладывал: «Имею честь представить вам печатную брошюру со стихами, популярными среди учеников. Стихи эти враждебного содержания против правительства и вообще русских людей читаются учениками медресе открыто». Облыжно обвиняя Тукая в русофобстве, шпик имел в виду его сборник стихов, вышедший в 1907 году в издательстве «Шараф».
Постоянным притеснениям цензуры подвергался и сатирический журнал «Яшен». Не было помера, чтобы в охранку не поступали доносы благонамеренных «доброхотов». Преследования властей и финансовые затруднения привели к тому, что, сверкнув в последний раз в июне 1909 года, «Яшен» угас. Тукай лишился своего любимого детища.
После призывной комиссии Тукай предпочитал не показываться докторам. Но как-то раз, почувствовав себя совсем плохо, решил обратиться — впервые в жизни — к помощи медицины. Ему не повезло: медик, к которому, по несчастью, обратился поэт, очевидно, встречал людей по одежке. Не имея понятия о том, кто его пациент, врач не стал затруднять себя внимательным осмотром и поставил диагноз, предвещавший долгий и мучительный конец.
Этого оказалось достаточным, чтобы затравленный, оглушенный новой бедою поэт, вернувшись в гостиницу, заперся у себя в номере. «Слова доктора, — рассказывал он впоследствии одному из Друзей, — решили для меня все. Ночь напролет я был как дурной... Раз семьдесят хотел наложить на себя руки... Но не хватало сил. Исчезла надежда, испортилась кровь, во мне не осталось ее ни капли, чтобы согреть других, чтобы согреться самому, раз нет больше надежды на жизнь, все пропало. Тогда я решил встать на путь медленного самоубийства».
Это случилось, по всей вероятности, в конце марта 1910 года. Какое-то время поэт сознательно отказывался от регулярного сна, еды, словом, медленно убивал себя.
Но уже 15 апреля 1910 года в газете «Юлдуз» появилось стихотворение Тукая «Самоубийце», которое заканчивалось словами:
Лечь в могилу?.. До чего ж ты бестолков! Кинув шапку, не спасешься от волков.Поэт явно начал преодолевать кризис. А написанное в споре с самим собой стихотворение стало весьма актуальным, поскольку самоубийства приняли в те годы характер эпидемии.
Жизнь мало-помалу брала свое. В тот же день, когда было опубликовано стихотворение «Самоубийце», Тукай отправился в клуб «Шарык» читать лекцию о народном творчестве: раз объявление сделано и афиши расклеены, как тут откажешься? Обещана издателям новая книга, получен аванс, и надо его отработать.
Чувство ответственности перед людьми, перед своим народом поддерживает его в самые трудные дни.
Новый сатирический журнал «Ялт-юлт», который начал выпускать в Казани с марта 1910 года Ахмет Урман-циев, открывает перед поэтом новые возможности.
«Когда я утвердился в мысли о необходимости для нации сатирического журнала, — писал Урманчиев, — то первым человеком, с которым я посоветовался, был Тукай. Он отнесся к делу с большим вниманием и поддержал меня активней, чем я мог предполагать».
Во втором номере журнала Тукай опубликовал юмористическую миниатюру «Покойный «Яшен». «Когда «Яшен» испускал дух, — пишет автор, — я находился у его изголовья. Заботясь, чтоб он не ушел из жизни без божьего слова, пытался заставить его произнести молитву. Но услышал в ответ бессвязное бормотание: «Я. Шин... Мим...» И вот теперь, когда родился «Ялт-юлт», автор понял, что хотел сказать покойный: «Мин яшим, мин улмим» (то есть: «Я живу, я не умру»).
Есть сатирический журнал, будет жить и Тукай. И все же написано им в апреле — мае 1910 года немного. Да и качество написанного оставляет желать лучшего. Душа еще полумертва, он не владеет рукой и пишет лишь оттого, что новый журнал требует пищи.
О внутренней борьбе, которая шла в душе Тукая, свидетельствуют два стихотворения — «Отчаяние» и «Вступающим в жизнь». Они напечатаны в мае 1910 года в газете «Юлдуз». В первом поэт взьиает:
Скорее плоть докинь, душа, и в небо улетал опять! Глухой реакции пора вернулась в этот край опять. Жизни цель — упорный труд высокий, Лень, безделье — худшие пороки. Пред народом долг свой исполняя, Сей добро — вот жизни цель святая! Путь добра — вот счастье и отрада, И другого мне пути не надо.Кажется, будто спорят два голоса в его душе. И этот второй голос звучит все громче и громче.
Поэт медленно расправляет плечи. Его сатирические стихи, эпиграммы, фельетоны в журнале «Ялт-юлт» становятся все острей, все актуальней и опять начинают сверкать разноцветьем поэтических красок.
В небольшом по размеру фельетоне «Философские слова» достается и издателям Каримовым, и писателям, засоряющим книжный рынок всякой дребеденью под крики о «пользе нации», и плагиаторам из журнала «Шуро», и X. Максуди, который, мало что смысля в языкознании, счел себя ученым-филологом.
В другом фельетоне Тукай критикует почитаемого им Маджита Гафури за сборник «Национальные стихотворения специально для девушек», справедливо усматривая в них национальную ограниченность и примитивный дидактизм.
Представляют интерес фельетоны Тукая, связанные с уходам великого писателя из Ясной Поляны и смертью Льва Толстого. Это событие потрясло татарскую общественность. В газетах публикуются статьи, по-разному истолковывающие поступок гениального писателя. В фельетонах «Мысли знаменитых татар о Толстом» и «Философия» Тукай высмеивает псевдоглубокомысленные высказывания завсегдатаев Сенного базара Мухамметзяна Сайдашева и Хади Максуди о Толстом. И одновременно считает нужным пустить острую стрелу в Рамиева.
В статье, опубликованной в астраханской газете «Идель» («Волга»), Рамиев так объяснял уход Толстого: «...Не находя прелести и целомудрия в этой жизни и не обнаруживая в народе любви для своего любвеобильного сердца, его светлость граф Лев Николаевич Толстой махнул рукой на эту жизнь, отвернулся от людей и покинул народ». Затем Рамиев поместил свои стихи, в которых объявлял, что «уходит от жизни и, стоя в стороне», намерен вслед за Толстым «посыпать ее пеплом проклятья».
Под «народом» Рамиев не подразумевал трудящихся, крестьян. Он имел в виду так называемое «общество».
Тукай, будучи убежден, что надо не бежать от общества, а преобразовывать его, не мог не высмеять ложно-романтическую позу Рамиева. Пародируя его статью, он пишет: «Сагит Рамиев: «Толстой — это я, я — Толстой. Я посыпаю мир пеплом проклятья. Вот почему я подобен Толстому, а Толстой подобен мне. Если нужны доказательства, вот стихотворение: «Ударил — открылось! Проклятье! Посыпался прах! Словом, я — Толстой, Толстой — это я... И он не умер, и я не умру».
С величайшим почтением относился Тукай к великому русскому писателю. В скорбные дни он беспощадно высмеял «идеологов» татарской националистической буржуазии, не понимавших и пытавшихся оболгать могучий талант писателя, и выступил со статьей «Священные четки оборвались».
«...Страшная, душераздирающая весть: Толстой умер! Горе исказило лик солнца. Светило заплакало. Оно уже не смеется.
Текущие роки мгновенно оледенели.
Подули, забушевали холодные ветры и погнали птиц на юг.
Мрачно, тоскливо, холодно».
Публикаций, бесспорно принадлежащих перу Тукая, в журнале «Ялт-юлт» все-таки немного. На то была своя причина.
Уверенность, что жить ему осталось недолго, обратила мысли поэта к тем, кто будет жить после него, к детям.
Тукай много и старательно пишет для детей, составляет учебники для школ. За свою недолгую жизнь он успел написать для детей семь поэм и около пятидесяти стихотворений. Во второй половине 1909-го и в начале 1910 года он был занят подготовкой двух детских книг — «Детская душа» и «Веселые странички». Стихотворения Тукая, вошедшие в эти книги, за небольшим исключением, в периодике не публиковались.
В 1909 году Тукай выпустил хрестоматию «Новое чтение», куда включил написанные им прозаические и поэтические произведения. А во второй половине 1910 года работал над другой книгой — «Уроки национальной литературы в школе», куда вошли и его собственные, и наиболее удачные произведения талантливых поэтов и прозаиков его времени.
Некоторые из друзей Тукая с неодобрением относились к тому, что он пишет сказки, увлекается детскими стихами, а в особенности составляет учебные пособия для школы. Нашлись и такие, которые рассматривали эту работу Тукая как погоню за материальной выгодой. Но поэт, не обращая внимания на упреки, продолжал свое дело. Тукай верил в необходимость создания литературы для детей и введения преподавания современной литературы в медресе. В этом убеждении его поддерживал пример Льва Толстого, который писал для детей маленькие рассказы, составлял буквари и не ставил это занятие ниже работы над своими романами.
Но вернемся к лирике Тукая этих лет. Пронизанная трагическими мотивами, она тем не менее обладает огромной освежающей силон. Секрет тут, по всей вероятности, в том, что у Тукая даже самые личные, глубоко интимные переживания оказываются созвучными переживаниям его народа.
Несколько забегая вперед, скажем, что в 1911— 1913 годах в поэзии Тукая гражданские мотивы заметно усиливаются. Иными словами, он пойдет по пути Кольцова, Некрасова, Никитина. Пока в его лирике все еще преобладают личные, интимные мотивы, но уже в эти годы можно обнаружить зачатки тех качеств, которые станут определяющими в его поэзии.
Можно зиму любить, но жестоки ее холода; Для дрожащих в тряпье бедняков это время — беда. Можно лето любить: так заманчивы жаркие дни! Но для нищих и жаждущих — адское пекло они. Можно землю любить: степь и горы отрады полны. Но немило мне все, ибо всюду Адама сыны...Поэту немил весь мир, немилы люди, потому что в мире нет равенства, потому что одни живут за счет других и порок остается безнаказанным.
В этот период выходит из-под его пера и стихотворение «В мастерской».
Работа, работа И ночью и днем. Грохочет машина И пышет огнем. Проклятое пекло, Кипящая медь! Работай, работай Сегодня и впредь!А вот и портрет рабочего:
Лицо пожелтело, Согнулась спина, Глаза потускнели, Блестит седина. А дым-то, а дым-то! Сжимается грудь. Грохочут колеса, И страшно взглянуть. Бежать бы отсюда, От адских печей, Куда-нибудь дальше, В раздолье полей. Где птпцы щебечут, Где даль голуба. Где ягоды зреют, Желтеют хлеба!..Весьма вероятно, что в этих строках есть и след впечатлений, почерпнутых Тукаем во время посещения фабрики Акчуриных. В них еще не утверждение силы рабочего класса, призванного преобразовать общество, а жалость и сочувствие к людям труда. Но важно, что в его стихи прочно вошла социальная тема, которая станет в последний период его творчества определяющей.
Глава шестая Вглядываясь в будущее
1
Разделив чистый лист бумаги на двенадцать граф, я расположил по месяцам все, что было опубликовано Тукаем в 1911 году. На январь пришлось одно стихотворение и один фельетон. К февралю я смог отнести всего одно стихотворение под названием «Предвестник весны». Мартовская графа так и осталась пустой.
Очевидно, поэт встретил 1911 год без особого вдохновения и надежды. Сказалось, вероятно, и состояние здоровья Тукая: он всегда с беспокойством встречал приближение осени и зимы. Осенью начинал зябнуть, простуживался, кашлял. А зима и того пуще наводила на него страх...
Снова беру разграфленный лист бумаги. Стихотворение «Трудная доля» написано летом, 14 июля. Поэт только что вернулся из Астрахани, где полтора месяца отдыхал, пил кумыс, набирался сил. Но такого мрачного стихотворения у Тукая не было даже в самом тяжелом для него 1910 году.
Зачем мне жизнь дарована была? Затем ли, чтоб я пил напиток зла? Чтоб видел скучный сей круговорот: Была зима — теперь весна пришла. Устал я. Где ж последний мой привал? Спешу, и вновь дорога тяжела. Сгинь, капля крови, — солнце надо мной! Зачем заря мне саван соткала? Убить себя? Но бога я боюсь... Болезнь бы, что ли, душу унесла!К 1911 году в крупных промышленных центрах страны начался новый революционный подъем. Он не зажег, однако, надежды в душе поэта. Волна еще не докатилась до тихой заводи татарского общества. Мало того, здесь произошли события, которые снова переключили внимание демократической интеллигенции с социальных вопросов на национальные.
В северо-восточном уголке Татарии стоит деревня Иж-Буби. До революции среди более или менее грамотных татар она была известна всем, хотя ни размерами своими, ни богатством не отличалась от других. Но здесь находилось медресе, которое ни в чем не уступало, а во многом и превосходило самые крупные и знаменитые медресе своего времени, такие, как «Мухаммедия» в Казани, «Хусаиния» в Оренбурге, «Галия» в Уфе. Помимо общеобязательных занятий мусульманским богословием, здесь преподавали и русский язык, физику, химию, математику, ботанику, алгебру, геометрию, зоологию, астрономию, педагогику и даже французский! Медресе в Иж-Буби, руководимое братьями Габдуллой и Губайдуллой Буби, претендовало на положение гимназии. Здесь царило свободомыслие, была разрешена самодеятельность, шакирды увлекались сочинительством. Медресе Иж-Буби притягивало к себе учеников со всего Поволжья, Урала и даже из Туркестана.
Чем больше росла слава медресе, тем больше становилось и врагов. Оазис просвещения посреди царившего вокруг невежества и темноты вызывал ненависть фанатичных мулл из окрестных деревень, мударрисов, учителей старой школы и стоявших за ними кулаков и купцов. Успехи выпускников Иж-Буби словно выставляли напоказ язвы старозаветного кадимистского обучения.
После революции 1905 года во главе черносотенного движения против медресе Иж-Буби встал Ишмухаммет Динмухамметов, консервативный мулла из близлежащей деревни Тунтэр, известный под именем Ишми-ишана. Не добившись своего призывами к правоверным, сторонники Ишми-ишана начали писать доносы. Сам Ишми опубликовал брошюру-пасквиль, направленную против обучения по джадиду, перевел ее на русский язык и направил царским чиновникам. В брошюре говорилось: «Суть джадидизма заключается в его претензиях на самостоятельность и в сопротивлении властям... Эти претензии известны по прокламациям комитетов Российской социал-демократической партии».
Власти насторожились. Для них не составляло секрета, что медресе Иж-Буби не имело никакого отношения к социал-демократическому движению. Они опасаются другого: не является ли это учебное заведение очагом панисламизма, не распространяет ли оно сепаратистских идей, не вошло ли в контакт с Турцией? Медресе было взято под неусыпный надзор, а 15 августа 1910 года его удостоил своим посещением сам вятский губернатор.
В нападках на медресе Иж-Буби татарские черносотенцы составили единый фронт с царскими властями. Ишми-ишан и многие его приспешники сделались прямыми агентами охранки.
В ночь на 30 января 1911 года около сотни конных стражников под командованием жандармского ротмистра, семь становых приставов и исправник ворвались во двор медресе. В течение трех дней шли повальные обыски. Вместе с Габдуллой и Губайдуллой Буби были взяты под стражу десять преподавателей.
Разгром Иж-Буби послужил сигналом: обыски и аресты начались в Астрахани, Оренбурге, Казани и во многих других местах. Закрываются типографии, библиотеки, накладывается арест на книги.
Среди передовой татарской интеллигенции эти события вызвали новую волну ненависти и к своим мракобесам, и к царским сатрапам. Тукай писал: «Я весь преисполнен ненависти к Ишми и его приспешникам. Если они закроют все библиотеки, издательства и газеты, я готов порвать на себе одежду и босиком выбежать на улицу. Перед глазами у меня темная пелена. Надежды на национальную жизнь, на осуществление моей мечты потеряны».
Как известно, у поэта не было личной жизни в привычном смысле этого слова. Он весь был поглощен жизнью демократической татарской культуры, ее успехами, ее борьбой. И удары, нанесенные ей, стали его личной трагедией.
Но подобно тому, как отчаявшуюся мать заставляют продолжать жить и бороться ее дети, Тукая заставляют, несмотря на отчаяние, продолжать писать и работать оставшиеся в живых демократические журналы и газеты. На его плечах журнал «Ялт-юлт». Он выходит два раза в месяц, и надо обеспечивать его сатирическими и юмористическими материалами, темами для карикатур и рисунков. Время от времени в журнале выступает Галиасгар Камал. Но у него по горло дел в газете «Юддуз». Изредка радует Тукая своими произведениями Фатых Амирхан. Кое-какие материалы поступают «самотеком» от читателей.
Деятельность Тукая в 1911 году не ограничивалась журналом. Об этом свидетельствует в первую очередь его переписка с поэтом Сагитом Сунчаляем. Сунчаляй был моложе Тукая и начал печататься в 1908 году. Писал он много, но довольно пестро. С Тукаем познакомился еще в 1907—1908 годах. Но сблизила их переписка.
«Нет сомнения, — пишет ему Тукай, — что в вас чувствуется горячая любовь к нации и к славе. Но если бы я стал утверждать, что все сочиненное вами добротно и изящно, то боюсь, поступил бы не столько как ваш друг, сколько как лицемер».
Сагит был юношей впечатлительным. Романтик по природе, человек славолюбивый, он порой становился рабом своего воображения, порой наивно бахвалился и, не обладая чувством юмора, часто терял меру.
В августе 1911 года Сунчаляй приехал в Казань и целый месяц провел вместе с Тукаем, нередко оставался у него ночевать. «По ночам мы сидели почти все время молча. Просто сидели. «Давай помолчим», — говорил Тукай. Или же запевал песню», — вспоминал впоследствии Сунчаляй.
Сразу после приезда он, очевидно, выложил Тукаю все, что перечувствовал за долгие годы жизни в деревне, со страстью говорил о любви, о поэзии, о славе. Тукай слушал его с внутренней улыбкой, как слушают лепет ребенка. Вскоре эти излияния стали его утомлять. Сагиту было нелегко молчать, но постепенно он научился себя сдерживать. Бывало, они часами молчали, нисколько не стесняя друг друга. Тукай не любил словесных излияний, но в письмах он более раскован.
В письме от 22 января 1911 года Тукай сообщает: «Ты говоришь, жаль, мол, что я занялся школьными учебниками. Но жалеть об этом не стоит. Напротив, я заметил, что наши школы ждут от меня помощи. И не мог спокойно смотреть на это со стороны».
В 1911 году Тукай начинает работу над поэмой для детей. В письме от 4 марта он сообщает: «На днях закончил иллюстрированную книгу под названием «Кошка Г. Джамал, или Песибике». Кажется, получилось удачно».
Летом на полках книжных магазинов эта книжка появилась под названием «Мяубике» («Госпожа Мяу»).
Когда владелец типографии И. Н. Харитонов заказал специальные шрифты для татарского алфавита и решил выпустить иллюстрированный татарский букварь, Тукай, вероятно, по чьей-то просьбе написал для букваря стишки «Сабит учится читать».
В детях видит Тукай будущее народа и связывает с ними теперь свои надежды. Он верит: новое поколение свершит то, что не смогло свершить нынешнее, и, следовательно, детей надо воспитывать уже сегодня для грядущей борьбы. «Слава аллаху, — пишет он, — если я смогу оказать благотворное воздействие на души татарских детей».
Из писем, адресованных Сунчаляю, видно, что даже во время духовного кризиса Тукай не переставал следить за русской и татарской прессой, близко принимал к сердцу все события в стране и в татарском обществе. Дух его не укрощен, и даже помимо его воли в голове роятся новые замыслы.
Он пишет: «Во мне бродят мысли об одной поэме. Но разумом они еще не переварены. Цель — дать миру нечто вроде «Евгения Онегина» по-татарски, в татарском духе и с татарскими героями. Пошлет ли аллах сил?»
Как знать, проживи Тукай еще хотя бы пять лет, быть может, мы с вами, дорогой читатель, прочли бы и эту его поэму.
2
«Если удастся добыть достаточно денег, хочу не летом, а весной, первым же пароходом уехать в Астрахань, в гости к Сагиту Рамиеву, а оттуда вместе махнуть на кумыс к киргизам (киргизами тогда называли казахов. — И. Н.). Хочется все лето провести на Волге, а если удастся, на одну-две недели заглянуть и в Стамбул», — писал Тукай в марте 1911 года Сунчаляю.
«Если удастся добыть достаточно денег...» У Тукая в кармане снова шаром покати. За прошлые книги все деньги прожиты, а теперь он пишет мало. Да и то, что написано, печатает не в изданиях, где много платят. Между тем ему стоило только пожелать, и он мог бы собрать сумму, вполне достаточную не только па поездку в Стамбул. Издательств организовывалось в те годы много, книги Тукая шли нарасхват. Собери он из уже напечатанного несколько сборников, и деньги были бы в кармане. К нему постоянно обращаются с письмами. «Просят прислать мои книги в другие города наложенным платежом, — сообщает Тукай. — Обещают заплатить любую цену».
Кое-кто из «доброжелателей» поэта, считавших себя ревнителями национальных чувств, а на деле спекулировавших на них, предлагает Тукаю немалые суммы, чтобы заполучить его стихи.
Но не деньги волновали его. Впоследствии он отказался от многих своих ранних произведений и мучился тем, что не может воспрепятствовать их распространению. В одной из своих предсмертных статей он писал по этому поводу: «Неужели я стану дарить настоящему другу дохлую кошку только потому, что у него нос нечувствительный?»
«Хочу уехать... в Астрахань, в гости к Сагиту Рамиеву», — пишет Тукай, словно не было между ними перепалки, порой принимавшей довольно неприглядную форму, будто их никогда ничего не разделяло. Тех, кто знал характер Тукая, это не удивило: ради общего дела Тукай мог позабыть о своих личных обидах. Идейные споры, даже самые бескомпромиссные, по его убеждению, не должны были приводить к личной вражде. Прошло время, и Тукай, вероятно, пожалел о горячности, которая так далеко завела их с Рамиевым. Очевидно, поостыл и Сагит. Он ушел из «Баян эль-хака», понял, что с Тукаем его, в сущности, мало что разделяло, и ощутил потребность побыть вместе с ним, подтвердить ему свое уважение.
В конце апреля Тукай купил билет на пароход «Тургенев» и отправился в путешествие. Ехал он в третьем классе. И не только потому, что нуждался в деньгах: «чистая» публика претила ему. В путевых заметках он говорит: «Когда мне становилось совсем тоскливо, я выходил к пассажирам 4-го класса, не связанным рамками приличий. Эти вылазки не проходили для меня даром, сцены, которые там происходили, стоили того». Даже третий класс казался ему чопорным. В четвертом классе, то есть, попросту говоря, па палубе, среди людей, расположившихся между бочек и ящиков, жизнь раскрывалась поэту во всей непосредственности и наготе.
«Недалеко от меня, на одной скамейке, едут толстые русские мещане. Кто пьет чай, кто растянулся на лавке. Одна толстуха, утерев нос, нечаянно уронила платок. Кто-то обратился к ней: «Мадам, вы платок обронили». Женщина, спохватившись, подбирает платок, а другой замечает:
— Почему ты говоришь ей «мадам»? Она ведь не дама, а баба!
— Какая разница?
— Вишь, милок, дама бывает узкая, а баба — та широкая.
Все смеются. У меня перед глазами возникают тоненькие дамочки, разгуливающие по дорожкам Державинского сада в Казани, и толстые бабы, торгующие квасом на Рыбном базаре. Я смеюсь вместе со всеми.
Снова выхожу в четвертый класс. Какой-то пузатый русский показывает на меня пальцем соседу:
— Гляди-ка, что за барышня!
Мои мягкие длинные волосы доходят до плеч. Руки у меня тонкие, телом я худ. Очевидно, и впрямь похож на «барышню».
Шлепая плицами колес, пароход идет вниз по Волге. Позади Самара, Саратов. Протяжным гудком «Тургенев» распрощался с Царицыном, И снова все дальше вниз по Волге.
Вот наконец показался и белый Астраханский кремль. По берегам потянулись сараи и склады. Пароход гудком приветствует город. У самой пристани колеса закрутились в обратную сторону, сбавив ход, «Тургенев» со скрежетом причаливает к дебаркадеру.
Габдулла с корзинкой в руках стоит в толпе. Подали трап, и, подчиняясь течению толпы, он сходит на берег. Его никто не встречает. Телеграммы он не дал.
Оглядевшись по сторонам, Тукай подзывает извозчика, едет к гостинице «Люкс». Заносит в номер корзинку и тут же отправляется в редакцию газеты «Идель».
Одни из тогдашних сотрудников газеты вспоминает: «Стоя у окна, я набирал очередной номер газеты. Вдруг наметил приближающегося к дому человека. Посмотрел на него повнимательнее: на голове старенький картуз, пальто, похожее на джуббе (род халата. — И. Н.). Погода стояла сухая, но на нем были ботинки с галошами. Лицо худое, желтое. Я следил за ним до тех пор, пока он не зашел в ворота.
— Сагит-эфенди, — говорю, — к нам идет какой-то больной русский мальчик.
Не успел Рамиев ответить, как «мальчик» вошел в комнату. Сагит встал, пошел ему навстречу и обнял со словами:
— Эй, Тукай-джан!»
29 апреля газета «Идель» сообщила: «Наш знаменитый поэт Габдулла-эфенди Тукаев почтил своим посещением наш город».
Через неделю Тукай пишет в Казань:
«Я в Астрахани. Решил пробыть здесь около месяца. Следующим письмом, наверное, вышлю еще темы для рисунков и, если получится, еще статьи и стихи. А пока только и делаю, что хожу по гостям... Постарайтесь статьи, которые высылаю, напечатать правильно. Конечно, получились не очень-то здорово. Это понятно, хотя бы из-за того, что я не подписал их псевдонимом Шурале... Пью кумыс. Ем мясо. Погода хорошая. Ощущаю, как прибывает телесная н духовная сила. Квартира тоже ничего. Живем вместе с Сагитом. Если вы богаты, было бы хорошо, если бы выслали мне рублей пять».
Рамиев служил секретарем газеты «Идель». Редакция помещалась в одном из самых крупных татарских районов города — Тияковской слободе, в нижнем этаже двухэтажного деревянного дома. Неподалеку отсюда жил Даут Мухаммедов, возглавлявший артель конопатчиков. Он охотно участвовал в организации литературно-музыкальных вечеров, распространял билеты на спектаклп, ставившиеся полулюбительскими труппами. Его жена Аджархан одной из первых татарских женщин в Астрахани стала выступать на сцене. В чердачной комнате в доме Мухаммедова и жил Рамиев, к которому перебрался из гостиницы Тукай.
Астрахань претендовала на роль третьего очага татарской культуры после Казани и Оренбурга. Два благотворительных общества — «Исламское общество» и «Исламский союз» содержали школы и медресе в городе, в слободах и окрестных деревнях, платили учителям и несли другие расходы на культурные нужды татар. Между этими обществами шла постоянная грызня. Подсиживанье, интриги, перепалки между ними находили отражение и на страницах газет. «Идель» принадлежала «Исламскому обществу», а газета «Борханы тараккый» («Утверждение прогресса») — «Исламскому союзу». По выражению Тукая, эти газеты налетали друг на друга как петухи. Благодаря стараниям своих сотрудников, в особенности Рамиева, «Идель» велась на более высоком уровне, придерживалась более демократического направления. От «Борханы тараккый» попахивало пантюркизмом, поскольку ее редактором был Мустафа Лутфи, человек протурецкой ориентации, не чуждый авантюризма.
Была в Астрахани и самодеятельная театральная труппа, которая часто ставила спектакли в пользу татарских школ.
Среди тех, кто старался оживить «национальную жизнь», кроме Рамиева и знаменитого впоследствии актера Зайни Султанова, были сотрудники газет, учителя и даже кое-кто из мулл и богачей. Несмотря на разницу во взглядах, в некоторых вопросах они действовали сообща.
Все эти люди стали зазывать Тукая к себе в гости. Вместе с Сагитом Рамиевым поэт побывал, например, у муллы Габдарахмана Ниязи, который часто печатался в «Иделе», а иногда даже замещал редактора, у прогрессивно настроенного торговца кожами Абубакира Дашкина, у учителя Тиякской мужской школы Гани Ниязи.
Тукай не любил ходить в гости к малознакомым людям, особенно из буржуазного круга, но в Астрахани крупных богачей и дипломированных интеллигентов было немного. К тому же Тукай приехал отдохнуть. Вот почему многим астраханцам удалось заполучить его к себе. Впервые в жизни решив отдохнуть, Тукай, кажется, несколько расслабился. Остриг свои длинные волосы и жил как бог на душу положит.
Через три недели Тукай от Рамиева переехал к Шахиту Гайфи, учительствовавшему в заволжской деревне Калмык базары. Поселился в здании школы в одной комнате с хозяином и продолжал отдыхать. Захотелось спать — спал, захотелось почитать — лежал себе и читал. Надоело сидеть дома — выходил на берег Волги, усажи вался под тополем и глядел на пароходы, баржи, лодки. Младший брат Шахита, Ханафи, на двуколке местного богатея Туликова через день привозил из деревни Кендек-лекюл свежий кумыс. Хороша была жизнь! И хозяин пришелся Тукаю по душе: веселый, мыслящий. Играет на сцене, занимается фотографированием, мастерски рисует карикатуры. Водит дружбу с известным астраханским фотографом Бочкаревым.
Все бы отлично, да вот Габдулла не умеет как следует отдыхать, не привык, не способен. Голова работает беспрестанно, руки тянутся к перу.
Сразу же после приезда в Астрахань он прочел повесть Маджита Гафури «Жизнь Хамита» и тут же написал на нее рецензию. Через несколько дней он посылает в Казань обещанные журналу «Ялт-юлт» сатирические стихи, статью и юмористический очерк «Маленькое путешествие». Уезжая в Астрахань, Тукай дал себе зарок не вмешиваться в дела астраханских татар, остаться только отдыхающим, но чуть было не нарушил данного себе слова. Так его рассердил своими статьями редактор «Борха-ны тараккый», Мустафа Лутфи, что он сочинил на него убийственную сатиру и отнес в редакцию «Идель». Хорошо, что вовремя успел спохватиться — на другой день пришел в редакцию и попросил рассыпать набор. Гость должен вести себя скромно, гласит пословица. Но и промолчать было невозможно: речь шла о слишком серьезных вещах. И Тукай напечатал свою сатиру, но позднее, в журнале «Ялт-юлт».
Еще до приезда Тукая Шахит Гайфи задумал серию фотооткрыток, которые иллюстрировали бы популярные литературные произведения и одновременно служили пропаганде татарского театра. Он находил сюжеты, гримировался, а Бочкарев фотографировал. Эти фотографии, на которых изображены герои литературных произведений, Бочкарев отправлял в одно из берлинских издательств, печатавшее их в виде открыток.
Как только в Астрахани появился Тукай, Гайфи тут же решил опубликовать открытку на тему одного из тукаевских стихотворений. Выбор пал на «Молитву шейха». Герой этого сатирического стихотворения возносит хвалу пятерице, начинающейся на «каф», то есть пяти предметам, название которых начинается с буквы «к»: «казы» — колбаса, «кузый» — ягненок, «каз» — гусь, «кымыз» — кумыс и «кыз» — красотка. От имени всего духовного сословия шейх молит аллаха не лишать духовенство этих пяти благ.
Шахит наряжается шейхом, приклеивает седую окладистую бороду. Свою молодую жену — туркменку Нурбибу наряжает «красоткой», а остальные четыре предмета из пятерицы предоставляет Туликов. И вот на открытке сидит на ковре шейх, воздев руки для молитвы. Рядом с ним волоокая «красотка». На скатерти колбаса, гусь жареный, барашек и кумыс.
Отдохнув дней десять у Гайфи, Тукай возвращается к Рамиеву и сразу попадает в компанию литературной молодежи. Поэта знакомят с достопримечательностями го рода и его окрестностей, устраивают в его честь загородную поездку. Тукай присутствует на спектакле местной труппы, участвует в литературно-музыкальных вечерах.
Несколько странно, что в Астрахани не было устроено литературного вечера в честь Тукая. Неизвестно также, читал ли он свои произведения на других вечерах. Вообще, кроме упомянутой информации в газете «Идель», состоящей из одной строчки, нет больше никаких сообщений о пребывании поэта. Между тем «Идель» в специальном разделе «Астраханские вести» не упускает из виду многочисленных «гостей» города, не имевших никакого веса в татарском обществе, а о некоторых из них дает пространные отчеты из номера в номер.
Виноват в этом, очевидно, сам Тукай: должно быть, отказался от вечера, не пожелал читать своих стихов и строго предупредил газетчиков: «Не вздумайте писать обо мне!» Он вообще не любил шумихи вокруг своего имени. Оказавшись в центре внимания, изволь взвешивать каждое слово, не огорчай поклонников и устроителей, словом, прощай, свобода! Он же приехал сюда отдохнуть от сутолоки и суеты.
Быстро и незаметно пролетели блаженные дни, настало время отъезда. На прощанье друзья решили сфотографироваться. Тукай не любил сниматься, но, вероятно, Гайфи его уговорил. Вот они сидят в бутафорской лодке. На веслах Шахит Гайфи. На другой фотографии Тукай с недовольной миной зажат между толстым Султановым и величественным Рамиевым и выглядит рядом с ними как мальчик, надевший отцовскую фуражку.
В последний раз помахав рукой провожающим, Тукай прощается с Астраханью. А через четыре дня газета «Астраханский край» за подписью «А. Р.» поместила следующее сообщение:
«6 июня могло бы стать торжественной датой для астраханских татар. Б этот день из Астрахани уехал молодой татарский поэт Г. Тукаев. Он здесь пробыл около месяца. Но, если не считать одного карикатуриста, сфотографировавшего поэта в довольно-таки неприглядном виде, никто из татарских интеллигентов в Астрахани не проявил к нему интереса. По силе, глубине и широте своего творчества Тукаев может быть назван гениальным поэтом. Несколько лет тому назад некоторые из его стихов подвергались разбору даже в русской печати... Очевидно, для татар Тукай то же, что Пушкин и Лермонтов для русских. Но наши астраханские татары, кажется, не доросли до того, чтобы по достоинству оценить талант гения, и не смогли надлежащим образом воспользоваться возможностью, представившейся им 6 июня».
Кто скрывался за инициалами «А. Р.», неизвестно.
Скорее всего автор заметки, не имея доступа к поэту, обиделся и решил таким образом отплатить друзьям Тукая из газеты «Идель». Что поделать, нравы некоторых астраханских татар, считавших себя интеллигентами, и правда оставляли желать лучшего.
Тукай уезжал из Астрахани довольный и городом, и людьми, которые оказали ему дружеское внимание. Реклама, шумиха никогда не были ему по душе.
3
Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Габдулла устал, соскучился по Казани, по своей крохотной комнатке в «Булгаре», по «Ялт-юлту» и своим товарищам. Вольная жизнь, свежий воздух, кумыс сделали свое дело. Он ощущал прилив сил, особую душевную приподнятость.
Первым делом Тукай взялся за «Ялт-юлт». В его отсутствие журнал стал хуже. Много надо было прочесть, много замыслов роилось в голове. А лето еще и тем хорошо, что большинство приятелей, мешавших работе, разъехались кто на дачу, кто в путешествие.
Неприятности, однако, не заставили себя ждать. К его возвращению вышла из печати «Мяубике». Тукай не любил перечитывать свои книги — бывал недоволен тем, что сделано, расстраивался. Надо полагать, и эту он, проглядев, положил в общую кучу. Но вскоре появились рецензии.
Одной из первых была статья Галимджана Ибрагимова, в которой, между прочим, этот, впоследствии известный писатель, утверждал, что «Мяубике» отнюдь не лучшее поэтическое произведение Тукая, да и вообще вряд ли может быть отнесено к поэзии, поскольку представляет собой обычный рассказ, только зарифмованный и уложенный в размер.
По словам Тукая, то был «первый отрицательный отзыв» о его творчестве.
В сентябрьском номере журнала «Шуро» статью о той же книге опубликовал С. Сунчаляй. Обычно сожалевший о том, что Тукай занялся сочинением книг для детей, на сей раз он с похвалой отозвался о намерении поэта «прийти на помощь школьникам». Однако и он счел нужным сделать ряд критических замечаний. Если у поэмы «Мяубике» и есть недостатки, писал он, то это неблагозвучные, неполные рифмы.
Тукай ответил на его рецензию публично. Ссылаясь на примеры из Лермонтова, на классиков арабской поэзии, на стихи С. Рамиева, он доказывал, что полные, привычные рифмы хоть и ласкают слух, но убаюкивают читателя. И потому рифмы приблизительные порой оказываются действенней, ибо запоминаются, разнообразят стих, производят более сильное впечатление.
Статья была вызвана отнюдь не неприязнью Тукая к критике. Именно в это время он усиленно размышляет над соотношением формы и содержания в поэзии. Рассуждения его в какой-то мере отражали намечавшийся перелом в его творчестве.
Беда обозначилась ближе к осени: на Поволжье обру шилась засуха. Крестьяне не смогли собрать даже того, что посеяли. Мужчины потянулись на чужбину. Многие уезжали вместе с семьями, окна домов заколачивались крест-накрест. На городских улицах, на базарах и у мечетей множилось число нищих. Повсюду только и разговоров было что о голоде.
Тукай, сердцем отзывавшийся на любую весть из родных краев, день ото дня мрачнеет. Земля в Поволжье и прежде не баловала крестьянина. А той осенью голод казался неизбежным.
В 1908 году в канун курбан-байрама он написал стихотворение «Сегодня праздник». Тогда мир казался ему таким ярким, будто взошло сразу два солнца, ветер — ласковым, мягким, все кругом — благоуханным, и даже богатей расчувствовался до того, что стал обнимать бедняка. Не то теперь. Тукай пишет стихотворение «Осенние ветры».
Осень. Ночь. Уснуть нет силы. За стеною ветер плачет; То не ветер: люд голодный в страхе смерти лютой плачет. «Мой любимый сын, рабочий, не имеет корки хлеба», — Это мать — земля родная, к нам заботливая, плачет.«Образ осеннего ветра проходит через все стихотворение как предвестник голодной смерти, надвигающейся на народ, — замечает Гали Халит. — Даже звуковой аккомпанемент — «ветер плачет», «земля плачет», «страна плачет» (по-татарски «жил жылый», «жир жылый», «ил жылый») — вызывает у читателя чувство душевной тревоги. Ассоциируя мрачную стихию природы с трагическим социальным явлением, поэт-гуманист будил глубокое гражданское волнение за судьбы народа».
Стихотворение «Осенние ветры» вошло в золотой фонд татарской классической социальной лирики, с потрясающей художественной силой передает оно трагедию народных масс в капиталистическом обществе.
Зиму поэт проживет в деревне Училе, все увпдит своими глазами и напишет: «Нынче не было счета замерзшим в сугробах людям. Коль навалятся разом голод, холод и нищета, тут не выдержит и сказочный див».
Осенью Тукан и Сунчаляй встречаются с Мирсияфом Кырымбаевым. Одно время он был ответственным секретарем журнала «Мусульманин», выходившего в Париже с 1908 года. В этот журнал Тукай вознамерился год назад послать свои стихотворения, которые не могли быть напечатаны в России.
В 1911 году в качестве приложения к «Мусульманину» в Петербурге начала выходить газета «В мире мусульманства». Но чем дальше, тем больше материалы газеты и журнала настораживали Тукая. Пока что исподволь, но упорно они проповедовали необходимость объединения мусульман России на религиозной основе. Издатель и редактор «Мусульманина» М. Хаджи-Теляши и редактор «В мире мусульманства». А. Г. Датиев внушали Тукаю все меньше доверия. После встречи с М. Кырымбаевым поэт спрашивал Сунчаляя: «За кого ты их принимаешь? Не обманут ли М. этими кавказцами?» В фельетоне, опубликованном \ января 1912 года, он писал: «В прошлом году в Петербурге появился истинный мусульманин под странным русским названием «В мире мусульманства». Чем только он не занимается?! Печатает столбцы изречений пророка Мухаммеда. Толкует о мусульманах, панисламизме и единоверцах. Словом, хочет выглядеть правовернейшим из правоверных. А правоверные чешут в затылке: «Что-то не верится в эту правую веру!»
Недаром Тукай называл себя «политиком». Чутье и на этот раз его не обмануло. Не прошло п трех лет, и М. Хаджи-Теляши был разоблачен как провокатор и авантюрист.
К душевным страданиям, которые приносил Тукаго голод в Поволжье, в начале зимы прибавились и страдания физические: как обычно, он простудился, заболел воспалением легких. Обострилась его давняя чахотка. А тут еще, как на грех, у поэта обнаружилась малярия.
Мы знаем, что Габдулла не любил говорить о себе, а тем более о своих болезнях. Если и упоминал о них, то всегда с усмешкой:
«В половине первого, когда я заканчивал утреннее чаепитие, как дорогая, долгожданная гостья являлась ко мне лихоманка и начинала дергать во мне все жилы, превращая тело в подобие мчащегося поезда. Но я, не обращая внимания на тряску, продолжал пить свой чай, стараясь не промахнуться, когда подносил стакан ко рту. Если в такое время в номер являлся кто-либо из соседей или знакомых, то поднимался шум.
— Батюшки! Что с тобой!
— Лихорадка, разве не видите?
— А у доктора был?
— Пусть сам придет!» (В оригинале диалог дан на русском языке. — И. Н.).
При упоминании о докторах Тукай весь ощетинивался. По его словам, он «не верит в медицину», ставит врачей на одну доску со знахарями и шептунами. Он сам знает, что болен и болен тяжело, но ему, как ребенку, который, закрыв глаза, думает, что он никому не виден, не хочется слышать об этом из уст врача.
Однажды, когда Тукая трепал очередной приступ малярии и, укрывшись всем, что было, он лежал на кровати, ему вдруг припомнилось, что на следующий день праздник. Неужто и в этот день он будет лежать и дрожать? Тут к нему зашел один из приятелей.
— Послушай-ка, дорогой, ты говорил, тебе что-то помогает от малярии? — спросил Тукай.
— Аспирин.
— Принеси-ка, пожалуйста!
Так аспирин стал постоянным спутником Тукая до конца его дней. Когда не помогала обычная доза, Тукай принимал двойную, тройную, а иногда разом выпивал целую чайную ложку.
«Ураза-байрам (праздник разговенья. — И. Н.) прошел. Наступил и прошел курбан-байрам. А я все продолжаю сражение: как только явится госпожа малярия, хватаю аспиринную палку и давай тузить! Малярия? Аспирин! Малярия? Аспирин!»
Когда приступ немного отпускал, Тукай тут же принимался за работу. Кроме «Осенних ветров», в ноябрьском номере «Ялт-юлта» напечатан его ответ Сунчаляю и фельетон. В декабре Тукай закончил еще один фельетон «Отчет прошлого года». Многие материалы Тукай помещал без подписи, многие обработал. Этой же осенью им было написано еще семь стихотворений.
Но Тукаю снова не везет.
«Как-то раз зашел ко мне друг.
— Хочешь переехать в другую гостиницу?
— Давай.
Сходили, посмотрели номер. Раза в три больше того, в котором я жил. Потолки высокие. Умывальник. Словом, не номер, а райские апартаменты!»
То была одна из очередных житейских ошибок Тукая. Вероятно, его друг был столь же «практичным» человеком, как он сам. Дело в том, что «райские апартаменты» оказались адски холодными и сырыми.
«О создатель! Здесь меня замораживают, как гуся, которого впрок подвешивают зимой на чердаке!»
Вид у гостиницы был шпкарный, но топпли здесь через день. Хозяин оказался не то скрягой, не то банкротом.
«Плевать на все! — решил я, нанял ямщика и отправился в деревню». Так новый, 1912 год Тукай встретил в Училе.
В это время в Училе с женой и двумя малыми дочерьми жил дядя Габдуллы Кашфелькабир. После смерти отца Зинатуллы-хазрета три года назад он стал указным муллой.
С детских лет Габдуллы деревня мало изменилась. Прежним осталось и отношение крестьян к своему мулле. Кабпр держал коня и корову, во время страды нанимал поденщиков, но в остальное время работал по хозяйству сам. Его молодая жена Рабига доила корову, ухаживала за утками, убиралась по дому. Ей помогала соседская вдова с дочерью. Смирный, бесхитростный, как его отец, Кабир-мулла был таким же бессребреником. Ни одеждой, ни чем другим не отличался он от простого крестьянина, да и держался запросто. Обязанности духовного пастыря исполпял с неохотой, зато любил погулять с окрестными муллами, потолковать с односельчанами, которые поумней, иногда возвращался из Арска навеселе. Он был немногословен, не блистал остроумием, но любил послушать прибаутки, громко смеялся, всплескивая при этом руками и приговаривая: «Аи, джаным!»
Габдулла уважительно относился к дяде, который был всего на два года старше его, но особенно с ним не церемонился. Как-то раз заметил ему не то всерьез, не то в шутку: «Сшей шубу с воротником из выдры, отпусти бороду. Станешь посолидней, и народ к тебе переменится!»
Перед отъездом из Казани Тукай написал ему письмо: дескать, хотел бы некоторое время пожить у вас, не буду ли в тягость хозяйке? Кашфелькабир вместо ответа запряг лошадь и приехал в Казань. Но Тукай с ним не поехал: не успел закончить дела.
Через несколько дней после возвращения Кабира-муллы у его дома остановились сани. В санях, укутанный в тулуп, лежал Габдулла. Его взяли под руки, ввели в дом и поместили в небольшой пристройке, одно окно во двор, другое — в проулок. «Мне выделили небольшой, похожий на сундучок, уютный, сосновый домик», — писал Тукай.
Сухой воздух, парное молоко, которым его поили утром и вечером, утиный бульон, ласковое обхождение дяди и его жены, относительное душевное спокойствие через неделю поставили Габдуллу на ноги. Он стал выходить на воздух, заглядывал в медресе, которое располагалось тут же, во дворе, и даже съездил с дядей в Арск.
Едва поднявшись с постели, Тукай принялся работать. «Целыми днями он спал, — вспоминала Рабига, — а по ночам писал. Все, что напишет, отдавал мне. А муж, когда ездил в Арск, отвозил на почту».
По приезде в Училе Тукай написал А. Урманчиеву: «Как только выйдет «Ялт-юлт», тут же пошлите, пожалуйста, мне. Вышлите и русские юмористические журналы. Если будет угодно аллаху, вскоре смогу прислать тексты к рисункам и статьи».
В конце января он просит Г. Шарафа прислать «Горе от ума» и Полное собрание сочинений Лермонтова: «Очень нужны. Вещь, которую я начал писать, обозначая разделы цифрами, продвигается. Ты видел всего семь, а теперь перевалило за двадцать. Если все кончится хорошо, мы так ее и назовем: «Под цифрами». Начинались «Цифры» в пессимистическом духе. Но тут я, кажется, превратился в настоящего оптимиста».
Речь идет о новом сборнике стихов Тукая. В отличие от предыдущих книг в него Тукай решил не включать уже опубликованные в периодике вещи. Сгруппировав стихи по тематическому принципу, он вместо заглавий собирался обозначить их цифрами. Если семь «цифр» были написаны в Казани, значит, в Училе за две недели Тукай написал больше тринадцати стихотворений!
Юмористический очерк Тукая «Напечный рассказ» также написан в Училе и повествует среди прочего о его житье-бытье в деревне и поездке в Арск.
В Арске, когда Кабир отправился на базар, на Габдуллу напала лихорадка. Хозяин предложил ему залезть на печь. «На печке жарко. Аж кости жжет! Но тем приятней. Блаженствуя на печи, я вспомнил строки из своего написанного года три назад стихотворения и расхохотался над самим собой. Вот эти строки:
Пускай состарюсь я, — не стану стариком, Что богу молится да мелет языком. Даст бог, на печку не взберусь, вздыхая тяжело. Возьму я от стихов мне нужное тепло.Не полезу, дескать, на печку! Полезешь, брат, коль спина замерзнет! «Даст бог, не взберусь!» И угораздило меня сказать «даст бог». «Богохульство, и только!» — подумал я. Нахохотавшись вволю, решил: стихи, брат, одно, а ворот, который кружит миром, — другое. С этими словами л слез с печки, с серьезным видом вышел во двор и уселся в стоявшие у дверей сани. Поехали домой!»
В Училе Габдулла иногда слушал, как дает уроки тамошний учитель. У него появились друзья среди шакирдов. Один из них в трескучие морозы бегал в медресе босиком. Тукай подарил ему свои кукморские, с узорами валенки, в которых приехал из Казани, но, чтобы не обидеть мальчика, сказал: «Очень жесткие, надо бы разносить!» В этом весь Тукай.
Судя по воспоминаниям Рабиги и рассказам земляков, мужики потолковей стали заходить к Тукаю в гости, заводить с ним разговоры. В очерке «Возвращение в Казань» Тукай писал об одном из них: «Остроумен, телом крепок, от своего слова не откажется. Имеет кузницу: из железа и чугуна все делает сам, чинит часы своим деревенским, из соседних деревень тоже. Участвует в мирских делах, умеет читать-писать... Хоть сам не выписывает, но часто привозит из Казани газеты вроде «Вакыт». Так характеризует поэт Гильфана, того самого ямщика, который увез маленького Тукая в Казань. Но поэт еще многого о нем не знал. Гильфан взял в обыкновение записывать все важные события в своей семье и деревне, складывал баиты.
Гильфан-абзый заходил к Тукаю чаще других. Он жил по соседству с Кашфелькабиром.
В первых же письмах в Казань поэт просил никому, кто бы он пи был, не давать его адрес в Училе. Быть может, он хотел отдохнуть от дел и какое-то время не желал никому отвечать? Возможно. Но Рабига вспоминает другое: «Живя у нас, он все время беспокоился, что за ним могут прийти. Уезжая куда-нибудь, муж каждый раз мне наказывал: «Скажите, что его нет дома, и никого не впускайте». Даже если Рабига и сгустила краски, то все равно ее слова заслуживают внимания.
Именно осенью 1911 года началась переписка между Казанским комитетом по делам печати, то есть цензурой, жандармским управлением, губернаторской канцелярией, Казанской судебной палатой и Главным управлением по делам печати по поводу книги «Стихи Габдуллы Тукаева». Комитет, изучив книжечку, отдал многие стихотворения для перевода и высказал убеждение в необходимости наложить на нее арест и привлечь автора к суду. 28 ноября это заключение цензуры было направлено прокурору Казанской судебной палаты и Главному управлению в Петербург. Поскольку прокуратурой никаких мер не было принято, в столицу было направлено еще одно отношение, в котором говорилось: «Видеть только эти стороны общественного строя и не обращать внимания на другие значит желать возбудить к данному строю ненависть... В этом стихотворении комитет видит призыв к подрыву существующего строя... Поскольку в стихотворении «О свободе» содержится прямой призыв рабочих к борьбе, комитет усматривает в нем признаки преступления, предусмотренного в пункте 6 статьи 129 Уголовного уложения».
Странно одно: Казанский комитет по делам печати в 1911 году вдруг затеял шум вокруг книги Тукая, вышедшей еще в 1907 году! Именно о ней в 1908 году агент Персии написал донос. Но в то время дело почему-то заглохло. Оно всплыло снова, видимо, после обысков, допросов и судебных процессов, связанных с событиями в деревне Иж-Буби.
Жандармская переписка продолжалась и в декабре 1911-го и в начале 1912 года. На декабрь приходится и выезд Тукая в Училе. Есть ли связь между этими фактами? Знал ли поэт, что над ним сгущаются тучи? Знал. Недаром говорят: у друга всегда есть друг. В комитете работали и прогрессивно настроенные люди, в том числе татары.
Очевидно, в этой связи Тукай сообщал Г. Шара-фу: «Собираюсь не появляться в Казани до начала апреля».
Но до апреля Тукай не выдержал. В конце февраля бросил все и поспешил в город с его суетой, неустроенностью, бесконечными спорами с Л. Урманчиевым и Г. Камалом, бесцеремонными и невзыскательными «друзьями», которые то и дело отрывали его от работы. Почему? В своем очерке поэт писал: «Как бы мы ни хвалили деревню, там все же многое пе может удовлетворить человека, привыкшего жить в городе. Особенно зимой и в таком, как нынешний, голодном году».
О каком душевном покое могла быть речь, когда поэт каждый день видел страдания людей? К тому же он чувствовал: ему недолго осталось жить, надо успеть как можно больше быть среди людей, принять участие в борьбе.
Не желая возвращаться в ледяной номер казанской гостиницы, откуда он убежал, Тукай решает нанять квартиру, специально заказывает стеганое одеяло, две подушки.
Но и это решение оказалось очередной ошибкой. «Мои хозяйки — русские женщины. Сестры-мещанки. Подлые мещанки. Читаю Максима Горького и ощущаю ненависть к ним, читаю Кнута Гамсуна, и шлю им проклятья». Ошибка непростительная, ибо два года назад он уже имел неосторожность нанять квартиру у такой же мещанки и сбежал через три дня.
Не дождавшись обещанной кровати и провалявшись около недели, «как пустая бутылка на голом полу», он с одним из товарищей снова отправился на поиски номера. Нашел просторную, светлую комнату. И обстановка получше, чем в «Булгаре». Словом, все как будто соответствовало названию гостиницы — «Свет». Но в первую же ночь Тукая постигло разочарование: его номер оказался гнездилищем крыс.
В очерке «Возвращение в Казань» Тукай с юмором рассказывает о своих злоключениях. Он выходит в поисках кошки, а возвращается вместо кошки с клопами. И тут его осеняет: почему бы не напугать крыс самому, прикинувшись кошкой? «Как-то вечером надел валенки, натянул на себя шубу мехом наружу, на голову — вывернутую шапку. К шубе привязал что-то вроде хвоста из мочалки. Сижу в номере репетирую: «Мияу! Мырау! Маааауу! Моррау!»
Показалось, неплохо. Совсем по-кошачьи. В полночь, поджав ноги, уселся поудобней у крысиной норы. И давай мяукать и мурлыкать.
— Мияу! Мырау! Меаяу! Моррау!
Замолк на минуту, вижу, крысы уселись у входа в нору всем семейством и сквозь острые зубы по-своему судят о моем мурлыканье:
— Камиль Мутыгый — и только! Хи-хи-хи!
— Хорошо, мы хоть деньги не платим, а люди платили и не за такие концерты!
— Плохой артист! Но все же лучше «шароварников». (Низкопробная татарская национальная труппа. — И. Н.)
— Тоже мне кошка!
— Нашел чем напугать!
Тут я их перебил:
— Эй, крысиное племя! Не глядите, кто мурлычет, слушайте, как мурлычет!
— Как не глядеть? Ты даже человечьи ногти дал на отсечение, помнится, в каком-то споре. И лицо у тебя гладкое, и усов нет, а сам такой большой...
Скажу не хвалясь, чего хвалиться? Я ведь не из барчуков! Есть у меня коготки. Вот я им и говорю:
— Эй, крысы! Что вам проку жрать мою провизию? Ведь куда лучше стать интендантами? Тогда животы нарастите солидные. Это вам будет к лицу.
— Думаешь, раз мы живем под полом, то ничегошеньки знать не знаем? (Общий хохот.) Интендантов теперь сажают в железные клетки. Вон в Казани, в Киеве, в Петербурге...
— Выходит, вы осведомленный парод! А может, теперь, когда пали духом революционеры, вся «подпольная печать» оказалась у вас в руках?
Одна важная крыса, выпятив грудь, говорит:
— У нас, конечно, у нас! Попробуй-ка с нами сладить?
Остальные, будто жалеючи, подхватили:
— Потешен человек не в своей роли!
— Что же посоветуете, господа критики?
— Ты знай себе пиши. Не суетись, как старый чиновник».
Трудно себе представить, что это написано немногословным, хмурым человеком, которого в последние годы мало кто видел смеющимся. Человеком, тяжело болыгым, с желтым худым лицом.
Тукай много пишет для «Ялт-юлта», грудится над стихами для новых «цифр», которые должны выйти отдельной книгой под названием «Пища духовная». В разгар этой работы его застает страшная весть: умер Хусаин Ямашев. 13 марта пришел в издательство «Гасыр» («Век»), чтобы договориться об издании только что законченной брошюры, и упал, схватившись за грудь.
Хусаина хоронят с почестями. Газеты печатают его
биографию, некрологи, статьи, поэты посвящают ему стихи.
Смерть Ямашева потрясла Тукая. Долгое время он не мог прийти в себя. И только месяц спустя берется за перо, чтобы написать «Светлой памяти Хусаина». Стихотворение это явилось ответом тем, кто ненавидел Ямашева, и тем, кто его не понимал.
Газета «Юлдуз», например, посвятила Ямашеву целое приложение, а затем опубликовала «Анонимное письмо», которому предпослала редакционное предисловие. Дескать, газета и ее редактор X. Максуда всегда предоставляли место для самых разных мнений. И теперь, следуя традиции, предоставляют слово тем, кто критикует газету за высокую оценку личности Ямашева. «Обращаясь к вам, Хади Максудов, — писал автор «Письма», — к сыну безграмотного отца, я заявляю: пожалуйста, не пачкайте газетных страниц письмами об этом Ямашеве, не тратьте своего драгоценного времени. Слава аллаху за то, что он быстро убрал его из жизни. За какие качества можно его восхвалять?»
Не хуже брани была и иная похвала: Ф. Агиев, поддавшись искреннему чувству, назвал Ямашева «святым пророком».
В стихотворении «Светлой памяти Хусаина» поэт выразил свое презрение к реакционным анонимщикам и осудил друзей вроде Агиева, заявив, что «пи один из светлых не может идти с ним в сравнение». Мы уже говорили, что «Юлдуз», напечатав это стихотворение, сопроводила его примечанием: дескать, слово «святые» должно быть понято в смысле «друзья». Это же примечание перепечатал вместе со стихотворением и журнал «Ялт-юлт». Но ведь Тукай, возмутившийся лицемерной трусостью «Юлдуза», являлся секретарем журнала «Ялт-юлт»! Как же он мог пропустить это примечание?
Дело в том, что к этому времени Тукая уже не было в Казани.
4
Тукай понимал, что летом 1912 года ему нужно основательно подлечиться и отдохнуть. Лучше всего было бы уехать из Казани. Что он видел до сей поры? Уральск, Нижний Новгород, Астрахань, и только! А ведь мир велик, велика и Россия. Есть Крым и Кавказ, где многое связано с именами Пушкина, Лермонтова. Стоит на семи холмах златоглавая Москва. На островах вдоль Невы раскинулся державный Петербург. Много ли осталось жить? Так, может, надо торопиться, чтоб все это повидать?
Тукай колеблется. Он в нерешительности, как всегда, когда предстоит изменить привычный образ жизни или заняться своим здоровьем. Среди приятелей, часто навещавших Тукая, пожалуй, самым порядочным и толковым был Габдулла Гисмати. Родом из Троицка, он служил учителем и одновременно готовился к экзаменам за курс гимназии.
Посоветовавшись с друзьями поэта, Гисмати в один прекрасный день пришел к Тукаю в гостиницу «Свет». Поболтал о том, о сем и осторожно высказался в том смысле, что, дескать, в Казани весной печем дышать, неплохо бы уехать куда-нибудь на отдых. Осторожно, потому что Тукай, никогда не жаловавшийся на болезни, терпеть не мог, когда ему кто-либо о них напоминал.
Поэт не прочь был уехать. Но вот куда? Что, если в Петербург? Тем более туда его приглашают. От Мусы Бигиева одно за другим пришло два письма. Нет, туда нельзя, возразил Гисмати. Сперва надо немного отдохнуть, где потеплее, поднабраться сил. Разговор заходит о Крыме, о Кавказе. Там и лечиться хорошо, да и места поэтические. Но Тукаю не хочется ехать одному. В конце концов порешили: Тукай уедет в Уфу, поживет там, а затем отправится в Троицк, на кумыс. Уфа близка его сердцу. О реках Белой и Деме поется в народных песнях, а главное — в Уфе живет Маджит Гафури. В Троицк же Тукая приглашали давно, хазрет Габдарахман Рахманкулов специально заходил к Тукаю и добился от поэта обещания приехать к нему на кумыс.
Не слушая возражений поэта, друзья одели его с головы до ног в обновки, как собирают в гости любимое дитя, и 12 апреля 1912 года, посадив на пароход «Фультон», проводили в путь.
Первая остановка в Самаре. Путешествовать так путешествовать! Тукай сходит на берег, решив пожить здесь с недельку. Извозчик доставил его в одну из самых шикарных гостиниц города — «Бристоль». Пришлось снять громадный, на взгляд Тукая, номер. Озадаченный поэт, не зная, куда себя девать в таком номере, решил в тот же вечер пригласить в гости редактора журнала
«Иктисад» («Экономика») муллу Фатыха Муртазина, ради которого он, собственно, и сошел на берег в Самаре. Нанял извозчика, не подозревая, что Муртазин живет в соседнем квартале. Извозчик же взял с «важного господина» целый рубль. «Вот тебе и на! Не успел устроиться в номере, двух рублей двадцати пяти копеек как не бывало».
Проговорив вечер с Муртазиным, Тукай решает поскорей убраться из Самары. Один из шакирдов Муртазина — тот еще преподавал в медресе — сажает Тукая на уфимский поезд. О телеграмме Тукай опять, конечно же, и не подумал.
«Вот и Уфа, беспорядочно раскинувшаяся на горе. Сел на извозчика. Это тебе не Самара. Коляска такая старая и жесткая, что бедные кишки мои запрыгали, как вожжи, брошенные на голые доски телеги».
Боясь повторения самарской незадачи, Габдулла первым делом едет в уфимский книжный магазин «Сабах» («Утро»), чтобы расспросить, где можпо снять недорогой, но удобный номер. Продрогшего, уставшего поэта временно поселяют в большой комнате за магазином. Обычно она служит книжным складом, но внизу кухня, и в комнате тепло. Благодать! Напившись горячего чаю, Тукай просит соорудить ему лежак из книжных ящиков, а переночевав, Тукай уже не желает и думать о переселении в гостиницу. Он превращает книжный склад в свою уфимскую «резиденцию».
В Уфе нет недостатка в людях, которые хотели бы поговорить с поэтом. Одним из них был некий Ахметфаиз Даутов, которого Тукай упоминает в путевых заметках: «На скрипке он не играет, а пиликает, но голос у него такой, что его пенье я согласился бы слушать всю жизнь». Вряд ли голос этого человека показался Тукаю столь приятным, если бы он знал, что тот был агентом охранки и сыграл довольно гнусную роль в разгроме медресе Иж-Буби.
Источником душевного тепла стал для Тукая в Уфе Маджит Гафури. Впрочем, их первая встреча на книжном складе была довольно неловкой. «И Тукай и я, будто подыскивая слова для разговора, сидели молча, глядя друг дружке в глаза», — вспоминал потом Гафури.
Но между ними быстро установились дружеские отношения. Тукай в путевых заметках отбрасывает слово
«эфенди» и начинает писать просто «Маджит». «Разговор у нас в основном шел о стихах и поэтах, о Казани и окружавших нас людях», — писал Гафури.
Шла у них речь, несомненно, и о книгах Гафури, которые подверглись критике Тукая в его фельетонах. И хотя пи тот, ни другой в своих заметках об этом не упоминают, представить себе этот разговор не столь уж трудно.
Словно что-то вспомнив, Гафури неожиданно произносит: «Джамид Фигури!» И негромко смеется.
Тукай настораживается. Бросает на него беглый взгляд: ведь именно так он именовал в фельетонах Маджита. Ему, конечно, хочется знать отношение Гафури к тому, что он о нем писал. Но Тукай несколько страшится этой темы. Не обиделся ли на него поэт?
Маджит, словно догадавшись о мыслях гостя, продолжает с улыбкой:
— Читал и смеялся, словно речь шла не обо мне.
— Да, есть у мепя привычка рубить сплеча, — откликается Тукай.
Так ли, нет ли произошел этот разговор — неизвестно, но двух-трех дней оказалось достаточно, чтобы оба поэта поняли друг друга.
И тут Тукай вдруг заспешил. С Уфой он познакомился» с Маджитом Гафури, которого давно хотел повидать, встретился, подружился. Похоже, в этом городе ему больше делать нечего. Жизнь здесь тихая. Одна-единственная библиотека «Сабах», одно издательство «Шарык» («Восток»), Газета не выходит, о журнале и говорить не приходится. Да и дни все еще стоят холодные. Пожалуй; можно отчаливать. Но куда? В Троицк ехать нет никакого смысла. Сезон кумыса еще не наступил. А может, податься пока в Петербург? И Тукай решается.
«Хотя я знал, что Тукаю лучше было бы поехать в Петербург прямо из Казани, — вспоминал Гафури, — из Уфы ведь приходилось возвращаться, я ни слова не возразил против его плана. В этой ошибке была своя поэзия. Мне и самому показалось забавным, что Тукай вдруг отправится в Петербург».
Это была действительно «поэтическая» ошибка, которую мог совершить только Тукай. Не задумываясь над тем, что он серьезно болен, что в столице стоит самая скверная погода, и путь до нее займет двое, а то и трое суток, он с видом человека, которого ждут неотложные дела, отправляется на вокзал. Впрочем, понять его можно — великий город, о котором он столько слышал и читал, город, связанный с именем Пушкина, неумолимо притягивал к себе Тукая. Он должен был подышать воздухом, которым дышал когда-то его любимый поэт, увидеть дворцы и памятники, пройти по дорожкам, по которым ходил он. Представится ли ему такая возможность в другой раз?
5
Много татар было уже среди бесчисленных крестьян, пригнанных к устью Невы для строительства новой столицы. К тем из них, кто остался в живых и обосновался в городе, постоянно присоединялись новые соплеменники. После 1812 года в Петербург больше всего поставляли людей разных специальностей Нижегородская, Пензенская и Симбирская губернии. Особенно много ехало в столицу касимовских татар.
Часть «мусульман», продолжая традиции предков, специализировавшихся на торговле со Средней Азией, занималась куплей-продажей и захватила в свои руки почти всю торговлю азиатскими товарами. Что касается касимовских, то более состоятельные из них предпочитали вкладывать свои капиталы в рестораны и трактиры. Было, например, время, когда некие Байрашевы прибрали к рукам все железнодорожные буфеты.
Чем больше становилось магазинов, тем больше требовалось и приказчиков. Хотя татарские приказчики в основном работали в «мусульманских» магазинах, их охотно брали на работу и русские купцы. Возникали все новые рестораны и трактиры, а это, в свою очередь, увеличивало потребность в буфетчиках, официантах и половых. Сюда по традиции шли касимовские. Те же татары, которым не по плечу была торговля и служба в трактирах, шли в дворники да в извозчики. После отмены крепостного права, когда приток из деревень в города заметно усилился, на фабрики в Петербург пришли и рабочие-татары.
В конце XIX и начале XX века, в период национального пробуждения татар, стала расти в Петербурге и татарская интеллигенция. Из татарских семей, живших в самом Петербурге, выходили адвокаты, врачи, инженеры, чиновники и военные. На учебу сюда стали приезжать со всех концов России татарские и башкирские парни и девушки. В 1912 году в университете, в технологическом институте, на Бестужевских высших курсах и в других высших учебных заведениях Петербурга училось несколько десятков юношей и девушек из татар и башкир.
Ко времени приезда Тукая столичные татары жили тремя приходами — махалля. Два благотворительных общества разделили татарскую интеллигенцию на две «партии». Одна, возглавлявшаяся М. Бигиевым, проповедовала либеральные взгляды. Она пользовалась типографией Бураганского и материальной поддержкой просвещенных купцов, вроде Галима Максудова. Другая, во главе которой стоял ахун Сафа Баязитов, полностью лояльная к властям, противилась любым новшествам, отстаивая неприкосновенность существующих порядков. Ее поддерживали Байрашев и другие касимовские богачи, рупором которых была религиозная газета «Hyp» («Луч»). Партии эти хотя и враждовали, но без ожесточения. Ощутив, очевидно, потребность в своей газете, столпы либеральной партии в поисках редактора решили остановиться на кандидатуре Тукая и поручили Бигиеву пригласить его в Петербург.
К этому времени стала намечаться, правда, пока еще никак организационно не оформленная и третья «партия», которую представляла молодежь, придерживавшаяся революционно-демократических взглядов. Самым выдающимся и влиятельным из них, без сомнения, был будущий революционер Мулланур Вахитов, который, прожив недолгую жизнь, оставил неизгладимый след в истории татарского народа. Пока же, исключенный из технологического института, он учился в психоневрологическом институте, куда не был закрыт путь так называемым «неблагонадежным». К этой же группе относился и Шариф Ахметзянов из Башкирии, готовившийся к поступлению в тот же институт и впоследствии сыгравший видную роль в революции, и студент университета Шакир Мухаммедьяров. Близки к ним были Карим Сагит, который, работая приказчиком у купца Понизовского, одновременно занимался писательской и журналистской деятельностью, а также Кабир Бакир, исполнявший обязанности секретаря редакции газеты «Hyp», но тем не менее склонявшийся к «радикалам».
О своем приезде в Петербург Тукай писал: «Восемь утра. Не слышно шума и грохота; темно, туманно, едешь в фаэтоне на резиновых шинах по улицам, мощенным деревянными шашками, словно идешь в валенках на толстой подошве. И до чего же высокие дома! Сам черт не разберет, где тут небо, где солнце. То ли пасмурно, то ли ясно, не могу описать свой приезд в этот город, как описал приезд в Уфу. Я поражен, я весь во власти величия этого города. Похожие друг на друга, мощенные шашками улицы. Конки не вызывают улыбки, как в Самаре, потому что рядом с ними и трамвай и автомобиль! Еду и считаю дома: «Сергиевская, 81». Стоп! Приехали!..
Нажал звонок. Было еще довольно рано. Оказалось, Муса-эфенди только что встал. Он вышел мне навстречу».
После обмена приветствиями и небольшой суматохи гостя устроили в кабинете Мусы Бигиева. Кровать, рабочий стол и книги, книги, книги. В большинстве на арабском языке.
Дом во дворе, а квартира на втором этаже. Перед окном Тукая — до неба глухая кирпичная стена. «Квартира зажата между стенами, которые, подобно преградам, воздвигнутым Александром Македонским, заслоняют от меня и Петербург, и весь мир».
Тукая снова одолевает лихорадка. Он лежит в постели, глотает аспирин, курит, листает книги. Так проходит четыре дня. Раз-другой Тукай пробовал выйти посидеть в Таврическом саду, неподалеку от дома, но это было мучительно. В городе ветрено, холодно, беспрестанно моросит дождь. Есть, однако, беда и похуже: чтоб выйти на улицу, надо пройти через зал, а там частенько сидят женщины. Добро бы только супруга Бигиева Асма-ханум. Но тут живет, оказывается, и курсистка Марьям, которая доводится хозяину племянницей. Частенько приходит и сестра Асмы-ханум, тоже бестужевка Гульсум Камалова.
Хозяин же беспрерывно занят. Лишь раз сводил поэта в гости к Лотфи Исхакову, и все. У Бигиева дел по горло: учится, ходит на лекции, роется в библиотеках. Дома, наспех перекусив, садится писать. Тукай завел было разговор о переезде в гостиницу. «Не беспокойтесь, будет, все будет», — ответил Муса. Но все оставалось по-прежнему.
Когда Тукай, чтобы разыскать Кабира Бакира и Карима Сагита, спросил адрес газеты «Hyp», Бигиев не мог его назвать. Тукай поразился, но Бигиев с людьми из «Нура» пе общался; как-никак разные партии. Без внимания, правда, Тукая но оставляли и эти четыре дня. Его посетил приходский мулла Лотфи Исхаков. Приходила с букетами группа курсисток, но Тукай, сославшись на болезнь, их не принял. Видимо, визит этот был организован стараниями Гульсум и Марьям.
Навестил поэта купец Галим Максудов вместе с сыном Каримом, который недавно закончил Стамбульский университет: известный богач, по всей вероятности, не столько хотел засвидетельствовать поэту свое уважение, сколько познакомить с ним своего любимца и насладиться его беседой со знаменитостью.
«На что он мне нужен? — говорил потом Тукай. — Какое он имеет ко мне отношение? Пришел бы один, еще туда-сюда. А то привел сына, выучившегося в Турции. Тот и давай молотить: «А вот наши османские турки, эфенди...» И пошел и пошел превозносить турецкую литературу, поэтов, которые всю жизнь только тем и занимались, что воспевали султана да его наложниц. И это в стране Пушкина и Лермонтова! Да как же не совестно? А ему и дела нет — заладил свое. Что я мог ему ответить? Стал говорить резкости.
«Вот вы все нахваливаете да нахваливаете, — говорю. — Ну, скажите на милость, кого у них можно поставить рядом с Пушкиным, с Лермонтовым?»
Он и тут не смутился. Заладил свое: «Эфенди, эфенди», и понесся перечислять бог весть кого. Ладно бы еще ограничился такими именами, как Намык Кемаль, Абдулхак Хамид, Махмуд Экрем, Эмин-бей. А то ведь он любого, никому не ведомого бея, лишь бы тот беем был. тоже туда...
Тут я не вытерпел, прикинулся дурачком, стал над пим подтрунивать. Только он кончит говорить, я делаю вид, что не понял, и переспрашиваю, он и начинает сначала. Потеха!»
Резкость Тукая вполне объяснима. Пролежав четыре дня в «каменном мешке», лишенный возможности встретиться с нужными ему людьми, он вынужден беседовать с барчуком, которому все турецкое, пусть самое ничтожное, кажется куда значительнее своего, отечественного.
И это он говорит в лицо поэту, написавшему знаменитое стихотворение «Не уйдем!».
На пятый день но просьбе Сафы Баязитова явился Шариф Ахметзянов, передал Тукаю визитную карточку и приглашение редактора газеты «Hyp».
Визит состоялся на следующий день. Редакция находилась в одном помещении с медресе и приходской мечетью. Тут же была жилая комната и Баязитова. В редакции оказались К. Бакир, К. Сагит, позднее явился и Ш. Ахметзянов. Сели пить чай, разговорились. На другой день на извозчике его перевезли в меблированные комнаты по улице Казанской (ныне Плеханова, 5). Редактор «Нура», освободив от редакционных дел Бакира, поручил Тукая его попечению. Обедать должны были у Баязитовых.
Впоследствии Бакир опубликовал воспоминания о пребывании Тукая в Петербурге. На основании этих воспоминаний, а также благожелательных слов Тукая в адрес ахуна Сафы Баязитова может создаться впечатление, что Тукай отвернулся от одной «партии» и примкнул к другой. Во всяком случае, Бакир в своих воспоминаниях выпячивает отрицательное отношение Тукая к Бигиеву. Но в путевых очерках поэт, хоть и жалуется на свое пребывание у Битовых, ничего плохого о нем не говорит. Сопоставляя заметки Тукая с другими источниками, приходишь к выводу, что поэт отверг все старые «партии» и заинтересовался молодежной.
«Является Шакир-эфенди Мухаммедьяров, — пишет Тукай, — приходят учащаяся молодежь, учителя, Габделькарим Сагитов. И тут уже нет места скуке».
Читатель, наверное, заметил, что до сих пор не появился на сцене лидер молодежной «партии» М. Вахитов. Как бы нам ни хотелось, чтобы два выдающихся сына татарского народа встретились в Петербурге, никаких данных на этот счет, к сожалению, нет. По всей вероятности, во время приезда Тукая в Петербург Вахитова не было в столице. Но поэт, конечно, немало услышал об этом страстном юноше, готовившем себя к деятельности профессионального революционера. Без сомнения, К. Бакир, Ш. Мухаммедьяров и в особенности Ш. Ахметзянов, который находился под сильным влиянием Вахитова, рассказали о нем Тукаю.
В своих путевых заметках Тукай пишет: «И я в Петербурге был, мед-пиво пил, по усам текло, да в рот не попало. Сколько было возможностей, а в Думу не смог зайти. Приглашали в Финляндию, и туда не смог поехать. Не удалось сходить ни в театр, ни в музей и вообще осмотреть что-либо достопримечательное. Всему виной болезнь. Недаром говорят: «Дал аллах волку удачи, да прежде зубы выкрошил!»
Жаль, конечно. Но это вовсе не означает, что Тукай уехал из Петербурга ни с чем. Ведь у него «глаза многое видят, уши многое слышат». Молодые люди, которые думали о народе, готовились к служению ему и с надеждой смотрели в будущее, не могли не принести с собой в комнату Тукая отзвуков стачек, митингов и демонстраций, вспыхнувших в знак протеста против расстрела ленских рабочих, своих мнений по поводу споров и дебатов, разгоравшихся на заседаниях Государственной Думы.
Как-то Ш. Ахметзянов показал Тукаю большевистскую газету «Звезда» со статьей о X. Ямашеве. Прочитав статью, Тукай заметил:
— Настали времена! О нас заговорили даже русские газеты в столице!.. Давно пора!.. Я ценю и уважаю покойного, очень тоскую о нем.
Можно добавить, что еще одна статья о Ямашеве была опубликована в газете «Невская звезда», но уже после отъезда Тукая из Петербурга. Ее автором был тот же Ахметзянов.
Поездка в Петербург дала поэту главное — он поверил в те силы, которые изменят существующий строй. Еще недавно, в 1910 году, обращаясь к молодежи, Тукай говорил: «Не хватит, братцы, сил. Пожалуй, и терпенья тоже». Теперь в стихотворении «Татарская молодежь» поэт полон оптимизма.
Горд я нашей молодежью: как смела и как умна! Просвещением и знаньем словно светится она. ............................................................... По вершинам, по долинам зашумят потоки вод. Грянут битвы за свободу, сотрясая небосвод. Пусть народ наш твердо верит всей измученной душой: Заблестят кинжалы скоро, близок день борьбы святой. И с оправою пустою пусть не носит он кольца: Настоящие алмазы — наши верные сердца!Такое стихотворение могло быть написано лишь после того, как автор подышал воздухом Петербурга.
Уже не за горами отъезд. Друзья спешат показать Тукая врачу и, собрав нужную сумму, отправить его на юг. Зная, что Тукай не хочет и слышать о докторах, заготавливают заранее кучу доводов. Но все их доводы оказались ни к чему: не дослушав их, поэт охотно соглашается. Впрочем, это и неудивительно. Он понял: начинается новая эпоха в жизни родной страны, и в нем с новой силой пробуждается желание жить.
На другой день Ш. Мухаммедьяров привел известного в Петербурге университетского врача Александра Робертовича Поля, предварительно рассказав, к кому он его ведет. Поль очень внимательно и долго осматривал Тукая. По-детски наивные вопросы и разговоры, весь вид пациента настолько его растрогали, что он даже отказался от гонорара.
Но Поль допустил одну ошибку. Нет, диагноз он поставил точный: «Последняя стадия туберкулеза... Дышит лишь четвертью легких». Самому Тукаю, однако, он сказал: «У тебя просто слабость. Съездишь в хороший санаторий, подлечишься месяца два кряду, и все пройдет». Габдулле, который всегда старался не обращать внимания на свои болезни, только того и надо было. Махнув рукой на советы друзей поехать в Швейцарию или в Крым, он цепляется за свой прежний план: Уфа, Троицк, кумыс.
Человек сорок приказчиков и торговцев, не решаясь беспокоить поэта, задумали устроить в его честь прощальный вечер. Помимо самого Тукая, были приглашены Муса Битов, Лотфи Исхаков и несколько учителей. Из «молодых» присутствовали К. Бакир, Ш. Мухаммедьяров и К. Сагит. Они-то больше всего опасались, как бы не вышло по арабской пословице «Гораздо лучше знать о Мугайдп понаслышке, нежели видеть его самого». Действительно, не ахти как образованные приказчики, буфетчики, торговцы соберутся в надежде встретиться с человеком внушительной внешности, услышать мудрые изречения, которые должны так и сыпаться с его уст. А увидят худощавого, похожего на мальчишку поэта, который, не считаясь с условностями, молча просидит весь вечер с таким видом, будто он организован вовсе не в его честь. Разочарование обманутых устроителей, раскошелившихся на угощение, отразится на их лицах, вечер потеряет интерес. И долго еще потом будут пожимать плечами: «А говорили, мол, Тукан, Тукай...»
Но, к великому удивлению К. Бакира, получилось иначе. Оказалось, что эти полуграмотные люди знают Тукая куда лучше, чем могли подумать К. Бакир и его товарищи! У каждого из них есть дочь или сын. Л самые любимые книги, самые любимые стихи, которые дети читают в школе, принадлежат Тукаю. Один из присутствовавших на вечере рассказал, что когда его десятилетний сын услышал о приезде поэта, то сказал матери:
— Он был маленьким Апушем, таким же, как я, а потом стал большим, большим Тукаем.
Вечер закончился вручением поэту адреса, в который был вложен конверт с пятьюдесятью рублями.
В день отъезда к Тукаю пришла делегация из пяти учеников во главе с учителем. Девочки пожелали любимому поэту счастливого пути и вручили букет цветов, мальчики подарили бронзовый письменный прибор, на подставке которого восседала охотничья собака, а крышка чернильницы имела вид охотничьей сумки.
Подарок был не без значения. Выбиравшие его знали, что Тукай в хорошем настроении любил повторять строчку из поэмы «Сенной базар, или Новый Кисекбаш»: «Эх, хвосты кривые, разве вам догнать!»
Поэт был тронут этим Необычным визитом. После ухода детей пододвинул стол к кровати и долго забавлялся чернильницей.
2 мая поздно вечером Тукан вместе с К. Бакиром выехал на Николаевский вокзал. Там их ждало человек тридцать провожающих: С. Баязитов, Л. Исхаков, студенты, молодежь, учителя, приказчики. Каждый старался подойти к поэту поближе, сказать ему теплое слово, пожелать счастливого пути.
Поезд вот-вот отправится. Тукай и Кабир заходят в вагон. Бакир провожает поэта до Москвы. Вагон трогается. Провожающие машут руками, шляпами, фуражками. Поезд набирает скорость. На душе у Тукая светло, во грустно.
6
Уфа встретила Тукая принаряженной. В густой листве спрятались приземистые деревянные дома. Тепло. Воздух свежий, чистый. Много цветов.
«Хотя Уфа значительно менее благоустроена, чем Казань, но по красоте природы во многом превосходит другие города. Прежде всего она — на горе. Значит, и зимой, и летом воздух свеж. Расположена на берегу реки Белой, воспетой в наших песнях. Можно сказать, что в городе больше деревьев, чем зданий. Как это важно летом! Кажется, что даже само население Уфы чисто и свежо. В городе на каждом углу молочные магазины, охраняющие здоровье народа. Во всех магазинах много людей. Пивные встречаются редко».
Трудно сказать, что чувствовал поэт, оказавшись в своей прежней уфимской «резиденции», на книжном складе. Во второй приезд Тукай провел здесь больше недели, и, думается, что, равнодушный к комфорту, он чувствовал себя неплохо.
Больше недели! Но ведь главной целью его приезда было лечение, кумыс. Тукай писал К. Бакиру: «Кумыс продается только в одном месте. Публика тут.же все выпивает. Но все-таки мне удается достать одну-две бутылки».
Странно: в первый приезд у Тукая не было причин спешить, тем не менее, удрученный царящей в Уфе тишиной, он поспешил уехать через три-четыре дня. А теперь, когда его ждет казахская степь с кумысом, парным молоком, свежим мясом и чистым воздухом, он не торопится и Троицк. День за днем проводит на душном книжном складе. Все это действительно странно, но не будем забывать, что у Тукая, человека эмоционального, планы меняются с удивительной быстротой. Он понимает, что нужно незамедлительно отправиться в Троицк. Но сердце его противится отъезду — снова дорога, неизвестные люди. А в Уфе, как ни говори, у него уже есть друзья, н главное — тут Маджит Гафури. Вот он и живет, каждый день откладывая отъезд на завтра.
О том, как прошла эта педеля, мы знаем мало. Известно лишь, что большую часть времени поэт провел вместе с Гафури: ходили в сад, где торговали кумысом, распивали его, сидя на зеленой траве, вели неторопливые беседы. Иногда отправлялись в парк, раскинувшийся вдоль Белой, и с крутого откоса смотрели, как движутся по реке баржи, буксиры, плоты. Задумчиво глядели на широкую долину на противоположном берегу, на дома, казавшиеся отсюда спичечными коробками, и синевшие вдали леса.
Наконец, поэт на Уфимском вокзале. В памяти одного из современников, пришедших его проводить, он запечатлелся таким: в широкополой темной шляпе, в застегнутом на все пуговицы рыжеватом пальто с бархатным воротником, толстой тростью в руке и засунутыми в карманы экземплярами журналов «Сатирикон» и «Будильник». Стоя на платформе, он напевал по-казахски: «Ласточка ласточке дает корм, а родственник родственнику — совет».
Перед отходом выяснилось, что поезд, на который куплен билет, не останавливается на станции Полетаевка, где поэт должен был сделать пересадку. Тукай попал в Челябинск. Он не разрешил дать телеграмму, но друзья вопреки его наказу все же это сделали. В Челябинске поэта встретили, накормили и после короткого отдыха отправили на пролетке в Полетаевку.
«Путь наш был приятен. По сторонам — лес. День ясный. Без ветра. Солнечный, теплый. Два немецких вояжера на тройке, по договоренности с моим товарищем в Троицке, поджидали, оказывается, нас в лесу. ...Поиграв на гармони, пососав монпансье, мы поднялись на тарантасы. Тройка впереди, мы сзади. Пыль столбом. И хотя мы только на паре, но нисколько не отстаем от тройки, и этим поневоле привлекаем внимание попадавшихся навстречу мужиков. Ехали так весело, что даже не заметили, как добрались до Полетаевки».
Ночью поэт сел в поезд, утром прибыл в Троицк и остановился в доме муллы Габдрахмана Рахманкулова.
«Прожив в Троицке несколько дней, я уехал в степь, за двадцать пять километров от города. Там казахи, нанятые хазретом, пасли его скот и доили сотню его кобылиц. Рядом с двумя казахскими юртами в степи специально для меня поставили третий шатер. Так я, бедняга, убежав от городского смрада, заводского зловония и нездоровой духоты, измученный пересадками с коляски на пароход, с парохода на поезд, оказался, наконец, в блаженной тишине, и покой принял меня в свои объятья. Вот она — степь, вот она — казахская земля. Промолвив «бисмиллахи» (с именем аллаха. — И.Н.), я первым делом сбросил с себя одежду. Сухой степной воздух. Молоко. Сливки. Только что созревший молодой кумыс. Свежая убоина. Все просто, естественно, бесхитростно.
ЕЙ-БОГУ Ей-богу, ей-богу, ей-богу, Счастливец, ей-богу, в степи человек! Земля зелена, всюду птицы щебечут, — А воздух, ей-богу, хоть мажьте на хлеб! И белое облако, словно кочевник, Средь неба, ей-богу, легло на ночлег! А ветер чуть тронет, трава заиграет, Бурля, закипает, ей-богу, вся степь!Вот строки, которые я написал на бумаге в первый же день пребывания в степи».
Но такое настроение длилось недолго. Если, по его собственным словам, «страсть к борьбе» не позволила ему спокойно пожить в Училе, рядом с Казанью, то трудно себе представить, чтобы поэт мог долго блаженствовать в голой степи среди трех казахских юрт.
11 июля он пишет, что ему «скучно, тоскливо, что-то гнетет». И все же он проводит в юрте почти два с половиной месяца. Очень уж хочется жить, а для этого нужно вылечиться, набраться сил. Об этих месяцах жизни Тукая мы знаем немного. Известно, что его навещали, что он также несколько раз ездил в Троицк в гости.
Казалось бы, за два с половиной месяца можно написать много, тем более что из писем Тукая ясно: он ехал с намерением и поработать. Но работа не ладится. «Пока не приеду в Троицк и не обоснуюсь там, я, наверное, писать не смогу: состояние неважное, чувствую себя неустроенным. Тело неспокойно — неспокойна душа, а неспокойна душа — нет спокойствия в мыслях. Поэтому и не берусь. Даст аллах, напишу еще».
По приезде в степь Тукай закончил первую часть путевых заметок и отправил ее в Казань. Затем он приступил ко второй, довольно объемистой части. Пять глав, опубликованных в пятнадцатом номере журнала «Ялт-юлт», были присланы в редакцию по почте. Остальные четыре Тукай привез с собой: они увидели свет в сентябрьском номере. Опубликованный в августе фельетон «Ныне пора ягодная» тоже, вероятно, написан в степи.
В письме к А. Урманчиеву Тукай просил: «Пришлите, пожалуйста, мою тетрадь в черном переплете, которую я оставил в корзине. В ней есть стихи, которых почти достаточно для сборника «Пища духовная».
По всей вероятности, Тукай хотел еще раз пересмотреть написанное, кое-что исправить, добавить новые стихи и подготовить к печати отдельной книгой. Очевидно, черная тетрадь попала в его руки, и он успел сделать то, что хотел. И все же написано за эти два с половиной месяца сравнительно мало.
В конце июля, почувствовав, что здоровье его немного окрепло, Тукай отправляется в обратный путь.
Глава седьмая Последние страницы
1
Хотя жить Тукаю осталось всего лишь год, он смотрит в будущее с надеждой. В стихотворении «Сознание» поэт, вспоминая 1905 год, утверждает, что те, кого пробудил гром революции, несмотря на ошибки, сражались не зря:
Друзья, как бы ни было там — навеки развеялась тьма. За дело! Нам ясность нужна: глаз ясность п ясность ума.В морозном январе 1913 года он пишет прекрасное стихотворение «Гению». Обращаясь к поэту, Тукай говорит:
Ты блеск увидел позади, но это золото — не свет, А золото — оно мертво, ведь в нем тепла живого нет. Оно — обман, оно всегда соблазном сокращает путь, — А вдруг продашься ты, а вдруг назад решишься повернуть! Нет, гений, не смотри назад, твой идеал тебя зовет. А он достанется тому, кто твердо движется вперед.Не могли не измениться и его взгляды на сущность поэзии, ее роль в жизни общества. А это, в свою очередь, сказывается на тематике и на форме его стихов. До последних лет у него было немного стихотворений, темой и сюжетом которых была бы жизнь крестьянина. Теперь же, в одном 1912 году он написал: «Сельское медресе», «Больной в деревне», «Картофель и просвещение», «Буран», «Неожиданно», «Казань и Заказанье», «Чего же не хватает сельскому люду?»
Начиная с 1911 года социальные противоречия в России, прежде лишь называвшиеся, обозначавшиеся, занимают центральное место в творчестве поэта. Взять хотя бы стихотворение «Дача», которое Тукай опубликовал с припиской «В память о путешествии по Волге». У нас нет сведений о том, как оно написано. Тем не менее это можно легко себе представить.
Поэт не раз выходил, чтобы полюбоваться берегами, на верхнюю палубу, где «узенькие» дамочки, развалившись в плетеных креслах, кокетливо обмахивались веерами и любезничали с кавалерами. Один из них привлек его внимание.
«Расфрантился как! Знать, немало шкур снял с людей». Медленно и надменно прохаживался господин по палубе, не обращая ни на кого внимания, прямой, словно аршин проглотил.
На одной из пристаней господин в сопровождении носильщиков, сохраняя все ту же спесивую, горделивую осанку, сходит на берег и садится в фаэтон.
И воображение поэта рисует картину прибытия господина на дачу в голодную, обездоленную деревню, где его особняк стоит напротив развалившихся почерневших изб, как райская обитель против адских котлов.
В стихотворении «Слова Толстого», написанном за пять дней до смерти, Тукай говорит:
Знаешь ты, отчего и еда у богатых вкусней? Соль и перец, что в ней, — слезы бедных, несчастных людей.Поэт опасался, что цензор может вымарать эти строки. В одном из писем к Сунчаляю он сообщил: «Наиболее острые вещи, которые не могут быть напечатаны здесь, я думаю посылать туда» (то есть в Париж. — И. Н.).
Тукай давно был не в ладах с цензурой. Он знал, что многие его строки не будут пропущены в печать. К ним, по всей вероятности, принадлежат стихи, найденные среди рукописей и опубликованные лишь после Октябрьской революции. И в частности, такие, где горечь Тукая и его гнев обращены против народного долготерпения, освященного религией.
Вот стихотворение «Чего же не хватает сельскому люду?»:
Хоть и казенные леса — деревьев в них не счесть, Хоть и казенное винцо — для всех в лабазах есть! Да, как аллаха ни хвали, он выше всех похвал: Нам благодать он даровал и подать даровал.В стихотворении «Гнет» поэт развивает эту же мысль:
Никогда, нуждой подавлен, ты свободно не вздохнешь, Будешь вечно сокрушаться, но не станет свет хорош. Только гнет тебя заставил в бога веровать, бедняк, Но не веришь ты, что завтра с голодухи не умрешь.Социальные мотивы иногда возникают в стихах Тукая, казалось бы, чисто лирических, пейзажных. Так, описание бурана, застигшего путника в дороге, неожиданно заканчивается следующими строками:
Я ворчу, луна смеется надо мною свысока, — Так богач с балкона смотрит на страданья бедняка.Но чисто пейзажные, лирические стихотворения, написанные Тукаем после 1911 года, можно сосчитать на пальцах одной руки. Перелом в поэзии Тукая был продиктован всей логикой его духовного развития. Саз Тукая, подобно лире Некрасова и Никитина, выражает отныне жалобы и чаяния народных низов. По-видимому, сам Тукай сознавал начавшийся перелом. Не случайно в 1911 году в письме к Сунчаляю он защищает Никитина. Говорит о его незаурядном таланте, развитие которого сдерживалось, по его мысли, отсутствием систематического образования.
Открытая гражданственность поэзии Тукая вызывала недоумение, а порой и возмущение его прежних почитателей. На том основании, что Тукай писал о «некрасивых», «непоэтических» вещах, кое-кто заговорил, что стихи Тукая вообще вряд ли являются поэзией. Как это ни кажется теперь странным, первым публично высказался в этом смысле Галимджан Ибрагимов.
2
Среднего роста, сухощавый, в 1907 году Галимджан Ибрагимов чем-то напоминал молодого Горького. Поверх тужурки — черная накидка, начищенные до блеска высокие сапоги, в руках толстая трость. Длинные темные волосы ниспадают до плеч.
Будущий писатель приехал в Казань с мыслью поступить в университет. Но для этого сначала надо было сдать экзамены на аттестат зрелости. С присущей ему энергией он берется за учебу. Увлекается Белинским, охотно читает Писарева и зарабатывает на жизнь репетиторством.
В «Эль-ислахе» Ибрагимов опубликовал свой первый рассказ «Изгнание шакирда Заки из медресе». Продолжая писать рассказы, он все больше внимания уделяет литературной критике, причем большинство его критических статей посвящено поэзии.
Оживление татарской литературы после революции 1905 года имело, как мы уже говорили, и свою оборотную сторону: в литературу хлынуло много малоталантливых людей. Деклараций и поучений публиковалось больше чем достаточно, а вот художественных произведений создавалось немного. Критически оценивая татарскую поэзию тех лет, Ибрагимов пытается выработать высокие критерии художественности, чем немало способствует дальнейшему развитию национальной литературы. Но в пылу отрицания он порой выплескивает вместе с водой и ребенка. Взяв за образец Белинского, двадцатитрехлетний Ибрагимов зачастую воспринимает его слишком односторонне и тут же прилагает мысли, высказанные за семьдесят лет до того, к современной литературе. Белинский писал: «Поэт или пересоздает жизнь по собственному идеалу, зависящему от образа его воззрения на вещи, от его отношений к миру, к веку и народу, в котором он живет, или воспроизводит ее во всей ее наготе и истине, оставаясь верен всем подробностям, краскам и оттенкам ее действительности. Поэтому поэзию можно разделить на два, так сказать, отдела — на идеальную и реальную»9. То, что великий критик именует идеальной поэзией, не сводится к романтизму, но он занимает в этом понятии первое место.
Упрощенно трактуя уроки русского критика, молодой Ибрагимов делит на две части и татарскую литературу, причем лирика у него целиком подпадает под понятие поэзии идеальной, а эпические произведения он относит к реальной поэзии. Мало того, говоря о поэзии в собственном смысле, то есть о стихах, молодой критик имеет в виду только лирику, построенную на принципах романтизма.
Если с точки зрения этих критериев Ибрагимов вначале, хоть и с оговорками, зачислял Габдуллу Тукая наряду с романтиками Дердмэндом и С. Рамиевым в истинные поэты, то впоследствии чуть ли не на каждую книгу Тукая он откликался рецензией, где преобладали отрицательные оценки. И чем сильней укреплялся Тукай на гражданственных, реалистических позициях, тем резче становилась эта оценка. В 1911 году в своей обзорной статье критик сравнил Тукая с «потухшей свечой». А в книге «Татарские поэты», которая вышла через месяц после смерти Тукая, он прямо поставил вопрос: «Поэт ли Тукай или нет?» И хотя не решился с той же прямотой на него ответить, достаточно ясно дал понять, что таковым Тукая не считает.
Выход книги «Татарские поэты» произвел ошеломляющее впечатление. Хотя ей было посвящено и несколько серьезных рецензий, а автор одной из них, Дж. Валиди, соблюдая объективность, доказывал, что Тукай — поэт истинный, но иной, своеобразный, — большинство газет и сатирических журналов обрушилось на Ибрагимова с поношениями: «Он мстит мертвому!», «Набрался храбрости после смерти поэта», «Растоптал могилу покойного!», «Эта книга черным пятном ляжет на биографию Г. Ибрагимова».
В течение двух лет Ибрагимов молча внимал этим нападкам и наконец в ответной статье «Последний привет» попытался объясниться.
Из этой статьи вытекает, что до 1910 года отношения Тукая и Ибрагимова были вполне уважительными, даже дружескими, а затем прервались, чтобы обернуться враждой. Единственное объяснение этому Ибрагимов находит в нетерпимости Тукая к критике, которой он подверг его стихи и в особенности поэму «Мяубике». А свое критическое отношение к поэзии Тукая объясняет боязнью, что сплошные восхваления, которыми встречала его стихи печать, могли помешать творческому росту поэта. Предположим, что так это и было, но как тогда понять его слова, сказанные через десять лет, в 1922 году, после Октябрьской революции и гражданской войны, в которых Ибрагимов принимал самое активное участие. Литератору, который покритиковал его книгу «Татарские поэты», он заявил тогда: «Каким было мое мнение десять-двенадцать лет назад об этих трех писателях, таким оно и осталось сегодня». То есть истинными поэтами он признавал по-прежнему Дердмэнда и Рамиева, но не Тукая.
Конечно, самолюбие Тукая, категоричность Ибрагимова подливали масло в огонь. Но причины их расхождения не личные, а принципиальные, проистекавшие из различного понимания сущности и назначения поэзии.
В книге «Татарские поэты» Ибрагимов писал: «Стих порожден не языком или разумом и памятью, а духом человека, сердцем его, фантазией и чувствами». «Поэт — если он в подлинном смысле поэт, — несомненно, раб чувств. Ему как поэту мало дела до холодного рассудка и сухой логики». «Поэзия и поэт — оба должны пользоваться неограниченной свободой». «Поэт — если он поэт в настоящем смысле этого слова — не может довольствоваться царящей на этой земле мелкой, простой жизнью».
Лишь два предмета он находит достойными внимания поэзии: любовь и природа. Потому-то, утверждает критик, «каждый поэт, преклоняясь перед красотой, воспевает красоту природы», каждый поэт имеет свою Зулейху и поклоняется ей, черпает в ней вдохновение для своих стихов.
Ибрагимов берет «шаблон» романтизма и прикладывает его к творчеству трех поэтов. С. Рамиев — «ортодоксальный» представитель романтизма в татарской поэзии, в его стихотворениях можно найти все те качества, которые хочет видеть наш критик. Следовательно, перед нами настоящий поэт. Подходит!
Тот же «шаблон» кладется на творчество Дердмэнда. Ему тоже присуще большинство упомянутых качеств. Вдобавок стихи у него тонкие, изящные, изысканные. Снова подходит!
Очередь за Тукаем. И так пробует наш критик и эдак. Нет, не влезает, не накладывается, и там выпирает, и тут. Вместо пламенных чувств и переживаний у Тукая — мораль и увещевания (Ибрагимов приводит примеры в основном из начального периода творчества Тукая). В них не найдешь красивых описаний природы. А начнет говорить о любви, встречаются отдельные удачные строки, но самой любви-то и нет. Вроде начинает серьезно, а потом все сводит к шутке.
Это бы еще полбеды. Тукаю, по мнению критика, присущи куда большие недостатки. Истинный поэт должен, по Белинскому, открывать читателю новый мир чувств и мыслей, пересоздавать жизнь по своему идеалу. А Тукай? «Что думает народ в данный период, что он чувствует, о чем пописывает, то же самое думает и чувствует Тукай. Свои впечатления, свои мысли и чувства народ может найти у Тукаева. А это с точки зрения поэтических способностей и сил не столь уж похвально». Можно ли найти лучшую цитату, чтобы обвинить Ибрагимова в приверженности к «чистому искусству»?!
Справедливости ради надо, однако, сказать: Ибрагимов в своем творчестве отнюдь пе был сторонником «искусства для искусства». Употребив слово «народ», он явно имел в виду не трудящихся, а «пишущую братию» («...о чем пописывает»), мнение которой якобы довлело над Тукаем. Все дело в том, что Ибрагимов, как было сказано, подходил к поэзии с меркой романтизма.
Тукай, сумевший разглядеть поэзию в валенках, онучах и лаптях, воспевавший картофель, действительно был реалистом, хотя стал им не сразу. В последний период его реализм впитал в себя и некоторые положительные качества романтизма, поднялся на новую, более высокую ступень. Нельзя не согласиться со следующими словами из рецензии Дж. Валиди на книгу «Татарские поэты»: «Тукаев творил свои стихи не для Аполлона и его поклонников на земле. Он творил вместе с народом, для народа и из сердца народного... Поэтому он никогда не сможет стать идолом для нескольких десятков приверженцев искусства для искусства. Он будет светить народным массам, насчитывающим тысячи, сотни тысяч людей».
Как отвечал Ибрагимову Тукай?
Не претендуя на роль теоретика, он в отличие от Ибрагимова не аргументировал, не обосновывал свою позицию доводами логики, а старался в фельетонах довести доводы критика и его манеру выражаться до абсурда, чтобы выявить их несостоятельность и представить противника в смешном виде.
Так, в очерке «Возвращение в Казань» он замечает: «Довольно, кончаю писать стихи. Ибо давно уже один «критик», вероятно, в поисках жира для своих волос, сравнил меня с угаснувшей свечой. Кончилось, видимо, бросовое масло в конторе покойного Махмут-бая!»
В сатирическом стихотворении «Критик», напечатанном в журнале «Ялт-юлт» рядом с карикатурой, изображавшей руку Габди (псевдоним Г. Ибрагимова. — И.Н.), которая держит лошадь за хвост, поэт говорит, что критики ему не дают покоя. Особенно один из них.
— Где вода? — ветряк увидев, он вопит на целый свет. А на мельничной плотине негодует: — Пара нет! Конский хвост берет и судит: — Эти волосы длинны И по всем законам формы на башке расти должны! Пахарь пашет. — Землю портит! — начинает он кричать. — Как такое безобразье не заметила печать? — Как распух! — он причитает, у овцы узрев курдюк. — Русскому врачу татарин — злейший враг! — твердит мой друг.Народность для поэзии Тукая то же самое, что вода для водяной, а ветер для ветряной мельницы. И ставить ее в упрек поэту — занятие столь же бессмысленное, как обвинять «пахаря в порче земли».
История рассудила спор Г. Ибрагимова с Тукаем в пользу поэта.
3
В двадцатых числах июля 1912 года Тукай наконец приезжает в Казань, поселяется в гостинице «Свет» и тут же приступает к своим обязанностям в журнале «Ялт-юлт». Но напечатал он в последующие три-четыре месяца немного. В августе один фельетон, в сентябре тоже, в октябре — одно сатирическое стихотворение и один фельетон, а в ноябре вообще ничего.
Обязанности секретаря журнала, старые друзья-приятели не оставляли ему ни минуты. Приходят, да не по одному, разговаривают, пьют чай. Гостеприимный хозяин поначалу даже доволен: соскучился по шуму, по друзьям. Но в октябре снова обостряется болезнь.
И все же Тукай работал. Если мешали днем, он работал ночью. В эти же месяцы он сдавал в печать сборник «Пища духовная».
Раскрываем книгу. На титульном листе значится: «Габдулла Тукаев. Пища духовная. Последний поэтический сборник. Издательство «Магариф». Казань». Этот сборник действительно стал последней книгой Тукая, вышедшей при его жизни. Неужто, зная, что ему грозит скорая смерть, издатели поставили на титуле эти слова? Вряд ли. Скорее всего они должны были означать, что в сборнике собраны самые последние стихи поэта. Как бы там ни было, слова эти оказались пророческими.
В книге сорок три стихотворения и поэма. Лишь девять стихотворений предварительно публиковались в периодике.
Семь, как мы знаем, были написаны в конце 1911 года в Казани, пятнадцать — в Училе. Остаются одиннадцать стихотворений и поэма «Три истины» по мотивам А. Н. Майкова. «Татарская молодежь», а может быть, и еще несколько стихотворений легли на бумагу в Петербурге. Да и в Уфе, и в степи, надо полагать, его муза не молчала. Значит, в Казани до ноября, когда вышла книга, родилась поэма и несколько стихотворений.
Я снова беру в руки разграфленный по месяцам лист бумаги. Ноябрьская графа, как уже сказано, совсем чистая, В декабре — три стихотворения и один фельетон. Январь 1913 года — три стихотворения и один фельетон. То же самое в феврале. А в марте, в том самом марте, когда поэт умирал в больнице, — пять стихотворений, большая статья и три фельетона!
Выходит, в конце 1912 — начале 1913 года что-то придало поэту новые силы, побуждая его работать. То было прежде всего появление в Казани литературно-художественного и общественно-политического журнала «Анг» («Сознание»), который решила издавать группа демократически настроенной молодежи. Обязанности издателя и редактора были возложены на одного из руководителей книжного общества «Гасыр» («Век») Ахметгарея Хасани. В организации журнала, в определении его идейно-политического и литературно-эстетического направления Тукай принял самое близкое участие. Мало того, он предложил название журнала и убедил А. Хасани его возглавить.
Первый номер вышел 17 декабря 1912 года. На первой странице — стихотворение Тукая «Анг».
Одновременно с «Ангом» начала выходить новая газета «Кояш» («Солнце»). И в ней тон задавала демократическая интеллигенция. Об этом говорит хотя бы то обстоятельство, что ответственным секретарем стал Амирхан. В одном из своих фельетонов Тукай писал: «В 1912 году над темной Казанью взошло «Кояш» («Солнце») и потушило бледную «Юлдуз» («Звезда»)». Выход новой газеты также был для Тукая радостным событием, к тому же он был зачислен в штат ее сотрудников с окладом в сорок рублей в месяц.
Редакция новой газеты сняла помещение в гостиннце «Амур». Поскольку Фатыху Амирхану руководить газетой, живя в Новотатарской слободе, было трудно, он решил поселиться в той же гостинице. Они сняли два номера рядом: Тукай — номер девятый, а Фатых — одиннадцатый. Этот факт — еще одно подтверждение их искренней дружбы. Правда, после закрытия «Эль-ислаха» они встречались мало. Тукай редко бывал в доме Амирхановых, ибо там всегда было много женщин, а их общество смущало поэта. Прикованному к коляске Фатыху нелегко было навещать Тукая в его номере. Но они всегда душой тянулись друг к другу. Не случайно спустя два-три дня после возвращения Тукая из Троицка они снова сфотографировались вдвоем. Теперь они могли, если нужно, видеться каждый день. Можно себе представить, как обрадовался этому Тукай.
Это обстоятельство также способствовало тому, что в конце 1912 — в начале 1913 года ему работалось особенно хорошо.
Итак, наступил 1913 год. Здоровье Тукая ухудшается день ото дня. Но работает он много. Первое стихотворение, написанное им в новом году, носит название «Мороз». Собственно говоря, это небольшая поэма из пяти частей. На первый взгляд кажется, что поэт пишет просто о январском морозе, о том, как ведут себя на морозе казанцы разного звания. Но картины, нарисованные поэтом, складываются в панораму социальной жизни, от которой веет леденящей душу стужей.
Вот приказчики в нетопленных лавках от холода «пляшут» и бьют в ладоши». Пропойцы толпятся у казенки, «по дну бутылки ударяют крепко», приговаривая: «Нас изнутри в бешмет укутай теплый». Шакирд медресе, ученик из русской школы, позабыв вчерашнюю вражду, бегут рядышком, «от стужи оба уши берегут».
Богач в тулупчик лисий обряжен. Себя красой базара, числит он. Вид наготы и чекменей в заплатах Ему и непонятен и смешон.Во второй части поэт уводит нас из Казани. Обращаясь к волку, который может встретиться в пути во время бурана, он пишет:
Зачем ты обижаешь мужиков? Зачем ты грабишь наших бедняков? Или мужик с конем своим родился, Чтобы стать добычей для твоих клыков?В третьей части мы снова возвращаемся в Казань. Байские дети с веселым гамом катаются на коньках по озеру Кабан, знать гоняет по озеру на тройках: «Богатого, мороз, ты не куснешь!»
В четвертой части поэт с улыбкой рассказывает, как он согревается сам. Опасаясь на улице от холода, он решает с кем-нибудь подраться. И, встретив прохожего, — «хлоп его по выхоленной шее».
Достойного избрал себе врага, И задал он в ответ мне тумака. Подумав: «Он меня сверх меры взгреет», — Тихонько отступает ваш слуга.В последней части Тукай рассказывает, как пьют во время рождественских праздников.
Впечатление такое, будто написано это остроумным здоровым человеком. В это же время Тукай пишет стихотворение «Положение больного».
Я бешмет души болящей, тело бренное лекарством Залатать стремлюсь, но утром вновь тряпье худое вижу. Было время; утешала песня, в тишине родившись, А теперь на полдороге кашляю, за грудь схватившись! И в таком положении поэт откликается на все события в стране.В одном из писем к С. Рамиеву Тукай говорил: «Я ведь не только чистый поэт, как ты. Я еще и дипломат, и политик, и общественный деятель».
В связи с трехсотлетием династии Романовых он публикует фельетон в журнале «Ялт-юлт» и знаменитое стихотворение «Надежды народа в связи с великим юбилеем». «Царь осенил крылами нас белее снега и белее молока, — пишет поэт. — И крыльям этим имя — Манифест. Под этими крыльями собирается народ в дни трехсотлетия династии Романовых».
Как же так? Ведь мы говорили, что Тукай в 1906— 1907 годах избавился от конституционных иллюзий? А тут, подобно «блудному сыну», снова склоняется перед царем?
Когда вульгарно-социологическая критика, объявившая Тукая националистом, воспевающим ислам, призывала исключить его произведения из школьных программ, это стихотворение служило ей козырным тузом. Позднее, когда вульгарному социологизму был нанесен удар, положение литературоведов старого толка осложнилось. И так вертели они это стихотворение и эдак, силясь на сей раз приладить его к прямолинейно понимаемой концепции тукаевского демократизма. Не выходило! В конце концов, махнув рукой, решили, что стихотворение написано лишь ради следующих двух строф:
На русской земле проложили мы след. Мы — чистое зеркало прожитых лет. С народом России мы песни певали, Есть общее в нашем быту и морали, Один за другим проходили года, — Шутили, трудились мы вместе всегда. Вовеки нельзя нашу дружбу разбить, Нанизаны мы на единую нить. Как тигры, воюем, нам бремя не бремя, Как кони, работаем в мирное время. Мы — верные дети единой страны, Ужели бесправными быть мы должны?Что касается строк, посвященных династии Романовых, то они, дескать, пронизаны иронией, это не хвала, а, наоборот, сатира.
Стихотворение Тукая действительно написано ради мысли, которая высказана в приведенных выше строфах. Эта идея вытекает из всего мировоззрения поэта. Тукай всегда относился с уважением к русскому народу, к передовой русской культуре. Будучи интернационалистом, выступал за дружбу народов. Но сколько бы мы ни читали такие слова, как «царь, тебя с сегодняшним великим праздником поздравляют сотни миллионов твоих людей», вычитать в них иронию не удается.
Чтобы понять, как было дело, надо заново перечитать тукаевский фельетон, посвященный тому же событию.
В связи с юбилеем среди татарских либералов поднимается шум. Они надеются вырвать у царя какую-нибудь уступку для татар. Представители старшего поколения предлагают просить у царя разрешения на строительство приюта для сирот, а «молодые» — позволения на организацию женской гимназии. Тукай в своем фельетоне встает на сторону молодых и насмехается над «приютистами». Но в номере «Ялт-юлт» от 15 марта Тукай печатает «Два примечания» к своему фельетону, в которых, по существу, от него отказывается. «Поскольку после написания фельетона проекты и облик учреждений (приюта и гимназии. — И. Н.) приняли другую окраску, я теперь чувствую, что высказанные мною скромные мысли больше не соответствуют действительности. Два месяца назад казалось, будто весь народ возгласил «На молитву!». Я тоже вскочил, но, не разобравшись, утренняя нужна молитва или вечерняя, что-то наспех пробормотал».
Ясно, что Тукай отнюдь не хотел этим сказать, что ошибся, защищая «гимназистов», а должен был поддержать «приготистов». Его мысль ясна: приют ли, гимназия ли, безразлично: выпрошенные у царя подачки не стоят того, чтобы подымать благодарственную шумиху.
«Примечание», таким образом, проливает свет и на стихотворение «Великий юбилей». Очевидно, когда началась юбилейная шумиха, поэт, всю свою жизнь мечтавший увидеть свой народ свободным и счастливым, изуверившийся дожить до такого дня, загорелся надеждой: «А вдруг юбилей принесет народу, прошедшему через столько страданий, хоть какое-то облегчение?» Человек импульсивный, он, не удосужившись всесторонне обдумать, насколько реальны эти надежды, излил их на бумаге. Примечание к фельетону ясно говорит о том, что он пожалел о своей ошибке. Упомянуть же в примечании стихотворение не представлялось возможным, ибо это было бы равносильно заявлению о том, что он похвалил царя по ошибке. Поэт, однако, не оставлял надежды, что тот, кто прочтет его примечание, поймет и его сожаление по поводу публикации печально знаменитого стихотворения, вернее, тех строф, которые касаются царя.
К концу февраля здоровье Тукая катастрофически ухудшилась. Через стену Фатых Амирхан слышит, как поэт надрывно кашляет днем и ночью.
«Не только нам, но и ему самому было ясно, — вспоминал Ф. Амирхан, — что каждый кашель уносит кусочек его жизни. Но он не любил говорить об этом. В последние дни он предпочитал одиночество. Когда он сидел один, глубоко задумавшись, то, казалось, приходил к мыслям, внушавшим ему душевный покой. После подобных минут он говорил о жизни светло и бодро. Однажды он, как бывало, зашел ко мне, сел по своему обыкновению, съежившись, в уголке и задумался. Я знал, что в такие минуты он не любил говорить, и не мешал ему, продолжая заниматься своим делом. Прошло с полчаса. Он оторвался от своих дум и сам начал разговор:
— Явились ко мне какие-то тупые рыбы. Вот я и убежал от них. Нужно многое обдумать, а они мешают. Единственное хорошо в моей болезни — можно поразмыслить о вещах, о которых не удосужился подумать, будучи здоровым. Вот говорят: смерть!.. Да если подумать, не такая уж это страшная штука».
Видно, что поэт последние месяцы неотступно думает об одном и том же, пытаясь решить для себя то, что рано или поздно приходится решать каждому человеку. Он думает о смерти. Она рядом, стучится в дверь. Как встретить ее гордо и спокойно?
В связи с этим нельзя не остановиться на отношении Тукая к религии.
Известно, что поэт часто упоминал имя бога, хотя беспощадно клеймил духовное сословие, мало того, отводил религии большое место в воспитании молодого поколения, но заключить на этом основании, что он был просто верующим человеком, значит ничего не решить. Как не правы те, кто утверждал, будто поэт верил в потусторонний мир, в существование ада и рая, так далеки от истины и те, кто изображает его воинствующим атеистом.
В стихотворении «Завещание», написанном в 1909 году, Тукай прямо заявил: «Пусть удивятся те, кто записал меня в еретики! Глядите: я ношу в груди и веру и Коран».
А в 1912 году он пишет в письме: «Перевод Корана, сделанный Мусой, не следовало бы защищать. Надо было рассмотреть его более трезво и беспристрастно, ибо он недостаточно владеет языком. Это во-первых. А во-вторых, перевод не может служить ни одной из следующих целей, а именно: прочитав и уяснив примитивность Корана, народ должен от него отвернуться, или, уяснив его положительные стороны, встать на путь добра и истины» (курсив мой. — И.Н.).
Отсюда видно, насколько сложным и противоречивым было отношение Тукая к исламу.
С детства внушали ему веру в бога, в рай, ад и прочее. Но со временем, изучив основной источник веры — Коран, он увидел в нем противоречия, отметил места, где концы не сходятся с концами. Знакомство с наукой, веяния времени привели к тому, что он начал сомневаться в религиозных канонах. И а то же время ему хотелось верить в существование некой силы, управляющей природой и обществом, а больше всего в бессмертие души. В конце жизни Тукай вновь увлекается личностью и философией Льва Толстого и посвящает ему два стихотворения.
В сознании поэта борются две силы — идеализм и материализм. Что такое жизнь? Смерть? Исчезновение навеки? Тогда это чудовищно. Или же при этом уничтожается только тело, а дух продолжает жить? Тогда смерть не страшна! В 1910 году поэт сказал: «Наше тело для души лишь одежда, которая быстро изнашивается! Живет она или гниет — неважно, суть не в ней!»
В январе 1913 года борьба в сознании Тукая, видимо, продолжалась. В стихотворении «Положение больного» он пишет: «Смерть! В тебе то скорбь, то радость страждущей душою вижу».
Как разрешилась эта борьба и разрешилась ли вообще, мы не знаем. Но его мысли текли и в другом направлении: верно ли прошел он свой жизненный путь? Исполнил ли он клятву, данную народу? Принес ли ему какую-нибудь пользу своим творчеством? Это было для него тем более важно. Он жил для народа. Если написанное им разбудило хоть малую толику добрых чувств, его стихи будут передаваться из поколения в поколение. Народ будет жить, вместе с народом будут жить и его мысли, и чувства, радости, горести и надежды.
«Ночью он зашел ко мне проститься, — пишет Ф. Амирхан. — Лицо у него было по-детски просветленное.
— Завтра утром я ложусь в Клячкинскую. Ты еще будешь спать. Может, больше не увидимся. Тогда прощай!
От докторов я знал, что ему осталось жить месяц, самое большое — полтора. Я понимал: это «прощай» было последним. Но сказал ему:
— Поправляйся, до скорой встречи! Выходя из комнаты, он обернулся.
— Нет уж, пусть встреча состоится нескоро — ты живи долго!»
Тукай знал, что не выйдет из больницы. Но лицо его было светлое. Глядя смерти в глаза, он уходил со спокойной душой. Значит, решил для себя главное.
Месяц с небольшим, который Тукай провел в Клячкинской больнице, — поразительная страница его жизни.
Первым делом он пишет упомянутые «Два примечания» и посылает их в «Ялт-юлт». В них есть такие строки: «Подчиняясь настоятельному совету уважаемых докторов, 26 февраля я лег в Клячкинекую лечебницу в Казани. Поэтому я передал другим обязанности секретаря журнала «Ялт-юлт», в организации которого участвовал и в котором с любовью работал с самого начала до последнего времени. Отныне я не считаю себя ответственным за материалы, которые будут напечатаны в журнале».
В архиве хранится несколько записок поэта из больницы. Давайте почитаем их одна за другой, чтобы представить себе, чем жил Тукай в этот последний свой месяц.
«Фатых!
Моей статье вы оказали честь, напечатав так, как печатают только редкостные вещи. Спасибо. Видимо, напишу еще.
Если сохранились в памяти, напиши и пришли мне строки, взятые Шигапом-хазретом из какого-то арабского баита и написанные на минарете в Булгарах. Не медли!
«Кояш» приходит нерегулярно. Запаздывает. Как-то пришло три семьдесят вторых номера. А сегодняшний номер — в двух экземплярах, семьдесят третьего и вовсе не видел. Умоляю вас прислать этот номер сейчас! Привет Закарие-абзыю (издатель и редактор газеты З. Садрутдинов. — И. И.).
Ваш покорный слуга Тукай. 1913, 18 марта».
«Уважаемый Гарей-эфенди!
Стихотворение «Писателю» отдал в журнал «Мэктэп», поскольку не вижу в нем ни красоты, ни изящества, достойного журнала «Анг». Да и там не разрешил поместить его на первой странице. Пойдет в конце и незаметно. В седьмом номере стихов моих помещено мало, для постороннего глаза это заметно. Есть у меня еще одна вещь. Но, наверное, уже поздно. К восьмому, бог даст, не оплошаю, что-нибудь напишу. Все-таки было бы хорошо, если бы ты забрал дополнительный материал для седьмого. Каждый день ожидал тебя. Всего доброго.
Г. Тукай.
1913, 20 марта».
«Уважаемая Зайнап-ханум!
В восьмой номер послал все, что было. Первую корректуру нужно бы мне посмотреть. Кроме того, хорошо бы все эти стихотворения поместить в одном номере. Было бы весомей. Хотя чувствую, цензор вычеркнет одну-две строфы из «Слова Толстого». Тогда тем более обязательно напечатать все.
Г. Тукай.
1913, 28 марта».
Не знаю, как читателю, но мне человек, написавший эти строки, кажется не умирающим от туберкулеза, а лежащим в больнице ну, скажем, из-за перелома ноги. Он следил не только за тел, что печаталось в Казани, но читал газеты и журналы, выходившие в других городах, — «Идель», «Вакыт», «Акмелла», периодику на русском языке, интересовался булгарским царством, его литературой, писал стихотворение за стихотворением, чтобы видеть новый цикл в каждом номере журнала. Свои лучшие стихи посылал в «Анг», те, что казались ему похуже, печатал на последних страницах в каком-нибудь другом журнале, «чтоб не пришлось краснеть».
Обратите внимание на дату последней записки: 28 марта. Через четыре дня поэт уйдет из жизни. Какие же статьи послал он Фатыху Амирхану, за судьбу каких стихов беспокоится?
Статья, упомянутая в записке к Амирхану — «Первое дело после пробуждения», написана в больнице и опубликована в газете «Кояш» 14 марта. Последние семь лет своей жизни Тукай уподобляет в ней полусну. Правда, временами он просыпался и тогда чувствовал неудобство, словно в сапог попала вишневая косточка. Но потом снова засыпал и жил как во сне. Но «если можно говорить прямо, зачем прибегать к иносказанию? Меня стесняли и мучили в моменты пробуждения мои стихи, разбросанные по разным сборникам, которых не принимала моя душа, моя совесть, вся моя жизнь, но которые до сего дня так нахально ходили в народе. 1913 год. Я проснулся, чтобы больше никогда не заснуть. И что ж я вижу? Сижу я, глупец, на осле. Своим явленьем на свет обязан скорее всего недоразумению. Моя правда — ложь, мое дыхание — дым, все «чистое» во мне — лишь топливо для преисподней».
Что все это значит? Быть может, поэт, чересчур требовательный не только к другим, но и к себе, просто хватил через край? Или же вообще отрекается от своей поэзии, дошедшей до низов, отозвавшейся в народной душе? Настораживают и следующие слова в статье: «Эй, тюркское дитя, живущее на земле, ученый ли ты, философ ли ты, государь ли ты, нищий ли ты, теперь уж я не страшусь впустить тебя в свой дом».
Еще раз вчитываемся в статью. Пробудившийся поэт принимается мести свою «поэтическую комнату», просматривает все написанное им и бракует то, что не соответствует его теперешнему миропониманию. Что ж это за стихи? «Слабосильные от рождения», ученические сочинения, родившиеся, по его собственным словам, в «несмышленой голове»? Или же те, которые представляют его гражданином и которые мы столь высоко оценили?
Прочитав следующие строки, мы облегченно вздыхаем.
«О, сколько здесь хлама? Какие-то «американизированные» «Вечерние молитвы», какие-то подражания бездарным турецким рифмоплетам...». Тукай приводит названия лишь двух стихотворений, но «вымел» не менее двух десятков.
В стихотворении «Шакирд или одна встреча» речь идет о том, как шакирд, обутый в дырявые валенки и рваный джилян, борясь с холодным ветром, направляется в медресе. Поэт останавливает его и начинает читать мораль: не стыдись своей одежды, не падай духом из-за нищеты. Говорит он долго, нудно и на турецком языке. Дескать, если будешь прилежно учиться, «засияешь солнцем в небе нации». Тукай, создавший образцы настоящей лирики на родном татарском языке, не желает оставлять после себя подобные «таркибы» (словосочетания. — И. Н.). Поэт, для которого идеалом была русская поэзия, не мог смириться с тем, что эти стихи останутся после него.
Как известно, Тукай писал на турецком или близком к нему смешанном языке в 1905—1906 годах. Оба названные им стихотворения датированы 1906 годом. Значит, он «выдворяет из поэтической комнаты» многие стихи, относящиеся к начальному периоду своего творчества. Если вспомнить, что в последний период на первый план в поэзии выдвигаются социальные, гражданские мотивы, то можно с уверенностью сказать: Тукай и не думал отказываться от своих революционно-демократических идеалов!
Что же в том случае должны означать его слова о пробуждении? Очевидно, речь здесь идет о начале нового сдвига в его мировоззрении и в его творчестве. Смерть не дала возможности поэту сделать следующего шага.
Азраил уже стоит у изголовья Габдуллы. И поэт спешит очистить от «хлама» свое наследие, чтобы грядущие поколения получили его в надлежащем виде. «Я решил издать в скором времени иллюстрированный сборник страниц в 400 из стихотворений, которые мною не забракованы и нравятся самому».
В январе он внес необходимые исправления и собственноручно принялся переписывать стихи, которые должны были войти в книгу. В больнице он продолжил эту работу.
Прошло больше месяца: Тукай принимал лекарства, подставлял спину и грудь холодным докторским стетоскопам, читал, писал. Особого ухудшения не чувствовал, на аппетит также не мог пожаловаться. Не было недостатка и в посетителях. Только одно его несколько удивляло: приходило много незнакомых людей, но кое-кто из приятелей, дневавших и ночевавших у него в номере, не торопились его повидать.
Наступила весна. Небо очистилось. После обеда, озаряя палату, в окно заглядывало солнце. С крыши падали сверкающие капли. Нет-нет да вспыхивала искра надежды: может, это еще и не последняя станция? Приближается лето. А там — в Крым. Попробуй, братец Азраил, догнать тогда Габдуллу!
31 марта, в 5 часов вечера, состояние больного резко ухудшилось. Поднялась температура, участился пульс, затруднилось дыхание. Он потерял аппетит, ночь провел без сна.
На следующий день друзья привели знаменитого казанского терапевта. Внимательно осмотрев больного, доктор заключил;
— Положение безнадежное. Больше трех дней не проживет, а возможно, и того меньше. Не оставляйте его одного.
Друзья спешат сфотографировать поэта. Но согласится ли? Даже когда он был сравнительно здоровым и выглядел хорошо, то сниматься не любил. Сперва полагая, что его начнут одевать, завязывать галстук, он стал отнекиваться:
— Может, попозже, когда мне будет лучше?
Но сопротивлялся он лишь по привычке и в конце концов махнул рукой: делайте, мол, как хотите. Мог ли он думать о том, как будет выглядеть на снимке, если утром на вопрос: «Как себя чувствуете?» — ответил лишь одним словом: «Конец».
На последнем фото видно, что он уже не здесь: взор углублен в себя.
1 апреля пришли попрощаться с любимым поэтом две девушки-учительницы. Он с ними не говорил, только указал на стулья. То и дело брал в руки карандаш, но писать уже не мог. «За два дня до смерти, — вспоминает мемуарист, — он вынужден был оставить свое самое могучее оружие — перо».
В ночь на 2 апреля состояние Тукая, казалось, несколько улучшилось. Он спал, хотя и часто просыпался. Утром чувствовал себя бодрее обычного. Попросил чаю для себя и для друзей, которые не отходили от него всю ночь. За чаем довольно свободно беседовал. Но это было последней вспышкой.
Около шести часов вечера редактор «Анга» Ахметгарей Хасани застал поэта в тяжелом состоянии. Он дышал с трудом, то открывал, то закрывал глаза. Неожиданно больной спросил хриплым, слабым голосом:
— Когда последняя корректура?
Корректура его стихов для восьмого номера была у Хасани в кармане, но, боясь, что Тукай тотчас же примется ее читать, он ответил:
— Корректура будет завтра.
Снова воцарилась тишина. Вошла сестра, вытерла пот с лица Габдуллы, сосчитала пульс.
— Лекарство будете пить?
Не получив ответа, она с помощью одного из друзей поэта поднимает его, подносит к его губам рюмку с лекарством. Тукай с поспешностью берет рюмку и, торопясь, выпивает ее до дна. Нет, он не хочет умирать.
Но жить ему осталось час с небольшим. В 20 часов 15 минут его сердце перестало биться.
Незадолго до смерти поэт писал:
Сил молодых про черный день, увы, я не сберег, Я светлым ни один из дней моих назвать не мог. Я сворою врагов гоним; был жребий мой жесток Затем, что я служить властям и богачам не мог. Хотел я мстить, но ослабел, сломался мой клинок, Я весь в грязи, но этот мир очистить я не мог.Нет, клинок его поэзии не сломан: он и сейчас продолжает разить скверну жизни. Свой короткий век Тукай прожил с незапятнанной совестью и внес немалый вклад в дело очищения души и сознания своего народа для восприятия грядущей революции.
И не только своего. Когда основоположника таджикской советской литературы Садреддина Айни спросили, как он приобщился к русской культуре, он ответил: «Через Габдуллу Тукая».
Классик советской узбекской поэзии Гафур Гулям говорил: «Габдулла Тукай и наш поэт. Хотя он жил чуть позже таких больших узбекских поэтов и мастеров слова, как Фуркат и Мукими, Тукай по праву считается нашим учителем».
Казахский писатель Сабит Муканов рассказывал, что он достал однотомник Тукая в 1917 году и свыше пятидесяти лет хранил его, как самую дорогую реликвию, никогда не расставался с нею, ибо «его одолевало тревожное чувство, что она пропадет, не вернется из чужих рук».
Это лишь немногие из свидетельств. Поэзию, Тукая ценили Максим Горький и Сергей Есенин, Александр Фадеев и Луи Арагон, Павло Тычина и Мухтар Ауэзов.
Имя поэта было знакомо и В. И. Ленину. В 1921 году, на X съезде РКП (б), оказавшись в кругу делегатов из Татарстана, Владимир Ильич спросил:
— ...Кстати, как у нас с литературой татарской? Имеются — нет достойные преемники этого... как его? Сын муллы, поэт, перевел на свой язык Пушкина, Лермонтова, Абдулла, Абдулла...
— Тукаев! — И я (В. М. Бахметьев. — И. Н.) назвал несколько имен молодых татарских писателен.
— Значит, не перевелся порох в пороховницах! — заметил, улыбаясь, Ильич.
Все больше и больше времени отделяет нас от апреля 1913 года. Но удивительное дело: с каждым годом фигура Тукая все укрупняется в наших глазах, его черты становятся все яснее и отчетливее, будто мы к нему приближаемся. Объясняется это, по-видимому, тем, что, говоря словами В. Г. Белинского, он «принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества»10.
Тайна обаяния и величия Тукая в глубинной народности его личности и его поэзии. Страстная тоска о счастье людей труда, о мире на земле, призыв к дружбе между народами, с такой силой выраженные в творчестве юноши из глухого татарского села, сделали его имя и его поэзию достоянием миллионов читателей.
Казань, 1975
Основные даты жизни и творчества11
1886. 14 апреля — В деревне Кушлауч (ныне Арского района Татарской АССР), в семье указного муллы Мухаметгарифа родился сын Габдулла.
29 августа. — Смерть отца Мухаметгарифа.
1890. 18 января. — Смерть матери Мэмдуде.
1890 — 1892. — Габдулла в бездетной семье кустаря Мухаметвали из Новотатарской слободы в Казани.
1892. Июнь. — Приезд в село Кырлай в качестве приемного сына крестьянина Сагди.
Октябрь. — Начало учебы в медресе.
1894. Декабрь. — Отъезд в город Уральск и начало учебы в медресе «Мутыйгия».
1896—1899. — Учеба в трехгодичном «русском классе».
1900. Осень. — Переезд на постоянное жительство в медресе.
1905. Лето. — Наборщик в типографии газеты «Уралец».
Сентябрь. — Первые стихи опубликованы в рекламном сборнике будущего журнала «Эль-гаср эль-дшадид» («Новый век»).
27 ноября. — Выход первого номера газеты «Фикер» («Мысль»).
1906. Январь. — Выход первого номера журнала «Эль-гаср эль-джадид», фактическим редактором которого становится Г. Тукай.
Июнь. — Выход первого номера сатирического журнала «Уклар» («Стрелы»). Фактический редактор — Г. Тукай.
20 июля. — Первый вольный перевод из А. С. Пушкина опубликован в журнале «Эль-гаср эль-дшадид».
1906. Декабрь. — Переселение в гостиницу «Казань».
1907. Начало февраля. — Увольнение из редакции.
Лето. — Работа над поэмой «Шурале».
Начало октября. — Возвращение в Казань.
24—27 октября. — Прохождение призывной комиссии.
С ноября. — Тукай — сотрудник газеты «Эль-ислах» («Реформа»).
15 декабря. — В цензуру поступают экземпляры первого сборника «Стихотворения Габдуллы Тукая».
1908. Март. — Корректор и экспедитор книжного издательства «Китай» («Книга»).
21 мая. — Первый отзыв о лирике Тукая в русской печати (газета «Волжско-камская речь»).
Август. — Выход первого номера сатирического журнала «Яшен» («Молния»), фактическим редактором которого становится Тукай.
Поездка на Макарьевскую ярмарку в Нижний Новгород.
Начало октября. — Завершение работы над сатирической поэмой «Сенной базар, или Новый Кисекбаш».
14 октября. — Читает поэму на литературно-музыкальном вечере.
22 октября. — Выход из печати поэмы «Сенной базар, или Новый Кисекбаш».
1909. 1 января. — Выход в свет книги «Диван» (сборник Г. Тукая).
Лето. — Поездка в поселок Гурьевка Симбирской губернии (ныне Ульяновская область) к братьям Акчурпньш — владельцам суконной фабрики.
3 сентября. — Опубликована книга «Новое чтение», составленная Г. Тукаевым из своих произведений в помощь учителям родного языка.
Конец октября. — Выход в свет сборника стихотворений «Литература».
12 ноября. — Выход первого номера сатирического журнала «Ялт-юлт», ответственным секретарем и фактическим редактором которого становится Тукай.
15 апреля. — Выступает в татарском клубе «Шарык» («Восток») с лекцией об устном народном творчестве.
20 июня. — В цензурный комитет поступают экземпляры книги «Народная литература».
1911. Конец марта. — Увидел свет сборник стихотворений «Плоды души».
25 или 26 апреля. — Приезд в Астрахань к поэту Сагиту Рамиеву.
6 июня. — Отъезд из Астрахани.
12 июня. — Опубликована поэма «Мяубике».
Сентябрь. — Выходит из печати хрестоматия «Уроки национальной литературы в школе», составленная Тукаем.
1911. Конец декабря. — Отъезд в деревню Училе (ныне Арского района Татарской АССР).
1912. 12 февраля. — Выход в свет сборника сатирических и юмористических стихотворений «Грозовые камни».
Конец февраля. — Возвращение в Казань.
13 марта. — Смерть Хусаина Ямашева — первого татарского большевика.
12 апреля. — Тукай отправляется в последнее путешествие.
14—18 апреля. — Тукай в Уфе.
20 апреля. — Тукай в Петербурге.
5 мая. — Тукай снова в Уфе.
Середина мая. — Тукай в казахской степи близ города Троицка.
Ноябрь. — Выход в свет сборника стихотворений «Пища духовная».
1913. Январь — февраль. — Сотрудничает в газете «Кояш» («Солнце») п журнале «Анг» («Сознание»). Приступает к подготовке однотомника. Обострение болезни.
26 февраля. — Тукай в Клячкинской больнице.
Март. — Продолжение работы над однотомником. Последние стихи и фельетоны. Пишет свое поэтическое завещание — статью «Первое дело после пробуждения».
2 апреля, 20.15. — Смерть Тукая.
Краткая библиография
I. Произведения Тукая
На татарском языке
Габдулла Тукай. Сочинения в 2-х т. Академическое издание. Т. 1, 1943; т. 2, 1948. Таткнигоиздат.
Габдулла Тукай. Сочинения в 4-х т. Таткнигоиздат, 1955—1956.
Габдулла Тукай. Сочинения в 4-х т. Казань, Таткнигоиздат. Т. I, 1975; т. II, 1976; т. III, 1976.
На русском языке
Габдулла Тукай. Стихи и поэмы. М., Государственное издательство художественной литературы, 1946.
Габдулла Тукай. Избранное в 2-х т. Казань, Таткнигоиздат, 1961.
Габдулла Тукай. Стихотворения и поэмы (в серии «Библиотека поэта»). М., «Советский писатель», 1963.
II. О Тукае
На татарском языке
Г. Ибрагимов. Татарские поэты. Оренбург. «Вакып («Время»), 1913.
Дж. В а л и д и. Биография Г. Тукая. Рассуждения о стихотворениях Тукаева. (Вступительные статьи к однотомнику.) «Собрание сочинений Габдуллы Тукая». Казань. «Магарпф», 1914.
Г. Халит, Народный поэт Г. Тукай. Казань. Татгосиздат, 1939.
И. Н у р у л л и н. Об эстетике Тукая. Казань. Таткнигоиздат, 1956.
Р. Башкуров. Тукай и русская литература . О переводах Тукая. Казань, Таткнпгопздат, 1958.
Современники о Тукае. Казань. Таткнигопздат, 1960.
Воспоминания о Тукае. Казань. Таткнигопздат, 1976.
Г. Халит. Путь, пройденный Тукаем. Казань, Таткнигоиздат, 1962.
И. Н у р у л л и и. Тукай в Петербурге. Драма. Казань, Таткнигоиздат, 1965.
И. Нуруллин. Рассказы о Тукае. Казань, Таткнигоиздат, 1971.
На русском языке
Татарский поэт Абдулла Тукаев. Журнал «Мир ислама». Петербург, 1913. Т. II, вып. 3.
В л. Бахметьев. О творчестве Тукая. В кн.: А. Тукай. Разбитая надежда. Казань, 1920.
Г. Халит. Тукай и его современники. Казань. Таткнигоиздат, 1966.
Габдулла Тукай. (Сборник статей.) Казань, Таткнигоиздат, 1968.
С. Кудаш. Навстречу весне. Повесть. Перевод с башкирского. М., «Советский писатель», 1952.
А. Ф а й з и. Тукай. Роман. Казань, Таткнпгоиздат, 1955, кн. I.
С. X а к и м. Детство поэта. Поэмы о Тукае. М., Детгиз, 1957.
И. Нуруллин. Поэт из деревни Кырлай. Рассказы о Габ-дулле Тукае. М., «Детская литература», 1967.
Примечания
1
Перевод С. Липкина. Другие отрывки из произведений Габдуллы Тукая, которые приводятся в книге, перевели: В. Арсеньева, А. Ахматова, Д. Бродский, В. Бугаевский, В. Ганиев, В. Державин, В. Звягинцева, С. Липкин, К. Липскеров, Р. Моран, С. Олендер, П. Радимов, В. Рождественский, С. Северцев, Н. Сидоренко, Т. Спендиарова, В. Тушнова, Р. Фиш, П. Шубин. (В основном цитируются по изданию: Габдулла Тукай. Избранное, т. I—II. Таткнигоиздат, 1960.)
(обратно)2
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 28, с. 514.
(обратно)3
В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 2, с. 519.
(обратно)4
В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 9, с. 154.
(обратно)5
Там же, с. 135.
(обратно)6
В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 2, с. 541.
(обратно)7
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 12, с. 65.
(обратно)8
В. И.Ленин, Полн. собр. соч., т. 17, с. 212.
(обратно)9
В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. М., 1953, т. 1, с. 262.
(обратно)10
В. Г. Белинский. Поли. собр. соч., т. 3, 1954, с. 555.
(обратно)11
Даты даны по старому стилю.
(обратно)



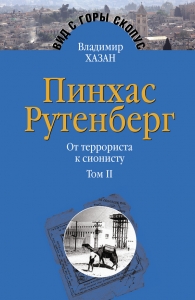
Комментарии к книге «Тукай», Ибрагим Зиннятович Нуруллин
Всего 0 комментариев