Холодным слякотным днем поздней осени на втором году войны партизанский разведчик Буров ехал на станцию Мостище, чтобы застрелить предателя — здешнего деревенского мужика по фамилии Сущеня.
Этот Сущеня еще с довоенного времени работал на железной дороге и считался неплохим человеком, но, месяц назад арестованный полицией за диверсию возле Выспянского моста, купил себе жизнь тем, что выдал соучастников, своих же путейцев, вместе с которыми развинчивал рельсы. Путейцев повесили в местечке, а Сущеню выпустили, и он вторую неделю отсиживался под боком у гарнизона, в своей хате на окраине станции, в тепле и сытости, полагая, наверное, что партизаны до него не доберутся. Простят его. Но такое не прощается, за такое следовало наказать. Командиры в отряде, посовещавшись, приняли решение и прошлой ночью послали Бурова сделать то, чего невозможно было не сделать. В помощь ему дали партизана Войтика, и они вдвоем верхом на лошадях, отмахав километров тридцать лесного пути, в тот же день к вечеру выбрались из леса на опушку в километре от Мостища.
В лесу уже темнело, холодный туман и ранние сумерки быстро поглощали мокрый сосняк, почти голый, с остатками жухлой листвы подлесок, а на полевом пространстве за грязной гравийкой было еще светло; в лица всадников ударил влажный порывистый ветер, и они остановились. Буров привычно огляделся, прикидывая, куда их занесло и куда теперь лучше податься. Но он уже увидел за полем раскидистые кроны старых пристанционных деревьев, ближе, на склоне пригорка, темнело несколько хат с садками, пара копен припасенного летом сена, хлевки и сараи. Пониже, у речки, в конце огородов, за кустарником сиротливо чернела банька — там, помнил Буров, была кладка через речушку, где, наверное, и можно будет перебраться с лошадьми на ту сторону.
Однако, пока не стемнело, их могли увидеть в поле, а в том деле, ради которого они сюда ехали, лучше было обойтись без свидетелей. Тем более без полицаев-бобиков. Если бобики их заметят, то, считай, все пропало, придется смываться в лес, подальше от людей и вообще от Мостища. Нет, надо было выждать полчаса или больше, пока стемнеет, и потом уже двинуться к станции.
Буров повернул кобылку в сторону Войтика, который, ссутулясь под мокрой, из домотканого сукна поддевкой, уныло сидел на распаренной мухортой лошадке, тоскливо поглядывая в поле.
— Видал вон! Приехали, — кивнул Буров в сторону станции.
Войтик знобко повел мокрым плечом, над которым косо торчал ствол его длинной «драгунки». На его худом, неведомо когда бритом лице под длинным козырьком черной кепки не отразилось ничего, кроме усталости и явного желания отдохнуть. Но до отдыха, наверно, было еще далеко.
— Вижу…
— Повременим немного. Стемнеет — поедем.
— А река там, — двинул острым подбородком Войтик. — Болото.
— Да уж переберемся как-нибудь.
— Хорошо — как-нибудь…
Ну, конечно, Войтик уже сомневался, как это бывало не раз за дорогу. До чего осторожный человек, подумал Буров, все ему кажется не так, все он понимает иначе, все взвешивает по-своему. Буров уже досадовал, что ему достался такой напарник, но, видно, лучшего не нашлось, пришлось ехать с тем, кого дали.
Не спешиваясь, они укрылись в голом ольшанике на опушке, давая лошадям возможность отдохнуть; да и самим надо было перевести дыхание — впервые за сегодняшний день; Буров все оглядывал поле, памятное ему еще с того времени, как сам жил в этой деревне при станции. Летом тут была, кажется, рожь, однако давно уже убранная, истоптанная скотом нива раскисла от дождей, в густо затравеневшей стерне поблескивали налитые водой коровьи следы. Размякшие коровьи лепехи серыми пятнами лежали на стежке, по краю нивы. Притуманенная даль за полем и станцией медленно исчезала в ненастных сумерках, но вблизи было еще светло и их могли увидеть со станции.
— Думаешь, он нас ждет? — сказал, помолчав, Войтик, имея в виду то главное, что теперь беспокоило обоих.
— Может, и не ждет.
— Давно смылся куда. В полицию, может…
— Приедем — посмотрим. А то сядем в засаду, — ощущая невольное раздражение от несогласия напарника, сказал Буров.
Войтик настороженно повернулся в одну сторону, в другую, и, хотя смолчал, Буров понял, что садиться в засаду ему не очень хотелось. Хотелось скорее вернуться назад, в Воловскую пущу, к своим шалашам, где возле дымных костров теплее и уж наверняка безопаснее, чем в окрестностях этой станции. Весь день они пробирались сюда борами и перелесками, вымокли в хвойных зарослях; плечи, бедра и колени давно уже онемели от стужи. Ехали без седел, у Бурова под задом лежала какая-то измятая дерюжка, которая все время сбивалась то на одну, то на другую сторону, Войтик же трясся на ничем не покрытом хребте косматой своей лошаденки. Оба давно были голодны — слегка перекусили на рассвете в лагере, с собой взять было нечего, надеялись чем-либо разжиться в дороге. Но, к счастью или на беду, в дороге никто им не встретился, а в деревни они не заезжали, чтобы ненароком не наткнуться на полицию. Думалось, сделают дело, будут ехать назад, тогда, может, куда и заскочат, перехватят чего-нибудь и погреются.
Вообще все это не нравилось Бурову. Да и Войтику, он видел, тоже.
Уж лучше сходить куда-либо на связь — в деревню или на дальний хутор, даже посидеть возле шоссе в засаде, чем отправляться на такое задание. Но вот пришлось, хотел или нет, начальство о том не спрашивало, приказало, и все — беги, исполняй. Впрочем, тут было понятно: этого Сущеню в отряде, кроме Бурова, знал в лицо еще Ковзан, отиравшийся с лета при кухне. Но Ковзана разве пошлешь на ответственное задание — этот деревенский дядька за свою жизнь и одного раза не выстрелил из винтовки, ему ли справиться с сильным, здоровым Сущеней?
Хотя, если разобраться, то сетовать пока было не на что, все складывалось, в общем, терпимо, и Буров был бы почти доволен, если бы ему удалось немного отдохнуть. За последние дни он основательно вымотался, прошлой ночью не спал вовсе: под утро вернулся из-за Рессы, где разведывал новое место для лагеря (начальство решило менять на зиму лагерь — подальше зашиться в лесные дебри, потому что, когда замерзнут плавни и болота, в пуще отряду не удержаться). Три дня они с Хомутовым и еще одним разведчиком из-под Уллы ползали-лазали возле этой Рессы, кое-что там все-таки высмотрели и только — мокрые, усталые и голодные — вернулись в отряд, как на тебе: поезжай в Мостище. Что ж, Буров не привык отказываться, сказал: есть, будет сделано. Но это не значит, что в его душе играли оркестры — душа его плакала, словно на похоронах, ужасно хотелось хотя бы на часок прикорнуть в тепле и покое; по дороге он боялся нечаянно заснуть и свалиться с кобылы. Потому и гнал, не давая отдыху ни себе, ни Войтику, то и дело костеря в мыслях своего землячка Сущеню.
Постепенно, однако, гнев его стал убывать, Буров начал свыкаться со своей малоприятной, если не сказать, пугающей миссией. Но вот теперь, когда только поле отделяло его от усадьбы предателя, он почувствовал, как опять в нем поднимается злая решимость: надо же пойти на такое! Против своих же людей. Вообще Буров был человеком крайних взглядов и твердых убеждений, людей он или принимал целиком, или так же целиком отвергал, не признавая никакого права на смягчающие обстоятельства, особенно сейчас, в войну. Действительно, разве теперь можно считаться с какими-то там обстоятельствами, когда погибло столько людей и конца этой гибели не видать. Наверно, тут нужно одно: железная твердость. И если уж попался в их лапы, то умри по-человечески, не навредив другим. Тем, кто еще имеет возможность что-либо сделать, а может, и отомстить за твою погибель. А этот придурок Сущеня, видишь ли, захотел выжить и продал путейцев. Как будто они не хотели жить или у них на жизнь было меньше прав. Нет, в отряде решили справедливо: такого надо пристукнуть, чтобы неповадно было другим.
Вот только заниматься этим очень не хотелось Бурому, уж лучше бы кто другой. Жаль, другого у них не нашлось, такое противное дело досталось Бурову, и он был вынужден весь день трястись верхом на кобыле, пока добрался до Мостища.
Теперь вот предстояло самое трудное.
Чем оно ближе подступало, это трудное, тем все большее беспокойство охватывало Бурова. Бесконечное количество раз он прокручивал в голове, как прикончить Сущеню, и остановился на самом простом решении: не рассусоливать, не заводить разговоров, отвести куда-нибудь и застрелить. Если будет сопротивляться, хитрить или оправдываться, застрелить на месте. Самое худшее, конечно, было не застать его дома, дожидаться или искать, если куда сбежал. Если удрал в местечко под защиту полиции, то совсем будет плохо, тогда задание его, считай, сорвалось. Придется возвращаться ни с чем, оправдываться перед командиром Трушкевичем, который больше всего на свете не терпел оправданий, это Буров хорошо запомнил. В таком деле он уже был научен: однажды побыл неделю обезоруженным — Трушкевич приказал сдать винтовку, оставив себе штык. Случилось так, что в Слободе, куда они ходили за взрывчаткой, им показали фигу и они вернулись с пустыми руками. А надо было постараться, проявить инициативу, «раскинуть мозгами», как сказал Трушкевич, и выполнить задание, «хоть кровь из носу». Так требовал этот старший лейтенант из окруженцев первого лета войны. Если что теперь у них не получится, он взыщет с обоих.
— Главное, ты не отставай и не высовывайся. Лучше всего, чтобы я тебя спиной чувствовал. А что надо, я сам сделаю, — сказал Буров, не оборачиваясь к Войтику. Тот опять заметно нахохлился.
— А кони?
— А что кони? Коней, если что, подержишь.
— Надо бы еще кого взять, — громко высморкавшись на траву, мрачно заметил Войтик. — Третьего. Все бы управнее было. А то что вдвоем…
— Ну, ты умник гляжу! — начал раздражаться Буров. — Чего же там молчал? Сказал бы командиру: давайте третьего! Так молчал же?..
— Молчал, молчал, — проворчал Войтик и зло дернул за повод коня, который упрямо тянулся под куст за клочком зеленой травы. — Ну ты, лярва, все не нажрешься!
Тем временем постепенно темнело — медленно и неохотно; в поле еще было светло, а станционные постройки по ту сторону речки все больше окутывались серым сумраком, высокие деревья на станции уже вовсе пропали в тумане. Наверное, можно было ехать, тем более что становилось все холоднее на этой продуваемой ветром опушке; редкие сосны вверху гневно гудели от ветра, да и оголодавшие лошади не хотели стоять — тянулись в ольшаник, жадно драли траву вместе с влажным зеленым мхом.
— Так. Давай помалу через поле на кладку, — бросил Буров и завернул кобылку.
Лошади пошли полем, звучно чавкая копытами в раскисшей от дождей борозде. Опушка осталась сзади, и в душе Бурова начало разрастаться холодноватое чувство тревоги: как бы ненароком их не подстерегли по ту сторону речки, у баньки или на огороде, как бы не напороться на какую холеру. Все-таки за версту от станции находилась полиция, кто знает, сидят ли полицаи теперь в своем бункере или, может, как и они, носятся по дорогам и деревням, а то еще и устроят засаду. Мало ли они за лето нарывались на полицейские засады? Особенно на хуторах, проселках, возле мостов и кладок. Теперь, в этом поле, он не подгонял кобылку, и та шла, как хотела, устало клЈкая копытами в грязи, а он, напрягая зрение, пристально всматривался в приречный кустарник, туда, где когда-то была кладка. Хотя он родился тут и подростком обегал все окрестности, с того времени, как отец в коллективизацию перебрался с семьей в местечко, Буров ни разу не побывал здесь — не было надобности, потом служил в армии на Дальнем Востоке, а два последних предвоенных года работал в районе — гонял по дорогам полуторку. И вот сейчас, проезжая по знакомым местам, едва узнавал их, хотя не многое здесь изменилось. По крайней мере, опушка, дорога и поле были совершенно прежними; когда-то он тут пас коров, возил с плавней сено, знал тут каждое болотце и каждую стежку.
Кажется, однако, и в поле, и возле речки было пусто, лишь в приречном лозняке на ветру копошилась непоседливая воробьиная стайка да с изгороди возле баньки лениво взлетела ворона. Он уже видел там сущеневский огород с двумя аккуратными стожками возле сараев, от баньки туда, помнится, вела хорошо утоптанная стежка. Когда-то подростком он бегал там, зарясь через плетень на толстые стручки сущеневских бобов; одно лето той стежкой гонял к речке гусей. Сущеня тогда был неженатым, в общем, спокойным, покладистым парнем, лет на десять старше его; на Кольку Бурова он мало обращал внимания, занятый своими интересами, своей компанией. Но чем-то он даже нравился Бурову, может, своей незлобивостью в отношениях с другими — взрослыми и детьми. Кто бы подумал, что их судьбы когда-нибудь пересекутся таким дьявольским образом?
Но вот пересеклись…
Речка была неширокая, с крутыми, местами подмытыми в паводок берегами и кладкой — двумя брошенными на коряги гниловатыми досками. Буров соскочил с кобылки, потянул за повод; противясь, та взмахнула головой, нерешительно переступила передними ногами — боялась идти в воду. Может, правильно боялась, подумал Буров, черт его знает, какая тут теперь глубина. Но, может, не утонет?.. Он сильнее дернул за повод и сам нерешительно ступил на притопленный конец кладки, направляя кобылку рядом. Наконец та, видно, решилась, осторожно сошла с берега и вдруг отчаянно бросилась в реку. Он торопливо переступил по кладке, которая предательски подалась под ногами, почти до дна уходя в воду. Едва удержавшись на доске, выпустил из руки повод; кобылка, подняв множество брызг, испуганно выскочила на ту сторону и остановилась, отряхиваясь и озираясь. Мысленно выругавшись, Буров неторопливо выбрался из реки и подобрал в траве мокрый повод.
Сзади, не слезая с коня, чего-то дожидался Войтик.
— Ну что стал? Давай верхом. Тут неглубоко… Войтик перебрался более удачно, его конь тяжеловато вскарабкался на берег, и Войтик, соскочив наземь, взял из рук Бурова повод. Стоя на одной ноге. Буров стянул сапог, вылил воду, отжал мокрую дырявую портянку.
— Не хватало еще, холера…
Впереди и немного в стороне на речном берегу ютилась почерневшая от дыма и времени кособокая банька, рядом с ней вольготно раскинулась дичка-грушка. Наверно, там можно было укрыться, и Буров повел туда озябшую кобылку. Промокшая его нога коченела все больше, да и другая не убереглась от воды — дырявые сапоги чавкали на ходу, надо было переобуться, сменить портянки (если бы они у него были в запасе). Но, еще не дойдя до баньки, он учуял знакомый запах дыма и встревожился. Если от баньки тянет дымком, значит, ее топят или уже истопили и моются, надо же было угодить сюда в такое неподходящее время! Но поворачивать, пожалуй, было уже поздно — их могли увидеть в крохотное окошко из баньки.
Буров зашел с глухой, надречной стороны баньки, прислушался. Здесь уже вовсю пахло дымом, сажей, сухой нагретой глиной. Подъехав поближе, Войтик тоже соскочил с коня. Покосившаяся дверь бани была заботливо подперта еловым колом — значит, внутри еще никого не было. Наверно, еще только собирались мыться. Войтик с напряженной озабоченностью ждал, что делать дальше, и Буров решил:
— Давай по стежке туда. Вон его хата… Хата и надворные постройки сущеневской усадьбы темнели в вечерней мгле, с улицы баня почти не просматривалась. Лишь бы не встретить кого в огороде на стежке, подумал Буров. Впрочем, если кто и встретится — не большая беда, дела у них всего на минутку, долго они тут не задержатся. Только бы не наскочить на полицию. Но в такой именно, серый час суток люди еще не заперлись по хатам, заняты во дворах, собирают на ночь скотину, наверно, в такое время полиция не очень усердствует. Усердствовать она начнет чуть позже. Когда вокруг все утихнет.
С лошадьми на поводьях они подошли ко двору и сразу очутились на дровокольне с недавно привезенными из леса березовыми кругляками, беспорядочной кучей сваленными возле изгороди. Рядом на земле стояло старое корыто, валялись какие-то ведра, прислоненные к стене сарая, стояли грабли и вилы. С улицы дровокольню не было видно, а от поля ее прикрывал близкий стожок на огороде, и Буров, прислушавшись, отдал Войтику повод.
— Стой тут и жди. Если что, я стрельну.
— Недолго чтоб.
— Недолго, недолго…
Войтик перехватил веревочный повод, а Буров снял из-за спины карабин и тоже отдал напарнику. Наверно, карабин ему теперь не понадобится, в его деле можно обойтись и наганом, который в твердой кожаной кобуре висел на ремне. За пазухой под шинелью у него была круглая, с острым ободком немецкая граната — пожалуй, хватит на одного Сущеню. Если их там окажется больше, дело, конечно, усложнится. Если больше, придется поволноваться. Но как-нибудь.
Стараясь ступать потише, он прошел по грязному двору к дверям в сени, осторожно приоткрыл их за клямку и прислушался. Из хаты вроде никого не было слышно, только где-то из-за перегородки подала голос свинья; он переступил порог и начал тихонько притворять за собой дверь. Но тотчас же распахнулась дверь из хаты — рослый мужчина, в черном ватнике, с хмурым свежевыбритым лицом, без шапки, пугливо уставился в полумрак. Это был, конечно, Сущеня, Буров узнал его и сдержанно сказал из сеней:
— Можно к вам?
Хмурое лицо Сущени, похоже, нахмурилось еще больше, чуть помедлив, он растворил дверь шире. С понятной опаской в душе Буров переступил другой порог и поздоровался. Однако ему не ответили, кажется, в хате никого больше не было. На уголке стола смрадно чадила коптилка, за прикрытыми дверцами грубки разгорались дрова. В их мигающем свете на полу откуда-то появился мальчишка лет четырех, удивленным, почти восхищенным взглядом широко раскрытых глазенок уставился на Бурова. В руках он держал грубо вырезанную из куска доски игрушку, которую тут же с готовностью протянул гостю.
— Во, лошадка! Мне папка сделал.
В искреннем ребячьем жесте было столько ласки и доверия, что Буров не удержался, взяв игрушку, рассеянно повертел ее в руках, похвалил:
— Хороша лошадка.
— А мне папка и собачку сделает. С хвостиком.
— С хвостиком — это хорошо. Как тебя звать?
— Меня звать Глыша. А папку Сусцэня.
— Значит, будешь Григорий Сущеня, — сказал Буров. Он уже пожалел, что начал этот ненужный разговор с ребенком. И обернулся к хозяину, молча стоявшему возле порога. — Ну, как живется?
— Садись, чего уж, — выдавил из себя хозяин. — Не узнал сперва. Изменился…
— Так, наверно, и ты изменился, — сказал Буров и, ощутив минутное, вовсе не свойственное ему замешательство, присел на скамью в простенке. Тут же к нему, по-утиному переваливаясь на выгнутых ножках, проковылял Гриша, доверчиво прислонился к колену.
— А у ЛЈника патлон есть, — ласково заглядывая Бурову в лицо, сообщил он. — Что cтлеляет. Пух!
— Вот как! Патроны теперь не для ребят, — строго заметил Буров.
— Да не патрон, Гриша, — поправил отец. — Гильза у него.
— Ага, гильза.
Гриша тем временем оставил игрушку и, засунув в рот коротенький пальчик, принялся рассматривать гостя.
— Я к тебе, Сущеня, — с дурацким напряжением в голосе сказал Буров, осторожно отстраняя от себя малыша. Тот, однако, продолжал льнуть к гостю.
— И пуля у него есть. У ЛЈника.
— Ладно, Гришутка, иди на кроватку, там поиграешь, — сказал Сущеня и подхватил сына на руки. Гришутка протестующе захныкал, засучил ножками, но отец спокойно отнес его на кровать и расслабленно вернулся к грубке.
— А жена где же? — спросил Буров.
— Корову доит. Сегодня вот баню протопил, мыться собрались.
Хозяин опустился возле грубки на низенькую скамеечку, нервно сцепил между колен большие крепкие руки.
— Мыться — это хорошо, — сказал Буров, думая уже о другом.
Он думал, что стрелять здесь Сущеню, наверно, было нельзя, этот малыш портил ему все дело, отца следовало куда-нибудь вывести — во двор или, может, к бане. К бане было бы лучше. Правда, выстрел могли услышать на станции, а им еще надо было перелезать через речку… Лучше бы, конечно, за речкой… Оттуда — через поле и в лес. Только как его доведешь туда? Вдруг догадается?
— Я знал, что придете, — сказал Сущеня с явным надломом в голосе, и в душе Бурова что-то недобро шевельнулось. Но Буров ничем не выдал того и почти бодро заметил:
— Знал? Ну и хорошо. Значит, вину свою понимаешь.
— Чего ж тут понимать,-развел руками Сущеня. — Никакой же вины нет на мне, вот в чем загвоздка.
— Нет?
— Нет.
— А ребята? — вырвалось у Бурова. — Что повесили?
— Ребят повесили, — согласился Сущеня и сокрушенно поник на скамейке.
Похоже, он даже готов был заплакать — коснулся пальцами глаз, но тут же, наверно, совладал с собой и выпрямился. В душе ругая себя за промедление и нерешительность, Буров почувствовал, как судороги сводят его озябшие ноги, портянка на левой к тому же сбилась и натирала стопу. Наверное, надо было кончать этот разговор и приниматься за дело. Однако не в лад со своим намерением он тянул время, будто не решаясь переломить себя, настроить на главное. Из запечья снова выбежал Гриша и деликатно приблизился к Бурову.
— Дядя, а у тебя наган есть?
— Нет, какой наган? — сказал Буров, слегка удивившись этому недетскому вопросу.
— А это что?-малыш показал на кобуру.
— Это так. Сумочка.
— А зачем сумочка? — добивался Гриша, засунув в рот крошечный пальчик.
Как-то расслабленно он обнял колени Бурова и ласково, словно котенок, стал тереться о них. Сущеня тем временем сидел напротив и не прогонял сына, похоже, он погрузился в свои, вряд ли веселые теперь мысли. Но в сенях стукнула дверь, и в хату не сразу, медленно переступив порог, вошла женщина с ведром, в теплом шерстяном платке на голове. Увидев чужого в простенке, опасливо насторожилась, но тут ее внимание привлек малыш, который уже пытался вскарабкаться к Бурову на колени.
— Гриша!
— А у дяди наган есть. В сумочке, — живо сообщил мальчишка.
На лице у хозяйки что-то дрогнуло, как, впрочем, дрогнуло и внутри у Бурова, который сразу признал в женщине Анелю Круковскую, бывшую ученицу станционной школы, где когда-то учился и Буров. Видно, она тоже узнала его.
— Здравствуйте.
— Здравствуй, Анеля, — с притворным оживлением ответил Буров, уже догадавшись, что его бывшая одноклассница стала женой Сущени. Разговор у них, однако, не пошел, обоим мешало что-то. Буров, конечно, понимал что, но, по-видимому, догадывалась и Анеля.
— Это… Надо же покормить вас. Голодные же, наверно? — после недолгого молчания нашлась хозяйка.
— Некогда, Анеля, — сказал Буров, тут же рассердившись на себя. Есть, конечно, хотелось зверски, так же, как посидеть, погреться в домашнем тепле, поговорить с молодой, приятной лицом женщиной, которой он даже симпатизировал когда-то. Очень хотелось Бурову отогреть озябшее за дорогу тело или, может, подальше отодвинуть то, ради чего он приехал сюда и чему невольно противилось его существо. Но как было расслабиться, забыть о том хоть на минуту? Он и так сидел, будто на углях: где-то на задворках его дожидался Войтик и, может, по улице уже шли сюда полицаи.
— Завесь окно, — тихо сказала Анеля мужу, а сама бросилась к посудному шкафчику в углу, затем к печи, зазвякала заслонкой. Сущеня послушно завесил окно полосатой дерюжкой, висевшей на гвозде рядом, а Буров, подумав, решительно стащил с ноги мокрый сапог.
— У вас портянки какой не найдется? Переобуться.
— Портянки? Сейчас…
Анеля скрылась в запечье, слыхать было, что-то разорвала там и вынесла ему две мягкие теплые тряпицы. Дрова в грубке весело разгорелись, по полу и стенам мелькали багровые отблески, освещая красным и без того покрасневшую от стужи стопу Бурова.
— А как же мама твоя? Жива еще? — спросила Анеля.
— Мамы уже нет. Три года как…
— А сестра Нюра?
— И сестры нету. Убили весной в Лисичанской пуще.
С горестным вздохом хозяйка поставила на стол миску тушеной картошки, источавшей такой вкусный запах, что Буров поморщился и сглотнул слюну. Он, не спеша, переобувался, стараясь придать себе вид человека сытого, недавно вылезшего из-за стола. Сущеня тем временем шагнул за занавеску у печи и поставил возле миски початую бутылку, в которой знакомо блеснуло с пол-литра мутноватой жидкости.
— Так. Может, присядем? — вопросительно взглянул он на Бурова. Тот решительно покачал головой.
— Нет. Я не буду.
— Что ж, жаль. Тогда я, можно?
— Ладно, — согласился Буров. — Только недолго. Сущеня налил полный стакан и выпил — разом, с какой-то недоброй решимостью, словно навсегда и без оглядки бросаясь в омут, пожевал корку хлеба и замер возле коптилки. Анеля ставила перед ним тарелки — с салом, колбасой, огурцами, — украдкой поглядывая то на мужа, то на Бурова, переобувавшегося в простенке.
— Эх, как не по-людски все! — скрипнул зубами Сущеня, и Анеля метнулась к Бурову.
— Это ж правда! Разве мы надеялись на что или ждали! Как его взяли, у меня сердце зашлось, неделю спать не могла, все глаза выплакала. Ну выпустили, что ж теперь делать? Разве ж по его воле?..
То и дело сглатывая слюну и не переставая следить за всем, что происходило в хате, Буров одновременно вслушивался, стараясь не пропустить какой-либо звук со двора. Но на дворе и на улице вроде все было тихо, в незавешенном возле порога окне уже густо расплылась ночная темень. Пробравшись к застолью, Гриша устроился на скамье возле отца — ближе к еде; кажется, он уже потерял интерес к гостю.
— Он же ничем не погрешил против них, он же их выгораживал, — тихонько заплакала Анеля, и Буров не удержался:
— Но ведь повесили! А его выпустили. За что?
— А кто же их знает, за что.
— Нет, так не бывает.
Сущеня при этих словах отшатнулся от стола, пристукнул большой рукой по столешнице.
— Ладно, Анеля, что говорить! Судьба!
— Да, — неопределенно произнес Буров и поднялся со скамьи. Надо было кончать этот разговор. — Пошли!
Он вышел на середину хаты, подтянул на шинели ремень. Будто окаменев, Сущеня продолжал сидеть за столом, навалясь грудью на край столешницы. Казалось, он не слышал, что сказал Буров, вдруг задвигался, поспешно налил себе из бутылки и снова одним глотком опорожнил стакан.
— А, черт с ним… Пошли!
— Куда? — взвилась Анеля. — Куда ты его? Куда? Она зарыдала — не громко, но страдальчески и безутешно, за ней заплакал малой, и Буров испугался, что они своим плачем взбудоражат полстанции. Правда, Анеля вскоре зажала руками рот, начала плакать тише, потом подхватила на руки малого. Сущеня тем временем набросил на плечи ватник.
— Пошли. Это…
Будто вспомнив о чем-то, обернулся, торопливо поцеловал жену и решительно шагнул к двери. Его дрожащие руки бегали по груди в поисках пуговиц, чтобы застегнуть ватник.
— Куда вы?! — снова закричала Анеля и зарыдала так, что Буров сжался от страха.
— Ну надо, — сказал Сущеня жене. — Ненадолго. Ты не плачь, успокойся…
Он говорил тихо, с сочувственной добротой в голосе, и, наверно, это подействовало, Анеля скоро умолкла. Правда, ее губы еще безмолвно подергивались, а глаза недоверчиво впились в лицо мужа. Она будто пыталась разувериться в том, о чем уже догадалась.
— Тут на одно дело надо, — соврал Буров, у которого от этого прощания нехорошо защемило сердце. — Скоро вернется.
Прижимая к себе малого, она все еще бросала тревожные взгляды то на мужа, то на Бурова, которому очень не терпелось скорее кончить все это и уйти за речку.
— Приду, ага, — спокойнее подтвердил Сущеня.
— Так это же… Как же ты? Ничего с собой не взял, — встрепенулась Анеля. — Хоть сала возьми…
Наверно, она все-таки поверила, выпустила из рук мальчишку, кинулась к столу, суетливо засобирала на дорогу — сало, хлеб, дрожащими руками заворачивала все в какую-то бумажку.
— Вот перекусить. А то как же без еды… И это… Луковицу дам…
— Не надо! — безразлично сказал Сущеня, заталкивая сверток в тесный карман. И Анеля опять насторожилась.
— Ты же любишь, чтоб с луком… — напряглась она, снова заподозрив что-то и готовая вот-вот заплакать.
— Если любишь, так возьми, — поспешно сказал Буров и повернулся к Анеле. — Ага, давай и лучку. С лучком оно вкуснее. Сало особенно.
Где-то под припечком Анеля нашла пару луковиц, одну сунула в руки мужа, другую протянула Бурову. Тот взял, похвалил лук.
— Пригодится. На закусон.
Анеля вроде стала спокойнее, похоже, поверила обману, хотя все еще выглядела напряженной, то и дело вытирала глаза. Но уже не плакала.
— Если задержусь, мойтесь без меня, — сказал Сущеня.
Они вышли из хаты — Сущеня впереди, Буров за ним. На дворе уже стемнело, дул холодный ветер, но дождя не было. Сущеня стал какой-то нерасчетливо резкий в движениях, широко шагнул с крыльца и остановился на грязном дворе.
— Куда? — не поворачиваясь, спросил он.
— Туда, туда, — указал Буров в сторону дровокольни. Хозяин сделал несколько шагов и снова остановился.
— Лопату взять?
— Возьми, что ж, — подумав, согласился Буров и проследил за тем, как Сущеня, перебрав в подстрешье какие-то палки, вытащил из-под них лопату. — Что ж, сам понимаешь, — тихо, будто извиняясь даже, сказал Буров. — Если выдал…
Сущеня так резко обернулся к нему, что Буров от неожиданности отпрянул, и хозяин выдавил с приглушенной яростью:
— Я не выдавал!
— А кто же выдал? — удивился Буров.
— Не знаю. Не знаю!..
— Но ведь тебя выпустили?
— Выпустили, сволочи! — с отчаянием выдохнул Сущеня и подавленно добавил: — Лучше бы повесили. Разом.
Последние слова он приглушенно бросил через плечо, будто с остатком слабой надежды оправдаться, что ли. Но теперь какой смысл оправдываться, подумал Буров, разве перед ним следователь? Буров — не следователь и не судья, он только исполнитель приговора, а приговор этому человеку вынесен там, в лесу, ему ли пересматривать его. Но как было и исполнять, если исполнитель уже поколебался в сознании своей правоты?
Времени, однако, у них было немного, даже совсем не было времени. Тем более чувствовал Буров, что он просто может завязнуть в этой запутанной истории с Сущеней и провалить все задание.
Они торопливо обошли дровяной завал во дворе и свернули на древокольню, где топтались во тьме две лошади и рядом притопывал озябший Войтик. Тот сразу отдал Бурову повод его кобылки, и они скорым шагом пошли к бане — Войтик впереди, Буров сзади. Между ними с лопатой в руке шел Сущеня. К своему удивлению, Буров нисколько не опасался его, не думал, что тот может сбежать в ночи или, обернувшись, ударить лопатой по голове. Он не столько понимал, как подсознательно чувствовал, что Сущеню что-то удерживало от враждебных по отношению к нему намерений, хотя, конечно, тот не мог не сознавать, куда они шли. Правда, на всякий случай Буров поближе к пряжке передвинул на ремне наган, расстегнул язычок кобуры. Карабин он нес на плече и все время напряженно думал: где? Где ему покончить с этим человеком, чтобы наконец скинуть с себя гнетущую обязанность и скорее вернуться в отряд? Что-то, однако, все время мешало ему — какая-то неопределенность в обстоятельствах, что ли? Все-таки впереди было много неясного, путь им преграждала река, перейти через нее — тоже требовалось время. В поле под лесом, конечно, было удобнее, чем на этих станционных огородах, под носом у бобиков. Сам не признаваясь себе, он между тем умышленно медлил, словно до последней возможности отодвигал тот самый неприятный момент, за которым наступит облегчение. Что-то в нем еще не созрело, чтобы он мог решиться окончательно и без сожалений.
Вопреки опасениям Бурова речку теперь преодолели легче, чем в первый раз, Войтик взобрался на коня и осторожно переехал ее возле кладки; по кладке на ту сторону довольно сноровисто перебежал Сущеня. Чтобы не намочить ноги, Буров также благополучно переехал речку верхом, и они остановились на болотистом берегу за лозняками. Буров еще ничего не решил, но Сущеня эту короткую заминку, наверно, понял по-своему и взмолился:
— Ну что вы, братцы! Берег же весной заливает, торфяник тут…
— А ты что, песочка захотел? — без определенного, однако, намерения сказал Буров.
— А хотя бы и песочка! Все-таки лучше, сам понимаешь. Придется же когда-нибудь и самому…
— Песочка? — сказал Буров, подумав. — Ну ладно, поехали. В сосняке — там песок.
— Ну хотя бы в соснячке, — дрогнувшим годовом согласился Сущеня.
В поле было темно и очень ветрено, внизу на черной раскисшей пашне ничего не было видно, только рядом на фоне мрачного, покрытого тучами неба тускло выделялись ветки кустарника и вдали, за полем, высокой стеной чернел хвойный лес, откуда они приехали вечером. К этому лесу Буров и направил кобылку, и они долго хлюпали по грязи, пока не выбрались на жнивье, где стало немного суше. Сущеня с лопатой на плече все время держался рядом, идя вровень с Буровым, несколько раз порывался заговорить о чем-то, но только безнадежно вздыхал. А Буров, покачиваясь из стороны в сторону на усталой кобылке, думал, что напрасно этот Сущеня отрицает свою вину, все факты против него, и из них самый неопровержимый тот, что ребята погибли, а он живой. Его отпустили! Ну что еще надобно, какие доказательства? Рельсы развинчивали вместе с этим вот бригадиром путейцев, а почему его отпустили, он объяснить не может. Не знает! Но за так гестапо не отпускает, это и дураку понятно. А то все твердит: не виноват, не выдавал никого. Но вот же идет! Знает, куда ведут, и даже прихватил лопату, а идет. Не убегает, не сопротивляется, а идет. Разве бы шел он с такой покорностью, если б был невиновен?..
А может, именно потому и идет, что невиновен? Черт его знает, думал Буров, мучительно ощущая, как все в его голове странным образом перепуталось, и сколько ни думай, все равно чего-то не сообразишь, так все взбаламутила эта война. Или, может, Буров чего-то не знает? Хотя что изменилось бы, если бы он и знал все? Он же приехал сюда не затем, чтобы разбираться или понять что-либо, его дело проще пареной репы — застрелить предателя. Чтобы другим было неповадно, чтобы знали, как партизаны карают тех, кто предает своих, прислуживает немцам.
На опушке они переехали пустую в ночи гравийку, и Буров соскочил с кобылки — ехать в темноте по кустарнику было невозможно. Пока он слезал, Сущеня подождал рядом, Войтик тоже спешился сзади. В лесу было мокро и стыло, сверху с ветвей то и дело падали холодные капли, но ветер тут немного утих и казалось немного теплее, чем в открытом поле.
— Тут пригорок где-то, — припоминая местность, сказал Буров. Сущеня согласно указал рукой в мрачные заросли.
— Да вон боровинка рядом.
— Ну давай. Иди ты вперед.
Сущеня молча пошел впереди, следом Буров вел на поводу кобылку; мокрые ветки иногда цеплялись за шапку, за плечи, и он едва успевал уклоняться от них, иногда Сущеня придерживал ветку рукой, чтобы не стегнуть Бурова. Придорожный кустарник скоро, однако, кончился, они выбрались на более свободное место; чистый, без травы и зарослей лесной дол под ногами начал подниматься в гору. Впереди была боровинка — лесной пригорок, негусто поросший старыми соснами, мощный шум которых широко расплывался вверху. Эту боровинку Буров помнил еще с детской поры, здесь по весне ребята разжигали костры, затевали игры, летом под соснами любили отдохнуть грибники. Боровинка пологим увалом огибала опушку, дальше снова тянулись кустарники с островками берез и сосен. Они взобрались на плоскую вершину пригорка и остановились. Всюду было тихо, темно, терпко пахло лесной сыростью и хвоей. Вокруг по склонам темнели толстые комли сосен, редкие кусты можжевельника, какие-то непонятные пятна, но Буров давно уже привык к загадочному виду ночного леса. тот его мало тревожил. Теперь его больше тревожил Сущеня.
— Ну, — нарочито бодро произнес Буров. — Чем не местечко? На любой случай!
— Случай!.. Если бы мне сказали когда… — уныло начал и не кончил Сущеня.
Ссутулясь, он стоял на пригорке, устало дыша и всем своим обиженным видом свидетельствуя, что совершается несправедливость, с которой он бессилен бороться и вынужден ей подчиниться. Буров видел это, и ему все больше становилось неловко от своей незавидной роли в этой истории. И он сказал, может, для того, чтобы слегка ободрить Сущеню, а заодно и себя тоже:
— Конечно, все случается. В такую войну…
— Но ведь это дико! — вскрикнул Сущеня, и Буров сердито его одернул:
— Тихо ты!
И оглянулся на Войтика, молчаливо стоявшего с лошадью несколько ниже, на склоне пригорка.
— Войтик, покарауль там, у дороги. Пока управимся…
Не сразу, по своему обыкновению сперва о чем-то подумав, Войтик потянул за повод коня и молча пошел вниз к опушке и недалекой отсюда гравийке. Буров отпустил свою кобылку — пусть попасется немного.
— Ну давай! Где ты хочешь? — просто, как о чем-то малозначительном, спросил он Сущеню. Тот, будто очнувшись от угрюмой задумчивости, с силой вогнал в землю лопату.
— Правду сказал тот Гроссмайер — у него не выкрутишься.
«Ага, уже и какой-то Гроссмайер, — подумал Буров. — Вот так и… Не связь ли обнаруживается?» Он отошел на три шага в сторону, чтобы не мешать Сущене, стал на пригорке. Вообще он понимал, что, согласившись свернуть сюда, в лес, делает не то, и прежде всего тратит попусту ценное время ночи, за которое они бы отъехали далеко, что завтра как бы не пришлось пробираться среди бела дня возле шишанского гарнизона, засветло переходить шоссейку. Но он невольно оттягивал исполнение приговора, выискивая для того какие-то причины, и даже был доволен в душе, когда те причины отыскивались еще и у Сущени.
Молча, с упрямой настойчивостью Сущеня тем временем принялся рыть себе яму. Отбросив в стороны мох, он долбил жесткие корни; выбрасывал их наверх вместе с сухим белым песком и уже через несколько минут до колен углубился в землю. Еще немного подолбит, и, пожалуй, будет довольно, с отчаянной решимостью подумал Буров. Все-таки надо кончать. Как это сделать — выстрелить в него в яме или над ямой? Стрелять в грудь или в затылок? Как удобнее? Или, может, спросить у самого — на выбор? Буров хотел, чтобы все обошлось по-хорошему, без ругани и издевки. Все-таки свой человек, бывший сосед. К тому же еще Анеля… И малый Гриша. Как все это противно, не по-людски. Пусть бы послали кого другого, в который раз начинал злиться Буров.
— Ты это, хоть не говори Анеле, — выпрямился в яме Сущеня, вытирая рукавом лоб и часто дыша от усталости.
— Что не говорить? — не понял Буров.
— Ну, что застрелил. Скажи, немцы убили. Потом уже, конечно, выяснится ..
— Там видно будет, — уклончиво ответил Буров. «Чудак-человек! — подумал он о Сущене, который, немного передохнув, снова принялся копать. — О чем беспокоится…» На пригорке уже вырос свежий песчаный холмик, он отчетливо белел на земле, быстро разрастался вширь. Сущеня работал что надо, наверно, действительно заботился, чтобы могила была не хуже, чем на станционном кладбище. Но тут ему не кладбище, чтобы делать все основательно и с любовью, да и он не тот, кого хоронят на кладбищах. Прежде всего он предатель, а потом уже все остальное, старался разозлить себя Буров. Но это плохо ему удавалось, мешали сомнения, и главное сомнение шло, по-видимому, от непротивления Сущени, от его почти добровольного примирения с тем, что его ждало. Самое лучшее было, конечно, не думать о том, побыстрее сделать свое дело и смыться. Но вот думалось…
— Ну, может, хватит? — сказал Буров, шагнув на песок, и Сущеня устало выглянул из ямы. — Закапывать много придется.
— Ага, ты уж закопай, я тебя попрошу. Ватник… Ватник бы надо Анеле отдать.
— Ватник? Давай. Передам как-нибудь.
— Ага. Хорош же ватник. Когда она такой справит. Вдова.
Отставив в сторону лопату, Сущеня снял с себя ватник, бросил под ноги Бурову. Тот взял, отряхнул от песка, ощутив тяжесть свертка в кармане, и, ступив в сторону, оглянулся. Кобылка, слыхать было, тихо паслась возле кустарника, она не любила ночью далеко отлучаться от хозяина, и он знал это. Его вдруг встревожил недалекий шорох возле дороги, который, показалось, как-то внезапно прервался, и Буров тихо позвал:
— Это ты, Войтик?
Но из кустарника никто не откликнулся, потом там что-то хрустнуло — явно и подозрительно. Буров постоял недолго и вдруг, пригнувшись, схватился за карабин. Он еще ничего не увидел в темноте, но уже отчетливо ощутил угрозу, исходящую из кустарника, где наверняка появились люди.
— Стой! — негромко приказал он.
И присел на корточки, чтобы лучше увидеть во тьме. Какая-то тень метнулась между неподвижных кустов можжевельника и исчезла.
— Стой!! — сдавленно крикнул Буров.
Но только он поднес к плечу приклад карабина, чтобы выстрелить, как с той стороны грохнуло разом три выстрела, пули ударили в ствол ближней сосны, обсыпав его крошкой коры. «Что же это такое? Там же Войтик, там Войтик…» — забилась в голове почти паническая мысль, и он выстрелил тоже — два раза подряд. Оттуда началась густая стрельба, пули сыпали сверху хвоей, взбивали песок; Буров все напрягал зрение, стараясь хоть что-то увидеть в темноте, но почти ничего увидеть не мог. Тогда он начал стрелять по кустарнику наугад. Но только сделал два выстрела, как со стоном опустился наземь, подкошенный острым ударом в бок. «Ну, попали! Попали…» В кустарнике под боровинкой уже явственно замелькали зыбкие тени, он выстрелил еще раз и, испугавшись, что его окружат, отскочил в сторону, кувырком скатился с пригорка.
Не разбирая дороги, он шатко бежал по лесу, неся горячую спицу в боку. Сзади слышались крики, грохотали торопливые выстрелы, хлесткими сквозными ударами они пронизывали темное лесное пространство, коротким эхом отдаваясь вокруг. Он все бежал, сколько хватало силы, хорошо понимая, что только ноги и темень могут спасти его. Он не выбирал пути, потерял шапку, несколько раз больно натыкался на низкие сучья сосен, вдобавок угодил в хвойную чащу молодняка. Запутавшись ногами, упал, но тут же ухватился за ветку, поднялся снова и едва выбрался из зарослей. Выстрелы тем временем стали реже и раздавались на значительном удалении; кажется, он оторвался от преследователей. Под ногами началось болотце, жесткие травяные стебли цеплялись за ноги, не давая бежать. Впрочем, бежать он уже и не мог, шаг его все замедлялся, наконец ноги подкосились и он снова упал, уже не пытаясь подняться. Сознание его стало тускнеть, пропадая и возвращаясь разве что с приступами острой, почти непереносимой боли. Он судорожно повернулся в траве и застыл, так и не поняв, спасся или гибель все-таки настигла его.
Заслышав рядом встревоженный крик Бурова, Сущеня обмер от испуга в своей яме-могиле, а потом, как загремели выстрелы, сжался, втянул голову в плечи. Он не сразу понял, что стряслось наверху, и, только когда рядом мелькнула согбенная тень Бурова, смекнул, что надо удирать. С необычайной ловкостью он выбросил из ямы свое дюжее тело, перевалился через песчаный бруствер. Между частых, торопливых выстрелов с дороги уже слышались невнятные крики, пули с продолжительным визгом пронизывали лесную темень, но стреляли не по нему — наверно, вдогонку Бурову. И потный, разгоряченный Сущеня припустил с пригорка несколько в ином направлении, но тоже от тех, что приближались с дороги. Он не знал, что это были за люди, свои или немцы, но если побежал Буров, то и ему надо было спасаться. И он бежал — сперва с боровинки, потом по кустарнику в глубь леса, едва не грохнулся на землю, зацепившись за корягу, ободрался в кустарнике, выскочил на край болотца с мягким, податливым мхом внизу. Дальше было кочковатое болото, но он знал, что болото можно было обойти стороной, взяв ближе к пригорку с соснами. И так он бежал долго, пока вконец не уморился, потом пошел шагом. Его не преследовали, может, его и не заметили даже. Какое-то время позади на боровинке слышались голоса и бахали редкие выстрелы, по-видимому в ту сторону, где исчез Буров. Хотя и за Буровым они вроде не погнались, похоже, они остались на боровинке, возбужденно переговариваясь, их слова в лесном шуме едва достигали слуха, и Сущеня не мог ничего разобрать. Он слушал и ждал, куда они направятся дальше — следом за ним или вдогонку за Буровым, будут искать или нет. Стрельбу, однако, они прекратили, опять воцарилась лесная тишина, лишь сонно шумели сосны. И Сущеня впервые подумал, что, судя по всему, его расстрел пока что откладывается и появляется странная возможность спастись. Только где оно, это спасение, в какой стороне? Дома он наверняка не спасется, дома его настигнут тотчас же, как только он там появится. Но где не настигнут? Куда ему податься, чтобы воспользоваться той удачей, какую нежданно послала разнесчастная его судьба?
Он пошел тише и осторожнее, стараясь не натыкаться в темноте на торчавшие всюду сучья, оглядываясь и прислушиваясь. Становилось чертовски холодно, стыли руки, ледяной корой бралась на спине рубаха. Он долго и почти вслепую брел в негустом здесь сосняке, стараясь услышать что-либо сзади, с пригорка. Но там, похоже, все смолкло или затаилось на время. «А может, они ушли оттуда, зачем им сидеть ночью в лесу?» — подумал Сущеня. Где-то там остался его ватник, но ватник уже не возьмешь — ватник они, конечно, подобрали сами. Все же, наверно, это полицаи, иначе Буров не стал бы в них стрелять, да и они в Бурова тоже. Только как полицаи оказались тут? Выследили? Или, может, услыхали их возню у дороги? Но ведь там был этот, другой партизан, куда он подевался? Может, убили? Наверно, убили, если он ничем не дал знать о себе — ни криком, ни выстрелом.
Отойдя, может, на километр от боровинки, Сущеня остановился на краю старой вырубки, густо поросшей малинником и молодым хвойным подростом, перевел дыхание. Слух его чутко улавливал каждый звук в лесу, но, кроме шума деревьев, в ночи нигде ничего не было слышно… Постояв немного, он полез было в чащу, но снова остановился, подумав: а вдруг они все побежали за Буровым и на пригорке никого не осталось? Недолго поразмыслив, Сущеня повернул назад и, выбравшись из зарослей, помялся в нерешительности: куда все же податься? Его по-прежнему влекла к себе боровинка, где осталась недокопанная его могила. Поколебавшись немного, он, крадучись, стал пробираться назад, к тому проклятому месту. Он должен убедиться, что там никого не осталось. А может, и поискать ватник.
Осторожным шагом Сущеня миновал пригорок и вышел к мокрому болотному берегу с чахлым ольшаником. Вокруг было тихо, и звучный хруст ветки под сапогом испугал его. Кажется, однако, никто его здесь не услышал, и он махнул рукой — черт с ним, с ватником! Вдруг там сидят в засаде и ждут. Напорешься, что тогда делать? В другой раз вряд ли спасешься. Он вспомнил, что куда-то сюда побежал Буров — выстрелы с боровинки тогда гремели именно в этом направлении. Неизвестно, удалось ли Бурову скрыться или его убили? А может, поймали и увели на станцию? Теперь в этой лесной глухомани, когда давило сознание безысходности, судьба Бурова почему-то всерьез обеспокоила Сущеню. Обойдя ольшаник, он взял немного в сторону, медленно, часто останавливаясь, побрел в ту сторону, где исчез партизан. Несколько раз под ногами пугающе потрескивали ветки, он настороженно замирал, но крика или выстрела не было, и он все смелее, без остановки пробирался дальше. Теперь ему надо держаться болотца и решать, куда сворачивать дальше. Куда идти. Потому что уже очевидно: на станцию ему путь заказан, на станции ему спасения не будет. Пожалуй, надо уходить в лес. Или на какой-либо хутор. А может, найти лесное пристанище, подальше от людей, деревень и дорог? Где только найдешь его теперь, такое пристанище? Да еще поздней осенью, накануне зимы?
Отойдя на порядочное расстояние от боровинки, он снова набрел на низину с лозняком и ольшаником, вспомнил, что чуть правее начинался редкий молодой сосняк и дальше до самого бора тянулись перелески, березняк, хвойные посадки. Где-то рядом бежала лесная дорожка, но дорог теперь ему следовало избегать. Вытянув в темноте руку, он слепо брел краем сосняка, то и дело уклоняясь от холодных мокрых ветвей, придерживая шапку на голове. Встретившийся ему на пути молодой осинник, который он помнил с лета, лучше было обойти далеко стороной, и только он повернул от него, как в привычном ветреном шуме леса различил новый, непонятный звук. Будто лесной голубь сонно проворковал где-то и смолк. Сущеня выждал немного, вслушиваясь, и, встревоженный внезапной догадкой, полез в гущу осинника. Голубиный нутряной звук раздался явственнее и ближе; напрягая зрение, Сущеня осмотрелся. Было по-прежнему темно, но уже привыкшие к лесной темноте глаза Сущени различили в кустарнике едва заметный светловатый бугорок. Опустившись возле него на колени, Сущеня пошарил руками и сразу наткнулся на ложу винтовки в траве, нащупал разбросанные полы шинели, откинутую в сторону руку. Кажется, это был Буров в его подпоясанной волглой шинели. Но он молчал, никак не реагируя на прикосновение чужих рук. И Сущеня не решился окликнуть его, только лихорадочно ощупывал его тело, смекая, что тот еще жив, хотя и лежит без сознания. Руки Сущени густо испачкались в крови, но, где была рана, он понять не мог. Слегка повернув на земле раненого, ощупал его бока, трава под ним тоже была в крови, как и полы шинели внизу. Но Буров по-прежнему оставался безразличным к его прикосновениям, лишь натужно, тихо стонал. Что было делать, как помочь раненому, этого Сущеня не знал. Он лишь подергал его за рукав.
— Э, э… Ты жив? А?.. Куда тебя, а?
Буров все так же молчал, сдавленно-тихо постанывая, и, словно в ознобе, мелко трясся. Наверно, перепало ему как следует, обеспокоенно подумал Сущеня, как бы он здесь не кончился. И что было делать, как ему пособить? Может, сперва унести его в более укромное место, потому что утром, с рассветом, этот край осинничка весь станет виден с дороги. В эту пору сквозь голый подлесок видать далеко.
Сущеня был мужик сильный, когда-то на станции разгружал пульмановские вагоны с солью. Напрягшись, он взвалил на себя тяжелое тело Бурова, подобрал с травы винтовку и, опершись на нее, как на палку, поднялся на ноги. Немалых усилий стоило ему с ношей на плечах выбраться из чащи на более свободное место. Там он немного распрямился, удобнее перехватил раненого. В негустом сосняке идти стало удобнее, он прибавил шагу и едва не упал, зацепившись за корень. Кое-как все же удержался, снова поддал выше упрямо сползавшего вниз Бурова, и тот вдруг с усилием выдохнул ему в ухо: «Войтик, ты?»
Сущеня хотел назваться, сказать, что он не Войтик, но с опущенной головой, прижатой подбородком к груди, разговаривать было чертовски неудобно, и он предпочел смолчать. Пусть думает, что Войтик, а там будет видно. Главное, пока ночь, надо подальше отойти от этого злосчастного места, скрыться от полицаев. Поутру, наверно, все тут обложат, начнут проческу; утром они запросто могут попасть в полицейские сети.
Однако, черт побери, долго нести так, подвернув голову, тяжелого мужика на плечах становилось невмоготу. Сущеня весь взмок от пота, затекли руки, а потом стали подкашиваться ноги. Чтобы не упасть, он медленно опустился под сосной на колени и бережно свалил с себя Бурова. Рана у того все кровоточила, рубаха на спине у Сущени сделалась мокрой от крови. Судорожно хватая ртом стылый воздух, он вытянулся рядом с Буровым. Однако, полежав минуту, поднялся, вслушался в неумолчный шум леса. Рядом завозился раненый.
— Что? Чего тебе?
В следующую минуту он понял, что Буров ругался, наверно, от боли, затем притих и вдруг спросил явственным шепотом:
— Куда… Куда ты меня несешь?
— А и сам не знаю, — обрадовавшись оттого, что Буров заговорил, сказал Сущеня.
— Войтик? — испуганно дернулся Буров, загребая рукой.
— Не Войтик — Сущеня я, — сказал Сущеня, и Буров снова насторожился. Похоже, он припоминал что-то или прислушивался. Наконец спросил с напряжением в голосе:
— Меня здорово… подстрелили?
— А кто же его знает. Но подстрелили, — сдержанно ответил Сущеня.
— А я тебя… не успел.
— Так когда же было!.. Они же там вдруг наскочили, — сказал Сущеня и умолк, не зная, как продолжать разговор.
Буров мучительным усилием разлепил веки, взглянул между темных сосен на едва мерцавшее ночное небо.
— Ты меня в Зубровку. В Зубровку меня, — скрипнув от боли зубами, сказал Буров. — Там спросишь Киеню…
— Киеню? Ладно.
Сущеня помолчал, стараясь лучше запомнить названную фамилию и думая: где эта Зубровка? Слышал, вроде где-то под Синянским бором есть такая деревня, но самому там бывать не приходилось, и он не представлял, как туда добираться. Знать хотя бы, сколько до нее километров.
Буров тем временем умолк, и Сущеня слегка тронул его за ногу, опасаясь, как бы тот снова не потерял сознание. Наверно, надо было его перевязать, но перевязать было нечем, опять же в этой темени ни черта невозможно было рассмотреть. Но и долго тащить его на себе тоже было опасно — прежде всего для самого раненого, как бы не истек кровью. Недолго порассуждав, Сущеня пришел к мысли, что необходимо где-то раздобыть лошадь. Где только? На станцию идти он боялся, чтобы опять не напороться на полицию. Разве что в Бабичах? Помнил, в этой стороне километрах в пяти от станции ютилась под лесом небольшая, в десяток хат деревушка, в которой, наверно, кто-то еще обитает, и там бы он раздобыл лошадь.
Решив так, он снова склонился над неподвижным Буровым, слегка потормошил его за полу шинели.
— Слушай… Ну, как ты? Может, доберемся до Бабичей? А там достанем повозку?..
Буров как будто очнулся, напрягся и, распрямившись, спросил о другом:
— Где Войтик?
— А кто же его знает, — тихо сказал Сущеня. — Может, убили.
Невнятно выругавшись. Буров снова притих под сосной.
Немного подождав, Сущеня поднялся на колени; карабин Бурова, чтобы тот не мешал при ходьбе, перекинул ремнем через шею. В этот раз взвалить на себя раненого оказалось труднее, чем прежде. Все так же пошатываясь, он потащился между сосен в ту сторону, где за сенокосами и болотом лежали лесные Бабичи.
Ведя на поводу лошадь, Войтик спустился с боровинки, продрался сквозь густой придорожный кустарник и очутился возле гравийки. Тут, у канавы, была еще поздняя отава, в которую сразу же воткнулся мордой его оголодавший конь. Войтик сначала придерживал его за повод, потом отпустил на волю. Пусть попасется, далеко не уйдет, подумал Войтик, а сам закинул за плечо винтовку и прислонился спиной к корявому комлю сосны, ближе других стоящей к дороге. Было холодно, с поля дул пронизывающий ветер, хорошо, что не шел дождь, хотя и без того Войтик продрог как собака за этот нелепый вечер. Обе их лошади подбились и отощали в дороге, а они… Они проголодались не меньше, чем лошади, только о них кто позаботится? О себе они должны были заботиться сами, так было принято на заданиях. Но на таких дальних, как это, не все получалось гладко, иногда случались накладки, и много зависело от старшего. От командира. Сейчас командиром назначили Бурова. Что ж, Войтик не возражал: Буров был партизан с опытом, опять же разведчик, мотался по заданиям, может, побольше Войтика, да и под пули, наверно, попадал чаще. Только был ли он от того умнее, вот в чем вопрос. Если судить по недавней, довоенной жизни, то все-таки Войтик, как инспектор райзо, наверное, значил немного больше, чем шофер райповской полуторки Буров. Впрочем, Войтик уже приметил, что нынче, в войну, не очень обращали внимание на чей-либо довоенный статус, нынче втихомолку повыдвигались новые люди (кто их до войны когда и знал), как вон командир подрывников Рыбчонок, перед войной едва успевший окончить школу, или неприметный пожарник Слипченко, нынешний их начальник штаба. О Войтике они вроде забыли, будто его и не было в районе, не сидел он в президиумах, не колесил по деревням уполномоченным различных кампаний, не выступал с заметками в районной газете. Все-таки он был человек, известный в районном местечке, и даже, случалось, составлял выступления предрику товарищу Корбуту, который хотя и имел орден за успехи в социалистическом строительстве и был передовым руководителем, но не научился за всю свою жизнь говорить связно. Всегда у него получалось не политическое выступление, а какая-то словесная каша. Ну, дома, в районе, это еще было терпимо, тут к его малопонятным речам давно все привыкли. Но ведь иногда надо было выступить и в области на каком-нибудь совещании, перед высоким начальством. Вот тогда предрайисполкома и вызывал к себе в кабинет Войтика, усаживал за стол напротив, и тот за два дня сочинял любое выступление. На любую ответственную тему.
Войтик привык считать себя человеком образованным, все-таки окончил семь классов, а главное, обладал красивым, каллиграфическим почерком, какого не было ни у одного писаря в районе. Почерк его кормил в райисполкоме, а до того в сельском Совете, куда он попал также благодаря этой своей редкой способности — красиво писать. Как-то накануне коллективизации, избранный в президиум сельского собрания, он вел протокол. Бумага была неважная — тетрадь в клеточку, чернила водянистые, но ручку он имел свою, с отлично расписанным пером номер 86. И уж он постарался. Он так аккуратно, с полями и росчерками заглавных букв написал протокол, что председатель сельсовета, подписывая его в конце собрания, округлил глаза: ну и писарь! Да и остальные члены президиума залюбовались его работой, такого почерка здесь не видали, наверно, от сотворения мира. Председатель сельсовета в тот вечер взял секретаря на заметку, и месяц спустя Войтик уже сидел в сельсоветской избе и писал. А когда товарища Корбута посадили руководить районом, Войтик перешел за ним в райисполком — кадр он уже был опытный и вполне проверенный.
Теперь же, в отряде, дел по его специальности, конечно, не находилось, впрочем, он и не претендовал на что-либо особенное. Он понимал — война. Сказали: взять винтовку и стать в строй. Он взял винтовку и стал в строй. Правда, он и здесь значительно выделялся среди прочих, особенно среди малограмотных вчерашних колхозников, ни одного дня не служивших в армии и никогда не державших в руках винтовку. А уж если разобрать да собрать затвор… Хотя Войтик тоже не призывался на действительную службу, но он основательно изучил винтовку на занятиях Осоавиахима, где даже стрелял три раза, когда сдавал нормы на значок «Ворошиловский стрелок». Значок и теперь у него на груди, как орден. Хотя, может, заслужит еще и орден. Красной Звезды, например, как у командира отряда. В самом деле, что он, глупее этого нахрапистого пехотного лейтенанта? Может, и умнее даже, хотя бы уже потому, что старше его лет на восемь и основательно подкован политически, а что до сих пор рядовой, так тому причиной его врожденная скромность. Со словом не выскакивает, на бога не берет, все по-хорошему, тихо и спокойно.
Вот хотя бы и с этим Буровым.
Войтик еще с вечера, когда они подъезжали к сущеневской хате, понял, что Буров что-то мудрит и лукавит, когда заходит в одиночку в хату изменника и задерживается там черт знает зачем, оставив его с лошадьми мерзнуть на ветру. Ведь все можно было сделать просто и скоро: вызвать Сущеню на порог и прихлопнуть без лишних слов. Собаке собачья смерть, зачем канителиться? Так нет, сидел полчаса в хате, потом повел его за речку, в лес. Могилу ему копает… Гляди, еще станет лапником ее выстилать, как тот Поливанов, когда расстреливал своего дружка Шургачева за проявленную трусость в бою. Эти двое лейтенантов из окруженцев недавно пришли в отряд, и вот в первом бою с Книговским гарнизоном Шургачев из трусости удрал из-под огня, тем самым подставив под огонь первый взвод. Взвод, конечно, выбило наполовину, ну, командиры и решили, чтобы сам взводный исполнил приговор, который Шургачеву вынес отряд. Поливанов приговор исполнил, но выстелил дно могилы лапником, чтобы уютнее было дружку, с которым они, говорят, хватили лиха на фронте. Но тут не фронт — тут партизанка. Опять же Сущеня никому из них не сват и не брат, просто изменник, хотя и давнишний знакомый Бурова. Тогда зачем такое внимание? Разумеется, Войтик мог бы заявить о своем несогласии, но он знал характер этого райповского шофера еще с той поры, как тот гонял свой грузовик между местечком и Лепелем, возил лен, товары, пеньку и всегда кого-нибудь рядом — заготовителей, бухгалтера, начальство. Как-то с ним поехал и Войтик — надо было срочно отчитаться о темпах картофелеуборки в районе. В городе они пробыли недолго, Буров загрузил полуторку мешками с перловкой и перед отъездом забежал в контору, как вдруг к машине приковыляла бабка, была она из соседней с местечком деревни, ездила хоронить сына и теперь возвращалась домой. Войтик согласился подвезти — в самом деле, не идти же старухе сорок верст по грязи. Он помог бабке влезть на машину, и та удобно устроилась возле мешков в уголке кузова и была страшно довольна его добротой. Тем более что начинался дождь и поблизости не было никакой подводы. Но тут из конторы выскочил взмыленный, с квитанциями в руках Буров, и, когда Войтик показал ему на бабку, тот завопил на нее: «Слазь!» Бабка, конечно, слезла, а Буров распахивает дверцу кабины, где уже сидел Войтик, и кричит: «Вылазь!» С ума он спятил, что ли, подумал Войтик, но вылез, и Буров усадил на его место в кабине бабку. Они поругались, бабка тихо сидела, словно мышка, а Войтику пришлось сорок верст трястись под дождем на ветру в открытом кузове. И никакого внимания на его, районного масштаба положение, его служебный авторитет. И, главное, на глазах у какой-то старухи. Войтик простудился, конечно, потом с полгода обходил стороной этого Бурова, все пытался узнать, не приходится ли ему родней эта бабка. Оказалось, нет, не родня, даже не очень знакомая. Значит, обычное хамство и хулиганство, иначе не назовешь поступок райповского шофера.
Теперь вот этот Сущеня.
Лошадь спокойно паслась возле канавы, дорога лежала пустая, тускло поблескивая лужами. За полем на станции принялись лаять собаки; где-то ненадолго засветился огонек, наверно, из растворенных дверей. Теперь там тепло и уютно, варят картошку на ужин, подумал Войтик, а тут глотай с голодухи слюну и коченей на ветру. Все время он напряженно ожидал выстрела на боровинке, после которого они бы с облегчением поехали в Зубровку, где были свои люди и где можно было обогреться, поесть и переночевать. Но минуло около часа, а выстрела не было, и Войтик отошел от сосны, потопал ногами, которые все больше зябли в стоптанных дырявых ботинках. Повернувшись от ветра, поднял барашковый ворот поддевки, глубже надвинул на голову кепку и только опять прислонился к сосне, как услышал вблизи голоса. На дороге в том месте, где паслась лошадь, темнели две повозки (и откуда они взялись?), и с них молча ссыпались люди, человек шесть, которые украдкой бросились сразу к кустарнику на опушке. Один, высоко переставляя ноги в бурьяне, прошел совсем близко, и Войтик проводил его очумелым взглядом, пока тот не скрылся в кустарнике. Как на беду, с боровинки донеслось несколько слов — это Буров спокойно разговаривал с Сущеней. Придя в себя после минутного замешательства, Войтик метнулся за сосну и оттуда по опушке прочь с этого места. Сзади уже раздавались крики и грохнули первые выстрелы, их упругие хлесткие удары сдвоенным эхом полоснули по опушке, казалось, над самой головой Войтика. Ломая ногами сухой придорожный бурьян, Войтик бежал, пригибаясь к земле, потом немного распрямился, не сразу смекнув, что стреляют не по нему вовсе. Было слышно, как пули взвизгивали в стороне от пригорка, там же слышались крики или, возможно, ругань, хрипло дыша, Войтик немного мог услышать, тем более понять.
В лощинке возле болотца с ольшаником он устало замедлил свой бег, прислушиваясь, не обнаружится ли поблизости Буров. Но Бурова нигде не было. Скоро, однако, вокруг все затихло, прекратились и выстрелы на боровинке. И что там случилось, не мог понять Войтик. Но что могло случиться, подумал он, если налетела полиция? Наверняка застрелили Бурова и освободили Сущеню. Надо было его тащить в этот лес! Жена сбегала к коменданту, и тот послал полицаев вдогонку. Ну, стоило ли Бурову затевать этот расстрел в лесу, копать могилу? Теперь в эту могилу Сущеня сбросит Бурова. Впрочем, может, так ему, дураку, и надо.
Хуже всего, что Войтик лишился лошади, которая досталась теперь полицаям. А может, и не досталась, может, спокойно пасется себе на опушке, и ее удастся потом забрать. Нужно только погодить немного и посмотреть. Но Войтик не стал возвращаться туда по дороге, а направился в обход по лесу. Осторожно, чтобы не наткнуться в темноте на дерево, прошел вдоль опушки и скоро выбрался на лесную дорожку, по которой они вчера приехали сюда. Дорожка тянулась между двух мрачных стен мелколесья и сосен, вверху светловатой щелью мерцало беззвездное небо. Чтобы лучше слышать, Войтик. остановившись, придержал дыхание: показалось, будто с гравийки донеслись голоса. Он вслушался снова, но голоса пропали. Может, они уже уехали, подумал он про полицаев. Забрали убитого Бурова и вернулись на станцию. А если оставили засаду — в том случае, если Бурову удалось уйти? И теперь караулят его на боровинке. Впрочем, на черта ему боровинка, ему нужна была лошадь.
Недолго постояв в раздумье и все вслушиваясь в неумолчный шум леса, Войтик немного осмелел и тихо побрел по заросшей травой дороге. Вблизи от гравийки снова остановился, послушал и пошел быстрее, осторожно ступая по мокрой траве. Скоро он вышел на опушку и, вглядевшись, увидел невдалеке сосну, возле которой дожидался Бурова. Но к сосне он не стал приближаться, с опушки вгляделся в дорогу. Повозок там вроде уже не было, значит, они уехали. Или, может, перебрались в другое место? Но нигде не было и лошади. По-прежнему буйствовал настырный ветер, начал накрапывать дождь. На станции вдали все поутихло. Стояла глухая ночь. Значит, лошадь они забрали, подумал Войтик, и он остался ни с чем.
Он еще раз зло помянул в мыслях дурака Бурова и его глупое потворство Сущене, которому, видишь ли, захотелось песочка. Подумал, что, по-видимому, уже нет смысла торчать тут, на проклятой опушке; пока ночь, надо подаваться в Зубровку и дальше, в их партизанскую пущу. С заданием ничего не вышло, задание они провалили, пусть посылают других. Но, как бы там ни было, вины за Войтиком нет никакой, во всем виноват Буров.
Эту лесную дорожку он помнил со вчерашнего вечера, селений поблизости, кажется, не было, и Войтик быстро пошел, приятно согреваясь в ходьбе. На душе было смутно и горько от постигшей их неудачи — поехали вдвоем верхами, а возвращается один пешком. А главное, неизвестно, что с Буровым, как он доложит о нем в отряде?
Он не сразу заметил, как дорожка в хвойном лесу стала приметнее и он перестал сбиваться с нее, натыкаясь на низкое сучье подлеска. Кажется, начинало светать. Ночной мрак медленно отделялся от земли, задерживаясь в ветвях сосен; вокруг, будто испаряясь, редела ночная мгла. Как всегда, утро несло новый запас истраченной за ночь бодрости. Войтик почувствовал себя спокойнее, согрелся. Однако ни на минуту он не терял бдительности, ступал тихо, и его обостренный слух сразу уловил недалекий подозрительный звук. Это был треск веток под ногой, и Войтик затаился возле молодой сосенки. Вглядевшись в подлесок, он различил невдалеке под соснами странную громоздкую тень, словно медведь пробирался по лесу. Он то двигался стремительно и прямо, то, замерев и пошатываясь, осматривался по сторонам и снова быстро устремлялся вперед. Вот он скрылся в подлеске, вышел на прогалинку, снова остановился. И Войтик скорее догадался, чем увидел, что это человек. Но что он несет? Не другого ли человека?
Неуверенная еще догадка осенила Войтика, и он, решительно шагнув навстречу, тихо позвал:
— Буров?!
Человек, видать было, остановился и прохрипел, не бросая ноши:
— Товарищ Войтик…
Замедленным шагом Войтик пошел между сосенками навстречу, и перед ним все больше вырисовывалась в полумраке рослая фигура Сущени с его ношей и висящей спереди винтовкой. Однако винтовку тот не спешил перехватывать в руки, и это несколько успокоило Войтика.
«Встретил, называется!» — выругался про себя Войтик и спросил:
— Что с Буровым?
Сущеня вроде не удивился этой неожиданной встрече, бережно опустил к ногам Бурова и устало выдохнул:
— Да вот… ранило…
— Наделал делов! — сказал Войтик, снимая винтовку. Не выпуская ее из рук, он склонился над безмолвным Буровым, уже ясно сознавая, что это ранение принесет ему немало горьких забот.
Наверное, Бурова ранило здорово, пуля, похоже, навылет пробила бок, и раненый медленно исходил кровью. Сознание его то и дело меркло, растворяясь в чудовищной боли, которая теперь властвовала почти во всем теле, сердце обмирало от слабости, и он проваливался в мучительный мир призраков. Однако по ту сторону сознания боль эта превращалась в муки несколько иного характера, чем наяву, там он страдал душевно, от какой-то непонятной несправедливости, постигшей его. Физически он чувствовал себя лишь напрочь обессилевшим и опустошенным, с неуклюжими ватными ногами и такими же ослабевшими руками. Этими руками он едва держался за край кузова своей полуторки, стремительно катившейся под уклон по дороге к Залесскому озеру, где был мостик через протоку в другое, поменьше озеро. Но мостик этот исчез самым непонятным образом, не осталось даже следа от него, полуторка набирала скорость, а он не в состоянии был взобраться в кузов, чтобы попытаться остановить ее. Почему она покатилась, того он не знал: может, не поставил на тормоз, а может, кто-то другой управлял ею в кабине, но машина вскоре должна была свалиться с обрыва.
Буров стонал, кричал даже, но не слышал своего крика, как его, наверно, не слышал никто, хотя рядом по дороге шли и ехали люди. Это были странные люди, все в незнакомой коричневой форме, японцы, что ли? Многие из них поблескивали очками на плоских косоглазых лицах, подозрительно поглядывали на него, но никто не попытался ему помочь. И вот наконец случилось то, что не могло не случиться — машина оторвалась от дороги… Только в протоку она не свалилась, полет ее странно замедлился, она вроде бы даже поднялась в воздух, и с нею поднялся он, все так же уцепившись за борт. Минуту спустя он уже парил в воздушном пространстве над озером, и ему стало вроде даже приятно в этом мягком, плавном парении. Земля и озерные берега отдалились, исчезли из виду, окутанные предвечерними тенями. В этом теплом безветренном пространстве он ощутил себя словно в нежарком банном пару. Недолгое его блаженство оборвал громкий, суровый окрик, раздавшийся откуда-то сверху, смысл его Буров понять не мог, но тревога уже охватила его, он знал — сейчас что-то случится, и ожидание предстоящего причинило ему новые душевные муки.
Но вроде ничего не случилось, и вскоре он ощутил себя в ином состоянии: было очень холодно и не было нигде машины. Полуторка его исчезла неизвестно куда, и чей-то незнакомый голос явственно, совсем по-земному спрашивал: «Ты жив, а?» Он хотел ответить, что жив, но не мог взять в толк, где он и что с ним случилось. Почему он лежит? И кто это рядом? Кажется, вроде должен быть Войтик, ведь с ним он ехал в Мостище… Зачем ему надо было в Мостище? Ах, да, расстрелять предателя. Вроде бы они и сейчас туда едут, странно покачиваясь — в седлах, что ли… Только почему он так нелепо распят — мучительно зависнув на руках, а ноги то и дело задевают сапогами землю. Ноги его действительно словно набиты паклей и почти не сгибаются, а под щекой что-то мягкое, теплое и пахнет распаренным человеческим телом.
Но куда пропала полуторка?
Ах, его злосчастная полуторка, этот битый, расхлябанный грузовичок марки «ГАЗ-АА»! Сколько он натерпелся от него, сколько его надежд родилось и перегорело на этой машине и как все нелепейшим образом кончилось…
Он мечтал об автомашине давно, может, с того осеннего дня, как впервые увидел ее на станции — это приехали какие-то экспедиторы из Витебска, и она стояла возле привокзального скверика. В ее уютной кабинке сидел шофер с огромными очками над козырьком кожаной фуражки, опершись на руль, скучающе зевал, дожидался начальства. Трое поселковых друзей-подростков сначала приглядывались к ней издали, потом подошли ближе, потрогали тугие резиновые скаты, борта. Очень хотелось им заглянуть в кабину, но они побаивались шофера, который все вертел головой да постукивал по рулю пальцами. Колька Буров не сводил восхищенного взгляда с его лица и этим, наверно, обратил на себя внимание шофера, который спросил с шутливой строгостью в голосе «Что, хочешь бибикнуть?» — «Хочу», — вдруг сказал Колька, и шофер распахнул кабину. «А ну лезь сюда». С радостно забившимся сердцем Колька вскочил на подножку, шофер подвинулся на мягком сиденье, и он трепетно обхватил обеими руками такое приятное на ощупь колесо руля. Ему живо представилось, как они едут по улице поселка и горят в восхищении мальчишечьи взгляды, все, конечно, завидуют ему. А тут еще шофер предлагает: «А ну, жимани вот на это», — и Колька жиманул, тут же содрогнувшись от неожиданного басистого рыка, раздавшегося из металлического нутра машины. Шофер засмеялся, похлопал его по плечу. «Не пугайся, подрастешь — на шофера выучишься».
Кольку словно подменили в тот октябрьский день, автомобиль стал его постоянной мечтой, он караулил каждую машину на улице, хотя их было тогда еще мало и ему раза четыре всего удалось увидеть их — большей частью на станции, возле грузового двора. Спустя несколько лет, когда он подрос, в поселке появился свой местный шофер — дядька Игнат, отец его одноклассника Стася, и Колька все свободное время стал пропадать на усадьбе друга, караулил его отца, когда тот приезжал на обед и они получали возможность недолго посидеть в уютной, нагретой солнцем кабинке. Правда, Стась не очень увлекался машиной, его больше занимали кролики, которых множество развелось в их заброшенной старой истопке. И, когда летом дядька Игнат принялся за ремонт трехтонки, его первым добровольным помощником стал Колька. Сперва он отмывал от грязи рессоры, потом отмачивал в керосине тормозные гайки, помогал дядьке Игнату разбирать задний мост — где подержать ключ, где подать шплинт и шайбу, а то и подлезть детской рукой туда, куда не подлезала рука взрослого. Затем неделю они перебирали двигатель, и дядька Игнат объяснял парню, для чего нужны шатуны и поршни и как вертится коленчатый вал, откуда и куда идет электрический ток и как он зажигает горючее в цилиндрах. Колька был парень сметливый и запоминал все до мелочей — слава богу, учился уже в седьмом классе. Правда, затем в его шоферском образовании наступил перерыв, три года он проработал в леспромхозе, в основном на подсочке — сборе сосновой смолы. Зато, призванный на военную службу, сразу же попросился в автошколу, сказал командиру, что знаком с устройством автомобиля, надо только подучиться вождению. Командир попался хороший, и месяца через четыре молодого красноармейца Бурова зачислили в автошколу, где он показал усердие и способности и по окончании школы получил шоферские права и по два треугольника в петлицы. После он уже ни о чем другом не мечтал, кроме как обзавестись машиной и ездить на ней до конца жизни.
Однако все оказалось сложнее и менее удачно. После демобилизации он возвратился домой, в местечко, но машин в районе было всего четыре и на всех имелись шоферы. Ему машины уже не досталось, и он стал ждать. Чтобы заработать на хлеб и прокормить мать и сестру, нанялся грузчиком в райпо, где год таскал мешки и ящики, сгружал и нагружал машины. Он ждал упрямо и настойчиво, с отчаянием и надеждой, пока однажды под осень председатель райпо Подобед не позвал его в контору и не велел ехать в Витебск на станкостроительный завод — шефы выделили для райпо грузовой автомобиль. Буров как на крыльях полетел в Витебск. С вокзала на завод он шел словно в тумане от радости, представляя, как станет скоро хозяином ладного, вместительного грузовичка, который он готов был нести домой на руках, чтобы не запачкать по грязи, не поцарапать. Конечно, он не лихач и не будет без толку гонять машину, будет беречь двигатель, боже упаси перегревать, он уже знал многие шоферские секреты — что постиг сам из учебников, чему научили на службе, а что услышал от старых опытных шоферов. Он только опасался, как бы не произошла ошибка и на заводе не завернули его обратно, придравшись к документам, боялся опоздать, тогда автомобиль могли передать другому — какой-либо организации или колхозу.
Ошибки, однако, не произошло. В тесной заводской конторе с зарешеченными окнами недовольный усатый начальник в белой толстовке, подпоясанной узеньким, со множеством бляшек ремешком, проверил его документы и повел через залитый мазутом двор на заводские зады. Завод был большой, они шли долго, протиснулись узким проходом между двумя стенами, перелезли гору ржавой арматуры и в углу возле трансформаторной будки остановились. У забора стояла его «красавица», его полуторка знаменитой горьковской марки «ГАЗ-АА».
Увидев ее, Буров опешил, у него отнялся язык, он не мог вымолвить ни слова. Наверно, почувствовав его настроение, дядька в толстовке с наигранной бодростью бросил: «Вот, прошу любить и жаловать, ваше авто. Налаживайте и поезжайте», — и пошел в свою контору. А Буров в растерянности стоял на месте
— такого он не предвидел. Это был не автомобиль — это был автомобильный труп, рухлядь, груда покореженного металла и переломанного дерева.
Буров тогда едва не расплакался от горя и разочарования. Думая, что никуда ему отсюда не тронуться, что это ломье можно разве что порезать автогеном и сдать в утиль, он поднял половинку капота, осмотрел замасленный двигатель. Свечи, однако, все были на месте, в радиаторе что-то плескалось, в бензобаке тоже. Он вставил рукоятку в храповик коленвала, сильно крутанул раз, другой, третий… И, к его удивлению, на четвертом или пятом рывке двигатель подхватил обороты, зачихал. Буров торопливо потянул рычажок дросселей, и поршни заработали живее, похоже, двигатель завелся. Только его шоферская радость оказалась преждевременной: скоро обороты начали падать, двигатель затрясся, задергался и затих. И, сколько потом Буров ни вертел заводной рукояткой, как ни дергал дроссель, двигатель упрямо молчал, с ним решительно ничего нельзя было сделать.
Весь тот день до вечера он провозился с машиной, покачал колеса, прибрал кабину. На исходе дня пошел в контору просить какую-нибудь машину, чтобы отбуксировать полуторку в район. В конторе не было главного начальника, да и кончался рабочий день, усталый и голодный, он переночевал на ободранном сиденье в кабине, и только назавтра утром подъехал четырехтонный «ЯС», который и взял его на буксир. Пока они выезжали из города и затем ползли по шоссе, Буров взмок за рулем своей доходяги — от усталости и волнения. Хорошо, что буксирный трос был подходящей длины и ему как-то удалось не ткнуться в задний борт «ЯСа». После обеда он подъехал к широко распахнутым воротам райповского склада и, выбравшись из кабины, едва удержался на ногах.
Все долгое лето Буров возился с машиной: разобрал ее до последнего винтика — и двигатель, и ходовую часть; перебрал все узлы, чистил, регулировал, смазывал. Плохо, однако, что добрая половина деталей ни к черту не годилась по старости и из-за износа, надо было менять, но где было взять новые? Несколько раз за лето он ездил в Витебск, все на тот же станкостроительный, мотался в Оршу к знакомому железнодорожному начальнику, заменил задний мост, который райпо раздобыло где-то в погранотряде за Полоцком. Мост этот тоже оказался далеко не новым, но все-таки новее его, совершенно разбитого. Полмесяца он притирал клапана, паял радиатор и ладил тормоза. Когда двигатель и ходовая часть были приведены в порядок, настала очередь кабины и кузова, но это было полегче остального, тут он обошелся подручным материалом. Заделавшись на неделю столяром, отремонтировал кузов хорошо подогнанными досками, а кабину обил цинковой жестью, листов пять которой отодрал с крыши местечкового кляштора (Пристройка к костелу — Прим. автора) при закрытом костеле, который давно уже курочили люди. Оставалось покрасить машину, но нигде не удавалось достать масляной краски, и он месяц ездил в таком страхолюдном виде — с цинковой кабиной и пестрым кузовом. Только поздней осенью за два мешка капусты раздобыл на станции полведра желтой краски и выкрасил полуторку. Получилась довольно приличная машина, которая потом за две зимы и два лета наездила не одну тысячу километров и, наверно, ездила бы и дальше, если бы не война.
На третий или четвертый день войны машину приказали отогнать на станцию, намереваясь погрузить на платформу и куда-то отправить. Буров отогнал, поставил ее на товарном дворе, больше он ничего не смог с нею сделать, потому что сам торопился с повесткой на сборный пункт. Но случилось так, что ни он не попал туда, куда его посылали из военкомата, ни его автомобиль не дождался погрузки. Немало послонявшись по страшным дорогам войны, он вынужден был через месяц возвратиться домой. Фронт далеко обогнал команду запасников, в которой маршировал Буров, местечко заняли немцы. Начальником над районом поставили недавнего бухгалтера Шалькевича, который стал называться бургомистром; поспешно организовали полицию, вольготно расположившуюся в новом здании районной больницы. Там же во дворе он увидел однажды и свою горемычную полуторку, на которой теперь разъезжали полицаи, а за ее рулем сидел младший Микитенок, учившийся в одной школе с Буровым, только на три класса ниже. Он и жил на соседней улице, и когда-то они вдвоем помогали дядьке Игнату ремонтировать его грузовик. Микитенок тоже увлекался техникой и перед войной выучился на шофера.
То, что его автомобиль оказался теперь в полиции, отняло у Бурова сон, он исхудал, перестал есть и даже разговаривать с матерью, которая всерьез обеспокоилась здоровьем сына. Но сын был здоров, он лишь неделями ломал себе голову над тем, как отомстить полиции, да и Микитенку тоже. Сотни вариантов отмщения перебрал он в мыслях, но все не годились: то мелкие были, то несерьезные, то вынуждали на огромный риск, то оказывались невозможными по выполнению. Он искал новые. И вот в декабре он уже знал точно, что сделает, надо было только выбрать подходящий момент. Этот Микитенок в будни и праздники пропадал в полиции, ночью машина стояла на больничном дворе под охраной. На дороге он сделать ей ничего не мог — в ее кузове всегда сидели полицаи с оружием наготове. В полиции была жесткая дисциплина, немцы умели наводить порядок, но Буров все же приметил, что Микитенок изредка заскакивает домой Машину тогда он оставлял возле калитки на улице или загонял в ворота. За воротами, конечно, она была недоступной, там, звякая цепью, бегал злой пес Цыган. А вот возле калитки…
Но нужно было темное время суток, чтобы его никто не заметил ни из окон, ни с улицы. И весь конец осени он следил по утрам за выездами полицаев, вечерами примечал, когда они возвращаются. Во дворе он пристроил к стене сарая удобную лестничку, чтобы при надобности скоренько взобраться на крышу и взглянуть через сад на соседнюю улицу и Микитенкову хату. Он давно уже приготовил удобный, на проволоке квач, чтобы достать из бака бензин, запасливо приберег полкоробка спичек. Однажды ранним вечером он вдруг увидел свою машину стоящей возле Микитенковой хаты. Но увидел поздно, пока обежал сараи и перелез через соседский тын, там уже появились люди — два полицая прикурили возле калитки, Микитенок завел машину, и они поехали. Он опоздал. В другой раз в кузове кто-то сидел, наверно, дожидался шофера, ненадолго забежавшего в хату. Зато в третий раз было самое время. Уже вечерело, он ужинал за столом на кухне, привычно поглядывая в окно, как вдруг между дворовых строений мелькнул приглушенный свет фар, и он сразу смекнул, что это Микитенок. Бросив на столе недоеденную картошку, он выскочил из хаты, подхватил в сенях квач, спички и по заснеженному, залитому помоями зауголью выбежал на огород, перелез через одну изгородь, вторую и из-за тына выглянул на улицу. Машина стояла посередине дороги напротив Микитенковой хаты, в двух окнах которой мерцал свет коптилки, и Буров решился. Он не столько понял, как инстинктивно почувствовал, что более удобного момента не будет. Этот самый удобный.
Бензобак был несколько прикрыт кабиной, из окон никто его видеть не мог. Заснеженная улица тонула в вечерних сумерках, хотя человек на ней был виден далеко, но прохожих не было. Буров с усилием повернул туговатую крышку бака (знал, та всегда отвинчивалась туго) и сунул туда свой обернутый паклей квач. Жаль, бензина оказалось немного, наверно, с половину бака, он вытянул в горловину квач и зажег спичку. Он волновался, первая спичка тут же потухла, потухла и вторая, тогда он взял их несколько вместе и зажег. Спички хорошо вспыхнули, резвое пламя полоснуло по стеклу, пыхнуло в лицо, опалив брови, но Буров уже выпустил все из рук и бросился к изгороди. Не оглядываясь, в огороде почувствовал, как сзади огненно взвихрилось, заверещало, ярко осветив улицу, стены хат; на снегу перед ним метнулась длинная тень, и он скрылся за угол. Запыхавшись, прибежал на свой двор и остановился возле поленницы — за садками и крышами пылал дымный пожар и слышались крики; это было зрелище, радостнее которого он не помнил в жизни.
Машина сгорела почти дотла, ремонтировать там было уже нечего, полицаи ее даже не сволокли с улицы, и закопченный остов ее оставался там до середины лета, потом куда-то исчез. Но Буров того уже не видел: в наступившей ночи, когда за ним пришли полицаи, он предусмотрительно укрылся в заброшенной сараюшке, а под утро огородами подался в Селицкую пущу. Там начался его новый жизненный этап, который как бы не окончился теперь вместе с жизнью в этом пристанционном лесу…
Буров лежал под высокой, голой до половины сосной, и Войтик какой-то тряпкой пытался перевязать его. Рана была плохая — похоже, разрывной пулей в бок, — крови вытекло много, Войтик в сутеми долго ковырялся под его одеждой, и Буров хрипловато постанывал, ругался:
— Чмур! Я же тебя послал наблюдать! А ты?
— А я и наблюдал. Что я, виноват, что они подкрались с другой стороны?
— искренне удивлялся Войтик.
— С другой…
Стоя на коленях, Войтик наконец обернул тряпкой окровавленный живот Бурова и подумал, что от такой перевязки толку будет немного. Надо бы какую-нибудь тряпку побольше, но где ее взять в безлюдном лесу? Он неприязненно взглянул на усталого потного Сущеню, молчаливо сидевшего рядом. От его спины под черной железнодорожной рубахой — видно было на холоде — исходил потный парок. Опершись рукой о мшаник, Сущеня подсыхал, выравнивал дыхание, уныло поглядывая на двух партизан. Те к нему не обращались, ни о чем не спрашивали, вроде чуждались даже, словно обижались на него за что-то. Но пока не стреляли и не гнали прочь. Ему же идти отсюда было некуда, и он сидел так, отдыхая и невесть чего дожидаясь. Правда, чувствовал он, Что еще может понадобиться: слабосильный Войтик вряд ли справится с тяжелораненым Буровым, наверно, надо будет помочь. Пожалуй, то же самое чувствовал и Войтик, который, перевязывая Бурова, все думал, что ему с ним делать, куда нести. И как нести?
— Ох и наделал ты… Ох и наделал! — стонал тем временем раненый.
— Это ты наделал, — вяло оправдывался Войтик. — На черта было лезть в сосняк!
— Что ты понимаешь, Войтик, — после непродолжительного молчания простонал Буров и, будто вспомнив что-то, спросил — Где Сущеня?
— Да вон сидит, — кивнул головой Войтик.
— Не трогай Сущеню, — четко проговорил Буров и умолк.
Войтик придержал дыхание, будто ожидая услышать от него и еще что-то, но, не дождавшись, недоуменно пожал узкими плечами.
— Пусть, мне что.. Только что командир скажет?
Буров на это уже не ответил, недобро притих на земле и лежал так, расслабленно вытянув длинные ноги в стоптанных кирзовых сапогах. Снятый с него ремень с наганом Войтик уже нацепил себе на поддевку и, похоже, не собирался снимать. Но Бурову, пожалуй, было не до нагана, кажется, он снова потерял сознание.
Посидев недолго, Войтик тревожно оглянулся.
— Ну а дальше что? Так и будем сидеть? Ждать, когда догонят и перестреляют, как кроликов, — проворчал он и поднялся на ноги. — А ну давай, взяли вдвоем..
С замедленной готовностью Сущеня встал, подошел к раненому Карабин Бурова лежал подле на мху, но теперь при Войтике он не решился его подобрать, и карабин подхватил Войтик. На плече у того уже висела длинная его «драгунка», сбоку свешивалась кобура с наганом. Наверно, многовато для одного человека собралось оружия, подумал Сущеня, но промолчал. Оружие теперь было не для него.
— Так! Взяли ..
Войтик наклонился к сапогам Бурова, Сущеня подхватил раненого под мышки, напрягся, снова взвалил на себя его обмякшее тело, и они потащились куда-то по притуманенному утреннему лесу, Уже совсем рассвело, проступило вверху серое мглистое небо, тревожно покачивались на ветру вершины сосен, голые ветви берез. Лес полнился бесприютным осенним шумом, временами затихал, чтобы вскоре опять завести свою безутешную песню. Было холодно. Все вокруг — редкие сосны, зеленые кусты можжевельника, голый тонкоствольный березняк, а также мягкий ковер беломошника внизу — набрякло влагой, источало неуютную осеннюю стылость. Даже хвойный сушняк под ногами похрустывал почти неслышно, едва хрупал на мокром мху, в редкой траве. Вокруг было тихо и пусто. Впрочем, Сущеня уже ничего не опасался, даже не оглядывался по сторонам, ему было достаточно того, что вокруг смотрел Войтик. Он же знал лишь одно — терпеливо тащить на себе безмолвного Бурова в его пропитавшейся влагой и кровью шинели. Изредка он прислушивался к прерывистому горячему дыханию на плече и думал: только бы он не помер. Сущеня не знал, почему тот так необходим ему, но он слышал, что Буров сказал Войтику, и, как утопающий за соломинку, ухватился теперь за его слова. Он обнаружил в них слабенькую надежду, которая, возможно, вывела бы его из западни. С какого-то момента он сжился с мыслью о гибели, жизнь для него стала недостижимой мечтой. Но наибольшей удачей было бы погибнуть по-человечески, не опоганив своей смертью жизнь самых дорогих для него людей
— Анели и сына. Об этом он исступленно думал все последние дни своего пребывания дома, продолжая инстинктивно заботиться о жизни, когда выбирал картошку, пилил дрова, даже когда топил баню. Но, оказывается, подсознательно и невольно в нем продолжала таиться глупая смешная надежда как-нибудь выжить, хотя бы с помощью чуда… По-видимому, чудо и произошло, его гибель странным образом не состоялась. Что будет дальше, Сущеня не представлял, но с этой ночи почувствовал, что в Бурове на равных сошлись как его гибель, так и его спасение.
Они долго брели так с раненым, неловко повисшим на плечах у Сущени. Буров был без сознания и с каждым километром становился все тяжелее. У Войтика уже отрывались руки, очень неудобно было управляться с ним без носилок. Но надо было тащить, не бросишь же раненого, хотя, знал Войтик, с такой раной Буров долго не протянет. Впрочем, теперь больше, чем Буров, его начинал беспокоить Сущеня: что ему делать с предателем? Правда, пока что тот ведет себя вроде нормально, безропотно тащит раненого, но куда вытащит? Вот в чем вопрос Войтик был родом из другого конца района, этого леса почти не знал. Вчера с Буровым он попал в эти места впервые и теперь на лесном бездорожье вовсе потерял ориентировку. Наверное, надо было спросить Сущеню, но не хотелось признаваться, что он не знает дороги. Хотя и идти вслепую тоже никуда не годилось. Так можно дождаться, что этот Сущеня приведет его прямо в полицейское логово, тогда уж конец обоим. И почему они не прикончили его в Мостище или на выгоне, возле речки, зачем потащились с ним в ночной лес? Но это все Буров, который за нелепую свою промашку расплачивается теперь кровью. Хотя и Сущеня — какой-то непонятный предатель: вынес беспомощного Бурова и даже не пытается убежать, бредет, куда, неизвестно. Наверно же, знает, что его ждет у партизан, но вот идет безропотно и безотказно.
Опять же, а что бы Войтик сделал один, без Сущени? Ситуация, ничего не скажешь, озабоченно думал Войтик. И он все озирался вокруг, пытаясь найти какой-нибудь признак — дерево или тропинку, — по которому было бы можно узнать их вчерашнюю дорогу в Мостище. Только ничего знакомого не попадалось в этом лесу, нескончаемо тянулся дикий сосновый бор, шумели, покачиваясь, деревья. Хорошо, что местность всюду была равнинная, без болот и оврагов. И тем не менее они скоро выдохлись. Наверное, в таком деле помощник из Войтика был неважный, мокрые сапоги раненого все выскальзывали из его ослабевших рук, Сущеня дергался с ношей на спине, пока, устало дыша, не прохрипел из-под Бурова:
— Вы киньте. Я сам…
Войтик и кинул. В самом деле, ему было достаточно двух тяжелых винтовок, нагана, он немало вымотался за эту ночь, к тому же с утра начал донимать желудок — напомнила о себе его застарелая язва. Молчала неделю, но вот разболелась. Но, видно, тревоги этой ночи еще не все кончились, чувствовал, еще они вылезут ему боком.
Идти самому, без ноши стало полегче, Войтик немного отдышался и вдруг в привычной лесной тишине уловил раскатистое эхо нескольких дальних выстрелов как раз в той стороне, куда они направлялись. Он остановился, хотел крикнуть Сущене, но тот сам, наверно, услышал стрельбу и стал, согнутый в три погибели под распластанным на спине Буровым.
— Где это? В Бабичах?
— Может, и в Бабичах, — шумно выдохнул Сущеня. «Черт возьми, — невесело подумал Войтик. — Если уж стреляют в Бабичах, так куда же тогда податься?..»
Наверно, то же почувствовал и Сущеня, который выше подвинул на себе ношу и шатко переступил на крепких, однако усталых ногах. Минуту спустя донеслось еще два выстрела, и все неопределенно затихло. Они недолго постояли, прислушиваясь, потом Войтик сделал несколько шагов вперед и молча указал рукой в лес — в сторону от донесшихся выстрелов.
Они снова пошли между сосен, по-прежнему чутко вслушиваясь в лесной шум. Куда они шли, теперь уже не знал ни Сущеня, ни Войтик. Скоро, однако, им попалась старая лесная просека, местами заросшая молодняком сосны и березы. Почва тут всюду была песчаная, без мха, идти по ней стало труднее, чем беломошником-бором, в песке вязли ноги. Сущеня то и дело останавливался, поправляя сползавшее тело Бурова. Буров сначала молчал, потом начал сильно стонать, и Сущеня остановился. Они бережно опустили Бурова наземь, Войтик озабоченно склонился над раненым.
— Опять закровенил…
Устало сбросив с себя обе винтовки, он сел на сухую, усыпанную хвоей землю. Недолго подумав, Сущеня на этот раз решительно стащил через голову свою черную железнодорожную рубаху, быстренько снял несвежую, застиранную майку.
— Э, уже ни черта не поможет, — недоверчиво сказал Войтик. — Там уже столько натекло…
И все же они снова распахнули на Бурове его шинель и стали перевязывать майкой его окровавленный бок. Чтобы та как-то держалась, вытащили из брюк узенький кожаный ремешок, перетянули им живот по майке. Но кровь все равно сочилась, заливая брюки, шинель, простреленную рубаху раненого.
— Мне, наверно, капец, — вдруг мучительно простонал Буров. — Не донесете…
Они не стали понапрасну обнадеживать раненого, сами знали не больше его. Они лишь молча посидели возле, отдыхая и напряженно обдумывая, как быть дальше, куда податься. И Войтик нашелся первым:
— Нужна повозка. А так, конечно…
Все размышляя о чем-то, он вглядывался вперед, в затуманенный проем узкой зарастающей просеки, с одной стороны которой высилась стена гладкоствольных сосен, а с другой и пониже кудряво зеленел молодой, сеянный рядами сосняк. Сосенки еще не выросли и наполовину, но все густо стремились вверх, образовав непролазную чащу. Наверно, там можно было укрыться — другого убежища в этом сквозном бору поблизости не было.
Только они взялись поднимать Бурова, как вдали снова забахало, да так густо и часто, что они недоуменно застыли. Несколько долгих минут в растерянности слушали, потом Войтик скомандовал:
— Давай быстро туда, в сосняк!
Вдвоем, задыхаясь, торопливо перенесли раненого на край чащи и, раздвигая плечами ее колючие недра, продрались еще шагов на двадцать. Тут в самом деле было укрытно и тихо; обнаружив небольшую прогалинку, опустили на мелкую травку измученного Бурова.
— Где это… стреляют? — тихим голосом спросил тот, не поднимая темных, запавших век.
— А черт их знает! — в сердцах бросил Войтик. — Где-то в той стороне.
— В Бабичах?
— Может, и в Бабичах. Но ты лежи. Вот расстараемся повозку, отвезем.
— Расстараетесь… — неопределенно проговорил Буров и опять обессиленно надолго затих.
Они молча уселись с двух сторон от него, напряженно вслушиваясь в лесные звуки. Но здесь ничего не было слышно. Тихо посвистывая ветвями, шумел на ветру сосняк да поблизости начала стрекотать сорока. Хоть бы не навела сдуру кого на эту полянку, опасливо подумал Войтик. Они уже порядком набродились по лесу, да и времени, наверное, прошло немало. В этот короткий день, знал Войтик, не заметишь, как утро перейдет в вечер. Наверно, надо было воспользоваться остатками дня и что-то предпринять для Бурова, а то в темноте да на незнакомой местности очень просто нарваться на беду. Надо было идти доставать повозку. Кто только пойдет?
— Сущеня, — сказал Войтик, — ты тут знаешь, где что. Где село, знаешь?
Сущеня озабоченно посмотрел в сосняк, послушал, прикинул.
— Так Бабичи там где-то. Под пущей.
— Это там, где стреляли?
— Ну.
— Тогда дуй за повозкой, — сказал Войтик. Сущеня поднялся, помедлил, вроде хотел что-то сказать на прощание. Но не успел он, пригнувшись, шагнуть в сосновую чащу, как его остановил Войтик.
— Нет, подожди. Пойду я, — решил он. — А ты сиди тут. Карауль.
— Хорошо, — послушно ответил Сущеня, опять усаживаясь у ног Бурова, возле разлапистой, с обвисшими ветвями сосенки.
Войтик тем временем стал собираться в дорогу: подобрал с земли карабин Бурова, закинул его за спину, взял в руки винтовку, глубже надвинул на голову свою черную кепку и подтянул ремень с кобурой. Он уже ступил было в чащу, как сзади подал голос Буров:
— Граната… А где граната?
Вялыми руками раненый ощупал опавшую грудь и притих в неподвижности. Войтик продолжительным взглядом посмотрел на Сущеню.
— Я не брал, — сказал Сущеня. — Может, потеряли ночью.
Буров поморщился, подумал и сказал, обращаясь к Войтику: «Ты отдай мой наган».
— Наган? На, возьми, конечно…
Вынув из кобуры черный милицейский наган, Войтик вложил его в протянутую руку Бурова, и тот сунул наган под себя. Ремень с кобурой остались на Войтике.
— Я постараюсь скоро, — бодро сказал Войтик. — Если недалеко.
Он исчез в сосняке, поблизости прошуршали и затихли хвойные ветки, и все вокруг смолкло. Сорока, слышно было, застрекотала в некотором отдалении, видно, погналась за Войтиком, и Сущеня подумал, что сороку, если привяжется, уже ничем не отгонишь. Но сорока теперь, пожалуй, не самое для него страшное
— страшнее, что будет с Буровым.
— Вот так, — выдохнул в тишине Буров. — И почему я тебя не застрелил в хате?
Он немощно подвигал бледными, бескровными губами и смолк, а Сущеня знобко передернул плечами — он уже отпотел, его спина под тонкой рубахой начала здорово зябнуть.
— Стрельнул бы тебя, сам бы жив-здоров был.
— Ну как же было в хате? — не согласился Сущеня. — Дите ведь там.
— Дите, да… А почему ты не убег, Сущеня? — спросил Буров и насторожился, полный болезненно напряженного внимания. Сущеня выдрал из земли клок травы, выбрал из нее сухую былинку, разломал ее пополам.
— Куда же мне было убегать?
— А к немцам?
— У немцев я уже был. Вот, гляди!
Решительно вздернув рубаху, он завернул ее, подставляя Бурову голую, исполосованную синими шрамами спину. Полураскрытыми глазами Буров взглянул на нее один только раз, потом веки его сомкнулись, и он замолчал надолго. А Сущеня рассеянно дергал подле себя клочья травы, тут же бросая их наземь.
— И ты меня нес? — наконец вымолвил Буров.
— Нес. А что же мне делать?
— Но ведь ты… Выдал. Тех троих.
— Я никого не выдавал! — вдруг приглушенным криком объявил Сущеня, вскочил на ноги и снова сел, уткнувшись лицом в рукава. Возможно, он даже заплакал, но скоро совладал с собой, грязными пальцами вытер покрасневшие глаза. — Я никого не выдавал, это меня выдали, — сказал он погодя. Буров затаил дыхание, слабо перебирал полу шинели окровавленными руками.
— А почему тебя… не повесили? Вместе с остальными? Сущеня ответил не сразу, как-то задумчиво выждал, вздохнул.
— Вот бы повесили, я бы им спасибо сказал. Нет, выпустили. Думал, снова возьмут. Не взяли. Две недели дома сидел — куда мне было податься? Теперь начал немного понимать, почему выпустили…
Это верно, теперь он начинал понимать. Но понимание это пришло постепенно, через множество предположений и примет проникая в его сознание, чтобы окончательно утвердиться вчера вместе с появлением вот этого Бурова, который теперь беспомощно лежал на земле и не мог понять чего-то в злосчастной судьбе Сущени. А тогда, как Сущеню перестали пытать в СД и доктор Гроссмайер после двух вполне милосердных допросов сказал, что выгонит его, если он такой беспросветный дурак, Сущеня, конечно же, не поверил. Дудки, думал он, чтоб его выгнали отсюда, повесят, как вчера повесили трех путевых рабочих. Разве что позже.
А тот в самом деле взял да прогнал…
Сущеня сызмалу знал за собой одну нелегкую особенность — будучи обиженным, он терял естественную способность противиться обиде, жаловаться или протестовать, он мог лишь заплакать, замкнуться, забиться в какой-нибудь закуток, обособиться от людей. Позже, когда подрос, мог выругаться, надуться, но не покаяться (если был виноват) или оправдываться (если был невиновен). Он сам не рад был этой особенности своего характера, и сколько натерпелся через нее, одному лишь ему известно. Хорошо еще, если рядом были друзья, которые знали его и при случае могли защитить. Если же ни друзей, ни свидетелей рядом не было, он все переносил молча. Доказывать, божиться, спорить или «брать горлом», как некоторые, было противно его существу, его лишь охватывала неодолимая тоска, которую он мучительно переживал наедине с собой.
— Я ж на путях тринадцать лет проработал, — горестно начал Сущеня. — Да ты же знаешь, наверно… Как немцы пришли, бросил было. Но приходит начальник станции, тот наш Терешков, говорит, надо идти работать, иначе немцы меня расстреляют. Ну что делать, пошел, хотя и не хотелось. Вроде предчувствовал.
И это было правдой, Сущене очень не хотелось идти при немцах работать на железную дорогу, чуяло сердце: добром та работа не кончится. Но жаль было и Терешкова, в общем, неплохого человека, с которым они вместе проработали последние шесть лет до войны. Собрал этот начальник бригаду — все знакомые мужики: ровесник Сущени Топчевский, года три проработавший на путях, хороший, компанейский мужик из самого Мостища; Петро Коробань из соседней деревни и молодой еще парень, фезеошник Мишук, который, как началась война, вернулся домой из Витебска, где учился на плотника. Как и до войны, пошли на пути. Работа все та же, знакомая: рихтовка, подбивка, замена подгнивших шпал, ремонт стыков, при надобности забивка костылей. А на станции кроме своего начальника Терешкова появился и какой-то немец, вроде цивильный, но в кителе, с красной повязкой на рукаве. И по-русски немного умеет. По дороге вскоре пошли поезда — на восток, груженные техникой и войсками; на запад — больше порожняк, но были и санитарные или с пленными в вонючих, наглухо закрытых вагонах.
— Знаешь, работали по-прежнему, только на душе так противно, что сказать невозможно. На кого работаем?
— Что ж, не понимали, на кого работали? — едва слышно простонал Буров.
— Понимали, почему же. И говорили про то открыто. Мужики все свои, друг друга не опасались.
…Работали, однако, не очень усердно, больше тянули время, а как только начинало вечереть, разбирали инструмент и — на станцию. Сначала все шло хорошо, и даже немец не очень донимал, но вот весной приехал новый начальник, по фамилии Ярошевич, черт его знает, что за человек! Вроде бы свой, но хуже немца. Ввел ежедневную проверку работы путейцев и стал придираться злобно, по мелочам: измерит путь, и, если не хватит миллиметра или миллиметр лишний, скандал! И взял за правило все взыскивать с бригадира. Чуть что не так, бригадира по морде. Сущеня сначала не мог сообразить, за что он на него так взъелся, потом начал догадываться: это он настраивает бригадира против рабочих, чтобы тот больше с них требовал, а те чтобы, в свою очередь, его боялись и ненавидели. Вот тогда он и попользуется властью в полную меру.
Вражды между путейцами, однако, он не добился, те все были люди с умом и возненавидели самого Ярошевича. И если раньше, когда начальником был Терешков, путейцы еще остерегались, то теперь стали открыто поговаривать между собой, как устроить немчуре «тарарам». Тем более что в лесах уже забахало-заухало, появились партизаны, однажды сожгли два грузовика на лесной дороге невдалеке от станции. Бригада путейцев Сущени в то время работала на Кузовском болоте, работы было много, вообще участок тот был самый плохой, и они занимались им с весны. А тут новый начальник перебрасывает их на железнодорожное закругление перед Выспянским мостом, говорит, что шеф-немец проверил накануне, нашел много огрехов, надо их устранить, выверить радиус и подбить сотню шпал. Бригадир путейцев был человек исполнительный, послушный, и назавтра утречком они взяли инструменты и с ручной каталкой потопали полотном к Выспянскому мосту.
Работали там трое суток, и как раз в ту пору поезда на восток немцы стали пускать ночью. Что они там везли, путейцы не могли видеть, но предполагали, что, пожалуй, важные грузы, может, танки, если для перевозки использовали исключительно темное время суток. И вот как-то однажды самый молодой из них, фезеошник Мишук, когда они перекусывали, усевшись в ряд за канавой, и говорит: «А давайте развинтим звено и устроим „тарарам“. На закруглении ладно получится». Топчевский подумал и поддержал «А что, дельная мысль!» Коробань тогда промолчал, а Сущеня так сразу был против — что надумали! «Немцы, они дураки, что ли, не догадаются разве? Стык ведь развинчен, сразу видать будет». Начали спорить, и Мишук с Топчевским доказывают, что, если состав полетит под откос, тут ни один стык не уцелеет, все покорежится, как возле Лемешовской будки. Месяц назад там была авария или, может, подрыв, и они видели, что там творилось. Там действительно был винегрет из рельсов, шпал, вагонов. Но там несколько иной профиль пути — там выемка, а не закругление.
С самого начала Сущеня был против этой затеи, ибо знал, может, лучше других, как трудно будет упрятать концы в воду, закругление — не выемка, тут наверняка больше полетит под откос. Полетит на плавни или даже в реку под мост. Тоже неплохо, конечно, даже хорошо очень. Только вот стык как бы не остался уликой. Очень сомневался Сущеня, но у его мужиков уже загорелись глаза — давай да давай! И ему не захотелось предстать в их глазах трусом или, хуже того, немецким прислужником. И он согласился. Не сказал, правда, ничего, просто смолчал, когда перед концом работы, уже на закате солнца Мишук, Топчевский и Коробань поразобрали ключи и обступили самый удобный для диверсии стык на закруглении. Бригадир молчал, но в душе он уже чувствовал, что добром это не кончится Будет беда.
— Ну, знаешь, развинтили стык, немного сдвинули рельс — один, внешний, этого было достаточно. И быстро покатили инструмент на станцию. Рассчитывали так, что до поезда пройдет не менее часа времени, начинало темнеть, стыка никто не заметит. А пока случится крушение, мы будем далеко. Мало ли что могло тут произойти, мол, после нас. Может, партизаны или что другое, а мы ничего не видели.
…В самом деле так они думали. Они думали, что после крушения немцы будут искать улики, собирать доказательства и доказательств никаких не найдут, а путейцы все будут отрицать, и все как-нибудь обойдется. Но, видно, в жизни ничто не выходит так, как думается, тем более в войну.
В тот день что-то нарушилось и у немцев, и первый поезд они пустили раньше, еще до наступления темноты. Не успели путейцы втащить каталку в сарайчик при станции, как на стрелках загрохало, и у Сущени недобро защемило сердце — очень не вовремя шел этот поезд. А поезд между тем без остановки проскочил станцию, они лихорадочно заспешили, чтобы скорее смыться, но этот Ярошевич как назло начал расспрашивать бригадира: много ли за день сделали, сколько осталось? Как закругление, можно ли скоро исправить дефект? Сущеня, рассеянно отвечая, стоял перед начальником ни жив ни мертв — состав уже должен быть там, возле моста. Неужели он проскочил невредимым?
Но нет, не проскочил, конечно, полетел под откос, десяток вагонов сделали кучу малу под насыпью. На стрелках все услыхали, и к начальнику прибежал запыхавшийся, потный стрелочник, говорит: беда, возле моста крушение!
— Начальник, Ярошевич тот, сразу бросился к телефону, а мы незаметно смылись — кто куда. Я, как побитый, притащился домой. Думал тогда: кончится плохо, но, может, не очень скоро. Все-таки должны же они что-то расследовать, выяснять, кого-то допрашивать. А они всех сразу и хапнули.
…Их взяли на другой день утречком, как только аварийный поезд расчистил пути и, как и предполагал Сущеня, немцы нашли под завалом тот развинченный ими стык. Взяли всю бригаду, потому что от времени окончания ее работы там до момента аварии прошел всего один час. Кто же еще там мог быть? Впрочем, никого особенно и не искали, сразу взялись за этих четырех путейцев, хотя, по существу, никаких конкретных улик против них и не было. Начали, конечно, с бригадира. Допрашивали в бывшей районной больнице, сошлись там человек десять различных чинов, своих и немцев, ждали. Кабинетик такой был уютный, светлый, на подоконниках широких окон кудрявились цветочки в вазонах, а хозяин, с виду еще молодой человек в коричневом кителе с погонами и с довольно приветливым лицом, сначала и не кричал даже, обращался как будто сочувственно или понимающе, чем слегка удивил Сущеню. Говорил по-русски чисто. Аккуратно держа в длинных пальцах с перстнями тонкую немецкую сигарету, он просто, почти дружески спрашивал Сущеню: «Так кто вам дал задание разрушить железную дорогу?» — «Да мы ничего не разрушали. Мы ничего не знаем», — с неподдельной искренностью удивлялся Сущеня. «А кто же разрушил?» — «Так не видел, не знаю». — «Не знаешь, — неопределенным тоном повторил немец и кивнул кому-то из своих помощников, что выстроились в ряд у стены. — А ну дайте ему вспомнить».
Его сразу ухватили две пары сильных и злых рук, толкнули, подхватили, повели. Два осатанелых от злобы, мордатых полицая сначала связали ему впереди руки, а затем, посадив на пол, и ноги, и он нелепо подумал: а ноги зачем? Но вскоре понял зачем — той же веревкой прикрутили к ногам связанные руки, и он превратился в подобие колеса с выгнутой голой спиной. И тут началось… Сущеня не кричал, старался не стонать даже. Он, разумеется, и не рассчитывал на другое, потому все терпел молча, прощаясь с волей, семьей, да и с жизнью тоже. Избитого до бессознания, его бросили на мокрую солому в подвале, где постепенно по одному очутились и остальные трое его путейцев. Все стонали, охали, плевались кровью; Топчевскому, наверное, отбили легкие, изо рта у него шла кровь. Очень хотелось пить, но воды не давали. Допросы и пытки тем временем продолжались — дважды на день, утром и вечером. Впрочем, спрашивали мало. Все тот же, симпатичного вида немец службы СД, как Сущеня узнал потом, доктор Гроссмайер, начинал разговор с вопроса: «Кто приказал развинтить рельсы?» Сущеня тут мог не кривить душой и не запираться, простодушно глядя в хитровато-насмешливые глаза немца, он отвечал и даже клялся, что никто не приказывал. И Гроссмайер не настаивал на другом ответе, ничего более не добивался, сразу отправлял в подземелье «хорошенько вспомнить».
— Били четыре дня подряд, уже не поднимался. Думал: еще немного и помру. И все кончится. И, знаешь, страха не было, только жену и дитя было жалко до слез.
…Трое других также не поднимались, а Мишук как-то весь день пролежал без сознания, и полицаи, в очередной раз взяв его на допрос, вернули из коридора — куда же такого допрашивать! Такого можно разве что положить в гроб. Арестованные уже перестали считать дни. проведенные в подземелье, не могли отличить дня от ночи, пластом лежали на окровавленной соломе, с ужасом прислушиваясь к шагам в коридоре — за кем идут? И как-то (о чудо!) услышали музыку: где-то поблизости в местечке играл духовой оркестр, а музыка была траурная, похоронная. И так она хорошо ложилась на исстрадавшиеся души пленников, будто звучала на их коллективных похоронах. Не по ним, конечно, она играла теперь, но все же им было приятно слушать ее, тем более что это хоронили бургомистра Шалькевича, подстреленного партизанами на выезде из местечка. В тот день на допрос их не водили, не повели и назавтра — наверное, полицаи и доктор Гроссмайер были заняты чем-то более важным, — и они немного отошли в своем подземелье. Сущеня начал подниматься, чтобы сидеть, потому что на отбитых боках и спине лежать было невозможно. Поднялся и Коробань и даже засмеялся — нехорошим, истеричным смехом висельника. Они уже примирились с мыслью, что им на свете не жить, жизнь их окончилась, оставалось дожить какой-то остаток. И они утешали себя слабой надеждой, что этот остаток, возможно, обойдется без больших мучений.
— И вот как-то после обеда приходит полицай, кричит: «Сущеня, на выход!» Ну, поднялся, опираясь о стену, иду. Уж не на расстрел ли, думаю…
…Но нет, не на расстрел — расстрел вскоре покажется Сущене неосуществимой удачей. Его повели опять в знакомый кабинет с вазончиками на подоконниках, доктор Гроссмайер, как всегда, улыбчиво посмотрел на него и сказал так, с некоторым даже сочувствием в голосе: «Садись. Давай поговорим, как друзья, по душам. Вижу, ты человек положительный».
«Положительный, положительный», — запульсировало в голове у Сущени, и он почему-то потерял смысл этого слова, не мог сообразить, что оно значит. А немец тем временем стряхнул с сигаретки пепел в маленькое, с цветочками блюдце, которое держал в руках, и продолжал: «Положительный, да, и мы тебя выручим. Завтра всех ваших повесим, а тебе подарим жизнь. Только…» Он еще говорил что-то, но эти его первые слова обжигающе стеганули по сознанию Сущени, ошеломив его не столько страшным исходом их общей судьбы (с мыслью о казни они уже успели свыкнуться), сколько тем, что его почему-то отделяют от остальных. Еще не осознав в полной мере скрытого смысла этого сообщения, он инстинктивно почувствовал, что в его ужасной судьбе что-то становится еще ужаснее. «Да, ты будешь жить, — подтвердил немец. — Только… Только ты должен дать подписку о сотрудничестве…» — «Каком сотрудничестве?» — «Секретном, разумеется. С немецкими властями. Мы устроим тебе побег, ты переберешься к своим, к тем, кто дал тебе задание на эту диверсию. И мы будем держать с тобой связь. Секретно, разумеется…»
Сущеня минуту молчал, судорожно сглатывая слюну, не находя, что сказать. Ему дарят жизнь… Но ведь, чувствовал он, так нельзя. Эти условия не для жизни. Жизнь станет для него хуже гибели. «Нет, знаете… Я не могу. Я не умею», — выдавил он из себя и запнулся под ледяным взглядом Гроссмайера. «Что?» — Гроссмайер весь ' недобро напрягся, будто услышал что-то оскорбительное, глаза его налились свинцовым блеском. «Что? Что ты сказал?» — «Не могу я». — «Ты что, идиот? Отказываешься жить? Хочешь умереть!» — «Не хочу, конечно, но…» — «Так соглашайся! Мы все сделаем аккуратно, большевики ни о чем не пронюхают». — «Нет, я не могу». — «Значит, хочешь умереть! — зло заключил немец. — Это проще пареной репы. Завтра же повесим. Но все же подумай. До завтра».
Оборвав на этом разговор, Гроссмайер отправил Сущеню в подвал, и тот потащился, измученный больше, чем после допросов и истязаний.
— Получил, значит, такую задачу, что хоть вой! И жить хочется и хочется человеком остаться. Но как? И то, и другое вместе не получается, надо выбирать одно. И тут, знаешь, вспомнил Анелю и сынка и что-то стало проясняться. Если я стану шпионом, то как же им жить?
Как им жить — был вопрос с нехитрым ответом: они останутся в заложниках, Сущеня это понял ясно. В качестве заложников они не позволят Сущене обмануть немцев. Если что выйдет не так, этот доктор сведет счеты с обоими. Так не лучше ли ему честно пожертвовать собой, погибнуть вместе со всеми. Семья останется без отца, зато не будет за него стыдиться — все-таки он совершил что-то, хотя, может, и не очень удачно, но спустил под откос один поезд. Все-таки погиб не напрасно. А так…
В подвале он сказал только, что их завтра повесят, и все приумолкли, притихли, даже перестали стонать. Никто уже не сетовал на судьбу, на тот их не очень умный поступок. Конечно, каждый теперь понимал, что, пожалуй, все надо было сделать иначе и хитрее, что ли. Может, в другом месте, подальше от их участка, от станции. Но дальше от станции — значит, ближе к деревне, погибли бы невиновные люди. Словом, поразмыслить было над чем, особенно Сущене, который в ту ночь ни на минуту не сомкнул глаз. Назавтра утром за стеной забегали, засуетились, широко распахнулась дверь — выходи!
Все обессиленно поднимаются, по одному выходят. Впереди Сущеня, за ним исхудавший, словно Кощей, Топчевский, Коробань под мышки ведет Мишука, который уже сам не ходил. И вдруг старший полицай говорит из коридора: «Сущеню отставить!» — «Почему отставить?» — дрогнувшим голосом спрашивает Сущеня. А тот говорит: «Доктор сказал». И впихивает его в камеру обратно. Остальных увели. Вскоре в подвале стало тихо и пусто, притихло и наверху, наверно, все вымелись на базарную площадь, где вешали его ребят. Сущеня в отчаянии бил кулаками в стены, катался по полу; временами до него доносились звуки каких-то команд с площади, и он не мог найти себе места в этом опустевшем подвале. Он уже чувствовал, что его ждет что-то похуже смерти, которую теперь на людях принимали его путейцы.
— Хотел разбить себе голову о стену, хорошо стукнулся, но, видно, не хватило силы и только потерял сознание. Немного отошел, лежу — ни живой, ни мертвый. А к вечеру приходят — вставай! Повели. «Ну что? — говорит этот доктор. — Хочешь полюбоваться, как твои сообщники на веревках болтаются? Показать?» — «Нет, — говорю — Лучше бы вы и меня тоже».
…Гроссмайер тогда, может, впервые и с некоторым даже интересом вгляделся в почерневшее, обросшее, страшное от переживаний лицо бригадира путейцев и, возможно, впервые что-то стал понимать. А поняв, так разозлился, закричал, что Сущеня содрогнулся, стоя возле стены у порога. Доктор бушевал минут пять: то подбегал к нему вплотную, то отскакивал на середину кабинета, размахивал перед носом руками, отбегал за стол. Правда, он ни разу не тронул его, только обиженно-зло вопил тонким голосом: «Я думал, ты умный мужик! Рассудительный белорус! А ты идиот, большевистский чурбан! Захотел красиво умереть? Чтобы тебя там почитали? В листовках о тебе писали? Нет, так не выйдет! Я тебе устрою другую смерть, большевистский ублюдок! Последний раз спрашиваю: принимаешь мое предложение? Да или нет?» Он вплотную подскочил к Сущене, и тот трудно и протяжно выдохнул: «Нет, знаете,. не могу я». — «Ах, не можешь! Тогда прочь отсюда! Иди к тем, кто тебя послал! — закричал Гроссмайер и с силой пнул ногой дверь. — Иди, ну!»
Сущеня в испуге смотрел на него и думал: что все это значит? Наверное, сейчас выстрелит в спину. Или в затылок? Или скомандует часовому, который стоит на крыльце? Однако что делать, следовало исполнять команду, и он ступил за порог, шатко, неуверенно, задев плечом за косяк, вышел на крыльцо. Часовой полицай сразу схватился за винтовку, но, увидев позади немца, тотчас опустил винтовку к ноге. Второй часовой, у калитки, решительно загородил проход, но сзади гаркнул Гроссмайер: «Пропустить!» — и он, вякнув свое «яволь», пропустил — отворил и закрыл за ним калитку. Сущеня вышел на улицу, боясь оглянуться: неужто не выстрелят? И не крикнут, чтобы воротился назад? Нет, не выстрелили и не крикнули, и он, словно заяц, выпущенный из мешка на волю, что было силы кинулся по улице, перебежал на другую сторону. С угла растерянно оглянулся: у калитки спокойно наблюдал за ним часовой, а с крыльца как-то совсем по-приятельски просто помахал рукой его мучитель или освободитель доктор Гроссмайер. И он почти с испугом подумал: уж не в самом ли деле отпустили? Похоже, однако, отпустили, его никто не задерживал и не догонял, и он пошел спокойнее (бежать уже не хватало сил). Ничего не видя вокруг, будто в сером тумане прошел крайние дома местечка и на околице сел, опустил ноги в канаву — силы его иссякли. Идти он не мог и все думал: что же это случилось?
— Вот так и отпустили. Какой-то мужик из Шелупенья ехал на подводе из местечка, подвез до станции. Пришел домой. Анеля на огороде картошку копает, как увидела меня во дворе, так и упала, потеряла сознание. Соседка едва отходила, а я как лег, так и пролежал сутки — не чуя ни рук, ни ног. Все думал: придут, снова возьмут. Жена плачет, говорит: прячься или убегай куда. И правда, три ночи в бане спал, две — в соседской пуньке. Но не идут, не берут. Вот счастье! Подарил жизнь этот немецкий доктор. Чудо, да и только!
…Чуда, однако, не случилось — случилась беда.
Напрасно прождав с неделю нового ареста, послонявшись по закуткам и сараям, Сущеня отлежался, немного отъелся, осмелел даже и начал выходить во двор. Да и надо было помочь Анеле выкопать картошку на огороде. И вот как-то копает, а за изгородью по обмежку от реки идет Игнат Пузыревский, их же деревенский мужик, немного постарше Сущени, и не здоровается. Сущеня поздоровался, а тот, не отвечая, говорит тихо, с издевкой: «Ну что, как живется, друзей продавши?» Сущеня, кажется, потерял дар речи, будто его кто оглушил обухом по голове. Пока он сообразил, как ответить, Пузыревский пошел себе, не останавливаясь, межой к улице. Вот тогда Сущеня впервые, может, понял, почему к нему за неделю никто не зашел проведать — ни соседи, ни родня даже, дядька Петрок или Августина, сестра Анели, ни племяш Костя, который, бывало, не пройдет дня, чтобы раза три не наведался к дядьке. Его сторонились. Потому что он предатель.
Эта его догадка затем подтвердилась раз, может, десять, не меньше. Как-то из деревни пришла Анеля и горько расплакалась: бабы говорят, что это он подбил мужиков на диверсию и сам же их выдал, потому его и отпустили. Откупился товарищами. Малый Гришутка прибегает с улицы и простодушно так, взбираясь к нему на колени, спрашивает: «Папка, а ты пледатель?» — «Какой предатель? Кто тебе сказал?» — «А Шулка Болисов сказал: твой папка пледатель». Ну как было Сущене и перед кем оправдаться? Рассказал обо всем жене, та выслушала, всплакнула — жена, конечно, поверила. А может, и не поверила, только сделала вид, что поверила.
— Ну как же мне жить?! — с тихим отчаянием спрашивал Сущеня, глядя в сосняк. Там сначала вдали на вершине сосенки появился крупный степенный ворон с мощным широким клювом, посидел на верхушке, присмотрелся к людям внизу, перелетел на сосенку поближе. — Что было делать? — спрашивал Сущеня.
— Я им тогда уже завидовал, моим путейцам: их люди почитали, ими гордились дети. Их семьям помогали соседи. А меня возненавидели. И чувствовал, что и самый для меня дорогой человек, жена Анеля, тоже поглядывает на меня иначе, чем прежде. Начала часто плакать без всякой причины. И как ей быть? Однажды слегка на нее прикрикнул, когда переносили картошку, вдруг как заплачет. Говорит: «Лучше бы они тебя там повесили. Вместе». — «Конечно, лучше, — говорю. — Но вот не повесили, что теперь делать? Разве что самому повеситься?» Вот как получилось. То боялся немцев, прятался от них, а теперь начал думать: не повеситься ли в самом деле? Но как и повеситься? Скажут люди: было отчего. Скажут: совесть замучила, потому что изменник. И тогда понял: напрасны мои заботы. Не такой смерти мне надобно опасаться — эта чересчур легкая. Будет похуже. Страшнее! Вот и правда, дождался. Как вчера тебя увидел, все понял сразу. Что ж, я был готов. Не оправдываться же мне в самом деле — кто бы поверил. Ты же вот не поверил, а? Коля! А, Коля? Ты слышишь?..
В недобром предчувствии подхватившись из-под сосенки, Сущеня на коленях подался к Бурову, подергал его за рукав. Но Буров не откликнулся. Тогда он тронул его за поросший светлой щетиной подбородок.
— Коля, а, Коля!
Но тщетно. Буров лежал с застывшим, изжелта-зеленым лицом и не двигался. Весь внутренне сжавшись от отчаяния, Сущеня уронил на колени большие руки.
— Боже, что же это? Я же ему всю душу, а он и не слышал. Неужели?.. Как же это? О боже!..
Ворон, лениво взмахнув тяжелыми крылами, свалился с верхушки сосенки, подлетел ближе и, неуклюже ища равновесия, долго устраивался на ветке почти над самой полянкой. Сущеня его не отгонял…
Какое-то время, однако, Буров был еще жив. Сначала он хорошо слышал и понимал все, что, сидя у его ног, рассказывал Сущеня, и он верил ему. Да и как было не поверить? Опять, как и когда-то в детстве, рядом звучал знакомый голос своего человека — полная боли и горечи исповедь земляка. Постепенно нелепая история Сущени становилась понятной Бурову, и он уже пожалел, что едва не прикончил его. Еще бы несколько минут, и он бы убил неповинного. Эта расправа, конечно, была бы роковой ошибкой на совести Бурова. Но, возможно, она дала бы жизнь самому, вдруг подумалось Бурову. А так вот издыхай тут со своей чувствительной совестью в неполные двадцать семь лет. Умирай прежде времени, без семьи и детей, не оставив никого на свете. Потеряв всех и все без остатка. Без чьего-либо сочувствия и утешения. Разве что, может, помянут когда Сущенина Анеля и ее малой.
Но это если уцелеет Сущеня. Без Бурова, однако, вряд ли уцелеет… Он уже перестал понимать, кто теперь от кого зависит: Сущеня от него или, наоборот, он от Сущени. Что-то запуталось в его прерывистых мыслях, и Буров не знал, как поступить лучше, слишком разные проблемы замкнулись на нем, чтобы он мог их разрешить. Наверное, за коротенький остаток его жизни уже ничего не решишь. И не поймешь даже. Жаль этого Сущеню, но и себя жаль тоже. А умирать очень не хочется.
Очень не хотелось Кольке Бурову умирать в этом лесу, вдали от знакомых ребят и своего отряда. Усилием воли он старался удержаться в ясном сознании, которое, все цепляясь за его беду, невольно, однако, погружалось в прожитые им довоенные годы с их житейской неустроенностью, частой голодухой, материнскими слезами и угрюмой отцовской озлобленностью. Но что же еще ему теперь вспомнить? Других лет не было у Бурова, именно эти выпали на его долю. Изредка, правда, она все-таки утешала его скупыми ребячьими радостями, искренностью холостяцкой дружбы или первой, такой неразумной, нелепой любовью. И в этот последний час жизни ему становилось нестерпимо обидно за свою безвременно оборванную жизнь и скорую разлуку со всем белым светом. Казалось, столько здесь оставалось непрожитого и непознанного, которого уже не познать никогда. Прежде о том не думалось, верилось — впереди вечность, все еще успеется. К тому же прежде все что-то мешало остановиться, подумать, оценить по справедливости, отвергнуть или полюбить — не было времени, заедала работа и проклятущая забота о том, как перебиться, свести концы с концами, выплатить все, что полагалось выплатить государству, рассчитаться по всем поставкам, чтобы почувствовать себя свободным и хоть немного счастливым. Но уж, видать, не почувствуешь никогда… Даже сейчас, перед скорым концом, когда абсолютно ничто уже не обязывало его — ни долг, ни начальство, ни даже страх, пережитый им множество раз и начисто израсходованный его душой, — что-то не давало ощутить освобождение, мешало; путаное в жизни запутывалось перед кончиной еще больше. Уже не разобраться. А главное — недоставало времени. Не было времени жить, некогда по-человечески умереть — так, как умирали старики: неспешно, покончив с делами, отдав все распоряжения, сделав все завещания. И ему очень захотелось как-нибудь добрести до отряда, пусть бы свои ребята зарыли его в сухую землю, сказали над могилой добрые слова, которых немного слышал он в жизни. Хорошие слова он бы услыхал и из могилы. Так мало было ему надобно, но и того уже не дождешься.
Как только немного прояснялось сознание и он ощущал себя на земле, с усилием вспоминал, что рядом сидит Сущеня.
Потом перестал ощущать, где он и кто с ним. Все больше вокруг ширилось-росло одиночество, и вот он остался один.
А потом как-то незаметно ничего не осталось… Войтик легко шагал по негустому чистому лесу, то и дело оглядываясь по сторонам, привычно и чутко вслушиваясь в набегавшие волны лесного шума. Сначала он немного прошел просекой, затем, поразмыслив, взял от нее в сторону — почему-то казалось, что Бабичи должны быть где-то слева. На плече у него висел карабин Бурова, в карманах поддевки позвякивало шесть обойм патронов. Свою длинную винтовку он осмотрительно припрятал в кусте можжевельника неподалеку от просеки, будет возвращаться, заберет — не бросать же исправную винтовку. Оставить ее Сущене было бы глупостью, не хватало еще вооружать предателя. Буров, если что, обойдется наганом, хотя наган вряд ли ему уже понадобится. Разве чтобы застрелить себя или Сущеню. Правда, Буров сказал: не трогай Сущеню, но Бурову легко так говорить, ему уже нечего бояться, одной ногой он уже там. Заглянув на рассвете под его сорочку, Войтик сразу понял, что Буров не протянет долго. Тогда за все, что случится, придется отвечать Войтику.
Потому он не торопился, сломя голову не бежал невесть куда за подводой Наверно, Бурову уже ничем не поможешь, самому же нетрудно схлопотать полицайскую пулю. Хотя вокруг лес, но, надо полагать, поблизости есть деревни, а в деревнях немцы, полицаи, предатели, из деревень всегда жди неприятностей. Да и в лесу тоже нелишне почаще озираться, неважно, что вокруг тишина. Опасность, она ступает неслышно, на мягких лапках, а обрушивается вдруг и разит насмерть. Как на той боровинке. Кто бы мог подумать, что поодаль от станции да еще ночью на них так неожиданно нагрянет полиция? Конечно, если бы не эта внезапность, Войтик успел бы подать сигнал Бурову, хотя бы крикнуть, что ли. А так было не до сигнала. Хорошо, что успел сам ноги унести, правда, бросив на опушке лошадь. Без лошади, конечно, теперь потопаешь. Да еще с раненым.
Но где же Бабичи?
Тянувшийся от самой просеки старый и редкий бор вдруг засерел впереди широкой просветлиной, и скоро Войтик вышел к опушке. Перед ним простиралось пустое широкое поле с дорогой и телеграфными столбами над ней. Прорезав поле, дорога исчезала в лесу, но деревни там не было видно. Может, она где за лесом, подумал Войтик. Идти через поле, однако, он не решился, пошел краем леса, держась в нескольких шагах от опушки. Он понимал, конечно, что это намного удлинит его путь, но что было делать? Хорошо еще, что не начался дождь, небо сплошь было обложено тучами, с опушки дул холодный ветер, и Войтик, тревожно оглянувшись, подумал: не заблудиться бы в этих лесах.
Так он прошел с километр и стал замечать, что местность пошла под уклон, в низину, под ногами мягко запружинил толстый пласт зеленого мха, усеянного сморщенными шляпками осенних грибов. Бор кончился, вокруг негусто рассыпались по склону тонкомерные сосны, подлесок исчез совершенно, сквозной лес просматривался далеко. Шел по-прежнему осторожно, стараясь держаться вблизи опушки, и вскоре наткнулся на заросли мелколесья — ольшаника и лозняка с остатками жухлой листвы в ветвях. Видимо, на его пути лежало болото. Это обстоятельство вызвало у Войтика новую заботу — перебраться через болото всегда непросто, особенно осенью. Так и оказалось, сквозь голый кустарник тускло блестел разлив стоячей воды — переполнившись после дождей, болото широко затопило низинную часть леса. Подумав и осмотревшись, Войтик повернул к опушке и там, еще раз кинув взгляд на осеннее поле, осторожно вышел из-за кустарника. И вдруг остановился оттого, что увидел. Вдали через поле, пошатываясь на колдобинах, ползло с полдюжины крытых брезентом машин.
От неожиданности Войтик втянул голову в плечи, опустился на четвереньки. Затем, сильно пригнувшись, подался назад, в лес. Оттуда, все пригибаясь, оглянулся. Машины подошли ближе — огромные, с темными пятнами на кузовах; свежий ветер временами доносил приглушенный гул их двигателей. Это были немцы, и Войтик, больше не оглядываясь, круто повернул в глубь леса. Наверно, в Бабичи теперь не попасть, подумал он, там раньше него будут немцы. Но что здесь понадобилось немцам? Может, поедут дальше, только куда? Кажется, Бабичи находятся по дороге в пущу, а в пуще партизаны, их отряд имени Суворова. Значит, это каратели. Но если каратели, то как же ему теперь быть? Куда сунуться?
Спустя какой-нибудь час он далеко отошел от поля с дорогой. Кругом был смешанный лес — березняк, замусоренный хворостом кустарник и мелколесье, пробираться в его зарослях стало труднее. Войтик согрелся, вспотел, расстегнул верхние пуговицы поддевки. Вскоре ему попалась перерытая кротами тропинка, и он с облегчением свернул на нее. Он думал, что эта тропинка приведет его к какой-либо дороге или, может, вообще выведет из леса. Но, немного повиляв по ольшанику, тропка уперлась в широкий лесной ручей, полный стоячей воды среди подмытого, с оголенными корнями кустарника. Кладки тут нигде не было, дно также не просматривалось в темной воде, и Войтик, слегка поколебавшись, решительно шагнул с берега. За каких-нибудь десяток шагов он одолел ручей и с мокрыми до колен ногами выбрался на противоположный берег. Потом, найдя место посуше, переобувался, выливал из ботинок воду, выкручивал портянки. Натертые стопы ног одубели от стужи, да и сам он порядком продрог и, чтобы согреться, бегом припустил по стежке, однако скоро притомился, пошел медленнее. Тропинка тем временем вывела его на узкий лесной прогал с ельником по сторонам. Тут надо было осмотреться. С одной стороны под елями ютились два заброшенных шалаша с ветхими продранными боками.
Войтик заглянул в один, там было пусто, в углу лежала охапка почерневшего сена, белело в полумраке несколько клочков бумаги. Не задерживаясь, он прошел дальше, миновал еловые заросли и крохотный островок березняка, нарядно запестревший среди мрачного царства елей. И тут как-то невзначай Войтик заметил, что все время ведшая его тропинка исчезла, под ногами нетронуто стлался мягкий зеленый мшаник, торчали по сторонам трухлявые пни в жестких стеблях папоротника. Кажется, Войтик потерял направление и не знал, куда идти дальше. Было похоже, что он заблудился. И тут как назло сверху сквозь ветви стало стегать дождем — не очень густым, но холодным и надоедливым. Суконная кепка Войтика и плечи поддевки скоро намокли, ноги до колен давно были мокрые, и он, остановившись под елью, думал: что делать? Куда идти? Начинало темнеть, надвигалась ненастная ночь. А где он оказался и в какой стороне остался Буров с Сущеней, он давно уже не имел представления. Он наверняка заплутал в этом беспросветном лесу, потерял направление на Бабичи, едва не наскочил на карателей. Войтик прислушался. Тревожно шумел лес, густо шуршал в еловых ветвях разошедшийся дождь, но выстрелов или криков нигде не было слышно. Но лучше бы уж раздались выстрелы, чтобы знать, в какой стороне враг, чем так вот петлять по-заячьи в незнакомом лесу. А может, и не надо петлять, подумал Войтик, тем более на ночь глядя, а вернуться назад да отыскать потерянную им тропинку. Все-таки тропинка должна куда-нибудь вывести, может, к какой-либо деревне, к жилью и людям.
Рассудив так, Войтик скорым шагом пустился назад, к недалекому прогалу за ельником. Тем временем дождь посыпался гуще, откуда-то из-под елей начал задувать настырный холодный ветер, от которого тут негде было укрыться. На поляне Войтик еще раз заглянул в шалаши, один из них показался ему целее другого, с дырами лишь в одной стороне, и Войтик вопреки своим намерениям на четвереньках сунулся в его полумрак. В самом деле, тут было сухо и почти уютно, под коленями мягко прогибался слой сена со мхом. Ощутив внезапную усталость, Войтик немного отполз от входа и прилег на бок. Он не хотел тут ночевать, разве отдохнуть немного, может, переждать дождь. Опять же, надо было решить, куда направиться дальше. Пока совсем не стемнело, может, вернуться к Бурову? Или лучше дождаться утра, вдруг подумалось Войтику. Утром лучше соображает голова и всегда предпочтительнее начинать всякое дело. Утром да еще в первую четверть месяца, на молодик, как некогда говорила мать. Правда, тогда Войтик довольно скептически относился к приметам и правилам матери, неграмотной крестьянской женщины, почти до старости прожившей на хуторе, не знавшей ничего, кроме обычной крестьянской работы, забот о земле, скотине — того, чем она занималась годами. И только, может, сейчас, потеряв ее и сам вдоволь натерпевшись на войне, Войтик временами возвращался в мыслях к прожитым до войны годам, вспоминал мать и вынужден был сознаться, что понимала кое-что в жизни и людях его неграмотная старуха. К сожалению, ее немудрящие знания и опыт мало согласовывались с беспокойным характером века, которому, как видно, нужны были иные знания и иной человеческий опыт.
Шум леса сливался с тихим шуршанием дождя в жестких ветвях шалаша. Сквозь дыру рядом мелко и часто капало, противоположная сторона крыши давно уже промокла, только в этом углу под толщей елового лапника пока было сухо. Войтик свернулся на боку, зажал между колен карабин и притих, отдаваясь своим невеселым мыслям. Хотелось есть, но со вчерашнего дня в его карманах не было ни корки, последний кусок хлеба он сжевал по дороге на станцию. В животе давно голодно урчало, сонная усталость все больше завладевала телом. Конечно, весь сегодняшний день их настигали неудачи, все выходило не так, как следовало, не хватало ему вдобавок еще и заблудиться в этом лесу. А где-то его напрасно ждет Буров (если ждет только) да этот Сущеня… Если рассудить здраво, то за подводой, конечно, следовало послать Сущеню, тот лучше знал, где какая деревня. Но как можно было довериться в таком деле Сущене? Поэтому вынужден был пойти сам, думал, так будет лучше. Но лучше не получилось… Возможно, однако, утречком он что-нибудь придумает. Придумать что-либо путное он умел с детства, люди иногда говорили, что Войтик — парень с головой и смекалистый. Другое дело, что порой ему недоставало твердости, мужской самоуверенности, но тут уж не его вина, наверное, таким родился. Он знал это давно, завидовал другим, твердым и решительным. Бывало, всегда с восхищением и завистью наблюдал за некоторыми руководителями в районе, наделенными твердым характером и хлесткой решительностью в их суматошных делах, которые они вершили с ходу, легко и красиво. Он так не умел. Он мучал других и сам мучался, но иначе не мог.
В годы проведения сплошной коллективизации несгибаемая воля была, может, главнейшим качеством характера каждого руководителя в районе, только она приносила успех. И если Войтик с огромными трудностями, ценой недосыпания, изматывающих выступлений и уговоров, обещаний и даже угроз кое-как сколотил за зиму четыре маломощных колхоза, то его начальник, заведующий райзо Хмелевский за это же время имел на своем счету восемь. Хмелевский умел добиться всего, чего хотел. Он не рассусоливал, как другие, не уговаривал, не просиживал в бессонных ночах на деревенских собраниях — он ставил вопрос ребром, обрывал несогласных, просто и даже весело раскулачивал, и каждому становилось ясно: этот своего добьется. И он добивался, ибо был человек решительный, беспредельно уверенный в том, что делал. Стоило однажды увидеть его размашистые жесты, крутоплечую фигуру, всегда выбритый массивный подбородок, чтобы понять: это руководитель больших возможностей и пойдет далеко. Войтик же в сравнении с ним выглядел мальчишкой. Оно и понятно: какой уж вид у заморыша, да еще больного язвой желудка.
Три года Хмелевский был его начальником и его идеалом руководителя, и кто бы подумал тогда, что этот идеал так плохо кончит однажды. Потом уже выяснилось, что снюхался с классовым врагом, руководил вредительской группировкой, на собраниях пропагандировал одно, а на деле поступал иначе и втихую подрывал основы государства. Правда, Войтик никогда не замечал за ним ничего подозрительного, но это, по-видимому, оттого, что его заведующий умел тщательно маскироваться. Уже потом, задним числом Войтик стал вспоминать мелкие факты, которые, будь он принципиальнее, могли бы в свое время навести его на определенные подозрения. Но не навели, и Войтик упрекал себя прежде всего за утрату политической бдительности. Хотя в то время он был подчиненным и во всех делах исполнял волю Хмелевского. А вот после ареста Хмелевского ситуация в РИКе изменилась в корне, и следующее прегрешение Войтика целиком на совести его самого.
Еще в то время, как они работали вместе, Войтик с матерью квартировал у старого еврея Мозеля, как раз через дорогу от дома Хмелевского. Мать Войтика, будучи женщиной сердобольной, приласкала двух дочек его начальника, которые целыми днями бегали без присмотра на улице, и всегда старалась угостить их чем могла, что попадалось под руку. Девочки очень приглянулись бабке, явно скучавшей без внуков и иногда даже заводившей о том разговор с сыном. Но Войтик обычно отвечал уклончиво, действительно, где ему было найти время жениться? В районе была тьма дел более важных, порой совершенно неотложных и горячих, и он до самой войны оставался холостяком, хотя давно уже не чувствовал себя молодым. Обычно вечером после работы к ним забегала работавшая на почте мать девочек Екатерина Ивановна, благодарила за дочек, и Войтик вообще был доволен тем, что семье начальника оказана мелкая, в сущности, услуга. Но вот после ареста Хмелевского отношения этих двух семей несколько изменились: девочки перестали прибегать к тете Фене, хотя та и продолжала изредка проведывать соседку напротив. Войтику это не очень нравилось, правда, до поры он молчал. Не понравилась ему и неожиданная просьба матери в начале зимы помочь соседке дровами («Сидит, бедная, в нетопленой хате, детки болеют, дров на дворе ни полена»). Войтику как раз должны были привезти из леса дрова, и мать попросила несколько бревен скинуть для Екатерины Ивановны. Им же и без того хватит, топили они не каждый день. Не понравилась эта просьба Войтику, но он снова смолчал, не стал ничего объяснять старухе, да и что она понимала в тонкостях классовой борьбы, которая развернулась в республике. Назавтра, когда ему привезли два воза дров, он сказал возчикам, чтобы сбросили три бревна возле ворот Хмелевской. Кто бы тогда мог подумать, что месяц спустя и его соседка окажется там, где уже оказался ее хозяин, бывший заведующий райзо и вредитель Кузьма Хмелевский? А Войтик потом едва оправдался. Каясь, чего только не наговорил на себя: и что потерял политическую бдительность, не сориентировался, проявил гнилой буржуазный либерализм. Еще хорошо отделался
— всего лишь схлопотал выговор. Хуже, что из-за того случая его не назначили на место Хмелевского, которое занял Душняк, железнодорожный рабочий из Полоцка, вряд ли что смысливший в сельском хозяйстве. Войтик потом очень разозлился на мать, которая так нелепо испортила всю его нелегкую карьеру совработника. Надо было им жалеть этих Хмелевских! Другие не жалели, не сочувствовали, не помогли ни разу, хотя в то время, как Хмелевский лихо руководил в районе, бесстыдно подхалимничали перед ним. Тот случай послужил Войтику хорошим уроком в жизни и, может, предостерег от многих других ошибок подобного рода. Хотя, разумеется, твердости характера от того не прибавилось, но он стремился ее прибавить. Его же обида на мать постепенно убывала, а в войну и вовсе исчезла, уступив место непреходящей жалости к ней. Но тут все понятно: мать приняла мученическую смерть за сына, спасла ему жизнь.
Случилось это год назад осенью, когда в районе утвердились немцы и начались облавы на коммунистов, комсомольцев, бывший районный актив. Партизан поблизости тогда не было, уходить на зиму в лес мало кто решался и прятались кто где мог. Полиция уже заинтересовалась Войтиком и несколько раз врывалась по ночам в опустевшую хату Мозеля. Войтика там, разумеется, не было, он скрывался у дальнего родственника на хуторе под лесом километрах в пятнадцати от местечка. Мать оставалась дома, за нее Войтик не очень тревожился: что могли сделать полицаи старой темной бабе, зачем она им? Но сделали. Третий раз не застав Войтика дома, они взяли мать и сказали, что, если сын не явится добровольно в полицию, расстреляют ее. И мать спустя несколько дней передала сыну через знакомую нянечку, некогда работавшую в больнице, чтобы не шел. Она уже старая, ей все равно, а он молодой, ему надобно жить. Посокрушался Войтик, особенно когда услышал, что мать и в самом деле казнили с большой группой заложников. Было очень жаль мать, и чем дальше, тем больше. Но что он мог сделать?
Убаюканный дождем и близким шумом деревьев, Войтик незаметно уснул в шалаше, свернувшись на боку, и вскоре увидел нелепый, бессмысленный сон. Приснился ему его желтый кожаный портфель, который он за три кило сала выменял у польского беженца в тридцать девятом. Портфель был шикарный: из толстой свиной кожи, на три отделения, с двумя блестящими замками-застежками, пружинисто щелкавшими, если на них нажать пальцами. Такого портфеля не имел ни один служащий в районе, а может, и во всей области. Войтик очень берег его, старался не слишком набивать бумагами, носил только на работу в РИК да еще брал в дорогу, когда ехал в Витебск на какое-нибудь совещание или с отчетом. В вагоне он всегда клал его под подушку, но так, чтобы не очень сминать головой, не повредить аккуратные металлические уголки. Он очень опасался, чтобы его не стащили утром, когда он отлучался в туалет. Но тогда все обошлось хорошо, портфель он сберег до самой войны, а как только в местечке появились немцы, спрятал его на чердаке за дымоходом. И вот теперь ему приснился этот портфель, который каким-то образом очутился на столе в штабной землянке в лесу, а рядом стояло начальство — командир Трушкевич, начальник штаба и еще кто-то; они хотели, чтобы Войтик сам раскрыл портфель. Не зная, что там, и чего-то страшась, Войтик дрожащими пальцами нажал знакомые защелки. Он ожидал увидеть там свои бумаги, некоторые документы и справки, а из портфеля вдруг выкатилось большое гусиное яйцо, за ним еще два — портфель был полон гусиных яиц, украденных где-то, за что теперь придется ответить Войтику. Войтик испугался, не зная, как оправдаться, а Трушкевич тем временем уже нащупывал свою вытертую кобуру. Войтик содрогнулся в испуге и проснулся, не сразу сообразив, где он и что с ним случилось. Некоторое время затем он переживал сон, не в состоянии высвободиться из его пугающей бессмыслицы и уговаривая себя, что все это ерунда, мало ли что может присниться. Не хватало еще ему пугаться каких-то запутанных снов.
Постепенно, однако, он успокоился; холод, люто пробиравший окоченевшее тело, напомнил ему, где он и как сюда попал. В шалаше было темно, сильно шумел ветер в лесу, задувал через все дыры в шалаш, но дождь вроде бы перестал. Не выглядывая наружу, Войтик почувствовал, что недалеко до утра, и лежал, думая, куда ему податься утром, где искать деревню? Или, может, лучше вернуться в сосняк, к Бурову? Только где он теперь найдет этот сосняк? Напорется на немцев, вот тогда и сбудется зловещий смысл сна: увидеть гусиные яйца, согласно деревенскому поверью, значило попасть в беду.
Наверно, он и еще немного вздремнул, а когда проснулся, вокруг уже рассвело; рядом в шалаше отчетливо стали видны свисавшие ветви, черные жердки перекрытия, и он на четвереньках выбрался наружу.
Со всех сторон из-под елок на узкий прогал полз стылый туман, окутывал деревья, кусты, волгло стелился по травянистой полянке, заволакивая близкие лесные окрестности. Зябко поеживаясь, Войтик немного прошел тропинкой в ельнике и неожиданно оказался на какой-то полузаросшей лесной просеке. Просек в лесу могло быть много, но эта показалась Войтику чем-то знакомой, и он подумал: не по ней ли вчера они волокли раненого Бурова? Обрадованно оглянувшись по сторонам, он неслышно пошагал в тумане, надеясь, что уж куда-нибудь выйдет.
Остаток того несчастливого дня Сущеня растерянно сидел возле мертвого Бурова. Сначала он ждал, что, может, тот еще оживет, шевельнется, может, отзовется даже, и время от времени трогал его за плечо, тихо звал: «Коля, а Коля…» Однако все было напрасно, Буров не подавал признаков жизни. Измученное лицо его все гуще покрывалось светлой растительностью, поджатые губы застыли с выражением несправедливой обиды, к бледному лбу прилепилась русая прядка волос. Одинокий муравей шустро взбежал на лоб, помедлил возле прядки и живо скатился по виску на траву. Наверно, сидеть здесь с покойником не имело смысла, но и уходить отсюда… Куда Сущеня теперь мог уйти? Опять же сперва надо было дождаться Войтика с повозкой. Но Войтик задерживался — не попал бы в какую переделку, встревоженно думал Сущеня. Заботы этих двух партизан стали и его заботами, и, потеряв одного, он уже беспокоился за судьбу другого.
Ветер сильно шумел поблизости, в хвойном бору, и, хотя тут, в густых низкорослых зарослях, было, в общем, затишье, Сущеня окоченел на стуже без верхней одежды, в неподвижности. Давно с перерывами стрекотала где-то сорока, может, на него, а может, на кого другого, и Сущеня поднялся, чтобы оглядеться по сторонам. Черный наган, торчавший из-под шинели покойника, он осторожно потянул за рукоятку и сунул себе в карман. Наган был заряжен, и Сущеня не стал разглядывать его, тем более нажимать курок, чтобы ненароком не выстрелить. Он осторожно продрался между сосенок, вылез на просеку. Всюду было пусто и тихо, сорока как раз тоже унялась, и он минуту пооглядывался, питая слабую надежду где-либо увидеть Войтика. Но Войтика нигде не было. Тихонько раздвигая сосновые ветки, он ' вернулся на свою полянку, встревоженный тем, что увидел.
На тонких вершинах сосенок поблизости расселась воронья стая — полдюжины крупных птиц тихо покачивались на ветру, одноглазо косясь на полянку с мертвым человеком внизу. Сущеня поднял голову — тот прежний, самый крупный ворон сидел совсем рядом на вершине крайней сосенки и, свесив черный массивный клюв, нахально уставился на него. Сущеня возмущенно замахал рукой раз и второй, крикнуть он не решился. И ворон, наверно, поняв эту его нерешительность, не шевельнулся, даже не двинул крылом, сидел как привязанный на ветке, лишь из стороны в сторону поворачивая черную голову. Ах ты, наглая тварь, выругался про себя Сущеня и взглядом поискал на земле какую-нибудь палку. Но ни палки, ни камня нигде не было рядом и нечем было отогнать наглеца.
Поразмыслив, однако, Сущеня стал успокаиваться — что теперь ему ворон! Может, на живого не кинется, а Бурова уж он защитит. Пока сам жив, Бурова он им не отдаст, может, тем и отплатит свой долг покойнику, все-таки Сущеня ему обязан. Жизнью обязан. Другое дело, чем в конце концов обернется эта его жизнь. Что принесет в итоге — освобождение или гибель похуже.
Воронья угроза и смутное желание дождаться Войтика вынудили Сущеню отказаться от намерения уйти с этого места, и, хотя было холодно и страшновато, он терпеливо ждал. Он сел на траву возле ног покойника, сжался, сгорбился, зажал под мышками озябшие руки. Буров лежал в ненужной теперь ему шинели, но Сущеня не решался его раздевать, чтобы укрыться самому, руки не поднимались. Он все ждал, что вот-вот появится Войтик с повозкой и они поедут отсюда. Куда поедут? Да куда-нибудь, все равно, лишь бы подальше от этого вороньего сосняка, может, куда к людям.
Но шло время, а Войтик не появлялся. Вороны тоже никуда не улетали. Покачиваясь на ветру вместе с сосенками, озираясь по сторонам, иногда менялись местами и незаметно, исподволь все плотнее обкладывали полянку. Под вечер их уже собралось в сосняке около дюжины, и впереди на самой рослой сосенке восседал тот крупный и хищный ворон, пристально следил за человеком внизу.
Как-то неприметно надвинулся вечер; облачное небо еще больше нахмурилось, из-под сосенок стал расползаться сумрак, плотнее окутывая тесную прогалинку. Три вороны с дальних верхушек улетели куда-то одна за .другой, остальные сидели, чего-то терпеливо ожидая. «Черт бы вас побрал!» — мысленно ругался Сущеня, махая на них руками. Только напрасно — птицы ничуть не пугались, будто понимали всю тщету его бессильных угроз. Было похоже на то, что эти остальные не собирались никуда улетать. Уж не надумали ли они заночевать тут, подумал Сущеня. Когда совершенно стемнело и в небе остались лишь тонкие силуэты сосновых верхушек, погрузились в темноту и вороны. Однако время от времени в чаще поодаль слышалось неясное шевеление, некоторые верхушки беспокойно пошатывались, значит, воронье ждало.
Войтика же все не было.
К ночи Сущеню стала сильно донимать усталость. Уже сколько раз он ловил себя на том, что начинает дремать, и тревожно подхватывался, вставал, начинал ошлепывать себя руками, чтобы разогнать сон и согреться. Но это не согревало, лишь утомляло больше прежнего, хотелось прилечь, свернуться, забыться во сне. Совершенно обессилев в долгой борьбе со сном, уже в сплошной темноте он наконец не стерпел и лег рядом с покойником — боком на полу его распахнутой шинели. Буров давно утратил остатки живого тепла, но Сущене возле него все-таки показалось уютнее, будто теплее даже. И он притих со своими печальными мыслями, плотнее прижимаясь спиной к затвердевшему телу покойника. Все думал, почему так жестоко ему не повезло в эту войну, в чем его вина перед людьми. Почему именно его настигла такая безжалостная судьба? Чем он заслужил свою горькую участь?
Может, не следовало быть таким уж щепетильным, как-нибудь исхитриться и по возможности обмануть немцев, вывернуться из беды. Выкручиваются же другие. Но, видно, тут все дело в душе: в том, что может она принять, а что нет — ни при каких обстоятельствах. Есть люди. способные меняться по нескольку раз в день, не то что за жизнь, с одним человеком они одни, а с другим другие. Становятся такими, какими им стать удобнее. Но вот беда, Сущеня так не умел. Да и не хотел никогда. Он хотел оставаться собой, какой он ни есть.
Вся большая сущеневская семья, сколько он помнил, жила в каком-то обостренном стремлении к правде и чистоте в отношениях с ближними — родней, соседями. В годы своей молодости Сущеня не мог даже представить, как это возможно, например, одолжить и не отдать или даже не одолжить тому, кто просил и нуждался, если это можно было сделать. Сами всегда жили трудно, пожалуй, бедно, каждый пуд хлеба, кусок сала, каждая копейка были очень нужны. Но если приходила к ним бобылка Христина с прижитым ею без мужа ребенком, Сущени отдавали последнее — какой-нибудь кусок хлеба, тряпку или рубль на лекарство. Конечно, всегда было жаль, всегда не хватало самим, но мать или бабка Хведора в таких случаях говорили, что нельзя гневить бога, не пособить и без того обиженной людьми и богом. Бабка Хведора ревностно следила и за ними, малыми, и потом, как выросли, чтобы не было какой несправедливости в отношении к младшим или там соседям, и, если что случалось, корила своих больше, чем чужих, хотя частенько свои и были менее всего виноваты. Или совсем не виноваты, как тогда, с Пилиповыми снопками.
Живший в другом конце деревни, у станции, дядька Пилип возил сжатый ячмень от реки и потерял четыре снопка. Снопки эти видели все Сущени — и мать, и дети, и бабка Хведора, те с полдня валялись на стежке возле их огорода, дядька Пилип, наверное, еще не хватился потери, а как хватился и вернулся за ними на стежку, снопков уже не было. Снопки пропали. Известное дело, дядька расстроился, особенно когда услышал от Сущеней, что снопков никто из них не брал, а куда те подевались, никто не знает. Погоревал дядька Пилип и ушел, а в хате у Сущеней поднялась тревога, бабка Хведора едва не плакала, ведь он же подумает на них, Сущеней. Тех Сущеней, которые в жизни не сорвали бобового стручка за чужим плетнем, не подняли опадыша из чужого сада. Весь вечер Сущени решали, как избежать нелепого подозрения. Дело осложнялось еще и тем, что свой ячмень они уже обмолотили, в пуньке не осталось ни одного снопка с зерном. И бабка Хведора сбегала через три хаты к хромому Змитроку, у которого и одолжила четыре снопка ячменя, а Сущеня отнес их Пилипу, сказал, что малые, балуясь вчера, их прибрали со стежки, никому о том не сказав. Дурацкая, в общем, ситуация, но подозрение все-таки было отведено от Сущеней, хотя и не очень обычным способом. И бабка Хведора сказала: «А черт их бери, те снопки, теперь хоть спокойно спать будем». Дядька Пилип не серчал, и все было бы хорошо, если бы в душе у Сущени не осталась крошечная занозинка: кто-то все же попользовался теми Пилиповыми снопками, как и сущеневским простодушием тоже. Хотя разве это в первый или в последний раз? Всегда в таких случаях бабка утешала: «А пусть. Себе спокойнее будет». Бабка и мать, пока были живы, всегда стремились к покою в душе. Но их давно уже нет, а эта военная история все перевернула внутри у Сущени и готова была отнять жизнь, не только покой души.
Ужасная ночь в сосняке длилась для Сущени бесконечно долго; он то дремал урывками, то содрогался от стужи и тревоги, вскидывал голову, слушал. Когда научался дождь, сделалось и вовсе невмоготу, от дождя тут негде было укрыться, кроме как под сосновыми ветвями рядом. Уже намокнув, он перетащил Бурова под низко нависшие лапки ближней сосенки и, наконец решившись, снял с него мокрую, пропитанную кровью шинель. Сам снова лег рядом и, словно с живым, вместе накрылся его шинелью. Так стало терпимее, по крайней мере, не текло на лицо. И он вроде уснул…
Долго ли спал, неизвестно, только вдруг вздрогнул от отчаянного крика поблизости. Это был крик ребенка. Сущеня узнал его сразу, так мог плакать только его сынишка Гришутка, и столько вырвалось в том крике недетского горя, что Сущеня на секунду опешил. Затем сломя голову кинулся за угол сарая, по крапиве на огород, показалось, плач слышался именно оттуда. Но в огороде никого не было, а плач доносился уже из сада, из-под рядка вишен, обросших малинником снизу. Боясь опоздать, Сущеня побежал туда, перелез через подгнивший трухлявый забор, однако и под вишнями никого не было; плач-крик уже доносился с другой стороны — со двора. Гришутка прямо-таки захлебывался в отчаянии, наверное, случилось что-то страшное, и Сущеня ужаснулся при мысли, что опоздает. Вдоль забора по обмежку он подбежал ко двору и только выскочил из-за угла, как целая стая ворон поднялась над крышами построек — озлобленный птичий грай взвился под самое небо, вороны махали крылами, костяно клацали черными клювами, норовя растерзать человека. Защищаясь, Сущеня вскинул над головой руки, втянул голову в плечи, готовый броситься прочь. А ребячий плач между тем все доносился откуда-то, понемногу утихая или, возможно, отдаляясь в пространстве. Потом и остальное стало утихать, постепенно терять четкость и смысл в изменчивом наплыве сна…
Позже он проснулся с каким-то стойким ощущением тревоги, которая еще больше усилилась наяву. Полежав под низко нависшими ветками, вслушался: нет, человеческого голоса или плача нигде не было слышно, вокруг все затихло, перестали шуметь деревья; лишь вблизи, над полянкой, слышалась знакомая возня ворон, они все суетились, перелетая с ветки на ветку, будто дожидаясь чего-то. С мрачной решимостью Сущеня вылез из-под сосенки. После ночного дождя в зарослях было стыло и волгло, влажные клочья тумана скупо цедились сквозь густое сплетение ветвей, цепляясь за тонкие верхушки сосенок, сплошь устилая собой низкое небо. Было тихо, безмолвно, безветренно. Над самой полянкой низко обвисли колючие ветки, обсыпанные множеством мелких прозрачных капель, и он снова промок. Проклятое воронье не отступалось. В этот раз он не стал их тщетно пугать руками, а, осторожно пробравшись между сосенками на широкую, затянутую туманом просеку, нашел там подходящую палку и. обломав с нее сучья, вернулся на прогалину.
— Прочь, проклятые! Прочь!
Он широко замахнулся палкой, ударил ею по ближней сосенке, ворон неуклюже свалился с верхушки и, взмахнув крылами, перелетел на сосенку подальше.
— Прочь, сволочи!!
Войтик вернулся, когда уже совсем рассвело, и Сущеня потерял остатки надежды, не знал, что делать и даже что думать. Ворон он немного поотогнал от полянки, но те упрямо не хотели оставлять сосняк, лишь пореже расселись на верхушках деревьев поодаль. Ждали. Накинув на плечи буровскую шинель, Сущеня уныло сидел посередине полянки, тоже ожидал, следя за настороженным вороньем. Тут его и застал Войтик, который тихо продрался в тумане между рядами сосенок.
— Сидишь? — спросил он с легким оттенком досады и удивления. Сущеня без радости, невидяще поглядел на него.
— Вон, — кивнул он в сторону сосенки, из-под которой высовывались неподвижные ноги Бурова.
— Так я и знал, — сказал Войтик. — Давно?
— Вчера под вечер.
— Вот как! Не надо и подводы. — Войтик задумчиво прошелся по тесной полянке, окинув взглядом ворон на верхушках сосенок. — Ишь слетелись. Ждут.
— Со вчерашнего ждут, — сказал Сущеня и, помолчав, спросил: — А что, повозки нету?
— Повозки нету, — сказал Войтик, снял с плеча карабин и устало опустился наземь. — В Бабичах немцы.
— Немцы? Так как же теперь? — встревожился Сущеня. Большие руки его беспокойно задвигались на коленях.
— А что теперь? Припрячем и потопаем. Может, прорвемся.
— Куда?
— А кто куда. Я в отряд, а ты же, наверно, к немцам хочешь? — сказал Войтик и холодными глазами на поросшем клочковатой щетиной лице испытующе уставился на Сущеню.
— Я не к немцам, — с затаенной обидой сказал Сущеня. — Веди и меня в отряд. Другой мне дороги нету.
— В отряд, да. Тебя там ждут, — пробормотал Войтик. Они помолчали недолго. Сущеня с тоской в глазах глядел куда-то поверх сосняка — на ворон, что все так же выжидающе чернели в тумане. Он, конечно, уловил смысл прозрачного намека Войтика, да и без того понимал, что ничего хорошего в отряде его не ждет.
— Бурова надо с собой взять, — сказал он словно между прочим. — Негоже его тут оставлять. Вон воронья сколько.
— Если сам понесешь, — согласился Войтик.
— Ну понесу, что ж…
Войтик помолчал, что-то обдумывая, а Сущеня уже твердо решил: понесет. Он не мог тут оставить тело Бурова, потому что… Потому — с чем же он тогда явится в тот их отряд? Разве со своей нелепой виной? Недолго еще посидев, Войтик поднялся на ноги, сквозь туман вгляделся в верхушки сосенок и вдруг заспешил:
— Если так, вставай. Мне еще винтовку надо забрать. На коленях Сущеня подлез под низкие ветви и, обхватив под мышки покойника, вытащил его на свободное место. Тело Бурова совсем затвердело и плохо сгибалось. Сущеня бережно заломил вверх его руки, занес их себе на плечи. Потом медленно, с усилием поднялся на ноги, правда, сзади ему немного подсобил Войтик, и они осторожно выбрались из мокрого сосняка на просеку.
Вдоль всей просеки между стволов старых сосен плыл влажный туман, верхушки и кроны деревьев скрывались в его подвижных, клубящихся волнах. Видно было плохо, на какую-нибудь полсотню шагов, и, немного пройдя по просеке, Войтик остановился.
— Если не в Бабичи, то надо левее брать, — сказал Сущеня. С подвернутой под ношей головой он локтем показал куда-то в туманные боровые недра.
— Хорошо. Только винтовку возьму.
Войтик влез в темные заросли можжевельника и задом выбрался оттуда со своей длинной винтовкой в руках, закинул ее за плечо. На другом плече у него висел карабин Бурова.
— Ну, веди! — сказал он. — Только, смотри, не к немцам!
Сущеня не ответил, молча придушив в себе обиду, была она далеко не первой, подумал, что обид, наверно, ему еще хватит. Еще он наобижается, надо привыкнуть. Если только все как-нибудь обойдется. А если не обойдется, то что ж… Что тогда ему все эти обиды? Правда, слушая теперь многозначительные намеки Войтика, он чувствовал, что надо было что-то сказать в свое оправдание, что-то объяснить из его нелепой истории. Но он не мог решиться на такое объяснение, что-то мешало откровенности с этим человеком — его недоброжелательность, что ли? Если бы сам Войтик спросил, а то… Однажды он уже решился, рассказал обо всем Бурову, и так неудачно получилось — исповедался покойнику. Почему-то, однако, сделалось легче, словно Буров понял его хотя бы перед кончиной. А может, и понял. Сказал же он Войтику: «Не трогай Сущеню», — значит, что-то понял. Первый человек за все время его, Сущени, терзаний. Еще и поэтому несет он его, чтобы не бросить воронью, немцам… Наверно, даже мертвый Буров был нужен ему для уверенности в себе, для ощущения своей невиновности, и Сущеня держался за него, как утопающий держится за соломинку. Только много ли поможет ему эта соломинка?
Довольно-таки тяжелое тело Бурова быстро отнимало силы, Сущеня начал часто останавливаться, поправлять ношу. Будто предчувствуя нелепость его усилий, покойник отяжелело стремился к земле, которой он уже принадлежал со вчерашнего вечера и от которой его удерживал этот его бывший сосед.
Они долго брели по туманному лесу, остуженно дыша его смолистым, почти спиртовым духом. Усыпанная хвоей земля в бору была мягкой и чистой, без травы и зарослей, идти по ней было, в общем, легко; верхушки гигантских сосен по-прежнему скрывались в низкой туманной наволочи, неба почти не было видно. Редкий подлесок из березняка, можжевельника и сосенок застыл в тумане. Было тихо и глухо, ни одна ветка не шевельнулась рядом. Птиц тут почему-то не было слышно, только однажды вверху недолго постучал по сухостоине дятел и стих. Сущеня согрелся под шинелью, ему давно уже хотелось распрямиться, передохнуть, но Войтик будто не замечал того, и Сущеня терпеливо тащился со своей нелегкой ношей. Им встретились уже две просеки, но обе пролегли поперек их пути. Время от времени поглядывая вокруг из-под расставленных в стороны локтей, Сущеня как будто узнавал лесные места и полагал, что идут правильно. За третьей просекой должен был начаться участок старых, перезрелых сосен. Когда-то, еще до колхозов, молодые мужики и девки из Мостища заготавливали тут лес для Донбасса, и тут у него впервые началось с Анелей… Началось вроде счастливо, но вот чем кончится? От этого участка Бабичи останутся, считай, в стороне, они уже прошли эту деревню. Правда, если держаться прямо, то впереди их ждало не лучшее — впереди было шоссе; наверное, шоссе также придется переходить в лесу. Хорошо бы перейти ночью. А днем… Разве что поможет туман.
Все это время, держась сзади с двумя винтовками на плечах, Войтик с завистью думал, какой все же крепкий мужик этот Сущеня. Согнулся едва не до земли, а прет будто трактор, и даже не остановится передохнуть. Силен железнодорожник, ничего не скажешь. По правде говоря, Войтик инстинктивно недолюбливал таких крепышей, находя в них что-то отталкивающее, особенно для человека другого склада, каким был сам Войтик с его иными достоинствами — умом, сообразительностью, может, даже способностью схитрить, если было нужно. И еще, как недавно говорили, принципиальностью. Но принципиальность нужна была до войны, в классовой борьбе, в их суматошной повседневной работе, а здесь какой от нее прок? На войне куда больше надобности в такой вот выносливости, простой физической силе, которой Войтику как раз и недоставало. Но что делать, каждому свое. Поэтому пусть несет, если сам напросился. Очень даже возможно, что командир Трушкевич спросит, где убитый, и погонит за трупом. Но тут недалеко, лагерь уже под боком, труп, если что, можно доставить потом на повозке. Конечно, в лагерь Сущеню вести нельзя. Будет скандал, если, посланный застрелить предателя, он приведет его в лагерь. Конечно, он застрелит его, только разве что где-нибудь поближе к реке. И тогда будет свободен. Сам уж как-нибудь доберется до пущи и доложит Трушкевичу! приказ выполнен. Правда, не обошлось без потерь, Буров убит. Но теперь разве большая новость — потери? Скольких они уже потеряли за лето и осень…
До третьей просеки они еще не дошли, как где-то в стороне слева внезапно забахали выстрелы. Не так чтобы близко, но и не очень далеко. В тумане звуки выстрелов прозвучали приглушенно, и трудно было определить, где. Сущеня недолго постоял с ношей и устало опустился набок, Войтик тоже стал на колени, оба прислушались. Бахало, может, с десяток винтовок; туманные недра леса доносили короткие, без эха звуки выстрелов, которые туго отдавались в плотном воздухе.
— В Бабичах, ага? — спросил погодя Войтик.
— Если бы в Бабичах, — вслушиваясь, сказал Сущеня. — С другой стороны. На шоссе, похоже…
— На шоссе?
— Ну.
— Так еще и шоссе тут? Куда же ты завел? Войтик тихо про себя выругался
— он совершенно забыл, что тут где-то должно быть и шоссе. О шоссе он и не вспомнил даже.
— А куда же вести? — обиделся Сущеня. — Вы же говорили, в Бабичах немцы.
— Ну, немцы.
— Значит, только сюда. Через шоссе.
Да, действительно, наверно, через шоссе, в пущу другой дороги тут не было. Может, впервые Войтик подумал, что Сущеня попался ему кстати, что без него он снова заблудился бы в этом чертовом лесу. А заблудившись, недолго напороться на полицаев и распрощаться с жизнью. Этот хоть знает местность и, может, еще выведет его к своим.
Вот если бы он был честный мужик, не предатель.
Но если бы он был не предатель, то, наверное, и Войтику не было бы надобности бродить здесь по лесам и наверняка Буров не лежал бы теперь на стылой земле, задрав вверх обросший подбородок. Если бы Сущеня был не предатель. Хуже, что он еще и с наганом; думает, наверно, что Войтик забыл о нагане и не станет его отбирать. Но надо отобрать. Если, может, не здесь (чтобы не обострять отношений), то за шоссе обязательно. Все-таки предатель, каких теперь на войне развелось немало — одни ими стали с охотой, для какой-то выгоды себе, другие по безысходности, из-за страха за жизнь, за детей и семью. Но это не меняет ничего по сути, предатель всегда предатель. Не смотри, что какой-нибудь прикинется смирным, вполне лояльным, даже может вызвать у тебя сожаление, а затем… А затем — нож в спину, пулю в затылок. Кто знает, что у него на уме, у этого Сущени, чему его там научили, в полиции. Если уж побывал у них в когтях, так хорошего не жди. Наверняка завербовали — вынудили или уговорили — и дали задание. Иначе живым бы не выпустили. Такие-то штучки Войтик уж понимал, его не проведешь. Кое-что повидал в жизни, кое-чему научился.
Они полежали на стылой земле под соснами, немного передохнули; тревога улеглась, тем более что и стрельба как-то невзначай прекратилась. Потом снова двинулись в прежнем направлении — в сторону шоссе. На этот раз шли осторожнее: впереди Сущеня с ношей, за ним шагов через пятьдесят Войтик. Часто останавливались по одному или оба сразу и слушали. Туман не расходился весь день, может, немного стал реже к вечеру; вверху потянуло боровым шумом, от легкого ветра зашевелились вершины деревьев. В этом их шуме, однако, стало хуже слыхать, и они снова вдруг оба попадали от внезапного грохота, что посыпался недалеко впереди. Полежав, догадались, что подошли к шоссе — где-то поблизости проносились машины. Правда, сквозь густоватый подлесок их не было видно, как не было видно и самого шоссе.
Когда грохот постепенно отдалился, Войтик, пригнувшись, подбежал к Сущене.
— Шоссе, да?
— Шоссе.
— Что делать? Перейдем?
Прежде чем ответить, Сущеня послушал. Лес слабо шумел, как и прежде, но автомобильный шум помалу смолкал, отдаляясь вправо; слева же лесной простор замер в тиши. Хотя, конечно, каждую минуту оттуда могли появиться машины.
— Может, лучше ночью, как стемнеет, — слабо возразил Сущеня.
— Долго ждать…
— Лучше бы подождать.
Сущеня остался лежать — ничком под кустом можжевельника, все вглядываясь через подлесок в сторону шоссе. В общем, ему было безразлично, когда переходить шоссе, чувствовал, ничего путного его там не ждет. Как не ждет, пожалуй, нигде. Но он начал уже свыкаться со своей новой ролью — проводника или даже партизана — и хотел прилежно ее исполнить. А чтобы прилежно ее исполнить, следовало слушаться Войтика, теперь словно бы его начальника. Это послушание давало ему неясную надежду, которая и вела его весь день по лесу. Опять же Войтик, может, поймет, что Сущеня делает все по своей доброй воле, без принуждения, может, он запомнит, а при случае и засвидетельствует это.
Они пролежали так, пожалуй, не очень долго; на шоссе все утихло, не слышно было и стрельбы. Ветер вверху, наверно, снова унялся, так и не разогнав туман, который, похоже, начал сгущаться на исходе дня, за время их ожидания. Да, туман стал гуще, Войтик понял это по тому, как серой наволочью поодаль задымил подлесок. Долго лежать на сыром мшанике стало холодно, судороги сотрясали озябшее тело, и Войтик тихо сказал:
— А если теперь, а? По одному? Сущеня поднялся, сел, огляделся. Он не возражал, но и не спешил согласиться, он недолго подумал.
— Надо посмотреть. Как там, на шоссе.
— Ну посмотри. Только недолго.
Устало поднявшись на ноги, Сущеня побрел в подлесок, а Войтик вдруг нелепо испугался: напрасно отпустил! На всякий случай с винтовкой отбежал несколько в сторону и спрятался за ствол толстой сосны. Выглянув из-за нее, увидел, как Сущеня осторожно, крадучись, пробирался к шоссе; иногда его вовсе скрывал березнячок подлеска, но потом он снова появлялся уже в другом месте. Когда он отошел далеко, Войтик расслабленно опустился на корни сосны.
«Черт его знает, что за человек? — подумал он про Сущеню. — Вроде бы свой. Или, может, подлаживается под своего, чтобы влезть в доверие?» Конечно, его следовало остерегаться и днем, а если еще остаться с ним ночью?.. Нет, оставаться с ним на ночь Войтик вовсе не собирался, он чувствовал, что надобно как можно скорее освободиться от этого Сущени. Перейти шоссе и застрелить. А то еще застрелит самого.
Однако пока что ничего плохого не произошло, Сущеня скоро появился из кустарника, и Войтик одновременно с ним подошел к распластанному на земле Бурову.
— Ну?
— На шоссе пусто, — сказал Сущеня. — Нигде никого.
— Тогда пойдем, — решил Войтик. — Пока нигде никого. Немного подождем и пойдем.
— Хорошо, — покорно согласился Сущеня. Они снова опустились наземь по обе стороны от Бурова, который, заломив руки, безучастно лежал на боку. Спутанные волосы на голове и широкие плечи в черной сорочке были облеплены лесной паутиной и обсыпаны хвоей, сапоги низко сползли с длинных ног, и все его тело казалось неестественно вытянутым и неуклюжим. Сущеня поправил на его животе завернувшийся подол мокрой от крови сорочки.
— Давно знакомы были? — спросил Войтик.
— С детства. Через улицу жили. Он, правда, моложе был. Все к машинам тянулся.
— Да-а, — сказал Войтик, будто что-то начиная понимать. — Вот это и подвело. Его и тебя.
— Оно, может, и так, — неохотно согласился Сущеня. — Да только меня подвело другое.
— Что же еще?
Сущеня протяжно выдохнул и сцепил на коленях руки.
— Что не помер там, в полиции. Вот что.
— Помирать зачем торопиться, — сказал Войтик» — Буров вон поторопился, невтерпеж было. Все через свою дурость!
— Да, Буров не вовремя. Молодой еще. Жаль…
— Тебе-то чего жалеть?
— Потому как из-за меня будто. Только я ни при чем. Разве я хотел? Я только там, в болоте, не хотел лежать.
— Вот лег бы в болоте, Буров бы живой был. Не так разве?
— Это так, наверно, — поморщился Сущеня. — Но вы уж скажите там командирам…
— Что сказать? — насторожился Войтик.
— Ну про меня, если что. Если не дойду. Все-таки женка у меня, дитя…
— А, вот что! — догадался Войтик. — Это скажу. Не беспокойся. Может, еще и написать придется.
— Написать — это хорошо. Все-таки документ.
— На документ надеешься? — удивился Войтик.
— Ну. Все-таки, может, разобрались бы когда.
— А все же завербовали, ага? Ну, признайся! Войтик острым, испытующим взглядом посмотрел на Сущеню, и тот от неловкости криво передернул губами.
— Если бы завербовали, так нет же! Вербовали, да. Но я же не мог. Ну не мог я, и все.
— Так уж и не мог? — язвительно сказал Войтик. — Врешь, наверное?
Сущеня искренне изумился.
— Ну как же можно, посудите сами! На такое дело! Мало что себя погубишь, так еще и семью… Как же им жить? Если, может, жить останутся.
Он говорил словно бы даже искренне, отметил про себя Войтик, и если рассудить, так была какая-то правда в его словах. Но все равно поверить ему Войтик не мог. За недолгую свою жизнь Войтик уже убедился, как хитро работает враг, как умело прикидывается другом, в доску своим, чтобы затем выбрать время и нанести удар. Как тот Хмелевский. Сколько лет разыгрывал роль принципиального партийца, а втихомолку вил свою вредительскую веревочку, разваливал сельское хозяйство, организовывал слабые колхозы. Но все-таки нашлись люди умнее, разоблачили врага и наказали безжалостно. И разве один Хмелевский? И директор школы Протасевич, милицейский начальник Локтенок, предрайпотребсоюза Кузьмич. Да в каждой деревне, в каждом колхозе. А в области? Всюду поналезло врагов, шпионов, предателей. Разоблачили многих, но немало и осталось. Нет, видно, на то она и бдительность, чтобы всегда быть начеку, не позволить дремать в себе непримиримости. Враг хитер. Так вас обставит, что многое в его вредительстве кажется неправдоподобным, сомнительным, а то и просто станет жаль человека, особенно если он давний знакомый, друг или родственник. Но в таком деле всякое постороннее чувство следовало душить в себе без колебания, сжав зубы, исполнить то, чего требовал беспощадный принцип борьбы. Кто кого, так ставился вопрос в довоенные годы, таким он остался и теперь, когда так явственно обнаружились упущения и недоработки прежнего времени в образе вот таких сущеней. Эти недоработки в войну обросли новыми сложностями, но надо бороться. Иначе не победить.
Но хорошо так сознавать — ясно и категорично, труднее было соответственно поступить. Хотя бы с Сущеней. Войтик не чувствовал никаких затруднений позавчера, когда они ехали на станцию, но за минувшие два дня их отношения несколько изменились. Сегодня между ними уже появилась какая-то связь (связь с предателем!), они делали одно дело — несли труп Бурова, а впереди их ждал опасный переход через шоссе, где наверняка не обойтись без помощи Сущени. Значит, надобно еще поводить его за нос, сделать вид, что Войтик доверяет ему и даже в чем-то с ним соглашается.
— Ну, оно по-разному бывает. Конечно, война, — примирительно заключил разговор Войтик.
Однако эти его слова Сущеня подхватил с несогласием и заговорил с такой наболевшей запальчивостью, что удивил настороженно притихшего Войтика.
— Вот вы говорите — война! Что все бывает… Но разве за полтора года войны все переменилось? Разве человек так скоро меняется? Чтобы до войны один, а в войну — другой? Я тут тридцать семь лет прожил, меня все знают. Всегда все уважали, ни с кем не поругался ни разу. Ну а почему теперь перестали верить? Вот получается, что немцам верят, а своему человеку — нет. И соседи, и вы. Женка даже и та… сомневается. Переменился! Как это я переменюсь, если меня родили таким?! —с тихим возмущением говорил Сущеня, привстав на коленях.
— Э, еще как меняются! — сказал Войтик. — Неустойчивые элементы. Если захочется жить…
— Вот именно: если жить хочешь, так как же идти на подлость? Это когда уже смерть, так, может, все равно уже. Но ведь живой на живое надеется. Пусть не для себя, так для своего дитя, может. Если тому жить посчастливится.
Откинувшись на отставленную руку, Войтик поглядывал в недалекий притуманенный подлесок, не очень внимательно слушал Сущеню и думал, что долго тянуть так нельзя. Видно, этот человек умел своей рассудительностью размягчить любое сердце. Так, чего доброго, недолго и посочувствовать ему, а там недалеко и до оправдания.
Нет, надо кончать.
Вот перейдут шоссе, и Сущеня ему не понадобится. Дорогу дальше Войтик примерно знал, как-нибудь доберется. Бурова надо будет припрятать, чтобы потом приехать за ним на повозке. Нынче — не летом, сутки-другие подождет разведчик. Но это если командир прикажет. А может, и не прикажет. Отряд меняет дислокацию, под пущу наехало карателей, наверно, теперь будет не до убитого Бурова.
Темнело, однако, медленно. Беловатый туман волнами растекался по лесу, оседал сверху и плыл низом, окутывая стужей и сумраком голый кустарник подлеска, темные свечи молодых сосенок поблизости.
— Так, давай! — приподнялся на коленях Войтик. — Перейдешь, подожди. Я следом!
Сущеня не очень живо поднялся. Войтик с готовностью помог ему взвалить на спину Бурова, и Сущеня, пригнувшись, потащился в кустарник.
Как только Сущеня скрылся в подлеске, у Войтика снова недобро защемило сердце — показалось, он дал промашку. Что-то уж слишком охотно этот Сущеня несет на себе труп Бурова, послушно исполняет все приказы и распоряжения, как бы за этим не крылся какой-то подвох, обеспокоенно думал Войтик, растянувшись ничком на мшанике. Все-таки его не мог ввести в заблуждение тот запал, с которым так истово оправдывался Сущеня, в памяти Войтика уже были случаи, когда так же искренне оправдывались заведомые предатели и отщепенцы; другие же, напротив, будто теряли дар речи, упрямо молчали. Войтик знал, что все зависело от характера человека, поведение которого вовсе не определяло степень его вины или невиновности. Он не представлял, как бы повел себя сам, если бы ненароком всплыл на свет божий его прошлогодний случай в Войновском урочище, который едва не стоил ему жизни. К его счастью, не всплыл, и все невеселые подробности случившегося он упрятал на самое дно души. Хотя иногда они и поскребывали там — беспокойно и садняще, и требовалось усилие, чтобы приглушить непрошеное чувство виновности, приласкать уязвленную совесть. Наверно, долго будет помниться ему то раннее утро в начале зимы, когда по грязноватому первопутку он торопливо бежал из хутора в Войновское урочище, где они, трое районных совработников, обитали в вырытой на пригорке землянке. Там было укромно, покойно и, в общем, даже уютно возле крохотной железной печурки в углу; еду добывали по очереди в окрестных деревнях, на редких, уцелевших в пору довоенных сносов хуторах. В тот раз очередь была за Войтиком, и он поздней ночью пришел на этот уединенный хутор, куда захаживал уже не впервые за осень. Хозяина хутора, рыжебородого Климку, и его молчаливую бабу он знал давно, еще со времен коллективизации, люди они были честные, хотя и не очень общительные, но именно по этой причине обитатели землянки укрыли у них заболевшего в лесу окруженца лейтенанта Федю Свиридова. В одну из очередных вылазок за провиантом того сперва намочило под дождем, а на обратном пути прихватило морозцем, и парень вскоре свалился в горячке. Опасаясь за жизнь лейтенанта, они неделю назад переправили его на этот хутор. Теперь Войтик, навестив больного, плотно поужинал, отогрелся и даже незаметно вздремнул в тепле на скамейке рядом. Но, на свою беду, вздремнул чуть больше, чем следовало, и, когда вышел на стежку в поле, стало светать. Он встревоженно прибавил шагу — впереди в кустарничке лежала дорога, ее он намеревался пересечь возле мостика и потом вдоль овражка перелесками добираться до урочища. В сидоре за спиной у него была буханка хлеба и ведро картошки. В общем, немного, но на первое время должно хватить, а там сходит кто-либо другой, принесет еще. Люди в округе были отзывчивые на чужую беду и без принуждения делились тем немногим, что имели сами.
Войтику уже совсем недалеко оставалось до кустиков и дороги, как в неясных еще рассветных сумерках он заметил впереди людей. Их было трое, и они тоже увидели его в поле, настороженно замерев, ждали. Сердце у Войтика дрогнуло в груди, но он словно по инерции продолжал мелкими шажками бежать по едва обозначенной в мокром снегу тропинке. Оружия у него не было — за провизией они всегда отправлялись без оружия, — и теперь он сильно встревожился: кто эти люди? Издали было не рассмотреть, но, подойдя ближе, Войтик и вовсе помрачнел душой — на дороге, поджидая его, стояли трое мужчин с винтовками. Деваться, однако, было некуда, он перескочил канаву и оказался напротив. Один из них грубо спросил: «Куда?», потом «Откуда?», двое других обладали за спиной его сидор, содрали с плеч веревочные лямки, Войтик понял, что оправдываться бесполезно, да и нечем, тем более что те уже обругали его «бандитом» и потребовали сказать, где взял продукты. Войтик начал выкручиваться — мол, не знает, где именно, зашел к незнакомому человеку и попросил. После недолгого раздумья те приказали немедленно вести их к этому незнакомому и стволом заряженной винтовки больно толкнули его между лопаток.
Делать было нечего, Войтик свернул на проклятую тропку, так предательски приведшую его в западню. Угрюмо и молча полицаи шли следом, а он заполошно думал, куда их вести. Дело в том, что на пригорке в поле тропинка делилась на три: одна продолжала бежать в расположенную в низине маленькую деревушку, где он никогда не был и никого там не знал, другая вела в сторону, к недалекому Фомичевскому хутору, хозяин которого был человек изворотливый и, кажется, уже снюхался с полицией. И лишь третья направлялась по склону к приютившемуся возле мелколесья с овражком хутору рыжего Климки. Войтик в нерешительности прошел первый поворот, все напряженно соображая, как ему поступить. Очень ему не хотелось вести их к Климке, где выкашливал больные легкие Федя Свиридов, но куда же еще он мог повести? Фомичевский хутор отпадал, эти могли сами там ночевать. Значит, только к Климке. И он прошел мимо и второго поворота, теперь уже выбора у него не осталось и он все мучительнее представлял последствия своего предательства. Но что он мог сделать? Он лишь замедлил шаг, желая как можно надольше растянуть этот последний километр пути. Но, как он его ни растягивал, все же они очутились наконец на климковском подворье, и полицаи сунулись к двери. Однако дверь оказалась запертой, полицаи стали стучать, требуя открыть, и тогда за дверью грохнуло три или четыре выстрела. Один полицай выронил на порог винтовку, к нему бросился второй, а третий, разбив прикладом окно, швырнул гранату. Как только в хате грохнуло, со звоном сыпанув на двор битым стеклом, Войтик, вдруг обретя решимость, бросился за угол, потом обежал сарай и через кустики кувырком скатился по склону в овраг. Вскочив на ноги, побежал что было силы прочь от проклятого хутора. По нему стреляли, стреляли на хуторе, там еще несколько раз взорвались гранаты, и в небо скоро повалил белый дым, хутор загорелся. Изредка оглядываясь, он все бежал по оврагу, пока не выбрался по склону на ровное место, свернул в лес и, полдня проплутав по урочищу, добрался наконец до их стоянки. Там он сказал только, что на рассвете хутор подожгли полицаи, ему удалось спустись под дымом, а что стало с остальными, он не знает. Сутки спустя, однако, стало известно, что хутор сгорел вместе с хозяевами, один полицай там убит, другой ранен. Но полицаи, видать, оказались не здешние, Войтика в лицо они не знали, и роковая встреча с ними оставалась тайной, которой он не намеревался с кем-либо делиться. Конечно, приятного было во всем этом мало, но его успокаивала мысль, что это еще не предательство, что другие предали больше, чем какой-то там хутор с тремя обитателями. Да и разве он предал? Он только был вынужден под угрозой расстрела указать, где взял продукты, и его ли вина, что полицаев на хуторе встретили выстрелами через дверь? Его угораздило пробыть в лапах полиции каких-нибудь полчаса или час, но и того достало, чтобы погубить трех человек.
Сущеня же просидел две недели в СД и смеет уверять, что не сдался. Выстоял, не покорился. Знаем мы таких непокоренных, думал с раздражением Войтик. Сломали и завербовали, иначе не могло и быть.
Но что ж, наверное, теперь было поздно проявлять бдительность, он его упустил, кстати, с оружием, буровским наганом, как бы теперь на дороге не схлопотать от него пулю в лоб. «Черт! — выругался Войтик. — И какой леший наслал на меня этого предателя!» Чем ближе они подходили к партизанской пуще, тем все большее беспокойство охватывало Войтика, и все из-за того же Сущени.
Может, минут через десять или немногим больше после ухода Сущени Войтик тоже поднялся, еще раз вслушался в вечернюю тишину леса — как будто нигде никого. В лесу смеркалось, уже надо было хорошо всмотреться, чтобы отличить поблизости темный пенек от молодой сосенки. Под ногами в подлеске глухо шелестела листва, и он старался ступать потише. Тихонько выбрался из зарослей на опушку, подошел к глубокой дорожной выемке, взглянул сверху в один конец застланной туманом ленты шоссе, в другой. Немного помедлил и мелкими шажками стал сходить по крутому откосу вниз. На середине откоса неловко поскользнулся на стоптанных каблуках, и его винтовки стукнулись сзади прикладами. Стукнулись совсем тихо, но тут, над шоссе, их стук прозвучал пугающе отчетливо, и Войтик бросил обеспокоенный взгляд в сторону и напротив. И в то же мгновение испуганно обмер — на другой стороне выемки маячили в тумане силуэты двух человек. Один из них, как можно было понять сквозь туман, вглядывался в сторону поля, а другой, тонко подпоясанный и высокий, тревожно взмахнул рукой.
— Стой!
Неуклюже повернувшись на травянистом склоне, Войтик мгновенно смекнул, что влип. Почему-то показалось даже, что второй с этим длинным — Сущеня, значит, навел, подкараулили наконец-то! Войтик бросился по откосу вверх, карабин его свалился с плеча, только он ухватил его за ремень, как туманные сумерки сзади огненно вспыхнули от раскатистой автоматной очереди. Пули ударили в траву на откосе, одна, звякнув по карабину, с затухающим визгом отлетела в сторону. Сзади уже кричали обозленно и требовательно, опять протрещала очередь, показалось, едва не в спину; ему уже совсем немного оставалось до конца этого откоса, в лесу он, возможно бы. спасся. Но все же не хватило каких-нибудь пяти метров, пуля из следующей очереди хлестко ударила под лопатку, загнала в грудь горячий костыль. Он выпрямился, захлебнулся вдруг хлынувшей из горла кровью и повалился назад — вниз головой по мокрому травянистому склону. Винтовки тоже полетели куда-то, но винтовки, пожалуй, уже были ему не нужны, он понял, что убит. Убит нелепо, по-дурацки, из-за своей неосмотрительности. Зачем он отпустил Сущеню…
Он очутился в бурьяне возле самой канавы, зрение его застлал темный туман, он вздохнул трудно, с клекотом в груди и не мог собрать силы выдохнуть. Послышались недалекие мужские голоса, выкрики сначала на шоссе, потом голоса приблизились — его уже искали. Он ожидал услышать знакомый голос Сущени, чтобы окончательно убедиться в своей ошибке, но не услышал. Громче других звучал низкий, похоже, простуженный бас человека, который возбужденно объяснял кому-то:
— Понимаешь, оглянулся — стоит! Ах ты, мать честная, ну я как врежу!.. Да где же он тут? Иди сюда…
— Подожди ты!
— Да вон он… Лежит! — со злорадным торжеством раздалось на дороге, но голос был не Сущени, хотя и показался Войтику очень знакомым. Где-то он его уже слышал, только теперь не мог вспомнить где. — Вот винтовка! Ну я же говорил…
Совсем близко послышался шорох бурьяна на обочине, шаги, болью отдававшиеся в груди у Войтика. Затем он услышал усталое хрипловатое дыхание рядом.
— Бандит, во! — шумно дыша, выкрикнул кто-то и сильно ударил его сапогом в бок.
— Убитый?
— Убитый, кажись…
Они уже были рядом, нагнулись, толкнули его еще два раза в бок, Войтик не шевельнулся и даже не открывал глаз, все в этом мире стало ему чужим и противным. Остатки жизни еще теплились в его простреленном теле, но тело уже не принадлежало ему — скованный жгучей болью в груди, заслонившей от него весь белый свет, он уже не владел собственным телом.
— Во, кобура… Пустая, холера. А где наган?
— Поищи. В траве, может…
То, что спрашивали про наган, навело Войтика на мысль, что Сущени здесь нет. Сущеня наган не искал бы. Они ухватили его за ремень, расстегнули пряжку и вытащили ремень из-под тела. Потом перевернули на другой бок, начали снимать поддевку. Войтик не сопротивлялся и, кажется, не дышал даже, он едва терпел боль и почти не ощущал ничего больше. Между тем ему заломили руку, сильно потянули рукав. Полицай выругался, и Войтик вдруг вспомнил: это был племянник Хмелевского — Дробина, длинноногий худой мужчина, который перед войной топил печи в местечковой бане. Он же помогал Екатерине Ивановне пилить дрова, те самые, которыми Войтик поделился со вдовой Хмелевского. Однажды они даже поговорили через изгородь, когда Войтик бежал в исполком на работу. Теперь же Дробина, кажется, не узнал Войтика, но Войтик его признал и с запоздалым сожалением подумал: вот упустили еще одного гада, теперь пропадай. От рук вот таких…
Между тем они старательно обшарили его карманы, вытащили кошелек с бумагами, ложку, хороший перочинный ножичек с двумя лезвиями. Еще он был жив. В груди уже не клекало, кровь тихо и беспрепятственно вытекала на холодную землю через дыру его ветхого свитерка. Наконец они отошли, и он печально подумал: придется умирать. Сознание того, что смерть будет нескорой, обеспокоило его, лучше бы сразу. Но он не мог ни крикнуть, ни застонать даже, мог только лежать, как труп, и дожидаться своего часа.
Липкая обессиливающая немощь начала наконец отбирать его память, он то забывался, то начинал ощущать под собой холодную сырость травы и тогда понимал, что еще жив. Мелькнула мысль, что они уже ушли, и в нем вспыхнула коротенькая надежда: а вдруг?.. Может, еще спасется. Может быть, Сущеня… Однако он не успел додумать, ясная мысль еще не оформилась в его голове, как вблизи что-то изменилось, спиной он болезненно ощутил толчки в земле — это были торопливые шаги рядом.
— Ботинки у него! — зычно прозвучало в ночи, и Войтик получил сильный удар по колену.
— Давай быстро! — отозвалось с дороги. Полицай, похоже, присел возле него на корточки — Войтик почувствовал это по усталому, натужному дыханию рядом — и принялся снимать с него ботинки. Один содрал силой, не расшнуровывая, на другом сначала разорвал пальцами его узловатые завязки. И тут, наверное, ему что-то послышалось, полицай насторожился, зло, гадко выругался:
— Твою мать… Жив еще!
— Стрельни, и айда! — донеслось издали, это был голос все того же Дробины. Рядом клацнул затвор, и Войтик успел только вздрогнуть от огненно слепящей молнии, сверкнувшей в лицо…
Краем мутной широкой лужи Сущеня благополучно перешел шоссе, перескочил неглубокую канаву и с усилием взобрался на противоположный травянистый откос. Сзади и на дороге все было тихо, издали в тумане его не могли заметить, а вблизи вроде никого нигде не было. Лес остался за выемкой; на этой же стороне шоссе сразу за телеграфными столбами с жиденьким кустарником внизу начинался неширокий сенокосный участок. За ним в тумане серела гривка ольшаника, там, помнил Сущеня, протекала речушка Ресса. Чтобы скорее отдалиться от шоссе, Сущеня припустил напрямик, по сенокосу, полагая, что Войтик скоро догонит его. Однако Войтик пока не догонял, и он поспешил укрыться в редком кустарничке, где на голом пригорке свалил с себя Бурова. Далее шел пологий склон с мелколесьем, и внизу мерцал сквозь туман неширокий поворот реки. Предстояло искать, где через нее переправиться. Но сперва надо было подождать Войтика.
Только Сущеня с облегчением распрямился возле распластанного тела Бурова, как сзади на шоссе раздался приглушенный вскрик, непонятный, но, как показалось Сущене, угрожающе-требовательный, и тут же мелко протрещала очередь, за ней вторая и третья. Сущеня сначала пригнулся, припал к земле, затем, вспомнив про свой наган, дрожащими руками выдрал его из кармана. Некоторое время он не мог понять, что надо делать — затаиться, удирать или бежать выручать Войтика, который наверняка попал в западню. В промежутках между очередями послышалось несколько выкриков, только отсюда он ничего разобрать не мог, не понять даже было, на каком языке кричали. К счастью, однако, крики не приближались, раздаваясь в выемке, там же трещали и выстрелы; пуль здесь не было слышно, значит, стреляли не в эту сторону. Наконец Сущеня решился и, крадучись, с наганом в руке высунулся из ольшаника.
Едва различимая в туманных сумерках сенокосная луговина лежала пустой, Войтика нигде не было. и Сущеня опять забеспокоился: что же ему делать?
Тем временем стрельба на дороге прекратилась, из туманной тишины недолго доносились далекие глуховатые голоса, но не крики, похоже, там разговаривали, только на каком языке — понять было по-прежнему невозможно. Наконец бахнул одиночный выстрел и все смолкло. «Что они там наделали? Что наделали?» — билась в голове у Сущени неотвязная мысль. Впрочем, что наделали, нетрудно было догадаться, но он не хотел верить догадке, он все вглядывался в кустики под столбами и ждал, что оттуда появится Войтик. Но Войтик не появлялся; от усталости и долгого напряжения у Сущени начали слезиться глаза. Так в бесплодном ожидании он и не заметил, как вовсе стемнело, вечерние сумерки без остатка поглотили кустарники вдали, высокую стену сосен на той стороне шоссе и постепенно застлали неширокую полосу сенокоса; на едва светлеющем вверху небе отпечатались черные ветки ольшаника. Недолгий тревожный шум возле дороги, похоже, улегся, голоса замерли, и все там утихло. «А может, они уехали?» — подумал Сущеня. Но моторного гула он не слышал, разве что автомобилей там и не было. Но тогда что же там было?
Все еще не в состоянии совладать с волнением, Сущеня вернулся к Бурову, который в отрешенном безразличии ко всему лежал на боку. Тут он постоял, подумал, что, может, Войтик появится где-нибудь в другом месте Только напрасно он думал, над лесными просторами воцарилась туманная ночь, от реки несло зябкой сыростью, а Войтик так и не появился. Но куда же было податься Сущене? Он уже понимал, что Войтика, пожалуй, ему не дождаться, и ощутил страх: мало того, что Буров, так еще и Войтик? Как же ему теперь быть одному, на что и на кого рассчитывать?
Он вышел из кустарника, опять постоял, послушал. Уже можно было не прятаться — в ночном сумраке даже вблизи его вряд ли могли увидеть. Скорым шагом Сущеня пошел по траве вдоль сенокоса, передумал, повернул в обратную сторону. Внимание его упрямо обращалось к шоссе, наверно, надо было возвращаться туда, где оставался Войтик. Но он все колебался: там могли сидеть немцы, подстерегая его или Войтика, если тому посчастливилось скрыться. Поколебавшись, однако, Сущеня решился. Правда, он не пошел напрямик, прежним путем, а повернул в сторону, по кромке кустарника далеко обошел сенокос и возле телеграфного столба с подпоркой выбрался к выемке. Откос тут был шире, а выемка намного глубже, днем дорога отсюда просматривалась, пожалуй, далеко. Ночью же ни вдали, ни поблизости ничего нельзя было различить, в выемке, как в бездонном провале, курился белесый туман. Опустившись на корточки, Сущеня посидел, послушал. Потом с наганом в руке осторожно» боясь поскользнуться, спустился к дороге, перебежал по ее сырому гравию и взобрался по откосу на другую сторону. Никто его не окликнул, и он, часто останавливаясь, стал пробираться к злосчастному месту своего предыдущего перехода. На травянистых откосах в выемке по-прежнему ничего не было видно, и он больше полагался на чутье, на слепое везение. «Кажется, где-то здесь, — думал он, пройдя над откосом. — Или чуть дальше…» Так рассуждая, он заметил в тумане слабое мерцание лужи внизу и обрадовался, наверно, это была та самая лужа, где он проходил недавно. Но возле лужи вроде никого не было. Войтик, разумеется, мог перейти шоссе в любом другом месте, мог вообще не выйти из леса… И все-таки Сущеня прошелся раз и другой над откосом — нигде никого. Впрочем, Войтик мог скрыться в лесу или они могли его застрелить и забрать с собой. У них, конечно, было много возможностей, а вот у него, у Сущени, похоже, не осталось уже ни одной.
С этими невеселыми мыслями и с тревогой в душе он начал спускаться вниз. И неожиданно наступил ногой на что-то мягкое в траве, словно живое. Он поспешно нагнулся — то была кепка. Жесткая суконная кепка с твердым и погнутым козырьком — знакомая кепка Войтика. Будто испугавшись этой находки, Сущеня заметался по откосу, спустился ниже, пробежал вдоль канавы и в измятом придорожном бурьяне наткнулся на человека. Темной тряпичной кучкой тот навзничь лежал в траве в изодранном шерстяном свитерке, сквозь дыры которого слабо просвечивали острые плечи.
Ползая на коленях, Сущеня лихорадочно ощупал его, это был Войтик, тело его уже стало холодным, как и земля, на которой он лежал. Винтовки при нем не оказалось, поддевку с него содрали, ботинки тоже, с одной ноги тянулась в траву размотанная портянка, другая нога была босой. Вывернутые наизнанку брючные карманы опустело свисали по бокам — те, наверно, искали оружие или какое имущество, застрелили и бросили.
Мелко дрожа от напряжения, Сущеня встал, потом, обхватив поперек щуплое тело убитого, взвалил его на себя и торопливо перебежал шоссе. Несколько труднее было взобраться на откос. Но вокруг по-прежнему царила ночная тишина, даже не слышно было гула проводов вверху, и он, громко дыша, побежал через сенокос к речке.
Последние метры до пригорка с кустарником, где оставался Буров, он уже едва брел, обессиленный внезапной усталостью. Только предельным напряжением заставил себя не свалиться в кустарнике и с убитым на плечах добрести до другого убитого. Вместе с ношей свалился наземь и долго не мог подняться. Кажется, силы его окончательно иссякли, как иссякли надежды, все зашло в абсолютный тупик, и только еще нелепо продолжалась его собственная жизнь. Но что ему делать сейчас с этой его жизнью? Как уберечь ее и стоит ли оберегать вообще? Кому будет польза от этой его жизни? Кто ей обрадуется, если самому она уже не на радость, а на беспросветные злые мучения?
Все-таки, немного отлежавшись, он повернулся на бок и сел. Вытянув ноги, сидел на сыром склоне пригорка. Сквозь туман и голые ветви деревьев внизу по-ночному тускло и сонно плыла река и покоились рядом два тела убитых. Удивительно, подумал Сущеня, они ехали на станцию убить его, но он вот остался жив, а они оба мертвые. И, что удивляло больше всего, он не испытывал ни малейшей радости. Будто сам тоже был мертв.
Потянувшись руками к Войтику, Сущеня заботливо повернул его на спину, потом, встав на колени и обхватив под мышки его тощее, почти мальчишечье тело, подвинул его вровень с Буровым. Два партизана словно в строю — плечо в плечо. Только один длинный, а другой коротыш. Оба без верхней одежды и шапок. С пустыми, без оружия, руками.
Оружие было у него — черный милицейский наган с семью патронами в барабане. Хотя зачем ему теперь семь патронов? Ему нужен был всего один. Чтобы подвести итог жизни. Или выбраться из тупика, в который его загнала война. Жить по совести, как все, на равных с людьми он больше не мог, а без совести он не хотел. У него была жена, много родни, подрастал сынок Гришутка, как можно было пятнать их судьбы? А не запятнать стало, наверно, уже невозможно. Наперекор своему желанию, всем своим усилиям. Что же ему оставалось?
Но, видно, все имеет свой смысл и свои законы. Человек не все может. Иногда он не может ничего ровным счетом. Погибли же эти люди, партизаны и патриоты, чем он лучше их? В их смертный час он был вместе с ними и, наверное, уже потому заслужил такую же участь. Пусть ему простят люди, жена Анеля, сынок. Он всегда стремился быть хорошим отцом и мужем, но война или злая судьба стали сильнее его. Бог знает, как он любил их и сколько натерпелся — и за них тоже. Наверно, все было бы иначе, если бы не эта его к ним любовь, которую так подло использовали те, кто загнал его в тупик. Немец Гроссмайер исковеркал его судьбу, но не победил его воли. Его вольная воля — может, то единственное, что в нем осталось никому не подвластным. Все-таки он умрет по своему выбору… Пусть хотя бы это утешит его в горький час. Другого утешения себе он не находил..»
Зябкой туманной ночью группа подрывников партизанской бригады Дяди Саши пробиралась к шоссе, чтобы заминировать мост через Рессу. Ребята немного заплутали с вечера и вышли к дороге в стороне от моста. Чтобы опять не плутать по ночи и сэкономить время, пошли над откосом. Шли молча, осторожно, след в след за передним — старшим группы, армейским сержантом из окруженцев. Деревень поблизости не было, полиция ночью не очень разъезжала по лесным дорогам. Но все-таки…
Но все-таки немного в стороне и поодаль неожиданно хлопнул выстрел, негромко щелкнул в тумане, и ребята все разом присели. Но выстрелов больше не было. Хвойный бор за дорогой молча темнел в туманных сумерках, на другой стороне, за сенокосом, вообще немного чего было видно. Где-то вверху, за тучами, уже поднялась луна, слегка просветила ночь, сонно дремавшую в серой туманной наволочи.
— Так, балуется кто-то… Дурак какой-то, — тихо сказал тот, что шел следом за старшим. Старший недоверчиво покрутил головой в пилотке, послушал и, ничего не услышав больше, осторожно пошел над откосом.
Остальные потащились следом.
Главная забота ждала их впереди.
1988


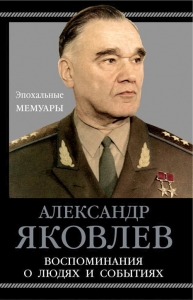
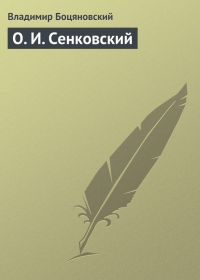


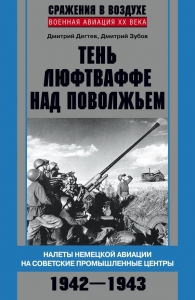
Комментарии к книге «В тумане», Василь Быков
Всего 0 комментариев