Диана Джонс Дом за порогом. Время призраков
Diana Wynne Jones
The Homeward Bounders
The Time Of The Ghost
© Diana Wynne Jones 1981
© Diana Wynne Jones 1981
© А. М. Бродоцкая, перевод, 2019
© И. В. Горбунова, иллюстрации, 2019
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2019
Издательство АЗБУКА®
* * *
Дом за порогом
Томасу Таккетту с благодарностью за советы по настольным варгеймам
I
Мы слышали про Летучего Голландца? Нет? А про Вечного Жида? Ничего страшного. Я все про них расскажу, когда дойдет дело, – а еще про Хелен и Джориса, Адама и Констама и про Ванессу – сестру Адама, которую он хотел продать в рабство. Они все граничные скитальцы, как я. И еще я расскажу про Тех, кто сделал нас такими.
Всему свое время. Сперва я расскажу вам про машинку, в которую я все это наговариваю. Она тоже Их. У Них все есть. У нее впереди такая высокая узкая панель, а сверху ровненький квадрат, затянутый сеткой. Туда положено говорить. Как только начинаешь говорить, маленькая черная штучка сзади принимается скакать и елозить, будто деревенский дурачок на радостях, и откуда-то снизу вылезает бумага и наматывается на валик. Прыгающая штучка верещит и ерзает по бумаге и печатает в точности те же слова, какие ты говоришь, и с той же скоростью. И сама расставляет точки, запятые и все прочее. Что именно ты говоришь, машинку, похоже, не волнует. Когда я ее опробовал, то обзывал разными нехорошими словами, просто чтобы поглядеть, и она все записала и поставила после них восклицательные знаки.
Когда машинка запишет примерно фут разговоров, она отрезает бумагу и складывает в лоток впереди, чтобы ты мог перечитать и даже унести с собой, если захочешь. И при этом даже не перестает верещать. Если умолкнуть, она еще немного попрыгает вверх-вниз, будто в ожидании, когда ты еще что-то скажешь, потом замедлится и остановится с печальным и разочарованным видом. Поначалу меня это отвлекало. Пришлось привыкать. Мне не нравится, когда машинка останавливается. Тогда подкрадывается тишина. Ведь здесь, в этом Месте, остался только я. Все ушли, даже тот, чьего имени я не знаю.
Меня зовут Джейми Гамильтон, я когда-то был совершенно обычным мальчиком. Да и до сих пор в чем-то им и остался. На вид мне лет тринадцать. Но вы себе не представляете, какой я на самом деле старый. Когда все это со мной случилось, мне было двенадцать. А для граничного скитальца год – это целая вечность.
Первые двенадцать лет я жил самой заурядной жизнью, и мне это очень нравилось. Дом для меня – это большой город, и так будет всегда. Мы жили в очень большом, грязном, трущобном городе. Задняя дверь нашего дома выходила в уютный славный двор, и в хорошую погоду все выбирались туда поболтать, и все всех знали. А в передней части дома была наша бакалейная лавка, и все соседи ходили за покупками к нам. Мы были открыты каждый день и по воскресеньям тоже. Мама была женщина довольно резкая. Вечно скандалила с кем-нибудь во дворе, особенно если кто-то нам задолжал. И твердила, что соседи норовят брать все бесплатно просто потому, что живут в том же дворе, и так и говорила им прямо в лицо. Но когда дочку соседей переехал фургон с пивом, мама была с ними добрее всех на свете. Надеюсь, соседи тоже были добры с ней, когда все это случилось со мной.
А папа был большой и тихий, и добрым он был всегда. Он обычно разрешал брать все бесплатно. А когда мама возражала, говорил: «Но им же нужно, Маргарет». На этом спор обычно и заканчивался.
Папа мог положить конец любому спору, кроме тех, которые касались меня. Главные споры велись вокруг того, что я учился в школе последний год. Школа стоила денег. За мою школу приходилось платить несколько больше, чем мог позволить себе папа, потому что она была с претензиями. Она называлась «Чарт-Хаус», помещалась в унылом, как часовня, здании, и я помню ее как вчера. У нас были всякие традиции, тоже с претензиями на аристократизм, ну, например, мы называли учителей магистрами и пели школьный гимн, – потому-то мама ее и любила.
Мама мечтала, чтобы из меня вырос кто-то почище бакалейщика. Она была убеждена, что я смышленый, и хотела, чтобы в семье был врач. Спала и видела, как я стану знаменитым хирургом, консультантом королевской семьи, поэтому, понятно, хотела, чтобы я остался в школе. Отец отказывался наотрез. Говорил, что у него нет денег. Он хотел, чтобы я оставался дома и помогал в лавке. Они спорили об этом весь последний год, который я прожил дома.
А я – я сам не знаю, на чьей был стороне. В школе мне было смертельно скучно. День-деньской сидишь и зубришь списки: словарные слова, таблицы, исторические даты, географические названия… Я и сейчас готов на все, лишь бы не зубрить никаких списков. В школе мне нравилось только одно: соперничество с по-настоящему аристократической школой дальше по улице. Она называлась «Академия королевы Елизаветы», и тамошние ученики носили начищенные котелки и учились музыке и все такое. Они презирали нас – и по праву – за то, что мы притворялись, будто мы лучше, чем есть, а мы не меньше презирали их за музыку и дурацкие котелки. По дороге домой у нас случались просто роскошные драки. Но все остальное в школе навевало на меня смертельную скуку.
С другой стороны, и в лавке мне было так же скучно. Я с удовольствием оставлял лавку на своего брата Роба. Он был младше. И думал, будто отсчитывать сдачу и рассыпать сахар по синим бумажным пакетам – лучшая забава на свете. Моей сестренке Эльзи в лавке тоже нравилось, но она больше любила играть со мной в футбол.
Вот футбол я любил по-настоящему. Мы играли в проулке между нашим двором и следующим, – наши ребята против ребят из того двора. Обычно все кончалось тем, что мы с Эльзи играли двое на двое против братьев Макриди. Мы с ней не упускали случая поиграть. Нам пришлось придумать особые правила, потому что места было мало, и другие особые правила для дней большой стирки, потому что от чанов из сарайчиков для стирки по обе стороны проулка валил густой пар. Будто в тумане играешь. Из-за меня мяч вечно попадал в чье-то белье. Это было второй причиной для споров, которые папе не удавалось уладить. Мама вечно скандалила из-за того, куда я на этот раз угодил мячом, или ругалась с миссис Макриди, потому что я подавал плохой пример ее мальчикам. Ангелочком я никогда не был. Не футбол, так еще что-нибудь, лишь бы позабавиться. Мама постоянно вступалась за меня, но это было безнадежное дело.
Еще я полюбил разведывать город. По дороге в школу или домой, чтобы мама не узнала. Так я и наткнулся на Тех, так что вам осталось потерпеть совсем чуть-чуть.
В тот год я каждую неделю намечал себе новый участок города и бродил там, пока не выучивал его. Потом двигался дальше. Я говорил вам, что для меня Дом – это большой город. Почти везде было примерно как у нас во дворе, людно, шумно и мрачновато. А вот рынок я очень любил. Все орут как умалишенные, апельсинов горы – таскай не хочу, – и над всеми прилавками большие газовые фонари. Один раз я видел, как навес загорелся. А еще я любил канал и железную дорогу. Мне всегда казалось, будто они то и дело виляют, чтобы перебежать дорогу друг дружке. Каждую сотню ярдов то поезда лязгали над водой, то баржи на буксирах проплывали под железными мостами, кроме одного места, где для разнообразия канал проходил над рельсами на череде высоких, как ходули, арок, а под арками теснились домишки. Рядом были богатые кварталы с хорошими лавками. Я полюбил богатые кварталы зимой, когда темно, мокрая дорога вся покрыта дрожащими огоньками и туда-сюда катаются кареты с богатеями. А были еще тихие уголки. На них натыкаешься неожиданно: стоит свернуть – и попадаешь в тихий уголок, о котором вроде бы все позабыли.
Тихий уголок, где мне настал конец, тоже был прямо за поворотом. Это сразу за богатым кварталом, почти под тем местом, где канал бежит поверху на своих ходулях. Прежде чем туда попасть, я миновал что-то вроде парка. Это был частный парк. Забираться в чужие владения я не очень-то стеснялся. Может, вернее было бы назвать его садом. Но я тогда был полный неуч. И траву до тех пор видел только в парках, потому и решил, что это парк, когда перелез через стену и попал туда.
Это был треугольный островок зелени. Парк разбили в самом центре города, но деревьев и кустов там было больше, чем я успел навидаться за всю предыдущую жизнь. Посередине проходила низинка, где росла трава – гладкая подстриженная трава. Как только я перелез через стену, меня накрыла тишина. В каком-то смысле мирная, но больше похожая на внезапную глухоту. Ни поездов, ни улиц я больше не слышал.
Ну и дела, подумал я и поглядел наверх проверить, на месте ли канал. Да, на месте, вот он, шагает по небу прямо передо мной. Я обрадовался: до того здесь было странно, что я не удивился бы, если бы оказалось, что весь город куда-то подевался.
Что доказывает, что чутью надо всегда доверять. Я тогда ничего не знал ни о Них, ни о том, как устроены миры, но сразу все понял. Чутьем.
Надо было мне сразу перелезть обратно через стену. Зря я этого не сделал. Но вы уже представляете себе, какой я был тогда, и вообще я сомневаюсь, что вы на моем месте не захотели бы там задержаться. Очень она была странная, эта тишина. Но вроде бы не опасная. То есть на самом-то деле у меня все поджилки тряслись, но я сказал себе, что это нормально, все так себя чувствуют, когда нарушают границы частных владений. И вот с ощущением, будто вместо спины у меня копошится масса мелких мягких гусениц, я двинулся между деревьями к стриженой лужайке внизу.
Там стояла небольшая белая статуя. А я в искусстве не разбираюсь. Я просто увидел, что это голый человек (никогда не понимал, почему высокое искусство – это когда тебя раздевают: все равно ни скульпторы, ни художники не изображают мурашки), весь обмотанный цепями. Вид у него был не слишком довольный жизнью, и неудивительно. Но меня особенно заинтересовало, как скульптор умудрился вырезать цепи из камня: каждое звено по отдельности, и все продеты друг в друга, будто настоящие. Я даже пошевелил одно звено, чтобы проверить, что будет, и да, совсем как настоящая цепь, только каменная. Когда я приподнял звено, то увидел, что и эта цепь, и все остальные пристегнуты одним концом к кольцу чего-то вроде корабельного якоря, а этот якорь вырезан так, словно он наполовину погружен в белый камень, на котором стояла статуя.
Вот и все, что я тогда заметил, поскольку не разбираюсь в искусстве. Дело в том, что в этот самый миг я увидел у широкой стороны парка, среди деревьев, какое-то каменное здание. Я очень-очень осторожно пошел туда, прячась за деревьями и кустами, и по спине у меня по-прежнему ползали гусеницы, но я уже привык.
Вблизи оказалось, что здание довольно большое, вроде маленького замка, и выстроено из розовато-серого камня. Оно было треугольное, как и парк. С той стороны, где я смотрел, был как раз угол. Поверху шли зубцы, а на первом этаже были довольно большие окна. Ближе я не подошел, потому что под окнами вокруг дома тянулась полоса аккуратной щебенки. Поэтому все, что я видел в окна, было такое темное и замазанное и все в отражениях деревьев вокруг дома. Наверное, это потому, что я стою в десяти футах от дома, решил тогда я. Теперь-то я знаю, что дело было не в этом.
Внутри я увидел вроде бы человека в каком-то вроде бы плаще. То есть на нем было что-то длинное, сероватое, летящее и с капюшоном. Капюшон не был поднят. Он валиком лежал вокруг шеи, но лица я все равно не разглядел. Их лиц никогда не видно. Я решил, что это просто отражения в окнах, и вытянул шею поглядеть. Тот человек стоял над таким откосом, покрытым кнопками и мигающими лампочками. Я сообразил, что это какая-то машина. Да, я тогда был неуч, но как-то раз пробрался в будку стрелочника на железной дороге под аркой канала, а еще мне показывали печатный станок в суде на нашей улице, поэтому я понял, что это машина, просто непонятно было, какая именно, похожая на те, но гораздо глаже с виду. Пока я смотрел, тот человек протянул руку и очень твердо и решительно нажал на машине несколько кнопок. Потом повернул голову и вроде бы что-то сказал поверх капюшонного валика. Тут показалась вторая фигура в таком же плаще. Они стояли спинами ко мне и смотрели на что-то на машине. Изо всех сил смотрели. По тому, как Они стояли, чувствовалось, какие Они кошмарно сосредоточенные.
От этого я даже перестал дышать. И едва не лопнул, но тут один из Них кивнул, потом кивнул другой, и Они куда-то двинулись, этак бодро и деловито. Мне не было видно то место, куда они направились, и захотелось посмотреть. Я понимал, что у Них, наверное, какое-то важное дело. Но я ничего так и не увидел. Только почувствовал. Земля вдруг задрожала, и деревья, и треугольный замок. Все подернулось рябью, будто от горячего воздуха. Я тоже задрожал и неприятно поежился, и меня будто что-то дернуло в сторону. Потом это чувство прошло. И больше ничего не случилось.
Я чуть-чуть подождал, а потом тихонько прокрался обратно, к стене вокруг парка. Мне было страшно, это да, но при этом до невозможности интересно. Я все думал, отчего меня дернуло в сторону и почему все задрожало.
Как только я перескочил через стену, у меня будто распечатало уши. Стало слышно, как грохочут поезда и шуршат колеса, прямо-таки рев городских улиц, и от этого мне стало еще интереснее. Я проскочил по проулку вдоль стены и прошел по оживленной улице, куда выходил фасад замка. С этой стороны замок был чернее, а от тротуара его отгораживал железный забор, похожий на шеренгу гарпунов. Окна, которые виднелись между гарпунами, были забраны ставнями – темными стальными ставнями. Верхние окна были узкие, как щелочки, но и на них поставили гарпунные решетки.
Я посмотрел вверх и подумал: нет, сюда нипочем не пробраться. Да-да, я думал, как туда пробраться, с того мига, как меня вот так странно дернуло. Мне до зарезу нужно было узнать, что за странные дела творятся там, внутри, в этой полной тишине. Я прошел вдоль забора к входной двери. Она была черная и не очень большая и плотно закрыта. Но я почему-то сразу понял, какая она тяжеленная. Посередине двери была привинчена гравированная табличка. Подниматься по четырем ступеням крыльца я не отважился, но табличку с тротуара было видно очень хорошо. Золотые буквы на черном фоне гласили:
СТАРАЯ КРЕПОСТЬ
ГРОССМЕЙСТЕРЫ ПОДЛИННОЙ ДРЕВНЕЙ ИГРЫ
А под этим стояло что-то вроде печати – корабельный якорь. И все. Тут уж я прямо заплясал от любопытства и досады.
Потом мне пришлось пойти домой, пока мама не хватилась. Она не любила, когда я болтался по улицам. Я, конечно, не мог рассказать ей, где побывал, но меня до того одолело любопытство, что я задал несколько вопросов как бы невзначай.
– Читал сегодня одну книгу, – сказал я ей. – И там было одно место, которого я не понял. Кто такие гроссмейстеры подлинной древней игры?
– Шахматисты, наверное, – ответила мама, разливая чай. – Отнеси чашку отцу в лавку.
Я отнес чай и спросил отца. У него была другая теория.
– Похоже на какое-то тайное общество, – сказал он.
У меня побежали мурашки по коже и волосы на голове зашевелились.
– Знаешь, глупости все это, – добавил папа. – Взрослые люди, а сами рядятся в мантии и проводят шутовские обряды.
– Это в Старой крепости, – сказал я.
– А где это? – спросил папа. – Впервые слышу.
Обряды, значит, подумал я. Ну, тогда понятно, зачем плащи, но машин и как все дернулось оно не объясняет. Наутро я, как ни удивительно, пошел прямо в школу и спросил учителя перед уроками. Он тоже не знал. Мне стало ясно, что ничего он не знает, потому что он прочитал мне длиннющую лекцию – до самого звонка – про то, что подлинная – значит реальная, а «реал» – это «королевский», а игрой королей называют и теннис, и охоту на оленей, и как древние короли отрезали себе огромные участки земли, чтобы там охотиться на оленей, а потом еще про франкмасонов – на случай, если это на самом деле были они. Когда прозвенел звонок, я коротко спросил, что он знает о Старой крепости. И он о ней никогда не слышал, но велел мне пойти в Публичную библиотеку и спросить там, если мне интересно.
Я зашел в библиотеку по дороге из школы домой. Тамошний библиотекарь был точь-в-точь брат-близнец нашего учителя. Такая же бородка, такие же очки-полумесяцы и такая же длиннющая лекция. И он тоже ничего не знал. Дал мне книжку по шахматам, и еще по теннису, и по охоте вдобавок – ни от одной не было никакого проку, – и еще четвертую, под названием «Достопримечательности». От нее тоже не было особого проку. Правда, там была картинка со Старой крепостью – такой аккуратненький серый рисунок фасада с гарпунами и всем прочим. А на всю подпись под ним кто-то пролил чернила, и ничего было не разобрать.
Я до того разозлился, что, как дурак, пошел и показал это библиотекарю. А он решил, будто это сделал я. Вот что хуже всего в том, чтобы быть мальчиком. Что бы ни стряслось – ты виноват. Мне до сих пор не привыкнуть. Он рассвирепел, наорал на меня и выставил вон. И пришлось уйти. От этого я только преисполнился решимости выяснить, что это за Старая крепость такая. До того я разозлился.
Клякса появилась там не случайно. Я уже тогда так подумал. Больше-то в книге ничего чернилами не замазали. Они не хотели, чтобы кто-то узнал. А если бы Старая крепость нигде не упоминалась, это выглядело бы подозрительно. Кто-нибудь наверняка попытался бы что-то узнать. Поэтому Они сначала сделали так, чтобы это просочилось в книгу, а потом обеспечили, чтобы никто этого не прочитал. Очень на Них похоже.
– Что, думаете, отвадили меня? – сказал я Им на улице, когда вышел из библиотеки. – Как бы не так!
Я пошел домой. Был день доставки заказов. В лавке отец паковал горы провизии в картонные коробки, чтобы развезти по домам покупателям. Обычно их забирал Роб. Я уже говорил, что Роб обожал работать в лавке. Но раз я там очутился, меня тоже припрягли. Для разнообразия именно этого я и хотел. Роб огорчился. Он боялся, что я захочу взять велосипед. У нас был грузовой трехколесный велосипед, и Роб его очень любил, и папа тоже – не понимаю за что. Он весил, наверное, тонну, а спереди был приделан железный ящик, чтобы складывать туда коробки. Даже если погрузить туда всего одну коробку, то, чтобы сдвинуть махину с места, надо напрягать ноги до скрипа, и ехать можно только по прямой, а если поворачивать – то резко. Я отдал велосипед Робу. Взял ближайшую коробку и унес. Как только я скрылся из виду у Роба, то тут же сорвал записку сверху, где значилось «Миссис Макриди», и потащил коробку вместе с провизией вниз к Старой крепости.
Отлично придумано, радовался я, поднимаясь по ступенькам к тяжелой закрытой входной двери. Позвонил в латунный колокольчик и услышал, как он звенит в тишине в глубине дома – «Дон! Дон! Дон!». И сердце у меня тоже звенело, да так, что стало больно. Я стал ждать. Вот сейчас один из Них придет, а я ему: «Ваш заказ, сэр. Если позволите, я отнесу его в кухню». Отлично придумано.
Я ждал и ждал. Выдавленный якорек на дверной табличке был мне как раз на уровне глаз, и пока я ждал, то рассматривал его и увидел, что над его концом – над той частью, которая называется у якоря веретеном, – выгравирована корона. Через некоторое время сердце у меня перестало звенеть, и я начал злиться. Позвонил во второй раз. И в третий. К этому времени я проникся ненавистью лично к коронованному якорю, впрочем, это была полная ерунда по сравнению с тем, как я возненавидел его потом. Мне постоянно там и сям попадаются всякие пабы и гостиницы под названием «Корона и якорь». И в каком бы отчаянном положении я ни очутился, заставить себя туда зайти я не могу. Постоянно подозреваю, что меня там поджидают Они.
Около пяти часов вечера я понял, что все это без толку. Чушь какая-то, подумал я. Откуда они, интересно, берут провизию? Может, они вообще не едят? Но на самом деле я думал о другом: в пять у многих кончается рабочий день, и теперь эти фигуры, вероятно, снимают серые плащи и собираются домой.
А вот это можно запросто проверить, решил я. Пойти и посмотреть. Ну и дураком же я был!
И вот этот дурак двинулся за угол, в проулок, с огромной коробкой провизии в руках, и стал искать, где удобнее всего перебраться через ограду. Я поставил коробку прямо на тротуар и встал на нее, чтобы перелезть. Когда я оттолкнулся, послышался мерзкий хлюпающий треск – наверное, яйца, – но я не обратил внимания и забрался на ограду. Наверное, я сам себе не признавался, как мне было страшно. С минуту я просидел на стене неподвижно. И оказалось, что если вытянуть шею в сторону замка, то городской шум сразу умолкает: раз, и все. А если убрать голову обратно – оп! – звуки возвращаются. Я попробовал несколько раз, а потом все-таки соскочил вниз, в тишину между деревьями. И меня снова одолело жгучее любопытство. Я не желал отступать. И подобрался туда, откуда было видно то самое окно.
Они были там. Оба. Стояли и болтали себе рядом со своей машиной, полускрытые от меня молочно-белыми отражениями деревьев в стекле.
Ну, все! Получается, Они слышали звонок и даже не потрудились спросить, кто там. Очевидно, дело, которым Они занимаются, страшно секретное. А значит, про него стоит разведать, – логично, правда? А еще логично, что этот парк или сад, где я стою, это Их частное владение, а следовательно, они наверняка время от времени выходят туда прогуляться. Значит, должна быть еще одна дверь – в третьей стене треугольной крепости, в стене, которую я еще не видел.
Я двинулся туда через кусты. И верно, там была дверь – прямо посередине той стены. И выглядела она куда как проще и гостеприимнее, чем парадная. Просто толстая стеклянная пластина с ручкой, вделанной прямо в стекло. Я пристально вгляделся, но за стеклом вроде бы было темно. И ничего не видно, только отражения парка и еще канала. С этой стороны арки тянулись высоко-высоко у меня над головой. А вот чего я не увидел, когда бросился к двери через щебенку, так это собственного отражения в стекле. Надо было мне об этом подумать. Но я не подумал. Да, наверное, к этому времени все равно было уже поздно.
Дверь открылась, и за ней оказался какой-то гудящий туман. Я сам не понял, как очутился внутри. Они обернулись и посмотрели на меня. Тут я, конечно, сообразил, какой я дурак. Здание было треугольное. Дверь не могла вести никуда, кроме комнаты с машинами. Я-то думал, что нет, потому что ничего не видел за стеклянной дверью. А теперь передо мной были машины – они стояли таким треугольным островком, мигали и мерцали, и сквозь эту дверь мне их должно было быть прекрасно видно.
Почти все в этой комнате было затянуто тем жутким туманом – кроме Них. И еще туда падала тень от канала, поэтому мне было хорошо видно только то, что попадало в темные дуги – тени от арок. А в просветах не было ничего, кроме белого неба, и в нем все терялось и путалось. Они были в небе. Их вообще невозможно нормально разглядеть. Я видел только большой стол у широкой стены треугольной комнаты. Он был весь в мигающих огоньках, а в воздухе над ним через равные промежутки висели какие-то большие штуковины. Я заморгал, глядя на эти штуки. Они были похожи на огромные игральные кубики.
«Так здесь и вправду идет игра!» – подумал я.
Но ощущение было страннее некуда. Как будто попал в отражение в витрине. И при этом у меня было такое чувство, будто на самом деле я стою где-то снаружи, на улице, под арками канала. Поначалу я думал, что именно это чувство не дало мне сразу и убежать. Думал, я просто растерялся. А потом постепенно до меня дошло, что я там словно бы завис – и что на самом деле я не мог пошевелиться.
II
Тот из Них, что стоял ближе ко мне, обошел меня и затворил дверь.
– Очередной рандом, – сказал он.
Кажется, он был недоволен. Таким тоном мама сказала бы: «Ну вот, у нас опять завелись мыши».
А второй ответил:
– Придется разобраться с ним, прежде чем двигаться дальше.
Так папа сказал бы: «Что ж, милая, придется снова ставить мышеловки».
– Как? – спросил первый. Он опять обошел меня и вернулся к машинам. – На этом этапе мы не можем позволить себе труп. Вот почему нельзя без рандомов?!
– Без них никак, – сказал второй. – Они необходимы для игры. Кроме того, когда рискуешь, только интереснее. Этого можно будет сбросить в контур скитальцев, но сначала уточним, как воздействует на игру появление трупа.
– Идет, – согласился первый.
Они склонились над машинами. Сквозь белую завесу отраженного неба я видел, как Они пристально вглядываются в меня, а потом смотрят на свою машину и выбирают, какую кнопку нажать. Так мама смотрит на лоскуток ткани для занавесок, когда выбирает новые обои. После этого Они переключились на другую часть машины и стали смотреть на нее с большим сомнением. Потом перешли на другой конец комнаты посмотреть на огромный мигающий стол.
– Гм, – сказал первый. – Положение в игре сложилось щекотливое, правда?
– Да, – сказал второй. – Если бы это случилось на твоей стороне, то приблизило бы революцию, но я еще лет двадцать не смогу себе позволить никаких уличных беспорядков. Я заявляю неоправданное преимущество. Предлагаю сбросить.
Первый вернулся и остановился, глядя на машину со свойственной Им сосредоточенностью.
– Было бы очень разумно с нашей стороны при сбросе поработать с семьей и стереть всяческую память об этом, – сказал он.
– Нет-нет! – Второй подошел к нему. – Это против правил сброса. Якорь, сам понимаешь. Якорь.
– Можем стереть и при трупе. А что такого?
– Нет, я уже заявил неоправданное преимущество. Ладно. Давай сбрасывать.
– Да пожалуйста, – сказал первый. – Не так уж это и важно. Какое там правило? Вроде бы теперь мы должны извещать всех остальных, чтобы не перегрузить скитальческий контур. Так?
Вот не сойти мне с этого места! Они говорили все это, обсуждали мою участь так, будто я деревянная фишка, будто игральная карта какая-нибудь! А я висел в воздухе и ничего не мог поделать. А потом увидел, как Они нажимают еще какие-то кнопки у самого края машин.
И все кругом разверзлось.
Знаете, как в парикмахерской, когда везде много зеркал, сидишь и смотришь в зеркало, а видишь зеркало за спиной, и так снова и снова, и все расплывается вдали? Вот примерно это со мной и произошло. Снова и снова, и все расплылось, и вдруг оказалось, что кругом одни треугольные комнаты. Они налезали друг на друга, уходили все дальше и дальше, и внизу тоже – все ниже и ниже. И над нами они тоже громоздились. Я посмотрел, но меня от этого замутило: Они расхаживали парами и рядом, и надо мной, и вообще, и всё норовили подойти поближе, чтобы лучше видеть меня. И все Они были в этих Их плащах, но это были не просто отражения первых двух. Все это были совсем разные Они. А больше я ничего сказать не мог. Все было такое расплывчатое, такое мерцающее, и поперек всего этого шагала, как на ходулях, тень от арок, как будто, кроме нее, здесь не было ничего настоящего.
– Просим вашего внимания, – сказал один из Тех, кто были при мне. – Мы собираемся сбросить. Можете ли вы подтвердить, что в контуре есть свободное место?
– Производим расчет, – отозвался далекий голос.
Другой голос, ближе и глуше, спросил:
– Причина сброса?
Второй из моих Них ответил:
– У нас тут вторжение рандома, а следовательно, как обычно, возникла опасность обратной связи с туземным миром. Я заявил неоправданное преимущество и выступил против возврата в виде трупа.
– Логично, – сказал глухой голос.
А далекий почти сразу же сказал:
– В контуре скитальцев остались места на четыре сброса. Повторяю: всего на четыре. Достаточно ли веская причина?
Они пошептались. На миг я заподозрил, что быть мне трупом. Понимаете, я ведь еще не сообразил, где оказался. Потом шепот стал громче, в нем появился оттенок удивления, как будто Они не понимали, что у Них спрашивают.
– Веская причина. Причина веская, – рокотало со всех сторон, и сверху, и снизу.
– Тогда вынужден вас предостеречь, – сказал глухой голос. – Этот вопрос регулируется правилом номер семьдесят две тысячи. Последние три сброса должны совершаться с предельной осторожностью и лишь при самой крайней необходимости.
С этими словами все Они растаяли в воздухе, превратились в отражение неба, и остались только мои двое.
Второй решительно шагнул ко мне. Первый стоял наготове, держа руку на какой-то рукояти. Второй обратился ко мне – медленно, раздельно, как к дурачку:
– Теперь ты в сбросе. Мы больше не используем тебя в игре. Тебе разрешается ходить по Цепям скитальцев сколько угодно, но вступать в игру ни в каком мире тебе нельзя, это запрещено правилами. Чтобы гарантировать, что ты не нарушишь правила, тебя будут после каждого хода переносить на новое игровое поле. Кроме того, правила гласят, что ты имеешь право вернуться Домой, если сможешь. Если тебе удастся вернуться Домой, ты сможешь снова участвовать в игре обычным порядком.
Я поднял голову и посмотрел на него. Он был серой размытой фигурой за пеленой белого отраженного неба. Как и тот, другой, готовый дернуть за рукоятку.
– Эй! Погодите! – сказал я. – Да что же это такое? Какие еще правила? Кто их установил?
Они уставились на меня. Будто глазунья за завтраком вытаращилась на них и говорит: «Не ешьте меня!»
– Вы не имеете права отправлять меня куда-то без объяснений, просто так! – добавил я.
Пока я это говорил, он дернул за рукоятку. Так разбивают яйцо ложкой. Пока я говорил «объяснений», меня дернуло в сторону. А пока говорил «просто так!», я очутился совсем в другом месте.
То есть вообще в другом. До того другом, что даже трудно объяснить. Я стоял под открытым небом – как тогда, когда у меня до этого мелькнула мысль, что я стою под арками канала, только теперь все было настоящее, твердое и настоящее. Во все стороны расстилалась зеленая трава, вверх-вниз по склонам холмов. На другом конце луга передо мной ели траву какие-то черно-белые животные. Я решил, что это, наверное, коровы. До тех пор я ни разу не видел живых коров. Дальше на фоне заката виднелся столб дыма. И все. Больше там не было ничего и никого, кроме меня. Я сделал полный оборот, чтобы проверить, и так и оказалось.
Для городского мальчишки вроде меня одно это уже потрясение. Ужасное было чувство. Я хотел прижаться к земле и чтобы глаза как-нибудь так вылезли на макушку, будто у жабы, чтобы видеть все вокруг одновременно. Но и этого мало. Воздух был мягкий и сладкий. И запах, и ощущение от него – все другое. И даже давил он на меня иначе, как-то вяло. И трава была какая-то не такая, и даже солнце, садившееся за холм, туда, откуда поднимался столб дыма, было не похоже на то солнце, к которому я привык. Закат от него становился не того цвета.
Пока я поворачивался на месте во второй раз, до меня дошло, что косое углубление на лугу у меня за спиной было точно той же формы, что и треугольный парк вокруг Их замка, где стояла статуя. Тогда я очень внимательно рассмотрел остальные зеленые склоны. Да. На месте луга передо мной должны были быть шикарные кварталы и железная дорога, а холм рядом со мной и тот, куда садилось солнце, были те самые два холма, между которыми проходил канал на своих арках. Склон по другую сторону от меня спускался туда, где должен был быть наш двор. Но город исчез.
– Я Их ненавижу! – заорал я.
Потому что сразу понял – мне и задумываться не пришлось, – что я в другом мире. Этот мир был той же формы, что и мой, но во всем остальном совсем другой. И я не знал, как вернуться в свой.
Некоторое время я стоял на месте и осыпал Их всеми плохими словами, какие только знал, а я уже тогда знал их довольно много. Потом я двинулся к той струйке дыма, уходящей в закат. Наверняка там дом, подумал я. Нет смысла умирать с голоду. На ходу я очень прилежно обдумал все, что Они говорили. Они говорили про Цепи, про какой-то контур скитальцев, и сброс, и рандомы, и правила. Я понимал, что все это относится к какой-то громадной и очень серьезной игре. А я оказался в ней каким-то рандомом – случайной помехой, – поэтому Они меня сбросили, но не просто так, а по правилам. И правила эти гласят… Тот, кто говорил со мной в самом конце, конечно, обращался ко мне как полицейский к задержанному: «Все, что вы скажете, станет уликой и может быть использовано против вас». Они рассказали мне про правила, и там говорится, что я могу попасть Домой, если исхитрюсь. Отлично, значит, исхитрюсь. Может, меня и отправили скитаться в Цепях, но это значит, что мне позволено стремиться Домой, и пусть Они об этом не забывают! Я попаду Домой и покажу Им! Они у меня попляшут!
Тут я как раз подошел к коровам. Коровы всегда крупнее, чем думаешь, и рога у них острые. И еще у них неприятная манера – когда подходишь к ним, они перестают жевать и таращатся на тебя. Я остановился и тоже вытаращился на них. Мне было страшно. Я боялся даже повернуться и пойти обратно – вдруг они пустятся галопом, напрыгнут на меня сзади и подденут этими своими рогами, будто гренок на вилку. Даже не знаю, что бы я стал делать, если бы в это время на коров не напустились галопом какие-то люди. Люди были волосатые, грязные, в коровьих шкурах, и кони у них были не лучше. Все они вытаращились на меня – и люди, и кони, и коровы, – и один из всадников был вылитый печатник, работавший на печатном станке в суде на нашей улице.
От этого мне стразу полегчало. Я не думал, что это и есть наш печатник, конечно, это был не он, но мы с печатником прекрасно ладили, и я решил, что и с этим его оттиском полажу.
– Привет, – сказал я. – Вам, случайно, не нужен мальчишка-подручный?
Он улыбнулся – косматую бороду прорезала широкая полоса. И ответил мне. Тут меня ждал новый удар. Тарабарщина. Я ни слова не понял. Здесь говорили совсем на другом языке.
– Ой, мама! – закричал я. – Ну, я Им это припомню, в лепешку расшибусь, а припомню!
На самом деле волосатые всадники обошлись со мной хорошо. В каком-то смысле мне повезло. Некоторым скитальцам поначалу приходилось куда как хуже. А я стартовал совсем неплохо – с поправкой на трудности перевода. Всадники подсадили меня на коня за печатником и поскакали вместе со мной и с коровами туда, где жили. А жили они в шатрах – у них было много-много больших пахучих кожаных шатров, на которых кое-где остались клочки шерсти. Столб дыма поднимался от очага, на котором они готовили. Я подумал, что здесь, может, и ничего. Сказал себе, что это приключение такое, даже интересно. Но вот их Предводительница была просто жуть. Огромная толстуха, которая вся колыхалась на ходу, а голос у нее был как паровозный гудок. Она вечно ругалась. Отругала всадников за то, что притащили меня, потом меня – за то, что непонятно говорю и странно одет, потом огонь за то, что горит, и солнце за то, что садится. По крайней мере, я так решил. Первые слова их наречия я начал разбирать только через несколько дней.
С тех пор я научился быстро схватывать языки. В голове складывается этакая система. Но тот язык был что-то с чем-то: шестнадцать слов со значением «корова», и если скажешь не то, все покатываются со смеху, да я и не особенно старался, честно говоря. Я не думал, что здесь задержусь. Я собирался Домой. Да и то, что учить языку меня взялась самолично госпожа Предводительница, мне не помогло. Она считала, что, если меня достаточно громко ругать, я начну хоть что-то понимать просто от громкости. Мы садились по-турецки напротив друг друга, она ругалась на грани визга, а я кивал и улыбался.
– Давай-давай, – говорил я, а сам все кивал с умным видом. – Ори на меня, старая кошелка.
Это ей нравилось – ведь я вроде бы старался, – и она орала громче прежнего. А я только улыбался.
– А еще от тебя воняет, – говорил я. – Хуже распоследней коровы.
Зато я не спятил. А у нее появился интерес в жизни. Жить на этом стойбище скотоводов было очень скучно. Единственное развлечение – когда какой-нибудь бык вдруг взбесится или на горизонте покажется другое пастушье племя. Все равно мне приходилось постоянно и настойчиво напоминать себе: «Здесь не так уж плохо. Могло быть гораздо хуже. Это не самая плохая жизнь». Это тоже помогало не спятить.
Месяца через полтора я наконец почувствовал их язык. И уже мог удержаться на лошади – не то что раньше, когда раз – и я сижу на земле. А приспособившись немного, я стал помогать загонять коров. Я учился нарезать ремни, дубить кожу, плести плетни и делать всякие другие полезные вещи. Только доить так и не научился. Это было святое. Доить разрешалось только женщинам. Но тут настала пора снимать шатры и двигаться дальше – искать хорошие пастбища. Племя редко задерживалось на одном месте больше месяца.
Я скакал вместе со всеми, сгонял коров, и вдруг примерно в полдень у меня появилось очень странное ощущение. Как будто меня сильно и беспощадно потянуло в сторону от всех. А потом появилось другое чувство, еще неприятнее, оно было внутри. Как будто жуткая тоска и жажда чего-то. У меня даже горло заболело. И все будто зачесалось. Мне хотелось запустить руки внутрь собственной головы и почесать мозги. Оба чувства были такие сильные, что пришлось повернуть коня туда, куда меня тянуло. Тогда мне сразу же стало легче, будто я поступил правильно. И едва я зарысил в ту сторону, как меня переполнило радостное волнение. Я еду Домой. В этом я не сомневался. Вот так и переходишь с места на место в Цепях скитальцев. Я правильно думал, что я здесь ненадолго.
(Оказалось, что это чуть ли не единственное, о чем я догадался правильно. Когда попадаешь в очередной мир, почти всегда чувствуешь, сколько в нем пробудешь. Ошибся я с тех пор только один раз. И тогда мне пришлось задержаться дольше, чем я рассчитывал. Наверное, кто-то из Них решил пропустить ход.)
Но тогда все случилось со мной в первый раз, и госпожа Предводительница отправила за мной двоих волосатых всадников, и они окружили меня и загнали обратно, будто корову.
– Ишь чего надумал – одному в степь скакать! – заорала она на меня. – А если враги?!
– В первый раз слышу, что у вас есть враги, – сердито отозвался я. От жажды и тоски мне было совсем худо.
После этого Предводительница заставила меня скакать среди девчонок и не желала ничего слушать. Теперь-то я знаю, что, когда тебя зовет Граница, надо помалкивать. От греха подальше. Но тогда мне пришлось дожидаться ночи, и это была пытка. Тянуло меня так, что я весь перекосился, а от тоски аж тошнило – по-настоящему, я даже есть не мог. Пропала шикарная говяжья отбивная. Хуже того, меня донимала мысль, что я могу опоздать. Упущу возможность вернуться Домой. Чтобы перейти в другие миры, надо было оказаться в каком-то определенном месте, а я боялся не попасть туда вовремя.
Когда мне представился случай улизнуть, уже почти стемнело. Вечер был пасмурный и безлунный – бывают миры вообще без лун, а бывают даже с тремя, – но мне было наплевать.
Граница тянула меня так сильно, что я точно знал, куда идти. И побежал туда. Бежал всю ночь – теплую и сырую. Я весь обливался по́том и пыхтел, как лесоруб. Под конец я падал каждые несколько шагов, поднимался и тащился дальше. Мне было до невозможности страшно, что я опоздаю. К тому времени, как взошло солнце, я, по-моему, уже просто топтался на одном месте. Вот дурак. Потом-то я поумнел. Но это был первый раз, и когда забрезжил рассвет, я закричал от радости. Передо мной расстилалась зеленая равнина посреди холмов, и кто-то отметил нужное место кружком из вбитых в землю деревянных столбов.
Тут я заставил себя пуститься рысцой и тяжело протопал в кружок. Примерно в середине меня снова дернуло в сторону.
Наверное, вы уже догадались, что было дальше. И наверняка понимаете, что я почувствовал. По-прежнему был рассвет – с огненными полосами во все небо. Зеленые пастбища исчезли, но никакого города я не увидел, даже ничего похожего на город. Голый бугристый пейзаж вокруг меня был покрыт грудами шлака, а возле каждой груды стояло по маленькой унылой хижине. Тогда я не знал, что это за халупы, а это были шахты. В том мире тебя не считают человеком, если у тебя нет собственной шахты, чтобы добывать уголь или медь. Но мне было все равно, что тут происходит. Я ощутил здешний воздух, как и в прошлый раз, и понял, что попал в очередной мир. И при этом почувствовал, что пробуду здесь довольно долго.
В этом мире я начал понимать, что Они и половины правил мне не выдали. Сообщили только те, которые интересовали Их самих. В этом мире меня били и морили голодом, я попал под оползень шлака. Описывать все это я не буду. Даже вспоминать тошно. К тому же я побывал там два раза, потому что я тогда попал в маленькое кольцо миров и обошел его дважды. Тогда я думал, что это и есть все миры на свете, кроме Дома, куда мне было никак не добраться, и вообще считал их мирами, а на самом деле это не совсем миры.
Это отдельные вселенные, которые громоздятся друг на друга, как Их треугольные комнаты, которые я видел перед тем, как Они отправили меня в Цепь. Все эти вселенные соприкасаются в определенных точках, и эти точки и есть Граница, – соприкасаются, но не пересекаются. А граничные скитальцы – это, похоже, единственные существа, способные переходить из вселенной во вселенную. Для этого мы идем вдоль Цепей скитальцев, пока не дойдем до Границы, а там, если кто-то из Них как раз делает ход, нас рывком затягивает на Границу на другой Земле, в другой вселенной. Я разобрался во всем этом, только когда очутился в шестом по счету мире, где совсем другие звезды.
Я смотрел на эти звезды.
– Джейми, дружок, это же полный бред, – сказал я.
Возможно, я и сам тогда немножко бредил, потому что Джейми мне ответил:
– Наверное, это просто звезды Южного полушария, как в Австралии и вообще.
И я тоже ему ответил:
– Все равно бред. Какой-то мир вверх тормашками.
Он и правда был вверх тормашками – и не только в этом смысле. Похоже, Те, кто в нем играл, были просто чокнутые. Но именно это показало мне, какие все миры на самом деле независимые и… ну… вселенские сами по себе. И я понял, что меня по-настоящему сбросили, что я отверженный, вынужденный скитаться по мирам и от природы обреченный постоянно куда-то двигаться. После этого я некоторое время просто брел и брел вперед, и все миры были для меня словно цветные огоньки на колесе, отражающиеся от стены. Это Они вертят колесо, это Они зажигают огоньки, а нам достаются только отражения, и все – сплошной обман. Мне и сейчас иногда так кажется. Но когда попадаешь в новый мир, он такой плотный на ощупь, прямо как трава и гранит, и небо накрывает тебя сверху со всех сторон, как будто за него и не пробиться. Тогда надо стиснуть зубы. И начинается обычная тяжелая работа – изучить местные обычаи и освоить язык.
Вы себе не представляете, как при этом одиноко.
Но я собирался рассказать про правила, о которых Они мне не сообщили. Я уже говорил, что в шахтерском мире со мной случались разные беды. Да и в других мирах тоже. Но все это оказалось не смертельно. Причем иногда должно было быть смертельно, особенно оползень, я пролежал под ним несколько дней. Так вот, это тоже правило – назовем его Правило номер один. Когда рандом вроде меня попадает в Цепи, он должен двигаться вперед. И остановить его не может ничего, это запрещено. Пусть себе голодает, падает с колокольни в полмили высотой, лежит под завалами – но все равно он движется вперед. Остановиться он сможет, только если попадет Домой.
Людям тоже запрещено ему мешать. Возможно, это входит в Правило номер один, но я предпочитаю называть его Правилом номер два. Если не верите, что мне нельзя помешать, найдите меня и попробуйте сами. Увидите, что будет: я вам расскажу, дело было в пятом мире, и у меня для разнообразия завелись деньги. Точнее, целый золотой. Я тогда нашел честную работу в кожевенной мастерской, и ее запах преследовал меня и в следующем мире. У меня был выходной, и я гулял по рынку в поисках любимых пирожных. Что-то вроде рождественского пудинга, а сверху глазурь – восхитительно! И тут вдруг подскочил ко мне мальчишка, примерно мой ровесник, врезал мне раз, врезал два – больно было, между прочим! – и удрал с моим золотым. Я, понятно, завопил и бросился за ним. А он тут же угодил под фургон и погиб, совсем как дочка соседа у нас Дома. Рука с моим золотым торчала из-под фургона, как будто мальчишка возвращал его мне, но у меня не хватило духу его взять. Не мог я. Как будто этот фургон наехал на него из-за меня.
Через некоторое время я сказал себе, что выдумал это правило. Возможно, труп мальчишки плохо повлиял на игру – что-то такое Они говорили про мой труп. Но на самом деле, по-моему, это была одна из тех опасностей, которые добавляют азарта игре – про это Они тоже говорили. Нет, я не выдумал это правило. Со мной потом еще несколько раз так было. И единственный раз, когда я ни о чем не пожалел, – это случай с тем гнусным судьей, который хотел упечь меня за решетку, потому что мне нечем было дать ему взятку. На него рухнула крыша здания суда.
Правило номер три тоже та еще гадость. Во всех мирах время течет по-разному. Когда переходишь из одного мира в другой, оно будто дергается туда-сюда. Но при этом на самого скитальца время почти не влияет. Это правило я вывел, когда проходил второй круг по кольцу миров. Вот, например, когда я во второй раз попал в мир вверх тормашками, там прошло почти десять лет, а в следующем, как выяснилось, всего восемь или около того. Я так и не понял, сколько ушло моего собственного времени на то, чтобы два раза обойти все эти миры, но готов поклясться, что я стал старше всего на несколько дней. Сначала мне казалось, что я, наверное, живу по тому времени, которое у меня Дома. Но, как я уже говорил, мне на вид по-прежнему лет тринадцать, а я успел побывать уже в сотне миров.
К тому времени как я во всем этом разобрался, я уже давно проходил второй круг. И понял, что попасть Домой будет совсем не так просто, как я думал. Иногда я сомневался, что вообще туда доберусь. Я шел через миры, а внутри у меня из-за этого все заледенело от ужаса. И ничем было не отогреться. Я пытался согреться воспоминаниями о Доме, о нашем дворе, о родных, вспоминал все-все в мельчайших подробностях. Даже то, чего в свое время толком и не замечал, – всякие глупости, например как внимательно мама следила за нашей обувью. Обувь стоила очень дорого. Летом многие дети из нашего двора ходили и вовсе без ботинок и не могли нормально играть в футбол, но мы никогда не выходили из дома босиком. Ботинки были у нас всегда, даже если, чтобы скопить на них, маме приходилось шить Эльзи платья из своей старой юбки. Мне казалось, что это обычное дело, ничего особенного. А в скитаниях, надо вам сказать, я вдоволь набегался босиком.
Помню даже, какую рожицу корчила Эльзи – как-то хитро опускала кончик носа, отчего становилась похожа на верблюда, – когда ей отдавали донашивать латаные ботинки Роба. Она не ворчала. Просто корчила рожицу. Помню, как отец сделал примерно такое же лицо, когда мама сказала, что хочет, чтобы я остался в школе. Я дал себе зарок, что, когда вернусь Домой, буду помогать отцу в лавке. Или прилежно учиться в школе, если мама с папой так решат. Я был готов на что угодно. Кроме того, мне пришлось так прилежно изучать разные языки, что после этого в школе, наверное, будет даже весело.
По-моему, от этих воспоминаний ледяной комок внутри болел только сильнее, но остановиться я не мог. А еще я от этого только сильнее ненавидел Их, но это меня устраивало.
А еще до той поры я не встретил больше ни одного граничного скитальца. Я думал, это тоже правило и нам запрещено. Считал, что нас, вероятно, запускают через равные промежутки и мы никогда не пересекаемся. Я, конечно, знал, что не один такой. Через некоторое время я научился распознавать наши следы. Мы оставляли друг другу знаки и значки, как принято в некоторых мирах среди воров и разбойников, – в основном на Границах.
На то, чтобы научиться находить знаки самостоятельно, у меня ушло много времени. Во-первых, Границы везде разные, так что я даже не замечал знаков, пока не понял, что их надо высматривать. Кружок из шестов в мире скотоводов соответствовал рощице в четвертом мире и большому грязному храму в седьмом. В шахтерском мире Граница была вообще никак не отмечена. Что характерно. Сначала я думал, что это Они обозначили Границы, и не обращал на них особого внимания, но потом заметил знак, вырезанный на стволе в рощице. Почему-то это натолкнуло меня на мысль, что на самом деле Границы обозначили те, кто странствует между мирами. Такой же знак был нацарапан и на стене храма. Он означал «БОГАТАЯ ДОБЫЧА». В тех двух мирах я неплохо зарабатывал.
А потом, когда я уже обходил всю череду миров во второй раз, я уже не просто чувствовал Границы и находил знаки, но и начал понимать, как устроены Цепи. Цепи подводили к Границе с трех разных сторон, поэтому можно было пройти другим маршрутом, но все равно попасть на ту же Границу, просто с другой стороны. Поэтому я стал видеть больше знаков. Но вот что странно: простые обитатели миров, похоже, тоже чувствовали и Цепи, и Границу. Они, конечно, не ходили по Цепям сами – ведь зова они не чувствовали, – но наверняка что-то да ощущали. В некоторых мирах все Цепи были застроены городами и деревнями. В седьмом мире поклонялись Цепям как священной реликвии. Я вышел из Храма Цепей и увидел, что от него вдаль уходит целая шеренга храмов, похожих на свадебный торт моей двоюродной сестры Мэри: по высокому белому торту на каждом холме.
В общем, я хочу сказать, что когда я научился смотреть, то стал находить и знаки по другие две стороны Границы. И собрал их очень много. А потом наткнулся на знак, которого раньше не видел. Потом-то он попадался мне очень часто. Он означает «РАНДОМ», и обычно я радуюсь, когда его вижу. Вот так я выбрался из этого проклятого замкнутого круга миров и наконец-то нашел других скитальцев.
III
К этому времени я вернулся в мир скотоводов. Как только я там очутился, то сразу понял, что я здесь ненадолго, и это обрадовало бы меня, если бы я не знал, что дальше будет шахтерский мир.
– Ой, только не это! – громко взмолился я (но не Им). – Пожалуйста, только не этот треклятый собачий шахтерский мир! Что угодно, только не это!
В скотоводческом мире тоже жилось не очень. Само собой, каждый раз мне встречались там другие люди. Когда я возвращался, прежние либо снимались с места и уходили, либо уже успевали умереть. Новые знакомые всегда были вполне приветливые, но они никогда ничего не делали. Скукотища. Я еще думал: Те, которые здесь играют, – они что, заснули? Или занимаются той частью мира, куда я не попадаю, а в этой области только время отмечают. Так или иначе, мне снова предстояло отслужить свой срок животноводом, и я был даже рад, что на этот раз срок будет недолгим. Ну то есть был бы рад, если бы впереди меня не ждал этот шахтерский ад.
Зов Границы я ощутил всего через три дня. Это было неожиданно. Не знал, что срок будет настолько недолгим. К этому времени я вместе с племенем, куда попал, откочевал довольно далеко на юг. Они собирались идти к самому морю, и мне туда тоже хотелось. Хотите верьте, хотите нет, а моря я до тех пор ни разу не видел. И очень огорчился, когда тяга и тоска в горле начались так рано.
Но я к этому времени был уже стреляный воробей. Я решил, что перетерплю тягу и побуду здесь, сколько удастся, чтобы попасть в шахтерский мир как можно позже. Поэтому я стиснул зубы и сидел на коне, которого мне дали, и рысил на юг.
И вдруг та же тяга и та же жажда напали на меня совсем с другой стороны – примерно оттуда же, куда мы ехали. Я так растерялся, что упал с коня. Пока я сидел на траве, закрыв голову руками, и ждал, когда все племя проскачет мимо, чтобы встать, – если елозить, когда угодил в табун лошадей, того и гляди, получишь копытом по голове, – началась вторая часть зова, то самое «Скорее, скорее, опоздаешь!». Когда зов исходит с новой стороны, он всегда сильнее и ощущается раньше. И когда он исходит с Границы рандомов, он тоже сильнее. Почему, я не знаю. А тогда зов был такой сильный, что я понял, что больше ждать не могу. Я встал и побежал.
Племя, конечно, кричало мне вслед. Они пугаются, когда кто-то уходит один, хотя с ними никогда ничего плохого не случалось. Но я не обращал на них внимания, и госпожи Предводительницы при них не было – вождем у них считалась сонная девица, которой на все было наплевать, – поэтому гнаться за мной не стали. Перевалив за ближайший холм, я перестал бежать и перешел на шаг. К этому времени я уже понял, что «Скорее, скорее!» нужно только для того, чтобы я пошевеливался. И ничего особенного не значит.
И очень хорошо, что ничего особенного не значит. Я добирался до Границы весь день и всю ночь, а увидел ее, когда солнце непривычного цвета стояло в небе уже два часа. Это была другая Граница. Она была отмечена кружком из камней.
Я некоторое время разглядывал ее, пока спускался к ней в долину. Камни были очень большие. Трудно было представить себе, чтобы у волосатых скотоводов нашлись силы их водрузить. Разве что, конечно, это сделали Они. Я вгляделся еще – и увидел новый знак, вырезанный на ближайшем валуне повыше моей головы.
– Интересно, что это значит, – сказал я.
Но я пробыл в дороге очень долго, и тянуло меня так сильно, что было не вытерпеть. Я бросил задаваться вопросами и шагнул в круг.
Дерг – и я тону в океане.
Да, я наконец увидел море – изнутри. То есть я пробыл внутри моря минут, наверное, пять, а потом, вопя, брыкаясь и захлебываясь, вынырнул на поверхность и выкашлял целую струю жгучей соленой воды, но кашлял, оказывается, зря, потому что тут же меня накрыла огромная тяжелая волна, которая ударила меня прямо в лицо – бам! – и снова загнала под воду. Я вынырнул обратно очень быстро. Мне было наплевать, что скитальца ничего не может остановить. Я в это не верил. Я тонул.
Не верьте, когда вам говорят, мол, вся жизнь пробегает перед глазами. В такие минуты не до воспоминаний. Все время и силы уходят на то, чтобы лупить руками по воде и визжать: «Помогите!», ни к кому и ни к чему не обращаясь. Ты очень занят тем, чтобы удержаться на плаву. Плавать я в принципе не умел. Так что просто скакал в воде вверх-вниз стоймя, как оголтелый, и вода, уходившая вниз на бессчетные мили, выгибалась и дыбилась, будто бешеная лягушка, и это помогало мне держаться. А еще она крутила меня по кругу. Со всех сторон была вода, окаймленная небом. Нигде ничего, только слепящие блики на воде с одного боку и вздымающиеся серые волны на воде – с другого.
Вот тогда я впал в настоящую панику. Я прыгал и визжал как безумный. И вот что удивительно: мне, кажется, кто-то ответил. Миг – и мимо проехал какой-то черный утес, и оттуда кто-то окликнул меня – совершенно точно! В море передо мной плюхнулось что-то вроде обтрепанной веревки. Я потянулся к ней обеими руками – и от этого снова ушел под воду, однако веревку поймал. Так меня и вытянули – вопящего, дрожащего, просоленного, – и по пути меня все время стукало о бок этого нежданного черного утеса.
Это было все равно как взбираться по гигантской терке – сплошные ракушки-прилипалы. Я оставил на них довольно много кожи, а потом еще немножко, когда меня перетаскивали через борт. Помню, как я понял, что это корабль, и потом посмотрел, кто же меня спас. И наверное, потерял сознание. Так или иначе, я больше ничего не помню до тех пор, пока не обнаружил, что лежу на заплесневелой постели под сырым одеялом и думаю: «Не может такого быть! Меня вытащила из моря стая обезьян!» Однако именно это я вроде бы и видел. Я знал это, хотя глаз пока не открывал. Я видел тощие костлявые волосатые руки и заросшие лица с умными обезьяньими глазами и слышал, как они что-то тараторят. Наверное, так и есть, думал я. Я попал в мир, где всем правят обезьяны.
Тут кто-то схватил меня за голову и чуть не удушил, залив мне в рот какое-то адское пламя. Я опять закашлялся, и надолго. Потом осторожно открыл один слезящийся глаз и поглядел на обезьяну, которая это со мной проделала.
Это был мужчина-обезьяна. У меня немного отлегло от сердца, хотя выглядел он, конечно, жутко. Лицо у него было большое и квадратное. То есть те его участки, которые я разглядел, – остальное сплошь поросло огромной черной бородой. Щеки – та их часть, которая виднелась над бородой, – были такие впалые, будто он их нарочно втягивал, – а глаза до того глубоко ушли в череп, что брови росли уже внутри глазниц. И шевелюра под стать бороде, точь-в-точь грачиное гнездо. Все остальное было на вид привычнее, потому что до подбородка обезьяна была закутана в просторный темно-синий бушлат с пятнами плесени. Но возможно, только на вид. Рука, которую он протянул ко мне – с зажатой в ней бутылкой, чтобы я подавился очередным глотком адского пламени, – была как у скелета.
Я вскочил и отпрянул от бутылки:
– Спасибо, не надо, у меня уже все хорошо!
Он оскалил на меня зубы. Это он улыбался.
– А, зна-ачит, мы понима-аем дройгдройга! – Вот так приблизительно он и говорил.
Я-то уже побывал везде и раз двадцать приноравливался к чужим акцентам, но родным языком всегда считал английский. Для него английский явно был не родной. Но кажется, я попал в мир, где хоть кто-то на нем разговаривает.
– Вы кто? – спросил я.
Он посмотрел на меня с укором. Зря я так прямо спросил.
– Мы все-егда не спускаем гла-аз с меер… – Нет, не могу больше передавать его манеру говорить. – Мы всегда следим за морем в окрестностях Границы – вдруг заметим за бортом граничного скитальца. Большая удача для тебя!
Я посмотрел ему прямо в огромное изможденное лицо.
– Вы тоже?.. Здесь нас тоже называют граничными скитальцами?
– Такое имя дано нам всем изначально, – грустно ответил он.
– Ой. – Я оторопел. – А я считал, что сам его выдумал. Вы давно такой?
Судя по виду, очень давно, подумал я.
Он вздохнул:
– Разве в твоем мире обо мне не слыхали? Меня знают во многих землях – я вечно плыву неведомо куда на своем корабле. Чаще всего меня зовут Летучим Голландцем.
По стечению обстоятельств я о нем слышал. В школе, в нашей старой доброй школе «Чарт-Хаус», похожей на часовню, – в один прекрасный дождливый день, когда все остальные магистры слегли с гриппом. Единственный оставшийся на ногах магистр рассказал нам – в числе прочего – о Летучем Голландце. Но запомнил я немного: только что когда-то давным-давно его прокляли и обрекли вечно скитаться по морям до тех пор, пока… впрочем, какая теперь разница. Наверное, с ним приключилось примерно то же самое, что и со мной.
– А что произошло? Чем вы Им не угодили? – спросил я.
Он содрогнулся и словно бы отодвинул меня своей костлявой ручищей.
– Об этом нам говорить не дозволено. – Но тут ему, видимо, стало меня жалко. – Ты еще совсем юнец, сам узнаешь.
– Так из какого вы мира? – спросил я. – Об этом нам дозволено говорить? Из того же, что и я?
Я сел и весь напружинился от волнения, – я подумал, что если мы из одного мира, то стремимся по Цепям к одному и тому же Дому, и плавать с ним, пока мы туда не попадем, совсем не так уж плохо. Когда я сел, мне стало видно каюту. Тут меня одолели сомнения. Во всех углах и со всех балок фестонами свисала паутина. На стенах черная плесень и зеленая слизь соревновались, кто выше заберется, а все металлические детали, что попались мне на глаза, насквозь проржавели, в том числе и канделябр на источенном червями столе. На полу каюты плескалась грязная вода, то туда, то сюда, смотря куда кренилось судно, и билась бурунами об огромные ботфорты Летучего Голландца.
– Вы из того же мира, что и я? – с сомнением повторил я.
– Сам не знаю, – печально ответил он. – Но узнаю, как только туда попаду. Там можно будет немного передохнуть.
– Так давайте я расскажу вам про свой Дом, – предложил я. – Может быть, что-то покажется вам знакомым. Во-первых, меня зовут Джейми Га…
Но он снова поднял скелетоподобную руку:
– Прошу тебя, не надо. Мы не называем имен. Мы считаем, что нам не дозволено.
Тут к двери в каюту подошел кто-то из команды и что-то сказал на своем тарабарском наречии. Это тоже был человек, а не обезьяна, но я сразу понял, почему я принял его за обезьяну. Он был тощий, как жердь. И к тому же почти совсем голый и покрыт темно-коричневым загаром, а где не загаром, там волосами. Все-таки люди очень похожи на обезьян.
Голландец послушал его, а потом сказал «Йа, йа», встал и ушел.
В каюте было не очень интересно и пахло плесенью, так что через некоторое время я тоже встал и вышел на палубу. Там было море – со всех сторон. От этого я поначалу сник, как тогда, когда в первый раз оказался в степи в мире скотоводов. Но к этому быстро привыкаешь. Моряки лазали туда-сюда по растопырившимся надо мной мачтам. Они боролись с огромными черными драными парусами и, кажется, хотели поднять еще несколько. Гнилые канаты постоянно лопались. Тогда слышались огорченные тарабарские слова, а потом моряки чинили их и продолжали свое дело. Получалось, что поднять новые паруса – затея небыстрая.
Голландец стоял, сунув руки в карманы, и смотрел на причину переполоха. Это был другой корабль, настоящий красавец, на полпути между нами и горизонтом. Был этот корабль будто стрела, будто птица, – будто что-то прекрасное и стремительное. Я увидел его и невольно ахнул. Он шел под огромными парусами, белыми-белыми, словно лебедь. Но когда я пригляделся, то увидел, что среди этих парусов кто-то мельтешит. Вскоре появилось еще много белых парусов, одни поверх прежних, другие еще выше, и вот их стало так много, что стало страшно, как бы корабль не опрокинулся – просто потому, что верх перевесит низ. И тут белый корабль развернулся и, слегка покачиваясь, будто бегущая барышня, скрылся за горизонтом. А мы так и не успели поднять паруса.
Голландец тяжко вздохнул:
– Они всегда бегут от нас. Думают, мы приносим несчастье.
– А что, правда?.. – Я немного испугался за себя.
– Лишь самим себе, – снова вздохнул он. И еще что-то добавил по-тарабарски.
Обезьяны на мачтах бросили возиться с парусами и слезли обратно на палубу.
Я решил, что теперь им уже точно пора подумать о завтраке. Я не ел со вчерашнего обеда и умирал с голоду. Ну то есть, наверное, скиталец не может по-настоящему умереть с голоду, но можно выразиться иначе: желудок этого правила не знает, и в животе у меня урчало. Но время шло, а о еде никто не заговаривал. Обезьяны или просто лежали, или вырезали деревянные кубики, или чинили канаты. Голландец расхаживал по палубе туда-сюда. В конце концов я совсем потерял терпение и задал ему прямой вопрос.
Он остановился и печально посмотрел на меня:
– Пища? Мы отказались от нее давным-давно. У нас нет нужды в пище. Граничные скитальцы не умирают.
– Это я знаю, – ответил я. – Но от еды становится гораздо уютнее. Посмотрите на себя. Вы же как ходячие скелеты.
– И то верно, – вздохнул он. – Но когда вечно скитаешься по морям, трудно запастись провиантом.
Я понял, что это веский довод.
– Вам что, никогда не попадается суша?
Тут меня охватил ужас. Вдруг мне придется навеки застрять на этом корабле, да еще и без еды?!
– Йа, иногда мы выходим на берег, – признался Голландец. – Когда минуем Границу и знаем, что у нас есть время, мы находим уединенный остров и высаживаемся на него. И тогда иногда едим. Когда мы пристанем, чтобы высадить тебя, то тоже, вероятно, поедим.
Мне сразу заметно полегчало.
– Надо есть! – сказал я серьезно. – Поешьте, пожалуйста, хотя бы ради меня. Может быть, наловите рыбы или еще чего-нибудь?
Он сменил тему. Наверное, считал, что и ловить рыбу тоже не дозволено. У него скопился бесконечный список всякого недозволенного. У меня была возможность убедиться, какой это длинный список, потому что на корабле я проторчал несколько дней. Это были очень неприятные несколько дней, и я надеюсь, что такое не повторится. На корабле все прогнило. И пропиталось водой. Вода сочилась из досок, стоило на них наступить, и все поросло плесенью. И никому не было до этого дела. Это меня особенно злило. Нет, я прекрасно понимал, что команда угодила в игру давным-давно и пробыла в Цепях в сто раз дольше моего, так что они имели право впасть в уныние. Но не до такой же степени!
– А почему вы ходите почти голые? – то и дело спрашивал я у какой-нибудь обезьяны. – Надо же себя уважать!
На это обезьяны только глядели на меня и говорили что-то тарабарское. Английского никто из них толком не знал. Через некоторое время я стал задавать другие вопросы, потому что начало холодать. В воздухе повис туман, и на сыром корабле все еще сильнее отсырело. Я весь продрог. Но обезьяны только плечами пожимали. Им уже давно было все равно.
Примерно на четвертый туманный день я посмотрел за борт и кое-что увидел, но решил было, что это тоже из-за охватившего моряков уныния. К этому времени мне уже что угодно было развлечением. Я увидел на носу две большие, окованные железом дыры, и из каждой свисал обрывок ржавой цепи. Я видел корабли на картинках. И знал, что там должно быть.
– А у вас что, нет якорей? – спросил я Голландца. – Как же вы останавливаетесь?
– Нет, мы их давным-давно выбросили, – ответил он.
От голода я стал очень раздражительный.
– Какая глупость! И чего вы во всем только плохое высматриваете? Попробуйте для разнообразия подумать о хорошем! Смотрите, до чего вы себя довели своим унынием! Придумали тоже – якоря выбрасывать!
А он просто стоял и смотрел на меня грустно и, по-моему, как-то многозначительно. И вдруг я вспомнил якорь с короной на табличке у входа в Старую крепость. Больше я не заговаривал с Голландцем о Них. Он никогда не упоминал Их прямо, в отличие от меня. Всегда выражался обезличенно: не дозволено, и все. Но он, конечно, знал, что якоря имеют к Ним отношение, и знал, возможно, даже лучше моего.
– А, понимаю, – пробурчал я. – Простите.
– Мы сняли их, – сказал Голландец, – чтобы показать, что лишились надежды. Надежда, знаешь ли, тоже якорь.
Впрочем, нет худа без добра. Думаю, он забеспокоился обо мне. Решил, что я молодой, горячий и невежественный. Спросил, через какую Границу я сюда попал.
– Боюсь, как бы ты не попал в участок Цепей, где есть только море, а в следующий раз меня не будет рядом. Я высажу тебя на сушу, поскольку считаю, что нам не дозволено заводить себе компанию, но имей в виду, что ты все равно можешь очутиться в море.
Весельчак, ей-богу. Но добрый. Я рассказал ему о каменной Границе и о странном знаке.
– Это хорошо, – сказал он. – Это значит «РАНДОМ». Ищи такие же знаки – и тогда едва ли утонешь.
Оказалось, что знаков он знает в сто раз больше меня. Подозреваю, что он так долго скитался, что кое-какие из них сам и изобрел. Он показал мне их все – нацарапал ржавым гвоздем на двери в свою каюту. В основном это были общие слова вроде «НЕДРУЖЕСТВЕННАЯ ОБСТАНОВКА» или «ПРИЯТНЫЙ КЛИМАТ». Я в ответ рассказал ему про те, которые успел выучить, в том числе один особенно, по-моему, полезный: «ЗДЕСЬ ХОРОШО КОРМЯТ».
– Благодарю, – торжественно сказал он.
Назавтра, хвала небесам, мы пристали к суше. Рай я представлял себе иначе. Я почти ничего не разглядел в тумане – одни камни и буруны. Мне подумалось, что на корабле не так уж плохо.
– Может, проплывем немного дальше? – испуганно спросил я у Голландца. – Тут, по-моему, опасно. Еще корабль разобьете.
Он мрачно стоял рядом со мной – весь бушлат, борода и шевелюра в бусинках тумана – и смотрел, как приближаются буруны сквозь белесую завесу.
– Корабль невозможно разбить, – ответил он. – Ничего страшного. У нас семь пробоин ниже ватерлинии, а плаваем мы по-прежнему. И не можем остановиться. Мы обречены вечно скитаться по морям. – И тут он сделал такое, чего я от него никак не ожидал. Вытащил из кармана кулак и потряс им – бешено потряс в воздухе – и закричал: – И мы знаем почему! Это все какая-то игра! Игра!
– Спорим, это не дозволено? – ввернул я.
Он убрал кулак в карман:
– Может быть. Мне все равно. Приготовься: когда подойдем поближе, придется прыгать. Не бойся. Тебе никогда ничего не сделается.
А потом мы и правда подошли ближе, и я прыгнул – довольно неуклюже, прямо скажем. Насчет ничего не сделается, может, и правда, но меня можно было побить, намочить, ободрать и оглушить, и все это море со мной проделало. К тому же я до того обессилел от голода, что целую вечность выбирался из полосы прилива на мокрый гранитный валун. Потом я повернулся помахать Летучему Голландцу. Они все столпились у борта и помахали мне в ответ, и капитан, и его обезьяны. Я еле различал их в тумане. И правда, настоящий корабль-призрак, шаткий, с изодранными парусами, – будто набросок простым карандашом, – и еще он заметно кренился. Подозреваю, что у него стало уже восемь пробоин ниже ватерлинии. Пока я выбирался на валун, то наслушался скрежета и треска.
Я стоял и смотрел, а корабль растворился в тумане. И я остался дрожать на берегу совсем один. Тогда я вспомнил, что рассказывал учитель о Летучем Голландце тем дождливым днем Дома. Его же считают кораблем-призраком.
Но это был не призрак, твердил я себе. И я тоже не призрак. Все мы – скитальцы, все стремимся Домой, и лично я собираюсь туда попасть. Жалко только, что я опять остался один. У Летучего Голландца дела обстояли гораздо лучше. У него была целая команда – а я один. По сравнению со мной они могли бы как сыр в масле кататься, если бы заставили себя чуть больше заниматься хозяйством.
Потом я двинулся вглубь суши – карабкался, срывался и съезжал, – и там со мной произошло самое что ни на есть удивительное событие. Такое удивительное, что даже если бы Они ничего потом не сделали, все равно временами я готов был поклясться, что это мне только примерещилось от голода. Но я точно знаю, что это произошло на самом деле. Это было реальнее меня самого.
IV
Я очень хотел пить. Это куда хуже голода. Наверное, вы считаете, что на таком сыром корабле воды было вволю, но она же вся была соленая, кроме тумана. А когда я выбирался на сушу, то наглотался соленой воды так, что пить хотелось сильнее прежнего. Не понимаю, как Летучий Голландец это выносил. Единственным питьем на борту была та огненная вода, которой он меня поил, и я едва не подавился, да и ее, по-моему, берегли для выловленных из моря утопающих вроде меня.
Но как только я взобрался высоко на скалы и ушел так далеко от берега, что моря уже не было слышно, до меня донесся плеск воды. Такое, знаете, глуховатое журчание, как от ручейка, который течет среди камней. Я его услышал, и во рту у меня от него сразу пересохло и будто опухло. Я так хотел пить, что едва не плакал. И двинулся по камням сквозь туман на звук, карабкаясь и срываясь.
В этом белом мокром тумане не было видно ни зги. Думаю, если бы я не так сильно хотел пить, то никогда не нашел бы источник. Скалы были просто жуткие, впору ноги переломать. Сплошной твердый-твердый розоватый гранит, такой твердый, что на нем ничего не росло, и такой мокрый, что я то и дело шлепался на живот. Это было больно – не меньше, чем обдираться о борт Летучего Голландца. Вы же помните, что гранит будто бы сделан из миллионов зернышек, розовых, черных, серых и белых, так вот, честное слово, каждое зернышко царапало меня отдельно.
Через некоторое время я забрался куда-то довольно высоко, и чарующее глуховатое журчание слышалось уже совсем близко, где-то справа. Я соскользнул туда и волей-неволей застыл на месте. Там в граните был огромный раскол, широкая и глубокая щель, а я слышал, что вода журчит по другую сторону этого провала.
– Вот непечатные слова! – сказал я (на самом деле я сказал не так. На самом деле я эти слова и сказал).
Но я терпеть не могу сдаваться. Это вы уже поняли. Я спустился в раскол, а потом поднялся с другой стороны. Сам не знаю, как мне это удалось. Когда я подтянулся и еле-еле выбрался на другую сторону, руки у меня были будто куски пружины и я не мог заставить их сжать в кулаки, да и ноги чувствовали себя не лучше. К тому же я был весь в синяках и ссадинах. Роскошное, должно быть, было зрелище.
Журчание раздавалось теперь совсем близко, из-за большого обломка скалы. Я пробрался вокруг него. Это был здоровенный камень, торчащий на вершине горы, а по другую сторону был каменный уступ шириной футов восемь, а то и больше. И там мне снова пришлось остановиться как вкопанному, потому что к обломку между мной и водой был прикован цепями человек.
Мне показалось, что он мертвый или умирает. Он привалился спиной к скале, и глаза у него были закрыты. Лицо было запрокинуто, и он меня не видел, ведь я полз на четвереньках, слабый, как котенок, но мне бросилось в глаза, что он исхудал не меньше Летучего Голландца, а выглядел еще хуже, потому что у него не было бороды, только рыжеватая щетина. И волосы у него были рыжеватые, но от здешнего дождя и тумана все промокли, так что почти слились с гранитом. И одежда у него, то есть все, что от нее осталось, тоже промокла и посерела, и лохмотья бешено трепал пронизывающий холодный горный ветер. Я видел почти всю его кожу. Она была белая-белая, словно у трупа, и на фоне скалы и тумана выделялась ярко-ярко, будто светилась.
А цепи, которыми он был прикован, – они и вправду светились. Вот они были по-настоящему жуткие. Прямо сияли. И были почти прозрачные, как стекло, но белее и как-то каменнее на вид. На скале прямо передо мной лежало большое звено из цепи, соединявшей его правую руку и ногу. Я видел сквозь него увеличенные зернышки гранита, розовые, черные, серые и белые, посередине звена крупнее, по краям мельче и слегка окрашенные молочным. Будто я смотрел сквозь слезинку.
Он не шевелился. Я немножко собрался с силами и решил, что раз он едва живой, то ничего плохого мне не сделает, поэтому встал и по уступу перед ним двинулся наконец к воде. Когда я выпрямился, то увидел, какой он огромный, и удивился. Он был раза в полтора больше обычного человека. И еще не умер. Белая кожа была вся в мурашках, и по ней пробегала еле заметная дрожь. Теперь понимаете, почему я говорил так про высокое искусство? Он же замерз. Но ясно было, что осталось ему уже недолго. Слева, чуть ниже сердца, у него была тяжелая рана. Я заметил ее только сейчас, а когда заметил, больше не хотел туда смотреть. Ужасная рваная рана, зияющая и кровавая, а вокруг треплются на ветру и лезут в рану обрывки рубашки. Неудивительно, что он умирал.
Я уже поравнялся с ним, стараясь не смотреть, и тут он повернул голову и поглядел на меня.
– Осторожно, не коснись цепей, – сказал он.
Я подскочил и вытаращился на него. Голос у него был совсем не как у умирающего. В нем чуть-чуть слышалась дрожь, и неудивительно: бедняга промерз до костей. Но голос у него был ровный и сильный, и в глазах был виден здравый ум.
– А почему к ним нельзя прикасаться? – спросил я.
– Потому что они так устроены, что действуют будто Граница, – ответил он. – Если к ним прикоснешься, то так и не успеешь попить.
Я попятился на дюйм или около того. Отходить дальше я побоялся, чтобы не упасть с уступа.
– А из чего они сделаны? – спросил я. – Впервые такое вижу.
– Из адаманта, – ответил он.
Адамант – это такой алмаз, самое твердое вещество на свете. А приблизительно следующим по твердости, наверное, идет гранит. Мне было видно, что в гранит по обе стороны от прикованного вделаны огромные прозрачные скобы, так что ему приходится лежать, раскинув руки и ноги.
– Вы, наверное, ужасно сильный, раз вас иначе не удержать, – сказал я.
Он даже улыбнулся:
– Да. Хотели наверняка.
Мне тоже так показалось. Я не понимал, почему он до сих пор такой живой.
– Вы ведь не граничный скиталец, правда? – спросил я с сомнением.
– Нет, – ответил он.
Я все смотрел на него, стараясь не коситься на эту его рану, и видел, как он дрожит. Я и сам замерз, но хотя бы мог двигаться, чтобы согреться. А он был прикован так прочно, что и ногой пошевелить не мог ни туда, ни сюда. Пока я смотрел, вода текла себе сбоку от скалы с таким протяжным глуховатым журчанием, что я невольно облизнулся. А он был в цепях – и слышал ее, но не мог достать.
– Хотите пить? – спросил я. – Давайте я принесу вам воды.
– Да, – ответил он. – Воде я буду очень рад.
– Мне придется дать вам попить из горсти, – сказал я. – Набрать-то, к сожалению, не во что.
Я пробрался мимо него, осторожно переставляя ноги и стараясь держаться подальше от цепей. Мне уже был виден ручеек – он стекал по ложбинке в скале сразу за красноватой растопыристой штуковиной, к которой были приделаны все цепи. Уступ там сужался. Я подумал было, что трудновато будет пробраться по скользкому камню мимо этой штуковины, не задев цепей, но тут я понял, что это за шипы. Подошел и нагнулся проверить. Ну да, конечно. Якорь. Одна его лапа была загнана глубоко в гранит, и он весь покрылся оранжевой мокрой ржавчиной, но его было ни с чем не перепутать. А все цепи проходили через кольцо на конце веретена якоря.
Я развернулся на месте так быстро, что чудом не коснулся цепей.
– Это Они с вами сделали! – сказал я ему. – Как Они это сделали? Почему?
Он весь извернулся, чтобы видеть меня. Я понимал, что он сейчас думает только о воде. Я перелез через якорь, чтобы показать прикованному, что не забыл про воду.
– Да, это были Они, – сказал он.
Я подставил руки под крошечный журчащий водопадик и наполнил их как только мог. Но я так разозлился за то, что Они с ним сделали, что руки у меня тряслись, и когда я перелез обратно через якорь, почти вся вода протекла сквозь пальцы. А когда мне удалось протянуть руки к его лицу между цепей, не задев их, воды, считай, не осталось. Он был такой высокий и прикован так плотно, что ему было ужасно трудно опустить лицо ко мне. Наверное, в первый раз он едва ощутил вкус воды. Но я сходил к ручейку еще несколько раз, туда и обратно. Через некоторое время я здорово наловчился. И даже попил сам – после того как отнес ему шестую порцию воды. Он так хотел пить, что просто кошмар, и я все думал, каково бы ему было, если бы я случайно задел цепь и меня бы выдернуло в другой мир в тот самый миг, когда он потянулся губами к воде.
– Что ж вы сразу не попросили? Почему? Что, Они вам запретили?!.
– Нет, – ответил он. – Они не имеют надо мной такой власти. Но я видел, как сильно ты мучаешься от жажды, а я к ней больше привык.
– Вы так давно? – спросил я. Это мы разговаривали, пока я бегал туда-сюда. – Столько же, сколько Летучий Голландец? Вы его знаете?
Он улыбнулся. Он пил и пил и на глазах веселел, несмотря на свое положение. Я очень жалел, что у меня нет с собой ничего съестного, – я бы его еще и покормил.
– Я очутился здесь задолго до Летучего Голландца, – сказал он. – И даже до Агасфера. Почти что с начала миров.
Я едва не ляпнул: «Не понимаю, как вы это выносите!», но это было бы глупо. Куда ему деваться?
– Как Они вас поймали? – спросил я. – Почему?
– Я сам виноват, – сказал он. – В некотором роде. Я думал, Они мне друзья. Я узнал о Цепях и Границах и о том, как устроены миры, и сказал Им, а это было большой ошибкой. Я не представлял себе, как Они воспользуются моим открытием. А потом было уже поздно, и я понял, что единственное спасение – рассказать обо всем человечеству, чтобы оно тоже знало, но толком не успел – Они меня перехватили.
– Очень на Них похоже! – сказал я. – Почему вы Их не ненавидите? Я ненавижу.
Тут он даже рассмеялся:
– О, раньше – да, и еще как. Я ненавидел Их несколько вечностей подряд, уж не сомневайся. Но потом все прошло. Сам увидишь. Все проходит, особенно чувства. – Похоже, это его ничуть не печалило. Кажется, для него было даже облегчением, что Их можно больше не ненавидеть.
От этого я почему-то возненавидел Их еще сильнее.
– Послушайте, – сказал я, протягивая ему примерно десятую горсть воды, – нет ли какого-нибудь способа вас отсюда вызволить? Давайте я, например, поищу адамантовый напильник… Или на цепи где-то есть замок?
Он даже не сразу отпил воды, а посмотрел мне в глаза – и по-настоящему расхохотался, хотя и пытался сдержаться, чтобы не обидеть меня.
– Очень великодушно с твоей стороны. Но у Них все устроено иначе. Если от этих оков есть ключ, он вон там. – И он кивнул в сторону якоря, а потом наклонился попить.
– Якорь? – спросил я. – То есть когда он проржавеет и рассыплется?
– Этого придется ждать до конца миров, – отозвался он.
Я понимал, что он меня деликатно уговаривает не выставлять себя дураком. И когда я побрел за очередной горстью воды, мне было очень тоскливо. Что же мне тогда делать? Я хотел что-то сделать и ради себя, и ради него. Хотел разбить его оковы и раскидать миры. Потом захотел перегрызть глотку кое-кому из Них. Но на самом деле я был всего лишь беспомощным рандомом, которого куда-то сбросили, к тому же еще мальчишкой.
– Кое-что я все-таки могу, – сказал я, пробравшись назад. – Остаться, и составлять вам компанию, и носить воду, и вообще.
– Не советую, – ответил он. – Вероятно, Они до какой-то степени следят за тобой, а я не в состоянии тебе помочь.
К этому времени он уже напился. И сказал, что мне надо идти. Но я решительно уселся на мокрый камень. Я весь дрожал. Мы оба дрожали. Туманная дымка вилась вокруг нас, словно ледяное дыхание великанов. Я посмотрел на него. Он снова откинул голову на скалу, и на лице его читалось что-то похожее на покой – но скорее на смерть.
– Расскажите мне о правилах, – попросил я. – Ведь вы, наверное, знаете их все, раз это вы их открыли.
На это он чуть ли не рассердился и вскинул голову:
– Нет никаких правил. Только принципы и законы природы. Правила придумали Они. Теперь Они сами попались в ловушку собственных правил, но тебе в нее попадаться не обязательно. Держись снаружи. Если повезет, поймаешь Их на лазейке в Их же правилах.
– А как же правило, что никто не может помешать скитальцу?
У меня не шла из головы та история с мальчишкой и фургоном. От нее мне до сих пор было худо.
– Да, – ответил он. – Такое правило есть, верно?
После этого мы довольно долго молчали. Так бывает, когда тебе горько или холодно. Весь в это уходишь. Я до сих пор не понимаю, как он при всем при том остался человеком. Ну, разве что он и не был человеком. Наконец я все-таки поднял лицо, весь дрожа, и спросил, не хочет ли он еще попить.
Он глядел куда-то в туман – пристально глядел – и только слегка покачал головой.
– Спасибо, не сейчас. Мне кажется, скоро прилетит орел.
Не знаю почему, но я сразу понял намек. Наверное, в глубине души мне было интересно, откуда у него такая свежая рана. Я сам не заметил, как встал и посмотрел сначала на рану, потом ему в лицо – и мне стало нехорошо.
– Давайте я его отгоню!
– Нет, – сказал он очень сурово. – Такого неповиновения Они не потерпят, даже не пробуй. Почему ты не уходишь?
Я хотел сказать, что остаюсь – остаюсь хотя бы для того, чтобы держать его за руку, раз уж так, – но у меня подкосились ноги от ужаса. Я не мог выдавить ни слова.
– Ничего, – сказал он. – Ты тут ни при чем. Но прошу тебя, уходи. Он скоро будет здесь.
Я поднял голову и посмотрел туда, куда и он. И точно – в клубящемся тумане тенью проступили крылья огромной птицы. Она была совсем близко, широко взмахивала крыльями, и я видел ее клюв и лысую розовую голову. И все-таки решил остаться. Да, решил. Но я так испугался, когда птица подлетела совсем близко, что присел и шарахнулся в сторону, прикрыв голову рукой, споткнулся о якорь – и схватился другой рукой за цепь, чтобы не упасть.
Это было совсем не похоже на то, как тебя дергает, когда просто перетаскивает через Границу. Это было в десять раз резче. Цепи были такие холодные, что жгли огнем. Но я к ним почему-то не примерз, как обычно примерзаешь к металлу, – наоборот, они меня словно оттолкнули. Сначала я почувствовал, как что-то зашипело, а потом полетел куда-то вбок и все-таки упал – только падать пришлось гораздо выше, и рухнул я на твердую землю, устланную сухой травой.
И немного полежал там, оглушенный. И даже вроде бы поплакал. Мне было очень грустно. Я видел, что лежу в большом амбаре, славном и теплом, где уютно пахло сеном. С одного боку от меня высилась серая гора сена, огромная, почти до самых деревянных стропил. Мне даже стало обидно, что я промахнулся и приземлился на пол. Я лежал и смотрел на солнце, которое светило в амбар сквозь щели в крыше, и слушал, как скребутся где-то мыши или крысы, но потом мне стало не по себе. Что-то здесь было неладно. Это я знал точно. В этом амбаре должно было быть мирно и спокойно, но почему-то не было.
Я встал на колени и повернулся к двери. И застыл. Дверь была большим квадратом солнечного света. На ее фоне, но в тени, очень близко, до неприятного близко стоял кто-то в длинном сером плаще. У этого капюшон был поднят, но какая разница? Уж Их-то я узнаю где угодно. Сердце у меня екнуло.
– Встань, – сказал силуэт. – Подойди сюда.
Вот что странно: мне не обязательно было делать то, что он говорил. Я понимал, что не обязательно. Но так испугался, что не посмел ослушаться. Встал и подошел к нему. Поначалу мне казалось, что силуэт в плаще словно искрится на солнце, но когда я подошел поближе, оказалось, что он слегка колышется, как будто перед тем, как поглядеть на него, я долго тер глаза.
– Ты побывал в запретном месте, – сказал колышущийся силуэт.
– И что? – спросил я. – Я никому не подчиняюсь. Мне говорили это правило.
– Ты больше туда не попадешь, – был ответ, – если не хочешь разделить ту же участь.
– Я не обязан вас слушаться… – Помню, как начал это говорить, а потом все расплылось.
Я правда не помню, что было в следующую минуту. А часть того, что я запомнил, повисло у меня в голове среди полнейшей пустоты. Я забыл, кто я, почему я здесь и – главное, чего добивались Они, – где я только что побывал. К этому времени я, совсем оглушенный, забрел во двор. И первое, что я помню, – это как хозяин фермы вышел из коровника и увидел меня.
– Что это ты там делаешь, а? – заорал он на меня.
Он был огромный. Схватил палку, такую же огромную, и бросился на меня с ней.
Я пустился бежать. Все-таки меня не настолько оглушило. Я бежал, а в голове у меня все затекло, как затекает нога, если ее отсидишь, и я не понимал, что происходит и почему. Честное слово, больше никаких мыслей у меня не было и я ничегошеньки не помнил. Вокруг меня кудахтали, бегали и хлопали крыльями куры. За спиной у меня орал хозяин. А когда я подбежал к воротам фермы, рядом со мной оказался огромный пес – он выскочил из будки, натянув гремящую цепь, и едва не цапнул меня.
Гремящая цепь. Даже Они не все предусмотрели. Если бы Они сообразили заменить ее веревкой, я бы сейчас вам ничего не рассказывал. Я бы все забыл. С тех пор, стоит мне услышать, как гремит цепь, я сразу вспоминаю о нем, прикованном к скале.
Я пулей вылетел за ворота, и пес меня все-таки не укусил. Я мчался по грязной тропинке – теперь я хотя бы помнил о нем на скале. Топал вперед и думал, что это, наверное, мне примерещилось. В остальном в голове все было мутное, но потихонечку проступало и кололось – как в ноге после того, как ее отсидишь. Я уже говорил, что и до сих пор иногда думаю, что он мне просто привиделся, но я стараюсь этому не верить: ведь это Они хотели, чтобы я так думал. А он был настоящий. В тот момент в моей жизни не было ничего более настоящего. Память полностью вернулась ко мне только через несколько дней. Мне пришлось очень туго, потому что начинал я почти с нуля, как будто никогда не скитался. А мир был не из тех, где легко новичку, вот уж честное слово! Из-за Них я не увидел знак на Границе-амбаре, ну и пусть. И так знаю, что это был за знак. «НЕДРУЖЕСТВЕННАЯ ОБСТАНОВКА».
Потом я много скитался. Побывал в доброй сотне миров – и все шел и шел вперед. Вы себе не представляете, как при этом устаешь. Только устроишься, только заведешь себе знакомых и усвоишь местные обычаи, найдешь работу по силам или школу, куда тебя примут, если мир из таких, где строгие законы, – только чуть-чуть пообвыкнешься, как бац! Тебя опять тянет куда-то, опять одолевает тоска, и ты снова в пути. В конце концов уже и не стараешься пообвыкнуться – понимаешь, что все равно придется уходить.
По части осваиваться в новом мире я кого угодно за пояс заткну. Я этим даже гордился. Главное – не придавать ничему особого значения. Считать все шуткой. Я дошел до того, что мне было уже все равно, что я говорю, сколько ворую и какой грязной работой занимаюсь. Оказалось, что, если меня поддевают или обвиняют, лучший выход из положения – всех рассмешить. Этот прием не удался только один раз, когда меня пытался усыновить суровый старый священник. Его было ничем не рассмешить. И ничем не убедить, что я не собираюсь становиться священником, когда вырасту. Он все твердил, что спасет мою душу. Мне удалось удрать от него, только когда зов Границ стал таким сильным, что хоть криком кричи.
Конечно, освоиться в новом мире было бы проще всего, если бы я мог прямо сказать, что я граничный скиталец и как так вышло. Но оказалось, что это невозможно. Тебе не верят. В основном считают, что ты спятил. Или верят, что ты обречен на вечные скитания, но ни за что не поверят, что это не ограничивается их миром. И ничто на свете не заставит никого поверить в Них. Они за этим проследили. Стоит заговорить о Них, как тебя сразу перебивают и спрашивают, за какие грехи тебя прокляли. Когда говоришь о Них, все сразу решают, что ты точно великий грешник. А ты, чтобы им угодить, сам не замечаешь, как придумываешь себе подходящий грех. Такой оборот разговор принимал всего несколько раз, и я всегда говорил, что подсмотрел священные мистерии. В общем-то, так и было.
Я об этом особенно не распространялся. Как-то не решался. После того как Летучий Голландец наговорил мне всякого про «недозволенное», а потом Они сотворили такое с моей памятью, мне было страшно говорить об этом даже с другими скитальцами.
Со временем я повстречал довольно много других скитальцев. Когда походишь по Цепям достаточно долго, обнаруживаешь, что там даже многолюдно. Скитальцы всегда помогают друг другу. Это логично. Мы обычно общаемся друг с другом очень приветливо – быстро, весело и поверхностно. Рассказываем анекдоты из предыдущего мира и помогаем друг другу обжиться на новом месте, если случайно встречаемся у Границы. Но я никогда не видел смысла с ними откровенничать. Все равно мы больше не встретимся. И хотя люди мне попадались всевозможные – короли и королевы, жулики и художники, несколько актеров и одна двухметровая старушенция, которая сочиняла проповеди, – все они до единого были взрослые и все посматривали на меня свысока за то, что я еще мальчишка.
Ну и не важно. Потом все равно позовет Граница, и когда я дойду до нее с кем угодно, конец нашему знакомству. Дерг – и нас утянет по разным мирам. Похоже, это тоже было правило. Поначалу я не знал, что с одной Границы можно попасть в разные места, но так и есть. И так происходит всегда. Они постарались, чтобы скитальцы не могли познакомиться поближе. Ни за что. Так не годится.
Вы себе не представляете, как при этом одиноко. Иногда меня так припекало, что я не мог думать ни о чем, кроме Дома. Раз за разом прокручивал в памяти свои заурядные двенадцать лет, пока не вспомнил все даже лучше, чем когда там жил. Подолгу думал даже про наши с Робом ссоры и про то, как мы с Робом дразнили Эльзи. Дразнить Эльзи было одно удовольствие – она была рыжая и вспыльчивая. Помню, как она топала ногами и кричала: «Я лучше вас играю в футбол! Что, съели?!» Может, и правда. Она-то ни разу не попадала мячом в бадью со стиркой, не то что я. От этого у меня снова все холодело и чесалось, и я мечтал вернуться домой и снова играть в футбол в проулке. Я был уверен, что все там осталось по-прежнему, таким же, как я помню, и только и ждет, когда я вернусь. Я был уверен, что так должно быть. Ведь иначе я не остался бы мальчишкой.
Когда меня припекало по-настоящему, я невольно вспоминал и его на скале. От этого мне всегда становилось только горше. Ведь он там до сих пор. Я думаю, что никогда не ненавидел Их за себя так сильно, как за него.
Ладно, хватит. Я просто хотел сказать, что успел побывать в доброй сотне миров, пока со мной не случилось следующее важное событие. Я попал в огромный медленный цикл – начиная с того места, где я едва не потонул, туда и обратно. Если долго ходить в Цепях, начинаешь чувствовать, где ты уже бывал, по крайней мере, у меня так получалось. Вы себе не представляете, сколько разных миров я видел, сколько между ними удивительных отличий и сколько всего похожего – мне вот, например, не нравится, что они так похожи. Так что я превратился в бывалого и черствого скитальца. Мне казалось, я видел все.
А потом я встретил Хелен. Моего заклятого друга. Я повидал множество миров, но такой, как Хелен, не было нигде. Иногда я сомневался, что она вообще человек.
V
Все было как обычно. Я угодил в этот гадостный свинский мир. Хуже мне еще не попадалось. Там все было ужасно: погода, еда, местная живность, а уж люди – мало того что сами по себе сволочи, обычаи у них были еще того кошмарнее. Вы все поймете, если я скажу, что там ни у кого не было нормальных домов, все жили в крепостях, наполовину закопавшись под землю. А кто не в крепости, тот сразу вне закона. Те из Них, кто играл в этом мире, были настоящие свиньи.
Я там пробыл всего неделю. И еще никогда так не радовался зову. Со всех ног рванул под ледяным ливнем к ближайшей Границе.
Мне оставалось еще с полмили – я уже различал за пеленой дождя со снегом что-то похожее на Границу, – и тут дождь перестал. В первый раз за все время, которое я здесь пробыл, выглянуло солнце. И в считаные секунды стало жарко, как в печке. Вот ведь пакость, хотя чего еще ждать от этого свинского мира. Вместо пелены дождя возникла завеса пара. Будто горячий туман. Хуже того, грязь, по которой я шлепал, высохла, будто чернила на бумаге. Вся вода разом ушла из нее, и мне пришлось брести, увязая глубоко в песке. Я еле плелся. Сказал еще несколько скверных слов в придачу к тем, что твердил всю неделю. Граница звала меня очень сильно, и чем медленнее я шел, тем хуже мне становилось.
Потом пар осел – так же мгновенно, как высохла грязь. Теперь я топал через раскаленную добела пустыню. Солнце слепило так сильно, что я зажмурился изо всех сил и согнулся пополам. Скверные слова перешли в стон. От жары и яркого света стало аж больно.
Тут я услышал сзади хруст чьих-то торопливых шагов по песку. В этом мире никого к себе сзади не подпускают. Я развернулся, хотя был совершенно уверен, что это тоже скиталец, и попытался открыть глаза. Все было иссиня-яркое. Я видел только черный силуэт. Силуэт был размером примерно с меня и вроде бы стоял ко мне спиной. Я был настолько уверен, что он смотрит в другую сторону, что прямо вздрогнул, когда он сказал:
– Чего тормозишь? Ну-ка ноги в руки, и вперед!
И бодро прошагал мимо.
Я проводил его глазами – нет, на затылке у него лица тоже не было. Со всех сторон одинаковые черные волосы. Этот непонятно кто топал по песку так шустро, что мне стало стыдно. Ведь он был не крупнее меня.
Я заторопился следом, увязая в песке. Идти было очень трудно.
– На самом деле, когда зовут, можно и не торопиться, – пропыхтел я.
– А то я не знаю?! – рявкнул непонятно кто.
– Тогда зачем… а как ты вообще умудряешься так быстро идти по песку? – пропыхтел я. Ботинки у меня были уже доверху набиты песком.
– Мне не впервой! – опять рявкнул непонятно кто. – Я тут живу!
Потом остановился и подождал меня. Я брел вперед по скрипучему песку, переставляя ноги очень осторожно, и думал, что это запросто может оказаться никакой не скиталец, а если так, то в этом мире нужно глядеть в оба. И все же, все же – в общем, могу только сказать, что наметанным глазом скитальца сразу видно, и мне до сих пор думалось, что это скиталец.
– Я Харас-Уквара, – надменно сказала она, когда я поравнялся с ней. – На языке открытых времен меня зовут Хелен.
– А меня Джейми.
Я все пытался разглядеть ее под слепящим солнцем. И решил, что у нее, наверное, все-таки есть лицо спереди головы, как у всех. Я видел только острый коричневый кончик носа, торчавший из черных волос. Вот честное слово, волосы у нее со всех сторон свисали одинаково. Одета она была в черные штаны и черный свитер, на ногах у нее были черные башмаки на толстых пружинистых подошвах. Между тем люди из этого мира были, конечно, со странностями, но одевались в основном в броню, а волосы зачесывали назад, под шлем с особым зеркальным забралом, чтобы видеть, кто собирается напасть сзади. И говорили на сиплом тарабарском наречии. А она говорила со мной по-английски.
– Не может быть, чтобы ты была здешняя, – сказал я. – Ты говоришь по-английски.
– Еще бы, – ответила она. – Я же вижу, что ты чужестранец, вот и обращаюсь к тебе на языке открытых времен.
Когда она это сказала, мы уже топали к Границе. Все-таки, когда Граница зовет, понимаешь, что надо идти.
– Ты тоже граничный скиталец? – спросил я, топая по песку.
Кончик ее носа презрительно задрался.
– Это ты себя так называешь? Я – изгнанница по приговору Уст Уквара. Меня выставили из Дома Уквара и, понятное дело, побили камнями. Я очень зла.
Если просто побили камнями, это ей еще повезло, подумал я. Глаза у меня слезились на солнце, но я видел, что ее черная одежда вся в белесых пятнах от песка. В некоторых местах были прорехи, и там, где прорехи, у нее шла кровь. Похоже, она говорила правду.
– За что тебя выставили? – спросил я.
– Да из-за Них, – сказала она с глубокой ненавистью.
Я понял, что она говорит правду. О Них так станет говорить только тот, кто недавно попал в Цепи.
– Они не одобряют, когда о Них говорят, – сказал я.
– Дело не в том, что одобряют Они, а в том, что одобряю я, – сказала она. – Я Им не рабыня! Я добровольно удаляюсь в почетное изгнание! Ясно?
– За что? – спросил я.
– За то, что у меня дар! – И она зашагала вверх по склону к Границе.
Наверное, мне надо было отпустить ее. Держалась она не слишком приветливо. Но меня взбесило, что она шагает так быстро, а я еле плетусь, и я понимал, что стоит нам добраться до Границы, как нас раздернет по разным мирам и больше я ее никогда не увижу. Поэтому я топал изо всех сил и очутился на вершине холма одновременно с ней. Граница была маленькая. И – чего еще ждать от омерзительного мира Хелен – отмечена она была костями.
Это были просто великанские кости – ребра как остовы кораблей, берцовые кости как фонарные столбы. Три дня назад я повстречал одного зверя из тех, кому они могли принадлежать. Не знаю, может, это был и не дракон, но на вид сильно его напоминал и явно считал, что я вкусный. Я только тем и спасся, что забился в трубу на крепости. Вряд ли этот дракон изрыгал пламя, но трубу он потом нюхал добрый час, а я едва не поджарился от огня далеко внизу.
– В церковные праздники мы приносим сюда кость и растение, – пояснила Хелен.
Я только закряхтел, отодвинул ее и прошел в кольцо из костей. Белый песок внутри был весь исчерчен черными тенями костей. Я сразу заметил, что песок среди теней весь бурлит. Тогда я сразу остановился и притворился, будто вытряхиваю песок из башмаков. Нет, мне не померещилось, и это не от горячего воздуха там шла рябь. В кругу кишели змеи.
Хелен подошла ко мне. Я прямо чувствовал, как она презирает меня за трусость.
Она резко и громко хлопнула в ладоши:
– Брысь отсюда!
Песок среди теней словно вскипел и осел, и змеи исчезли. Я увидел, как они утекли прочь между костей за пределы круга, и сказал:
– Спасибо. Это и есть твой дар?
– О великий Уквар! Нет, конечно! Это же просто змеи! – ответила она.
– Знаю, – сказал я. – Не хотелось бы, чтобы меня ужалили.
– Они не жалят, они кусают, – бросила она. – Ну что, показать тебе мой дар?
– Если хочешь. – Я ступил в круг из костей и думал, что в следующую секунду окажусь неведомо где.
– Делаю тебе большое одолжение, – заявила она. – Гляди.
Когда кто-то говорит: «Гляди», то глядишь. Я поглядел, хотя Границы вовсю звали меня. Глаза у меня уже привыкли к ослепительному свету. Хелен закатала правый рукав черного свитера. Рука у нее была гораздо темнее моей, но в остальном самая обычная – с синяком в одном месте и расчесом в другом.
– Подумаешь, – сказал я. – У меня розовее, а так все то же самое.
Из-за завесы черных волос Хелен послышался смех. Рука посерела. Сначала пальцы, а потом рука посерела вся, и через каждый дюйм серой кожи залегла глубокая складка, и вот рука стала серая и складчатая до самого плеча. Кожа на ней сделалась вся толстая и сухая, и на ней отросло несколько длинных черных волосков. На месте ладони появился раздвоенный мясистый пятачок с двумя глубокими розовыми дырками. Серая рука взметнулась вверх и свилась кольцом. Мне стало ясно, что костей в ней больше нет.
Я сказал: «Эээургх!» – и попятился. Тут серая рука как метнется вперед – аж вдвое растянулась, вся выпрямилась, складки расправились – и обвилась вокруг моей шеи. Она была теплая и кожистая. «Прекрати!» – сказал я. Попятился еще, хотел отодрать теплую серую змею от шеи, но она была неимоверно сильная. Цеплялась и цеплялась. Хелен считала, что все это ах как смешно. Запрокинула голову, так что я едва не разглядел ее лицо под волосами, и все смеялась и смеялась надо мной и не отпускала. А я пятился и пятился, дергал за серую руку, и кричал Хелен, чтобы перестала, и тянул ее за собой, потому что она меня не отпускала.
Тут мы дошли до того места, где нас дернуло. И перешли Границу вместе. Я так удивился, что замолчал. Мы с Хелен оказались вдвоем под гораздо более тусклым солнцем, и мне на миг почудилось, что вокруг темно хоть глаз коли. Хелен тоже было мало что видно. Она подняла руку, немножко развела волосы спереди, и показался блестящий черный глаз. Она поглядела, как ее серая рука снова становится гладкой и коричневой, от плеча и вниз. Когда она стала исчезать, я понял, что это такое.
– Слоновий хобот! – проговорил я. – Как ты это делаешь?
– Такой у меня дар, – ответила она. – Могу – и все. Мы где?
– В другом мире, – сказал я.
Огляделся, пока вытряхивал песок из ботинок, и даже огорчился. Мы попали сюда ненадолго, а место оказалось очень приятное. Мы очутились на поляне в каком-то тропическом лесу. Все кругом было невероятно яркое и плодородное. На зеленых-зеленых деревьях висели гроздья плодов и вились лианы, покрытые белыми и голубыми цветами величиной с тарелку. А если бы я явился туда прямиком из пустыни в мире Хелен, то яркое солнце показалось бы мне ослепительным. Это было такое солнце, от которого проявляются все краски и ароматы. Пахло вокруг чудесно. Было очень тихо, только раз-другой мирно прошелестела листва. Я решил, что это белки или обезьяны. Птичьего пения слышно не было, но после мира Хелен таким вещам не придаешь особого значения.
– Это джунгли, – сказал я Хелен.
– Сама вижу, – отозвалась она. – Что будем делать? Попробуем эти плоды?
– Лучше не пытаться, – сказал я.
Из черных волос высунулся кончик носа и надменно нацелился на меня.
– Мы не можем умереть. Мне говорили.
– Везучая. Мне говорили гораздо меньше, чем тебе, – сказал я. – Но я несколько раз съедал что-то не то и потом крепко жалел, что не могу умереть, так что приучился к осторожности.
– Тогда скажи, что нам делать! – заявил надменный кончик носа.
К этому времени я сильно разозлился. Нельзя же быть такой зазнайкой! Кто она такая – совсем новенькая в Цепях, – чтобы так себя вести и еще проделывать со мной свои глупые фокусы? Я вдесятеро опытнее. Поэтому я решил ее проучить.
– Лучше всего, – снисходительно начал я, – ничего не есть, пока не посмотришь, что едят туземцы. Мы здесь все равно ненадолго…
– Сама знаю! – оборвала меня она.
– …Поэтому можно вообще не есть, – договорил я. Я был в бешенстве. – Да, скоро ты поймешь, что сразу чувствуешь, сколько где пробудешь. Молодец, быстро все схватываешь. Теперь надо пойти поискать, какие знаки нам оставили другие скитальцы. Вон там какая-то тропинка. Знаки должны быть на дереве рядом.
Я величественно подвел ее туда, где кусты на краю полянки словно бы расступались. Многозначительно огляделся. Знак и правда был. Он был вырезан на стволе дерева, похожего на великанский папоротник. И надо же было такому случиться, что я видел этот знак впервые в жизни.
– Вот он. – Я показал на знак, лихорадочно соображая, что сказать дальше. – То есть это очень редкий знак. Да.
Нос Хелен задрался в сторону ствола.
– А что это значит, ты не знаешь.
– А вот и знаю, – возразил я. – «ОЧЕНЬ ПРИЯТНЫЙ МИР». Такие редко попадаются.
– Да, – сказала она. – Ну и что тогда?
– Пойдем поищем туземцев, – сказал я. – Только осторожно, не спугни. Я думаю, в таком месте должны обитать первобытные племена.
Мы двинулись по тропе. Это был словно зеленый туннель, над головой свисали плоды и крупные цветы, и мы задевали их головами.
– А если эти твои туземцы говорят на другом языке? Тогда что нам делать? – спросила Хелен.
– Учить его, – мрачно ответил я. – Не волнуйся. Я уже знаю несколько сотен языков. И они почти все похожи друг на дружку. Помалкивай, предоставь мне переговоры, и все будет хорошо.
Мы прошли еще немного, и тут Хелен вдруг решила покапать мне на мозги.
– А эти вот знаки, которые вы, люди с дурацким названием, оставляете друг дружке, – какие встречаются чаще всего?
– В основном предостережения, – ответил я. – Например, «РАБОТОРГОВЦЫ», «ПОЛИЦИЯ БЕРЕТ ВЗЯТКИ», «НЕ ОСКОРБЛЯЙТЕ ЧУВСТВА ЖРЕЦОВ» или «НЕДРУЖЕСТВЕННАЯ ОБСТАНОВКА». Твой мир был помечен «ТЬФУ!» – по-моему, очень емко.
– А вот грубить незачем, – заявила она. – Это мой Дом. И я вернусь туда очень скоро, вот увидишь.
Я только улыбнулся. Я и сам так когда-то думал.
– А какой самый редкий знак? – спросила Хелен. – Тот, который мы видели?
Я решил, что, наверное, да, раз я никогда раньше его не встречал, но ответил, чтобы показаться умным:
– Не совсем. Мне говорили, что самый редкий знак – «ЗДЕСЬ МОЖНО РАССКАЗЫВАТЬ, ЧТО ТЫ СКИТАЛЕЦ».
– Почему? – спросила она.
– Потому что нигде нельзя, – сказал я. – Они следят, чтобы тебе никто не поверил.
– Выходит, такого знака не бывает! – презрительно бросила она.
– Нет, бывает! Он был у меня в списке! Где-то он наверняка есть!
– Ой, ну конечно, – жалостливо протянула Хелен. Такая вот она. Только что говорит одно и тут же сама себе противоречит, а получается, что это ты ляпнул чушь. – В открытых временах воплощены все вероятности, поэтому наверняка есть портал, за которым тебе позволено признаться, что тебя изгнали. Типичная логика Уквара…
– Что ты такое несешь? – спросил я.
Она меня не слушала:
– Уквар – чистой воды обманка! По-моему, его просто нет!
– Да кто это такой? – начал было я, но тут мы вышли на опушку джунглей, где тоже росли кусты.
В кустах рядом с тропинкой стоял человек, кланялся нам и улыбался. Вполне цивилизованно. Он был чисто выбрит, в опрятной беленой рубашке и штанах, и улыбка у него была учтивая – светская такая улыбка. Он был до того безобидный с виду, что я обернулся к Хелен и надменно бросил:
– Предоставь все мне.
И поклонился человеку в белом:
– Добрый вечер, друг мой.
Он затянул на языке, которого я раньше не слышал:
– Оомера-вуумера-вуумера.
Наверное, лицо у меня сделалось очень смешное. Из-за волос Хелен послышалось фырканье.
– Ничего страшного, – заверил я ее. – Объяснимся знаками.
Человек в белом стал объясняться знаками. Он поклонился и протянул руку. Это он говорил: «Не соблаговолите ли пройти сюда, сударь?» – ни дать ни взять официант в ресторане, где я как-то работал. Поэтому я кивнул, а Хелен дернула головой. Она всегда чуть дергала головой в сторону, когда кивала, будто на самом деле имела в виду «нет». К такому с первого раза не привыкнешь. Но человек в белом нас, видимо, понял. Он был очень доволен. Вежливо провел нас по дороге через поля. В полях работали другие опрятно одетые мужчины и несколько мальчиков, все с длинными тяпками, и при виде нас они положили тяпки и заторопились следом за нами, тоже улыбаясь и журча «Оомера-вуумера-вуумера». Как будто мы были особы королевской крови, только обращались с нами гораздо теплее. Я огляделся – и увидел, что из джунглей высыпала целая толпа опрятных людей и тоже бросилась за нами с радостными криками «Оомера-вуумера!».
Мы прошли поля и очутились в деревне. Деревня тоже была опрятная и цивилизованная. Домики были все квадратные и беленые, украшенные спереди нарядными шпалерами с цветами, у опрятно выкрашенных дверей стояли блестящие медные горшки. Домики с трех сторон окружали площадь, а за площадью стояло беленое здание побольше, и шпалеры на нем были повыше: видимо, деревенский совет. Нас провели к этому зданию через площадь, и еще нигде меня не встречали так приветливо. Здесь к толпе присоединились девочки и женщины, они сияли улыбками и гремели бирюзовыми бусами, которые в изобилии носили поверх длинных белых платьев. Они были очень непосредственные, здешние женщины. Одна подбежала к Хелен, протянула к ней руки, воркуя «Оомера-вуумера», и хотела отвести волосы от ее лица.
Я мало что разглядел, но выражение той части лица Хелен, которую я увидел, явно говорило о желании укусить эту женщину. Хелен отпрыгнула от нее с криком: «Не смей!»
Я побывал во множестве миров, где принято прятать лица. Не знаю, почему Хелен прятала свое, может, так принято у этих Харас-Уквара, и хотя раньше мне такой метод нигде не встречался, я считаю, что обычаи надо уважать.
– Оомера-вуумера, – сказал я удивленной женщине. – Не надо так делать. Ее лик священен.
Женщина кивнула и попятилась, жестами показывая: «Ах, простите».
Я подумал, что Хелен должна была сказать мне спасибо, но она заявила:
– А тебе нечего было грубить!
После этого она была в очень дурном настроении – если, конечно, можно так выразиться, потому что в хорошем настроении она и раньше не была. Нас привели в здание совета, усадили там на груду подушек у стены и закатили пир. Принимали как почетных гостей и даже слишком. Стоило мне взглянуть на очередное блюдо, как мне тут же наваливали целую гору в медный горшок, какие тут давали вместо тарелок. Все улыбались, восклицали, оомерили-вуумерили, кивали и несли угощение – дымящиеся медные ведра фасолевого супа, горы риса, какие-то кусочки, завернутые в листья и политые сверху острым соусом, блины, булки, аппетитные пироги с фруктами. И двадцать видов салата. И горы всех плодов, которые я видел в джунглях. И все было очень вкусное. Единственный недостаток – еда была вегетарианская. А я бы с удовольствием поел мяса.
Хелен почти ни к чему не притронулась. Она сидела, свесив голову, так что даже кончик носа скрылся, и вела себя так, словно лик у нее был до того священен, что даже еду в рот класть нельзя. Возможно, это до нее наконец дошло, каково на самом деле быть скитальцем, но точно не знаю. Мне не никогда не удавалось угадать, о чем думает Хелен.
– Ешь, – сказал я. – Ты их обижаешь. Ты почетная гостья.
– Ешь за меня, – буркнула она. – От пуза. Я не хочу. Мне здесь не нравится. Я хочу Домой.
Я и ел – за двоих. Через некоторое время еду убрали и принесли горячее питье. Я был рад. К этому времени я так наелся, что стало даже нехорошо.
Так что можете себе представить мою досаду, когда после питья снова появились медные горшки – и пир повторился. На этот раз принесли кучу всего на палочках, только овощи, кукурузу в початках и все такое прочее. Горы. И мне нужно было все попробовать. Они настаивали. Вот что самое плохое, когда не знаешь обычаев. Не понимаешь, какой взять темп. Я уже и так переел.
– Помню, мама говорила, что такое есть за двоих, когда должна была родиться моя сестра Эльзи, – сказал я Хелен. – Не знал, что это такая трудная работа!
– Ты жрешь, как свинья на откорм! – отозвался голос из-под волос.
– Вот и нет! Я просто вежливый! – возмутился я.
Потом еду на палочках унесли и принесли пирожные. Горы пирожных. Я уже едва не лопался. Но упорно ел. Обычаи надо уважать. Никакого удовольствия мне это не приносило. Я боялся, что меня сейчас вырвет. Пришлось отказаться от двух видов рисового пудинга. В жизни так не радовался концу обеда, как в тот раз. Все наконец встали. Я тоже встал, чувствуя себя огромной пухлой подушкой с ручками и ножками по углам. Едва дошел туда, где нас уложили спать. Это была маленькая квадратная комнатка в задней части здания с горой подушек, почти таких же пухлых, как я. Хозяева закрыли дверь и ушли, а я остался стоять. Я не мог ни сесть, ни даже пошевелиться, так я объелся.
Внутри было темно. Свет давал только маленький синий светильник под потолком. Хелен топала у меня за спиной, но я не видел, что она делает, потому что боялся даже повернуться. Наконец она подошла и грациозно уселась на подушки туда, где мне было ее видно.
– Отлично, – процедила она. – Отлично!
Подняла руки, разделила волосы там, где виднелся наружу кончик носа, и заложила за уши. У меня мелькнула мысль, что теперь ей можно открыть лицо, потому что тут темно, но мне было все равно. Я мог думать только о переполненном желудке. Священный лик оказался свирепым острым личиком с круглыми блестящими черными глазами – точь-в-точь проницательные пуговицы.
– Ну и влипли мы из-за тебя! – заявила она. – Дверь заперта. Что бишь там, по-твоему, означает та закорючка на дереве?
Я не мог говорить. Внутри все вздымалось.
– А я тебе скажу, – продолжала Хелен. – Это пришло мне в голову, когда я сказала, что ты жрешь, как свинья на откорм. И я сразу поняла. Этот знак означает «ЛЮДОЕДЫ». Неужели ты не заметил, что здесь нет никакой живности, даже кур?
Оказалось, что внутри меня вздымалась мощная отрыжка. Я дал ей волю. Она была двойная. Какое облегчение! Теперь я хоть говорить мог.
– Они вегетарианцы.
– Это когда им мяса не раздобыть, – сказала Хелен. – Когда к ним путники не забредают. Мы – мясо. Завтра будет пир еще роскошнее, зуб даю. Пирожки с мясом, фрикадельки, жареное мясо, жаркое и биточки.
– Да замолчи ты! – Внутри у меня все по-прежнему было на грани взрыва. – Скитальцы не умирают. Сама знаешь.
– В таком случае каково это будет – жить внутри целой деревни? – спросила Хелен.
– Да замолчи! Я думаю, они даже убить нас не смогут. Есть такое правило, что с теми, кто пытается навредить скитальцам, происходят ужасные несчастья. Правило номер два.
– А оно нам поможет, – задумчиво проговорила Хелен, – если они решат отъедать зараз по руке или ноге?
– Да когда же ты уймешься? Меня от тебя тошнит, а с этим у меня сейчас все прекрасно и без твоей помощи! Неправда это все. Ты выдумываешь.
– А чего ты тогда такой злобный? – спросила она.
Тут она меня поймала. Пришлось это признать. Я думал, что она права. Ведь в том, как туземцы нам обрадовались, и в самом деле была какая-то жуть. А теперь еще и дверь заперли.
– Ладно, – сказал я. – Извини. Я понятия не имею, что это был за знак. Я раньше такого не видел.
– Вот что меня злит, – сказала она. – Я боялась, что ты дурак, а теперь точно знаю. Знала бы – не взяла бы тебя с собой. Одной было бы проще.
От этого у меня перехватило дыхание. Какая наглость! Какая беспардонная наглость!
– Так ты меня просто используешь! – зарычал я. – Ты, со своим хоботом!..
– Ну да, – преспокойно ответила она. – Я решила посмотреть, как все устроено. Я знаю, что порталы ведут в разные стороны и люди разлетаются прочь друг от друга. То есть меня заставили заучить эти слова, но ты же сам понимаешь, что никакой это не полет. Скорее нас тянет рывком. Я и подумала, что если два человека будут держаться друг за друга, то их и перетянет вместе – скорее всего. Поэтому, как только я тебя увидела, то решила держаться за тебя. Я сразу поняла, что ты не из нашего мира, значит у тебя есть какой-то опыт жизни в изгнании. Я решила, что ты будешь для меня проводником-туземцем. А ты вместо этого устроил так, что теперь нас обоих съедят. Теперь я жалею, что не отпустила тебя одного.
– Честное слово, я еще никогда не попадал в такую передрягу. Ни разу, – сказал я. – А откуда ты знаешь так много о Цепях?
– Меня вырастили в Доме Уквара, – ответила Хелен. – Потому что у меня дар. Я тебе говорила. Когда я подросла, мой зарок был обойти пешком весь мир. А теперь с этим придется подождать, пока я не сумею вернуться. А все Они! Обязательно придумаю, как поквитаться с Ними за это!
– Не надо так о Них говорить, – испугался я. – Я думаю, Они все знают.
– Не сомневаюсь! – сказала Хелен. – Пусть слушают на здоровье, если хотят. Я намерена поговорить о Них. Если тебе страшно, заткни уши, но я все равно тебе расскажу.
И рассказала. После того как она посоветовала заткнуть уши, я не сделал бы этого даже под угрозой смерти, и вообще мне было очень интересно. Да и живот у меня сразу немножко сдулся. Я сел на подушки напротив Хелен, и мы проговорили полночи.
VI
От рождения у Хелен на месте правой руки была ссохшаяся культяпка. Ее мать очень горевала, потому что в их мире ты без двух рук, считай, не жилец. По своему опыту могу сказать, что даже если бы у тебя была дополнительная пара, все равно еле-еле хватило бы, чтобы отбиться. Там каждый – и каждая – сам за себя. Жизнь – постоянные ловушки и засады. Еду не покупаешь, а воруешь, а потом по дороге домой тебя грабят и отбирают награбленное. И в придачу еще и драконоподобные ящеры, змеи, тигры и громадные хищные птицы, готовые заклевать тебя до смерти.
Поэтому папаша Хелен решил вышвырнуть ее из крепости. Новорожденный младенец не прожил бы за стеной и пяти минут, но папаша говорил, что так милосерднее всего. Мама Хелен плакала, кричала, умоляла и все-таки уговорила мужа оставить Хелен на испытательный срок в полгода. И вот когда Хелен было месяца четыре – а в этом возрасте дети начинают поднимать руки и рассматривать их и лепетать «гу-гу» при виде пальчиков, – Хелен поднимала только левую руку, другой-то у нее не было. И очень серьезно на нее глядела. Потом она очень серьезно и пристально глядела на руки матери, когда та играла с ней в пальчики. А однажды мать приходит – а у Хелен отросла правая рука, почти как у нормального ребенка, только, поскольку Хелен не с чем было сравнивать, она напутала с ладонью. Вторая ладонь тоже была левая, с большим пальцем на месте мизинца. Мама Хелен решила, что ей все это снится, и никому ничего не сказала, потому что оставалось еще два месяца. Но к полугоду Хелен уже исправила ладонь, и у нее стало две отличные руки, как у всех детей.
Отец Хелен затаил на нее обиду за то, что из-за нее он оказался не прав. Такие уж они, обитатели ее мира. В отместку он отправил вооруженного гонца в Дом Уквара, чтобы уточнить, естественно ли это или ему полагается тут же убить Хелен, раз она, так сказать, отбилась от рук?
Насколько я понял, Дом Уквара – это что-то вроде помеси храма и университета со ставкой верховного командования. Это единственное место в мире, где никто не смеет никого грабить. И к тому же очень уважаемое, поскольку – я так понял – Уквар был чем-то вроде бога. Там все очень разволновались и отправили вооруженную до зубов колонну, чтобы взглянуть на Хелен. Хелен сказала, что помнит это, хотя была совсем крохой. Она помнила, как Перст Уквара тыкал ей в правую руку какой-то палочкой – и все тыкал и тыкал, и в конце концов она разозлилась и превратила руку в палку и ткнула в него. Это произвело на всех сильнейшее впечатление.
– Он сказал, что это никакое не уродство, а долгожданное воплощение Десницы Уквара, – рассказывала Хелен. – Они мечтали о нем столетиями. Сказали, что когда я вырасту, то смогу захватить весь мир и вернуть открытые времена, поскольку таково пророчество. И еще сказали, что когда мне исполнится пять лет, меня нужно отдать в Дом Уквара на воспитание, и тогда я буду зваться Харас-Уквара.
Отец Хелен дождаться не мог, когда можно будет сбыть ее с рук. Он был очень недоволен, когда узнал, что ее придется держать у себя еще четыре с половиной года, и постоянно твердил ей, что ее рука на самом деле уродство, а эти из Дома Уквара пусть говорят что хотят. Когда настала пора отдавать ее в Дом Уквара, он отправил ее почти без охраны.
– Конечно, он был прав, – сказала Хелен. – Это и правда уродство, хоть я и зову его даром. Дорогу в Дом Уквара я помню плохо. По-моему, ничего особенного не случилось. Я прибыла в Дом Уквара целой и невредимой.
В Доме Уквара ее очень многому научили. Из ее слов я заключил, что мир Хелен не всегда был таким кошмарным. Когда-то там, по выражению местных историков, были «открытые времена», после которых осталось очень много знаний, и все были уверены, что открытые времена вернутся, когда Хелен вырастет. В те времена все было гораздо спокойнее, включая погоду, и ее народ открыл очень много всего, чего в большинстве других миров не знают до сих пор. Они выяснили про систему миров и про Границы и Цепи. Когда все стало стремительно ухудшаться, они выстроили Дом Уквара как огромную крепость, чтобы хранить знания. И считают, что, когда вернутся открытые времена, ходить через Границы сможет кто угодно, а не только скитальцы. Именно поэтому Хелен научили говорить на языке, который я называю английским.
Может, в этом и был свой смысл. На английском и правда говорит очень много народу во многих мирах. Но в Доме Уквара было известно, что есть и другие языки. Хелен знала еще целую кучу. Говорила мне что-то на них. Почти все были из тех, которые мне пришлось выучить по пути. Ну и дураком я себя чувствовал! К этому времени я перестал понимать, с чего она взяла, будто я ей нужен как проводник-туземец.
– Нужен, конечно, – сказала она. – Все мои знания – чистая теория. А ты все испытал на себе.
– Теория – это не так уж плохо, – ответил я. – Я вот не знал, что два человека могут попасть через Границу в одно и то же место. Думал, есть такое правило, что нельзя.
Пока Хелен говорила, лицо ей опять занавесили волосы. При этих моих словах она сердито вскинула голову, и снова стал виден нос и два пуговичных глаза.
– Нет никаких правил, – сказала она. – Только принципы и законы природы.
– Кто тебе это сказал? – Я чуть не подскочил. То же самое говорил мне он – тот, прикованный к скале.
– Мне все время это говорили в Доме Уквара. – Волосы Хелен снова упали ей на лицо, будто окно задернули двумя занавесками. – Это основной принцип. А кто-то, наверняка Они, только притворяется, будто есть правила.
Чудо, что я не проболтался ей о нем и о его скале. Просто сказочное везение, хотя тогда я об этом не догадывался. Из-за того, что сказала Хелен, я только и думал, что о нем и о том, каким я видел его в последний миг, когда он смотрел на огромную птицу так, словно боялся ее. И я вспомнил, как он говорил, что собирался рассказать человечеству, как устроены миры. У меня возникло сильнейшее подозрение, что он успел начать свою работу и рассказал, что знал, обитателям мира Хелен, но тут Они его поймали.
Я не спросил о нем о Хелен только из-за ее треклятых волос. Они меня к этому времени уже бесили.
– А зачем ты прячешь лицо в волосах? – спросил я. – Это потому, что ты Харас-Уквара?
Повисло неприятное молчание. Потом Хелен процедила:
– Не твое дело. Мне так нравится.
Больше я так и не смог ничего из нее вытянуть про волосы. Не исключено, что она сказала правду.
После этого я долго не мог вернуть ее расположение, но я уж постарался. Мне еще многое хотелось узнать.
– Давай-ка вернемся к законам природы и прочему, – сказал я, потратив битых полчаса на то, чтобы ее улестить. – По-моему, я неправильно представлял себе устройство Границ и Цепей. – И я рассказал ей, как поначалу попался в замкнутый круг миров. – Я проходил одни и те же миры в одном и том же порядке. И еще: к каждой Границе выходит только три Цепи. В конце концов я заметил, что попадаю в большинство миров через какой-то из трех входов.
– Наверное, тебе крупно не повезло, – сказала Хелен. – Порталы, ну, Границы, бывают разные, как и миры. Видимо, тебя затянуло в тройную Цепь. Это самая маленькая разновидность. Если бы по этим порталам вас ходило четверо, было бы всего три способа их пройти, и тогда двоих из вас отправило бы в один и тот же мир.
– Была бы компания, и то хлеб, – сказал я. – Значит, ты можешь подсчитать, какого размера Граница, по количеству выходящих на нее Цепей?
– Нет, – сказала Хелен. – Бывают только тройные, а еще повсеместные порталы – по ним можно попасть куда угодно, и линии от них ведут по всем направлениям.
– Ты имеешь в виду рандомы? – спросил я.
– Не знаю, – ответила Хелен. – У вас все как-то иначе называется.
– Эти названия знают все граничные скитальцы, – сказал я. – Но по-моему, никто из нас не понимает, как устроена система миров.
– Давай я расскажу тебе, как меня учили, – предложила Хелен.
Лицо у нее снова высунулось из-за завесы волос. Я решил, что это добрый знак. На самом деле нет, то есть не обязательно. Иногда она убирает волосы, чтобы атаковать тебя по всем фронтам. Но в тот раз это был признак мирных намерений.
– Ты сидишь в комнате со стеклянными стенами, – начала она. – Кругом одни стекла, но темно. Теперь зажги в стеклянной комнате свет. Тут же со всех сторон от тебя появятся отражения, бесконечно уходящие вдаль, и твоя стеклянная комната повторяется в них много-много раз. В каком-то смысле так и с мирами. Но не совсем, потому что тебе надо вообразить во всех отражениях своей стеклянной комнаты других людей, и в некоторых отражениях независимо от тебя кто-то зажигает свет, и ты видишь не только свет у себя в комнате, но и отражения всех других светильников, и внутри и снаружи, много-много раз. И вот перед тобой уже много миллиардов стеклянных комнат, и все они освещены и перекрываются, и ты не знаешь, какие из них настоящие, а какие только отражения. Вот так и миры. Только все это настоящее – и свет, и отражения. И мы переходим из одного мира в другой, будто свет.
Хелен умолкла и ненадолго задумалась:
– Только в наши дни сквозь стекло никому не пройти. Мне предложили два варианта, почему это так. Первый – когда ты сидишь в своей стеклянной комнате посреди всех этих огней, ты знаешь, что все это реально. Так что это для тебя Реальное Место. А второе объяснение – что посреди бесчисленного множества миров есть настоящее Реальное Место, а настоящее оно потому, что Уквар знает, что оно реальное. Мне сказали, что Реальное Место – это где живет Уквар.
Она снова умолкла. И вдруг пришла в форменное неистовство.
– Не верю я в это Реальное Место! И в Уквара я больше не верю! Все говорят только про Уквара, а про Них – ни слова! По-моему, Они все эти годы притворялись Укваром и всех обманули! Но я Их видела. Видела, что Они делают. Больше Они меня не обманут! Они почти что спрятались за отражениями Дома Уквара и других миров, так что вокруг Них все было мутное и белесое, но я Их видела. И сразу все поняла. И очень сильно разозлилась!
Она еще немного побушевала. Как я понял из ее слов, случилось вот что: Хелен послали за какой-то ее учительницей в Дом Уквара, а когда она пришла, учительница была занята. Хелен не из тех, кто любит сидеть сложа руки и ждать. Она рассердилась, пошла бродить и попала в какую-то часть Дома Уквара, где никогда раньше не бывала. По ее словам, это был огромный зал. И там она увидела какой-то угол, видимо, святилище, где стена вдруг превратилась в огромное затуманенное окно. А за окном Хелен разглядела Их и как Они работают на своих машинах. А поскольку она была Хелен, то подошла и прижала свой острый нос к окну и раздвинула волосы, чтобы лучше видеть. Они повернулись и посмотрели на нее, но Хелен ничуть не испугалась. И смотрела сквозь отражения, пока не поняла, чем Они заняты.
– Я так разозлилась! – рассказывала она. – Они расстелили карту нашего мира на столе и двигали по ней людей, играли нами в какую-то игру! Их было семь или восемь, а то и больше, и Они играли нами, будто фишками!
– Семь? Восемь? У меня было только двое, – сказал я.
– Есть же всякие игры – настольные или там карточные, – сказала Хелен. – В некоторые можно играть хоть вдесятером. И вот в такую игру Они с нами и играли! И я разозлилась, потому что поняла, что это Они насылают на нас наводнения и динозавров, и устраивают пустыни, и превращают нас в разбойников ради собственного удовольствия!
Когда учительница Хелен разыскала ее, то, видимо, решила, будто Хелен сердито тычет пальцем в глухую стену. По словам Хелен получалось, что никто из ее учителей Их не видел. Учителя не понимали, что с ней, и беспокоились.
Почти сразу после этого Хелен притащили к Персту Уквара. А он и говорит:
– Дорогая моя, тебе настала пора перейти ко второй части обучения. Теперь ты должна отправиться в изгнание и пройти по порталам через миры, пока не узнаешь столько, чтобы искупить свой грех.
Похоже, он был очень огорчен таким поворотом.
– В чем дело? – спросила Хелен. – Что за грех?
– Поругание священного имени Уквара, – ответил он.
– А, это да, – сказала Хелен. – По-моему, Уквара не существует.
– Да нет же, нет! – воскликнул Перст. – Ты называла свою руку, свой дар, уродством.
– Да, называла, – сказала Хелен. – Но ведь вы не поэтому отправляете меня в ссылку, правда? Когда Они позволят мне вернуться?
– Рано или поздно ты окажешься Дома, – сказал Перст, – и это будет знамением, что твой грех искуплен.
Потом он рассказал ей, чего ожидать от Границ, то есть от порталов, как они их называли. Они там очень много знали.
– А тогда я сказала ему прямо в глаза, что очень рада, что уйду. Уж лучше быть изгнанницей, чем пешкой в игре, в которую играют Они. Но он меня не слушал.
– Никто не слушает, – сказал я. – А меня изгнали совсем по-другому. Это сделали Они сами, сказали, сбрасывают меня в Цепи, потому что я рандом, то есть случайная помеха.
– Так гораздо больше похоже на игру, – заметила Хелен. – Но когда я отомщу Им, они у меня увидят, что это им не игра. Я не позволю, чтобы с моим миром так обращались!
Она все бушевала, когда я уснул. Наверное, в конце концов она тоже уснула. Но на рассвете мы вскочили как укушенные. Граница звала. Это было ужасно. Мы вскочили и навалились на дверь, но она была крепко заперта и даже не дрогнула.
– Что же нам делать? – проговорила Хелен. По-моему, я ни до, ни после не видел, чтобы она была так близка к панике. – А что бывает, если не успеешь на Границу?
– Понятия не имею, – ответил я. – Я же тебе говорил – я еще ни разу не попадал в такую передрягу!
– А все ты виноват! – сказала она, отошла и села.
Делать и в самом деле было нечего, тут не поспоришь, но сесть я не мог. Зов был очень силен. Я стоял, прислонясь к двери, и чувствовал, как меня тянет за нее, а кроме того, хотите верьте, хотите нет, я ужасно проголодался. Чем больше ешь на ночь, тем голоднее ты наутро. Из-за зова Границы и лютого голода я чуть с ума не сошел.
Прошло битых два часа, прежде чем дверь открылась. Я тут же вывалился за нее спиной вперед. Те, кто стоял за дверью, подхватили меня и крепко вцепились, а еще несколько человек хотели войти в комнату и схватить Хелен. Но они тут же остановились и попятились. Я обернулся посмотреть, в чем дело.
Хелен была вся покрыта пауками. Наверное, полночи их собирала. Прямо не Хелен, а копошащаяся серая куча из длинных паучьих лап и коротких паучьих лапок и круглых паучьих телец всех оттенков от грязно-белого до черного. Вдобавок от макушки к плечам у нее тянулась паутина. Хелен встала, и все женщины, которые пришли за ней, тут же отпрянули. Это была просто жуть. Но Хелен сказала: «А теперь лучше уходите» (это она паукам). И они ушли – совсем как змеи тогда на Границе. Они побежали с нее со всех сторон и врассыпную бросились прочь по полу целыми толпами. Женщины аж повизгивали, туго обернув длинные юбки вокруг ног.
– Дурочки, – сказала им Хелен. – Пауки не кусаются.
А потом дала себя увести. Мы ведь ничего не могли поделать. За нами пришла почти вся деревня. И Хелен оказалась права. Теперь уже никто не улыбался и не кивал. Все вели себя очень деловито.
Что делали с Хелен, я не знаю. Мои отвели меня в какую-то комнату вроде ванной, где заставили как следует помыться. Верно, они любили, чтобы мясо было гигиеничное. Потом мне дали чистую беленую рубаху, такую же, как у них у всех. Я не стал возражать. Пока я был в мире Хелен, одежда у меня совсем истрепалась.
Все это время меня звала Граница – сильнее с каждой минутой. В результате я то и дело пытался удрать. Шарахался в стороны раз за разом, а все без толку. Впал в такое отчаяние, что мне стало все равно, настигнет ли их Правило номер два за то, что мешают мне. И каждый раз они меня хватали, крепко и деловито, как будто им было не впервой. Когда они схватили меня в последний раз, то вывели из здания совета и повели через площадь к джунглям. Мне даже стало немного легче. Граница звала меня именно оттуда. Оставалось решить две задачи: раздобыть поесть и самому не пойти на корм. Ну и, разумеется, узнать, что там с Хелен.
За Хелен можно было не волноваться. Мы толпой прошли по тропе через джунгли на ту самую полянку, где была Граница, и там нас нагнали женщины, тащившие Хелен. Я так и не узнал, что у них там было, но сомневаюсь, что они сумели искупать ее. Заставить ее переодеться они точно не смогли. Она была все в том же грязном черном наряде. И вид у Хелен был все тот же – как будто у нее не было лица. А еще вокруг плеч у нее обвилась огромная змея, которая шипела и грозно бросалась на окружающих. Поэтому все держались на почтительном расстоянии. Я сначала подумал, что змея – это очередной фокус Хелен с ее рукой. Оказалось, нет. Змея была настоящая.
Потом некоторое время нам было очень скверно. На самом краю поляны нас окружили, а мы с Хелен при этом просто рвались на Границу, которая была по центру. Но нас не отпускали от шеста, вкопанного рядом с деревьями. Я в жизни не видел такой мерзости, как этот шест. Верхушка у него была покрыта резьбой и раскрашена, так что получилось много злобных мелких личиков. Все они грызли друг друга. По лицам и вниз по шесту стекала нарисованная кровь. У подножия шеста стоял тот самый приветливый, цивилизованный человек, который поджидал нас у кустов накануне. Теперь его нельзя уже было назвать приветливым. Он был довольный. Стоял там, голый по пояс, а в поднятой руке держал красивый острый медный топорик.
– Может, еще и обойдется, – сказал я Хелен, сам не веря своим словам. – Если он бросится на нас с этим тесаком, с ним случится что-то плохое.
– Ага, – отозвалась Хелен. – Только к этому времени он уже разрубит нас напополам. Держи меня за руку, а когда я скомандую, беги.
Мне не очень хотелось приближаться к ее змее, но я подошел и взял ее за левую руку. Змея выбросила в мою сторону язык, но в остальном не обращала на меня внимания. Хелен правой рукой убрала волосы с лица и долго и пристально глядела на гнусный шест. Потом подняла правую руку и превратила ее в палку с такой же резьбой, как на шесте. Только у нее резьба была живая.
На каждом пальце, как почки, набухли и проклюнулись маленькие злобные головки, а проклюнувшись, они извернулись и вцепились зубами в соседок. Из ладони проросли еще две головки, из запястья – три, и все вгрызлись друг в друга белыми клыками. Еще до того, как рука превратилась в шест, по ней заструилась кровь – на вид настоящая, – а злобные рты все жевали, и кровь все текла. Хелен покрутила рукой туда-сюда. Все, кто стоял рядом, попятились в полном ужасе, и я их понимаю. От всего этого я даже забыл, что проголодался.
Когда вокруг нас расчистилось пространство, змея, обвивавшая Хелен, сползла на землю, отчего все попятились еще дальше. Не попятился только человек с топориком. Он двинулся на нас.
– Бежим! – крикнула Хелен.
И мы побежали, как ошпаренные, на середину поляны, – Хелен держала над головой свою жуткую руку, а тот человек прыгнул за нами следом и замахнулся топором. Что он подумал, когда мы исчезли, не знаю. В следующий миг мы очутились в гуще карнавала.
В этом смысле с Границами просто беда. Частенько не успеваешь перевести дух. Я еще думал, что меня сейчас разрубят пополам, – и тут меня увлек в танце огромный белый кролик, над головой у которого подпрыгивали воздушные шарики. Кругом плясали и хохотали другие странные персонажи. Я сосредоточился, чтобы не потерять Хелен в толпе, но она была огорошена гораздо больше меня и выпустила мою руку. Отвязаться от кролика я не мог целую вечность. Думал, что уже нипочем не найду Хелен. В полном ужасе проталкивался сквозь хохочущую пляшущую разряженную толпу. В ушах дудела и бухала карнавальная музыка, меня постоянно пытались втащить в хоровод, совали пирожные, тянучки и апельсины, и что я все-таки нашел Хелен – это чистое везение. Она сидела на ступенях уличной эстрады, трясла правой рукой и разминала пальцы.
– Надеюсь, больше так делать не понадобится, – сказала она мне, будто я никуда и не отлучался. – Больно.
– Еще бы, – ответил я. – Спасибо. На, возьми тянучку.
– Да уж, тебе есть за что сказать мне спасибо, – буркнула Хелен, но тянучку взяла. – Еще раз в такое влипнешь – уйду и брошу тебя. Что будем делать теперь?
– Веселиться, судя по всему, – сказал я.
Мы и правда повеселились в этом мире на славу. Потом мы прозвали его «Крима-ди-лима» – так назывался коктейль, от которого все там были такие веселые. Похоже на густой апельсиновый сок со сливками. От него не пьянеешь, а просто становишься довольным и смешливым. Мы его пили, конечно. Там все его пьют, даже младенцы. Нельзя не пить. Его вливают силой. Думаю, те Они, кто играл в старую добрую Крима-ди-лиму, считали, что будет забавно, если держать всех постоянно под хмельком. И все равно приятнее мира я, наверное, не видел – прямо как праздник длиной в месяц.
Поскольку я все время был слегка пьяненький, то научился грубить Хелен в отместку. Оказалось, что именно так с ней и надо. Мы с ней постоянно задирали друг дружку. Я перестал ее бояться, а до этого, честно говоря, побаивался, очень уж она была странная. А еще мне здорово помогло, что в Крима-ди-лиме Хелен постоянно ошибалась. Оказалось, не такая уж она и всезнайка, к тому же она никак не могла понять, что к веселью здесь относятся очень серьезно. Все-таки ее воспитывали слишком строго.
Чаще всего ошибки Хелен были связаны с ее властью над всякой ползучей гадостью. Она твердила, что это как раз не дар, а просто она любит всякую живность. Хелен ее и правда любила. Если мне случалось поругаться с Хелен, а потом хотелось ее успокоить, проще всего было найти какого-нибудь червяка, уховертку или крысу и дать ей. Тогда она заправляла волосы за уши и склонялась над подарком, сияя от уха до уха и приговаривая: «Ой какая красотулечка!»
– Никакая не красотулечка, – говорил я. – Я просто хотел тебя развеселить.
Беда в том, что в мире пьянчужек со змеями и пауками нужно быть очень осторожным, да и со слоновьими хоботами тоже. Местных стариков они вовсе не радовали. За долгие годы у них в организме накопилось столько крима-ди-лимы, что они уже видели змей там, где их нет. Поэтому к настоящим относились без особого восторга.
Мы с Хелен нашли работу в пантомиме, играли переднюю и заднюю половину лошади. Выступали мы каждый вечер на Эспланадо-ди-Популо, пока акробаты переодевались. Ходить в ногу мы так и не научились, но это считалось даже забавным.
Зрители слышали, как мы считаем: «Раз-два, раз-два, меняем ногу, да с левой, дурында!» – и просто падали со смеху.
За неделю мы заработали столько, что смогли купить Хелен новую одежду. Нам пришлось обойти уйму магазинов, потому что в Крима-ди-лиме черного не носят, а Хелен требовала именно черное. В конце концов она взяла их измором. Еще через неделю я тоже смог переодеться из людоедской рубахи, которая уже надоела мне хуже горькой редьки. Мой новый костюм был однотонный, красивого яркого темно-красного цвета. Продавцы считали, что он такой же строгий, как у Хелен.
В честь моих обновок Хелен раздобыла змею, скользкую, черную с ярко-красными пятнами, – тайком от меня. И протащила ее в тот вечер в свой конец лошади (задний). Я узнал про змею, когда она проползла по спине моей красной рубашки. Я высунулся по пояс из передней половины лошади, весь красный, и грязно выругался. Публика визжала от хохота, пока я вытряхивал проклятую змею из одежды, а потом она, шипя, сползла со сцены в толпу. После этого публика визжала уже не от хохота.
– Это же не змея! – заорала на меня Хелен. – Это разновидность ящерицы!
– А мне плевать! Не смей больше так делать! – зарычал я в ответ. – Залезай обратно в лошадь! Левой, правой, левой, правой!
Но нас освистали и прогнали со сцены. И потом чуть не уволили.
Еще одну крупную ошибку Хелен совершила, когда я пустил ее для разнообразия в переднюю половину лошади. Она говорила, что ничего не видит и это нечестно. А из передней половины лошади все было прекрасно видно – из пасти. На сцене Хелен застыла и уставилась на публику.
– Работаем! – рявкнул я на нее. Когда согнешься в три погибели внутри лошади, обхватив того, кто впереди, становится жарко и противно.
Но Хелен вскрикнула и бросилась к краю сцены. Такого я не ожидал. Сел и потянул на себя переднюю половину лошади вместе с Хелен. Хелен брыкалась, хотела выбраться, но не могла. Публика была в восторге. Я – нет.
– Пусти меня! – кричала Хелен. – Там на площади мама! Я ее с пяти лет не видела!
Она вскочила и побежала со сцены. Я еще сидел, поэтому меня поволокло следом. Я ехал по помосту и вопил:
– Это не она! Прекрати! Послушай! Это не может быть твоя мама!
К счастью, публика решила, что в жизни не видела ничего смешнее: лошадь разломалась напополам, и передняя половина в ярости развернулась к задней.
– Что ты несешь?! – закричала Хелен. – Это моя мама, это она!
– Нет, не она! Замолчи! – прошептал я. – Твоя мама осталась в твоем мире. Как же иначе? Она не умеет ходить по Цепям. Это та, кем стала бы твоя мама, если бы родилась здесь. Возможно, у нее даже есть здесь дочка, похожая на тебя, но я надеюсь, что нет, иначе мне ее очень жалко!
– Я тебе не верю, – проговорила Хелен.
– Сама подумай, – сказал я. – Ты же лучше меня знаешь, как устроена система миров.
И рассказал ей, как в мире скотоводов наткнулся на печатника, который был там волосатым всадником.
– И вообще, у бедной женщины удар случится, если ты набросишься на нее, нацепив пол-лошади! А потом лошадь лопнет, и оттуда выскочишь ты во всей своей красе! Напугаешь ее до смерти! Замолчи. А то нас снова освищут.
– Ладно, – надулась Хелен. – Я тебе верю. Но ты все равно не прав.
Передняя половина лошади развернулась и наделась на заднюю, причем с размаху, потому что Хелен никому спуску не давала, и представление продолжалось. Потом Хелен несколько дней была в прескверном настроении. И я ее понимаю. Я бы тоже расстроился, если бы вот так увидел маму. Более того, это напомнило мне о Доме с новой силой, и я теперь думал о нем так же неотвязно, как Хелен. Несколько дней мы вообще не могли разговаривать друг с другом как нормальные люди.
Но все же мы остались добрыми друзьями – и когда Граница позвала снова, я держался за Хелен. По-моему, мне было бы грустно, если бы стало некого подкалывать.
VII
Следующий ход мы сделали за час до темноты. Уходить нам очень не хотелось. На Эспланаде как раз стало оживленно – все готовились к ночному веселью. Кругом бродили толпы смеющихся гуляк, угощавших друг друга очередным бокальчиком крима-ди-лимы, загорались разноцветные огни. Это было очень красиво, потому что небо здесь было желтое, и на нем мерцали белые звезды, а на желтом фоне тянулись гирлянды красных, зеленых и синих лампочек. Почувствовав зов, мы в последний раз отхлебнули крима-ди-лимы и двинулись по Эспланаде. Я уже говорил, что крепко держал Хелен за рукав. Мы точно не знали, где тут Граница, и я решил не рисковать.
– Богатыми будем, – сказала Хелен. – Я скопила приличную сумму.
– Раздай, – посоветовал я. – В следующем мире над тобой только посмеются. Уж деньги-то точно везде разные. Единственное, что ценят везде, – это золото.
Мы раздавали деньги горстями всем встречным детишкам. За это нам подарили по два воздушных шара, свисток – ну, такой, что если в него подуть, выскочит длинная бумажная трубка с розовым пером на конце, – и кулек карамелек. Вообще-то, мы ничего не просили, но такие уж они, жители Крима-ди-лимы.
Все это оказалось нам совершенно ни к чему. Граница захватила нас прямо напротив эстрады, и мы угодили в самую гущу войны. Мы увидели то же желтое небо с теми же мерцающими звездами. Разноцветных гирлянд, конечно, не было, мы оказались в чистом поле, там, где только что были дома́, росли кусты. Когда мы там очутились, справа послышался вой и появилась цепочка грозных красных вспышек. Над головой – фью-фью – свистело что-то маленькое.
– Ложись! – велел я, швырнул Хелен наземь и рухнул сам.
Мы уткнулись носом в землю, шарики полопались. В точности как выстрелы со всех сторон.
В ответ на вой послышался оглушительный свист и мощный взрыв, стало светло, как днем. Я видел, как вокруг нас фонтаном летит в небо земля и какие-то горящие ошметки. Поэтому и заметил, что через Границу одновременно с нами прошел еще один скиталец. Его силуэт был виден на фоне взрыва, и было ясно, что этот парень совершенно огорошен, да к тому же еще и весь в белом – идеальная мишень.
Я рванулся к нему, схватил его и повалил:
– Ложись, болван! Что, не видишь? Война!
Я его толком не разглядел, но первое впечатление о человеке складывается практически сразу. С виду он был примерно на год старше меня. И еще он был, похоже, паинька. Совсем как маленькие аристократы из «Академии королевы Елизаветы», которых мы дразнили. У него было узкое белое серьезное лицо, все в веснушках, и красивые светлые кудри. Да и весь он был вылитый аристократ, если вы меня понимаете. Я вот вечно взъерошенный, и ноги у меня тощие и кривоватые. А он был прямой – как говорится, ладно скроенный и крепко сшитый, – прямой весь с головы до ног, и устремленный на меня взгляд серьезных голубых глаз тоже был прямой.
– Война? – спросил он, шлепнувшись на землю рядом со мной. Я только охнул, потому что ушибся. А он нет. Он был спортивный. – Что происходит?
Мне захотелось его стукнуть. Но из его голубых глаз текли самые настоящие слезы.
– Ну вот опять! – воскликнул я. – Новенький скиталец, да? Я вам в няньки не нанимался!
Тут раздался жуткий лязг, из-за которого с минуту никто ничего не мог сказать. Все кругом взрывалось, и в желтом небе тоже, будто гигантские фейерверки. Мы слышали, как куски металла от взрывов втыкаются в землю вокруг нас. Я прямо пожалел этого мальчишку: ничего себе первый переход через Границу! Боевое крещение, ни дать ни взять.
Потом, когда все немного стихло, я сказал:
– Со мной такое бывает часто, я уже привык. Вот в чем беда с Границами. Они сплошь и рядом бывают в чистом поле, а поле – самое то для сражения двух армий. А мы, похоже, угодили как раз туда, где две армии ведут войну. Сейчас для нас главное – узнать, насколько крупная эта война. Поглядите на солдат. Если они в яркой форме, значит война маленькая и у нас есть шанс проскочить между ними. Но если у них форма болотного цвета, пиши пропало. Болотный цвет тянется на много миль во все стороны.
Хелен показала влево. Там были кусты, и их прочесывал взвод солдат. У них были длинные ружья, и в желтом свете мы разглядели, что одеты они в самый что ни на есть тусклый болотный цвет.
– Спасибо, Хелен, – сказал я. – Ты настоящий друг. Да, теперь мы знаем самое худшее. Надо найти убежище, чтобы пересидеть до утра.
– Чем плохи вон те кусты? – предложил наш новенький.
– Давайте туда, и поскорее, пока не стемнело, – подхватила Хелен.
– Да, – сказал я. Умник попался, не лучше Хелен. Да чтоб им провалиться! – Кстати, как тебя зовут?
– Джорис, – ответил он и приподнялся от земли, чтобы поклониться.
Я увидел, что спереди на его белой одежде намалеван черным какой-то знак. Очень похожий на знаки скитальцев, но я такого раньше не видел. Вот уже второй неизвестный знак. Мне это не понравилось. Я начал чувствовать себя неучем.
– Ложись! – рявкнул я. – Ты же в белом. Тебя застрелят. Нам сейчас придется некоторое время ползать по-пластунски. Меня зовут Джейми. А ее – Хелен Харас-Уквара, я ее проводник-туземец. Ползи, Хелен.
Мы поползли. Хелен, у которой лицо было занавешено волосами, стала практически невидимкой. Моя красная одежда при таком свете тоже не особенно бросалась в глаза, но за Джориса в белом мне было тревожно. Я все время оборачивался посмотреть. Но у него ползти получалось даже лучше, чем у меня. Даже если война была ему в новинку, прятаться он привык. Я каждый раз, как оборачивался, сперва принимал его за камень.
Не люблю умников-аристократов, подумал я.
Примерно тогда же будто из ниоткуда появилась огромная рычащая махина и переехала половину кустов и солдат, которых мы видели. Джориса едва не вырвало, да я и сам, наверное, выглядел неважно. Гнусная штука война.
Когда мы доползли до остатков кустов, снова поднялась стрельба. Мы с Хелен застыли. Но Джорис и правда был умный. Он пополз дальше и нашел под кустами землянку, где раньше прятались солдаты. Это была довольно глубокая яма, накрытая железными листами, присыпанными землей. Вход загораживал еще один железный лист и занавешивала мешковина. Внутри были мешки с песком, а на мешке посередине стоял какой-то фонарь.
– Отлично! – сказал я с немножко преувеличенным восхищением: мне хотелось, чтобы Джорис почувствовал, что мы ему рады. Когда он показывал нам землянку, вид у него был такой смущенный, будто он считал, что бывалые скитальцы вроде нас ожидают увидеть что-то получше. – Давайте забаррикадируем вход. Тогда можно будет зажечь лампу и устроиться со всеми удобствами.
Как выяснилось, Хелен и правда ожидала увидеть что-то получше.
– Что тогда неудобства, по-твоему? – поинтересовалась она, забравшись в землянку. – Здесь воняет. И чем мы зажжем лампу?
Признаться, это поставило меня в тупик.
– Кстати, об этом, – сказал Джорис. И пошарил в своей одежде где-то за намалеванным знаком. – У меня есть зажигалка. Только сначала, если можно, проверьте, хорошо ли закрыта дверь. А то как бы кто-нибудь не выстрелил на свет.
Мы с Хелен задвинули вход железным листом, Джорис защелкал этой своей зажигалкой, и вскоре в лампе загорелся уютный огонек. Я осмотрел землянку – вдруг найдется что-нибудь съестное, – но тут нам не повезло.
– Еды тут нет, – сказал я и сел на мешок.
– Кстати, об этом, – снова сказал Джорис и снова пошарил в одежде спереди.
Я с интересом посмотрел на его снаряжение, благо его было хорошо видно при свете лампы. Оказалось, что это такая же форма, как болотная одежда солдат. Белая, с просторными рукавами и просторными штанами, из какого-то странного плотного материала, на котором не осталось ни следа после ползания в грязи. На ногах у Джориса были высокие белые сапоги. А та часть, на которой был нарисован черный знак, была из белой кожи, вроде облегающего белого кожаного колета. И вот за пазуху этой штуки Джорис и запустил руку и вытащил три шоколадки.
– Не очень много, но хоть что-то, – сказал он.
– А ты подготовился к путешествию, как я погляжу, – заметила Хелен. – И пища, и огонь.
Джорис смотрел на нее с тем же изумлением, с каким глядел я на первых порах. Ему было видно только завесу черных волос и кончик носа. Он вежливо поклонился носу.
– Я охотник на демонов, – сообщил он, будто это все объясняло.
Снова затрещали ружья. Так близко, что я встал и проверил, не виден ли свет в щели входа. От выстрелов Джорис поежился.
– А войны – это часто бывает? – спросил он.
– Примерно в каждом шестом мире, – сказал я. – Иногда мне кажется, что Они больше всего любят играть именно в войну. А в половине других миров война или вот-вот начнется, или только что кончилась.
Джорис кивнул. Его прямое лицо стало очень прямым.
– А, – сказал он. – Они.
По тому, как он это сказал, стало ясно, что он и вправду новичок в Цепях. В его голосе звучала новенькая свежая ненависть, как у Хелен, а не усталая застарелая, как у меня.
Мы сосали карамельки, ели шоколад Джориса – по крошечке, чтобы надолго хватило, – и слушали треск выстрелов. Наблюдать за Джорисом было забавно: он все поглядывал на части лица Хелен, которые показывались, когда она раздвигала волосы, чтобы поесть, а потом отворачивался, будто пугался, что ее лицо священно, – как я поначалу.
– Ничего-ничего, – сказал я. – Ее лицо не священно. Просто она со странностями.
Хелен заправила волосы с одной стороны за ухо, чтобы сердито посмотреть на меня, и вздернула голову: сверху послышался шум.
– Нам сегодня дадут поспать спокойно?
– Да вряд ли, – сказал я. – Эти болотные никогда не спят. Всегда воюют по ночам.
– В таком случае давайте лучше поболтаем. – И Хелен заправила за ухо волосы с другой стороны, после чего направила на Джориса всю заостренную ярость своего священного лика. – Расскажи, кто ты такой и за какой такой проступок Они тебя сослали. Потом мы расскажем о себе.
Я сказал Хелен, что нельзя спрашивать у скитальцев, кто они такие, и упоминать о Них тоже нельзя. Но она ответила презрительным взглядом. А Джорис испуганно смотрел то на нее, то на меня, не зная, кто прав.
– Ладно, валяй, – сказал я. – Хочешь говорить – говори. А на меня не обращай внимания. У меня на счету всего триста миров, а у нее – целых три.
Вид у Джориса стал такой, будто он и хотел бы все рассказать, но не знает, с чего начать. Поэтому я, чтобы подтолкнуть его, сказал:
– Я вижу, что ты в Цепях новенький. Но в твоем мире тоже говорят по-английски, правда?
Он растерялся, но потом сказал:
– По правде говоря, я родился в Кардсбурге, поэтому немного знаю катаякский. Но когда мне было семь, меня продали Ханам, и с тех пор я говорю по-английски…
– Что с тобой сделали? – не понял я.
– Продали. – Он даже удивился. – Понимаете, я раб. Разве не видно?
– Как это может быть видно? – спросил я. – Ты меня разыгрываешь!
А я-то считал, будто знаю толк в аристократах, подумал я.
Его веснушчатое лицо все порозовело от волнения.
– Это должно быть очевидно по манере держаться. Неужели меня одолела гордыня?
Поделом мне. Можно хоть все на свете миры обойти – и все равно такого не ожидаешь. Хелен ему тоже не поверила.
– Докажи, что ты раб, – потребовала она.
– Конечно, – очень смиренно ответил Джорис и начал закатывать правый рукав.
В этом было что-то знакомое. Мне стало интересно, во что превратится правая рука у Джориса. Но это была обычная белая веснушчатая рука, гораздо мускулистее, чем у меня, а наверху, у плеча, виднелось… ну, больше всего это было похоже на маленький размытый розовый рисунок. Якорь.
Один взгляд на него – и я вскочил с мешка:
– Откуда это у тебя?
– Это клеймо Констама. – Глаза Джориса наполнились слезами. – Понимаете, я личный раб Констама. Констам купил меня.
Если бы я знал тогда, что скоро начну выть при одном упоминании этого имени! Но в тот момент, едва я увидел этот якорь, мне показалось, что это знак, предвестие, доброе знамение. Я сел обратно и дал себе зарок, что в следующий раз, когда позовет Граница, буду держаться и за Джориса. Между тем Хелен вся подалась вперед и глядела на руку и на клеймо в оба глаза-пуговки с яростным сосредоточенным вниманием.
– Татуировку себе кто угодно может сделать, – сказала она.
Джорис утер слезы пальцем и сказал чуть ли не с гордостью:
– Это не татуировка. Это настоящее клеймо. Его делают каленым железом.
– Отвратительно! – сказала Хелен.
Спасибо ей за это. Я же говорил, из какого мира она родом.
– Сначала делают укол, – сказал Джорис. Он явно привык успокаивать встревоженных дам. – Было совсем не больно.
Ему, может, и не было больно, но меня это испугало. Я сразу задумался о Них и о том, кто делает такое с людьми – Они и или сами люди. Но подумать как следует мне не дали: Джорису было трудно разговориться, но, разговорившись, он не знал удержу.
– Из всех рабов на рынке Констам выбрал меня, чтобы сделать своим помощником, – рассказывал он. – Он увез меня в Долину Ханов и дал мне очень хорошее образование. Я хочу сказать, что для того, чтобы стать охотником на демонов, особенно ничего не нужно, достаточно уметь читать и писать, но Констам всегда обращался со мной лучше некуда. Констам чудесный, честное слово. Он лучший охотник на демонов из ныне живущих. Понимаете, Констам чувствует демона, когда все его инструменты еще не успели зарегистрировать никаких материальных данных, правда-правда. А еще с Констамом очень хорошо. Он никогда не обращается со мной как с рабом. Он держится со мной так, что все думают, будто я его вольный помощник, такой же, как вы. Но я никогда не позволяю себе заноситься. Стараюсь предугадывать все его желания. Вот и сегодня старался, но ужасно подвел его.
Это я еще сильно сокращаю густоту Констамов. Констам шел у него через слово. Мы с Хелен уловили основную мысль задолго до того, как Джорис добрался до этого места: Констам был Верховный Бог. Десять футов роста, темноволосый, смуглый, прекрасный, сильный, умелый, добрый, заботливый – список добродетелей продолжайте сами. Всеми ими Констам был наделен сверх всякой меры. А еще он был сказочно богат: похоже, за охоту на демонов хорошо платят. По словам Джориса, Констам разъезжал на дорогом спортивном ландо и останавливался в самых лучших гостиницах и вообще следил, чтобы у него все было только самое лучшее. И щедро делился самым лучшим с Джорисом. Думаю, это означало, что Джорис был хорошим рабом: наверное, он тоже был в списке дорогих, роскошных вещей, которые требовались Констаму. Что ж, мне приходилось слышать о рабской преданности, но видел я ее впервые.
– Сколько ты стоишь как раб? – спросил я, чтобы немножко отвлечь Джориса от обожествления Констама.
– О, примерно двадцать тысяч крон, – серьезно ответил Джорис. – А если бы я прошел полный курс обучения, то стоил бы по меньшей мере вдвое больше. Но… теперь, наверное, не получится. Я ведь подвел Констама…
Хелен обожгла меня свирепым взглядом. Она всегда так делала, когда я спрашивал, что сколько стоит. Говорила, у меня коммерческая жилка.
– Расскажи про демонов, – сказала она. – Как на них охотятся?
– Демоны… – ответил Джорис. – Трудно объяснить, что такое демон, если вы его никогда не видели.
Мы не видели. Наверное, демоны – единственная напасть, которой в мире Хелен для разнообразия не было.
– Должно быть, демоны – это война, в которую Они играют в моем мире, – сказал Джорис. – Демоны ненавидят людей. Они очень зловредные, честное слово. Нам приходится бороться с ними, чтобы они не размножались, потому что они либо сразу убивают людей, либо вселяются в них, и те становятся одержимыми, ну, понимаете, демоны управляют ими, как марионетками. А иногда демоны захватывают какое-то место и отравляют его, и там нельзя жить, или похищают у человека разум, и тогда человек ходит себе, а его разум в это время где-то мучается. Они еще много чего делают. Они и правда очень опасны и от природы совсем не похожи на людей. Мы – наполовину тело, наполовину душа. А демоны совсем не такие материальные, у них всегда гораздо больше духа, чем тела. Если пройти обучение, начинаешь видеть не только тело, но и дух. Дух демона видно лучше человеческого, гораздо лучше.
– А как они выглядят, эти демоны? – спросили мы.
– Трудно описать, если вы их никогда не видели, – ответил Джорис. – Понимаете, они меняют обличье. Но в целом самые материальные – самые уродливые, у них много рук и ног, просто ужас, и они красно-серо-голубые. А более духовные похожи на таких высоких тонких белых людей, но у них обычно есть дополнительная пара рук, а то и несколько.
– Как на них охотятся? – спросила Хелен.
– Ну, это дело техники, – сказал Джорис. – В целом, надо найти их логово и выманить их оттуда. А если они не выходят, зайти туда самому и истребить их. Констам умеет это делать очень храбро и хладнокровно – просто чудо. Убить демона можно разными способами, но в любом случае приходится убивать его дважды, отдельно тело, отдельно дух. Иначе они снова отращивают себе недостающее, а после обычно находят тебя, чтобы отомстить. Чтобы убить дух демона, надо, естественно, перейти в мир духов. Это всегда делает Констам. Он учил меня, как это делается, но пока еще для меня это слишком опасно. Я… я связываю для него демонов обмоткой, но… но… но сегодня я его ужасно подвел.
Тут Джорис сглотнул и прослезился. И даже не сразу смог снова заговорить. Оказалось, что в этот день его превратили в скитальца только за то, что он переусердствовал с демоном.
В то утро Джориса и Констама вызвали на далекую ферму исследовать случай демонического заражения. Ничего особенно страшного, сказали люди с фермы. На ферме нашли обескровленную овцу, а скотина стала обходить стороной старый сеновал на горке. Но сам демон не показывался и на людей не нападал, поэтому Джорис и Констам решили, что речь идет о некрупной особи. Однако Констам велел Джорису быть осторожным. Если демон затаивается и начинает сосать кровь, возможно, он вынашивает выводок демонят. Тогда он становится очень опасным.
В общем, они подошли к сеновалу, сверились с приборами – и действительно, оказалось, что демон небольшой. Тогда они принялись его выманивать. Дальше Джорис принялся сыпать непонятными терминами, но, насколько я уловил, главной его задачей было, когда демон выйдет, не дать ему удрать в мир духов, чтобы Констам успел прицелиться и убить ту его часть, которая у демонов сходит за тело, – материальную составляющую. А чтобы задержать демона, они применяли какую-то штуку, которая называется демонической обмоткой.
Тут Джорис снова умолк и дал волю своему унынию. Он все хлопал по знаку на груди и повторял:
– Но мне же не попасть в мир духов! Я ношу все снаряжение, которое мешает перейти туда. Так велел Констам. Я не понимаю, что случилось!
– Ты имеешь в виду, что этот знак не пускает тебя в мир духов? – спросила Хелен.
– Этот? Нет, это же знак «шен». Просто символ власти над демонами. Нет, я ношу всякие другие приспособления. В общем…
Короче говоря, демон выскочил из убежища – и правда совсем маленький на вид. Джорис сделал свое дело, пока Констам стоял и целился, и сделал его хорошо: накинул на демона петлю обмотки. А потом начался полный ужас. Выяснилось, что демон ловко скрывал свои подлинные размеры. Он был вовсе не маленький. Он был из тех, которые похожи на высоких белых людей, только принадлежал к самой крупной разновидности, так называемым Высшим Демонам, и вообще оказался царем демонов. Звали его Адрак, и он почти полностью состоял из духа. Телесная его часть была так мала, что первый выстрел Констама не попал в цель, а остальные тем более, поскольку демон схватил Джориса и стал мотать его туда-сюда, заслоняясь им от пуль Констама. Пули, наверное, были серебряные, сказал Джорис. Но человека можно убить любой пулей, а убивать ценного раба Констам, должно быть, не хотел. Поэтому он отшвырнул пистолет и набросился на Адрака с противодемонским клинком. Джорис сказал, что со стороны Констама это был очень храбрый поступок.
Что было потом, сам Джорис описывал несколько иначе, но я думаю, что рабская преданность взяла в нем верх. Верховный Бог Констам приказал ему никогда, ни при каких обстоятельствах не отпускать демона из обмотки, вот он и не отпускал. И держал его изо всех сил. Похоже, у Констама здравого смысла было больше. Последнее, что слышал Джорис, – это как Констам кричит ему, чтобы он выпустил обмотку. Но было уже поздно. Демон уволок Джориса в иной мир.
– Что? Через Границу, что ли? – удивился я.
– Нет-нет, – ответил Джорис. – Границы мы охраняем строго-престрого, иначе демоны давно уже заполонили бы все миры. Но есть множество слабых мест, где сильный демон может прорваться в другой мир. Мы и сами иногда пользуемся слабыми местами, чтобы догнать беглых демонов.
От этого мы с Хелен прямо оторопели. Мы-то думали, что путешествовать между мирами не может никто, кроме скитальцев. А оказывается, Джорис уже успел побывать во многих мирах. Разумеется, вместе с Верховным Богом Констамом.
– Странно, что Они вам разрешают, – заметила Хелен.
Джорис поглядел на нее так, будто хотел сказать, что Констама Им не остановить, не на такого напали, но, возможно, он в этом сомневался, потому что сказал:
– Ну, я думаю, Они следят, чтобы между людьми и демонами сохранялась боевая ничья, а для этого нужно, чтобы мы могли за ними гоняться.
Случилось так, что Адрак, затащив Джориса в соседний мир, не остановился. Он (а может, и она) двинулся дальше, из мира в мир, а Джорис висел на нем, и миры так и мелькали мимо, будто окна во встречном поезде, и любой нормальный человек уже давно отцепился бы. Адрак все оборачивался и спрашивал: «Почему ты не отцепляешься?», а Джорис отвечал: «Будь я проклят, если отпущу тебя!» Адрак говорил: «Я высосу у тебя всю кровь! Я украду твой разум!» А Джорис отвечал: «Не выйдет, ты же в обмотке». Тогда Адрак сказал: «Раз так, мы сейчас нырнем в мир духов, и там я смогу делать с тобой что захочу». Понятия не имею, почему Джорис не умер от страха. Но он сказал, что страшно ему не было, по крайней мере, тогда, поскольку он точно знал, что все это Адраку сейчас не по силам. У Констама было очень хорошее снаряжение. Поэтому демон метался между мирами, а Джорис все висел и висел на нем. Он отстегнул от пояса белые защитные перчатки и показал нам, что обмотка едва не прорезала их насквозь. Сказал, у него до сих пор руки саднят.
В конце концов Адрак потерял терпение.
– В последний раз предлагаю, – сказал он. – Отпусти, или я посмотрю, что сделают с тобой Они!
А Джорис сказал:
– Нет.
Он никогда не слышал о Них и решил, что это очередная пустая угроза.
Адрак сказал:
– Ну, как хочешь!
И тут, по словам Джориса, демон свернул и ринулся совсем в другую сторону, из мира в мир, и вдруг они вломились в какое-то совсем другое место. Джорис сразу понял, что оно не похоже на миры, сквозь которые они промчались. Во-первых, когда они туда вломились, ему стало больно. Он закричал от боли, а Адрак обернулся и глумливо расхохотался. Во-вторых, хотя все здесь было гораздо плотнее, осязаемее и напряженнее, чем во всех мирах, где он бывал, Джорис почти ничего не видел. Это было какое-то просторное, тихое, полутемное пространство. Там гудели и мигали лампочками машины. И там у своих игровых столов стояли Они.
Джорис сказал, что столы стояли рядами через каждые несколько ярдов и уходили во все стороны, докуда хватало глаз. Они склонились над столами. Он видел, как Они сверяются с машинами, а потом осторожно передвигают по столам какие-то мелкие предметы, а иногда бросают кости и сверяются с ними. Они играли и парами, и компаниями. Было видно, как Они сосредоточенны. Вся жуть, наверное, была в этой кошмарной сосредоточенности.
Эта крайняя сосредоточенность и само Их количество потрясли Джориса до глубины души. А еще – суть Их игры. На ближайшем столе, который он разглядел, был его родной мир. Они двигали по миру людей и демонов. Но примерно через миг после того, как возле стола с грохотом приземлился Адрак с Джорисом, на дальнем краю стола замигала синяя лампочка, и Они повернулись посмотреть.
Джорис сказал, что оцепенел от страха.
– Я думаю, это и был мир духов, несмотря на все мое снаряжение, – рассказывал он. – Уж очень необычные были ощущения. А от мира духов у меня не имелось никакой защиты, потому что этим всегда занимается Констам. Я понял, что мне конец. Их было так много, и я видел, что все Они демоны.
– Демоны?! – разом спросили мы с Хелен.
– Да, конечно. – Джорис думал, мы и так знаем. – Такой разновидности я еще не встречал, но Они точно демоны. Телесной составляющей у Них больше, чем у Адрака, и Они гораздо крупнее, и такие сильные мне раньше не попадались, но Они демоны, это несомненно. Я видел, как Их духовная часть мерцает вокруг Них. И очень испугался.
Адрак тоже заметно притих. Они с Джорисом стояли и ждали, и вот наконец Они начали поворачивать свои смутно различимые лица к незваным гостям – сначала один стол, потом другой, потом третий. Когда все Они уставились на них, далекий голос спросил:
– Что ты здесь делаешь, Адрак?
– Хочу подать жалобу, – ответил Адрак. – Вы не держите слово.
Другой из Них, поближе, сказал:
– Веди себя прилично, Адрак. Еще раз так с нами заговоришь, и мы тебя накажем.
Адрак ответил с учтивым негодованием:
– Разве это справедливо? Мы, Высшие Демоны, согласились вступить в игру, если вы дадите слово, что запретите людям истреблять нас. Вы согласились, что людям будет позволено промышлять только мелюзгу, и пообещали, что мы сможем без помех выводить потомство. Сказали, что будете держать людей на расстоянии. И вот я нахожу тихую ферму, собираюсь завести семью – и что же? Только поглядите на меня! Поглядите на это!
Трудноразличимые лица обратились к Джорису.
– Как это произошло? – спросил далекий голос Тех, кто играл за столом с миром Джориса.
Они оглядели свой стол, сверились с машиной, снова внимательно оглядели стол. Один из Них повернулся к Адраку:
– Прими извинения, Адрак. Видимо, это рандом, которого мы не заметили.
– Тогда убейте его, раз это вы виноваты, – сказал Адрак.
– Ты тоже имеешь право, – ответил один из Них.
– Но, увы, не могу, – сказал Адрак. – Взгляните на него. Этот поганец увешан всевозможной защитой. Я не могу и пальцем его тронуть, даже здесь. Придется вам самим.
Тут Они двинулись на Джориса всем скопом – высокие, серые, расплывчатые. Джорис сказал, что от ужаса выпустил из рук демоническую обмотку и плохо помнит, что произошло в следующие несколько секунд, – так ему было страшно. Только когда Они заключили его в круг и остановились, он отметил про себя, что еще жив, цел и невредим, а в руке у него противодемонский клинок.
– Не трогайте меня! – сказал он. – Я исполняю свой долг.
Кажется, Они даже не заметили, что он подал голос.
– Нехорошо, – сказал один из Них.
– Кто им разрешил носить при себе столько защиты? – спросил другой.
– А ведь говорили вам, что это ошибка, – сказал Адрак тоном оскорбленной невинности.
Адрака Они тоже словно бы не услышали. Джорис сказал, что было очень странно и жутко понимать, что на Адрака, одного из Высших Демонов его мира, здесь смотрят как на пустое место.
– Как неудачно, – сказал еще кто-то из Них. – Значит, вам придется сбросить.
– В Цепях еще осталось место? – спросил другой.
Голос кого-то из Них в отдалении отозвался:
– Осталось только два места для сброса. К этому созданию и правда нельзя прикоснуться?
– Нет, нельзя! – не без раздражения ответил один из Тех, кто окружал Джориса. – Остается только сбросить!
– Ну так сбрасывайте, – сказал еще кто-то из Них вдалеке. – Вы задерживаете игру.
Тогда ближайший из Них повернулся к Джорису и сказал в точности то же самое, что когда-то Они сказали мне:
– Мы сбрасываем тебя. Ты больше не участвуешь в игре. Тебе разрешается ходить по Цепям скитальцев сколько угодно, но вступать в игру ни в каком мире тебе нельзя, это запрещено правилами. Чтобы гарантировать, что ты не нарушишь правила, тебя будут после каждого хода переносить на новое игровое поле. Кроме того, правила гласят, что ты имеешь право вернуться Домой, если сможешь. Если тебе удастся вернуться Домой, ты сможешь вступить в игру снова обычным порядком.
Адрак злобно захохотал, а Джорис обнаружил, что он теперь граничный скиталец. И угодил в самую гущу войны.
VIII
Тем временем Хелен собирала живность. Перед ней на мешке уже накопилось штук двадцать мокриц, и она выкладывала из них какой-то правильный узор, вроде кольчуги.
– Ну и ладно, – сказала она. – Зато ты больше не раб.
Джорис разрыдался:
– Вы не понимаете! Я принадлежу Констаму!
– Хватит выть, – велела Хелен, – а то не услышишь, как я расскажу, что случилось со мной. Или Джейми, когда настанет его очередь рассказывать.
– Нам не стоит, – сказал я. – Мне говорили, это против правил.
Хелен сердито вздохнула:
– Нет никаких правил. Только принципы и…
– Да знаю, знаю! – отозвался я. – Но я один раз нарушил правило.
– Не съели же Они тебя, – заметила Хелен. – Вероятно, Им наплевать. С Их точки зрения, мы просто сброшенные лишние карты, к тому же дети. Джорис, у меня от рождения есть дар…
Пока Хелен рассказывала, я задремал. Снаружи все трещали и грохотали выстрелы, но к ним быстро привыкаешь, а потом от них устаешь. Но я помню, что заметил, как Хелен умолчала, что такое на самом деле ее диковинная рука. Называла ее своим даром, и все. Потом она разбудила меня и заставила рассказать Джорису, что произошло со мной, и поквиталась со мной – заснула на мешке, прямо лицом в мокриц. После этого Джорис рассказал мне очень много всякого про божественные добродетели своего исполина Констама, и я тоже снова заснул.
Должно быть, мы все заснули и проснулись, когда в нашу железную крышу кто-то заколотил и заорал командирским голосом:
– Эй, вы, там! Потушите свет! Вот-вот объявят утреннее наступление!
Все мы повели себя по-разному – наверное, каждый в соответствии со своим складом характера. Джорис не успел толком проснуться, как уже вскочил и послушно задул фонарь. Я проснулся и рявкнул: «Есть, сэр! Виноват, сэр!», уповая на то, что мой голос похож на солдатский. Хелен не сделала ничего – только проснулась и сердито поглядела на нас.
– Чтоб такого больше не было, – сказал голос. Должно быть, это был офицер. И он ушел, не заглянув к нам. Большая удача.
Мы сидели в темноте и слушали грохот. Да, наверху шло наступление, и еще как. Если бы нас не разбудил офицер, мы проснулись бы от шума. От него болели уши. Земля в нашей яме вся дрожала. Было такое чувство, будто все ружья снаружи палят одновременно и безостановочно. По нашей крыше то и дело топотали сапоги – вдобавок к грохоту, – а один раз вроде бы проехала та махина. Снизу казалось, что точно она. Наконец, когда в щелях между кусками мешковины проступил довольно яркий дневной свет, шум и грохот отдалились и стихли. Настал небывалый покой. Мы даже услышали птичью песню.
Хелен сказала:
– Меня тошнит от этого мира! Долго нам тут торчать?
– Прилично, – кисло отозвался я. – По ощущениям, месяца два.
– Как это? – спросил Джорис.
Я ему объяснил, что Границы зовут нас, когда кто-то из Тех, кто играет в мире, где ты находишься, делает ход, и что обычно заранее приблизительно понятно, когда это будет.
– Да, ясно, – сказал Джорис. – Так Они перемещают нас, чтобы не дать вступить в игру. Но ведь мы можем, если захотим, прямо сейчас вернуться на Границу и попробовать перейти в другой мир, где нам будет лучше.
– Что, правда? – спросил я.
Я думал, так нельзя.
– А почему бы и нет? – сказала Хелен. – Мы не обязаны следовать Их правилам.
– Нет-нет, – сказал Джорис. – Я имел в виду, что это, по-моему, вообще не правило. Они мне не говорили, что мне нельзя переходить Границу в любой момент, когда захочется. Они сказали: «Тебе разрешается ходить по Цепям скитальцев сколько угодно», так, словно я и правда могу это делать. В моем мире через Границы можно ходить когда хочешь.
– При условии, что ты следуешь вдоль Цепей, – уточнила Хелен. – Ну да, почему бы и нет? Такова природа портала.
Нет, правда, Хелен и Джорис знали о Цепях и Границах столько, что я почувствовал себя полным неучем.
– А откуда мы узнаем, где Граница, если она нас не позовет? – возразил я. – Границы обычно не размечены.
– Кстати, об этом, – сказал Джорис – он всегда так говорил перед тем, как достать что-то из-за пазухи своего белого кожаного колета. – Кстати, об этом: у меня есть инструмент, который нам все покажет.
– Может, еще белого кролика оттуда достанешь заодно?
Я собирался съязвить, но, кажется, не получилось. У меня вмиг загремело в ушах от надежды. Если это так, значит я могу попасть куда захочу. Я могу пронестись по мирам, как демон Джориса, и очутиться Дома. Сейчас. Скоро. Сегодня!
Джорис понял шутку и засмеялся. Вот в чем беда с Джорисом. Он славный. Как ни упирайся, а в конце концов его полюбишь. Даже если то и дело возникает желание схватить его и трясти, пока голова не отвалится.
Мы тут же двинулись в путь, не дожидаясь, когда война разразится снова. Когда мы вылезли из землянки, моргая от яркого света, кругом не было ничего, кроме грязи и мусора. Исчезли и кусты, и почти вся трава. Везде только колеи, свежие воронки и разбросанные ошметки. Среди разбросанных ошметков была полуоткрытая болотного цвета сумка, из которой высыпались пакеты с солдатскими сухими пайками. Я их подобрал, пока Джорис нацеливал в разные стороны свой инструмент, похожий на будильник, и искал Цепь. После этого я схватился за мешковатый белый рукав Джориса, а Хелен – за мой темно-красный. Мы не хотели потерять друг друга.
– Нашел! – воскликнул Джорис.
Стрелка его будильника встрепенулась и задрожала. Мы пошли туда, куда она указывала, – кучкой, наступая друг другу на пятки, – и очутились на грязном пятачке, ничем не отличавшемся от остального поля боя, но там стрелка принялась крутиться.
– Граница, – сказал Джорис.
Мы прошли еще шажок-другой.
Когда переходишь Границу добровольно, тебя даже не дергает. Просто оказываешься в другом мире. Большая удача, что там шел дождь. Иначе мы и не заметили бы разницы. Опять поле боя, точно такое же, грязь, колеи, ошметки и все прочее. Я подобрал там еще одну сумку с пайками, но они все промокли. Вдали стрекотали ружья.
– Я тут не останусь, – заявила Хелен.
Мы битый час искали приличный мир, где можно было бы сесть и поесть. Почти все это время ушло на хождение по изуродованным войной полям в поисках очередной Границы, чтобы двинуться дальше. Дело в том, как объяснил мне Джорис, что раз мы не демоны, то не можем переходить прямо из одного мира в другой. Границы откроются, только если подойти к ним по Цепям. Вот нам и приходилось обходить все разоренные пейзажи, пока инструмент Джориса не говорил, что мы нащупали Цепь. Потом мы по Цепи шли к границе – и все повторялось.
Должно быть, мы попали в какую-то последовательность миров, где шла война. Их было штук восемь подряд, и во всех только что отгремела битва. Мы решили, что Те, кто в них играет, затеяли состязание, у кого война получится гнуснее. Я уже собирался присудить первый приз Тем, кто разрушил город, руины которого мы видели примерно в пятом мире. Это произошло с неделю назад, и повсюду еще валялись трупы. Но это мы еще восьмой мир не видели. Приз достался ему. Это была пустыня – пустыня по большей части из пепла и осколков кирпича, но временами попадались участки, где все сплавилось в стекловидную массу с потеками по краям. Там, похоже, ничего живого не осталось.
Как только мы туда попали, будильник Джориса громко затикал. Как будто кто-то щелкал языком – «тц-тц, тц-тц». Я подумал, что он уловил суть. Джорис при этом звуке так и подскочил и перевернул будильник. На обратной стороне дергалась другая стрелка – «дерг-дерг» на каждое «тц-тц». Джорис поспешно сравнил будильник с другими часами, которые носил на запястье.
– Мне это не нравится, – сказал он. – Здесь все пронизано демоническими лучами, а демонов нет.
Хелен убрала волосы за уши, чтобы поглядеть сначала на щелкающую стрелку, а потом – на ровный слой кирпичной крошки со стеклянными пятнами. Она знала в этом толк. Я же говорил, из какого мира она родом.
– Мы называем их «лучи смерти», – сказала она. – Или «радиация». Есть такое оружие, которое их делает. Надо поскорее уносить ноги. Излучение сильное?
– Довольно-таки, – ответил Джорис. – У нас минут пять, не больше.
Мы неуклюже завертелись хороводом на хрусткой кирпичной крошке, нащупывая Цепь. У нас ушло полминуты, но нам показалось, что несколько часов. Когда мы топали вереницей вдоль Цепи, держась друг за дружку, Джорис пропыхтел, что эти лучи, или как их там, обрекают обычных людей на медленную мучительную смерть. А поскольку мы скитальцы, мучиться нам предстояло очень долго. Я всерьез испугался.
Это был единственный мир, где Джорис не болтал про своего Констама. Но стоило нам перебраться в следующий мир, как он снова завел свое:
– Констам никогда не подпускает меня к демоническим лучам. Стоит ему их засечь, он сразу велит мне вернуться и ждать. Я и не знал, что при этом ничего не чувствуешь. Констам мне не говорил.
К этому времени я перестал слушать. Как слышал «Констам», так отключал уши. Но ответ Хелен я услышал:
– Да, ничего не чувствуешь. Они прошивают тебя насквозь. Персты Уквара считали, что мой дар из-за них.
Потом Джорис опять заговорил про Констама, и уши у меня отключились.
Я стоял себе и тайком от всех трепетал от восхищения. Мир, где мы очутились, был зеленый и совсем нетронутый. Кругом слышалось жужжание, гудение и щебет, а издалека доносился низкий гул. Перед лицом у меня пролетела белая бабочка. Воздух был не самый свежий, знавал я и почище, но я не мог им надышаться. Ведь он почти наверняка был не смертельный. И я понял, что самым худшим в этом пустынном мире была тишина. Полная мертвая тишина. Когда в мире есть хоть кто-то живой, такой тишины не добьешься.
Я огляделся. В этом мире стоял славный теплый денек, небо было нежно-голубое, и в нем проплывали пушистые белые облачка. Мы очутились в просторном поле, где там и сям красовались огородики. Во всех огородиках рос один и тот же набор, только в разном порядке, – куда ни посмотри, увидишь ряды крупной голубоватой капусты, шеренги палочек, покрытых ярко-красными цветками фасоли, и грядки светло-зеленого салата. У каждого огородика стояла неряшливая лачужка. Сначала я подумал, что это, наверное, совсем нищий мир, раз здешние жители ютятся в таких лачужках, но, присмотревшись, я понял, что все лачужки пусты. Возле огородов, похоже, не было ни души.
– Давайте сядем и перекусим, – предложил я. При этом я перебил Джориса, который как раз говорил что-то про Констама, но если его не перебьешь, он не даст и слова вставить. К этому времени мы с Хелен уже привыкли перебивать Джориса.
– Хочу салата, – сказала Хелен.
– Ага, а вон видна редиска, – сказал я.
Наверное, мы не очень красиво поступили. Но мы с Хелен уже тогда поняли, что, поскольку Джорис раб, он решит, что его долг – пойти и нарвать нам чужих овощей. Так он и сделал. Мы с Хелен сидели на лужайке возле одной из лачужек, отбирали все, что годилось в пищу, из моих болотно-зеленых сумок, а размокшие или растоптанные пайки откладывали в сторону и глядели, как Джорис, чистенький, беленький, старательный, рыщет по вскопанным грядкам и прилежно дергает редиску.
– А ведь он, наверное, в конце концов заметит, что он больше не раб, – сказал я.
– Такими темпами – лет через сто, не раньше, – отозвалась Хелен. – Если он еще раз заговорит про своего гиганта Констама, я его укушу. Не смогу сдержаться.
– Дело не только в разговорах, – сказал я. – Меня раздражает, какой этот Констам весь из себя непогрешимый. Так не бывает. Не может быть, чтобы человек был такой высокий, такой храбрый, такой сильный, такой заботливый и все прочее сразу!
При этих словах у меня в памяти всплыла картина: тот, что прикован к скале. А ведь он и вправду был огромного роста, и, вообще-то, я приписывал ему все остальные достоинства, которыми Джорис наделял Констама. Я сразу пожалел, что подумал про него. Каждый раз расстраивался.
– Ну, видишь ли, Констам – он же Верховный Бог, – сказала Хелен.
– Я один раз… – начал я.
Но тут к нам заторопился исполнительный Джорис с таким видом, что, будь у него хвост, он бы им вилял. Он принес большой нарядный кочан салата, пучок зеленого лука, редиску и несколько маленьких розоватых морковок. Поэтому я опять не рассказал Хелен про того, кто прикован к скале. Большая удача, что не рассказал.
– Красота! – сказал я Джорису.
Прямо чувствовалась, что ему нужна похвала – как собаке. Когда я это сказал, Джорис просиял, и я от злости добавил вредным голосом:
– Все самое лучшее для молодых господ!
Лицо у Джориса сразу стало оскорбленное, бледное, в темных веснушках. Он бережно положил овощи рядом с сухими пайками и процедил:
– Я вам не раб. Я принадлежу Констаму.
– Да знаю я, дурачок! – Мне стало тошно. – Неужели ты не можешь уразуметь, что ты больше ничей, даже не Констама?!
– Я это понимаю, – сказал Джорис.
– Тогда…
– Но я дал себе зарок никогда не забывать, что Констам сделал для меня, – договорил Джорис.
Что тут скажешь? Пока мы ели, я, чтобы возместить ущерб, не стал отключать уши, а слушал, что Джорис рассказывает про Констама. Хотя бы так извинюсь перед ним, думал я. Хелен закрылась волосами и собирала гусениц. По-моему, она его не слушала. На этот раз Джорис рассказывал про семейство Констама – про Ханов.
Семейство Ханов было большое, скорее даже клан, и все они так или иначе посвятили себя охоте на демонов. Они были так богаты, что им принадлежала целая большая долина с фермами, фабриками, аэродромом, школами и библиотеками, – и все для Ханов и под управлением Ханов. Там, в этой долине, было изготовлено все снаряжение Джориса и не только. Эти Ханы знали толк в машинерии гораздо больше, чем у меня Дома и даже в мире Хелен. У них было много летательных аппаратов, чтобы охотники могли быстро настигать демонов. Пока Джорис говорил, здесь, в этом мире, над нашими головами с гулом пролетел серебристый аэроплан, и я спросил Джориса, похож ли он на аппараты Ханов. Обожаю аэропланы. Всегда мечтал на них полетать. Джорис взглянул в небо – мыслями он был далеко-далеко, в собственном мире – и ответил, что нет, у них они другие. И тут же сообщил, что охотились на демонов только лучшие из Ханов. Остальные сидели в долине и изобретали и совершенствовали снаряжение.
Думаю, Ханы и правда сделали Джорису очень много хорошего. Они никогда не обращались с ним как с рабом. То есть это мне так кажется, сам-то Джорис прямо об этом не говорил. Когда говоришь с Джорисом, важно то, чего он не говорит. Поэтому я сделал вывод, что Констам, вероятно, как раз обращался с Джорисом как с рабом. Похоже, Главе Ханов пришлось не по нраву, что Констам купил Джориса. Она была против рабства. Да, Глава Ханов была женщина. Это, наверное, было единственное сходство между Ханами Джориса и моим первым миром скотоводов, там тоже была госпожа Предводительница. В мире Джориса госпожу Предводительницу звали Эльза Хан, и Джорис боялся ее до полусмерти. Правда, я не сразу разобрался, кто она такая, потому что была еще вторая Эльза Хан, ровесница Джориса, по-моему, внучка Главы Ханов. От этой маленькой Эльзы Джорис был без ума. Он этого, разумеется, не говорил, но и так было ясно. И конечно, без ума он был предельно почтительно.
Когда Джорис пустился рассказывать про этих двух Эльз, мне стало понятно, почему мне так не хочется его слушать. Мою сестру звали Эльзи. Эльзи была совсем не похожа на Эльзу Хан. Эльзи была рыжая. А Джорис говорил, что у его Эльзы волосы черные и кожа темная, как у Хелен. Он несколько раз почтительно упоминал, что Хелен похожа на Ханов. Хелен ничего не говорила и все собирала гусениц. Я ничего не говорил, но у меня все холодело внутри. От одного только имени. А вскоре оказалось, что мне становится нехорошо от тоски по Дому каждый раз, стоит Джорису упомянуть Ханов или Констама.
Я был только рад, когда Хелен перебила Джориса.
– Тот последний мир, где радиация, – сказала она. – Как ты считаешь, Они убили там всех, потому что Им надоело играть?
– Нет, – ответил я. – Они наверняка оставили кого-то, чтобы было с чего начинать новую игру. Я побывал в одном мире, где Они только что начали новую игру после потопа.
– Ненавижу Их, – сказала Хелен.
– Понятно, но не надо развивать эту мысль.
Я встал. Мне было видно, что Джорис сумел вывести из себя и Хелен. У меня все холодело внутри, а у нее пробуждалась лютая ненависть к Ним. Надо было отвлечься от Дома, а для этого лучше всего пуститься в путь.
Мы двинулись по дороге мимо огородиков и пришли в городок. Едва мы ступили на главную улицу, как мне стало ясно, что скитальцам в этом мире приходится туго. Все признаки были налицо. В некоторых мирах стоит только сказать, что ты из соседнего города, и тебе поверят. Но здесь – нет. Над головой тянулись провода, так что местные жители могли поговорить с соседним городом и спросить, действительно ли ты оттуда. Дома были опрятные и тщательно выкрашенные. Улицы чистые. Люди ходили только по тротуарам, а авто вежливо сновали по проезжей части. Сплошной закон и порядок. На нас косились.
– Почему они косятся? – нервно спросил Джорис. – Нас арестуют?
Мы, конечно, выглядели диковинно. Хелен выглядела бы диковинно в любом мире. И в красном с ног до головы, как я, тут никто не ходил. А Джорис даже мне казался сущим пугалом – весь в белом, да еще и с намалеванным на груди черным знаком.
– Дети часто наряжаются во что попало, никто не обращает внимания, – легкомысленно отмахнулся я.
Мне хотелось успокоить Джориса. Все-таки он был новичком в Цепях.
Не успели эти слова слететь у меня с языка, как нас остановила женщина.
– Скажите, лапочки, красный, черный и белый, – вы кто? Собираете пожертвования на что-то? Или у вас школьный спектакль?
– Спектакль, – тут же ответил я. – Он – охотник на демонов, а мы – демоны.
На это Хелен ловко и незаметно ссыпала свою коллекцию гусениц в корзинку с покупками, которую несла женщина. Я решил, что это мне в отместку, но это было исключительно для женщины. Мне Хелен отомстила минуты через две.
– Нам пора, – торопливо добавил я. – Наш выход через пять минут. – И я потащил нас в проулок, пока женщина не заглянула в корзинку.
– Не смей так больше делать! – сказал я Хелен.
Хелен занавесилась волосами так, что даже носа не было видно. Она остановилась, совершенно безликая, и произнесла всего одно слово:
– Людоеды.
– Кто? – всполошился Джорис.
На той стороне была мясная лавка, и он с опаской посмотрел на нее. На витрине было написано «Ваш семейный мясник».
Мне не показалось, что это людоедский мир, и я уверен, что и Хелен так не считала.
– Не бойся, – сказал я Джорису. – Это она просто намекает, что я выпендриваюсь. Честно говоря, Хелен, ты не дала мне и слова сказать! А я собирался сообщить, что этот мир на вид очень сложный. Я вижу, что здесь очень строгие законы. Дети должны быть в школе. Здесь обращают внимание на то, кто как одет. Возможно, этот мир из тех, где нужно держать при себе кучу бумажек и всем постоянно показывать, и мы можем попасть в большую беду. Ну, что скажете? Вернемся в огороды и попытаем удачи в следующем мире?
Если бы я знал, сколько всего зависит от их решения, то кусал бы ногти и подпрыгивал на тротуаре. Но я просто решил, что они со мной согласны, и двинулся по улице.
Не успел я пройти и нескольких шагов, как Хелен закричала:
– Вернись!
А когда я вернулся, добавила:
– Это первый приличный мир после Крима-ди-лимы, к тому же тут говорят на языке, который мы все понимаем.
А когда я посмотрел на Джориса, он серьезно проговорил:
– Думаю, мне хотелось бы уточнить, что здесь за трудности. Я был бы рад набраться опыта на случай, если нам придется расстаться.
– Двое против одного, – сказала Хелен.
– Ладно, – кивнул я. – Только я не виноват, если нас посадят в тюрьму, а Правило номер два примется истреблять вокруг нас судей и полицейских.
– Что будем делать? – спросила Хелен каменным голосом, с которым было бесполезно спорить.
– Двинемся в большой город, если он тут есть, – ответил я. – В большом городе никто никого не знает, там проще отовраться.
Я повел всех в другую сторону по улице, чтобы не натолкнуться на женщину с гусеницами. Хелен и Джорис слегка отстали, и я обернулся посмотреть, в чем дело. Оказалось, что Джорис улыбается Хелен, а Хелен раздвинула волосы и ухмыляется ему в ответ. Я страшно разозлился. Они решили «подловить архангела», как говорят в некоторых мирах. Это была месть Хелен. Они с Джорисом решили, что я хвастаюсь перед ними своей многоопытностью, потому и решили остаться здесь и поглядеть, какие беды я на них навлеку по глупости.
«Ну ладно! – подумал я. – Я им покажу!»
Когда я снова обернулся, по мосту над улицей ехал поезд. Я обожаю поезда, даже больше, чем аэропланы. Я и Дома их любил. Хотя этот поезд был совсем не похож на наши: плоский с обоих концов, чистенький, ярко-голубой, – но все равно поезд. Я решил показать этой парочке, как ездят на поездах, и зашагал искать станцию.
Станция нашлась прямо за углом. Нам это было некстати, поскольку мы не успели раздобыть денег (может, в этом мире их вообще было не раздобыть), но я еще ни разу в жизни не видел станции без особой калитки для прохода с тюками и чемоданами. Здесь тоже была такая калитка, широкая и красивая. Я остановился снаружи и разведал местность. Рельсы и две платформы. На платформе за рельсами, на самом конце, я увидел компанию мальчишек, которые сидели на какой-то тележке. Некоторые были еще маленькие и наверняка должны были быть сейчас в школе, если в этом мире и правда такие строгие законы. Все они были с блокнотами и ручками. Наверное, их отправили из школы изучать поезда.
Я повернулся к Джорису:
– Знаешь, если бы у нас были блокноты и ручки, мы могли бы пойти на платформу и притвориться, будто тоже изучаем поезда.
Сказал я это нарочно – понадеялся, что Джорис проделает очередной фокус с белым кроликом.
И правда, Джорис со своим «Кстати, об этом» пошарил за пазухой белого колета. И вытащил блокнотик.
– Больше у меня ни… А что смешного?
– Ничего-ничего, – ответил я. – Дай нам по листочку, и я гарантирую, что мы уедем на ближайшем поезде.
Все прошло как по маслу. Мы проскользнули в калитку на платформу и сели на скамейку, изобразив пристальное внимание и помахивая листочками из блокнота. Человек в форме поглядывал на нас время от времени, но ничего не сказал. Думаю, он решил, что мальчик в белом читает второму мальчику и девочке лекцию про поезда. На самом деле, конечно, нет. Джорис рассказывал нам про Констама.
Подъехал поезд и остановился у платформы. Пока оттуда выходили пассажиры, мы быстренько юркнули в вагон спереди. Никто нас не заметил. Мы сели в удобные кресла в пустом конце вагона, и поезд снова покатил, стуча колесами. Джорис опять завел свое про Констама. Мы сидели и любовались зеленым пейзажем, пока поезд не остановился на следующей станции. Люди вышли и вошли. Кое-кто посматривал на нас с любопытством, но никто с нами не заговорил.
– А почему мы здесь не вышли? – спросила Хелен.
– Городок небольшой, – сказал я. Заметил, как они перемигиваются, и стиснул зубы.
Поезд покатил дальше, и рассказ Джориса тоже, и все про Констама да про Констама. На этот раз речь зашла о том, с какой добротой и пониманием Констам относился к Джорису во время его первой охоты. Я отключил уши. По шевелению волос Хелен было ясно, что она зевает. Джорис все говорил и говорил с восторженным пылом. Поезд иногда останавливался, а Джорис – нет, ни разу. Когда мы подъезжали к городу, внутри у меня все заледенело хуже прежнего, и я был готов заорать на Джориса, чтобы заткнулся. Но это было бы неправильно. Поэтому я просто смотрел на ряды маленьких розовых домиков и высоких стеклянных зданий с трубами на крышах, откуда валил дым и пар, и на тошнотворно-зеленую реку, которая вилась туда-сюда под рельсами, и уповал на то, что скоро Джорис выговорится и запасы Констама в его организме истощатся.
И тут по вагону прошел кто-то вроде охранника, выкликая: «Ваши билеты!»
Джорис не замолчал, но я заметил, что он выжидательно взглянул на меня. За волосами Хелен блеснул глаз-бусинка и тоже уставился на меня. Я притворился, что не вижу.
– Ваши билеты, пожалуйста, – сказал охранник, нависнув над нами.
Я показал в другой конец вагона:
– Наши билеты у мамы. А она… она…
Охранник крякнул, ушел туда и заколотил в дверь с табличкой «V ЛЕТ». К счастью, в этот самый миг поезд, стуча колесами, остановился на очередной станции.
– Нам выходить, – сказал я. – Быстро.
IX
Вот честное слово, Хелен с Джорисом могли бы и уняться, когда я вывел нас всех со станции. Я знал, что делаю, и сделал свое дело хорошо. Станция была довольно новая, бетонная и такая маленькая, что под табличкой «ВЫХОД В ГОРОД» стоял человек и проверял билеты. Я отважно направился прямо к нему и сказал, что билеты у нас забрали в поезде, и он нас пропустил. Когда мы вышли на площадь перед станцией, я повернулся сказать Хелен и Джорису, что мне уже надоело быть архангелом и ловить им больше нечего.
Очень близко, почти что у нас над головой, над домами и над станцией большими желтыми арками тянулся канал.
По-моему, сердце у меня остановилось. А потом заколотилось так сильно, что я больше ничего не видел и не чувствовал. Нижняя половина у меня будто исчезла, я поплыл над землей. В первую секунду я был уверен, что попал Домой. Но разочарование… даже передать не могу, какое это было разочарование, настоящий удар, как будто я и правда летел и вдруг упал, когда я огляделся и понял, что это не может быть Дом. Кругом с урчанием сновали авто. У меня Дома ходили пешком или ездили на конных упряжках. Поезда были другие. Одежда другая. И дома другие: выше, чем в моем мире, прямые, прямоугольные, с множеством окон. А когда я присмотрелся к аркам канала, то понял, что и они другие – не такие высокие и сложены затейливыми узорами из грязного желтого кирпича.
– Что случилось? – спросил Джорис. Наверное, вид у меня был тот еще.
– Ничего, – отозвался я. – Думаю, нам пора пообедать.
Я сказал это не думая. Во мне снова вздыбилась ревущая надежда. Понимаете, часто попадаются цепочки миров, очень похожих друг на друга, вроде тех военных, через которые мы только что прошли. В этих цепочках и язык, и ландшафт, и погода, и очертания городов почти одинаковы, но обычаи разные, потому что это зависит от Тех, кто играет в этот мир. Но чем ближе друг к другу два мира в цепочке, тем больше они похожи друг на друга. А мне стоило только оглядеться, чтобы увидеть, что этот город – и канал, и улицы, и рельсы – точно такой же, как мой родной. А значит, Дом совсем близко. Может быть, даже в следующем мире.
Но у меня были Хелен и Джорис, и надо было сначала позаботиться о них. Раздобыть им обед и показать, как устроиться в мире вроде этого. Я показал им магазины – там, где в моем городе был богатый район. Там у нас все складывалось не очень хорошо. Мы не могли разобраться, как устроено дорожное движение, а во всех магазинах были особые служители, которые высматривали воришек. Нам так и не представилось случая раздобыть еды, даже на крытом рынке. Беда в том, что мы очень бросались в глаза – один в черном, другой в белом, третий в красном. Будто фишки в игре. На нас все время косились. И не то чтобы тут не было принято ярко одеваться, наоборот. Попадались и люди с ног до головы в черном, как Хелен. Но ни одна живая душа не разгуливала в белом с намалеванным на груди черным знаком, как у Джориса. Я понял, что нам нужно найти Джорису какую-то другую одежду.
В конце концов я сказал Хелен и Джорису – который ухмыльнулся, – что в ближайшем продуктовом магазине попробую провернуть фокус «Я потерял кошелек». Никакого секрета: заходишь в магазин, встаешь в очередь к прилавку перед кем-нибудь добрым на вид, просишь продавца все, что хочешь, а потом роешься в карманах и обнаруживаешь, что кошелек пропал. Я это сто раз проделывал. Добрый на вид человек за тобой в очереди почти всегда купит тебе хотя бы что-нибудь.
На двери в магазин висела табличка «Готовые обеды навынос». Я оставил Хелен и Джориса снаружи и вошел. «Готовые обеды» – это был целый штабель пухлых рулетов из хрустящих лепешек с ветчиной и салатом, сложенный на прилавке за стеклянной загородкой. А как они пахли! Как только я зашел в магазин, на меня накатила волна уныния. Пахли они точно так же, как рулеты, которыми мы торговали в нашей лавке. Фургон булочника доставлял их еще теплыми к завтраку каждый день, кроме воскресенья. И мама всегда давала нам с Робом и Эльзи в школу по две штуки и по куску сыра в придачу. И вот я стоял и нюхал рулеты, и это было как вчера. Я прямо видел, как мама отрезает проволочной сырорезкой большой кусок сыра, а от него – по ломтю для каждого из нас, и на лоб у нее падает прядь волос, и лицо вечно раздраженное. А Эльзи вертится вокруг и поджидает, не отвалятся ли крошки, которые можно будет подобрать. Описать не могу, какая на меня навалилась тоска. Я просто стоял столбом и даже не высматривал кого-нибудь доброго на вид.
Из оцепенения меня вывела какая-то добрая дама:
– Что случилось, мой утеночек? На тебе лица нет!
Какое счастье, что Хелен и Джорис остались на улице! Я посмотрел на даму и хотел было сказать про то, что потерял кошелек, но чуть не ляпнул – знаете что? Я чуть не ляпнул: «Я потерялся». Даже начал говорить: «Я потерял…», но прикусил язык. Как будто мне четыре года!
К счастью, дама сама все додумала, как надо. Да и староват я был для таких заявлений. Уж точно староват.
– Потерял деньги, да, утеночек? – проворковала она. – Не огорчайся. Я куплю тебе рулет. Девушка, два рулета с ветчиной, пожалуйста.
Я вышел из магазина с большим хрустящим рулетом и практически в слезах.
– Маловато на троих, – сказала Хелен. – Джейми, что с тобой такое?
– Ничего, – буркнул я и разделил рулет на три части. Потом сказал: – Меня беспокоит, как мы выглядим. Мы очень заметные. Нам срочно надо раздобыть одежду хотя бы для Джориса. Ты, Хелен, одета вполне приемлемо. На меня тоже никто не обращал бы внимания, если бы брюки были потемнее, но Джориса надо переодеть, это срочно.
Тут я натолкнулся на непреодолимое препятствие. Как только Джорис понял, что намерения у меня серьезные, лицо у него стало белое и оскорбленное.
– Нет-нет. Это официальная форма охотника на демонов, и я ношу ее с гордостью. Я отказываюсь надевать что-то другое, не желаю прятаться!
– Не дури, – сказал я. – Ты в ней как бельмо на глазу. Мы сможем устроиться в этом мире, только если будем выглядеть как все.
– Ни за что, чтоб мне провалиться! – отчеканил Джорис.
Он всерьез разозлился. Я даже не ожидал от него такого. Впрочем, погнался же он за демоном Адраком…
– Тогда надень поверх какую-нибудь куртку, – предложила Хелен.
– А взмокнешь – так тебе и надо! – добавил я. Я тоже разозлился.
После долгих споров Джорис согласился на куртку. Как будто делал нам большое одолжение. После этого нам, само собой, нужно было достать ему куртку.
– Пошли на окраину, – сказал я. – Там сушат белье на улицах.
Так и есть. Но на самом деле я хотел посмотреть, насколько этот город похож на мой Дом. А самая короткая дорога в предместья с этой улицы проходила через те места, где в моем родном городе был наш двор. Я хотел проверить, нет ли там чего-то похожего.
Конечно, не было. Когда мы очутились в тех краях, оказалось, что все там застраивают новыми желтыми домами. Поскольку жильцы туда еще не въехали, там не было ни веревок, ни белья, ни курток, и пришлось идти дальше на окраины. Под вечер Джорис и Хелен уже обменивались многозначительными ухмылками. Они думали, что в этом мире я точно осрамлюсь.
К счастью, после этого мы подошли к длинной живой изгороди. Из-за нее до нас доносились детские голоса. По моему опыту, если где-то играют дети, значит поблизости на земле наверняка оставлены куртки и свитера. Я пробрался сквозь изгородь.
Все оказалось даже лучше, чем я думал. Насколько я мог судить, все дети были мальчики ростом примерно с меня и с Джориса, хотя это я только догадывался, потому что мальчики были довольно далеко, играли там в какую-то игру. Все они были в белом. В нескольких шагах от меня у самой изгороди стоял домик с деревянным крылечком. Возле него было одно из здешних авто, все квадратное и с множеством окон. Я сделал вывод, что поскольку здесь редко ходят с ног до головы в белом, значит обычная одежда этих мальчиков сложена либо в доме, либо в авто.
– Я покараулю, – сказала Хелен.
Она спряталась за авто, а мы с Джорисом прокрались по скрипучим доскам крылечка и заглянули в дом. Все лучше и лучше. Мы впервые не ошиблись. Все стены были увешаны одеждой – сколько хочешь темно-серых брюк, черных ботинок, серых рубашек и полосатых красно-синих галстуков. Поверх каждого набора одежды висел темно-синий пиджак с эмблемой на верхнем кармане. Оставалось только найти вещи по размеру. Мне подходила добрая треть темно-серых брюк. Я выбрал те, которые сидели лучше всего, и переоделся.
Но тут у Джориса некстати приключился очередной приступ охотничьей гордыни.
– Значит, здесь носят белое! – Он показал на мальчиков вдали. – Может быть, я тоже играю в такую игру, как они!
– Они для игры переодеваются, – возразил я. – И по улицам в этом наряде не ходят. Бери пиджак. Живо.
Почти все пиджаки оказались Джорису малы. Я же говорил, он крупнее меня. И к тому же так не хотел снимать свою драгоценную форму, что нарочно не спешил, пока искал пиджак, который бы на него налез. И как раз когда он снял с крючка самый большой и сунул руку в рукав, разразилась настоящая катастрофа. В дом вошли три мальчика – хозяева одежды.
Думаю, они нас услышали. Наверняка. К этому времени я уже костерил Джориса на чем свет стоит. А они постарались не шуметь. Когда я взглянул на их лица, то увидел, что они ждали найти здесь воров, крадущих их одежду. Сердце у меня екнуло. На их лицах читалось хладнокровие, презрение и враждебность, а еще мрачная радость, что они застали нас с поличным. А подо всем этим, само собой, возмущение. Но еще глубже скрывалась насмешка. Дело в том, что эти три мальчика были те самые юные аристократишки, за одного из которых я поначалу принял Джориса, а такие мальчишки сохраняют хладнокровие до последнего. Тот, что впереди, был самый хладнокровный. Ростом он был примерно с меня и в очках – в таких совиных, в толстой оправе. Мальчик у него за спиной был выше Джориса. Третьего я толком не разглядел, потому что совоглазый обернулся к нему и рявкнул: «Иди приведи Смитти», и тот убежал.
А значит, оставались двое на двое. Но на самом деле соотношение сил было даже не такое – вспомним Правило номер два.
Верзила посмотрел на Джориса, который так и застыл с рукой наполовину в рукаве.
– Мой блейзер, полагаю, – произнес он.
– И думаю, мои брюки, – подхватил совоглазый, глядя на меня. – Что ж, прошу вас, не стесняйтесь, возьмите и мою рубашку заодно. Красная рубашка – это не по форме.
– Забирай свои брюки, – сказал я.
Другого выхода не было – из-за Правила номер два. Не мог же я допустить, чтобы они погибли только потому, что хотели вернуть свою одежду. Джорис увидел, что я серьезно, вытащил руку из верзилиного блейзера и аккуратно повесил его обратно на крючок. Мальчики изумленно уставились на наряд охотника на демонов, а потом две головы медленно повернулись и посмотрели на мои красные крима-ди-лимовские штаны, валявшиеся на полу.
– Адам, – сказал верзила. – Кто эти люди?
– Шахматные фигуры, сдается мне, – ответил совоглазый Адам. – Судя по виду, красная пешка и белый слон.
– Живые шахматы! – воскликнул я. – Да если бы вы только знали! Давай я верну тебе брюки, и мы уйдем.
– Полагаю, в тюрьме тебе выдадут особый костюм, – сказал Адам. – Тогда я их и заберу.
Тут на деревянном крыльце снаружи послышались шаги – одни легкие, другие тяжелые. Это вернулся третий мальчик и привел высокого, рассеянного, скучающего учителя.
– Нет, сэр. Я не совсем это имел в виду. – По голосу мальчика было понятно, что он вот-вот потеряет терпение. – Они собирались украсть нашу одежду.
Учитель смерил нас с Джорисом рассеянным скучающим взглядом. Потом точно так же посмотрел на Адама с приятелем. Во мне пробудилась надежда. Этот учитель плохо знал мальчиков и не представлял себе, что происходит.
– Мальчики! Что вы здесь делаете? – спросил он у меня.
– К сожалению, мы не взяли с собой нужную одежду, сэр, – сказал я.
– Это не причина брать чужое, – сказал учитель, – и прятаться здесь. Выходите на поле. К вам это тоже относится, – велел он остальным троим.
Он решил, что мы с Джорисом тоже из этой школы. Я подавил улыбку. А я быстро соображаю, что да, то да! Но тут я перехватил взгляд Адама из-за очков. «Ну, погоди, – сказал мне этот взгляд. – Ты у меня попрыгаешь». И когда верзила открыл рот, чтобы объяснить учителю, как все было, Адам пнул его в щиколотку. Как видно, он тоже быстро соображал.
Мы все толпой вышли из дома, где хранилась одежда, и спустились с крыльца. Учитель шел между нами с Джорисом. Может, он и был рассеянный, может, и скучал, но исполнял свой долг, а своим долгом считал проследить, чтобы мы пошли играть в эту их игру. Мне оставалось только идти и уповать на лучшее. Правило номер два связывает по рукам и ногам. Я никогда не проверял, насколько оно строгое или наоборот и что плохого может сделать обычный человек скитальцу, прежде чем оно подействует. Я уже говорил, что меня били, и ничего не случалось, и что меня грабили и сажали в тюрьму – и тогда кое-что случалось, и еще как.
Пока мы шли через поле, я посматривал вокруг – искал Хелен. Ни следа. Наверное, она пролезла обратно за изгородь. Я покосился на Джориса. Он был совершенно спокоен и ехидно ждал, что я сделаю, чтобы вызволить нас из этой истории. Он не знал, что я не могу. Меня это пугало. Я понял, что не помню, рассказывал ли я ему про Правило номер два, а если и рассказывал, Джорис наверняка в это время думал о Констаме и не слушал меня.
Со всех концов поля к нам сходились мальчики в белом и удивленно глядели на нас. Они-то знали, что впервые нас видят, что бы там ни думал учитель. Пока мы шли, довольно много мальчиков как бы невзначай переместились нам за спину. Адам им махал и подмигивал. Я слышал их шепоток.
– Так я и знал! Старина Смитти в своем репертуаре!
– Заметано. Сразу после…
Нас вывели на середину поля, где шла игра. По обе стороны площадки было воткнуто в землю по три колышка – и все. Я в жизни не видел такой загадочной игры.
Учитель прошел к дальней стороне поля и сказал:
– Хорошо. Начинаем заново с начала овера.
После чего завел глаза к небу и погрузился в мечты. Игра наводила на него смертную скуку.
К нам с Джорисом с глумливыми усмешками подошли двое мальчиков и вручили по паре больших белых штуковин, к которым были приделаны ремешки с пряжками. Больше всего штуковины были похожи на лубки – такие надевают, если переломаешь себе обе ноги. Но я подумал, что это, скорее, для того, чтобы, наоборот, не переломать себе ноги. Остальные мальчики окружили нас кольцом.
– Надевайте накладки, – велел один из них. – Будете бэтсменами.
Мальчиков было по меньшей мере двадцать. Джорис покосился на меня с сомнением. Я ответил беспомощной гримасой. Джорис пожал плечами, и мы пристегнули лубки к ногам. Они были огромные. Ходить в них я мог только широко расставив ноги. К этому времени я люто возненавидел Адама. Был готов сдать его Правилу номер два с потрохами. Отличный способ не дать человеку сбежать – надеть ему на ноги огромные грязные лубки!
Когда мы были готовы, нам вручили по длинной деревянной бите и поставили каждого перед набором из трех колышков. Потом все распределились по полю. Верзила взял откуда-то красный мяч и ушел с ним далеко за спину Джорису. Джорис растерянно обернулся посмотреть, куда это он, а потом обернулся обратно: верзила пустился галопом прямо на него и взмахнул рукой. Джорис решил, что его сейчас ударят, и закрылся локтем. Но вместо этого красный мяч вырвался из руки верзилы и полетел через всю площадку прямо на меня.
Я увидел его и пригнулся. И правильно. Мяч был твердый, как пуля. Позади меня раздался деревянный стук, и все три колышка повалились.
Учитель очнулся от своих грез:
– Что, аут?
– Нет-нет, сэр! – грянул хор голосов. – Просто калитка упала.
Они воткнули колышки обратно, и верзила снова помчался галопом на Джориса. Но Джорис на сей раз решил, что его задача в игре – не дать верзиле делать из меня жертву и побивать мячами. Когда верзила размахнулся, Джорис ударил его битой в живот. Мяч взвился в воздух. Верзила сел.
– Ноу-болл! – закричали все.
Я обрадовался. Решил, что они проиграли.
Верзила вскочил и, набычившись, навис над Джорисом. Не слышал, что они друг другу говорили, но видел, что спор у них жаркий. Остальные мальчики столпились вокруг и присоединились к обсуждению. Сквозь гул толпы до меня донесся голос Джориса:
– Будь я проклят, если буду стоять сложа руки и смотреть, как вы побиваете его красными камнями!
От толпы отделился один мальчик и, прямо-таки сияя, подошел к Адаму. Адам – тоже в лубках – стоял рядом со мной, чтобы я не удрал.
– Они о нем даже не слышали!
– Я вижу, – ответил Адам. – Значит, придется им научиться, правда?
– Мальчики, продолжайте, – велел учитель, снова спустившись с небес на землю.
Мяч не потерялся. Верзила взял его и швырнул в меня еще пять раз. Все это время Джорис мрачно стоял на дальнем конце площадки и ничего не делал, только вполголоса говорил что-то верзиле. Я чувствовал себя совершенно беззащитным. Но все-таки уворачивался, кроме одного раза, когда мяч словно бы вильнул следом за мной и ударил меня в ногу. Пришлось попрыгать, что доставило мальчикам массу удовольствия.
Потом все разошлись побродить по полю. В это время Адам посмотрел на меня с глубоким презрением.
– Тебе положено отбивать мяч, – сообщил он. И не спеша переместился поближе к Джорису.
Ко мне подошел другой мальчик – тоже небрежной походкой и как бы между делом, разминая в руках мяч. А потом он бросил его в Джориса. К этому времени Джорис уже решил, что судьба ему стоять возле колышков. И заметил мяч только в последнюю секунду. Наверное, он поэтому разозлился. И ударил по мячу. А я говорил, что Джорис очень спортивный. Раздалось оглушительное «бац», и мяч пропал из виду.
Тут все закричали:
– Бегом!
Мы с Джорисом, естественно, побросали биты и пустились бежать со всех ног. Мы думали, что мяч сейчас упадет на нас сверху. А раз уж мы побежали, то решили попробовать удрать.
– Да нет же! – закричали все. – Вернитесь!
Многие мальчики погнались за нами. Мяч между тем действительно упал и едва не угодил в учителя.
Нас поймали очень быстро. Я не мог бежать в лубках. Джорис мог, но ждал меня.
– Почему вы нас не отпускаете? – спросил Джорис, когда они нас догнали. – Вы уже повеселились.
– Отнюдь нет, – возразил Адам. – Я надеюсь получить назад свои брюки – так, как хочу. Неужели вы, архикретины, не можете вбить себе в голову, что бежать надо только от калитки до калитки? Туда и обратно.
Мы вернулись на поле и стали делать все, как сказал Адам. По-моему, Джорису даже понравилось. Он потом говорил, что ему бы точно понравилось, если бы его не одолела гордыня. По сравнению с охотой на демонов игра оказалась пустяковой. Когда в Джориса запускали мячом, он каждый раз отбивал его, как мальчишки ни изощрялись. Один раз мяч улетел за изгородь, на дорогу. Моей задачей было бегать туда-сюда по команде, пыхтя и отдуваясь. Два раза колышки сбивали, пока я бегал. Один раз я сам сбил их, когда уворачивался от мяча. Каждый раз учитель спускался с небес на землю и спрашивал, не аут ли это, но мальчишки неизменно отвечали, что нет. Я уже понял, что слово «аут» означает, что можно снять лубки с ног и постоять где-нибудь в другом месте. Но они не желали меня отпускать. Я ведь мог удрать.
Наконец мне все-таки удалось попасть по мячу битой. Он летел мне прямо в голову, и пришлось его отбить, иначе мне пришлось бы несладко. Мяч отлетел в сторону, и Адам поймал его.
– Ты перебрал все возможные варианты аутов, – заявил он. – Это рекорд. Остановимся, пожалуй.
– Как пожелаешь, – слабым голосом отозвался я.
Тогда Адам хладнокровно подошел к учителю и прервал его размышления:
– Мне кажется, сэр, нам пора идти.
Я посмотрел на Джориса. Мы с ним сели на траву и поскорее отстегнули лубки. Но у остальных мальчишек, само собой, никаких лубков не было. Мы подняли головы и обнаружили, что нас обступил тесный круг ног в белых штанах.
– Вы ведь никуда не спешите, правда? – спросил Адам.
Мы тут же перестали спешить. Решили отложить побег на то время, когда они будут заняты переодеванием.
Но Адам и это предусмотрел. Никто из мальчиков не пошел переодеваться. Пока мы шагали по полю, почти все они как бы невзначай вертелись вокруг нас с Джорисом. Несколько человек метнулись в домик и вышли оттуда нагруженные охапками одежды. К этому времени остальная толпа вместе с нами подошла к квадратному авто, а учитель залез на переднее сиденье – он собирался всех везти. Мальчишка, вышедший из домика последним, запер дверь и принес ключ учителю.
Учитель слегка удивился:
– Почему никто не переодевается?
– Мы званы на чай к Макриди, сэр, – ответил мальчишка. – У него и переоденемся.
Мне это крайне не понравилось. Значит, сейчас они загрузят нас в это авто и куда-то увезут. Даже если ничего больше не произойдет, мы потеряем Хелен. Хелен нигде не было видно.
Адам стоял у двери в авто.
– Забирайтесь, – велел он нам с ледяной усмешкой.
Я метнулся в сторону и хотел убежать. Они этого ждали. Стоило мне метнуться, и меня схватили четверо мальчишек.
– Нет-нет, никаких драк! – сказал учитель из авто.
– Ничего-ничего, сэр, – отозвался кто-то, заломил мне руку за спину и нажал. – Он просто оступился и чуть не упал. – Чье-то колено ударило меня сзади и втолкнуло в авто.
Ни с кем ничего не случилось. Правило номер два почему-то не действовало, а очень жаль. Наверное, оно не подействовало, потому что Джорис забрался в авто следом за мной безо всякого сопротивления.
Внутри было много кресел. Мальчишки протолкались мимо нас и расселись. И тут между двух задних рядов кресел вдруг возникла Хелен. Она опять ошиблась. Решила, что безопаснее всего спрятаться в автобусе.
А когда первый раз видишь Хелен, это потрясение. Из-за того, что у нее будто бы нет лица. Ближайший мальчишка шарахнулся от нее с громким «Ай!». Он всерьез испугался, но попытался обратить все в шутку.
– Они среди нас! – завопил он. – Тут безликий пришелец!
– Так-так, – сказал Адам, поглядев мне за плечо. – Самка вашего вида.
– А теперь что случилось? – устало поинтересовался учитель.
Что они ему сказали, я так и не узнал, потому что Джорис поглядел на Хелен и расхохотался. Хелен отвела с лица прядь волос, чтобы поглядеть на меня. И тоже засмеялась.
– Что смешного? – спросил кто-то.
– Они не понимают! – воскликнул я. – Они надо мной подшутили! Это нечестно! Такое могло случиться с каждым!
Адам посмотрел на меня. Это был бесстрастный бесцветный взгляд, нагруженный подозрениями. Я тут же заткнулся. Но Джорис – нет. Он все сгибался пополам от хохота. И не умолк, даже когда авто поехало, и хохотал все время, пока учитель вез нас обратно в город. И был еще красный и булькал, когда учитель крикнул:
– Макриди! Где высадить вас с бандой?
Оказалось, это Адам. Макриди была его фамилия.
– Я покажу, сэр. – Он подошел и встал за плечом у учителя. – Вот здесь, сэр. Под этим фонарем.
Авто остановилось. Все мальчики встали. Кто-то потащил меня за собой. Джорис тоже пошел – ему по-прежнему было весело, будто зеваке, который идет вместе со всеми, чтобы не упустить самого забавного. Ему и в голову не приходило, что мы в беде. Хелен тоже затопала к выходу из авто – в самом конце очереди. Я надеялся, что хоть она что-то предпримет. Как быть с Хелен, мальчишки не понимали. Делали вид, будто ее нет. Они столпились на оживленной улице вокруг нас с Джорисом, но Хелен осталась стоять поодаль, под одним из деревьев, которыми была обсажена улица.
– Куда? – спросил Адама один из мальчишек.
– Вот туда, – ответил Адам. – Там чудесный пустынный проулок, который нам очень подойдет.
Я заранее боялся, что там окажется проулок. Этот город был похож на мой просто до жути. Улица, где нас высадили, была широкая, с необычно широкими тротуарами. В этом мире вдоль тротуаров росли деревья, а за деревьями тянулись магазины. Но в нашем мире эта улица была самой что ни на есть трущобной, широкие тротуары были завалены грудами мусора, а за ними жили бродяги и бездомное хулиганье. В проулке уж точно могли ограбить. А в этом мире, несмотря на всю чистоту и порядок, на широком тротуаре тоже сидел бродяга. Он спал, привалившись к дереву – следующему за тем, где стояла Хелен. Я его заметил, когда мальчишки тащили меня к проулку: я сопротивлялся, волочил ноги по тротуару и задел его старые грязные башмаки.
– Надеюсь, насчет чая ты серьезно, Адам, – сказал кто-то, пока мальчишки тащили нас с Джорисом вверх по ступенькам, за которыми начинался проулок.
– Естественно, – ответил Адам. – Предки уехали на выходные. Оставили тонну еды. Только разберемся сначала с этой шпаной. Я хочу, чтобы они понимали, как это, когда у тебя воруют одежду.
К этому времени я уже понимал, что нас тоже ограбят в этом проулке. А я вам уже говорил, что бывает, если кто-то пытается ограбить скитальца. Мало того, я понимал, что попытаться отобрать у Джориса его драгоценный костюм охотника на демонов – значит привести его в состояние боевого безумия.
X
Наши многочисленные ноги протопотали по проулку, который шел между высокими красными стенами. Нас будто конвоировали на казнь – только эта расстрельная команда сама шла на самоубийство. И не подозревала об этом.
– Слушай, – сказал я. – Я тебе уже сказал, что верну брюки. Забирай.
– Ага, но я хочу еще твою рубашку, – ответил Адам.
– Бери. Я отдаю, – сказал я.
К этому времени мы подошли к месту, где проулок изгибался, так что ни с улицы, ни с другого конца нас не было видно. Мальчишки остановились и сгрузили охапки одежды у стены. Потом разошлись и встали так, чтобы одна компания окружала Джориса, а другая меня.
– Так ты, оказывается, трус? – спросил Адам.
Я ему крепко не нравился. Это было взаимно.
– Дело вообще не в этом, – ответил я. – Стоит вам у нас что-то отобрать, и вы погибнете. Вот и все. На тебя мне плевать с высокой вишни, но с этими ребятами было бы жестоко так поступать. – Я это сказал, чтобы втолковать Джорису про Правило номер два. – Так что вам же лучше, если вы нас просто вздуете. Мы бы предпочли так, правда, Джорис?
Что думал Джорис, мне было непонятно. Все-таки голова у него была устроена совсем иначе. Зато я точно знал, что думали мальчишки. Они думали, что я просто пытаюсь заговорить им зубы. И надвинулись на нас.
Ну и пришлось драться. Тупее положения не придумаешь. Все причины и следствия вывернулись наизнанку. Тем не менее я с большим удовольствием врезал Адаму и попытался сорвать с него очки и растоптать, пока остальная толпа стаскивала с меня его штаны.
Кто-то закричал:
– Берегись! У него нож!
Все тут же шарахнулись в сторону и потащили меня за собой.
Толпа расступилась, и Джорис оказался один на пустом пространстве в боевом полуприседе, на вид очень профессиональном. И нож у него в руках на вид был крайне неприятный. Такой тонкий мерцающий штырь вроде осколка стекла.
– Это противодемонский клинок, – процедил Джорис. Да, он впал в боевое безумие. – Мне достаточно только прикоснуться к вам. Кто первый? – Это приглашение он сопроводил выпадом в сторону ближайшего мальчишки.
– Не смей! Джорис, прекрати! – закричал я. – Нельзя! Ты вступаешь в игру!
– Я не обязан следовать Их правилам! – отозвался Джорис. И обвел нас всех таким взглядом, будто мы были Они. Потом все так же в полуприседе снова дернулся в сторону ближайшего мальчишки, и тот от ужаса вжался в стену.
Я вспомнил, что Джорис побывал в Их кольце не далее как вчера. Наверное, сейчас в нем живо пробудились воспоминания. Я стряхнул со своей шеи и плеч руки примерно шестнадцати мальчишек. Джорис занес штырь-клинок. Я бросился вперед и хотел схватить Джориса.
Джорис знал, что это я. Я по его лицу видел, что он не хочет мне навредить. Но в тот самый миг, когда я его схватил, раздался громкий дрожащий голос:
– Стыд и срам! Стыд и срам! Брат идет на брата!
Джорис вздрогнул, я тоже. Клинок дернулся в сторону перепуганного мальчишки. Тут раздалось какое-то шипение, и из левой руки у меня хлынула кровь.
Я схватился за руку, попытался зажать рану и привалился к стене. Все глядели на меня с ужасом, особенно Джорис.
– Достаточно только прикоснуться! – сказал он. – Я тебя убил!
От потрясения можно наговорить всякого такого, чего ни за что не стал бы. Вот и я сказал:
– Вот видишь, что такое смертельная рана для граничного скитальца. Не умру я, дурачина. Правило номер один.
– Прости меня, – еле выговорил Джорис.
– Уповайте на бессмертие! Уповайте на жизнь вечную! – закричал дрожащий голос.
Это был тот старый бродяга, который спал под деревом. И с ним Хелен. Она убрала половину волос, чтобы поглядеть на кровь, текущую у меня по руке. Священный лик был на удивление бледный и огорченный. За спиной у нее я сквозь серую дымку различал, как несколько мальчишек, похватав свою одежду из кучи, на цыпочках крадутся прочь.
– Верно говорят: надежда для души как бы якорь! – прорычал бродяга. – Истинная правда! Надежда твоя привязана к тебе, будто мельничный жернов на шее! А я говорю тебе – оставь ее! Оставь надежду!
Я посмотрел на бродягу – внутри у меня все стало совсем серое и шаткое, – сполз по стене и сел на землю. Отсюда, снизу, вид у старика был просто омерзительный. Множество дряблых морщинистых подбородков, ощетинившихся редкими длинными седыми волосами. Из-под засаленной шляпы свисают грязные белые космы. В слезящихся черных глазах горит огонь безумия, а ниже торчит нос – большой, острый, костистый, как нос «Летучего Голландца». Я сразу понял, что он скиталец. Потому-то Хелен его и подцепила. Но при этом так же ясно было и что он сумасшедший – явно и очевидно буйнопомешанный.
К этому времени почти все мальчики разобрали свою одежду и испарились. Я их понимаю. Когда они увидели нож и кровь и сообразили, что имеют дело с психами, то подумали, что этот проулок, очевидно, из тех мест, о которых как-то быстро забываешь. Более того, не успел старый бродяга сказать еще что-нибудь, как при нас остался только Адам. Похоже, Адам хотел сделать что-нибудь с моей рукой. Она болела. Я отодвинулся:
– Не трогай меня.
– Не шевелись, – сказал Адам. – Такое кровотечение можно остановить. У тебя есть запасной носовой платок?
У меня, конечно, не было.
– Джорис, – сказал я. – Что-нибудь, чтобы остановить кровь.
Бедный Джорис. Лицо у него стало как творог. Он бережно убирал этот свой клинок в ножны, но замер, когда я к нему обратился.
– А, – сказал он. – Кстати, об этом.
И пошарил за пазухой кожаного колета. Я рассмеялся – несмотря ни на что.
– Кто оставит надежду, оставит с нею все зло! – втолковывал нам бродяга, словно лекцию читал. – На смену ей придут любовь и красота, займется заря нового мира!
– Над чем это ты смеешься? – спросил Адам.
– Надо всем, – ответил я.
Я сидел, прислонясь к стене, и хихикал. Хелен опустилась на колени рядом со мной и убрала за уши обе половины волос. Джорис уже успел проделать свой фокус и вытащил аптечку. Похоже, Адаму она очень понравилась. Они с Джорисом разложили ее рядом со мной и приступили к делу. Хелен сидела с другой стороны. Наверное, она считала, что они не обращают на нее внимания, поскольку бродяга без устали проповедовал. Но Адам все слышал. Я это точно знаю: когда кто-то к тебе прикасается, всегда чувствуешь, если он к чему-то прислушивается. Пальцы у него становятся легкие и напряженные, чтобы не мешать слушать.
– Что произошло? – спросила Хелен. – Как такое могло случиться? Я смотрела прямо на тебя, и клинок все это время к тебе даже не приближался!
– Они, – отозвался я. – Очередное правило, которого я раньше не замечал. Джорис должен был задеть того мальчишку у стены. Но не мог – иначе он вступил бы в игру. Мальчик бы погиб. Я думаю, если бы меня рядом не оказалось, Джорису пришлось бы заколоться самому. – И я снова рассмеялся – ради Адама. Они наверняка устроили все так, чтобы Адам ничего не понял. Я надеялся, что он решит, что все мы тут чокнутые, и испарится, как все остальные.
Бродяга бросил проповедовать и сурово нахмурился, глядя на меня.
– Грешно смеяться над истиной, о мой собрат-изгнанник, – сказал он. – Вместе мы сильнее.
– Я не над тобой смеялся, – ответил я.
– Ты еще молод душой и неискушен, – заявил бродяга, – пусть и мнишь себя древним. Послушай меня. Послушай Агасфера, одного из первых, кто заклеймен Каиновой печатью!
Странно он себя назвал. Как будто чихнул.
– Кого-кого послушать? – уточнил я.
– Агасфера! – повторил старый бродяга. – Я тот самый, кого прозвали Вечным Жидом.
Тут Адам доделал то, что делал с моей рукой, и выпрямился. Он уже не скрывал, что внимательно слушает бродягу.
– Впервые слышу, – сказал я.
Мне хотелось, чтобы старик наконец замолчал. Но от этих моих слов он только снова завел свою шарманку. Хуже Джориса. Опять занудил про надежду и якоря – да, про Них он знал, тут никаких сомнений, – а мне только и оставалось, что сидеть и смотреть на его огромный грязный большой палец, который выглядывал из дыры в одном из его больших потрескавшихся старых башмаков, и ждать, когда он замолчит.
– Теперь и я жалею, что привела его, – шепнула Хелен. – Я думала, от него будет польза.
– Это Они обрекли меня на надежду, – сказал Агасфер. – Это Они сковали меня надеждой, словно цепями, поставили передо мною цель и отправили в путь. Но эта цель вечно отдаляется от меня, будто мираж в пустыне, будто звезда от звезды. Я очень устал, а надежда – тяжкое бремя. А Они сковали язык мой ложью, и теперь я не могу поведать мирам о Них, а должен говорить, что согрешил я пред Господом. Но это ложь, а вместе мы сильнее. Если повстречаются мне трое таких же, как я, я вправе открыть им истину. Ибо от рождения наделен я особым зрением, и я видел Их. Я видел Их игровую доску, видел игру, в которую играют Они народами. И тогда я стал проповедовать, дабы предостеречь народ мой от Их коварства. И вот потому-то Они и взяли меня, Агасфера, и заковали в цепи, и отправили проповедовать ложь языком моим, и зовусь я теперь Вечный Жид.
Сообщив нам все это, бродяга нацелил слезящиеся черные глаза на Адама.
– Слышал ли ты речи Агасфера? Внял ли ты? – спросил он.
– О да. – Адам вежливо улыбнулся. – До последнего слова.
– Тогда бремя надежды стало легче, – сказал бродяга. – Эти трое подтвердят, что я говорю истину. – Он по очереди кивнул Хелен, Джорису и мне. – Вскоре вы расстанетесь, – сказал он нам. – Они не допускают, чтобы скитальцы подолгу держались друг друга. Дорожите временем.
И потом, к моему великому удивлению – я-то был готов поклясться, что нам теперь от старика до завтра не отделаться, – он затопал прочь по проулку.
Адам проводил его взглядом:
– Если он говорит правду, ему две тысячи лет от роду.
– Да он же псих! – торопливо заговорил я. – Полоумный, не в себе, ненормальный, помешанный!
– Он-то да, но ты-то нет, – сказал Адам.
– Да мы тут все не в своем уме, – сказал я. – Погляди на нас. У нее нет лица. Он думает, что охотится на демонов. Я вот постоянно краду чужие штаны. На самом деле…
Хелен перебила меня.
– Не обращай внимания, – сказала она Адаму. – Джейми не виноват. Он очень боится правил.
Я мог бы и заранее догадаться, что Хелен не упустит случая меня подколоть.
– Боюсь? Еще бы! Да и тебе стоит. Только что ты видела два правила в действии. Джорис убил меня, потому что иначе убил бы кого-нибудь другого. А я не умираю, потому что не могу.
Зря я это сказал. Но после всего случившегося я был совершенно раздавлен. И рука болела.
– Вот именно, – сказал Адам. – Был бы признателен, если бы мне что-нибудь объяснили.
– Мы все граничные скитальцы. Бродяга тоже, – сообщила Хелен.
– Помолчи, – сказал я. – Он не поверит ни единому твоему слову. Никто не верит. Им нельзя.
Адам встал.
– А ты попробуй, я слушаю, – предложил он мне с самым что ни на есть хладнокровным видом. – Если сможешь меня убедить, забирай себе мои брюки.
Я не ответил. Не хотел выставлять себя дураком даже за пару брюк. Хелен посмотрела на Джориса, она явно надеялась, что он примет ее сторону. Но Джорис стоял, прислонившись к стене, и вид у него был не лучше моего. Он сказал мне:
– Тебе нужно сделать перевязь для руки. Она заживет?
Я не успел ответить, что бывали во мне дыры и побольше, когда Адам сказал:
– Я живу в конце проулка. Пойдем ко мне, найдем, из чего сделать перевязь.
Должно быть, кто-то согласился пойти к Адаму. Я нет. Мне и так было очень серо. Но мы туда отправились. Мне было так серо, что я почти не разглядел дом, запомнил только, что он был большой и красный и перед ним росли деревья. Первое, что я помню отчетливо, – это как я сижу в передней. Там был скелет. Он стоял в передней и смотрел на меня.
– Познакомься, это Фред, – сказал Адам.
Скелета звали Фред. Он стоял косолапыми ступнями на чем-то вроде постамента. На постаменте были золотые буквы «ФРЕДЕРИК М. АЛЛИНГТОН».
– Какая красота! – восхитилась Хелен.
Фред был как раз в ее вкусе.
– Мой отец врач, – сказал Адам. – Я тоже, наверное, стану врачом.
Мы тем временем перешли в кухню, и Джорис пристраивал мне руку в кухонное полотенце. Джорис уже немного пришел в себя и теперь все извинялся. Они заставили меня сесть в кресло и выпить кружку сладкого чая. Помню, как я пил и неодобрительно разглядывал кухню. Слишком уж беленькая и чистенькая. Нигде не видел таких прекрасных кухонь, как в моем мире. Наша кухня Дома была коричневая, темная, захламленная, а на печке в любой момент можно было поджарить гренки, даже летом. А эта кухня вполне могла сойти за больницу. Никакой тебе печки. Где жарить гренки, непонятно. Но все лучше, чем ничего. Во многих мирах кухонь вообще нет.
Тут мне стало немного лучше, и я обнаружил, что Адам вовсе не оставил надежду выяснить, кто мы такие. Что ж, его можно понять. Он столько повидал, что кому угодно станет любопытно.
– Я вижу, что все вы из разных мест, – говорил он, чтобы выудить из нас сведения. – Вы по-разному говорите. У Джориса американский акцент…
– Ничего подобного, – отрезал Джорис. – Правда, у меня сохранился катаякский выговор.
– Ага-ага, – сказал Адам. – Хелен говорит как иностранка.
Это он верно подметил. Хелен хорошо говорит по-английски, но чувствуется, что английский для нее не родной.
– Я бы предположил, что Хелен пакистанка, – продолжил Адам выуживать.
– Дом Уквара расположен в Спитикаре, – припечатала Хелен.
– А я обыкновенный до зевоты, – сказал я, чтобы остановить Адама.
– Я как раз собирался сказать, Джейми, – отозвался Адам, – что никак не могу взять в толк, откуда ты родом. Вот печенье, угощайся.
Едва Хелен сообразила, что я не хочу выдать Адаму ничего лишнего, как выложила ему все о нас как на духу – и о скитальцах, и о Них, и о том, как устроены миры, а Джорис весь подобрался и только и ждал, когда Хелен договорит, чтобы поведать о Констаме. Но Джориса ждало разочарование. Адам не поверил ни единому слову.
Он расхохотался:
– Скажите это кому-нибудь другому! Харас-Уквара! Демоны! Они! Телевизора вы, что ли, насмотрелись?
– Ну, ты просил, мы рассказали, – пробурчал я.
Мне было очень досадно. Даже странно, как устроена у человека голова. Я ведь должен был вздохнуть с облегчением, что Адам не поверил Хелен, – а нет. Мне вдруг отчаянно захотелось, чтобы он поверил. Я хотел, чтобы хоть один обычный человек понял, кто такие граничные скитальцы. И вдруг я обнаружил, что прямо из кожи вон лезу, лишь бы убедить Адама.
У Джориса есть клеймо раба. Но на это Адам, как и Хелен, скажет, что татуировку может сделать себе кто угодно. Есть дурацкий свисток, который я притащил из Крима-ди-лимы. Но Адам наверняка видел такие и в этом мире. Я вытащил свисток из кармана рубашки и показал Адаму, – и да, он такие видел. Сказал, они продаются в газетном киоске на углу. Однако оставалась еще рука Хелен.
– Хелен, – сказал я. – Покажи ему свой дар.
Во время разговора нам было видно нос и один глаз Хелен, но когда я это сказал, волосы у нее упали на лицо и закрыли его целиком.
– Нет, – сказала она.
– Почему? – спросил я. Она не ответила. – Ой, да ладно тебе! Больше его ничем не убедишь. Почему бы не показать?
Из-за волос донеслось одно-единственное слово:
– Джорис.
Я посмотрел на Джориса, а Джорис на меня. Мы не понимали, что она имеет в виду.
– Если вы имеете в виду, что ее дар – ее лицо, то я его видел, – заявил Адам. – По-моему, лицо как лицо.
– Нет, это кое-что другое. Хелен, в каком смысле Джорис?..
Из-за завесы волос показалась гримаса «сейчас укушу».
– Он решит, что я демон.
– Нет, не решу! Не может такого быть. Я же вижу, что ты не демон! – запротестовал Джорис. – Даю тебе честное слово, не решу!
Среди волос снова показался кончик носа.
– Ладно. Под твое честное слово.
Она закатала рукав.
– И рука у нее как рука, – сказал Адам.
– Подожди, – ответил я.
Хелен снова показала слоновий хобот. Думаю, это был ее любимый фокус. К тому же она проделала все медленно, так что Адам видел, как ее обычная коричневая кожа сереет и ее прорезают морщины – все выше и выше к плечу. Глаза у Адама вытаращились. Он был и вправду поражен. Но и Джорис тоже, только по-своему. Он откинулся на спинку стула и притворился, будто совершенно расслаблен, но я-то видел, что у него напряжен каждый мускул и глаза стали как щелочки. Он следил за движениями хобота, будто кот. А еще я видел глаза Хелен – черные, блестящие, они не отрываясь смотрели на Джориса в просветы между прядями.
Когда слоновий хобот свернулся, показывая, что в нем нет костей, Адам проговорил:
– Пожалуй, вы меня убедили.
Голос у него был потрясенный. Но я его едва слушал – мне было гораздо важнее, как смотрит на Хелен Джорис. Теперь-то я подозреваю, что Адама убедил даже не фокус Хелен, а именно то, что сделалось с Джорисом.
– Ну вот! – с вызовом бросила Хелен и изогнула хобот розовыми ноздрями в сторону Джориса. – Демоны так умеют, правда? Ну что, Джорис, я демон?
– Не… я не знаю, кто ты, – ответил Джорис. – Демоны… демоны делают так все целиком. А ты?
– Только одной рукой, – сказала Хелен. – Она тоже больше дух, чем тело?
– Да, – сказал Джорис, не сводя с серого хобота прищуренных глаз.
– Ну, ничего не могу поделать, – пожала плечами Хелен.
– Вот именно, и демоны, наверное, тоже, – сказал я. – Выдохни, Джорис. Ты обещал.
– Да, обещал, – сказал Джорис тихо, твердо и решительно. – Но я думаю, что она отчасти демон.
Мне в очередной раз захотелось встряхнуть его хорошенько. Хелен словно выключилась. Слоновий хобот снова превратился в руку от плеча и вниз. Потом Хелен опустила рукав и после этого просто сидела без лица. И молчала, что бы я ни говорил.
Я видел, что Адама это очень смутило.
– Может быть, объяснишь с этого места поподробнее? Что касается скитальцев, правил и так далее? – попросил он меня.
Я рассказал. Пока я говорил, а Джорис ждал своей очереди, Адам заварил еще чаю, к которому Хелен даже не притронулась. Как только я сделал перерыв, чтобы попить, Джорис тут же завел:
– Конечно, Констам рассказал бы об этом лучше меня. Констам…
Я не собирался стонать, но пришлось. Из-за завесы волос Хелен тоже послышался тихий стон. А вы, наверное, уже поняли, как быстро Адам соображал. Уголок его рта еле заметно дернулся, и он обернулся к Джорису с невинным видом, по которому мне сразу стало ясно, что сейчас он поймает архангела.
– Расскажи мне все-все о Констаме, – попросил он.
Джорис и рассказал. Если через битых полчаса Адам не усвоил, что Констам под потолок ростом и вообще Верховный Бог, сам виноват. Поток так и хлынул: Констам, Констам, Констам… Где-то в глубине замешалась история о Них и Адраке, по-моему, гораздо более интересная. Но Адама больше всего заинтересовало, что Джорис раб.
По этому поводу Адам вытянул из Джориса гораздо больше нас: нам-то было лень. Джорис, конечно, закатал рукав и показал Адаму клеймо-якорь, но при этом сообщил, что клеймо ему поставили на рынке рабов в семь лет, потому что таковы законы штата Катаяк. Констам и двое других Ханов, которые пришли покупать Джориса, не хотели его клеймить. Но оказалось, что иначе его нельзя вывезти за пределы штата. А потом Джорис рассказал Адаму, что нет, от рождения он не был рабом. Его продала в рабство бабушка, поскольку семья не могла его содержать.
– Сколько заплатили за тебя твоей бабушке? – спросил Адам. У него, как и у меня, была коммерческая жилка.
– Пять тысяч крон, – ответил Джорис. – Ханы отдали десять тысяч.
Адам присвистнул:
– Ничего себе прибыль! Ты и сейчас столько стоишь?
– Вдвое больше, – скромно ответил Джорис. – И стоил бы еще вдвое больше, если бы завершил обучение. – Он вздохнул. – Констам…
Адам задавил Констама в зародыше. Он стал показывать на разные предметы из кухонной обстановки и спрашивать Джориса, сколько они стоят в кронах. Вскоре он весь сиял:
– Получается, крона стоит даже больше фунта! А все рабы такие дорогие?
– Нет, – ответил Джорис. – Только первосортные мальчики. Из них делают бегунов или автогонщиков. Маленькие девочки стоят гораздо дешевле, но девушки могут сравняться с юношами в цене, если окажутся красивыми.
– А сколько стоит красивая девушка? – поинтересовался Адам, сверкая глазами.
– Ну, зависит от того, насколько они ухоженные и воспитанные и обучены ли танцам, музыке и массажу…
– Очень ухоженная и воспитанная. Все знает, – заверил Адам.
– Тогда, – сказал Джорис, – за миловидную девственницу с хорошим образованием дают до шестидесяти тысяч крон.
– А цвет волос и так далее влияет на цену? – допытывался Адам.
– Если рыжая, то да, потому что это редкость, – ответил Джорис. – За рыжие волосы к цене могут прибавить целых пятьсот крон.
Адама так скрутило от алчности, что он обхватил себя руками и закачался в кресле.
– Ох! О-о-ох! Джорис, забери меня в свой мир! Я же там разбогатею! Конечно, придется захватить с собой Ванессу, но это я устрою. Ох, ну почему у нас здесь нет рабов? Я бы продал Ванессу хоть сейчас!
– Ванесса – это кто? – спросил я.
– Моя сестра! – процедил Адам. – Рыжая ехидина, командирша и всезнайка! Когда она в следующий раз решит надо мной поиздеваться, сразу вспомню, как дорого ее можно продать. О-ох! Ох! Ах! Шестьдесят тысяч пятьсот крон!
От этого нос у Хелен тут же высунулся.
– Ах ты, жадная свинья! – воскликнула она. – А я еще думала, у Джейми коммерческая жилка!
– Расскажи мне о себе, – тут же обратился Адам к ее носу, пока тот не спрятался обратно.
– А что, можно. – И Хелен выпустила на стол мышку, которую все это время носила при себе. Зверюшка, будто заводная, помчалась прямиком к печенью.
– Я не знал, что у тебя есть ручная мышь, – сказал Адам.
– Это не моя, она живет здесь, – ответила Хелен. – Довольно милая, но я бы предпочла, чтобы у вас водились крысы.
Она говорила совершенно искренне, но это означало, что она по-прежнему в дурном настроении. Мне пришлось долго ее улещивать, чтобы она рассказала Адаму, как застала Их за игрой в Доме Уквара.
От этой истории Адам даже снял очки и повертел их в руках. Похоже, он всегда так делал, когда думал. А думал он, должно быть, много: очки были сломаны с обеих сторон и скреплены проволокой и лейкопластырем.
– Удивительно, – сказал он, когда Хелен закончила. – Все вы видели Их в разной обстановке. От этого у меня возникло довольно много разных соображений. Впрочем, я не уверен, что все эти соображения мне нравятся. Зато я знаю, в какие игры Они играют. Хотите пойти взглянуть?
XI
Адам провел нас через переднюю, мимо Фредерика М. Аллингтона, скелета, и вниз по лестнице, в большой полуподвал. Как и весь остальной дом, полуподвал был от пола до потолка вылизанный, выкрашенный и прибранный. Богатый. Роскошный. Адам включил яркий свет над столом посередине полуподвала.
Даже Хелен отпрянула. Я отскочил. Джорис уже выскочил за дверь, когда Хелен сказала:
– Это просто модельки. Вернись, придурок.
И верно. Но целую секунду я готов был ручаться, что это Их игровой стол. Ландшафт на столе был точь-в-точь как настоящий. Адам сказал, что все это в основном склеено из бумаги и раскрашено. Он очень гордился столом. Почти все сделал сам, своими руками. Там были холмы, лес, кусты, озеро и несколько кучек домов. По всему ландшафту были распределены солдаты и орудия той самой болотного цвета войны, в том числе и те грохочущие махины. Все фигурки были тщательно раскрашены и выглядели прямо как живые. Это Адам тоже сделал своими руками.
– Это называется варгейм, военная игра, – пояснил Адам. – Это игра в современную войну, у нас с отцом как раз партия в разгаре.
Он подошел к столу и оценил расположение моделей. Взял линейку – их на столе было несколько – и что-то измерил. Он занимался этим до того сосредоточенно, что мы втроем сразу подумали о Них.
– Кажется, я его поймал, – произнес Адам. – Когда он вернется в воскресенье, я его раздавлю. Это, знаете ли, настоящее мастерство.
– Неужели совсем ничего не зависит от везения? – Я кивнул в сторону горстки игральных кубиков рядом с линейками.
– Они бросают кости, – сказал Джорис. На этот стол он смотрел так же, как на руку Хелен.
– Ты говорил, – отозвался Адам. – Ты сказал, что Они передвигали фигурки по столу и иногда после этого бросали кости. Вот почему я решил, что это варгейм. Нельзя бросать кости при каждом ходе, потому-то игра и требует мастерства, но иногда с их помощью мы узнаём, каким был исход боя, сколько человек погибло и так далее. Еще мы при помощи костей определяем погоду. Это довольно сложно. Если хотите, почитайте правила. – Он взял лежавшую на краю стола пухлую брошюру и протянул Джорису.
Хелен убрала волосы с лица, чтобы поглядеть на солдат. Это означало, что они произвели на нее сильное впечатление.
– А зачем Им машины?
– Мне думается, чтобы подсчитывать вероятность того или иного шага, – сказал Адам. – Мы с папой часто говорим, что нам пригодился бы компьютер. А вы только представьте себе, как сильно нужен компьютер, если играешь с целым миром! – На лице у Адама появилось блаженное мечтательное выражение. – Только представьте себе варгейм, где вместо стола целый мир!
– А откуда у Них берутся машины? – допытывалась Хелен.
– Почем я знаю? – ответил Адам. – Впрочем, на Их месте я бы позволил жителям того или иного мира их изобрести, а потом убил бы людей и забрал машины.
– Я бы тоже, – сказала Хелен. – Думаю, так Они и сделали. Но может быть, ты и ошибаешься. Когда я Их видела в Доме Уквара, Они играли совсем в другую игру.
– Да, точно, – подтвердил Адам. – Эту разновидность мы называем фэнтези-варгейм. В нее может играть сколько угодно игроков. Смотри. Я не могу показать тебе полномасштабную игру, потому что мы играем только с картой и рефери. – Он подвел нас с Хелен к полке у одной стены полуподвала, где лежали стопки карт, нарисованных от руки. Они были похожи на лабиринты или изображения ходов, проделанных дождевыми червями.
– Это карты подземелий, – с жаром бросился объяснять Адам, – с массой ловушек, засад и чудовищ. Обычно рефери отправляет персонажей игроков через такой лабиринт, и все смотрят, смогут ли они пройти его, избежав всех опасностей. Тут каждые несколько шагов что-нибудь ужасное.
– Это же мир Хелен! – воскликнул я.
– Такое чувство, что он похож на мои фэнтези-карты открытых пространств. – Адам принялся перебирать кипу карт. – Там игроки могут захватить крепость. Ага, и при этом важную роль играют разные качества персонажей игроков – сила, выносливость, кто они, воины, воры или жрецы, к какому классу принадлежат – простые люди или владеют магией. У тебя такой мир?
– Да, – кивнула Хелен. – Я из жрецов и владею магией.
Это была для меня новость, но, если вдуматься, кем она еще могла быть?
Тут к нам подошел Джорис с книгой правил в руках, и вид у него был озадаченный.
– Эта война совсем не похожа на нашу войну с демонами, то есть не совсем.
– Верно, – сказал Адам. – По твоим рассказам получается, что ваша игра – разновидность игры в мире Хелен. Вот почему там так часто бросают кости. Когда персонаж игрока встречает чудовище – или демона, – ему предоставляется спасительный бросок, чтобы дать ему какой-то шанс выжить. Мы пользуемся костями с множеством граней…
– У Них тоже были многогранные кости, – подтвердил Джорис.
– Ух, как я зла! – громко сказала Хелен. – Как Они смеют играть в игры!
– Вот именно, – сказал Адам. – Меня очень беспокоит, что этот мир, мой мир, наверняка тоже игра, вроде той, что на столе. И когда Они решат в следующий раз поиграть в войну, это будет ядерная катастрофа. Ну, сами знаете, радиация…
– Демонские лучи, – разом сказали Хелен и Джорис.
Я не сказал ничего. Я вспомнил, что мир Адама был девятый в последовательности военных миров. Мой Дом был очень похож на его мир – возможно, он десятый. Не исключено, что Они как раз сейчас разыгрывают там такую войну. Или хуже – не исключено, что мой мир был предыдущий, тот самый, где мы побывали перед тем, как попасть в мир Адама, тот самый, где были демонские лучи. Но мне нельзя было позволять себе так думать. Нельзя!
Адам повернулся и открыл несколько коробок с разными видами солдат – в красных мундирах, в синих мундирах, в доспехах, в килтах. Только, по-моему, он думал не о них – не больше, чем я. Он снял очки и повертел их в руках.
– А как от Них избавиться? – спросил он.
Но в этот самый миг раздался дробный топот, и по лестнице в подвал сбежал кто-то с пламенно-рыжими волосами и в такой же пламенной ярости:
– Адам! Адам! Я категорически запрещаю пускать ручных мышей на кухонный стол!
Это была уже совсем взрослая девушка – и правда очень красивая, несмотря на ярость и густую косметику. За такую не жалко было бы отдать шестьдесят тысяч крон.
– Ручная мышь! – вопила она. – Грызет печенье на столе!
– Она не ручная, – произнес Адам. – Она совершенно, абсолютно дикая. Надеюсь, она разорвет тебя в клочья. – И сообщил нам: – Это моя сестра. Ванесса.
Фред, скелет, был представлен нам гораздо теплее.
– Ах, так у тебя гости! – воскликнула Ванесса. – Вечно у тебя гости, когда я на тебя сердита!
Она двинулась к нам, пытаясь обратить все в шутку. Но это была не шутка. Мне было ясно, что Адам ее и вправду бесит.
Джорис попятился от нее. Он страшно смутился. Разговор о ценах на миловидных девственниц он помнил не хуже моего. Хелен было неловко за мышь. Волосы у нее упали, будто занавес. Так что на переднем крае остался я один.
Высокой Ванесса не была. Даже на каблуках, которые носили модницы в мире Адама, она оказалась не намного выше нас с Адамом. Почему-то от этого у меня возникло ощущение, что я ее хорошо знаю. Едва Ванесса посмотрела на меня, как с ее лица, которое было почти вровень с моим, мигом сошла досадливая гримаса, сменившись фальшивой улыбкой. Она посмотрела на мою руку в перевязи из кухонного полотенца, а потом снова мне в лицо.
– Что с тобой случилось? У тебя вид совсем больной!
– Долгая история, – ответил я. – Несчастный случай, вроде того.
– Это я… – начал Джорис.
– Ничего страшного, – торопливо вмешался Адам. – Мы с Джорисом оказали ему первую помощь. Кстати, его зовут Джейми. А эта – без лица – Хелен.
Не помогло. Ванесса знала Адама как облупленного. И не позволила себя отвлечь.
– Дай мне посмотреть, – велела она мне. – Сейчас же. Адам совершенно не разбирается…
– Я разбираюсь, – робко проговорил Джорис, а Адам оскорбился:
– Я разбираюсь!
Но Ванесса не обратила на них ни малейшего внимания, как будто их и не было. Поволокла меня куда-то, где было очень много пахучих лекарств, бинтов и всего прочего. Развязывая кухонное полотенце, она сообщила мне, что ей девятнадцать и она с недавних пор учится на врача, так что я в надежных руках. Потом она увидела рану. Это зрелище ее потрясло – противодемонские клинки опасное оружие, – и она вознамерилась срочно доставить меня в больницу, чтобы наложить швы.
Я отказался. Я понимал, что в таком организованном мире мне потом будет не выпутаться. Чего доброго, меня упекут в сумасшедший дом. Поэтому я болтал без умолку, чтобы Ванесса забыла про больницу. Что я ей наплел, не помню. Странная штука: если тебя жалеют и за тебя беспокоятся, начинаешь чувствовать себя в два раза хуже. У меня перед глазами все совсем посерело. Помню, как я все говорю и говорю, а Ванесса отвечает и даже шутит, но что я говорил, понятия не имею. Однако, как выяснилось потом, я рассказал ей все про Адама, игру и проулок и еще половину моей истории скитальца. Хелен клялась, что рассказал, да я и сам подозреваю. Наверное, я считал, что Ванесса не поверит ни единому моему слову.
Так или иначе, она как следует перевязала мне руку, и стало гораздо удобнее. Потом отправила меня полежать в большую комнату. Я решил, что это у них зал: у нас Дома такие комнаты называли залами. Там были роскошные бархатные кресла, и пианино, и восковые фрукты, и фотографии родственников, в точности как у нас. Но они называли ее как-то иначе – гостиная, кажется. Даже странно, потому что она была обставлена гораздо шикарнее, чем наш зал. Даже родственники на фото все были гораздо шикарнее наших: важные старики с бакенбардами и дамы в огромных расфуфыренных шляпах. Над роскошным диваном, где я лежал, висела фотография дамы в шляпе, и я все смотрел на нее. Эта дама была совсем не похожа на Ванессу (впрочем, покойные родственники на фото никогда не похожи на живых), но я все думал, где же я ее раньше видел. Я то дремал, то просыпался и несколько раз смотрел на фотографию дамы, и с каждым разом она казалась мне все более знакомой.
Остальные считали, что я просто сплю. Они иногда заглядывали в комнату – притворялись, будто проведывают меня, а на самом деле хотели пошептаться один на один.
Один раз я проснулся от шепота Адама:
– Этот нож взял и сам набросился на него. В жизни такого не видел! Джорис думал, Джейми теперь конец. Он ведь поправится, да?
– Конечно, но порез у него глубокий, – прошептала в ответ Ванесса. – Зря он не соглашается ехать в больницу. Адам, куда ты? Погоди. Они тебе тоже рассказали? Если все это правда – ну, про Них, – наверное, нам нужно что-то предпринять?
– Конечно нужно! – зашептал Адам. – Дело серьезное. Не хочу сидеть сложа руки и ждать, когда кто-то превратит меня в оловянного солдатика!
– Кто-то или что-то, – сказала Ванесса.
– Вот именно! – ответил Адам.
Еще через некоторое время я открыл глаза, чтобы посмотреть на даму на фотографии, и услышал голос Джориса:
– …Все я виноват. Это была наша с Хелен глупая шутка. Только Хелен теперь со мной не разговаривает – можно, я поговорю с тобой?
– Конечно, – ответила Ванесса. – Если хочешь. Только не разбуди Джейми.
– Хелен говорит, что Джейми постоянно втягивает ее в неприятные истории, – сказал Джорис. – Она считала, что он выпендривается. Но я думаю, это несправедливо по отношению к нему, потому что он и правда много знает. Это все я виноват. Слишком долго возился, когда мы крали куртку, а потом, в проулке, потерял голову. Меня тошнит от самого себя. И это еще не все.
– А что? – спросила Ванесса.
Джорис сказал:
– Я считаю, что рабство – это плохо.
– Ну, кому об этом знать, как не тебе, – заметила Ванесса.
– Наоборот, – возразил Джорис. – У меня такого опыта нет. Констам никогда не обращается со мной как с рабом. Констам…
Как только он снова завел свое про Констама, я тут же уснул. Забавно получилось. Мне было ясно, что Джорис пытается предупредить Ванессу о планах Адама продать ее в рабство. Интересно, думал я, почему он считает, что Ванессе будет в рабстве плохо, если ему самому было так хорошо.
В следующий раз, когда я проснулся и посмотрел на знакомую даму на фотографии, это случилось потому, что кто-то плакал. Я очень-очень осторожно повернулся и словно бы вытянул глаза в ту сторону, чтобы посмотреть, кто это. Честно говоря, я думал, что это опять Джорис. Но это была Хелен! Ну и дела! Я думал, Хелен вообще не умеет плакать. Но вот она, сидит на диване напротив моего, закрыв лицо руками, и плачет навзрыд. Ванесса сидела на полу рядом с диваном и обнимала Хелен. Бедная Ванесса, подумал я. Доставили мы ей хлопот!
– Никакой это не дар! – рыдала Хелен. – Это уродство! Это даже не совсем тело! Джорис сам так сказал!
– Ну да, но ведь Джорис мыслит в терминах своего мира, – сказала Ванесса. – А я уверена, что нельзя подходить к одному миру с мерками другого. Хелен, тебе же будет гораздо лучше, если ты будешь думать об этом как о даре, которому ты пока не нашла применения. Неужели тебе никогда не дарили таких подарков? Бывает, что подарят тебе какую-нибудь ерундовину, и ты понятия не имеешь, что тебе с ней делать, а потом оказывается, что это очень-очень нужная штука, ну, например, открывашка.
Хелен умудрилась рассмеяться, не переставая плакать.
– Умно! Теперь буду называть свою руку открывашкой. Как ты до этого додумалась?
– Я и сама иногда так себя чувствую, – ответила Ванесса. – Я учусь на врача, потому что у нас все в семье врачи, но во мне есть много всякого разного, что мне для этого не пригодится. Вот я и думаю, что когда-нибудь всему найду применение.
– Надеюсь. – Хелен хлюпнула носом.
Ванесса спросила:
– Ну что, тебе легче?
– Да. – И тут Хелен вся взвилась от ярости. – Мой приборчик пригодится мне, чтобы уничтожить Их за то, что Они сделали с Джейми!
Через некоторое время пришел Адам и разбудил меня:
– Ванесса спрашивает, ты поужинаешь, когда она что-нибудь приготовит?
– Конечно, – ответил я. – Я сейчас съел бы даже ту дикую мышь. Адам, а кто эта дама в шляпе вон на той фотографии?
Адам прижал пальцем очки к переносице, чтобы было лучше видно.
– А, она… Это моя прабабка, которой меня третировали, сколько себя помню. Она была одной из первых в истории женщин-врачей или что-то в этом роде. Вон там лежит альбом с другими ее фотографиями, хочешь – посмотри.
– Зависит от того, сколько ждать ужина, – сказал я.
– Десять минут. – Адам принес мне альбом. – Предупреждаю, тут она или позирует у кадки с комнатным папоротником, или расчленяет труп. На человека она похожа только на первой фотографии. Тогда ей было лет пятнадцать. Говорят, Ванесса пошла в нее. На фотографиях тех лет рыжие волосы получались черными.
Он ушел, и я открыл альбом. И сразу понял, почему эта дама показалась мне знакомой. Черноволосая – то есть так получилось на фотографии – девушка на первом снимке и правда была похожа на Ванессу, только не такая красивая. Ванесса, конечно, была старше. Эта девушка еще не вышла из возраста, когда все девчонки воображают себя принцессками. Было видно, что и для этой фотографии она несколько часов напролет выбирала наряд и напринцессилась всласть. Но при этом она напомнила мне даже не Ванессу, а мою сестру Эльзи. Она до того напоминала мне Эльзи, что я даже поглядел ей на ноги, ожидая увидеть там ботинки Роба, которые она донашивала. Но на ней, конечно, были изящные крошечные остроносые туфельки, из тех, какие мои родители ни за что не могли бы себе позволить.
На остальные фотографии я и смотреть не стал. Когда Хелен пришла сказать, что ужин готов, она спросила:
– Джейми, что с тобой?
Я сглотнул – по ощущениям, половину горла.
– Знаешь, в тот раз, когда мы изображали лошадь в пантомиме и ты решила, что в толпе стоит твоя мама, ты проявила просто чудеса выдержки, – проговорил я. – Я бы так ни за что не смог.
– Я же понимала, что ты прав, – сказала Хелен. – А почему ты вспомнил?
Я показал ей фотографию.
– Это почти точь-в-точь моя сестра Эльзи, – сказал я. – Этот мир так похож на мой, что мой, наверное, следующий.
– Тогда почему ты прямо не сказал? Зачем ты позволил нам тут задержаться?! Я пойду скажу Джорису, и мы завтра же двинемся дальше.
От этого я сразу приободрился. А от ужина приободрился еще больше, хотя готовила Ванесса просто из рук вон плохо. Оказалось, что ей помогали Хелен и Джорис, и мне даже подумать страшно, что стряпала Ванесса, когда управлялась сама. Пока мы ели, Джорис говорил про Констама. Говорил он не умолкая. У него появились два новых слушателя – Ванесса и Адам, – и своего случая он не упустил.
– Он когда-нибудь останавливается? – шепнул мне Адам.
– При мне – ни разу, – ответил я. – Но он ходит в Цепях всего два дня.
– Адам, когда больше двух, говорят вслух! – сказала Ванесса.
– Ну и кто у нас старая селедка в красном парике? – ощерился Адам.
– А ты – мерзкий слепой крот! – парировала Ванесса.
Меня просто поражало, как грубо они разговаривают друг с другом. При этом они не то чтобы обзывались ради забавы. Они старались по-настоящему оскорбить и задеть друг друга. Но когда они прекращали перепалку, то вели себя как добрые друзья. Меня эти перепады нервировали. Когда брат с сестрой в третий раз напустились друг на друга, даже Джорис умолк. Потом ссора кончилась, и настала полная тишина.
– Ах, виноват, – сказал Адам. Виноватым он себя не чувствовал. – Джейми, мы хотим что-то предпринять по поводу Них. Мы считаем, что нашли в Их правилах кое-какие лазейки.
Оказалось, они обсуждали все это, пока я спал. Адам составил список всего, что знали о Них Хелен и Джорис, – ничего не упустил, – и они совместными усилиями вспомнили, что говорил о Них я.
А потом Адам как следует все обдумал.
– Во-первых, – начал он, – правила создали Они, но теперь правила, по всей видимости, действуют сами, автоматически, вспомним некий инцидент в некоем проулке. Во-вторых, таких, как вы, Они называют рандомами. А рандом по определению – нечто непредсказуемое, то, что возникает неожиданно, несмотря на правила. Но я считаю, что Они применяют этот термин несколько шире. Скажите, какая у вас главная общая особенность?
– Мы застали Их за игрой, – сказал я.
– Верно, – кивнул Адам. – Как только вы Их увидели, вы вышли из игры, и вас превратили в скитальцев и тем самым нейтрализовали. И тут же начала действовать масса новых правил, чтобы вы такими и остались. Почему?
– Потому что иначе мы рассказали бы все обычным людям вроде вас, а вы захотели бы что-то предпринять по Их поводу, – ответил я.
– Да, именно этого Они и добиваются – чтобы вы так думали, – сказал Адам. – Однако ты упускаешь из виду одну деталь истории Хелен. Учительница Хелен Их не видела.
Я почувствовал, как у меня упала челюсть. И поскорее закрыл рот. Он был набит. Что сказала бы мама!..
– Тогда что у Них за игра такая? Ты хочешь сказать, что большинство людей Их вообще не видят?
Лицо у Адама раскраснелось от восторга:
– Вот именно! Я знаю, как это устроено! Это гениально! Вот бы можно было так устроить в обычных варгеймах! Это добавляет дополнительную побочную игру и превращает Их игру в настоящее казино! Вот что происходит. Когда вы доказываете, что видите Их, и превращаетесь в скитальцев, то вступаете в колоссальную игру, где все зависит только от случая, вроде «Лудо» или, например, «Змеек и лесенок», которая ведется параллельно с варгеймом. Только подумайте. Сотни, а может, и миллионы людей бродят по игровому полю, где происходит неизвестно что. Если они встретятся с нужными людьми в нужном месте, то могут разрушить все, что Они строят. Правда, все шансы на Их стороне. Представьте себе, как мала была вероятность, что вы встретитесь и познакомитесь, потом попадете сюда, найдете меня, убедите меня, что вы говорите правду, и к тому же окажется, что я что-то понимаю в варгеймах, – среди миллионов миров и миллионов людей, которые ничего о них не знают! Но и такое может случиться. И случилось. А теперь, раз это случилось, мы можем победить в игре и разбить Их наголову.
– Все это так, – сказал я. – Но ты забываешь, что Они об этом знают. Они знают все.
– Тем не менее мы считаем, что можем что-то сделать, – сказала Ванесса. – Точно можем. Это моя идея. Скитальцев может быть лишь ограниченное число, верно? После того, как Они… э-э… сбросили Джориса, осталось только одно место. Возможно, Они уже успели отправить туда кого-то другого. В любом случае почти все места уже заполнены. Поэтому я считаю, что нам нужно увеличить это число, перегрузить цепь, в смысле контур, как в электричестве, и посмотреть, что будет.
Я так не считал. То есть я, конечно, все прекрасно понимал, но Ванесса не знала, на что Они способны. Они как-нибудь да подгонят свои числа, может, убьют старика Агасфера или Летучего Голландца, а может, кого-нибудь из нас.
Но я этого не сказал. Только спросил:
– Что вы собираетесь делать?
– Я думаю, – сказала Ванесса, – что мы с Адамом тоже стали рандомами, потому что мы вам верим. Я думаю, нам нужно записать все, что мы знаем о Них, и оставить эти записи родителям, чтобы сильно осложнить Их положение, и завтра отправиться с вами.
– Мне кажется, это и имел в виду Агасфер, – сказала Хелен.
– Когда Граница позовет в следующий раз? – спросил Адам.
– Нам не нужно ждать зова, – подчеркнул Джорис.
И все посмотрели на меня – узнать, что я думаю. А я и сам не знал. Дело не только в том, что я боялся Их в два раза сильнее даже Джориса. И не только в том, что мне не хотелось говорить, что вся эта затея бессмысленна. Меня внезапно осенило, что я не знаю, когда Граница позовет нас в этом мире. Понятия не имею. Похоже, когда мы перешли Границы по своей воле, то все запутали. От всего этого мне стало тревожно. А вдруг я почувствую зов внезапно, прямо ночью, и мне придется бежать к ближайшей Границе? А ближайшая Граница – это точно не те огороды. Слишком до них далеко. Однако огороды – это единственная Граница, где я мог бы рассчитывать, что попаду Домой. Я не понимал, что делать.
Наверное, лицо у меня снова сделалось серым. Ванесса сказала:
– Давай уложим тебя в постель, Джейми, а принимать решения будем утром. Адам по субботам учится, но, сдается мне, его в любую минуту может сразить загадочный недуг. Тогда в нашем распоряжении будет весь завтрашний день и почти все воскресенье. А пока поспи, утро вечера мудренее.
Я послушался. Спал я в большой кровати родителей Адама, укрывшись периной. Адам называл ее по-другому – пуховое одеяло. Роскошная штука. На набивку, наверное, ушла целая куриная ферма. Я взмок. Джорис тоже. Утром он оказался на другом краю большой кровати, а жаркая перина громоздилась между нами, а я и не знал, что он тоже тут спал.
Когда я проснулся, то немного полежал, думая, как это удачно, что Граница не позвала меня среди ночи. Я так крепко спал, что ничего не услышал бы.
– Как ты себя чувствуешь? – спросил Джорис, когда увидел, что я проснулся.
Я чувствовал себя прекрасно. Рука почти не болела.
– Хорошо, – сказал я. – Джорис, а ты что думаешь про план Ванессы? Разве от Них можно так избавиться? Ты тоже считаешь, что все так просто?
Джорис помолчал. На его лице читался смертельный страх перед Ними. Ведь он имел с Ними дело совсем недавно, в отличие от меня.
– Нет, – сказал он наконец. – Это не может быть так. Хелен говорит, твой мир – следующий. Я думаю, нам надо попасть туда.
– Спасибо! – сказал я. У меня прямо гора с плеч свалилась. – Тогда давай позавтракаем, а потом сразу улизнем.
Но ничего у нас не вышло. Мы с Джорисом как раз спускались вниз и прикидывали, что в этом мире едят на завтрак, когда в дверь позвонили. Мы не сообразили, что это звонят в дверь. Раздалось нежное «динь-дилинь». Мы поняли, что это значит, только когда через переднюю не спеша прошел Адам – прямо как только что из Крима-ди-лимы, в желтой пижаме в фиолетовый горошек – и скрылся из виду, потому что к входной двери вел коридорчик…
Мы услышали, как Адам звучно сглотнул. А кто-то за порогом произнес:
– Прошу меня простить, но на ваш дом мне указали приборы, и мое дело не терпит отлагательств.
И тут прямо на середину передней пружинисто выпрыгнул человек, одетый в точности как Джорис.
Джорис оглушительно заорал: «Констам!» – и ринулся вниз по лестнице с такой скоростью, что мне тоже пришлось припустить бегом, иначе он бы меня сшиб.
Да, это был Констам Хан. Констам-исполин собственной персоной. Сначала я и сам не поверил, вот как и вы. Но это был именно он – стоял прямо перед скелетом Фредом, широко расставив ноги в белых сапогах на ковре в передней, и взволнованно глядел на Джориса. Но когда он увидел, что бегущий к нему Джорис цел и невредим, то улыбнулся, сверкнув невероятно белыми зубами, и лицо у него словно бы засветилось. Он убрал маленький квадратный приборчик, который держал в руках, за пазуху белого кожаного колета – на груди у него красовался такой же черный символ, как у Джориса, – и начал снимать белые кожаные перчатки. Он заткнул их за пояс, где уже имелись кривой меч и пистолет в кобуре.
– Джорис, извини, что не сразу пришел за тобой, – сказал Констам.
К этому времени в дверях кухни показалась Ванесса в легком голубом халатике, а на лестницу у меня за спиной вышла Хелен. Все мы уставились на Констама.
Понимаете, самое удивительное в Констаме Хане – то, что он полностью соответствует всему, что говорил о нем Джорис. Это было ясно с первого взгляда. Что он отважный, сильный и героический, было видно по тому, как он держал голову, а еще – как он двигался: так легко двигаться можно, только если у тебя есть мускулы, которых у большинства нет от природы. Кроме того, он был красив как бог. Кожа у него была очень темная, темнее даже, чем у Хелен. А в числе прочего, что делало Констама таким красивым, был еще легкий розоватый румянец, просвечивавший через смуглую кожу на щеках. Мне это всегда нравилось в Хелен, но у нее этот румянец появлялся, только когда она была в хорошем настроении. А Констам лучился здоровьем постоянно. Иссиня-черные волосы завивались тугими кудрями, оставляя лицо открытым. Черные глаза сверкали от избытка сил и проницательности. Он был чуткий, и он был добрый. Это было видно по тому, как он смотрел на Джориса. У него был такой же славный прямой взгляд, как у Джориса. В общем, он был в точности такой богоподобный, как говорил Джорис, за одним исключением. Роста он был совсем не десять футов. Примерно на дюйм ниже Джориса.
Мне было видно, что Джорис, когда бросился навстречу Констаму, заметил, какого тот роста. И явно удивился. Адам за спиной у Джориса поднял руку высоко-высоко, а потом выразительно опустил почти до колена. Я прыснул со смеху, и пришлось отвернуться. Ванесса уткнулась лицом в дверной косяк.
– Констам! Как тебе это удалось? Как ты сюда попал? Как ты меня нашел? – голосил Джорис.
– Я понимал, что сам ты вернуться не сможешь, – ответил Констам. – Беда в том, что Адрак утащил тебя за столько миров, что ты оказался за пределами досягаемости портативного радара. Пришлось лететь домой и искать тебя из Долины Ханов. Вот почему я так долго возился. Но ты ведь знал, что я приду за тобой?
Очевидно, Констам не считал нужным объяснять, каким образом он перескакивал из одного мира в другой. Наверное, точно так же, как мы с Джорисом.
– Я… – начал Джорис, весь сияя. А потом вдруг помрачнел и посмотрел на меня. – Мне… мне ведь можно Домой, да? Скитальцам это не запрещается?
– Конечно можно, – сказал я. – Разве ты Их не слушал? Если возвращаешься Домой, можно вернуться в игру.
Я завидовал Джорису. Ох, как я ему завидовал! От зависти у меня подвело живот в тот самый миг, как я увидел Констама. Прийти за мной никому не по силам.
До этого Констам, как видно, не думал ни о ком, кроме Джориса. Было ясно, что он за него переволновался. Но теперь он огляделся и коротко поклонился всем нам по очереди, а Ванессе отвесил поклон пониже. Наверное, решил, что она знатная госпожа и хозяйка дома. Джорис снова ужасно смутился. Я понимал, что он думает про шестьдесят тысяч крон.
– Ах, я, должно быть, ворвался без спросу и помешал вам, – проговорил Констам. – Приношу свои извинения.
– Мы очень рады вас видеть, – вежливо ответила Ванесса. – Мы слышали о вас так много. Не согласитесь ли присоединиться к нам за завтраком?
– Констам, можно мне позавтракать перед уходом? – робко спросил Джорис.
– Ну конечно же, – ответил Констам и обратился к Ванессе: – А мне бы хотелось чашку чаю, если в вашем мире его пьют.
Наверное, всем нам было тогда грустно. Ведь мы знали, что Констам сразу после завтрака заберет Джориса Домой. Однако получилось так, что не забрал. Все потому, что за завтраком Джорис рассказал Констаму о Них.
XII
Поначалу рассказ у Джориса получился обрывочный, бессвязный, путаный и невнятный, точно такой же, как болтовня про Констама. Но Констам сказал:
– Джорис, ради всего святого. Вдохни поглубже и расскажи все в логическом порядке.
И Джорис рассказал.
Я уже замечал, что когда Джорис говорил об охоте на демонов, Границах или о том, как его продавали и покупали, у него получалось гораздо яснее. Думаю, это благодаря Констаму. Но Констам, если и поправлял Джориса, делал это просто как старший. То есть правдой оказалось и другое – что Констам никогда не обращался с Джорисом как с рабом. Похоже, он в самом деле любил Джориса. С первой же секунды, когда Джорис бросился вниз по лестнице к Констаму, было ясно, что Констам пришел за Джорисом не потому, что боялся потерять ценное имущество в его лице. Совсем нет. Все это рабство было только у Джориса в голове. Или, если хотите, в маленькой метке-якорьке на руке.
– Что?! – сказал Констам, когда Джорис дошел до Них.
Джорис повторил все, что рассказал нам.
– Это точно был мир духов. И я понимал, что мне конец. Их было очень много, и я видел, что все Они демоны.
Констам помотал точеной черноволосой головой:
– Нет, в мире духов ты не был. Радар бы это показал. Что же это такое? Пространство, полное демонов – сильнее даже Адрака! – которые играют в какую-то игру с мирами!
– Клянусь, это правда, – сказал Джорис. – Хелен и Джейми тоже видели.
Констам повернулся ко мне, глаза его блестели, словно от лихорадки. И тут я понял, что́ главное в Констаме. Он был одержим охотой на демонов. Это была его страсть. При мысли о том, что существует какая-то разновидность демонов, о которых он даже не слышал, у него голова пошла кругом. Точь-в-точь Адам с его шестьюдесятью тысячами крон.
Кстати, Адам весь завтрак поглядывал то на Констама, то на Ванессу и разве что не облизывался.
Я сказал Констаму, что все про Них правда. Хелен это подтвердила, не высунув из-за волос даже кончика носа. Она боялась, что Констам тоже захочет на нее охотиться. Я решил потом поговорить об этом с Констамом. К этому времени стало понятно, что домой Констам пока не собирается. Он так лихорадочно сыпал вопросами, как я на Них набрел и как Их увидел, и требовал подробностей, что в конце концов я проболтался, что этот город очень похож на мой Дом. После этого уже ничего не стоило вытащить из меня, что я, наверное, и здесь найду место, где Они засели.
Констам вскочил и мигом выпрыгнул на середину кухни, заложив пируэт. Он был мастер выпрыгивать, этот Констам. Никогда не ходил, если можно было прыгнуть.
– Так чего же мы ждем? Пойдем взглянем на Них, Джейми!
– Одну минуту! – Ванесса тоже подпрыгнула. – Я только оденусь. Я хочу с вами.
– И я, – сказал Адам.
– Простите, пожалуйста, – сказал Констам Ванессе со смущенным смешком. – Я думал, вы уже одеты. Любовался вашим платьем.
– Я надену брюки. – И Ванесса умчалась, вся розовая.
Адам остановился на пороге и спросил Констама прямо в лоб:
– Вы очень богаты?
– Да, вполне, – озадаченно ответил Констам.
– Отлично! – сказал Адам и тоже умчался.
Вышло так, что искать Их отправились мы все. По-моему, Хелен и Джорис ничуть не рвались идти с нами, но Джорис снова стал рабом Констама и был вынужден следовать за ним, а Хелен боялась, что Граница позовет ее, когда она будет одна. Я был рад, что они со мной. Мне тоже совсем не хотелось видеть Их. Но таков уж он был, этот Констам. Мог заставить тебя согласиться на такое, на что ты не пошел бы под страхом смертной казни.
Ванесса сказала, что отвезет нас. В сарайчике за домом стояло маленькое старое авто. Ванесса сказала, что это ее ландо. В моем мире словом «ландо» поэтически называют конный экипаж. Я оглядел авто. В нем не было ничего поэтического – в папином драгоценном грузовом велосипеде и то больше поэзии. Джорис тоже его оглядел. Я вспомнил, как он рассказывал, что Констам разъезжает на дорогом спортивном ландо, и я тогда посчитал, что это что-то золоченое и с упряжкой чистокровных скакунов. Поэтому я спросил, похоже ли это на ландо Констама. Джорис ответил, что нет, хотя устроены они, по всей видимости, одинаково.
– Как ты считаешь, Констам – он поэтичный? – спросил я.
И Джорис с большим чувством ответил, что да и еще какой.
Как мы вшестером уместились в этом непоэтичном ландо, понятия не имею. Меня как проводника втиснули вперед, на колени Адаму. Мы даже отъехать не успели, а рука у меня снова сильно разболелась от давки.
Нужное место мы искали целую вечность. Во-первых, город все-таки отличался от моего, особенно там, куда нам было нужно, под арками канала. Во-вторых, все тут было так здорово организовано, что хоть криком кричи. Ненавижу миры с таким количеством правил. По каждой второй улице можно было ехать только в одну сторону. Нам все время приходилось сворачивать направо, прочь от канала, как раз тогда, когда я хотел свернуть к нему. Ванесса кружила и кружила, и я заподозрил, что в ее мире, может быть, у Них и нет своего места. Мне бы обрадоваться, но не получилось, потому что Констам вдруг стал леденяще-вежливым. Констам из тех, кто не злится, а становится вежливым. Он напугал меня до полусмерти.
В конце концов мы нашли то здание. Оно стояло прямо за углом новой бетонной станции, где мы вышли из поезда. Я вытянул шею, чтобы поглядеть на него, когда мы с ревом проезжали мимо, и оказалось, что оно до жути похоже на Старую крепость у меня Дома. Здание было треугольное, из розоватого камня, с зубчатыми стенами, как часто бывает в крепостях, и с точно такой же массивной наглухо закрытой дверью. Но никаких гарпунов перед ним не было. Когда я закричал, Ванесса остановила ландо – как раз возле проулка, который вел вдоль Их то ли парка, то ли сада. Мы все вышли и прошли по проулку. Я словно угодил в прошлое. Все было такое похожее, что мне прямо мерещилась коробка с продуктами, стоявшая под розовой каменной стеной. Мне было страшно.
Меня пришлось подсаживать на стену. Рука плохо действовала, сам бы я не забрался. Но для такого силача, как Констам, это была пара пустяков. Он мог бы запросто перебросить меня через стену.
За стеной нас накрыла тишина. Там тоже был треугольный парк с такой же низинкой посередине, только деревьев меньше. Все заросло кустами, особенно у самой стены. А как только мы очутились в кустах, все приборы, которые притащили Констам и Джорис, прямо взбесились. Стрелки на индикаторах демонов уехали в самый конец шкал да там и остались. Жуткую тишь нарушило еще и негромкое цоканье определителя Границ за пазухой у Джориса, а когда он его вытащил, стрелка слегка дергалась. Но когда он перевернул приборчик, стрелка Границы на обратной стороне вертелась так, что ее было не разглядеть.
– Очень странно, – прошептал Констам. – В жизни не видел ничего подобного!
Ему не терпелось поглазеть на Них. Поэтому он стал пробираться через кусты так проворно, что мы за ним едва поспевали. То есть поспели бы, если бы спустились в низинку, где была трава без кустов, и пустились бы бегом, но Констам и слышать об этом не хотел. Когда Адам попробовал улизнуть туда, Констам обернулся и посмотрел на него, и больше Адам так не делал.
Вот почему мы лишь мельком видели маленькую белую статую в низинке. Я был только рад. Когда мы с ней поравнялись, то все равно отвлеклись, потому что охотничьи приборы подняли страшный шум – пищали, щелкали, цокали. Констам остановился и все их повыключал. Потом прокрался дальше – очень-очень осторожно. Я даже готов ручаться, что никто из Них нас не видел.
Они были там – почти такие же, как тогда, когда я видел Их Дома, за полосой щебенки и мутной пеленой отражений в стекле. Двое, в серых плащах. Один из Них бурно радовался тому, что говорили ему машины. Он потирал еле видные руки. Другой, похоже, огорчился. Судя по Их виду и по тому, что говорили Адам с Ванессой про свой мир, я решил, что Они устраивают в игре мелкие стычки, которые должны привести к большой войне. Но точно я не знаю, потому что в окно мне не было видно стола, а спрашивать Адама было бессмысленно. Адам Их вообще не видел.
– Ничего не вижу! Там только отражения в стекле! – повторял он шепотом, пока Констам не обернулся и не нахмурился. Это мигом заставило Адама замолчать.
Я видел, как кошки сидят и выжидают возле мышиных нор, – вот так сейчас смотрел на Них Констам. Весь напряженный, совсем неподвижный, напружиненный, алчный, кровожадный. Но потом он внезапно решил, что видел достаточно, и подал нам сигнал к отступлению.
Когда мы снова очутились у стены, он сказал:
– Так. Военный совет. Ванесса, можно ли нам вернуться к вам домой?
– Конечно, – сказала Ванесса. – Только это дом моих родителей.
Она вся побелела. Обычно люди, когда так бледнеют, выглядят просто отвратительно, но Ванесса только похорошела.
– Надо Их остановить! – прошептала она. – Я прямо почувствовала, какие Они ужасные, даже через окно.
– Правда? В таком случае из вас получится хороший охотник на демонов, – прошептал Констам.
Ванесса очень удивилась:
– А разве женщинам можно быть охотниками на демонов?
– Ну что вы, конечно! – ответил Констам, когда мы перебирались через стену. – Среди охотников на демонов большинство девушки. Эльза, приятельница Джориса, охотится почти как он. Верно, Джорис?
Джорис сидел на стене и пытался втащить меня. Он был очень бледен и деловит. Наверное, теперь, когда появился Констам, Они стали для него просто очередным заданием. Но когда он отвечал, то слегка порозовел:
– Да, Эльза хорошая охотница.
Вот почему людей называют Эльзами? Меня от этого одолел приступ тоски по Дому.
Что думала Хелен, не знаю. При Констаме она все время пряталась за волосами. А вот Адам брюзжал не умолкая. Как только мы слезли со стены в проулок и на нас внезапно нахлынул шум, Адам начал возмущаться, что не видел Их.
– Так несправедливо! Я думал, это Ванесса Их не увидит, а не я! Правильно я предположил, что обычные люди Их почти никогда не видят, но я думал, что докажу это на примере Ванессы! Так нечестно!
Когда все мы набились обратно в ландо и Ванесса повезла нас назад, Констам заставил меня несколько раз подробно рассказать ему, что именно я видел, когда попал в Старую крепость в своем мире. Дома у Адама и Ванессы он собрал нас за кухонным столом и снова ослепил нас улыбкой.
– Итак, – сказал он. – Военный совет. Мы с Джорисом собираемся напасть на Них. Иначе мы не были бы охотниками на демонов. Очевидно, что Они – неизвестный до сегодняшнего дня вид невероятно могущественного демона. У Них довольно массивная телесная составляющая – неслыханная редкость для демонов такой силы! – а это означает, что нам следует продумать принципиально новый подход. Буду рад любым подсказкам. Прежде всего, вопрос в том, где Они находятся. Они обитают не в мире духов. Более того, я сомневаюсь, что Они способны проникнуть в мир духов при таком соотношении телесных и духовных составляющих. С другой стороны, Они и не в этом мире.
– Так где же Они, чтоб им провалиться? – спросил я.
– В Реальном Месте, – донесся до нас голос из-за волос Хелен – Помнишь, Джейми? Я говорила тебе про стекло и отражения. Я всю жизнь думала, что Реальное Место – это твой собственный мир. Думала, каждый мир реален для тех, кто в нем живет. Но я посмотрела на Них в этом здании и поняла, что нет. Они засели в Реальном Месте. Думаю, Они украли его у людей.
– Благодарю, – почтительно ответил Констам. Но Хелен не стала с ним разговаривать. – Я думаю, Хелен права. Складывается впечатление, что это Их Реальное Место из разных миров выглядит по-разному. Каждый из вас видел свою версию. Но это Место нас вполне устраивает. Если, как говорит Джейми, в этой совокупности миров оно подразделяется на треугольные отсеки, мы можем пойти и зачистить от Них здешний треугольник, а вероятно, и еще несколько следующих, но от атаки на основные силы пока воздержимся. А затем, когда мы это сделаем и разработаем верный метод борьбы с Ними, мы вернемся домой и мобилизуем всех охотников на демонов – Ханов, Алтунянов, Смитов, Оботов – всех до единого, и начнем полномасштабную кампанию.
Еще одна черта Констама. Ему в голову не приходило, что у него может что-то не получиться. Он посмотрел на Них, воспринял Их как задачу и приступил к решению. Его лицо сияло. Я попробовал было ввернуть, что Они не просто задача, но сдался под напором всеобщего рвения. Таков уж он, этот Констам. Его уверенность в себе очень заразительна.
Я глазом моргнуть не успел, как все мы согласились участвовать в атаке на Них. Даже я – сам не знаю, как так вышло. Констам был очень доволен. Ведь теперь на каждого из Них будет по трое нас. Констам считал, что тогда мы сможем одновременно убить Их телесную и духовную составляющую и не дать Им ускользнуть в мир духов, где, как признавал даже Констам, ни о какой работе с Ними не может быть и речи. Главным препятствием было то, что Они находились в Реальном Месте и, похоже, не собирались оттуда выходить. Значит, нам придется туда проникнуть. Как это сделать, не знал никто: Они же наверняка быстро узнают, что мы пытаемся пробраться к Ним, и будут начеку. Но Констам был уверен, что мы что-нибудь придумаем. А пока он занялся тем, чтобы все мы были должным образом снаряжены. Составил список.
– На это нужно много денег, – заметил Джорис, когда прочитал список.
Констам весело улыбнулся и пошарил в своем кожаном колете. Там у него было, похоже, припасено даже больше всякой всячины, чем у Джориса.
– Я это предусмотрел. – Он вытащил большой, с кулак, клубок блестящей желтой проволоки. – И подготовился.
– Демонская обмотка?! – По голосу Джориса было ясно, что это неоправданное транжирство.
– Сам понимаю, – сказал Констам. – Но золото есть золото. Я думал, вдруг мне придется выкупать тебя у кого-нибудь. В этом мире есть что-нибудь вроде ломбардов? – спросил он у Ванессы.
– Э-э… есть, наверное, – ответила Ванесса. – Но любой ювелир заплатит вам за золото гораздо больше.
Надо было видеть, какое лицо сделалось у Адама, когда он понял, что Констам держит в руках кусок чистого золота с кулак величиной! Теперь он точно знал, что Констам богат. Я начал всерьез беспокоиться за Ванессу. Констаму она и так очень нравилась. Я это с самого начала заметил. А против рабовладения он явно ничего не имел, иначе не купил бы Джориса.
Когда Констам пошел продавать золото, с ним отправили меня. Мне уже случалось продавать золото в разных мирах. Констам был готов прислушиваться к моим советам. Чтобы охотничий костюм не бросался в глаза, Констам надел старый непромокаемый плащ отца Адама. В отличие от Джориса, он не особенно ценил свой наряд. Но мы все равно влипли.
– Откуда это у вас, сэр? – спросил ювелир, когда Констам показал ему проволоку.
– Я ее в работе использую, – пояснил тот.
Да пропади он пропадом, этот мир со всеми своими правилами и строгостями! Будь это не проволока, а золото в любом другом виде, никто бы к нам не придрался. Но поскольку это была проволока, ювелир пришел к убеждению, что она не может принадлежать Констаму. А Констам, у которого здравого смысла было в два раза больше, чем у Джориса, сообразил, что про демонов ничего рассказывать не стоит. В итоге ювелир дал Констаму подписать бумагу, что проволока принадлежит ему, и мы оставили ему наши имена и фамилии и адрес Адама. Прямо переполох! Зато ювелир заплатил нам за проволоку довольно щедро.
На обратном пути мы купили часть товаров из списка, но не все. Остаток дня я пробегал по магазинам то за этим, то за тем. В доме устроили настоящую мастерскую. В этом мире снаряжением для охоты на демонов не торговали нигде. По словам Адама, демоны здесь водились, но в них никто не верил, поэтому они никому не мешали. Из этого следовало, что почти все снаряжение из списка Констаму и Джорису предстояло сделать своими руками, из металла, кожи, дерева и пластмассы и разных других материалов, которые мне надо было закупить. Только не спрашивайте, что именно они мастерили. О том, что такое триспер, наллетка или концептор, я знал и знаю до сих пор не больше вашего. Я просто был у них мальчиком на побегушках.
В основном снаряжение изготавливали Констам и Джорис, поскольку знали, что должно получиться, но вскоре они основательно задействовали и Адама, так как он был очень рукастый. Самую простую работу поручали Ванессе. Хелен на первых порах ходила со мной. Доделав что-нибудь, они развешивали снаряжение на скелете Фреде. Констам сказал, что Фред отлично подходит для хранения снаряжения, поскольку состоит из человеческих костей.
Хождение по магазинам меня вполне устраивало. Отвлекало от Дома и от Них. Но меня беспокоило, что происходит, пока меня нет. Я был на сто процентов уверен, что рано или поздно Джорис ляпнет при Констаме что-нибудь про руку Хелен и Констам решит, что на Хелен тоже надо охотиться. И еще я был точно так же уверен, что стоит мне отвернуться, как Адам предложит Констаму Ванессу за шестьдесят тысяч пятьсот крон. И я не ошибся.
Я вошел в кухню со связкой разнокалиберных ножей и бумажным пакетом алюминиевых кубиков. Судя по всему, это произошло ровно через секунду после того, как Адам сделал свое предложение. Джорис и Ванесса в очередной раз ушли грабить хирургический кабинет доктора Макриди – Констам решил забрать оттуда все сколько-нибудь полезное, сказал, что за все заплатит, – и Адам с Констамом остались наедине. В кухню я вошел в тот самый момент, когда Констам схватил Адама. Он швырнул Адама на стол и принялся нещадно лупить. Причем так хладнокровно и профессионально, что я поневоле задумался, часто ли он это делает.
Я тактично попятился вон из кухни – в ушах бухало от методичных шлепков Констама – и в передней натолкнулся на Джориса.
– Э-э… а Констам так часто делает?
Джорис помотал головой. Ему было ужасно стыдно.
– Кажется, Адам попросил семьдесят тысяч, – сказал он.
Миг спустя Адам метнулся наверх, сжимая в руках половинки очков. Констам бросился к двери за ним, кипя от гнева. Он хотел крикнуть что-то Адаму вслед, но тут увидел нас с Джорисом.
– О, отлично! – сказал он. – Ты принес ножи!
Поэтому мы так и не узнали, почем Адам хотел продать Ванессу. Констам нам ничего не сказал – и к тому же, как видно, не собирался никого покупать. Адам дулся наверху, пока мы с Джорисом не поднялись и не починили ему очки. Для этого мы взяли кусочек золотой демонской обмотки, которая случайно осталась у Джориса, – хотели задобрить Адама. Но Адам тоже не признался, что сказал Констаму. Только твердил: «Джорис, прими мои сердечные соболезнования: тяжело, когда твой хозяин такой зверь». Джориса это обижало. И вообще Джорис весь день был какой-то дерганый. Ванесса считала, что Джорису страшно выступать против Них. Очень может быть. Он-то знал, каковы Они, даже лучше меня.
Когда я спустился, оказалось, что разразилась еще одна катастрофа. В переднюю выскочила Хелен, за ней прыжками несся Констам.
– Стой! Подожди! – говорил Констам.
– Не приближайся ко мне! – закричала Хелен. Вцепилась в меня и развернула, чтобы загородиться мной от Констама. – Джейми, Джорис все ему рассказал!
Ну вот, так я и знал.
– Не трогайте ее, – сказал я Констаму. – Она не демон, даже наполовину! Если вы ее тронете, я напущу на вас Их!
Он стоял и смотрел на меня так, словно сейчас взорвется.
– Ей совсем не будет больно. Я просто хотел взглянуть на ее руку.
По мне, так это ничего хорошего не сулило. Наверное, дело в том, что мы были в доме доктора.
– Чтобы ампутировать? – уточнил я. – Только попробуйте!
Констам скрестил руки на груди и устремил взгляд сначала в потолок, а потом на Фреда, увешанного странными предметами. Потом притопнул белым сапогом и сказал с превеликим терпением:
– Джейми! Ты повидал гораздо больше миров, чем я. Неужели ты до сих пор не научился разбираться в людях?
– Разбираюсь как могу, например, понимаю, что для вас охота на демонов важнее всего на свете, – ответил я.
– Да, – сказал он. – Так и есть. Вот почему… Послушай, я считаю, что рука Хелен – это наше средство борьбы с Ними. Ты видел ее руку. Вот, прочитай и скажи, согласен ли ты со мной. – Он вытащил из-за колета потрепанную книгу и вручил мне. – Тридцать четвертая страница.
Книжка называлась «РЛС-1692». По календарю мира Констама сейчас был 1692 год. Когда Ванесса увидела потом эту книгу, то очень смеялась, потому что в ее мире тоже выпускалась такая книга, только это был регистр лекарственных средств для врачей и провизоров. А этот «РЛС» был регистр лицензированных средств для борьбы с демонами. Его зачитали до дыр. Я всунул обратно выпавшую страницу двадцать восемь и нашел страницу тридцать четыре. Список оружия, отсортированный по действенности. Гравированный кинжал, противодемонский клинок, нож против духов, гравированный пистолет – и так далее, с картинками и примечаниями, вплоть до осинового кола. А первым в списке стоял…
ЖИВОЙ КЛИНОК – смертелен для демонов любой силы на любом плане. Предположительно состоит из человеческого духа. Известен только по легендам, которые гласят, что живой клинок способен прорубить себе путь в потусторонний мир.
См. «Сагу о Корисе Хане», 11. 1039–44.
– Да, – сказал я. – Только я не знаю, умеет ли она делать ножи.
– Так спроси у нее! – с жаром воскликнул Констам.
Я и спросил – но Хелен к этому времени перестала со мной разговаривать. Ушла в гостиную и села там.
Констам чуть с ума не сошел от досады. Он был полностью, абсолютно уверен, что Хелен, если захочет, может прорубиться в эту треугольную крепость и перерезать Их, судя по тому, что рассказал Джорис. Констам сказал, что если бы Хелен родилась в семье Ханов, то стала бы самой знаменитой охотницей на демонов в истории. Я ответил, что в Доме Уквара тоже придерживались очень высокого мнения о Хелен, но ее отец называл ее руку уродством. Констам грязно обругал отца Хелен. Причем обругал по-демонски, а демонские ругательства очень страшные. Наверное, Хелен слышала его – он носился по передней кругами и бесновался, – но так ничего и не сказала. Даже кончик носа не показался из-за завесы волос.
Ванесса пошла уговаривать Хелен. Не помогло. Тогда Констам напустился на меня и приказал сделать хоть что-нибудь.
Остаток дня мне пришлось посвятить сбору всякой живности. Я понимал, что больше ничего не поможет. Я нашел жабу, слизня и с полсотни уховерток и все положил на ковер в гостиной к ногам Хелен. Ванесса сказала, что у ее матери будет удар, если она узнает. Удар пропал бы впустую: Хелен на них даже не взглянула. Потом Адам перестал дуться – к этому времени он уже мог сидеть – и сказал, что в сарайчике, где Ванесса держит свое непоэтичное ландо, водятся крысы. Раньше это были его ручные крысы, пояснил Адам, но потом они удрали.
Тогда я отнес в сарай кусочек сыра и битый час выслеживал крыс. Одну все-таки поймал. Это была жирная черная красотка, кусачая, как демон. Я притащил ее в гостиную – едва не упустил, так она вертелась и отбивалась, – и протянул Хелен. Хелен тут же протянула руки и нежно взяла крысу. Положила ее на колени, и крыса тут же стала вся такая мягонькая, умильная и податливая. Ее усики радостно мерцали. Из-за волос Хелен послышалось тихое воркование.
– Что-что? – переспросил я – и очень зря.
Волосы Хелен отлетели назад. Я получил полную дозу готовности покусать.
– Я сказала – спасибо! – заорала Хелен. Она была в ярости.
Я поскорее удрал.
Ванесса мазала мне крысиные укусы каким-то снадобьем, когда в кухне снова разразилась катастрофа. Ножи, которые я купил, никуда не годились. Идея была в том, чтобы наточить их и превратить в оружие против демонов, выгравировав на клинках и рукоятках нужные символы. Но оказалось, что материалы, из которых в этом мире делают ножи, не выдерживают символов. От знака «шен» плавились пластиковые рукоятки. Нанести «шен» на лезвия кое-как удалось, но от всех остальных знаков металл просто крошился.
– Джейми! – закричал Констам. Мальчишка на побегушках тут же примчался.
Мне предстояло взять Джориса, сказал Констам, поскольку Джорис узнает хорошую демонскую сталь, и закупить самые лучшие ножи из нее с рукоятками либо из дерева, либо из чистой кости.
Мы отправились на розыски.
А я уже говорил, что Джорис весь день был нервный. Это еще мягко сказано. Он поднял такой шум вокруг ножей, что я бы ему врезал, если бы он не был в два раза сильнее меня. Я по-настоящему разозлился на него, потому что он привлекал к нам внимание в магазинах. Он все-таки согласился надеть старый плащ доктора Макриди поверх охотничьего костюма (поскольку так велел Констам), но только нараспашку. Все на него таращились, потому что он везде поднимал шум. Потом замечали черный символ у него на груди и спрашивали, не занимается ли он дзюдо. А еще кто-то спросил, может, он шпагоглотатель?
– Джорис, – сказал я, когда мы наконец вышли из магазина с кучей ножей, – я очень устал за сегодня. Да и ты, мне кажется, тоже на себя не похож. Вообще-то, хочу тебя предупредить: такими темпами ты добьешься, что Они обвинят тебя в том, что ты вступаешь в игру. Не забывай, пока ты не попал Домой, ты еще граничный скиталец.
Джорис остановился. Пнул оказавшуюся поблизости консервную банку. От грохота довольно много прохожих повернулись и посмотрели на нас. Поскольку был субботний вечер, на улице было людно. Готов поспорить, что Джорис выждал, когда на нас будет устремлено как можно больше глаз. А потом как заорет:
– Достало меня быть рабом!
К счастью, никто не понял его буквально. В их мире ничего такого не было. Многие смущенно попрятали глаза. Я попытался сдвинуть Джориса с места.
– А я думал, тебе нравится Констам.
– Да. Конечно. Констам мне нравится. – Джорис все-таки снизошел до того, чтобы зашаркать дальше. – Я люблю охоту на демонов. Я не хочу ни заниматься чем-то другим, ни работать с кем-то, кроме Констама. Но меня достало быть рабом.
– А, – сказал я. – И давно тебя это достало?
Я думал, с полчаса, не больше. Но оказалось, нет.
– С тех пор, как меня продали, – уныло отозвался Джорис. – Просто про это как-то не думаешь. Нет смысла. Наверное, я задумался об этом, когда решил, что больше никогда не увижу Констама. А потом Адам захотел продать Ванессу. Мне от этого стало тошно. – Тут он опять остановился. – Ненавижу!
И у нас снова появились благодарные зрители.
– Пожалуйста, пойдем, – попросил я. – Слушай, если тебя так это достало, почему ты не скажешь Констаму? По-моему, он не из тех, кто…
– А что толку? – едва не закричал Джорис. – Чтобы перестать быть рабом, я могу только выкупить себя, другого пути нет, а рабам запрещено зарабатывать. И даже если бы я мог заработать денег, где мне взять двадцать тысяч крон? И мечтать нечего!
– Э-э, – сказал я. – Понимаю, в чем тут сложность. Погоди минуту! Вы, охотники на демонов, насколько я знаю, единственные, кто умеет путешествовать между мирами. Что…
Тут кто-то крикнул:
– Эй, найдите себе другое место для репетиции!
От этого Джорис так и припустил бегом прочь по улице.
– Что тебе мешает, – пропыхтел я, нагнав его, – положить деньги в банк в другом мире, например, здесь, где нет рабства?
– Хорошая мысль, – ответил Джорис на бегу, – но придется сказать Констаму… Ой нет! Мне в жизни столько не заработать. Это безнадежно.
Подбодрить его мне было нечем, поэтому я промолчал.
Мы вернулись домой к Адаму. Там была Хелен и с ней Констам. Они стояли в передней возле Фреда, довольные-предовольные. Лицо у Хелен было все розовое под смуглой кожей, прямо как у Констама. Она закатила рукав, и ее рука была… то есть руки почти что не было. На ее месте появился сноп света в форме руки. Сквозь него мне было видно и ковер, и Фреда. Но вот что странно – и даже жутко: внутри руки, в середине этого снопа света, виднелась другая рука, гораздо меньше, вся ссохшаяся и скукоженная. Это была та рука, с которой Хелен родилась. Неудивительно, что она никому не хотела ее показывать.
Констам посмотрел на нас будто кот, наевшийся сметаны.
– Глядите! Вот он, наш живой клинок!
Знаете, я чуть не убежал наверх дуться. Ведь это я проделал всю черную работу, а лавры достались Констаму! Но надуться – значило бы повести себя, как Адам. У Адама хватило наглости подойти ко мне в кухне с оскорбленным видом.
– Не понимаю, почему Констам так обошелся со мной, когда я сказал, что продам ему Ванессу. Я же просто пошутил.
– Правда? – отозвался я.
Я прекрасно понимал, что никакая это была не шутка. И Адам понимал, что я понимаю.
После этого я заставил его помогать мне готовить ужин. Я чувствовал себя настоящей Золушкой и не хотел заниматься хозяйством в одиночку. Я все думал: ради этих людей я согласился отложить возвращение Домой, а никто из них этого даже не заметил, не то что не поблагодарил меня! Я решил, что после хорошего ужина наверняка повеселею. Да и готовил я лучше Ванессы – впрочем, лучше Ванессы готовит кто угодно.
Как только я взялся за стряпню, Адам куда-то испарился – самым что ни на есть естественным образом, будто замечтался, и все остальные тоже исчезли. Обычно, когда еда готова, все начинают кучковаться возле нее. Думаю, это такой врожденный инстинкт человеческой расы. Но эти не пришли. Мне пришлось отправиться на поиски. Хелен и Адам углубились в изучение брошюр с правилами в полуподвале. Остальные скопились в гостиной. Джорис орал. Я завис на пороге: было непонятно, мешаю я кому-то или нет.
Констам одной рукой обнимал Ванессу. Какой он, однако, шустрый, этот Констам. Джорис стоял перед ними и орал. Вид у него был разобиженный в пух и прах, с проступившими темными веснушками.
– Теперь ты знаешь, как меня это достало! – вопил Джорис.
– Что же ты раньше молчал? – спросил Констам. – Послушай…
Констам все время повторял «послушай», но Джорис так завелся, что не обращал внимания:
– Какой смысл кому-то говорить, а тебе особенно? Я что, могу как-то деньги заработать? Нет! Нет никакого способа…
– Джорис, да послушай же его! – закричала Ванесса.
Она прямо завизжала. Джориса проняло. Он опомнился и заморгал, глядя на нее.
– Вот что я пытался тебе сказать, – начал Констам. – Если бы я знал, что это тебя настолько беспокоит, я бы объяснил это тебе много лет назад. Насколько мне известно, в этом мире и в любом другом, кроме нашего, ты такой же свободный человек, как и я. А там ты раб только потому, что закон не разрешает отпускать тебя на свободу, пока тебе не исполнится восемнадцать. Но Эльза Хан уже подготовила все документы для предоставления тебе вольной, и в день твоего восемнадцатилетия она их подпишет и заверит. Ну как, тебе полегчало?
– Нет, – ответил Джорис. – Ты потратил много денег, а все зря.
Констам рассмеялся:
– Зря, говоришь? Джорис, с тех пор, как ты стал моим напарником, мы зарабатывали в год вдвое больше твоей стоимости, а иногда и сверх того. Твоя доля положена в банк на особый счет и ждет, когда тебе исполнится восемнадцать, и пока ты не сказал то, ради чего сейчас открыл рот, – да, если хочешь, можешь от меня откупиться. Даже после этого ты останешься очень богатым.
Поскольку Джорис потерял дар речи от изумления, я решил, что милосерднее всего будет войти на манер дворецкого и поклониться:
– Дамы и господа, ужин подан.
XIII
Моя поскакучая машинка решила, что здесь пора начать главу тринадцатую. Очень подходящий номер. Мы приближаемся к рассказу о нашей войне против Них.
Мы планировали наступление на рассвете, будто на той болотной войне, но слегка проспали. С нашей стороны это была отменная глупость, поскольку нас в любую минуту могли позвать Границы, но мы про это начисто забыли.
Накануне мы проговорили до поздней ночи. Я перестал чувствовать себя Золушкой задолго до того, как мы пошли спать. Говорить было так здорово. Скитальцы обычно опасаются слишком близко сходиться с людьми, но тут я махнул на это рукой. Они все мне так нравились. Даже Адам, хотя Ванесса говорила, что любить Адама – задача непростая. Но я восхищался его хладнокровием. И восхищался тем, что он все равно собирался идти на войну, хотя Их не видел. Как будто слепой шел на битву. Я дал ему честное слово всегда быть рядом и говорить, где Они.
Дело шло к полудню, когда мы были готовы выступать. К этому времени я даже забыл про Границу. Нам пришлось навьючить на себя много всякой всячины. По мне, это все выглядело как-то глупо, будто амулеты и обереги, которые носят обитатели первобытных миров, но Джорис клялся, что оно действует. А я в последнее время начал верить Джорису.
Во-первых, у всех у нас в одежде должно было быть что-то белое, даже у Хелен, хотя она ограничилась белым лоскутком с нарисованным знаком «шен» на груди. Она уперлась: «Десницы Уквара всегда ходят в черном». Констам сказал, что не против. У Хелен своя сила, и применять ее она будет по-своему. Однако Адам был наглее нас и спросил, почему Десницы Уквара ходят в черном. А Хелен не покусала его, а просто ответила:
– А разве я не говорила? Это в знак скорби по Уквару, которого постигла такая страшная участь.
Адам дал мне свою белую рубашку, а сам надел костюм, в котором играл в ту игру. Ванесса надела белый рабочий комбинезон. Даже нашла белые ботинки к нему. Когда спереди на комбинезоне нарисовали знак «шен», Ванесса стала очень похожа на охотницу на демонов. Констама ее вид просто очаровал. Он взял ее за руки и так и сказал.
Адам весь скривился от отвращения:
– Тили-тили-тесто, жених и невеста!
– Молчи, крот, – отозвалась Ванесса.
После этого мы взяли предметы со странными названиями, висевшие на Фредерике М. Аллингтоне, и повесили их себе на шею или намотали на запястья, как велел Констам. Адам заметил, что без них Фред как голый. Взял газету, которую почтальон положил на коврик у двери, и сунул ее Фреду под костяной локоть.
– Сегодня тринадцатое. – Адам показал мне газету. Воскресенье, тринадцатое июля. – Надеюсь, это плохая примета для Них.
– Ни в коем случае не говори про приметы! – сурово отчеканил Констам. – Вот, возьмите каждый по ножу. Ну как, мы готовы?
Мы были готовы. Ванесса и Адам оставили по письму родителям – они рассказали там все как есть, написали всю правду про Них, как я ни отговаривал. Ванесса положила свое письмо на стол в передней. Адам сунул свое в зубы Фреду. Потом мы забрались в непоэтичное ландо – еле втиснулись – и снова покатили в Их крепость.
Три – счастливое число, нервно твердил я про себя, когда мы пробирались в потусторонней тишине среди кустов. Особенно жутко мне стало от тишины, когда мы переходили низину и шли к противоположной стороне крепости, где должна была быть дверь. Я все поглядывал на Джориса для храбрости. Джорис так радовался тому, что сказал ему Констам, что даже сейчас улыбался.
Мы вышли на засыпанную щебенкой полосу по эту сторону треугольного здания. И там была дверь. Она была из цельного стекла с ручкой. Я видел, как в ней отражаются арки канала. Констам заранее сказал, что таиться нам нет смысла, поэтому мы отважно вышли из кустов и по щебенке подошли к двери. Когда мы подходили, я видел в ней все наши отражения в белой одежде. Я прекрасно понимал, почему Адам не видел ничего, кроме отражений. Я сам еле различал Их за стеклом. И это было как-то неправильно. Не так, как я видел все в Старой крепости. Они повернулись и посмотрели на нас. Они словно бы улыбались.
– Они знали, что мы придем, – проговорил я.
– Естественно, – ответил Констам. И твердо взялся за ручку двери рукой в белой перчатке. – Это логично. Ведь Адам и Ванесса видны у Них на столе. А меня, должно быть, нет на моем. – Он дернул за ручку.
На миг меня охватила чистая паника.
– Тогда…
– Я рассчитываю на вас, на трех рандомов, – сказал Констам.
Я же говорил, Констам очень храбрый. Если бы я понимал, что Они знают, что я приду, и ждут меня, то ни за что не пошел бы туда.
– Дверь заперта. Хелен.
Хелен шагнула вперед, закатывая рукав, и рука ее превратилась в сноп света. Они за стеклом испуганно переглянулись и отступили на шаг.
– Итак, Они насторожились, – сказал Констам. – Этого я и ожидал.
Хелен вытянула вперед свой сноп света – он по-прежнему действовал как рука – и прикоснулась к стеклянной двери. Стекло скукожилось и сморщилось, как горячий целлофан. От еле видимых пальцев Хелен во все стороны пошли трещины. А потом дверь просто исчезла. Осталось только полутемное пространство. Констам со звонким боевым кличем ринулся в полумрак, Джорис и Хелен за ним. Когда следом бросилась Ванесса, я взял Адама за руку, чтобы он знал, куда идти, но он оттолкнул меня:
– Не надо, теперь я Их вижу.
И он снял очки, как будто ему было спокойнее, когда он видел Их не очень хорошо.
А Они внутри отступали вглубь треугольной комнаты – торопливо от Констама и очень-очень настороженно от Хелен. Джорис стоял перед массивной дверью по ту сторону, в тылу у Них. А мы с Адамом и Ванессой разошлись между машинами, чтобы отрезать Им путь к отступлению. Констам и Хелен уже шагали вдоль стола, под огромными висячими кубиками. Могло показаться, что Они окружены.
Я не удержался и посмотрел на стол. Это было потрясающе. Было непонятно, как на таком маленьком столе умещается столько всего – но ведь как-то умещалось, втискивалось все на свете до мельчайших деталей. Куда ни взглянешь – видишь все четко-четко, но очень мелко. Я видел болотно-зеленую войну где-то в Африке и еще на севере Индии. Видел, как в Тихом океане перевернулась яхта. Видел тот самый город, где мы были, с крошечными авто и малюсенькими людишками, спешившими по воскресным делам. При желании можно было и заглянуть внутрь церквей, домов и авто, хотя у всех были крыши, – не знаю, как это устроили. Я видел даже крошечный черный треугольник, где сейчас были мы. Но это было единственное здание, куда оказалось невозможно заглянуть.
Я смотрел на стол всего секунду. Но когда я поднял глаза, комната превратилась в одну из множества треугольных комнат. Они были повсюду – и сверху, и снизу, и с боков, в точности как в прошлый раз. Только на этот раз Они не подошли полюбопытствовать. Они сосредоточенно надвигались на нас.
– Господи боже мой, – сказал Адам.
Раздался кошмарный гул. Нечеловеческий. Не знаю, что это было – гудок или звонок, кажется, и то и другое, и мы едва не оглохли. Пока он длился, все треугольники плавились, двигались, раздувались. Ощущение было такое, будто пол кренится во все стороны сразу. От этого у меня голова закружилась. Все произошло мгновенно. Когда это закончилось, мы очутились в настоящем Реальном Месте. В том самом, которое видел Джорис. Невероятно огромный зал, который тянулся, насколько хватало глаз, во все стороны, и терялся вдали, и в нем столы, столы, столы, и игральные кости, и сонмища машин. И Их тоже сонмища, и они стремительно надвигались на нас, ужасные, еле видные, целая орда серых плащей.
Все произошло очень быстро, вот в чем беда.
– Спина к спине! – крикнул Констам.
Джориса уже поглотила орда серых плащей. Хелен закричала что-то на незнакомом языке и ринулась на Них. Луч света от ее руки крутанулся и пронзил один из серых отрядов. Я впервые разглядел Их лица. Не хочу об этом рассказывать. Полный ужас.
Потом Хелен исчезла. Нет, ее не поглотили, ничего такого. Просто исчезла, и все. Констам хотел схватить Ванессу, но и она исчезла. А потом и Констам. Я огляделся, где же Адам, но его тоже не было. И тогда меня охватило боевое безумие. Я развернулся и увидел позади одного из Них. И бросился на него с противодемонским клинком. Он отпрянул. Я задел только его плащ. Потом Они обступили меня и будто бы отшвырнули в сторону. Они со мной не церемонились. Я приземлился с жутким грохотом и треснулся обо что-то головой.
Когда все перестало качаться перед глазами – меня не оглушило насовсем, но все-таки слегка контузило, – оказалось, что я сижу на траве. Светило солнце – так же мягко и неуверенно, как тогда, когда мы пошли в наступление. Головой я треснулся о маленькую белую статую человека в цепях. Я уставился на нее. Дурацкое чистое искусство, никакого сходства с реальностью.
Первым делом я подумал: я Дома!
А потом подумал: нет, не может быть. Это мир Адама. Но ничего этого не было.
Потом я понял, что нет, все было, и встал – пришлось ухватиться о голову статуи, – и огляделся. Да, точно: я был в низине посреди маленького треугольного то ли сада, то ли парка. Вверх по склону сплошь росли кусты, впереди сквозь них виднелось розоватое здание вроде крепости, а в небе с одной стороны маршировали арки канала. И я был совсем один. Почему-то я надеялся, что хотя бы кому-то удалось ускользнуть и он будет рядом. Но понимал, что Они наверняка хотели нас разделить.
Тут мне стало совсем худо. Горло заболело, и когда я повернулся в сторону канала, то едва различил арки.
Я понимал, что теперь встретить кого-то из них снова – один шанс на миллион. Ведь миров в Цепях бесконечное множество. И да, я снова очутился в мире Адама. Я зажмурился, а когда снова открыл глаза, то увидел, что это мир Адама: арки канала были из желтого кирпича и выложены затейливыми узорами. Куда раскидало остальных, было ведомо только Им. Но, судя по всему, теория Ванессы о перегрузке не оправдалась. И я точно знал – так же точно, что я стою здесь, в мире Адама, – что остальные мои друзья рассеяны где попало и превратились в скитальцев. Мы были с ног до головы в защите против демонов, поэтому убить нас Они не могли. Они в свое время не смогли убить Джориса. Следовательно, всех нас пришлось сбросить.
Потом мне пришло в голову пойти посмотреть, как там Они. Как видно, Они не возражали, что я разгуливаю по Их парку. Им было наплевать на меня – поэтому я сказал себе, что и мне теперь на Них наплевать. Я прошел через кусты, прохрустел щебенкой и поглядел на дверь. Она снова была на месте. И с виду стеклянная. Но я сомневался, что это стекло. Они были за дверью. И несколько напряглись, когда увидели меня. Не стали притворяться, будто заняты. Встали плечом к плечу и уставились на меня.
Я хотел показать Им, что теперь мне все равно. У меня в руке по-прежнему был противодемонский клинок. Я ударил по розовому граниту стены у самой двери – просто чтобы Им показать. Сдается мне, не зря Констам выгравировал на ноже все эти символы. Обычным ножом гранит не разрежешь. Но от этого клинка осталась славная глубокая зарубка. Так что я бил и бил по граниту, пока не вырезал тот самый знак, какого никогда не видел, самый редкий на свете. Шутка такая. Он означал: «МОЖЕШЬ СКАЗАТЬ ИМ, ЧТО ТЫ СКИТАЛЕЦ». Они за дверью вроде бы вздохнули с облегчением, когда поняли, что больше я ничего делать не собираюсь. Это меня разозлило. Чего Им во мне бояться, я не знал, но не прочь был Их напугать. Я посмотрел на знак. Чем-то похож на «шен». Я прищурился на «шен» у себя на груди, чтобы сравнить. И правда, всего два штриха – и будет «шен». Тогда я добавил два штриха. На последнем нож сломался, я выбросил его и ушел. Мне стало все равно, что там думают Они.
Перебраться через стену была та еще работенка. От нее рука совсем разболелась. Но я все-таки перелез и побрел по широкой улице. В конце стояло непоэтичное ландо Ванессы. Так и будет там стоять, пока с ним не поступят так, как положено поступать с брошенными авто. Ванесса появится не скоро, а может, и вообще никогда не вернется. Я свернул за угол к фасаду розового гранитного здания. Никаких гарпунов. Но вдоль ограды виднелись пеньки от отломанных железных прутьев. Я пошел посмотреть на парадную дверь. Там тоже была табличка. Букв на ней было меньше, чем мне запомнилось. Просто «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ», а внизу якорь с короной.
– Наверное, Они всегда называют их «Старая крепость», – сказал я вслух и побрел в горку, через заброшенный торговый центр.
Вот забавно: в какой бы мир ты ни угодил, везде в заброшенных местах по ветру носятся клочки бумаги. Удручающий факт.
Я сам не знал, куда иду, но куда-то все-таки шел, если вы понимаете, о чем я. В груди снова заледенело и заныло, да так тяжко, как еще никогда не бывало. Наверное, я уже тогда все понял. Я шел все дальше и дальше, кружил по лабиринту улиц, которые помнил еще с тех пор, когда жил Дома, мимо зданий, которые видел впервые в жизни. И вот наконец очутился там, где этот лабиринт был до жути, до ужаса, до невозможности знакомый. И я подумал: а хочу ли я идти дальше? Да, я хотел. Я свернул за угол, миновал короткий подъем и подошел к школе. Она стояла в точности на том же самом месте, где должна была быть моя старая школа «Чарт-Хаус», только была другая – но не совсем.
Эта школа была гораздо больше. Она была обнесена длинным железным забором. В основном она состояла из квадратных новых зданий, которые так любят в мире Адама, с кучей окон. Но я подошел к высоким воротам, сваренным из железных прутьев, и увидел прикрепленный к прутьям раскрашенный щит. Рисунок на щите был точно такой же, как на блейзере Адама. Тогда я вгляделся за забор, в промежуток между квадратными новыми зданиями. Среди них стояло одно старое, маленькое, похожее на часовню. Это здание я знал как свои пять пальцев, только помнил чуть хуже, чем думал. Я отступил на несколько шагов и на всякий случай еще раз присмотрелся к зданию. На табличке у ворот было написано название школы. Табличка гласила:
АКАДЕМИЯ КОРОЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ
(бывш. «ЧАРТ-ХАУС»)
И тогда я все понял по-настоящему. Но сначала мне надо было еще кое-что проверить. Я двинулся дальше, опять в гору, и вышел на улицу с деревьями и широкими тротуарами, где спал Агасфер, и прошел по проулку, где меня задел клинок Джориса. Там до сих пор виднелось маленькое темное пятнышко моей крови.
Дом Адама был четвертый в череде больших красивых домов на улице за проулком. Я прошел по подъездной дорожке. Дом скрывался за деревьями. Только у самого дома я заметил, что у парадной двери стоит очень красивое авто. Прямо-таки поэтичное. А за ним виднелась дверь – распахнутая.
Отлично, подумал я. Есть кого спросить. И вообще я должен все объяснить их родителям.
Звонить я не стал. Просто вошел. Дома были и отец, и мать. Она стояла на пороге кухни, на свету, и читала письмо Ванессы. Это была красивая нервная дама в очках. Он стоял возле Фреда и читал письмо Адама. Он был высокий, плотный, с бородкой. Оба замерли и притихли от волнения и тревоги. У меня на глазах через переднюю просеменила та самая жирная черная крыса, которую я поймал вчера для Хелен. Дама посмотрела на крысу, проследила, как та семенит, но на самом деле даже не заметила ее. Вот как она волновалась. В обычной обстановке она бы весь дом разнесла из-за этой крысы.
Я решил ее не беспокоить. Все равно спрашивать надо было у него. Он уже поднял голову и увидел меня. По-моему, крысу он вообще проглядел.
– Вы доктор Макриди? – спросил я.
– Да, это я, – ответил он. Поначалу он не заметил ничего, кроме моего роста. – К сожалению, Адама нет дома, – сказал он.
– Я знаю, что его нет, – ответил я. – Мне нужно кое-что у вас узнать.
Тут он заставил себя присмотреться ко мне. И пока он присматривался, я видел, что он изо всех сил старается пробудить в себе врача. Как будто напяливал пальто с вывернутыми рукавами. Никак не мог перевоплотиться во врача, но старался, как мог.
– Рука? – спросил он. – Честно говоря, сейчас у меня нет приема. Обратись в травматологический пункт в Королевской бесплатной больнице.
Я посмотрел на свою руку. Сквозь рубашку, которую дал мне Адам, сочилась кровь. Неудивительно.
– Нет, я пришел не с этим, – сказал я.
Он все пытался пробудить в себе врача. Очень старался.
– У вас была какая-то игра с переодеваниями, да? – спросил он. Увидел знак «шен» у меня на груди. – Видимо, что-то пошло не по плану.
Я засомневался, слушает ли он меня.
– Вот что, – сказал я. – Я пришел задать вам несколько вопросов. Вы ответите, и я уйду. Я знаю, что вы не хотите, чтобы я сейчас вас донимал.
Это заставило его посмотреть на меня иначе. Думаю, поскольку он был врач, то привык разговаривать с людьми, когда они несколько не в себе. А сейчас он увидел, что я в некотором смысле так же плох, как и он сам.
– Что ты хочешь узнать? – осторожно спросил он.
– Ваша бабушка, – сказал я. – Женщина-врач. У вас там альбом с ее фотографиями. Как ее звали?
– Эльзи, – ответил он. – Эльзи Гамильтон Макриди.
Значит, это действительно была Эльзи. Мне хотелось спросить, откуда у нее дорогие туфельки, но это я решил опустить. Если Эльзи чего-то по-настоящему хотела, она это получала.
– Должно быть, она вышла замуж за одного из мальчиков Макриди из соседнего двора, – сказал я. – Мы с ними играли в футбол. За кого именно? За старшего, Джона, или за второго, Уилла?
– Нет-нет. За Грэхема. – Доктор буравил меня взглядом. – За самого младшего.
– За Грэхема? – удивился я. – Да я его даже и не знал толком! Он и в футбол-то играть не умел. Только и делал, что книжки читал. – Однако, если вдуматься, он был ровесник Эльзи. – А что вы знаете о семье Эльзи? – спросил я. – О ее братьях? У нее было два брата.
Тут уж он уставился на меня, не мигая.
– Роберт уехал в Австралию. А старший, Джеймс, пропал еще мальчиком. Его долго искали, даже тралили канал.
А теперь придется долго искать Адама, подумал я. Доктор смотрел на меня так, словно я был Фред и внезапно ожил и заговорил. Можно сказать, так и было. Дама тоже на меня уставилась.
– И еще два вопроса, – сказал я. – Что это за игра, в которую играют в белых костюмах?
– А? – не понял он. – Ты имеешь в виду крикет?
– Ой, крикет! – сказал я. Про крикет я, конечно, слышал. – Знал бы я, что это крикет, не дал бы себя провести! Мы играли только в футбол. Я думал, в крикет играют в блестящих цилиндрах и такой изогнутой битой!
– Раньше – несомненно, – ответил доктор. – Но это было больше ста лет назад.
– Только не надо говорить, что я все выдумываю. – Я утратил всякую осторожность. – Я и правда только это о крикете и знаю. Сам я столкнулся с ним всего два дня назад. И последнее. Прошу вас, возьмите газету, которая зажата у Фреда под локтем, и прочитайте мне, какое на ней стоит число.
Он покосился на меня, но газету взял и прочитал ту самую дату, которую я запомнил утром.
– Тринадцатое июля тысяча девятьсот восьмидесятого года.
– Спасибо, – сказал я. Голос у меня срывался. Я еле выговаривал слова. – Да, действительно, больше ста лет. В последний раз я побывал здесь в тысяча восемьсот семьдесят девятом.
Потом я повернулся и вышел. Не хотел стать для них живым Фредом. Шел я быстро, но доктор меня нагнал. Несмотря на бороду и все прочее, он был очень похож на моего отца, а мой отец наверняка побежал бы за своим двоюродным дедушкой.
– Эй! – крикнул он. – Дай взглянуть на твою руку!
То есть что-то он все-таки понял.
– Спасибо, не нужно, один Фред у вас уже есть! – крикнул я в ответ. И убежал – а он так и остался стоять у своего блестящего поэтичного ландо.
Я пустился бежать обратно, вниз по склону. Нужно было посмотреть вблизи на кладку канала. Оказывается, все эти годы я помнил его неправильно – а сколько их было, этих самых лет! Я был потрясен – мне и в голову не приходило, что я скитался по Цепям уже сто лет. Меня сбило с толку, что время передергивается, когда переходишь из одного мира в другой. Я думал, что в других мирах оно идет, а Дома стоит, пока меня нет. Но я побывал больше чем в сотне миров и, наверное, провел в каждом из них в среднем год. Неудивительно, что я многое позабыл и все так сильно изменилось.
Только, понимаете, на самом деле ничего я не позабыл. Я же все сразу понял, стоило мне увидеть арки канала. Просто сам себе не поверил. Я не мог поверить, что со мной сыграли такую злую шутку – пусть даже Они. Я в поте лица старался в это не верить. Подмечал все отличия – а при этом на меня отовсюду наползала и наползала похожесть. Я понял, что Они прислали меня Домой, как только треснулся головой о ту статую. Только я был не Дома. Я больше никогда не попаду Домой.
На полдороге к каналу меня позвала Граница.
Нет, ну надо же – Они в своем репертуаре! В считаные секунды раздавили нас, раскидали куда попало, проследили, чтобы я понял, как жестоко Они шутили надо мной все эти годы – на это Они дали мне время, – а потом вернулись к своей игре. На меня навалилась знакомая тоска. Я стоял и трясся от нее.
Навалилась она откуда-то у меня из-за спины. Думаю, все-таки со стороны огородов. Если это была ближайшая Граница, путь мне предстоял неблизкий. В воскресенье, без гроша в кармане, в мире, где столько правил и ограничений, попасть туда будет ох как трудно. Я повернулся, чтобы ответить на зов, и отправился в свой неблизкий путь. Покидать этот мир мне было не жалко. Все утратило смысл.
Потом я остановился. Если все утратило смысл, значит на Них мне тоже наплевать.
– С какой стати мне позволять вам переставлять меня с места на место? – сказал я Им. – Пойду-ка я для разнообразия куда сам захочу.
Куда я сам хочу, я знал. И снова повернулся. Здесь была и другая Граница, гораздо ближе. Старая крепость и треугольный сад точно Граница, иначе инструмент Джориса не взбесился бы. Они каким-то образом отделены от остального города. Поэтому там так тихо. Но я знал, что там Граница, и собирался пройти через нее туда, куда хочу, а Они пусть делают что хотят.
Терпеть зов трудно даже тогда, когда тебе что-то мешает на него ответить. А если ты сам поворачиваешься к нему спиной по собственной воле, это просто пытка. Но я знал, что так можно. Я это сделал в мире скотоводов восемьдесят лет назад. К тому же, по-моему, все то, что Констам повесил мне на шею и намотал на запястья, тоже очень помогало. Констам, конечно, Их недооценивал, но дело свое знал. Да, Констам – это потрясающе. То есть нам с Хелен ужасно надоело слушать Джориса с его разговорами про Констама, но теперь я понимал, что это он не просто так. Я думал, что в следующем же мире, куда я попаду, наверняка не сдержусь, возьму за пуговицу первого же скитальца и вывалю ему все о Констаме. Мой друг Констам, охотник на демонов. Констам, который в ярости метался по передней и отправил меня ловить крыс для Хелен…
Зов тянул меня, рвал, душил. Мне пришлось наклониться вперед, чтобы идти против него. Помню, как косились на меня прохожие – мальчишка с окровавленной рукой и черным знаком на груди, плетущийся под гору к каналу так, словно взбирается на Эверест. Вид у меня, наверное, был очень странный. Но я все шел и шел и думал о своих друзьях. Джорис, Адам, Ванесса. Мне пришло в голову, что Констам и Ванесса влюбились друг в друга. Как они теперь, наверное, мучаются. Так вот почему Констам отшлепал Адама – вовсе не от благородного негодования, а потому, что предложение Адама было для него большим соблазном. А он, наверное, знал, что остальные Ханы не потерпят, чтобы у него было сразу два раба.
Потом я подумал о Хелен. Это когда я перелезал через ограду в сад, а лезть туда оказалось еще сложнее, чем раньше. Я думал, как Хелен прячет усохшую руку в другой руке, созданной из чистого духа, – как прячет лицо в волосах. Думал о том, как Хелен ловит во мне архангела, как она рычит и огрызается. Не умеет она благодарить, эта Хелен. Ненавидит выговаривать «спасибо». Как я уже сказал, Хелен – мой заклятый друг. Никогда больше не сидеть мне по-дружески рядом с Хелен. Никогда.
От этого я даже через стену перелез. И – бабах! – Граница сразу же позвала меня с другой стороны, с визгом потащила меня, выкручивая руки, в зеленую низину посередине треугольника.
Но я даже тогда не ответил на зов. Когда я перелезал через стену, то нарочно выбрал место как можно ближе к крепости. Я протолкался через кусты, прохрустел по щебенке и свирепо поглядел в окно на Них. Они побросали машины и попятились от меня. Как видно, Они меня и вправду побаивались. Почему, я не понимал, но все равно приятно было. Я скорчил Им рожу. Других-то радостей не осталось.
А потом я наконец разрешил себе ответить на зов. Он был до того силен, что мне пришлось бежать, проламываться сквозь кусты, съезжать, оступаясь, по травянистому склону. Но внизу я уперся каблуками в траву и пошел к Границе медленно. Я не хотел подскочить к ней с разлету и угодить куда придется. Мне нужно было попасть в определенное место. Напомню, что я не был уверен, что попаду туда, но твердо решил попытаться.
И вот я подкрался к белой статуе, словно выслеживал ее. И остановился, не дойдя до нее шаг-другой. Я знал, что Граница проходит совсем рядом с ней. Наклонился вперед – очень-очень осторожно – и взялся за искусно вырезанную каменную цепь, которая свисала со статуи. А потом, когда я за нее взялся, то подтянулся по ней к статуе, бережно-бережно, и при этом изо всех сил вспоминал того, кого изображала статуя. Того, кто прикован к скале.
XIV
И у меня получилось. Меня дернуло в сторону – очень сильно.
Он не ожидал меня увидеть. Он привалился спиной к скале, как в тот раз, и голова у него была запрокинута сильнее, а глаза закрыты. Когда я приземлился на уступ, глаза у него сразу открылись, и он подпрыгнул – да-да, подпрыгнул. Может, он был и не человек, но чувства у него были такие же, как у меня. И он был изумлен.
– Я не ждал увидеть тебя снова, – сказал он и осторожно оттащил от меня подальше петлю массивной якорной цепи, которая лежала совсем рядом. А то я, чего доброго, задел бы ее, и меня в следующий же миг унесло бы неизвестно куда.
Мне показалось, что голос у него дрогнул. Это было не просто изумление. Ему было в десять раз более одиноко, чем мне. Я пристально вгляделся в него. Рана не стала хуже – правда, все равно выглядела страшно, – а одежда истрепалась чуть-чуть сильнее. Он добился кое-каких успехов в отращивании рыжей бороды – и, собственно, все. Изменился он не больше, чем я. И было ему точно так же холодно и мокро, как в прошлый раз.
– Да, не повезло вам. – Я решил немножко подбодрить его шуткой. – Один из Них хотел стереть у меня всю память о вас, но вам не повезло: через минуту после этого пес загремел цепью, и я опять вас вспомнил. Я пришел снова дать вам попить.
– Очень любезно с твоей стороны, – улыбнулся он. – Но на сей раз жажда мучает меня не так сильно. Некоторое время назад меня напоили, а сейчас идет дождь. Я попил дождевой воды.
И правда, шел дождь. Погодка здесь была та еще. Густо моросило, и ледяной порывистый ветер обдавал нас холодными мелкими каплями – будто миниатюрные копии огромных звеньев цепи.
– Точно? – спросил я.
– Точно, – ответил он.
Я уселся на мокрый камень, прислонился к скале рядом с ним, стараясь держаться поближе, но не касаться цепей. На этот раз тумана не было, только бурлящие тучи, но вид отсюда открывался, должен сказать, не слишком роскошный. Одни розовые скалы, мокрые от мороси. Его скала была обращена в противоположную от моря сторону. Даже в этом удовольствии Они ему отказали. Пока я думал, что тут особенно не на что смотреть целую вечность, я заметил, что здешние скалы из того же самого гранита, что и Старая крепость. Интересно, за что Они его выбрали – за твердость или какие-то другие качества.
– А кто вас напоил? – спросил я. – Я его знаю?
– Агасфер, – ответил он.
– А, он, – сказал я. – Видел его дня два назад. Он совсем спятил?
– Да, порядком, – сказал он. – И с каждым разом все хуже.
Тут я хотел спросить, предпринимают ли Они что-нибудь, чтобы не пускать сюда Агасфера, а если нет, то почему. Но отчего-то при одной мысли об Агасфере меня прорвало. Как будто я был Джорис и при мне упомянули о Констаме. Словно все остальное куда-то отвалилось и остался только я.
– Нет, он все-таки не совсем сумасшедший, – сказал я. – Кое-что он говорил верно. Он знал, каково это. Я понимаю, почему он спятил, – после стольких-то лет. Он говорил, что надежда – будто мельничный жернов на шее, и ведь правда! Так оно и есть. Вечно носишься со своей надеждой, а истины не видишь. Он сказал мне истину. А я был слишком занят, чтобы ее услышать. Он сказал, что Они заманивают тебя надеждами. Именно так Они и поступают! Они вышвыривают тебя прочь, и гоняют по мирам, и обещают, что если ты сумеешь попасть Домой, правила позволят тебе остаться там. Правила! Полное надувательство. Они-то знали – и я теперь знаю, – что ни один скиталец никогда не сможет попасть Домой. Это в принципе невозможно.
– А что было потом? – спросил он.
Ему и вправду было меня жалко. Меня всегда поражало, как он умудрялся думать о других, когда сам был в таком положении, но как-то умудрялся.
– А вот что, – ответил я. – Я побывал Дома, и это был мне больше не Дом. Я опоздал туда ровно на сто лет.
И я рассказал ему все как есть. Но вы сами знаете, как иногда бывает: говоришь, говоришь, а в голове у тебя при этом пробегают разные другие мысли. Я говорил, говорил – и слышал, как говорю по-английски, и видел, как он кивает, и слышал, как при этом брякают цепи, и знал, что он понимает каждое мое слово. И я его понимал, когда он говорил, например, «А что потом?» или смеялся над Хелен и крысой. Хелен сказала мне, что ее учили английскому, потому что это подходящий язык с точки зрения системы миров. Я всегда считал, что Они говорят по-английски. Но оказалось, что это тоже надувательство, а может быть, очередная моя ошибка. Это был совсем другой язык. Просто я его понимал, точно так же как видел Их, хотя другие не видели. И его, прикованного к скале, я понимал по той же причине.
Я рассказал о нашей неудачной попытке проникнуть в Их Реальное Место.
– А Они взяли и раскидали нас обратно по Цепям. Меня швырнули так, что я стукнулся головой об эту треклятую статую, которая вроде бы вы, и я сел и понял, что я Дома. Только это был не Дом. Дом стал совсем другим и исчез. И я знаю, что Они это нарочно. Они хотели показать мне, что у меня нет даже надежды!
– Вероятно, здесь ты возводишь на Них напраслину, – заметил он.
– Только не пытайтесь относиться к Ним по-честному, – буркнул я. – Этого даже вы не можете.
– Я просто имел в виду, что Они, вероятно, отправили тебя Домой, – пояснил он, – чтобы ты Им больше не мешал.
– Да нет же! Они подстроили так, что меня сразу после этого позвали Границы. Я по-прежнему скиталец. Только я больше не стремлюсь Домой. Я просто узник в Цепях, точно так же как вы. Теперь я это понимаю.
Мы немного помолчали. Холодный дождь тихонько постукивал, ветер вздыхал. Потом он, тот, что прикован к скале, немного пошевелился в цепях – словно бы осторожно. Заерзаешь тут. У него, наверное, все тело ныло.
– Знаешь, а принеси-ка мне попить, – проговорил он.
Я сразу поднялся и начал пробираться мимо цепей. Я был рад, что он меня попросил, ведь я ради этого сюда и пришел. Когда я бочком пробирался мимо него, то вдруг понял, что он стоит не так, как раньше, – именно стоит, а не полулежит на скале, – но я не придал этому значения. Ему же надо было как-то разминать кости.
Я добрался дотуда, где нужно было перелезать через цепи, потому что они были приделаны к якорю наверху. Остановился и посмотрел на якорь. Честное слово, он проржавел сильнее, чем в прошлый раз.
– Можешь взяться за якорь, чтобы было удобнее забираться, – сказал он, прикованный к скале. – Главное – не дотрагивайся до цепей.
В его голосе при этом прозвучала какая-то напряженная нота, которой я не понял. Можно было подумать, что он разволновался.
Наверное, он очень хочет пить, просто не признается, подумал я. Зря он не отправил меня за водой сразу же. И я взялся за огромную заостренную лапу якоря, готовый перенести ногу через цепи.
Чудо, что я не шлепнулся лицом вниз. Все словно задрожало, даже скала, и при этом меня сильно дернуло вбок. Я решил, что, наверное, все-таки задел цепь. Но я остался на месте и все так же держался за лапу. Эта огромная острая железяка дергалась у меня под рукой и будто куда-то проваливалась. А потом раскололась и рассыпалась на десятки острых оранжевых полос. Сами знаете, как рассыпается проржавевшее железо. А этот якорь ржавел на глазах, стоило мне к нему прикоснуться, и за полсекунды проржавел до того, что рассыпался в оранжевую пыль и синеватые хлопья, а я даже руку не успел отдернуть. Правда, когда я его отпустил, ничего не прекратилось. Я шатался, чтобы не упасть, а он все крошился и рассыпался, и скоба, и веретено, а не только лапы.
Первой разлетелась в бурую пыль скоба – она была самой маленькой деталью якоря. И только она разлетелась, как массивные прозрачные цепи всей тяжестью с грохотом рухнули на камень. А потом поодаль, там, где стоял он, тоже раздался грохот, гораздо громче. Я обернулся и увидел, как он высвобождает сначала одну руку, потом вторую. А как только цепи рухнули, он стряхнул их и с ног тоже. Я глядел на него не мигая. Не мог в это поверить. Я же видел, как были вделаны в гранит эти оковы.
– Из-за чего это?.. – выдавил я.
Дрожь уже унялась. Он стоял, слегка запыхавшись, и одной рукой зажимал рану.
– Из-за тебя. – Он засмеялся. – Надеюсь, ты не в обиде, – добавил он. – Я не мог быть с тобой полностью откровенен. Иначе ты начал бы надеяться снова.
– А что, это плохо? – не понял я. – Я думал, потерять надежду – это нехорошо.
– Они применяют надежду так, что чем скорее ты от нее избавишься, тем лучше, – сказал он. – Давай уйдем отсюда.
– Согласен, – ответил я. – Вам-то наверняка здесь надоело гораздо больше, чем мне.
Мы пошли вниз по течению ручейка, туда, где камни громоздились неровными ступенями. Я и забыл, какой он огромный. Если бы он не ослабел, если бы рана не мешала ему идти быстро, я бы ни за что за ним не поспел. Ему и так приходилось постоянно поджидать меня, а раз-другой, в особенно крутых местах, даже помочь спуститься.
В конце концов мы оказались у подножия горы. Здесь, внизу, было гораздо теплее. Пока мы шли к выходу в долину, видневшуюся вдали, дождь прекратился, а небо стало дымчато-голубым.
– Раньше это был мой Дом, – сказал он, когда мы очутились в долине.
Вот ведь как странно. Казалось бы, это должно было быть самое красивое место на свете. Длинная извилистая долина, по которой бежала, рассыпая брызги на порогах, быстрая речка. Здесь росли всевозможные деревья – и в лесу по берегам речки, и в рощицах в излучинах. Но все словно выцвело. Причем не так, как выцветает зелень ближе к осени. Скорее как старая фотография – потускневшая, поблекшая. Трава была какая-то не зеленая, скалы бледные. И деревья тоже были бледные, хотя кое-где на них и проступили осенние краски – желтоватые, розоватые, – и к тому же поникшие. Если тут и пели птицы, то еле-еле, у них даже не было сил защебетать погромче.
Когда он это увидел, то вздохнул. Но я заметил, что пока мы шли вдоль берега, ко всему словно бы возвращался цвет. Небо поголубело. Вода зажурчала резче и будто напитала траву – и зеленый цвет стал насыщеннее. Деревья ожили и приподняли листья. Когда мы подошли к белому домику над рекой, в излучине, все уже снова стало красивое – такое нежное – и птицы распевали во все горло.
Вокруг домика стояли деревья, увешанные плодами. Мы шли к дому, и я помогал срывать фрукты – апельсины, яблоки, груши и такие большущие желтые штуковины, похожие на живые шары из заварного крема. А долина тем временем становилась все ярче и ярче. Когда он тянулся за плодами, мне было видно, что и рана у него заметно подживает. Да и рука у меня, если уж на то пошло. Мы отнесли фрукты в дом. Дом почти целиком состоял из террасы с колоннами и полукруглым потолком, где славно пригревало солнце, но в задней части дома и наверху были комнаты.
Первым делом он прошел в заднюю комнату и принес оттуда корзину для фруктов и большой чайник.
– Ешь что хочешь. Сейчас нам с тобой надо помыться и попить горячего. Принеси, пожалуйста, дров, пока я хожу за водой. Там, за углом, должна быть поленница.
Посреди террасы было что-то вроде очага с древними ошметками золы. За углом дома и правда лежали поленья и хворост, слегка позеленевшие, но по виду и не скажешь, что они пролежали тут целую вечность с хвостиком, а я думаю, что так и было. Я принес на террасу несколько охапок – рана на руке затягивалась с каждой секундой, а следы от крысиных зубов на пальцах и вовсе исчезли, – а когда я сложил дрова для костра и стал искать, чем бы их поджечь, вернулся он с водой.
– А, – сказал он, опустился на колени и разжег костер.
А когда он принес стойку, чтобы поставить над огнем и повесить чайник, то смеялся. Рана у него заживала даже быстрее, чем у меня.
– Знаешь, почему я смеюсь? – сказал он. – В большинстве миров Они пустили слух, будто меня наказали за то, что я научил людей зажигать огонь. По-моему, что-то знают только в мире Уквара, да и то лишь половину правды.
– В мире Хелен? – спросил я.
– Да, – ответил он. – Если бы ты рассказал обо мне Хелен, мы с тобой никогда не попали бы сюда.
Было приятно сидеть у разгоревшегося костра, да еще и на солнышке. Мы ели фрукты и ждали, когда закипит чайник. Но поначалу я так волновался, что даже не чувствовал вкуса.
– Что же Они теперь сделают? Они же знают, что вы на свободе? – спросил я.
– Они ничего не могут сделать, – сказал он. – Нам некуда спешить. Они способны лишь надеяться. К сожалению, Они лишь узники надежды.
Он так сказал про «узников надежды», словно это все объясняло.
– Если можно, расскажите подробнее, – попросил я.
Он сунул в рот кусочек кремообразного фрукта и вытер руки о лохмотья.
– Конечно, – сказал он. – Ты побывал в их Реальном Месте. Ты знаешь, как устроена система миров. Ты говоришь, что миры – это как множество отражений стеклянной комнаты. Ты знаешь почти все, что узнал я в самом начале. За одним исключением. Когда я все это выяснил, каждый мир был Реальным Местом для самого себя. И для тех, кто не ходит по Цепям, миры такими и представляются. Но теперь это не так, и все по моей вине.
Некоторое время он смотрел, как пламя лижет поленья, – сидел, обхватив колени руками, на которых еще виднелись следы от оков.
– Я заслужил наказание, – продолжил он. – Я увидел, что если на какое-то место смотреть снаружи или просто вспоминать его, оно становится менее реальным, а еще – если кто-то селится в каком-то месте и называет его Домом, оно становится самым что ни на есть реальным. Ты сам видел, как выцвела эта долина, поскольку меня здесь не было очень давно. И вот мне пришло в голову, что если изъять реальность из миров, можно собрать ее всю в одном месте. А изъять реальность можно, если кто-то, для кого все миры – Дом, больше никогда никуда не попадет, а будет их только вспоминать. И я проболтался об этом кое-кому из Них.
– И что потом?.. – спросил я.
– Потом, – ответил он, – Они удалились подумать. Они не глупы, хотя и не совершают открытий самостоятельно. Они поняли, что могут воспользоваться этим открытием, точно так же как впоследствии пользовались машинами и прочими изобретениями человечества. Через некоторое время Они вернулись и сказали: «Мы хотим проверить эту твою теорию. Мы хотим, чтобы ты и был тем, кто помнит все миры». И я осознал, как ошибался. «Дайте мне время подумать», – попросил я и помчался рассказывать о своей теории людям. Это было трудно, поскольку далеко не все были готовы мне поверить. Но обитателей мира Уквара я заставил прислушаться к моим словам и многому успел их научить, прежде чем Они настигли меня. В те времена еще не было никаких правил. Они были сильнее меня. Приволокли меня обратно, сюда, и приковали к скале, как ты видел, и сказали: «Не бойся. Это не навсегда. Важно, чтобы ты это знал. Мы просто хотим проверить, правда ли то, что ты говоришь». А я сказал: «Это правда. Нет нужды приковывать меня». А Они ответили: «Нет, есть. Если ты будешь прикован, рано или поздно найдется тот, для кого все миры нереальны, и он придет и освободит тебя. А твоим якорем будет надежда, что он придет». И это, конечно, тоже была правда. А потом Они ушли, но оставили орла, чтобы он напоминал мне о Них.
Я посмотрел на его рану, от которой уже остался только скверного вида красный порез.
– А вот незачем Им было насылать на вас еще и орла, – сказал я. – Это, если хотите, уже товар в нагрузку получается!
– Нет-нет, – возразил он. – Это было напоминание, как якорь. Без орла я бы впал в апатию и утратил надежду. Понимаешь, одна лишь надежда удерживала меня. Надежда – тоже память, только обращенная в будущее. Знаешь ли ты, что мое имя означает «Прозорливый»? По-моему, Они нашли это забавным. Они знали: пока у меня остается надежда, что ты придешь и освободишь меня, я не смогу освободиться сам. Пока у меня оставалась надежда, Они сохраняли за собой свое Реальное Место и играли в нереальные миры. Я не мог даже надеяться, что когда-нибудь оставлю надежду, потому что это все равно была надежда. А когда ты пришел во второй раз, надежда вспыхнула во мне с такой силой, что я даже не отваживался говорить. Я не смел показать тебе, как сильно я надеюсь на тебя.
– Неудивительно, что голос у вас был такой взвинченный, – заметил я.
Тут закипел чайник, и крышка на нем запрыгала, выпуская в небо облачка пара.
– Прекрасно. Теперь можно и помыться. Но сначала попьем горячего. А затем я переоденусь во что-нибудь приличное. Только, к сожалению, у меня нет подходящей одежды для тебя.
– Ничего, я уже почти обсох, – сказал я. – К тому же… – Я похлопал по рубашке там, где Ванесса нашила на нее лоскуток с нарисованным знаком «шен». – Я не могу обойтись без него. По-моему, это хорошая защита от Них.
Он встал, чтобы разложить какие-то травы из баночки по двум чашкам, уже стоявшим наготове. Он вел себя так, как будто и его никогда и не приковывали к скале – как будто он был совершенно здоров. Должно быть, он был очень сильный. Но тут он замер и посмотрел на меня поверх руки с баночкой, как будто я сказал что-то смешное.
– Он тебе не нужен. Тебе ничего не нужно. Как и прочим граничным скитальцам.
– Почему? – не понял я. – Объясните, пожалуйста!
Он оторвал кусок ткани от штанов, чтобы взять горячий чайник и заварить травы в чашках. Потом протянул мне чашку:
– Осторожно, очень горячо.
Он сел и отхлебнул из своей чашки. Похоже, отвар заметно прибавил ему сил. Лицо словно разгладилось, и на долину вокруг это тоже, кажется, повлияло. Теперь это и вправду было самое прекрасное место на свете.
– Правило о невмешательстве, – сказал он. – Ты сам упоминал о нем. Правило номер два.
– Хотите сказать, Они тоже обязаны соблюдать это правило? – спросил я. – Я думал, оно ихнее… то есть их!
Ох, и влетело бы мне от мамы, услышь она мою оговорку!
– Да, – ответил он. – Если играешь в игру, надо соблюдать правила, иначе никакой игры не получится. Судя по твоим рассказам, это правило Они соблюдали очень тщательно.
– Ой, да что вы говорите! – рассвирепел я. – Всего-навсего лишили меня Дома, друзей и нормальной жизни! А больше ничего!
– Так и было. – Снова стало видно, как он меня жалеет. – Пей отвар. Горячим он вкуснее.
Я отхлебнул зелья. Едва не обжегся. Отвар был жиденький, кислый, травянистый и по всем признакам мерзкий на вкус, но почему-то нет. Я в жизни не пробовал ничего прекраснее. От него сразу прояснилось в голове, а может быть, и появилось несколько новых мыслей, не знаю, зато знаю, что пока я пил, а он говорил, мне становилось все понятнее и понятнее. Адам верно уловил суть, когда говорил о нас, о скитальцах, но кое о чем мы даже не подозревали.
– Вы, скитальцы, очень нужны Им. И не потому, что Они любят рискованную игру: Они не могут играть иначе. Понимаешь, миры склонны множиться, расщепляться, создавать новые миры, даже когда это Реальные Места, а когда они лишены реальности – особенно. И Им это нравится. Ведь чем больше миров, тем больше Их сможет участвовать в игре. Но вскоре новых миров стало так много, что Они уже играли с множеством миров, которых я не знал. Поэтому я не мог помешать этим мирам обрести опасную для Них реальность. Они обнаружили, что им нужны новые люди, чтобы сохранять эти миры нереальными в Их интересах. Для этого Они сулили всем вам Реальное Место и следили, чтобы вы туда никогда не попали. Дом.
– То есть надежда сыграла с нами такую же шутку, как и с вами! – сказал я. – Но я так и не понял, почему якорь проржавел именно из-за меня. А почему Агасфер не мог разрушить его и освободить вас? Или Летучий Голландец? Они оба говорили, что утратили надежду.
– Они знали, что у них нет надежды вернуться домой, – ответил он. – Но надежда как таковая у них оставалась. Они старательно напоминали им, что есть кто-то, кто обязательно освободит меня. Только к концу, когда набор скитальцев был почти завершен и свободных мест не осталось, Им пришлось перестать говорить людям об этом. Иначе я оставил бы надежду.
– Должна быть причина, по которой количество скитальцев ограниченно, – сказал я. – Почему это так?
– Скитальцев не может быть больше, чем Их самих. Вы для Них очень опасны – из-за Правила номер два. Как ты правильно говоришь, Они грубо вмешались в твою жизнь и искалечили ее. Если бы все скитальцы собрались вместе и поняли это, последствия для Них были бы крайне тяжелыми. А если их станет хотя бы на одного больше…
– Я понял! – воскликнул я. – Тогда мы бы нарушили равновесие реальности, склонили его в нашу сторону, и реальность из Их Реального Места утекла бы. А теперь нас больше на несколько человек!
– Думаю, – заметил он, – именно поэтому Они отправили тебя Домой.
– Да нет, – отмахнулся я. – Граница позвала…
Тут я осекся: до меня дошло, что я по-прежнему скрываю правду от самого себя, точно так же как в мире Адама. Там я осознал, что придется и дальше скитаться по Цепям, еще до того, как меня позвала Граница. То есть я в некотором роде сам выбрал судьбу скитальца. Впрочем, особого выбора у меня не было.
– Сдается мне… – проговорил я медленно и допил остатки отвара. – Сдается мне, я могу стать для Них очень опасным. Так ведь?
– Так, – ответил он. Вид у него был встревоженный. – А что еще ты видишь?
– Пока что мне не хочется об этом думать, – ответил я. – Пойдем. Чего мы ждем? Пойдем и покончим с Ними, пока Они ничего новенького не выдумали.
Он рассмеялся:
– Мы ждем, когда можно будет помыться и отдохнуть. Они ничего не могут поделать. Им остается только надеяться, что ты ничего не поймешь.
Но я, конечно, все понял, – почти так же хорошо, как понимаю сейчас. Я попросил еще зелья, посидел и подумал, пока он ходил в заднюю комнату мыться. Соображают Они быстро, тут не поспоришь. Когда мы вторглись в Реальное Место, Им было нужно избавиться от нас, но убить нас Они не могли из-за противодемонской защиты, к тому же трое из нападавших уже были скитальцами. Тогда Они сбросили в Цепи Адама, Ванессу и Джориса с Констамом, понимая, что Джорис и Констам как охотники на демонов без труда вернутся Домой. Хелен Они тоже сбросили, поскольку ее Десница Уквара грозила Им гибелью. Но тогда Им пришлось отправить меня Домой, поскольку я перегрузил бы Цепи, даже если бы Джорис и Констам вернулись Домой. Они считали, что я самый безвредный из всех. А я взял и решил, что навсегда останусь скитальцем, и это сделало меня Реальным. Я стал словно джокер в колоде карт. Еще бы Они меня не боялись!
Тут он вышел из задней комнаты чистый, выбритый и в одеждах, напомнивших мне костюм Джориса.
– Твоя очередь мыться.
– Вы тоже из мира охотников на демонов? – спросил я.
– Нет, – ответил он. – Я из твоего. Я последний из племени, именуемого титанами.
– А Они откуда? – спросил я.
– Они есть во всех мирах, – ответил он. – Но главный среди Них – из мира демонов.
– Все сходится. – Я встал, чтобы пойти помыться. – Тогда я, пожалуй, нагряну к ним пораньше.
И я ушел, не глядя на него. Я знал, что он меня понял, и это его, наверное, огорчило.
Когда я был готов, мы снарядились в битву.
Границ для него не существовало. В этом он был сродни демонам. И спутникам его Границы тоже были не писаны. Дом его стоял на самом краю мироздания, и в начале нашего пути миры были разбросаны очень далеко. Это было как переходить реку вброд по камням, только попробуйте представить себе, что между камнями нет вообще ничего, а сами камни разбросаны не под ногами, а везде. Потом, когда миры стали теснее, мы шли словно по коридору, где над головой сменялись полосы разных небес, а вместо стен были города, поля, горы и океаны, и все это так и мелькало мимо нас.
Я до сих пор не знаю, что созвало к нам скитальцев. Может быть, это он. Но скорее всего, по-моему, дело было в том, что мы, когда пустились в этот путь, сделали ход в Их играх, который отменил все остальные ходы и созвал к нам скитальцев. Так или иначе, они сходились отовсюду, их было все больше и больше, и вот мы уже шли целой толпой. Знакомых лиц я в ней не видел. Их было слишком много.
Наверное, когда мы сделали ход на Их манер, то и время у нас потекло как у Них. Шли мы, по-моему, целую неделю, но это было незаметно. С нашей точки зрения, прошло с полчаса, не больше, когда мы оказались там, где миры так сгустились, что напоминали уже не коридор, а отражения в стеклянной комнате. Я все высматривал внутри, за всеми этими неверными изображениями городов, пустынь и небес, Реальное Место, но никак не мог его разглядеть.
– Они прячутся, – сказал я.
– Да, – ответил он. – Но прячутся плохо. Кто-то Их пометил.
Он показал. И я различил среди мелькающих миров маленькую далекую звездочку – знак «шен».
– А, – сказал я. – Это я. Не знал, что будет так хорошо видно.
Мы словно бы раскололи пространство и проложили путь к этому звездному знаку и повели всех остальных скитальцев за собой, и вот уже «шен» засиял прямо перед нами. Мы видели только «шен» и множество наших отражений вокруг.
– Как же нам попасть к Ним? – спросил я.
– Ты можешь пройти сам, – ответил он. – Но чтобы впустить всех нас, нам нужна твоя подруга Хелен.
Я обернулся к тем, кто возглавлял толпу.
– Позовите, пожалуйста, Хелен Харас-Уквара, – попросил я. – Она должна быть где-то здесь.
На самом деле многие из нас опоздали: добраться до Границ частенько бывает не так-то просто. Мне повезло, что Хелен оказалась среди нас. Она была в задних рядах толпы. Ее протолкали и пропихнули к нам.
Она сменила прическу. Теперь волосы были стянуты назад лентой. Осталась только одна прядь, и она свисала на лицо прямо посередине. Но когда Хелен увидела меня, то убрала за ухо и ее.
– Джейми! – завопила она. И тут увидела его, высившегося рядом со мной, и упала на колени.
Я оторопел. Невозможно было представить себе, чтобы Хелен становилась перед кем-то на колени.
– Имя тебе Уквар, – произнесла она. – У нас в Доме Уквара стоит статуя, изображающая тебя в цепях. Говорят, что твои цепи – это наши Цепи, а заковали тебя за то, что ты рассказал нам об устройстве миров. Говорят, избавить тебя от них может лишь тот, кто лишился надежды.
– И верно, – сказал он. – Их разрушил Джейми. Хелен, прошу тебя, стань для нас Десницей Уквара. Нам нужно проникнуть внутрь и уничтожить как можно больше Их. – И крикнул остальной толпе: – Когда мы попадем внутрь, каждому из вас позволено уничтожить по одному из Них! Таково Их правило!
– Ладно, – ответила Хелен среди наступившего ликования. – Только если ты и это запорешь, я тебе никогда не прощу!
Подумаешь, Десница! Хелен есть Хелен.
Хелен выпрямилась и закатала рукав, и свет ее непонятной руки засверкал на поверхности Реального Места. Я старался не смотреть на скукоженную сухую ручку внутри ее. Да и некогда было смотреть – случилось все сразу. Поверхность Реального Места растрескалась, съежилась и исчезла, в точности как стеклянная дверь Старой крепости. Только на этот раз образовался широкий проход. Мы все ринулись к нему, чтобы прорваться внутрь, но тут в передних рядах толпы поднялся какой-то гвалт и толчея, и к проходу выпрыгнула фигура в белом.
– Постойте! – закричала фигура. Это был Констам. Видимо, он еще не успел проложить себе дорогу Домой. – Постойте! Они демоны. Каждого из Них нужно убить дважды!
Хорошо, что он это сказал, только, по-моему, не все его расслышали. Меня уже несло к проходу, а Констам не успел договорить, как его оттеснили куда-то назад, потому что другие скитальцы ломились в проход, на Них. Многие что-то кричали – и ругательства, и боевые кличи, и просто так. Вооружены были далеко не все, но Они разбегались от нас, даже от безоружных.
Они воспользовались словами Констама, чтобы сжульничать. Жульничали Они при всяком удобном случае. Пока он кричал, а мы толкались, Они разбежались по краям Реального Места. Когда я туда попал, оно стремительно уменьшалось. Стала видна его кромка. От нее словно бы отваливались куски, и кое-кто из Них воспользовался случаем и отвалился вместе с кусками. И тем самым Они окончательно решили мою судьбу – впрочем, по-моему, она и так уже была решена.
Потом была жуткая сумятица. Мы все пытались развернуться в шеренгу, чтобы помешать Им отваливаться. На одном конце шеренги высился Он, на другом был Констам. Я схватил Хелен и побежал строить такую же шеренгу с другой стороны. Видел, как свет от ее руки пронзает все вокруг. Я старался поставить всех по порядку, но скитальцы так рвались добраться до Них, что не желали стоять на месте. Пришлось все делать самому. В каком-то смысле так было даже проще. Мне стоило только приблизиться к Ним, как Они в ужасе шарахались от меня. Но подходить слишком близко я опасался – вдруг Они станут такие нереальные, что улизнут в какой-нибудь мир духов или еще куда-то, или просто такие нереальные, что их нельзя будет убить. Думаю, я мог бы прикончить Их всех, до кого только дотянусь, одним прикосновением, но это было бы жульничество. Я ведь был лишний, мне нельзя было убить даже одного из Них. Я знал, что стоит мне хоть где-то сжульничать, и Они этим воспользуются, дайте только срок. Поэтому мне оставалось лишь носиться туда-сюда с моего фланга, кричать и ругаться, чтобы согнать их ближе к центру Реального Места, где шла битва. И Они поняли, что я затеял. И двинулись на меня всем скопом.
Мне пришлось бы туго, но тут к обломанному краю рядом со мной причалил корабль. Даже не корабль, а черный остов с драными парусами и болтающимися обрывками снастей, весь покрытый ракушками-прилипалами. Костлявые матросы с запавшими глазами были точь-в-точь как стая обезьян. Только капитан мог сойти за человека, да и то потому, что был в сюртуке и ботфортах. Он размахивал кривым клинком, возможно, абордажной саблей, а у всех обезьян в щетинистых ртах были зажаты ножи.
– Привет! – закричал я, и они хлынули в Реальное Место. – Летучий Голландец! Помоги мне оттеснить Их! – И в двух словах прокричал, что у нас тут происходит.
Летучий Голландец улыбнулся мне:
– По одному на каждого – не запрещено, да? Убивать по два раза? Какая прелесть!
И они развернулись в шеренгу и не пропустили ни одного из Них. Я стоял рядом и смотрел на жуткую круговерть битвы, которая шла и в середине, и по краям, и на столах. Они постоянно жульничали. Наверное, от отчаяния, но это совсем не оправдывало Их манеры наезжать на скитальцев машинами и давить их. Они нападали и на тех, кто пытался соблюдать правило, и пихали кого-то из своих к тем, кто уже убил одного из Них, и скитальцам приходилось защищаться. Двое ближайших ко мне обезьян из-за этого убили каждый по полтора. А значит, Они получили право напасть на обезьян. Вскоре, по-моему, уже никто не понимал, кто соблюдает правило, а кто нет. Кроме меня. Я не отваживался жульничать. Но были и такие – Агасфер, например, – кому было наплевать на правила. Агасфер убил одного из Них, который скорчился над приборчиком, куда я теперь все это говорю. Я кричал Агасферу, чтобы он пришел на помощь обезьянам, но тут один из Них напал на кого-то маленького за приборчиком – он был очень похож на Адама, – и Агасфер и Того убил, я и глазом моргнуть не успел. А потом воздел руки к небу и испустил вопль отчаяния – и после этого ему стало все равно. Он окончательно обезумел. Это было ужасно.
А потом все кончилось. По всему Реальному Месту лежали люди, лежали серые фигуры, а в середине кучкой теснились оставшиеся в живых Они. Они знали, что так и будет. Я подошел посмотреть, что наговорил в приборчик Тот, и там значилось: «Правила на нашей стороне. Нас останется достаточно, чтобы…»
На этом месте его убил Агасфер.
Констам согнал оставшихся Их в середину и почтительно спросил того, кого Хелен назвала Укваром, как с Ними поступить.
– Столкните Их за край, – ответил он.
Так мы и сделали – кричали, махали, будто гнали коров, а я шел посередине, чтобы пугать Их. Край к этому времени стал совсем близко.
Потом у нас было время повидаться, прежде чем отправиться Домой. Он – тот, кого я освободил, – как выяснилось, прекрасно понимал в машинах. Нашел машину, которая отправляла всех Домой. И рассказал, как пользоваться той, в которую я сейчас говорю. Но это было потом. А тогда он стоял в самом центре Реального Места и помогал всем добраться до нужных миров. Он сказал, что теперь, когда Их больше нет, даже самые старые из нас могут попасть Домой и вести мирную жизнь. Я увидел, как ко мне бегут Хелен, и Джорис, и Адам. И Констам с Ванессой тоже побежали было, но на полпути им приспичило страстно обняться. Все я про них правильно понял.
– Джейми, который мир твой? – спросил Джорис. – Ты сейчас туда?
– Тот же, что и у Адама, – ответил я. – Нет, я туда не собираюсь.
Тут все, конечно, закричали:
– Почему?!
– Потому что я туда опоздал на добрую сотню лет, – ответил я.
– Так вот почему ты говорил, что наш мир похож на твой! – сказал Адам. – Все ясно! Джейми, давай ты будешь жить с нами. Подумаешь, сто лет!
– И стану как Фред? – ответил я. – Нет, Адам, ничего не получится. У вас там теперь столько правил и ограничений. Я к ним никогда не привыкну. Для этого надо там родиться.
К этому времени подоспели и Ванесса и Констам. Они стояли обнявшись и смотрели на меня. Я сидел на игровом столе. Подо мной жил своей жизнью маленький мир, и никто в нем не подозревал о случившемся.
– Джейми, ты уверен? – спросила Ванесса.
– Угу, – ответил я. – Ты, Ванесса, в жизни не поверишь, но я твой двоюродный прадедушка.
– Боже милосердный, – сказала она. Все-таки соображала она быстрее многих. – Тогда понятно, почему ты не хочешь Домой с Адамом.
– Тогда давай к нам! – с жаром воскликнул Джорис.
– С удовольствием навещу вас, – сказал я. – Очень хочется познакомиться с обеими Эльзами Хан.
До Констама, наверное, тоже начало доходить.
– Только навестишь? Ты можешь поселиться у нас навсегда, – сказал он.
– Буду навещать вас время от времени, – сказал я.
– Значит, ты со мной, в Дом Уквара, – заявила Хелен, как будто все было решено. – Поможешь мне превратить мой мир в приличное место. Будет весело.
Как бы я хотел, чтобы все и вправду было решено.
– Я и тебя обязательно буду навещать, Хелен. Честное слово, – пообещал я.
– Зачем я тебя тогда просила?! – рассвирепела она.
Я уже говорил, что Адам соображал быстрее всех. Он сказал:
– Ты хочешь остаться скитальцем. Почему? Я пробыл в Цепях всего недели две – и мне даже вспоминать страшно!
– Да я как-то привык уже. – Мне совсем не хотелось объяснять, как так вышло.
– Ерунда, – припечатала Ванесса. – Тут есть какое-то двойное дно. В чем дело, Джейми?
И они не отставали от меня, пока я не признался:
– Понимаете, дело в этом Реальном Месте. Они захватили его и вроде как поставили на якорь, чтобы играть в свои игры, и сначала якорем был он – вон тот, – а потом мы, скитальцы. Пока все мы верили, что где-то есть Реальное Место, которое называется Дом, пока он знал, что рано или поздно его освободят, Они владели Реальным Местом. А все остальные миры были не такие реальные. Но теперь всего этого нет, и он свободен, а миры могут снова стать реальными, но для этого нам тоже нужен якорь. Если у нас не будет якоря, Они устроят себе другое Реальное Место. Этот якорь – я.
Хелен развернулась на месте и помчалась туда, где высился он в окружении толпы желающих вернуться домой. Я видел, как яростно она на него напустилась. Никакого коленопреклонения, нет. Только вопли. Я увидел, как он попросил всех немного подождать. Потом он вернулся к нам вместе с Хелен.
– Ты совершенно верно догадался про якорь, – сказал он, – но это не обязательно должен быть ты.
– А по-моему, лучше меня быть не может, – возразил я. – Я еще молод. Может, мне и сто двенадцать лет, но впереди у меня еще сотни. И вы сами сказали, что для меня нет ни одного реального мира. Вы были на этом месте. Я считаю, что теперь это должен быть я. А вы что думаете?
– К сожалению, то же самое, – сказал он.
Я думал, Хелен его укусит.
– Да уж, Джейми, лучше ты, чем я, – сказал Адам.
Вот, собственно, и все. Они привыкли к этой мысли, и мы еще немножко поговорили. Джорис отдал мне свой приборчик-часики, чтобы находить Границы. Теперь, когда Их не стало и некому было делать ходы, искать Границы самому мне было бы трудно. Я был ему благодарен.
Когда Место стало совсем маленькое и все остальные исчезли, он подошел и сказал, что им тоже пора Домой. Я проводил их до рассылающей машины, чтобы попрощаться. Это было сложно. А потом стало еще сложнее, потому что, когда Адам собрался уходить, Ванесса с лучезарной улыбкой заявила:
– Я не с тобой. Я с Констамом.
– Да, Адам, возвращайся один, – сказал Констам, такой же счастливый.
– Нет! – заорал я. Они повернулись и уставились на меня. Кто я такой, чтобы мешать людям обвенчаться?! – Нет, так нельзя! Ванесса, тебе надо сначала Домой. А ты, Констам, отправишься с ней и попросишь ее руки или как там это принято сейчас. Но вы должны все рассказать ее родителям. Они поймут. Я с ними недавно поговорил и знаю, каково им. – А когда Констам поглядел на меня, вскинув голову и весь пылая от фамильной гордости Ханов, я добавил: – Слушай, желторотый, я тебя в четыре раза старше и лучше знаю, как надо. Вот так вот.
Констаму стало смешно.
– Очень хорошо, – сказал он. – Джорис, если не возражаешь, отправляйся пока один. Передай Эльзе Хан, что я представлю ей Ванессу при первой возможности. И скажи, что пора взяться за дело и окончательно истребить демонов, раз Они нам больше не мешают.
И вот они отправились Домой, а следом Джорис. Когда настала очередь Хелен, я вдруг обнаружил, что вокруг шеи у меня снова обвит слоновий хобот.
– Ну-ну! Хочешь снова утащить меня за собой? Не выйдет! – сказал я.
– Ладно, но сначала дай слово, что навестишь меня очень скоро, – потребовала Хелен.
– Очень скоро. Сначала к Ханам, потом к тебе.
– Почему это сначала к ним? – взвилась она.
– Потому что главный из Них родом из того мира, – ответил я. – Нельзя же, чтобы Они устроили там гнездо.
– Ну хорошо, – сказала она, убрала хобот и исчезла.
И мы с ним остались один на один. Некоторое время мы бродили по тихому Месту, которое все уменьшалось и уменьшалось, и он отвечал мне на все вопросы. И заставил меня дать слово, что я навещу его как можно скорее. Так что да, у меня есть друзья, к которым можно заглянуть на огонек.
А потом ушел и он. Наверное, ему было ненавистно Их Место, хотя Их самих он и не ненавидел. Спасибо, что пробыл со мной так долго. И вот остался только я, и я сижу и говорю в эту попрыгучую машинку. В последнее время она мельтешит помедленнее. Мне иногда приходится останавливаться и ждать, когда скачущая штучка допишет все, что я тут наговорил. Реальность утекает отсюда, потому и машины замедляются и отключаются, – он предупредил меня, что так будет. Но Место уменьшается уже не так быстро. Это значит, что скоро и мне пора уходить.
Теперь понимаете, как все устроено? Пока я нигде не задерживаюсь надолго, пока я двигаюсь вперед и не считаю никакой мир своим Домом, я словно якорь, благодаря которому все миры остаются реальными. И Им сюда не проникнуть. Да, не спорю, странный какой-то якорь – все время двигается. И так будет еще незнамо сколько лет. В конце концов и я состарюсь, но времени на это уйдет много-много. Чем больше я двигаюсь, тем дольше проживу. Так что мне еще и из-за этого придется постоянно двигаться. Я буду охранять мироздание от Них, сколько смогу.
Сначала, конечно, мне будет очень тошно. Это когда я буду навещать Хелен. Ведь она будет становиться старше меня, и с каждым разом разница будет все больше. Настанет пора, когда мне по-прежнему будет тринадцать, а Хелен превратится в дряхлую старушку. Мне от этого будет тошно. Но я дал ей слово. По крайней мере, мне не грозит опасность посчитать мир Хелен своим Домом. На такое способна только Хелен.
Если хотите, считайте, что это мой вам подарок. Больше мне особенно нечего дать людям. Зато теперь вы можете спокойно играть в собственную жизнь, как вздумается, пока я иду и иду себе вперед. Рассказ об этом – тоже, наверное, мой подарок. Я уже договорился с Адамом. Когда я все доскажу – вот сейчас, – то перед тем, как двинуться дальше, положу записи в саду возле Старой крепости. Адам заберет эту кипу бумаг и отдаст отцу. А если вы все прочитаете и не поверите мне – тем лучше. Очередная линия обороны против Них.
Но вы себе не представляете, как при этом одиноко.
Время призраков
Моей сестре Изабель и Шляпе
I
«Со мной случилось что-то страшное! – подумала она. – Я попала в беду!»
Она никак не могла взять в толк, в чем же дело. Ярко светило солнце; наверное, было уже далеко за полдень, и она шла по дороге из леса к дому. Стояло лето – да, сейчас вроде бы и должно быть лето. Вокруг все дремотно, тяжело жужжало, как всегда бывает в сонных деревушках после обеда. На ветвях сухих вязов вдали хлопали крыльями и каркали грачи, где-то урчал себе трактор. Если приподняться и заглянуть за живую изгородь, там тянулись поля – все как она и думала, – сонные, серо-зеленые, потому что пшеница была еще совсем неспелая. Деревья за завесой зноя были черные и густые, кроме кольца голых вязов, в ветвях которых шумными точечками скакали грачи.
«Всегда жалела, что мне не хватает роста, чтобы заглянуть за изгородь, – подумала она. – Наверное, я выросла». Может быть, это ей так не по себе из-за погоды, из-за влажной духоты? Все кругом было странное, легкое, расплывчатое. И мысли путались, а мысли о мыслях – почему-то нет. И наверное, это из-за погоды ей так грустно и тревожно. Словно собирается гроза. Но не совсем так. Почему она решила, что с ней случилась беда?
Самой катастрофы она не помнила. И не понимала, как вдруг очутилась на дороге домой, но раз уж она по ней идет, почему бы, собственно, не идти дальше? Ей было не по себе оттого, что она стала выше изгородей, поэтому она съежилась до привычного роста и двинулась в сторону дома, думая свои тревожные расплывчатые мысли.
«Да что же со мной такое? – гадала она. – Нет, хватит! Я совсем не дурочка. Я в своем уме. Может, если задавать себе вопросы, память вернется. Что было на обед?»
Без толку. Никакого обеда она не помнила. И вдруг поняла, что вообще не помнит, что было сегодня, и едва не поддалась ужасу.
«Глупости! – сказала она себе. – Я же точно это знаю!»
Нет, она не знала. Ужас все-таки охватил ее. Будто кто-то надувал у нее в груди, в самой середине, преогромный воздушный шар. Она изо всех старалась придавить его, но он упрямо расправлялся и разворачивался. «Ну и ладно! – сказала она себе на грани истерики. – Ну и ладно! Задам какой-нибудь совсем простой вопрос. Что на мне надето?»
Куда уж проще. Только и нужно было, что посмотреть вниз. Но сначала ей показалось, что она забыла, как это делается. А когда она все же посмотрела…
Ужас с ревом раздулся до предела. И прямо смел ее – слепо и бездумно, скача, колыхаясь, катясь, будто это и вправду был огромный воздушный шар.
«Произошла катастрофа! – только и смогла она подумать. – И теперь все наперекосяк!»
Когда к ней вернулась способность соображать, оказалось, что она миновала большой участок дороги. В кустах впереди спрятался домишко – она откуда-то знала, что это лавка. Заставила себя остановиться. Она так испугалась, что все кругом тряслось – дрожало, будто в телевизоре, когда антенна барахлит. Ей почему-то подумалось, что если все и дальше будет так дрожать, то отвалится от нее, и у нее совсем-совсем ничего не останется. Поэтому она заставила себя остановиться.
Через некоторое время ей удалось уговорить себя еще раз посмотреть вниз.
Там по-прежнему не было ничего.
«Я превратилась в ничто! – подумала она. Ее снова захлестнул ужас. – Произошла катастрофа! ПРЕКРАТИ! – сказала она себе. – Постой и подумай».
Она заставила себя так и поступить. Получилось не сразу, потому что думать стало невероятно трудно, а ужас все проступал сквозь мысли и грозил снова уволочь ее непонятно куда, но в конце концов ей все же удалось сложить примерно такую мысль: «Со мной все хорошо. Я здесь. Я – это я. Если бы я была не я, я бы не испугалась. Но со мной что-то случилось. Я совсем не вижу себя, и на дороге нет даже пятнышка тени. Произошла катастрофа! А НУ ПРЕКРАТИ! Я все время думаю про катастрофу, наверное, что-то все-таки случилось, но лучше об этом не вспоминать, потому что каждый раз, когда я это думаю, все только расплывается. А значит, мне надо перестать думать об этом и начать думать о том, что происходит со мной сейчас. Возможно, я просто стала невидимая».
С этой отнюдь не утешительной мыслью она заставила себя передвинуться к живой изгороди и – как бы так выразиться – в некотором смысле прислониться к ней. Когда она прислонилась к изгороди, у нее возникли отчетливые воспоминания о том, как упругие колючие кусты держат тебя, будто матрас, и при этом втыкаются в тебя шипами.
Но на этот раз все вышло иначе. Она очутилась в поле по ту сторону кустов, не успев совершенно ничего почувствовать. Она не чувствовала даже зарослей крапивы, в которых вроде бы стояла. «Да, именно что вроде бы, – уныло подумала она. – Взглянем правде в лицо. Я не просто невидимая. У меня теперь совсем нет тела».
После этого ей пришлось в очередной раз некоторое время бороться с раздувавшимся ужасом. «Что толку обмирать от страха!» – прикрикнула она на себя. Более того, ей стало понятно, что от ужаса еще и хуже становится: после каждого приступа она чувствовала себя все страннее, а кругом плыло пуще прежнего. Вот теперь она уже плохо помнила, как шла по дороге и куда она, собственно, шла.
«Наверное, это потому, что у меня нет нормальной головы и негде держать мысли, – решила она. – Надо быть как можно осторожнее». Она подняла было несуществующую руку, чтобы проверить, на месте ли голова, но тут же убрала.
– Если рука пройдет насквозь, я еще, чего доброго, вышибу оттуда все мысли, – сказала она, забыв, что только что прошла сквозь кусты. – Где это я?
Через поле вилась тропинка, а в живой изгороди напротив был перелаз, за ним росли какие-то деревья. Она поглядела на перелаз, и у нее возникло сильнейшее чувство, что там, за изгородью, ей помогут. И двинулась туда. Теперь, когда она знала, что у нее нет тела, ей стало даже интересно, как же она двигается – будто парит и плывет, но при этом голова у нее примерно на той высоте, к которой она привыкла. При желании она могла приподняться повыше или нырнуть пониже, но ей так сразу становилось неудобно. Добравшись до перелаза, она собралась было перебраться через него – по привычке. И остановилась: вот глупости! На миг она обрадовалась, что ее никто не видит. Ведь можно пройти прямо насквозь! Так она и поступила. И оказалась в саду – довольно заросшем, неопрятном и вроде бы знакомом. Она помнила и заросли крапивы, и кур, клевавших что-то в траве, а когда она проплыла мимо шалашика из старых дверей и стульев, с отсыревшим старым ковром вместо крыши, ей стало даже больно от нахлынувших воспоминаний. Она точно знала, что в этом шалашике лежит заплесневелая тряпичная кукла. И зовут куклу Мониган.
– Откуда я это знаю? – удивилась она. – Где это я?
Обнаружила, что понятия не имеет, и растерялась. Поплыла вбок через сад, огибая деревья – наверное, по привычке, – и снова очутилась перед кустами, высокими, густыми и на вид непроходимыми, как лес.
– Ну, поглядим, – сказала она и прошла насквозь.
Тут она растерялась еще сильнее. Во-первых, она почувствовала себя страшно виноватой. Ей сюда было ни в коем случае нельзя. Во-вторых, здесь все казалось не таким уж знакомым. Это был прозрачный сад с редкими-редкими деревьями, весь истоптанный, так что вместо травы в основном виднелись проплешины голой земли. А дальше, за цепочкой лип, стояло большое здание из красного кирпича.
Она проплыла под липами и внимательно рассмотрела красное здание. В плоских мокрых сердцевидных кронах лип жужжали пчелы, кругом (и сквозь нее) постукивали капельки липового нектара. Как ни странно, пчелы ее облетали. Одна мчалась ей прямо в лицо – и в последний момент резко свернула. Это было большое утешение. «Значит, во мне осталось что огибать», – подумала она и поглядела в окно в красном здании – такие окна бывают в церквях. Из-за окна тоже доносилось жужжание, не такое громкое, как пчелиное, но такое же ровное. А еще здесь чем-то пахло – не так, как от лип, – и этот запах она знала.
– Это же Школа, – сказала она.
Может, поэтому она почувствовала себя такой виноватой, когда попала сюда? Наверное, ей полагалось быть в школе. Наверное, в эту самую минуту учитель поднимает глаза от классного журнала и спрашивает, где она.
Эта мысль ее испугала. И заставила промчаться вдоль фасада красного здания к дверце (она откуда-то знала, где должна быть эта дверца) и юркнуть в нее, в темное пространство, полное вешалок с форменными блейзерами и мешками и сумками на крючках. Там никого не было. Наверное, все на уроках. Она поспешила дальше по коридорам с плиточными полами, изо всех сил стараясь вспомнить, где нужный кабинет. Она знала, что правила запрещают бегать по коридорам, но сомневалась, что эти правила распространяются на тех, у кого нет тела. К тому же она не бежала. Скорее, со свистом рассекала воздух.
Ей было никак не найти свой класс. Будто в страшном сне. Тут ее осенила мысль, от которой у нее прямо камень с души свалился. Точно! Это же сон! Да, страшный – но все же сон. Во сне можно и бегать, не бегая, и бывает так, что не чувствуешь своего тела, а главное – во сне постоянно ищешь что-то крайне нужное и никак не можешь найти. От облегчения она сразу замедлилась. И рядом с ней оказалась дверь с табличкой «IV A».
Это был ее класс – четвертый «А». На душе тут же стало еще легче, хотя ей и помнилось, что дверь вроде бы была какая-то другая. Эта была стрельчатая, как и школьные окна, окованная толстыми полосками железа и с длинными массивными петлями.
Но из-за двери слышался занудный голос учителя, и этот голос точно был ей знаком. Она положила руку на дверную ручку в виде кольца и хотела ее потянуть.
Ручка, естественно, прошла прямо сквозь то место, где должны были быть ее пальцы. Она отпрянула. Сильное жжение на месте предполагаемых глаз подсказало, что она сейчас заплачет бестелесными слезами. Она понимала, что может пройти сквозь дверь, если просто наляжет на нее, но не решалась. Полкласса засмеется, остальные завизжат. А учитель скажет…
Как и положено во сне, она совсем забыла, что и сама себя не видит.
– Нет, я пройду! Пройду! Пройду! – сказала она.
И снова положила несуществующую руку на ручку. На этот раз неимоверным усилием воли ей удалось ее качнуть, и ручка тихонько лязгнула.
Потом ручка резко крутанулась под ее несуществующими пальцами. И дверь рывком распахнулась перед ней.
Чей-то голос взревел:
– Говард! Когда я велю вам просклонять «mens», то не имею в виду «mensa»! Войдите! – добавил голос, и из-за двери высунулся стриженный ежиком учитель.
Она неуверенно скользнула в дверь и очутилась в классе, где было неожиданно светло. Все стало еще больше похоже на сон. В классе оказались только мальчики – несколько рядов мальчиков, и одни что-то сосредоточенно писали, наклонившись вперед, а другие качались на стульях, отклонившись назад. И ни одной девочки.
– Никого, – сказал учитель и вернулся за стол.
Она посмотрела на него с интересом. Откуда-то она знала его – более чем хорошо. И контуры коротко стриженной головы, и все черты птичьего лица, и тощая сердитая фигура – все это было ей известно во всех подробностях. Ее тянуло к нему. И в то же время она его почему-то боялась. Знала, что он вечно недоволен и почти всегда сердит. И вспомнила, как его зовут. Они называли его Сам.
Сам повернулся к мальчикам и уставился на них исподлобья:
– Позвольте напомнить вам, Говард, что «mens» означает «разум», а «mensa» означает стол. Но пожалуй, в вашем случае это одно и то же. Нет-нет, не надо чесать в затылке, мальчик мой. Еще заноз насажаете.
На мальчика по имени Говард ни взгляды, ни рык Самого не производили, похоже, ни малейшего впечатления.
– Не волнуйтесь, сэр, – утешил он Самого. – По-моему, занозы не заразные.
– Пятнадцать – пятнадцать, – пробормотал кто-то на задней парте. От этого по классу прокатился не особенно сдерживаемый смех.
Она обнаружила, что знает и Говарда тоже. Она помнила, как кого зовут – Шепперсон, Грир Второй, Дженкинс, Мэтчворт-Кейс, Филберт, Ренн и Скунс – и это только первые парты. Но она начала подозревать, что это все-таки не ее класс. В ее классе должны быть девочки. И еще тут шел, скорее всего, урок латыни. А ее латыни не учили.
– Мне, наверное, лучше уйти, – сказала она Самому извиняющимся тоном.
– Завтра контрольная по третьему склонению, – сказал Сам. – Запишите себе в черновых тетрадях.
Он ее не слышал. Судя по тому, как все себя вели, ее не видел и не слышал никто. Как будто ее и нет. Что ж, оно и к лучшему, не то ей сделалось бы страшно неловко за свою нелепую ошибку. Она просочилась сквозь дверь и снова очутилась в коридоре, а из-за двери по-прежнему доносился приглушенный голос Самого.
Она направилась дальше, удивляясь, почему в этом незнакомом классе ей все так хорошо знакомы. А поскольку она не пыталась вспомнить, куда идти, то вскоре обнаружила, что уверенно движется в определенную сторону – вниз, мимо комнаты с рядами столов, мимо блестящей металлической двери, откуда пахнуло на нее тушеной капустой и средством для мытья посуды, в темный, обшитый деревом зал с зеленой дверью в дальней стене. Дверь была обита чем-то вроде сукна, каким обтягивают биллиардные столы. Эту дверь она хорошо знала. Ей вдруг отчаянно захотелось очутиться за ней.
Но не успела она там оказаться, как из-за металлической двери выскочила какая-то женщина – дверь громко хлопнула и выпустила волну запаха вчерашней мясной подливки, смешавшегося с запахом тушеной капусты. Женщина поспешила к столику в углу и, нахмурившись, взяла с него кипу бумаг. Это была царственная дама с открытым волевым лицом. Хмурилась она, похоже, от усталости. В профиль были видны нахмуренный лоб, прямой нос и ясный голубой глаз, который уставился в бумаги. Светлые волосы были уложены плавной волной и убраны в низкий тяжелый узел.
– Ох! – сказала дама бумагам.
Вид у нее был словно у ангела мщения, который только что выстоял в долгом поединке с врагом рода человеческого. От ее взгляда бумаги должны были почернеть и обуглиться. Бесплотный дух в коридоре смотрел на эту ангелоподобную даму с тоской и восхищением. Ангела полагалось называть Филлис.
Лоб у Филлис нахмурился еще сильнее, губы Филлис устало произнесли:
– Отец говорил тебе, я говорила тебе. Сколько раз тебе говорили, Салли: не выходи за зеленую дверь!
На том же самом месте, где раньше раздувался шар ужаса, так же быстро и мощно разлились тепло, спокойствие и радость. Мама ее увидела. Мама ее узнала. Мама знает, кто она. Она – Салли. Точно, она Салли. Все хорошо, хотя она ужасно провинилась – помешала папе во время урока. Да, ей полагалось быть по ту сторону зеленой двери. Входить в Школу строго запрещалось. Салли – да, теперь она точно знала, что она Салли, – виновато замерла у зеленой двери, не зная, как объяснить, почему она здесь, а Филлис обратила к ней голубые глаза под устало нахмуренным лбом. Голубые глаза прищурились на нее, округлились, как будто Филлис внезапно увидела что-то на далеком холме. Морщинки на лбу разгладились, а затем собрались снова, еще резче, и залегли двумя глубокими бороздами над прямым носом Филлис.
– Как странно, – сказала Филлис. – Я готова ручаться…
Ее сливочно-белое лицо чуть покраснело в полумраке. Слова затихли – только губы шевелились. Филлис передернула плечами и неловко отвернулась.
Салли – да, она точно Салли, раз Филлис так говорит, – с изумлением обнаружила, что и другие люди, оказывается, иногда смущаются сами по себе, даже когда думают, что на них никто не смотрит. От этого она тоже смутилась. А еще хуже было обнаружить, что даже Филлис ее не видит. Салли – теперь она знала, что она Салли, – повернулась и в отчаянии ринулась сквозь зеленую дверь. Она так рвалась туда, что дверь и в самом деле подалась внутрь на дюйм, а потом захлопнулась обратно. Салли показалось, что Филлис повернулась и посмотрела ей вслед.
За дверью Салли сразу почувствовала, что попала куда нужно. Сначала облицованный камнем коридорчик, где сейчас прохладно, а зимой попросту холодно и на четырех крючках висит целая груда курток и пальто. Открытая дверь в конце ведет в комнату, которая зовется кухней, тоже каменную, но нагретую солнцем: его свет рябью играет на стенах, просочившись сквозь яблоневую листву за окном. Салли устало увидела, что в кухне, как всегда, беспорядок. На столе как попало громоздятся книги, газеты, хлеб и варенье. Кто-то пролил молоко на пол. Салли отчаянно хотелось поднять первую страницу одной газеты, угодившую в масло, но она сомневалась в своих силах. Интересно, чья теперь очередь мыть посуду? В раковине виднелась целая гора школьных чашек и тарелок из белого фаянса.
– Ну, я на этот раз не смогу ничего помыть, – сказала она, и тут ей померещилось, что на сушилке стоит страшная, уродливая гномиха.
У гномихи была спутанная темная шевелюра, а одета она была в ярко-зеленый мешок. Мешок спереди топорщился, и сначала Салли решила, что гномиха ужасно толстая, но потом разглядела, что та опирается на край раковины длинными, тощими руками. Гномиха подалась вперед, так что из-за завесы спутанных волос торчал острый белый нос, весь в веснушках, а еще – два крупных передних зуба. Из щели между зубами прямо на белую посуду в раковине била струя воды. Гномиха нарочно скрутила спутанные космы в два узла надо лбом, чтобы не намочить их.
Гномиха сосредоточенно поливала посуду, пока вода во рту не кончилась. Потом, к большому облегчению для Салли, мысли у которой по-прежнему слегка путались, выпрямилась на сушилке. Из-под подола зеленого мешка показались ноги с огромными шишковатыми коленками и разогнулись, отчего гномиха сразу стала ростом с некрупного десятилетнего ребенка. Когда она сидела, мешок на ней топорщился во многом из-за коленок, но и теперь заметно вспучивался. Фенелла – теперь Салли вспомнила, что гномиху звали Фенелла, – снова набрала в рот воды из кружки, которую держала в руке, и попробовала, что будет, если поливать посуду сверху. Струя воды ударила в чашку и выплеснулась на пол.
– Фенелла, так посуду не моют! – закричала Салли. – И что это за дурацкая прическа в два узла?
И не услышала ничего – ни звука, кроме тихого шипения струи изо рта Фенеллы в чашке и по полу и негромкого жужжания мух над столом. «Меня никто не слышит! – подумала Салли. – Что мне делать?»
Но Фенелла сказала:
– Посмотри-ка, Салли.
И повернула голову к Салли – белое лицо, веснушки и два больших умных глаза под узлами волос.
– Ох, я и забыла, – сказала Фенелла. – Ее здесь нет.
Тут Фенелла задрала острый нос и во весь свой пронзительный голос завопила:
– Шарлотта! Шарт! Шарт, иди сюда, посмотри! – Голос у Фенеллы был самый громкий в мире. Стекла задребезжали, мухи перестали жужжать.
– Тише ты, – отозвался кто-то из соседней комнаты, явно не вслушавшись в ее слова.
– Да я тут такое выдумала – жуткая жуть! – проорала Фенелла.
– Ой, ну сейчас…
В соседней комнате что-то задвигалось – как будто ворочался кто-то тяжелый и шестилапый. Когда этот кто-то вошел, голова его была примерно вровень с головой Салли. Больше всего он был похож на двух человек, укрытых старым серым ковриком.
«Это просто Оливер», – поспешно напомнила себе Салли. И невольно попятилась обратно в коридор.
Оливер всегда производил сильное впечатление, когда показывался внезапно. Оливер был ирландский волкодав или что-то вроде, но ростом крупнее осла и весь нескладный и размытый по контурам. Словно кто-то пытался нарисовать собаку, и вышло плохо. И он был такой огромный, что просто в голове не укладывалось.
«Оливер и мухи не обидит», – напомнила себе Салли.
И все равно было страшновато смотреть, как Оливер топает прямиком к двери в коридор и к Салли. Его огромная сопящая башка – скорее медвежья или кабанья, чем собачья, – поравнялась с несуществующим лицом Салли и громко втянула воздух. Косматый хвост вильнул – раз, другой. Откуда-то из недр его огромного горла донеслось далекое поскуливание. Потом где-то еще глубже, в косматой груди, зародился далекий рык. Пес отпрянул, рыча, отскочил в сторону, уронил хвост, поджал его между лап. Похоже, Оливер не мог отвести огромных затуманенных глаз от того места, где стояла Салли. Поскуливание то и дело прорывалось сквозь рык и снова сменялось грозным рокотом.
– Что это с Оливером? – спросила Шарлотта с порога гостиной.
Шарлотта потрясла Салли не меньше Оливера. Она была такая же крупномасштабная. И такая же, как Оливер, огромная и размытая по контурам. Вокруг головы вилось размытое облако светлых волос. Из облака выглядывало размытое лицо, будто смазанная фотография ангела Филлис. Габаритами она была с высокую, полную женщину, но фасон ее тесного платья явно задумывался для маленькой девочки. Вся ее размытая огромная фигура излучала мощь и характер, которые каким-то образом оказались втиснуты в разум девочки-подростка – точно так же, как тучное тело было втиснуто в детское платьице. Она несла книгу, заложив страницу пальцем.
– Оливер чего-то перепугался до смерти! – сказала она.
– Сама вижу, – ответила Фенелла.
Оливер так дрожал, что посуда и хлам на столе тряслись.
Потом все отвлеклись от Оливера, потому что дверь за спиной у Салли с грохотом распахнулась. Салли отшвырнуло в сторону, будто воздушный змей – порывом ветра, и в кухню ворвалась Имоджин.
– Мистер Селвин опять выгнал меня из кабинета музыки! – верещала она. – Это невыносимо! Как мне оттачивать мастерство? Как мне стать знаменитой при таком отношении?!
– Выиграй соревнования по визгу, – посоветовала Фенелла. – Правда, я все равно тебя обойду.
– Ах ты, мелкая… – Имоджин от возмущения не могла подобрать слова. – Ах ты, мелкая… козявка! А зачем ты напялила этот зеленый мешок? Уродство!
– Это я сшила ей зеленый мешок.
Шарлотта надвинулась на Имоджин и словно бы нависла над ней. И точно, это она сшила, вспомнила Салли. Вся одежда доставалась Фенелле по наследству после трех сестер, изношенная в лохмотья. Вот только жалко, что Шарт шить ни капельки не умела. Даже прямого зеленого мешка у нее не вышло – он морщился складками с одного боку, волочился с другого, а ворот топорщился на тощей груди Фенеллы бугром.
Имоджин осознала свою ошибку и хотела извиниться.
– Я просто хотела ее обозвать пообиднее, – объяснила она, – и облекла свои чувства в первые попавшиеся слова. Я размышляла о своем призвании музыканта и дальнейшей карьере.
«Да уж, узнаю Имоджин», – подумала Салли в полумраке: она вдруг вспомнила, каким все это виделось ей раньше. Имоджин твердо решила стать концертирующей пианисткой. Остальное ее практически не интересовало. Салли посмотрела на Имоджин. Высокая и светловолосая, как Шарлотта, Имоджин, в отличие от Шарт, уродилась незамутненной копией Филлис и настоящей красавицей. Вопиющая несправедливость по отношению к Шарт и Фенелле и к Салли тоже: Имоджин была выше, умнее и талантливее Салли – и больше чем на год моложе.
«Какая у меня, однако, отвратительная семейка! – вдруг подумала Салли. – Зачем только я сюда вернулась?»
Между тем Оливер обнаружил, что его никто не замечает, и украдкой сунул огромный носище на стол. Масло, повинуясь животному магнетизму, отточенному годами тренировок, выехало из-под газеты и скользнуло внутрь Оливера. Похоже, это помогло Оливеру отчасти примириться с феноменом Салли. Он двинулся на нее, чуть-чуть дрожа, тихонько поскуливая и робко помахивая хвостом.
– Да что такое с собакой? – спросила Имоджин.
– Не знаем, – ответила Фенелла.
Все три сестры Салли уставились на нее – и ни одна из них ее не увидела.
II
Их фамилия Мелфорд, вдруг вспомнила Салли.
Их зовут Шарлотта, Селина, Имоджин и Фенелла Мелфорд. Но она по-прежнему не понимала, что она здесь делает в таком виде.
«Может быть, я вернулась, чтобы отомстить?» – подумала она.
Мысль была довольно страшная, и Салли надеялась, что в нормальных обстоятельствах ей бы такое и в голову не пришло. Но никто не стал бы отрицать, что обстоятельства далеко не нормальные. Сестры смотрели на нее, все три, и она всех их ненавидела: и огромную бесформенную Шарт в этом детсадовском голубеньком платьице, и самовлюбленную Имоджин – и невольно подумала, насколько это в характере Имоджин: неведомо как заполучить ярко-желтый брючный костюм, который гораздо больше подошел бы Шарт. Самой Имоджин он был до того велик, что пиджак болтался продольными тяжелыми складками, будто штора, а штанины морщились двумя желтыми гармошками. Имоджин приходилось смотреть в оба, чтобы не наступать на них. И еще она, очевидно, решила, что костюм следует оживить: надела лиловые пластмассовые бусы и намазалась оранжевой помадой. А что касается Фенеллы, зло подумала Салли, то да, Имоджин очень метко обозвала ее козявкой. Шишковатые коленки были как суставы на мушиных лапках, а два узла из волос на голове – как усики.
«Я их так ненавижу, что вернулась, чтобы им являться и пугать их», – постановила про себя Салли.
На этом вихрь смутных представлений – больше ничего в несуществующей голове Салли не удерживалось – вдруг резко закрутился в противоположном направлении и едва не замер. «Все-таки это просто сон», – с дрожью подумала Салли.
Но сон ли это? Откуда, интересно, она вернулась? Этого Салли совсем не знала, только догадывалась, что с ней что-то произошло.
– Ой, мамочки, я что, умерла? – закричала она в полный голос. – Я же не мертвая, правда? – кинулась она к сестрам.
Без толку. Они все разошлись по своим делам, не подозревая, что у них кто-то что-то спросил. И тогда Салли вдруг стало крайне важно показать им, что она тут. Даже важнее, чем понять, зачем она вернулась. Она была уверена, что по крайней мере одна из них сможет все объяснить, как только они поймут, что она, Салли, здесь и ждет объяснений.
– Фенелла! – крикнула она. Ведь Фенелла едва не догадалась о ее присутствии.
Но Фенелла сползла с сушилки и вылезла в сад через открытое окно. Салли порхнула за ней, к раковине. Оливер, беспокойно поскуливая, тоже потянулся к окну, но с тяжким вздохом бросил эту затею, когда Салли выплыла туда следом за Фенеллой.
Когда Салли нагнала Фенеллу, та бродила по саду туда-сюда. Судя по всему, она хотела убедиться, что там больше никого нет.
– Еще как есть! – Салли зависла в зарослях крапивы прямо перед Фенеллой. – Смотри! Это же я!
Фенелла, нахмурившись, прошагала мимо нее. Манера хмуриться была единственным, что Фенелла унаследовала от Филлис. Когда Фенелла хмурилась, то тоже становилась похожа на ангела, только падшего. «Вон отсюда, пауки!» – сказала Фенелла воздуху за спиной у Салли и двинулась дальше. Подошла к шалашу из старых стульев и опустилась на колени перед входом – прорехой в отсыревшем ковре. И сразу снова превратилась в гномиху с огромным пузом и тощими ручонками. Тощие ручонки протянулись к шалашу.
– Явись, явись, Мониган! Явись и узри свою верную рабыню! – пропела Фенелла. – Твоя верная рабыня преклонила колени и простирает к тебе руки. Явись! Между прочим, на самом деле она никогда не выходит, – сказала она воздуху над головой у Салли.
– Сама знаю! – раздраженно отозвалась Салли. Игра в Мониган и так слишком затянулась. Салли помнила, что Культ Мониган навевал на нее смертную скуку еще год назад, когда Шарт его выдумала. – Фенелла, послушай! Посмотри на меня! Я же здесь!
– Мониган, у тебя осталась только одна верная рабыня, – пропела Фенелла, не слыша ее. – Берегись, Мониган, не то я тоже покину тебя. И что тогда с тобой будет? Явись, явись! А ну явись, кому говорю!
– Фенелла! Опомнись! – крикнула Салли.
Но та все раскачивалась на коленях и голосила:
– Явись! Мониган, ты могла бы сделать мне одолжение и явиться хотя бы раз. Неужели ты не понимаешь, какая ты скучная, когда просто сидишь тут и ничего не делаешь? Явись!
– Вот явится, тогда узнаешь! – сказала Салли беззвучно и неслышно.
Вдруг ее осенило. Если откинуть крючок и со всей силы толкнуть дверь, может, удастся сдвинуть с места тряпичную куклу: она же совсем легкая, только придется постараться. Уж это-то Фенелла заметит! Салли подплыла к шалашику и нырнула внутрь сквозь старый ковер. Она успела пропихнуть внутрь только несуществующую голову и плечи, но даже этого оказалось слишком много. Внутри было душно и мокро. И воняло. Салли на миг удивилась, что ей, оказывается, так трудно вытерпеть этот запах: ведь у нее и носа-то не было, и нечем нюхать. «Но ведь я вижу и слышу, – подумала она. – В основном только и могу, что чувствовать». Прикосновения отсыревшего ковра она не ощущала, но запах плесени чувствовала – как и запах самой Мониган, которая сидела, безжизненно обмякнув, у ножки стола в дальнем углу шалаша. От блекло-желтой травы сильно пахло грибами. Но хуже всего воняло от четырех или пяти маленьких тарелочек, стоявших перед Мониган. Там все так сгнило, что Салли уже не могла разобрать, что это было, но несло от них хуже, чем из школьной кухни. Перед кукольными тарелочками кто-то аккуратно воткнул в блеклую траву три черных пера.
– Гм, – сказала Салли. – Так ли уж Фенелла – последняя верная рабыня Мониган? Или это ее работа?
Она потянулась вперед, в шалашик, чтобы пихнуть Мониган. Ей совсем не хотелось это делать. Мониган была просто жуткая. Тряпичное лицо после года в сыром шалаше стало мертвенно-серое, а от плесени так скукожилось, что сделалось похоже на личинку. Тело Мониган было изуродовано еще до того, как ее отправили в шалаш. Как-то раз Шарт, Салли, Имоджин и Фенелла схватили ее за руки, за ноги – Салли даже не помнила, ссора это была или глупая игра, – и разорвали на части. Потом Шарт замучили угрызения совести, и она починила куклу – так же плохо, как сшила зеленый мешок для Фенеллы, – и нарядила ее в розовое вязаное кукольное платьице. Теперь платьице тоже стало личиночно-серое. И чтобы оправдаться перед Мониган за то, что они ее разорвали, Шарт и придумала Культ Мониган.
Салли не хотелось приближаться к Мониган, но она все-таки предприняла одну попытку толкнуть ее вполсилы. Вот только забыла, что тряпичная кукла, когда сидит в сырости, впитывает влагу, будто губка. Мониган оказалась слишком тяжелая для Салли. Салли вылезла из шалаша. Внутри было просто невыносимо.
– Ну, пойду проверю, как там куры, – заметила Фенелла в воздух, когда Салли вернулась в сад.
– Нет! Сначала посмотри на меня! – закричала Салли.
Фенелла просто разогнула свои мушиные ножки и двинулась прочь.
– «Прочь, медянки в темных пятнах»[1], – донеслось до Салли. – Интересно, богини сами понимают, какие они скучные?
Салли решила оставить ее в покое и поискать Шарт или Имоджин. Они были в гостиной. Салли вплыла туда, а Оливер испуганно притрусил следом.
– Ты же можешь и на этом пианино играть, – как раз говорила Шарт. Одной рукой она заложила страницу в книге, а другой рассеянно махнула в сторону старого пианино у стены.
Имоджин и Салли разом посмотрели на пианино: Имоджин – с презрением, Салли – так, словно впервые в жизни его видела. Оно было дешевого желтоватого цвета и все обшарпанное. Желтые клавиши прямо как больные зубы. Сразу было видно, что никто на нем не играет, потому что оно все было завалено грудами газет, книг и журналов. На басовом конце стояла коробка красок, рядом между черными клавишами косо пристроилась пластмассовая баночка с грязной от акварели водой. Сама картина стояла на желтом пюпитре – неожиданно удачный портрет Фенеллы на фоне ежевичных кустов. Интересно, кто его нарисовал?
– На этом? – презрительно процедила Имоджин. – Да уж лучше играть на ксилофоне из мертвых костей! – Она рухнула на засаленный диван – только пружины загудели – и вытянулась во весь рост: долговязая фигура в желтом костюме. – Не быть мне музыкантом! Познала ли Майра Хесс[2] подобные муки? Едва ли.
«Почему она вечно говорит как по писаному?» – раздраженно подумала Салли. Шарт, похоже, углубилась обратно в книгу. Поскольку шансов, что они ее заметят, было мало, Салли уныло пристроилась на спинку кресла. Оливер, увидев, что она села, с глухим стоном плюхнулся на пол и лег, словно сваленный в груду коврик. Но спать не стал. То и дело он поскуливал и косился в сторону Салли красным глазом.
– Да что с ним такое? – Шарт подняла голову. Когда она читала, то становилась еще более расплывчатой. Как будто она вся уходила в книгу и таяла.
– Наверное, съел что-то не то, – ответила Имоджин. – Вечно ты изводишься из-за этого несчастного животного.
– Ну да, это же моя собака, по крайней мере, считается, что моя, – сказала Шарт. – Вот я и проявляю естественную заботу.
– Ты проявляешь полнейшую, слепую преданность, – провозгласила Имоджин.
– Ничего подобного! Почему ты вечно говоришь как по писаному?
– На себя посмотри, – буркнула Имоджин. – Ходячая энциклопедия.
Шарт снова уткнулась в книгу. Имоджин гневно глядела на желтое пианино. Салли набиралась храбрости, чтобы попробовать привлечь их внимание. Она понимала, почему у нее ничего не получится. Они обе выше и крупнее ее. «Только почему это для меня так важно в нынешнем состоянии, понятия не имею», – подумала она.
Шарт снова подняла голову:
– Как тихо, правда? Наверное, это потому, что мальчишки на уроках. То, что у них каникулы начинаются на неделю позже, чем у нас, это, конечно, жестоко.
– Вовсе нет, – отозвалась Имоджин. – Если бы учебный год уже закончился, я могла бы заниматься в кабинете музыки.
– Тебе все равно не разрешат, – сказала Шарт. – Миссис Джилл говорила мне, что, как только начнутся каникулы, там будут Курсы для трудных подростков. Заезд во вторник – они все тут заполонят.
– Боже милостивый! – Имоджин уставилась в потолок и затеребила свои лиловые бусы – все быстрее и быстрее, так, что они зловеще забрякали. – Как мне надоело, что у нас никогда не бывает нормальных каникул! Это несправедливо!
«Ага», – подумала Салли. В ее бестелесной голове прояснилось. Ее родители держат школу – точнее, они держат большую Школу с пансионом для мальчиков. Да, точно. Девочки ходят совсем в другую школу, в нескольких милях отсюда.
– Ой, ну надо же! – вырвалось у Салли.
Как это было глупо с ее стороны – искать свой класс в школе для мальчиков! Хорошо, что об этом никто не знает. Почему же она не помнила, что у нее уже каникулы? Наверное, потому, что всю жизнь прожила при школе для мальчиков, подумала она, и здешний уклад для нее гораздо реальнее, чем ее собственный школьный распорядок. А Шарт напомнила ей еще об одном обстоятельстве: Школа никогда не пустует. Как только мальчики разъезжаются по домам, прибывают другие дети на курсы. Так что Имоджин правильно сказала, что каникул здесь не бывает.
Миг спустя Салли невольно вскинулась и прислушалась. От этого движения Оливер поднял голову и горестно заурчал.
А вскинулась она потому, что Шарт сказала:
– Я прямо завидую Салли – завидую жуткой желтой завистью. Желтой, прямо как наше пианино. Зачем мы только решили, что это будет она! Почему именно Салли?
– Потому, что теперь у нас так тихо, – вот почему, – ответила Имоджин.
– Точно! – Шарт вся подалась вперед, как будто Имоджин сделала настоящее сенсационное открытие. – Ни тебе нытья, ни тебе ворчания…
– Ни споров, ни ссор, – подхватила Имоджин и потянулась, как будто ей вдруг стало донельзя уютно. – Никаких гневных речей по поводу беспорядка. Никакой уборки.
– Никаких истерик и суеты, – сказала Шарт. – Никаких придирок. Иногда мне кажется, что в целом я еще могла бы терпеть Салли, если бы она вечно не пилила нас за то, что мы не так говорим, не так ходим, не так одеты, и вообще.
– А меня в ней особенно раздражает ее проклятое призвание и как она постоянно о нем рассуждает, – сказала Имоджин. – Не ей одной надо думать о призвании.
Они немного помолчали.
– Ну да, согласна, – сказала Шарт.
Салли смотрела то на одну, то на другую и не знала, кого сильнее ненавидит. Только она решила, что Имоджин, как Шарт снова заговорила:
– Нет, теперь-то мне понятно, что все дело в том, что Салли вечно притворяется милой и хорошей – вот от чего я на стенку лезу. А стоит мне осмелиться хоть в чем-то упрекнуть Филлис или Самого, как она прямо бросается их защищать. Боится, как бы ее не заподозрили, что она не считает их самыми идеальными родителями на свете.
– А я правда считаю, что они идеальные! – заорала Салли.
Никто ее не услышал. Да, несомненно, она сильнее ненавидит Шарт.
– Нет, Шарт, ты к ней не вполне справедлива, – произнесла Имоджин. Она прямо лучилась беспристрастностью. Салли вспомнила, что, когда Имоджин начинала говорить таким голосом, ей всегда хотелось ее стукнуть. – Дело в том, что Салли и в самом деле убеждена, будто эта семья идеальна, – серьезно объяснила Имоджин. – Шарт, она искренне любит отца и мать.
Ханжеский тон Имоджин взбесил не только Салли, но и Шарт. Огромное лицо Шарт стало расплывчато-розовым. Глаза вспыхнули, будто дырки в маске.
И она взревела громче Фенеллы, так, что окна задребезжали:
– Хватит молоть чепуху! – И бросилась на Имоджин.
Оливер вовремя заметил ее маневр и с трудом поднялся, чтобы уйти с дороги. Но Имоджин с проворством, нажитым за годы тренировок, катапультировалась с дивана и оказалась прямо перед ним. Пришлось Оливеру попятиться к Салли, и это ему не понравилось. Он зарычал. Но при этом, рыча, вилял хвостом и клонил голову в сторону Салли, потому что не понимал, почему она вдруг стала такая странная.
Имоджин и Шарт не обратили на него внимания. Они проскочили мимо Оливера, ругаясь. И Салли забыла, что это не скандал на троих, какие случались у них сплошь и рядом, и тоже закричала, изрыгая неслышные оскорбления:
– Ни споров, ни ссор, говорите?! И истерик тоже нет? И уж не тебе говорить о призвании, Имоджин! Да как вы смеете сплетничать обо мне за глаза?
– По-моему, Оливер наконец взбесился, – раздался позади оглушительный голос Фенеллы.
Фенелла стояла на пороге с таким видом, будто принесла дурную весть.
Шарт и Имоджин – и Салли тоже – посмотрели на Оливера, который все рычал и вилял хвостом.
– Да у него никогда и не было мозгов, – сказала Имоджин.
– А по-моему, с ним действительно что-то неладно, – встревожилась Шарт.
– На самом деле неладно совсем другое, и я вам скажу что, – сказала Фенелла. – Черная курица так и пропала. Я пересчитала всех кур и везде посмотрела. Ее нет.
– Лиса, наверное, – отозвалась Шарт. – Я же тебе говорила.
– Я не это имела в виду, – многозначительно проговорила Фенелла.
– А что тогда? – спросила Шарт.
Имоджин сказала:
– Шарт, она закрутила волосы в гульки. Посмотри.
Фенелла отмахнулась от этого с царственным презрением:
– Шарт прекрасно понимает, зачем я это сделала. Гульки – часть Плана. – (На это Имоджин почему-то смутилась и притихла.) – А я имела в виду курицу и Оливера, – пояснила Фенелла.
– Хочешь сказать, Оливер ее съел?! – воскликнула Шарт.
Она бросилась к Оливеру и в ужасе попыталась открыть ему пасть. Да куда там: Оливер был не только на диво крупный, сильный и крепкий, но еще и упрямый, почище осла. Он никогда не делал того, чего не хочется, а сейчас ему не хотелось открывать рот.
– Едва ли ты разглядишь курицу внутри Оливера, – заметила Имоджин.
– Может, у него перья в зубах застряли, – пропыхтела Шарт, пытаясь разнять челюсти Оливера. В пасть ему без труда поместилось бы и две курицы. – Только представь себе, какой будет скандал!
– Тогда лучше ничего не знать, – сказала Имоджин.
– Если вы готовы меня выслушать, то я имела в виду не это, – произнесла Фенелла, по-прежнему с таким видом, будто принесла дурные вести, и с этими словами развернулась, взметнув кособоким зеленым мешком, и гордо удалилась.
– Тогда в чем дело? – спросила Шарт у Имоджин.
Имоджин развела руками:
– Фенелла есть Фенелла. – И воздела руки к потолку: – И за что только мне это проклятие – сестры?
– Не тебе одной! – огрызнулась Шарт.
Салли бросила их в самом начале очередной ссоры и тоскливо поплыла наружу, в сад. Куры, как и Оливер, похоже, знали, что она здесь. Все они клевали у ворот зерно, которое, должно быть, насыпала им Фенелла, чтобы их пересчитать, но едва Салли вплыла в сад сквозь решетку калитки, как все они разбежались с пронзительным кудахтаньем. Салли смотрела, как они улепетывают от нее по траве, как мелькают желтые куриные лапы и мечутся коричневые перья на хвостах. Вот дурочки! Но насколько Салли могла судить, черной среди них и правда не было. У Салли возникло чувство, что она могла бы и раньше догадаться. Этих кур она знала так же хорошо, как сестер.
Вот что странно с бестелесностью: похоже, чтобы мысли Салли заработали как следует и она хоть что-нибудь о чем-то поняла, надо было, чтобы ей это сначала показали. Салли плыла между деревьев, а иногда и сквозь них, смотрела на сотни маленьких удлиненных зеленых яблочек, прятавшихся под широкими листьями, и старалась вспомнить все, что ей показывали. Несомненно, в какой-то момент ей подсказали, отчего она стала такая, по крайней мере, как-то намекнули на то, что с ней произошло. Положим, она знает, что жила при школе. У нее три кошмарные сестры, и как минимум две из них считают, что она сама кошмарная. Тут Салли не выдержала и пустилась в жаркий спор с воздухом:
– Я не такая! Я не истеричка и не болтаю без конца про свое призвание. Не то что Имоджин. Они просто видят во мне собственные недостатки! И я не ворчу и не делаю замечаний. На самом деле я покладистая и скромная, всегда такая мягкая, притихшая, озадаченная жизнью. Просто у меня есть свои идеалы. И да, я правда считаю, что мама и Сам лучше всех. Я это точно знаю. Вот вам!
Но ведь Шарт еще до всего этого дала понять, что они с Имоджин знают, где Салли полагается быть, верно? Они все знают. Шарт даже завидует Салли – завидует! Где бы это записать?! И они явно не тревожатся за нее, хотя это ни о чем не говорит: Салли не представляла себе, чтобы кто-то из них тревожился за кого-то, кроме себя. Но если Шарт ей завидует, почему у Салли такое чувство, будто с ней случилось что-то ужасное? Кто-то ошибся, что-то пошло не так, произошла катастрофа…
Салли и опомниться не успела, как в ней снова воздушным шаром вздулся страх. Она ринулась прочь от него, заметалась, покатилась куда-то…
Когда страх наконец унялся, Салли поняла, что плывет по дорожкам слегка заросшего огорода. И снова поежилась от угрызений совести: сюда тоже было нельзя. Она вспомнила, что здесь обитает садовник по имени мистер Маклагген, сущий зверь, который может до обидного больно наподдать, если поймает, а если не поймает, будет много орать. И все равно, подумала Салли, проплывая мимо цепочки кустов крыжовника, у нее возникло отчетливое впечатление, что они с сестрами часто приходили сюда, несмотря на мистера Маклаггена. Эти самые кусты, где до сих пор среди белых шипастых ветвей там и сям виднелись увесистые красные ягоды, подвергались набегам еще тогда, когда крыжовник был зеленый, как яблоки, и не крупнее гороха. И малину они здесь собирали, когда устраивали набег вместе с мальчишками.
Салли увидела мистера Маклаггена – он что-то яростно рыхлил в конце дорожки – и от греха подальше уплыла прочь сквозь кирпичный забор. По ту сторону забора было просторное зеленое спортивное поле. В дальней дали белые фигурки проводили церемонию крикета.
– По-моему, – неуверенно произнесла Салли, – по-моему, я люблю смотреть крикет.
Только вот, вспомнила она, это ужасно неловко, когда ты одна-единственная девочка на целом поле, полном мальчишек. Все они глазели на нее и говорили друг дружке: «А, эта девчонка – она же Мокрая Макарона». Иногда в лицо. А поскольку мальчишки есть мальчишки, они, естественно, не различали сестер и беспристрастно обзывали «Мокрая Макарона» всех четырех скопом. Но сейчас, когда Салли была в идеальном состоянии полной незаметности, ей почему-то было никак не заставить себя смотреть на все это обширное зеленое пространство. Она боялась, что растворится в нем окончательно. От нее и так мало что осталось. Держась поближе к стене и домам, она оставила позади открытый велосипедный сарай, пересекла квадратную асфальтовую площадку с баскетбольными корзинами по одному краю и промчалась вдоль череды теннисных кортов. Там сонно перестукивались мячики: тук-тук. Мальчики в белом, игравшие в теннис, были все из самых старших классов и выглядели и говорили совсем как взрослые мужчины. Как-то это было неестественно, что они школьники, а их не отличить от учителей. Еще они пугали Салли, когда вдруг разражались взрывами басистого смеха. Она всегда думала, что это они над ней смеются. На этот раз, когда они расхохотались, она представила себе, как они говорят: «Только погляди на эту девчонку! На ней же ничего нет, даже тела! Ха-ха-ха! О-хо-хо!»
– Сами вы ха-ха! – сердито пробурчала Салли, проплывая мимо. – Я не виновата!
Ну конечно, подумала она, как будто смущение разбередило в ней новые идеи, конечно это, скорее всего, просто сон. Но даже если вдруг все это по-настоящему, мама и Сам знают, что делать. Ведь мама почти-почти совсем увидела ее у зеленой двери. Надо просто дождаться конца уроков, и родители расскажут ей, что случилось.
– Может, это все знают, кроме меня, – сказала Салли, и несуществующие глаза защипало от ненастоящих слез. – Мне никогда ничего не рассказывают.
Тут и уроки кончились. Салли очутилась в самой гуще бегущей серой толпы мальчишек – ее крутило, швыряло, мотало из стороны в сторону. Кругом хохотали: «Слыхал, что Триггс сказал Машему на географии?» – спорили: «А вот и нет! Они полноприводные!» – насмешничали: «Не сдавайся, Питерс! Попробуй тронь меня – увидишь, что будет!» – и безмолвно дрались: бац.
– Ой! – сказала Салли. – Я почувствовала!
Интересные дела… Наверное, у нее все-таки есть что-то вроде тела. Ведь она совершенно точно попала под удар – между чьим-то кулаком и чьим-то чужим телом. И идти против толпы было так же трудно, как обычно. Хотя Салли толкалась и пихалась и была уверена, что все ее тычки пройдут сквозь кого-нибудь из бегущих, галдящих мальчишек, оказалось, что этого-то она и не может. Словно у каждого мальчишки вокруг плотного тела было еще теплое, упругое, дрожащее жизненное поле, которое не пропускало Салли. Оно было тонкое, как папиросная бумага, но все же было. Салли чувствовала, как оно слегка похрустывает каждый раз, стоит ей налететь на очередного мальчишку.
– Удивительно, – сказала она. – А что, все живые существа такие? Надо не забыть как-нибудь попробовать пройти сквозь курицу.
Оливер был бы более крупной мишенью, но от одной мысли пройти сквозь Оливера Салли становилось страшновато.
Пока Салли разговаривала сама с собой, толпа мальчишек схлынула и умчалась, и она осталась одна – вся какая-то будто потрепанная. Она сказала бы, что запыхалась, только у нее и дыхания-то не было. Салли двинулась дальше, за угол, в школьный сад под липами. Там было еще больше мальчишек: они выходили из-под лип и бродили по саду. Салли зависла над вытоптанной землей и стала смотреть на них. И вот что странно: мало кто из мальчишек ходил как нормальный человек: кто шаркал, кто косолапил, у кого одно плечо торчало выше другого – и они будто нарочно так делали. Один мальчишка ходил туда-сюда по отрезку футов в двадцать, пиная сухую землю, и коленки у него словно бы подкашивались. Челюсть у него отвисла, и он что-то бормотал про себя. Через каждые несколько шагов то одна, то другая коленка у него резко сгибалась, словно помимо его воли.
– Министерство дурацких походок… – разобрала Салли, что он бормочет. – Министерство дурацких походок…
Это был Говард – тот самый мальчишка с незаразными занозами.
Рядом с ним другой мальчишка, рыжий, расхаживал, скрючив руку, будто калека, и весь дергался. На каждом шаге он строил очередную жуткую рожу.
– Тише, джентльмены, прошу вас! – бурчал он перекошенным ртом.
Этого звали Нед Дженкинс, вспомнила Салли, и рука у него, насколько она знала, была совершенно здоровая.
– Ну и ну! С виду можно подумать, они все спятили! – поразилась она.
Ей не верилось, что мальчишки всегда так себя ведут. Ученики этой школы были все как на подбор статные юные джентльмены. Но она смотрела на эти спотыкающиеся, бормочущие, дергающиеся фигуры и мало-помалу вспоминала, что они часто так себя вели или вытворяли что-то не менее странное. Шарт как-то сказала ей, что все мальчишки чокнутые. Тогда она пустилась спорить, но теперь подумала, что Шарт верно говорила. Салли все смотрела на них и старалась удержать в своей непривычной туманной памяти все их придурочные выходки: вдруг что-то, хоть что-нибудь, натолкнет ее на мысль, как она стала такой.
– Не могу же я застрять в таком виде на всю жизнь, – сказала Салли. – Иначе я чокнусь, как Дженкинс.
Ужас снова вспучился в ней. Прямо рядом с фамилией Дженкинс замаячила мысль, что говорить «на всю жизнь» – это глупо. Весьма вероятно, что Салли – призрак и жизнь ее уже кончена. Салли изо всех сил постаралась затолкать эту мысль куда-нибудь за фамилию Дженкинс с глаз долой, а мысль сопротивлялась и лезла на передний план. В пылу схватки Салли снова отбросило в сторону, сквозь густые кусты и обратно в сад, где от нее, кудахча, разбежались куры, а потом еще и крутануло к дому. Там она остановилась и оцепенело зависла в ветвях последней яблони. Во время поединка у нее появилась новая мысль.
– А вдруг, – сказала Салли, – я оставила записку… или где-то что-то записала… или вела дневник?
При этой мысли ее охватило неимоверное облегчение. Значит, где-то есть несколько строчек, которые все объясняют. Салли сомневалась, что ей хватило педантичности вести дневник, но где-то на задворках своего бурлящего прозрачного сознания обнаружила смутное-смутное предположение, что, возможно, она написала какую-то записку. А рядом с этим предположением нашлось и другое: если записка существует, она наверняка имеет отношение к Плану, о котором говорила Фенелла.
Когда Салли влетела в дом, он весь содрогнулся от ее волнения.
III
В кухне Шарт все-таки мыла посуду. Она стояла у раковины, с мученическим видом расставив грузные ноги циркулем, и медленно позвякивала толстыми белыми чашками. На ее лице во всю ширь застыла мина великомученицы.
– Сущее наказание, – проговорила Шарт, когда Салли зависла над кухонным столом в размышлениях, где искать записку. – Скучища смертная. Вот честное слово, вы могли бы и помогать мне иногда.
– Зато теперь ты меня понимаешь, – сказала Салли. – Хозяйство всегда было на мне.
Все бумаги, скорее всего, лежат в гостиной. Салли уже направилась туда, но тут сообразила, что, помимо Шарт, в кухне нет никого, кроме Оливера. Оливер спал на своем любимом месте – плюхнулся прямо посреди пола, раскинув три лапы, а четвертую, ту, на которой было только три пальца, приткнул возле кабаньей морды. Он храпел, будто небольшой мотоцикл, и время от времени весь судорожно подергивался.
– А значит, Шарт обращалась ко мне! – Салли замерла и зависла в дверях. – Шарт?! – окликнула она.
Шарт взгромоздила в раковину под струю воды стопку толстых тарелок и разразилась песней: «Любовь и бедность навсегда меня загнали в сети…» Как будто в кухне очутилась не на шутку занедужившая корова.
– Шарт! – закричала Салли.
– По мне, так бедность не беда… – завывала Шарт.
Оливер зашевелился.
Салли поняла, что кричать без толку, и двинулась в гостиную в тот самый миг, когда Фенелла закрыла туда дверь, чтобы не слышать пения Шарт. Салли прошмыгнула мимо Фенеллы, снова ощутив покалывание жизненного поля вокруг человеческого тела. Но Фенелла, похоже, ничего не почувствовала. Она отвернулась от Салли и уселась на корточки, будто гном, в старом кресле. Имоджин до сих пор валялась на диване. В комнате было жарко, пыльно и душно.
– Шли бы вы лучше на улицу, – с отвращением проговорила Салли. – Или хотя бы окно открыли.
В комнате был письменный стол, журнальный столик и книжный стеллаж, и все они были сплошь завалены бумагами. На всех бумагах красовались круги от чашек с кофе, а поверх лежал слой пыли. Салли достаточно было просто повисеть в воздухе рядом, чтобы понять, что бумаги не трогали месяцами. Значит, искать здесь нет смысла. На задворках сознания Салли пряталось сильное, пусть и смутное, подозрение, что, если записка есть, написана она совсем недавно. Салли подплыла посмотреть бумаги на пианино. Та же история. Пыль лежала ровным, непотревоженным слоем на всех журналах, на всех старых записях и даже на школьном табеле, хотя там слой был потоньше. За последнее полугодие, увидела Салли дату. «Ученица Имоджин Мелфорд». «А» по английскому… «А» почти по всем предметам, кроме математики. Все-таки Имоджин омерзительно способная, обиженно подумала Салли. И за изобразительное искусство тоже «А» – раньше такого не случалось. А по музыке только «В» – такого тоже раньше не случалось, и это неожиданно, учитывая призвание Имоджин. Внизу значилось: «Прекрасная работа на протяжении всего полугодия. Имоджин училась хорошо, но по-прежнему складывается впечатление, что она глубоко несчастна. Буду рада возможности обсудить будущее Имоджин с ее родителями. Классный руководитель».
– Да Имоджин вечно несчастная! – сказала Салли.
Бумаги на клавишах верхнего регистра побурели от времени в самом буквальном смысле. Там, конечно, ничего. Портрет – очень хороший – был поновее, но все равно слегка запылился. Вода в криво стоящей баночке на другом конце подернулась пленкой плесени.
Тут Салли обнаружила, что Имоджин повернула голову и смотрит на нее с дивана в упор. Глаза у Имоджин были огромные и удивительного темно-голубого цвета. Имоджин умела смотреть словно бы безо всякого выражения, но за этой пустотой сквозило что-то такое живое и пронзительное, что от взгляда Имоджин многие вздрагивали. Вот и Салли вздрогнула. Глаза Имоджин были, несомненно, глазами гения – и Салли помнила, что когда-то соглашалась в этом с Шарт.
– Имоджин! – с надеждой позвала Салли.
Но Имоджин, оказывается, смотрела сквозь Салли на картину.
– Особенно мне нравятся эти ежевичные кусты, – заявила она. – Побеги были именно такого густого красно-коричневого цвета, я бы сказала, мужественного. Они и вправду почти что мускулистые, жилистые уж точно, а шипы прямо как кошачьи когти.
– Мой автопортрет, – самодовольно произнесла Фенелла.
– Это не автопортрет. Ты же не сама его написала, – возразила Имоджин. – И ты на нем слишком коричневая. – Она вздохнула. – Пожалуй, мне стоит попробовать себя в стихосложении.
Огромная слеза набухла в уголке того темно-голубого глаза, что повыше, скатилась со щеки, словно с холма, и перевалила через нос.
– А теперь ты по какому поводу страдаешь? – поинтересовалась Фенелла.
– Из-за собственной полнейшей бездарности! – отвечала Имоджин. Из нижнего глаза тоже выкатилась слеза.
Имоджин страдала так часто, что Салли все про это знала и заскучала еще до того, как показалась вторая слеза. Никаких записок здесь нет. Искать надо в спальне. Салли порхнула к лестнице в дальнем конце комнаты, а Фенелла между тем сказала:
– Ну, не буду тебе мешать. Пойду украду себе чаю.
Салли была уже на середине лестницы, когда дверь под руками Фенеллы резко распахнулась. На одном уровне с лицом Фенеллы показалась огромная размытая башка Оливера.
– Оливер, вон отсюда! – скомандовала Имоджин, которая все так же лежала на диване, и на каждой щеке у нее поблескивало по слезе.
Фенелла толкнула Оливера в нос:
– Уходи. Не мешай Имоджин страдать.
Оливер не обратил на нее внимания. Он просто оттер Фенеллу в сторону и вдвинулся в комнату с еле слышным рыком, как будто вдали зарокотал огромный грузовик.
Если Оливеру куда-то хотелось, он туда шел. Он был такой громадный, что остановить его было невозможно. И он почуял, что странная Салли снова здесь. Прошаркал мимо Имоджин к подножию лестницы, то рыча, то поскуливая.
– Извини, – сказала Фенелла Имоджин и ушла.
Салли зависла на верху лестницы и посмотрела на Оливера. Он занимал четыре нижние ступени целиком. Салли сомневалась, что он станет подниматься. Он был такой тяжелый и нескладный, что у него почти всегда болели ноги. Ходить вверх по лестницам он не любил. Но Салли не нравилось, что он так себя ведет. Ее это пугало.
– Имоджин опять страдает, – сообщила Фенелла Шарлотте в кухне.
– Вот зараза, – ответила Шарт.
Салли изо всех сил старалась смотреть на Оливера властно и отчаянно надеялась, что у нее получится.
– Уходи.
Результат ее напугал. Оливер так зарычал, что Салли ощутила, как дрожит лестница. Шерсть у него на загривке встала торчком. Такого Салли еще никогда не видела. Это было страшно. Он был огромный, как медведь. Салли повернулась и удрала в ванную, где ее по-прежнему преследовал рык Оливера, зато сам Оливер, к ее облегчению, отстал.
В ванной царил обычный беспорядок: по стенкам ванны жирная черная полоса, везде валяются грязные полотенца и плесневелые мочалки. Салли с отвращением удалилась оттуда в спальню. Здесь она снова испугалась того, что должна была знать как свои пять пальцев, – похоже, теперь такое с ней будет постоянно.
– Может, это потому, что сейчас у меня нет своих пяти пальцев, – натужно пошутила она.
В спальне было жарко и нечем дышать: она находилась под самой крышей. По площади она была как вся кухня с гостиной внизу за вычетом кусочка на ванную, но просторной не казалась, поскольку ее занимали четыре кровати. Три, само собой, стояли неубранные, одеяла и простыни съехали на пол. Четвертая, как предположила Салли, была ее. Прямоугольная, белая, незнакомая. Она не говорила о своей владелице ровным счетом ничего.
Еще комната казалась совсем маленькой потому, что высота у нее равнялась длине. Под потолком шли три изогнутые черные балки. Было видно, что их вырубили из одного и того же дерева. Изгибы в них совпадали. Выше виднелась конструкция из пыльных стропил, уходящих в конек крыши, обшитой изнутри сероватым оргалитом. Салли обнаружила, что знает, что это крыло дома, где они живут, самая старая часть Школы. Раньше здесь были конюшни – задолго до того, как вокруг выросли красные здания. Еще она знала, что зимой тут очень холодно.
Она отвлеклась от крыши и обнаружила, что стены увешаны рисунками. К этому времени до нее снизу, из гостиной, сквозь рокот Оливера, донесся голос Шарт: та предприняла очередную попытку унять страдания Имоджин.
– Ну послушай, Имоджин, ты же не виновата, что тебя все время выгоняют из кабинета музыки. Тебе надо все объяснить мисс Бэйли.
Салли не обратила на это внимания, потому что ее поразило, как много здесь картин. И наброски пером и чернилами, и карандашные зарисовки, и жанровые сценки мелками, и акварели, и плакаты, трафареты, оттиски – плохие, грубые, сделанные, очевидно, картошкой, – и даже две-три картины маслом. Масляные краски и холсты, виновато вспомнила Салли, украдены из школьной художественной мастерской. Почти все остальное намалевали на машинописной бумаге, стянутой из школьной канцелярии. Но одна-две картины были на хорошей плотной бумаге. Это пробудило у Салли смутные воспоминания о скандале по поводу бумаги для машинописи и масляных красок. Она вспомнила, как Сам рычал: «Мне придется заплатить за каждый волосок каждой кисточки, которую вы украли, свиньи!» На смену этому пришло воспоминание о том, как Филлис, безнадежно усталая и кошмарно здравомыслящая, говорит: «Вот что, я дам вам фунт стерлингов на всех, чтобы купить бумаги». Судя по всему, много бумаги на фунт не купишь.
Предполагалось, что это выставка. За углом, где ванная, Салли обнаружила сначала кнопку электрического звонка с табличкой «SOS», а потом объявление: «На выставку – сюда». Объявление было подписано: «Салли». Но у Салли не было ни проблеска воспоминаний о том, как она его писала. Как же так? Она немного поглядела на надпись в полном смятении, а потом подумала, что объявление, наверное, написано совсем недавно, возможно, в самом начале каникул, а события нескольких последних дней ей, похоже, особенно трудно вспомнить.
Она проследовала по стрелкам, которые сама же развесила на стенах, и проплыла сквозь кровати и кресло, чтобы как следует рассмотреть рисунки. Шарт подписала все свои творения размашистым «Шарлотта» с вензелями. Имоджин подписала некоторые свои – но не все – аккуратным «И. Мелфорд». Салли не понимала, какие из оставшихся нарисовала Имоджин, а какие – она сама; а может быть, и никакие. Были еще три работы с пометкой «У. Г.», в том числе одна картина маслом, и несколько – с одинокой буквой «Н» вместо подписи. Рисунки Н так и прыгали на тебя из рамы, хотя рисовать Н никто не учил. В частности, Н принадлежал портрет Оливера – плохой рисунок плохого рисунка. Но при этом Оливер вышел прямо как живой.
– Я попросту ничего из этого не помню! – сказала Салли.
Вид на деревенскую лавку, неподписанный. Сухие вязы с кляксами грачей – тоже неподписанные. Восхитительно унылый пейзаж из сна Шарлотты. Шарлотта обожала фантазии на траурные темы: мимо руин замка в бурю проносят гроб, монахи в клобуках зарывают клад, а на одном особенно леденящем душу рисунке серая толстая тварь, похожая на личинку мухи, вздымалась из пелены тумана на лугу. Салли содрогнулась и поскорее поплыла прочь от этой картины. А Имоджин, наоборот, писала, похоже, в основном с натуры: этюды цветов, пшеничные поля, тщательно прорисованная карандашом кухонная раковина, загроможденная грубой фаянсовой посудой. Имоджин в своем репертуаре.
В эту минуту снизу как раз донесся голос Имоджин:
– Шарт, я обязана смотреть в лицо фактам. Даже если они неприятные. Я не закрываю глаза на действительность.
– А почему, собственно? – сердито спросила Шарт. – По-моему, жизнь и так постоянно обрушивает нам на головы достаточно всяких неприятных фактов – зачем искать еще и смотреть им в лицо? На некоторые вполне можно закрыть глаза.
– Как же ты не понимаешь? Это же вопросы Истины и Искусства! – провозгласила Имоджин. В ее голосе зазвенели явственные нотки истерики.
Салли вздохнула и переместилась к следующему рисунку. И засмеялась. Оливер, судя по всему, ее услышал. С нижних ступенек донесся его густой рык. И пускай себе рычит – Салли было так смешно, что не остановиться. Подпись под рисунком гласила: «А Фенелла нарисовала только этот кошмар». Этот рисунок был ужасной издевательской перепутаницей всех остальных. Небрежно нарисованный Оливер с рисунка Н нюхал монаха в клобуке кисти Шарт, а тот, спасаясь от него, бежал мимо звездолета У. Г. к раковине Имоджин с горой посуды, а там… Салли обнаружила, что этот рисунок она прекрасно помнит. Там была крупно нарисована женская фигура – фигура матери – в жеманной позе, простирающая обе руки к раковине.
– Вот поросенок! Перевела чужие рисунки на кальку! – сказала Салли.
Портрет матери висел следующим. Мать тянула руки, но не к раковине, а к толстому жеманному младенцу. Салли помнила, как сама это рисовала. И вышло отвратительно. Ей стало стыдно, что картина такая скверная. На лицах приторные улыбочки, колорит жидкий, неверный, фигуры вялые и плоские. Мать – будто бессмысленная гусеница с хорошеньким личиком наверху. Салли даже вспомнила, как они с Шарт поругались из-за картины.
– Ой, не надо ее вешать, умоляю! – кричала Шарт. – Они жирные и пошлые! Полнейшее фу!
А Салли кричала в ответ:
– Сама ты полнейшее фу! Ничего не понимаешь в нежных движениях души! Боишься чувств – вот в чем твоя беда!
В каком-то смысле это была правда – про Шарт. Тело у Шарт было большое и расплывчатое, зато свой разум она держала под семью замками. И не пускала туда ничьих диких зверей, хотя своих охотно выпускала наружу при случае. Поэтому от Саллиных разговоров о нежных движениях души Шарт мгновенно озверела.
– Да подавись ты своей сентиментальной белибердой! – взревела она и погналась за Салли по спальне, размахивая вешалкой.
Примерно то же самое Шарт говорила сейчас рыдающей Имоджин, хотя тон был гораздо мягче:
– Ну правда, Имоджин, по-моему, ты все это выдумываешь из ничего.
– Совсем нет! Что проку от записки? Разве какие-то буквы могут предотвратить крах моей личности?! – театрально воскликнула Имоджин.
– Ой, – сказала Салли. Она и забыла, что ищет записку.
В ее несуществующей голове, похоже, больше одной мысли зараз не умещалось. Просто кошмар. Внимание стало как узкий луч фонарика.
Где искать, было сразу понятно – в старой конторке, втиснутой в угол. Ее расчистили ради выставки и расставили на ней картины. Но внизу у нее было четыре ящика – по одному на каждую из сестер. Открыть ящики Салли, конечно, не могла, но в ее положении этого и не требовалось. Она зависла перед конторкой и сунула лицо в верхний ящик.
Это был ящик Шарт. Внутри было темно, но в замочную скважину (и сквозь Салли) падал свет, поэтому Салли все видела. Видеть было нечего. Шарт расчистила ящик одновременно с конторкой. Теперь Салли вспомнила, как она это делала.
Шарт тогда сказала:
– Пора мне попрощаться с детством.
– Гадина напыщенная, – припечатала Фенелла.
Тем не менее Шарт все выбросила – и коллекцию марок, и пальмовое волокно для плетения, и пластилин, и старые рисунки, карты и списки королей ее воображаемой страны и неприличные стишки об учителях – и оставила только учебники и тетради.
– Мне на следующий год экзамены сдавать, – напомнила она сестрам. Они сразу поняли, как это важно.
Правда, одна тетрадка из «детских» все же уцелела. Она лежала на груде Саллиного имущества, как обнаружила Салли, когда сдвинулась лицом на ящик ниже. Тетрадка была бледно-зеленая, с надписью «Книга служения Мониган». Должно быть, она тут очутилась, потому что Салли выклянчила ее у Шарт. Салли смутно захотелось вспомнить, что же там, в тетрадке, но не вышло, а открыть ее было совсем никак. Что же касается всего остального, Салли невольно воскликнула:
– Чего ради я храню весь этот хлам?!
Если бы только могла, она бы сейчас, по примеру Шарт, выбросила все это. Карандаши, ручки, ножницы еще на что-то годились, но зачем она хранила шесть порванных ниток бус и половину картонного пасхального яйца? Что здесь делает розовый морской камешек рядом с чьим-то старым носком? Чья это пуговица, аккуратно завернутая в фольгу? И кому нужна коллекция старых куриных перьев?
Ни следа записки во всем этом не было. Бумажка обнаружилась только одна – рисунок, который Салли нарисовала в шесть лет, теперь весь исписанный счетом какой-то карточной игры. Играли О, Н, Д и С. Д выиграл все раздачи.
Салли опустилась ниже, чтобы засунуться в ящик Имоджин. Он был набит нотами для пианино, да так плотно, что Салли толком ничего не разглядела, кроме верхнего слоя. Чем ниже она опускалась, тем темнее становилось. Но и так было ясно, что ящик посвящен призванию Имоджин.
– Не быть мне музыкантом! – ныла в это время Имоджин.
– Если ты называешь это «глядеть в лицо действительности», я пошла, – сказала Шарт.
– Мне кажется, ты не веришь в Истину, – укорила ее Имоджин. Хорошо хоть рыдать перестала.
– В нее трудновато не верить, не находишь? – ответила Шарт.
Сестрицы как они есть, подумала Салли. Шарт вечно отгораживается, застегивается на все пуговицы, все на свете вышучивает и ни капельки не верит в переживания Имоджин – хотя тут Шарт можно понять, признала Салли. Очень уж они масштабные и неизбывные.
Ящик Фенеллы был набит куклами – грязным ворохом кукол – и остатками нескольких кукольных сервизов.
Салли была даже тронута. Фенелла тоже по-своему убрала все детское. Она больше не играла в куклы, но выбросить их было выше ее сил. Поверх лежал клочок бумаги. «Стихи, – значилось на нем. – Фенелла Мелфорд».
У меня три злые сестрицы. Им бы мальчиками родиться. Все кричат и визжат, на пианино бренчат, А мне ничего никогда нельзя.Эти стихи она написала в школе. Учительница написала внизу: «Фенелла, стихи должны отражать твои более глубокие чувства». А Фенелла под этим написала: «Вот и отражают».
– Нет, здесь ничего нет, – сказала Салли.
Вылетела из конторки и проплыла над самым полом лицом вниз, разглядывая узоры вытертого ковра. Он был похож на клочковатую шкуру Оливера, только весь в оранжевых треугольничках. Имоджин терпеть не могла этот ковер. Говорила, что он оскорбляет ее чувство прекрасного. После этого Фенелла прозвала его Коварным ковриком – мол, лежит себе паинькой, а чувства-то оскорбляет.
Записка должна была где-то быть. Теперь Салли точно знала, что она была. Всплыла выше, примерно на свой обычный рост, и замерла, нацелив внимание-фонарик на мусорную корзину у конторки. Корзина была битком набита бумагой, даже через край.
– Ага! – сказала Салли.
И в волнении нырнула в корзину, будто пловчиха. А там, на самом верху, торчал вбок листок голубой писчей бумаги, исписанный округлым неровным почерком, который вполне мог быть ее, Салли.
«Дорогие родители! – прочитала она. – Когда вы это прочитаете, я буду уже далеко».
И больше ничего – только наспех намалевана карикатурная рожица. Салли догадалась, что, наверное, нарисовала ее, пока думала, что еще написать. После чего, естественно, ей пришлось взять другой листок. Значит, где-то есть настоящая записка.
– Но куда я собиралась? Что я делала? – лихорадочно соображала она.
И в отчаянии сунула лицо в кучу бумаги. Слава небесам! Там нашлась другая записка, на сей раз – на бумаге в розочках.
«Дорогие родители! Довожу до вашего сведения, что я реши…»
Да что же она решила? Украсть фамильные ценности? Погостить у друзей? Или просто решилась ума? Салли понятия не имела. Но под первым листком в розочках нашелся и второй.
«Дорогие родители! Не хочу вас пугать. После долгих размышлений я пришла к выводу, что здешняя жизнь мало что мне даст. Я вынуждена…»
– Похоже, я собиралась сбежать из дома, – сказала Салли. – Только деваться мне было некуда. Обе бабушки живо отправили бы меня обратно. Ну почему я больше ничего не написала? А, вот еще листок.
«Дорогие родители! Моя жизнь кончена, и к тому же мне грозит опасность. Я должна предупредить…»
От потрясения Салли выдернула голову из корзины и зависла над ней, будто пловчиха в воде, вглядываясь в бумаги. Значит, ей грозила опасность. Тогда понятно, почему у нее все время такое чувство, будто с ней случилась беда, но непонятно, откуда берется чувство, будто что-то пошло не так. И что за опасность, с какой стороны? К тому же теперь она видела, что весь верх корзины завален той же самой писчей бумагой в розочках. Похоже, Салли целую пачку извела, пытаясь объяснить Филлис и Самому непонятно что. Может, если прочитать все черновики, вместе они подскажут ей, что случилось. Она снова уткнулась лицом в корзинку. Но ничего не выходило: листки были утрамбованы так плотно, к тому же одни лежали косо, другие – вверх ногами, третьи были скатаны в комки, четвертые порваны пополам – и все до того перемешано со старыми рисунками и хламом, который выбросила Шарт, что бесплотные глаза Салли ничего толком не могли различить. Все, что она сумела прочитать, было просто вариациями на темы первых четырех. К тому же чем глубже, тем становилось темнее, и под первыми четырьмя слежавшимися слоями ничего было не разобрать. Салли уже готова была вынырнуть из корзины и сдаться, как вдруг по чистой случайности ее взгляд упал на большой лист бумаги, засунутый в корзину сбоку торчком. Наверху было ее почерком выведено уже знакомое «Дорогие родители», а вот следующая строчка, к вящему недоумению Салли, была написана уже другой рукой, скорее всего Шарт. Почерк у Шарт был ровный, аккуратный, ни с чьим не спутаешь.
«Мы думаем, Салли плохо кончила».
Ниже была строчка колючим почерком со злобными черточками над «т» – это, конечно, писала Имоджин. Салли подняла голову, отплыла подальше, потом снова поближе, прямо сквозь корзинку и бумагу, чтобы не-глаза оказались у самого листка. Тут был желтоватый густой сумрак – еле-еле видно буквы.
«Ее постель не смята, и мы не видели ее со…» – написала Имоджин. Больше ничего в темноте было не разглядеть. Насколько Салли могла судить, Шарт и Имоджин писали по очереди, по строчке, и исписали всю страницу, от желтовато-бурого сумрака в ночную черноту. Страшно раздосадованная, Салли выплыла из корзинки и зависла над ней.
– Мне обязательно нужно дочитать эту записку!
Внизу поднялся какой-то шум. Похоже, Шарт сумела успокоить Имоджин, но потом ту снова охватили страдания, будто лесной пожар, который неукротимо заполыхал и заревел уже на новом месте, – с Имоджин вечно было так, и это безумно раздражало.
– Как же ты не понимаешь: ведь что, если эти трудности для меня только предлог, чтобы закрыть глаза на истину! Я за ними прячусь! Да-да, так и есть!
– Ладно тебе, Имоджин, – утешала ее Шарт. – По-моему, ты зря себя изводишь.
– Да помолчи ты! – закричала Салли. – Имоджин обожает страдать. Ее не жалеть нужно, а встряхнуть хорошенько! Жалеть надо меня!
Она в ярости бросилась в набитую мусорную корзинку. Проскочила насквозь и обнаружила, что смотрит на обои за ней. Но Салли преисполнилась такой решимости, что отлетела назад и снова промчалась сквозь корзинку – и еще раз, и еще. Она по-прежнему пролетала бумагу насквозь, но корзинка все-таки закачалась, пусть и еле заметно. Мусор в ней шуршал и постукивал: бум, вжих, шурх.
– Отлично! – сказала Салли.
И снова бросилась сквозь корзинку. Бумага так громко зашуршала, что Оливер опять принялся рычать. Зато Салли поняла, что произвела на корзинку некоторое впечатление.
– Просто надо постараться, – сказала она. – Без труда не выудишь и рыбку из пруда. Значит, я все-таки состою из чего-то. Я не просто ничто. Вероятно, я состою из того живого вещества, которое окружает мальчиков. Так и буду считать.
Салли представила себе, какая она сильная, шуршащая, гибкая, напористая, и снова ринулась вперед. Вжих, шурх, шурх…
Получилось. Она не прошила корзинку насквозь, а отскочила от нее. Корзинка, которая и так уже шаталась, качнулась вбок, опрокинулась и тяжко грохнулась, засыпав бумажками весь Коварный коврик.
Оливер зарычал громче – снова будто мотоцикл завелся.
Голос Имоджин, густой и сиплый от рыданий, проговорил:
– Это еще что?
– Наверное, в спальне опять мышь, – ответила Шарт.
– Фу! – сказала Имоджин. – Отправь Оливера наверх.
– Не пойдет, – сказала Шарт. – И вообще, с мышами он только дружит.
Салли все парила и парила над рассыпанными бумагами. Получилось у нее плохо. Драгоценная записка осталась в ведре, зажатая между другими бумажками, и теперь лежала лицевой стороной к полу. А Салли, как выяснилось, больше не могла подобраться к ней и прочитать. Она внушила себе такую силу и напористость, что теперь от всего отскакивала. Не могла пробиться дальше той записки, которая лежала сверху. Секундочку! Записка сверху была написана почерком Фенеллы: «Дарагие родители! Мы убили Салли и избавелись от трупа. Вот ришили вам сказать. Вы следыющие парадству. С любовью, Фенелла».
– Что?! – воскликнула Салли. – Они не могли! Не может быть! Они бы не смогли! Значит, я все-таки вернулась отомстить!
Внизу появилась Фенелла собственной персоной:
– А, Имоджин все страдает? Я стибрила четыре булочки к чаю.
– Для Салли могла бы и не тибрить, – сказала Шарт.
– Еще бы! Конечно! – неслышно закричала Салли.
– А я не для нее. Я сама две съем, – сказала Фенелла. – А чего это Оливер рычит на лестницу?
– Там наверху мышь, – по-прежнему сипло ответила Имоджин.
– Ладно, пойду поймаю, – сказала Фенелла.
Это для Салли было уже слишком. Едва она прочитала записку, как в ней снова раздулся воздушный шар от злости и страха. А теперь злость и страх захлестнули ее, растворили, вытолкали сквозь стену, через поле, и она полетела, кружась и вертясь в воздухе, неведомо куда.
IV
После этого Салли, наверное, целый час была снова как в тяжелом сне, даже хуже прежнего. Она оказывалась то там, то сям, но совсем не представляла себе, как туда попала и что с ней было в промежутках. Поскольку каждый раз, стоило ей опомниться, кругом все звенело от мальчишеского бормотания, она решила, что по большей части оставалась в школе. Сначала она очутилась среди самых маленьких мальчиков, которые стояли в очереди за чем-то, и у каждого в руках было по липкой коричневой булочке. Потом оказалась в унылой комнате, серой, гулкой от простора, где сидели и что-то писали два-три серых, унылых мальчика. Их оставили после уроков в наказание. Был там и Сам, серый, как гранит. Он сидел и проверял тетради. Салли немного повисела в воздухе возле него, размышляя над тем, ненавидит ли он оставаться после уроков так же, как и мальчики. Лицо его было мрачнее тучи. Волосы на затылке – тоже серые, как железо, – топорщились, и это напомнило Салли встопорщенные перья на груди серого, как железо, орла, который нахохлился на насесте, прикованный за ногу цепью.
– Простите, сэр… – спросил из дальней дали унылый мальчик.
– Ну что еще, Перкинс?
Рука Самого с красной шариковой ручкой проворно вычеркивала слова – чирк, чирк. Написала на полях: «Подойти ко мне».
– Мне надо в туалет, сэр, – сказал мальчик.
– Вы ходили туда пять минут назад.
Шлеп! – Сам захлопнул тетрадь. Шлеп! – отправил ее в стопку проверенных. Шлеп! – положил перед собой следующую.
– Да, сэр. У меня слабый мочевой пузырь, сэр.
«Чирк, чирк» – вычеркивал Сам. Поставил галочку.
– Превосходно. – Орлиное лицо поднялось и уставилось на мальчика, успевшего привстать. – Можете выйти, Перкинс, однако вы должны отдавать себе отчет, что за каждую минуту, проведенную вне этой комнаты, вам придется провести в ней полчаса. Ступайте.
– Да, сэр. – Мальчик помедлил и сел обратно.
Ему нужно было пройти из конца в конец два длинных коридора, а потом еще вернуться, не считая времени в промежутке. Это означало бы еще три часа в наказание, даже если бежать бегом. По лицу мальчика было видно, что он разозлился.
Сам опустил клюв и поставил еще три стремительные галочки. Легкое движение под железной кожей на его щеке показало, что он удовлетворен. Он наслаждался происходящим. Обожал выявлять попытки сжульничать. Салли поняла это – и не решилась привлекать его внимание.
Прошло еще какое-то время, полное смутного звона, и она очутилась в теплой коричневой комнате с толстым коричневым линолеумом на полу. В этой комнате стояла железная кровать, белый шкафчик с красным крестом на дверце и письменный стол. За столом сидела Филлис, а перед ней вытянулась очередь из мальчиков. Филлис скрутила крышечку с пузырька и дала маленькому мальчику таблетку.
– Возьмите, Эндрю. Охриплость не прошла?
Мальчик запрокинул голову, выпятил грудь и несколько раз глубоко, сипло вздохнул. Похоже, ему было трудно дышать.
Филлис ласково улыбнулась – ангел справедливости.
– Хрипов нет, – сказала она. – Завтра приходить не нужно, Эндрю. Ну что, Пол, как ваш нарыв?
Эндрю испарился, на его место ступил крупный мальчик с красной припухлостью над губой. Филлис подняла ласковую, прохладную руку и потрогала нарыв. Высокий мальчик скривился.
– Пожалуй, завтра покажем его школьному врачу, – сказала Филлис. – Подождите здесь немного – я дам вам мазь. Теперь вы, Конрад. Давайте взглянем на ваш палец.
Мама сейчас очень занята, виновато подумала Салли. Нельзя ей мешать.
Еще через некоторое время она обнаружила, что снова очутилась рядом с Самим. Он шагал по коридору в окружении толпы мальчиков. Один из них нес металлоискатель.
– Говард, мы не будем применять его, если у нас не возникнет сомнений, – говорил Сам. – Всем известно, какой невосполнимый урон археологии нанесли неоправданное применение металлоискателя и еще более неоправданные раскопки. Мы должны проявить ответственность. Грир, вы ведь пометили нужное место?
Один из мальчиков заверил его, что да, пометил. Сам ускорил шаг, оживленно болтая на ходу. Он был как вихрь – это на него иногда находило: пальто развевалось позади, будто крылья, оно словно притягивало и увлекало всех встречных, такое радостное волнение охватило Самого. Даже помолодел, с нежностью подумала Салли.
– Кто знает, что это может быть? – сказал Сам. – Вероятно, пушечное ядро. Несомненно: ведь наша Школа стоит на территории бывшего поместья Манган, где войска Кромвеля во время Гражданской войны осаждали роялистов. Возможно, мы натолкнулись на их лагерь. Да, – сказал он, когда они протопали за дверь, вихрем увлекая Салли за собой, – я однозначно голосую за пушечное ядро как за самое вероятное.
Они очутились снаружи, в золотисто-зеленом свете раннего вечера. Спортивное поле тянулось к дальним деревьям в легкой белой дымке, плоское, как озеро, блестящее, как вода. Звонкое бормотание школы вдруг осталось далеко позади.
– Нельзя исключать и возможность, что это что-то более раннее, – продолжал Сам, вихрем вырвавшись на зеленый простор. – Здесь у нас неподалеку несколько древнейших британских поселений, но я сомневаюсь, что там много металла. Скорее, металл остался со времен римского владычества. Должен сказать, я не прочь раскопать тайник с римскими монетами. Подобные случаи юристы называют «найденный клад». Ну-ка, мальчики, кто из вас знает закон о найденных кладах?
Салли приостановилась. На открытом зеленом пространстве ей снова стало не по себе. Несмотря на спешащую толпу вокруг, она была беззащитна. И испугалась, что растает. К тому же Сам был по-прежнему очень занят.
– Разумеется, – говорил он, вихрем увлекая всех прочь от нее, – нельзя списывать и возможность полного провала. Это может оказаться склад банок от кока-колы.
Салли стушевалась обратно в звенящую, бормочущую школу. Теперь здесь витал сильный запах мясной подливки из кухни. В сторону кухни спешила Филлис в сопровождении женщины в белом комбинезоне и с мятой сигаретой на нижней губе.
– Конечно, миссис Джилл, поступайте, как считаете нужным, – говорила Филлис. – А у нас не осталось банки зеленого горошка, чтобы сдобрить еду?
Мятая сигарета колыхнулась.
– Еще на той неделе все кончилось, – сказала облаченная в белое миссис Джилл. – Вы заказали еще, миссис Мелфорд? Если нет, я себе не представляю, чем накормить Курсы для неблагополучных.
– Завтра закажу, – сказала Филлис.
Бум! – закрылась за ними блестящая дверь, выпустив облако запаха подливки.
Еще занята, сообразила Салли, тяжело парившая в коридоре. Но вскоре она уже твердила себе:
– Все равно нужно, чтобы они меня заметили! Мне надо сказать им, что я, по-моему, погибла. Мне кажется, это важно. Уж точно важнее пушечных ядер и зеленого горошка. Родители имеют право волноваться за меня.
Короткий дребезжащий звонок – и громкий дробный топот и неукротимые волны запаха подливки стянулись под высокий коричневый потолок в большую комнату, уставленную столами. Все так рвались туда, что Салли тоже стянуло. А потом повисла тишина, потому что все примолкли. Сам поднялся и сказал: «Господи, преисполни нас благодарности за то, что мы сейчас получим. Аминь». И снова у него была другая манера держаться: он стал больше похож на священника. Голос Самого пропел эти несколько слов, будто органную музыку. Задвигались стулья. Застучала посуда. Загремели голоса – и Филлис и Сам снова увлеклись беседами с мальчиками за своими столами.
Салли начала терять терпение. Она тоже попробовала чем-нибудь постучать, запорхала и закружилась сначала вокруг Самого, потом вокруг Филлис.
– Посмотрите на меня! Обратите на меня внимание! Это Салли. Это Салли, и я МЕРТВАЯ!
– Передайте, пожалуйста, соль, – попросил Сам Пола с прыщом.
Пол смутился и торопливо сунул мистеру Мелфорду солонку.
Филлис между тем рассмеялась:
– Джулиан, объясните Неду, что у него ничего не получится. Это невозможно.
– Сдаюсь, – сказала Салли. – Нет, не сдаюсь. Они обязательно потом заглянут в спальню, проверят, как мы. Тогда я и заставлю их заметить меня. А до этого буду ИЗВОДИТЬ своих мерзких сестриц. Напугаю их до икоты.
С этой мыслью она метнулась обратно к обтянутой зеленым двери. В эту дверь как раз входила Имоджин. Она распахнула ее при приближении Салли, и они вместе с Салли ворвались в коридорчик за ней. Там Имоджин наступила на штанину своих желтых брюк, ввалилась в кухню и рухнула на пол.
– А теперь что тебя подкосило? – спросила Шарт.
Они с Фенеллой стояли у кухонного стола и явно чего-то ждали. Стол был накрыт на троих.
Имоджин приподнялась на локтях и кисло ответила:
– Да ничего особенного. Нам опять забыли оставить ужин. Только и всего.
Настала тишина. Имоджин так и лежала на полу, Шарт с Фенеллой стояли с пришибленным видом. Никто будто бы и не видел в таком повороте ничего странного. Более того, Салли точно знала, что удивляться тут нечему. Такое случалось сплошь и рядом.
– Не буду пока их изводить, – решила она. Очень уж хорошо она понимала, каково им сейчас.
Глаза лежавшей на полу Имоджин стали круглые и мокрые.
– Это последняя капля. – Голос ее срывался. – По-моему, я просто умру от голода, вот и все.
Шарт с Фенеллой бросились к Имоджин и рывком подняли ее с пола.
– Ой, Имоджин, только не начинай опять рыдать! Нам ведь приходится тебя слушать! – сказала Шарт.
– Пойду-ка я в кухню. – Голос Фенеллы не сулил ничего хорошего.
Салли так и знала, что этим кончится. Обычно именно Фенелла вела переговоры со Школой, когда им нужно было чего-то добиться. И поскольку Салли больше не могла выносить Имоджин с ее страданиями, то отправилась с Фенеллой. Фенелла прошагала по коридорчику, распахнула зеленую дверь и зашагала к серебряной. Бум! Фенелла отпустила блестящую дверь – та захлопнулась у нее за спиной, – застыла на месте с многозначительным видом и стала ждать, когда ее заметят.
Школьная кухня была жаркая, узкая, длинная – белая эмаль, блестящие краны, сальный черный пол. В клубах пара у раздаточного окошка стояли три женщины в белом. Они только что поужинали, как показывали три тарелки со следами подливки, которую выскребли ложками, и пили чай из белых фаянсовых чашек. Женщины громко смеялись и не слышали, как грохнула дверь. Однако Фенелла не шевелилась. И вообще, насколько видела Салли, ничего не предпринимала, но каким-то образом становилась все заметнее и заметнее. Ядовито-зеленый мешок делался все ядовитее, кроличьи зубы все крупнее, и вот уже вся она – и растрепанные темные кудри, и мушиные коленки – заполнила весь ближний конец кухни своим мрачным, мстительным ожиданием. Салли искренне восхитилась. Такой уж у Фенеллы был дар.
Две секунды спустя мятая сигарета миссис Джилл раздраженно повернулась в ее сторону.
– Тебе уже тысячу раз говорили не приходить сюда и не отрывать нас от работы, – процедила миссис Джилл.
Фенелла просто стояла и смотрела на нее.
– Я пожалуюсь твоей матери, – пригрозила миссис Джилл.
Поставила чашку и бросилась к кастрюле, в которой булькал заварной крем, чтобы показать, как у нее много дел.
Тогда Фенелла заговорила – гулко и оглушительно:
– А я пришла. – Да уж, подумала Салли, такое чувство, что это Фенелла, а вовсе не Салли решила всех пугать и изводить. – Я пришла, потому что нас опять не накормили ужином.
– И нечего так на меня смотреть! – бросила в ответ миссис Джилл. – У меня и без того хлопот полон рот – не хватало еще бегать за четырьмя взрослыми девицами, которые могли бы и сами о себе позаботиться. У вас там своя кухня есть. Вот сами себе и готовьте. Я в твоем возрасте…
Фенелла ледяным тоном перебила:
– У нас в кухне нет плиты.
– Так поставьте! – ловко парировала миссис Джилл, будто мяч отбила. – Пусть ваша мать попросит, чтобы вам поставили плиту, и тогда…
– За наш ужин заплачено, – сказала Фенелла. – На сегодня.
– А я-то тут при чем? – взвилась миссис Джилл. – Не мое дело, кто кому за что заплатил! Я тут просто повариха. И вообще, не понимаю, как мне всех кормить из тех запасов, которые закупает твоя мать! Что она только себе думает?
Остальные женщины опасливо косились на мрачную Фенеллу и, похоже, считали, что миссис Джилл требуется подкрепление.
– Лапочка, даже мяса на всех толком не хватило, – сказала одна.
– И овощи кончились. Нам пришлось положить замороженные, – подхватила вторая.
Фенелла им улыбнулась. Зрелище было кошмарное. Как будто лицо у нее треснуло пополам.
– Ничего страшного. Зато у вас будут брать интервью по телевизору, когда мы перемрем от голода.
Женщины переглянулись. Ничего себе!
– Ой, да ладно! – рявкнула миссис Джилл. – Погляжу в холодильнике – может, что-то и осталось. Хлеб и сыр возьми вон там, в шкафу. И я дам вам немного заварного крема, так уж и быть.
Миссис Джилл заметалась между шкафчиками и холодильником, загремела мисками и тарелками. Фенелла молча стояла и принимала все, что предлагала миссис Джилл. И в итоге набрала в два раза больше, чем обычно полагалось им на ужин, и еще миску заварного крема в придачу. Вскоре ее костлявые руки обхватили столько провизии, что она еле могла ее унести.
– Спасибо, – молвила она наконец. Это прозвучало царственно.
– Не понимаю, почему тебе сестра не поможет, – проворчала миссис Джилл, снимая с плиты кастрюлю с кремом. – Она в два раза тебя крупнее.
Фенелла прижала подбородком кусок сыра, чтобы не упал. И коротко и остро взглянула на миссис Джилл из-под закрученных в узлы волос.
– Если вы про Салли, то она умерла, – сказала она.
Миссис Джилл разинула рот – сигарета прилипла к нижней губе. Развернулась с кастрюлей в руках. В упор уставилась на Салли, которая висела в воздухе рядом с Фенеллой. Отвисшая челюсть окаменела, рот стал квадратный.
– АААААааааа-а-а! – завизжала миссис Джилл протяжным затихающим визгом, будто падала в пропасть, и уронила кастрюлю.
Крем разлетелся в стороны. Длинные желтые капли и брызги прошили Салли насквозь, заляпали мушиные ноги Фенеллы, растеклись по полу кухни до самой блестящей двери. При виде этого остальные две женщины тоже завизжали.
– Какой ужас! – обрадовалась Фенелла. – Вот досада!
Она повернулась и двинулась к двери, слегка поскальзываясь в ручье крема. Толкнула дверь: бум! Салли нырнула следом.
Миссис Джилл за дверью завизжала с новой силой:
– Ой, только поглядите! Сквозь дверь прошла! Вы вииииидели? Прямо сквозь двееееерь!
Ее было ясно слышно и за зеленой дверью, когда Фенелла протиснулась в нее, бережно придерживая охапку провизии. Имоджин и Шарт бросились ей навстречу.
– Ой, как здорово! – воскликнула Шарт при виде еды. – А что за вопли?
– Какая ты умница, Фенелла, – похвалила Имоджин. – А кто кричит?
– Миссис Джилл, – ответила Фенелла. – Облила меня кремом. По-моему, она психическая.
– В каком смысле? – спросили сестры.
– Ну, психиатрическая, – сказала Фенелла: она вечно путалась в трудных словах. – Психопатическая. Ну сами понимаете.
Она осторожно подошла к столу и сгрузила на него свою охапку. Шарт подхватила миску консервированных помидоров, которая едва не съехала на пол. Имоджин поймала кусок сыра, который вывернулся из-под подбородка Фенеллы.
– А случилось-то что? – не отставали они.
– Она подумала, что я привела Салли, – сказала Фенелла.
Ни Шарт, ни Имоджин не проявили ни малейших угрызений совести. Они рассмеялись: Шарт от души, Имоджин – сквозь слезы.
– Но Салли здесь нет! Что ты имеешь в виду, Фенелла?
Фенелла никогда не могла ничего толком объяснить. Как-то раз она призналась Салли, что просто не умеет. Она отлепила ломтик отварной солонины от холодной яичницы и изо всех сил постаралась втолковать сестрам, как все было.
– Она подумала, что Салли – призрак, и расплескала по полу весь крем.
Имоджин растерялась:
– Я не знала, что крем изгоняет призраки.
Шарт тоже растерялась:
– Не может же быть, чтобы Салли стала призраком.
– Да нет, может, – сказала Фенелла. – Ты на Оливера посмотри.
От запаха съестного Оливер проснулся и снова обнаружил, что Салли здесь. Тяжело поднялся, рокоча и роняя слюни, и подвальсировал к столу с видом довольно грозным.
– Он не сможет меня укусить, даже если захочет! – испуганно напомнила себе Салли.
– Ходит, как верблюд, – заметила Имоджин. – Болтает лапами в стороны.
– Это у него врожденное уродство, – ответила Шарт. – По-моему, он просто проголодался.
– Маразматик, – сказала Фенелла.
Оливер под шумок провел носом над столом и снова проделал свой фокус с магнетизмом. Умолк на мгновение, чтобы проглотить, и опять зарычал.
– Нечестно! – сказала Фенелла. – Я тут почти ничего не люблю, кроме холодной яичницы!
Шарт отпихнула нос Оливера и начала выбирать еду для него. К холодной жареной картошке и консервированным помидорам ей пришлось добавить четыре банки собачьего корма. Оливера было трудно прокормить. Когда Шарт поставила ему на пол тарелки, это, похоже, несколько примирило его с присутствием загадочно переменившейся Салли. Рычание утихло. Задний конец Оливера мирно заколыхался, а расплывчатый по контурам передний конец деловито склонился, чтобы немного повозить тарелками по полу. Остальные уселись втроем за ужин. Салли завистливо наблюдала за ними. Не то чтобы она проголодалась, но и перекусить было бы славно, просто за компанию. К тому же ее и вправду раздражало, что Фенелла, перепробовав все, что стояло на столе, согласилась поесть только холодной тушеной фасоли.
– А еще удивляешься, что у тебя так выпирает живот! – сказала Салли Фенелле. – Ты как голодающая дикарка с плаката про гуманитарную помощь!
И точно, дикарка. Салли вспомнила, как Фенелла молилась Мониган и записку Фенеллы: «Дорогие родители! Мы убили Салли…»
– Ну все! Сейчас начну вас пугать и изводить! – объявила Салли.
Салли знала, что бывают такие призраки, которые умеют швыряться всякой всячиной. После успеха с мусорной корзинкой она не сомневалась, что это у нее получится. Потянулась к солонке. К ее удивлению и досаде, ничего не произошло. Снова потянулась. Опять ничего. Она не производила на солонку ни малейшего впечатления. Она даже не смогла пошевелить носовой платок Имоджин, который та предусмотрительно подоткнула под край тарелки на случай, если снова разрыдается.
– Да чтоб вас! – закричала Салли. – Я забыла, как это делается!
На это Оливер отозвался внезапным рыком. С присутствием Салли он, судя по всему, примирился, но криков не одобрял.
– Я вас всех ненавижу! – закричала Салли и заметалась по кухне, скача и вертясь, а потом пристроилась на сушилке.
– А знаете, – заметила Шарт, – если бы Салли была здесь, она как раз дошла бы до той стадии, где она кричит, что нас всех ненавидит.
Салли свирепо уставилась на Шарт с сушилки.
– Погодите у меня, – сказала она. – Меня многие видят. Миссис Джилл, например. И я могу двигать предметы. Погодите – вот придут мама и Сам, и вы все у меня попляшете от угрызений совести!
Она не сомневалась, что родители обязательно придут повидаться с ними, как только закончат все вечерние дела в Школе. И целый час с надеждой смотрела на циферблат на стене. Наконец из Школы донесся звонок и далекий пронзительный гвалт.
«Пора», – решила Салли.
Однако родители не появились. Потом Салли пришлось освободить раковину, потому что Имоджин убрала со стола. Салли совсем не хотелось сидеть на грязных тарелках, даже в бестелесном виде. Она подумала, что, раз Имоджин убирает со стола, это вселяет надежду. Сам бывал крайне недоволен, когда замечал, в какой грязи они живут. Но по виду Имоджин не казалось, что она ждет Самого. Как и остальные сестры. Имоджин наводила порядок неловко и беспокойно, будто чувствовала приближение очередного приступа страданий. Шарт читала. Фенелла лежала на выпяченном животе под столом и плевалась в ноги Шарт жеваной бумагой. И все время промахивалась.
Звякнул засов на входной двери. Салли вскинулась. Оливер тоже. Имоджин повернулась от раковины, Шарт отложила книгу.
– Привет! – весело воскликнула Шарт. – Входите!
В дверь, виновато улыбаясь, проскользнул Нед Дженкинс с бумажным пакетом в руках.
– Мы принесли банку кофе, – сказал он. – Поесть чего-нибудь не найдется?
– Потому что на ужин опять толком ничего не дали, и мы умираем с голоду, – добавил Уилл Говард, проскользнув в дверь следом за ним.
– Да провались вы! – крикнула Фенелла из-под стола.
– Что? – удивился Нед Дженкинс и нагнулся посмотреть на нее.
Фенелла поглядела на него волком:
– Я жевала бумажку, а когда вы открыли дверь, вздрогнула и проглотила ее!
– От бумаги не умирают, – сказал Нед Дженкинс.
– Еще как! – бодро возразил Говард. – Она обворачивается вокруг аппендикса, и ты умираешь в жутких корчах!
Фенелла обожгла его взглядом, сразившим миссис Джилл. На Уилла Говарда это абсолютно не подействовало.
– Вас там еще сколько? – процедила она. – Не буду жевать бумагу, пока вы все не войдете.
– Скунс по уши закопался в физику, – ответил Нед, почесывая Оливеру спину бумажным пакетом. – Грир, Ренн и Шепперсон скачут в жестяных шлемах и машут мечами. А Полудурку Филберту Говард сказал, что мы сегодня сюда не идем…
– Почему? – спросила Фенелла.
– Потому что Филберт – псих, – тепло улыбаясь, ответил Говард.
– Но мы вам рады, – любезно сказала Имоджин.
Прозвучало это так снисходительно, что Говард наклонился, заглянул под стол и шепнул Фенелле:
– Это твоя сестра так нас приветствует или намекает, что у меня носки воняют?
– А ты и правда дурак, – припечатала Фенелла.
Нед Дженкинс смущенно проговорил:
– Сейчас еще Джулиан придет. Он забежал к Перри за плюшками.
Шарт, которая как раз включала электрический чайник, обернулась и просияла. Салли поняла, что для нее это хорошая новость.
– Давайте тогда попьем кофе, – предложила Шарт. – Я вроде бы припасла молока, – должно хватить.
– Я тоже захватил сухое молоко, – сказал Нед. – Кстати, а где Салли?
– Ушла к подружке. – Фенелла улыбнулась ему из-под стола. Она была похожа на зеленого гоблина в пещере.
V
Похоже, это был очередной пункт из списка всего, что Салли забыла: что к ним почти каждый вечер приходили в гости мальчишки. Она смотрела, как Имоджин, наступая на штанины, задергивает шторы, хотя еще не стемнело. Не занавесив окна, свет не включали, потому что мальчишки пришли сюда нелегально. Вид и у Неда, и у Уилла был слегка виноватый, и они то и дело переглядывались с усмешкой, будто заговорщики, пока Шарт размешивала кофе в кружках, а Фенелла с большим достоинством вылезала из-под стола. Все расселись за столом с кружками.
Теперь Салли понимала, чьи были рисунки, подписанные «У. Г.» и «Н». Звездолеты рисовал, конечно, Говард. И неудивительно, что у Неда Дженкинса так неожиданно хорошо получилось плохо нарисовать Оливера. Он и правда любил пса. Оливер участвовал в общем веселье – дружелюбно и тяжело перекатывался от одного к другому, – но постоянно возвращался к Неду. Нед каждый раз энергично чесал ему спину, как будто чистил ковер, и тихонько хихикал.
– Этот пес такой до смешного огромный, что меня хохот разбирает, когда я на него смотрю, – сказал он.
– Еще бы. У него с генами не заладилось, и он вырос раза в два больше положенного, – сказала Шарт. – Вообще-то, это должен быть ирландский волкодав.
– Ты уже говорила, – сказала Фенелла. – А почему Филберт – псих?
– Думает, что у него две головы, – ответил Уилл Говард.
Все недоверчиво уставились на него – даже Имоджин, которой не особенно хотелось кофе и вообще все было как-то неинтересно.
– Правда-правда, – заверил их Говард. – Это все началось вчера из-за Скунса. «Эй, Полудурок, – сказал он с совершенно серьезным лицом, – эй, Полудурок, сдается нам, ты не замечаешь свою вторую голову. Мы решили, надо сказать тебе, а то ты забыл ее причесать. Ну и видок у нее». А Полудурок и говорит: «Вы чего? Нет у меня никакой второй головы». – «Нет, есть, – говорит Скунс. – Ты что, так и не заметил за столько лет?» А Полудурок оторопел и говорит: «Если бы у меня было две головы, я бы их видел в зеркало!» – «Да нет, – говорит Скунс. – Понимаешь, та, которая сзади, сзади той, которая впереди». А Полудурок и поверил – он полудурок и есть! И с тех пор примерно раз в минуту резко оборачивается – надеется увидеть вторую голову, пока она не скрылась из виду. Честное слово! Клянусь!
– Все мальчишки чокнутые, – сказала Фенелла.
– Да? – спросил Говард. – Правда? А девочки всегда ведут себя исключительно разумно – например, лежат под столом и жуют бумагу…
Настала пауза, пока Фенелла нацеливала на него свой самый выдающийся свирепый взгляд.
Потом Имоджин, которая была явно не в своей тарелке, выпалила:
– По-моему, это крайняя жестокость и варварство!
Молчание затянулось и стало неловким. Имоджин ни на кого не смотрела. Она сидела, окостенело подавшись вперед и склонив голову под странным углом, будто прислушивалась, и смотрела в свой кофе.
– Имоджин и правда ужасно несчастная! – вырвалось у Салли.
Лицо у Имоджин с ее волевыми ангельскими чертами будто слегка распухло изнутри – от рвущихся наружу слез. Мальчики тоже это заметили. Но они не понимали ее и только смущались.
– Интересно, – сказала Салли, – именно такое лицо было бы у Имоджин, если бы она знала, что я умерла?
– И-мо, не грус-ти! – пропел Говард, силой вернув себе привычную веселую мину. – Я завтра скажу ему, что мы просто пошутили.
Имоджин ничего не ответила. Просто сидела, подавшись вперед, набухшая от слез.
– Честное слово, – сказал Говард.
Имоджин по-прежнему не отвечала и даже не смотрела на него, и тогда он откинулся на спинку стула с деланым вздохом наслаждения и обвел глазами кухню.
– Как приятно окунуться в атмосферу домашнего уюта!
В эту минуту его слова прозвучали несколько саркастично, но Салли понимала, что он говорит искренне. Просто не придумал ничего лучше, чтобы напомнить Имоджин, что он ей благодарен. Это ведь Имоджин предложила, чтобы мальчики приходили к ним в гости. Как-то раз, года два назад, – да, кажется, так – Имоджин нашла в кустах между школьным садом и огородом новенького мальчика, который плакал от тоски по дому. Это и был Говард. И хотя он был на год старше Имоджин, но пробудил в ней материнские чувства. Она привела его в кухню и отпаивала чаем со сгущенкой, украденной из шкафа миссис Джилл, пока Говарду не полегчало.
Назавтра Говард вернулся – и на следующий день, и на следующий, – а когда у него завелись друзья, привел и друзей. Они протоптали в самой середке живой изгороди вокруг сада широкую тайную тропу.
Засов на двери снова звякнул, и сразу все изменилось, кроме печали Имоджин. В кухню, хохоча, вошел Джулиан Эддимен и водрузил на стол пакет с булочками.
– Две стибрил, одну выклянчил, три купил, – похвастался он. – Ну как вам?
– Гениально! – сказала Шарт.
– Что-то я тебя не узнаю. Что они там такого сделали, что ты за три заплатил? – спросил Говард.
– Я только пообещал, что занесу деньги, – ответил Джулиан.
– Ну тогда ладно, – сказал Говард. – Ух ты! Это же пончики с джемом! Мои любимые!
– У Перри по вторникам всегда пончики, – сказал Джулиан. – А иначе зачем я туда ходил, по-твоему? Положись на дядюшку Джулиана. Он ничего из виду не упустит.
– Уберите пакет от Оливера! – закричала Шарт и вскочила со стула, чтобы снова поставить чайник.
Размытый нос Оливера как раз протиснулся поверх плеча Неда, чтобы опробовать фокус с магнетизмом на пончике-другом. Джулиан и Фенелла схватились за пакет, хохоча, и убрали его подальше. Но Нед, похоже, проделал фокус с магнетизмом за Оливера. Салли увидела, как он передал Оливеру через плечо липкий от варенья кусочек, улыбаясь украдкой. Какой он странный мальчик, этот Нед Дженкинс. Вот Джулиан Эддимен никогда ничего не делает украдкой и не стал бы строить рожи и дергать рукой, как Нед в саду.
Салли напрочь забыла Джулиана Эддимена и вспомнила о нем только сейчас. Она сама не понимала, как так вышло. Он был темноволосый и яркий, с такими же черными бровями, как у Фенеллы, и глаза у него были почти такие же синие и сияющие, как у Имоджин, и большой рот с удивительно красными губами, которые словно бы всегда смеялись. Джулиан Эддимен и правда много смеялся. Но прежде всего в нем бросалось в глаза другое: где бы он ни оказывался, он сразу становился главным. Не то чтобы он любил командовать. И дело было не в том, что он учился в пятом классе и был старше даже Шарт. Просто там, где был Джулиан Эддимен, все шло так, как хотел Джулиан Эддимен.
Он и сейчас стал главным – и это вышло само собой. Нед подвинул стул, Оливера спихнули с дороги, и Джулиан Эддимен уселся за стол с кружкой кофе рядом с Шарт и лицом к Фенелле. Он поглядел на Фенеллу и рассмеялся. В этом не было ничего особенного, но Салли поймала себя на том, что смотрит на Джулиана Эддимена и чувствует себя донельзя странно. Когда она смотрела на него, все словно бы дрожало, как будто ее вот-вот снова сметет волной ужаса. Такое впечатление, будто она очень боится Джулиана Эддимена.
– Фенелла, – сказал Джулиан, – у меня обман зрения или ты закрутила волосы в две гульки, как у старой бабки, по одной над каждым глазом?
– Меня тоже так и подмывало спросить, но я сомневался, что это вежливо, – подхватил Говард.
Фенелла с достоинством выпрямилась:
– Так волосы не лезут в глаза. Но раз уж ты спросил, это часть Плана.
– Священного плана природы или еще какого-нибудь? – спросил Говард.
– Плана, который мы разработали, чтобы немножко встряхнуть родителей, – пояснила Шарт. – Мы решили доказать им – и на самом деле еще и Салли, – что они не заметят, если с кем-то из нас случится что-то ужасное.
– Если кто-то из нас умрет! – беспощадно выговорила Имоджин, не поднимая головы.
– Я засеку, сколько времени у них уйдет, чтобы заметить мои гульки, – сказала Фенелла. – Если до Рождества не заметят, погляжу, что будет, если я тяжело заболею.
– Как ты это сделаешь? Выпьешь яду? – рассмеялся Джулиан Эддимен.
Фенелла выпрямилась с еще большим достоинством:
– Я не собираюсь действовать напролом. – Она задрала подбородок. – Лягу в постель, буду стонать и думать, что я бледная.
– То есть притворишься больной? – уточнил Нед.
Фенелла искренне оскорбилась:
– Это не притворство! Когда я болею, миссис Джилл обязана приносить мне обед, а она ругается, что я болею, когда у нее столько работы. Говорит, это все просто психология. Это значит, что все у тебя в голове. То есть когда я думаю, что я бледная, для моей головы это как настоящая болезнь, так ведь?
– А по-моему, это все-таки притворство, – сказал Нед.
Говард весь сник:
– Не знаете вы, как вам повезло, что вы такие независимые. Мне бы так.
– У тебя-то все отлично! – огрызнулась Имоджин. – Приходишь сюда по вечерам и весело проводишь время. Тебе не нужно с этим жить!
Джулиан Эддимен от всего этого заскучал. Салли видела, как он ерзает, хотя старалась на него не смотреть. Ей не нравилось, какое ощущение он у нее вызывает.
– Ладно, хватит, – нетерпеливо вклинился он. – Когда начнем сеанс?
– Что еще за сеанс?! – удивилась Салли.
И тут вся комната, электрический свет, лица, мебель, очертания огромного Оливера, уснувшего у ног Неда, – все затряслось, задрожало и стало отваливаться от Салли.
– Никаких сеансов, нельзя! – закричала она. – Произошла катастрофа!
Все вокруг раскалывалось на узкие, дрожащие вертикальные полоски, будто Салли смотрела сквозь бисерную занавеску. Голоса превратились в блескучие нити в другом измерении. В пространстве между нитями проступало что-то страшное, серое, бесформенное. Салли так испугалась этой бесформенности, что изо всех сил уцепилась за дрожащие, дробящиеся, обтрепанные лохмотья кухни. Она слышала голоса Неда и Говарда, далекие, тонкие, будто волокна: они говорили, что спиритизм – «ерундистика», а Джулиан Эддимен отвечал (тоже тонкая полоска звука): «Я думал, для этого мы и пришли».
– Нет, не для этого. Я здесь для другого! – сказала Салли.
И снова уцепилась за лохмотья – они грозили вот-вот вздуться, разойтись в стороны и оставить ее наедине с бесформенностью. Салли заметила, что Шарт, похоже, все знает о предполагаемом сеансе. Она вскочила – такая неуклюжая, что от ее движений два стула зашатались, мотаясь из одной полоски в другую, – притащила буквы от «Скраббла» и вывалила их на стол, а рядом поставила стакан из толстого стекла. Говард с его остреньким, как у выдры, лицом, колыхавшимся, будто водоросли, испуганно вглядывался в буквы. Нед и Фенелла начали выбирать из кучки букв полный алфавит, а Шарт, колыхаясь по половине нитей, будто голубая диванная подушка, выкладывала алфавит в круг посередине стола.
Нитяной голос Джулиана Эддимена что-то произнес. Шарт повернула голову и улыбнулась Джулиану. Салли увидела – вроде бы с неимоверным облегчением, – что Шарт увлечена Джулианом Эддименом. Такое бесформенное лицо, как у Шарт, и без того моталось и раздувалось из нити в нить и к этому времени должно было бы совсем утратить форму. Но из-за того, что́ Шарт питала к Джулиану Эддимену, лицо у нее стало тверже и ангелоподобнее, чем у Имоджин, которая вся поплыла от страданий. Тут Джулиан Эддимен заметил на столе какой-то непорядок. Стол был липкий. Шарт убрала все буквы и нагнулась, чтобы как следует протереть стол тряпкой, – снова голубая диванная подушка. Рука Джулиана Эддимена небрежно скользнула вниз и протянулась к подушке сзади.
Шлеп.
Салли дернулась. Все нити прочно встали на места, и кухня и всё в ней снова обрели плоть. Все смущенно молчали. Сидели и стояли, будто на картине, – кроме Оливера, который тяжело поднимался на ноги, вопросительно глядя в чересчур раскрасневшееся лицо Шарт.
Имоджин со скрежетом отодвинула стул и встала.
– Вы твердо решили устроить этот тупой сеанс? – спросила она.
Никто не ответил. Всем было трудно переключиться с Шарт и Джулиана на Имоджин.
– Прекрасно, – сказала Имоджин. По тому, как она говорила – жесткой отрывистой скороговоркой, – Салли сразу поняла, что Имоджин в ярости. – Я в нем не участвую! Я считаю, что это тупое, гнусное издевательство. Это игры с тем, чего никто не понимает. Это… безнравственно!
– Кому от этого плохо? – воскликнул Джулиан Эддимен. – Мы же просто забавы ради…
– Нельзя заниматься такими вещами ради забавы! – рявкнула Имоджин.
– То есть ты не будешь? – спросил Джулиан.
– Нет! – Имоджин дрожащей рукой сгребла в горсть свои лиловые бусы и принялась их нервно грызть. – И никто не должен!
Джулиан Эддимен бросил возмущенный взгляд на Шарт.
Шарт устало проговорила:
– Имоджин всегда была такая. Ее первые слова были… – Шарт глумливо, делано пропищала: – «Я не игра-а-аю!»
Салли поймала себя на том, что подплывает поближе к столу.
– Шарт, что за чудовищная жестокость?! Как ты смеешь обижать Имоджин, только чтобы угодить Джулиану Эддимену?
Никто, конечно, ее не слышал, кроме Оливера. Он зарычал.
– Слушайте, если нам явится призрак и что-то скажет, – дипломатично заметил Нед, – понадобится кто-то, кто будет все записывать. Может, Имоджин?
– Да, Имоджин, – беспощадно прошипела Шарт. – Или будешь записывать, или уходи.
Имоджин грызла бусы, не зная, как быть.
Джулиан Эддимен засмеялся:
– Пусть идет. Присутствие неверующего может все погубить.
– Я останусь и буду писать, – мятежно возразила Имоджин. Именно на это и рассчитывал Джулиан Эддимен – Салли видела по его лицу.
– Не понимаю, как ты мог мне нравиться! – сказала она Джулиану, и Оливер снова зарычал.
– Успокойся, – сказал Нед Оливеру. – Что нам делать, Джулиан?
– Все садятся в круг и кладут палец на край стакана, – тут же ответила Шарт. – Через некоторое время он должен задвигаться. Мы задаем вопросы, а он по буквам отвечает.
– Да ладно! – сказал Говард. – Я тоже неверующий, затесавшийся в вашу компанию. А свет будем выключать?
– Дурак! Как мы тогда буквы разглядим? – поинтересовалась Фенелла.
Салли зависла над столом, над пятью склоненными макушками и пятью руками, звездообразно вытянутыми к центру, с пальцами на стакане. Самое время всех хорошенько напугать. Первым делом надо вогнать Шарт куда следует, подумала она, посмотрев на Имоджин, которая села поодаль от стола, склонившись над блокнотом. Салли медленно и даже с опаской снизилась к пальцам на стакане.
– А что будет, если сейчас зайдут ваши родители? – засмеялся Джулиан Эддимен.
Все руки тут же напряглись. Даже если бы у Салли хватило сил сдвинуть стакан, преодолев сопротивление пяти застывших рук, ей не удалось бы подобраться к ним. Страх затрещал в жизненном поле вокруг пальцев. Это было как удар током. Салли пискнула и отскочила. От рокочущего рычания Оливера буквы на столе задрожали.
– На самом деле они никогда не приходят, – сказала Имоджин, сидевшая вне круга.
– Чепуха, – сказала Салли. – Приходят, конечно. Поделом вам, если они придут именно сейчас!
– Да успокойтесь вы, – сказала Шарт. Лицо у нее по-прежнему было жесткое и сияющее от пылких чувств к Джулиану Эддимену. – Если мы все не расслабимся, ничего не получится. Посидите тихо. Кто-нибудь, расскажите анекдот или что-нибудь занятное.
– Призрак комода, – вдруг сказал Нед Дженкинс. – Когда я был маленький, мне рассказывали такую страшилку про привидение: как дети приходят в заброшенный дом, и видят там деньги на столе, и хотят взять, а привидение им и говорит: «Я страшный призрак Эйбл-Мейбл, не смейте трогать мою мебель!» Я думал, что это призрак комода.
Все озадаченно замолчали. Салли робко снизилась. Теперь до стакана среди пальцев вполне можно было дотронуться. Салли сделала пробный рывок. Ее рука – то есть то, что было у нее вместо руки, – опустилась в стакан между пятью потрескивающими живыми пальцами. Как будто в центр горелки на газовой плите. Только эту газовую горелку крепко держали пять оцепенелых рук, и сдвинуть ее было невозможно.
– Что-то я не понял, о чем ты, – сказал Говард Дженкинсу.
– Ну, я думал, это был призрак мебели, – смущенно пояснил Нед.
– Правда? Тогда я расскажу вам кое-что по-настоящему занятное, – сказал Говард. – Вам ведь известно, что я гордый владелец металлоискателя? Обычно я проверяю им места для пикников в низинах, и вы себе не представляете, сколько денег там теряют. Так вот, сегодня в обед Грир попросил у меня металлоискатель – просто развлечься – и пошуровал им в роще за спортивным полем. А металлоискатель как заверещит! Судя по всему, там в земле просто залежи металла.
Салли почувствовала, как стакан мягко съезжает вбок вместе с ней.
– Помогите! Здесь призрак! – закричала она и едва не выскочила из стакана.
Потом она сообразила, что просто мышцы на самой длинной руке незаметно заработали. Палец Джулиана Эддимена потрескивал чуть сильнее прочих, и этот палец тихонько сдвигал стакан в сторону.
– Прекрати! – Салли нажала на палец.
Ей удалось уравновесить усилия Джулиана, и стакан неуверенно застыл. Улыбка, искривлявшая алые губы Джулиана Эддимена, погасла и сменилась изумленной гримасой.
– Двигается, – прошептал Нед.
– Не подавай виду, что заметил! – одернула его Фенелла. – Что ты там рассказывал, Уилл?
Говард не сводил со стакана круглых глаз, но продолжал:
– Ну, Грир сообразил, что нашел что-то большое, но он же идиот, поэтому не стал ничего сам раскапывать и даже мне не сказал. Нет. Взял и доложил Самому. А Сам помчался туда вечером со всеми нами и сказал, что мы, возможно, нашли клад с римскими монетами.
– Ага, поняла, как это делается! – сказала Салли. – Надо навалиться против движения пальцев. На это жужжащее поле вокруг них удобно налегать. Ну держитесь!
Она потащила стакан в сторону буквы Ш, поскольку решила начать с Шарт.
– И что, правда римский клад? – едва дыша, спросила Шарт, когда стакан пошевелился.
– Нет, – рассеянно отозвался Говард, завороженный стаканом. – То есть я не знаю. Сам забыл взять с собой лопату – копать было нечем.
– Точно двигается, – сказал Нед.
И верно. Салли навалилась на стакан со всей силы. И все равно он только еле заметно полз.
– Вот теперь пора спрашивать, – проговорил Джулиан Эддимен. Глаза у него горели от восторга и волнения – синие-синие и такие сияющие, что становилось не по себе. Он громко и раздельно проговорил: – Есть тут кто-нибудь? Если да, покажи букву «Д».
– А если нет – Н, – пробормотал Нед.
– Как вам угодно, – сказала Салли.
Посмотрела через несуществующее плечо и нашла Д. Пришлось налечь изо всех сил. Пять рук не были готовы уступать. Но потом все-таки расслабились – и стакан помчался по столу.
– Е, – сказал Джулиан Эддимен. – Ты там записываешь, Имоджин? По-моему, можно считать, что это «да». Пиши: «Запрос Д». А ведь работает! – Он снова заговорил громко и раздельно: – Скажи, пожалуйста, как тебя зовут?
– Ну раз ты настаиваешь, – сказала Салли. – Эх, плохо я знаю алфавит! – Она заозиралась в поисках С.
– Остановился! – Фенелла была глубоко разочарована.
– Тсс! – зашипели все.
Само собой, С была в круге почти напротив Д. Салли потащила стакан прямиком туда, но по пути он попал на влажное пятно на том месте, где Шарт вытирала стол, и крутанулся в сторону.
– М, – сказал Джулиан Эддимен. – Следующую букву, пожалуйста, – громко добавил он.
– Делаю что могу! – разозлилась Салли. – Между прочим, это трудно! Вот тебе! – Руки стали податливее. Она ринулась в начало алфавита. И замерла. – Как пишется мое имя? Точно, теперь А. Вот она.
– А, – подтвердил Джулиан Эддимен. – Теперь следующую букву, пожалуйста.
В том, что произошло после этого, никто не был виноват. Просто всех охватило бешеное возбуждение, и саму Салли в том числе. Она научилась общаться! Это было самое лучшее за весь день. Когда она толкала стакан, руки поддавались быстро и охотно – слишком охотно. Она нацелилась на Л. Промахнулась – попала на К. Ничего, в «Салли» две Л. Вот зараза! Они слишком сильно налегли, и она опять отъехала в начало алфавита.
– Ну-ка обратно! Опять мимо! Сюда, сюда и сюда! – Обессиленная, Салли вырвала несуществующую руку из круга пальцев и взмыла под потолок. – Ух, ну и намучилась!
Пятеро за столом сняли пальцы со стакана и принялись растирать затекшие локти: они устали не меньше Салли.
– Имоджин, прочитай, пожалуйста, что получилось. – Джулиан Эддимен был в недоумении.
Голос у Имоджин дрогнул.
– М-А-К-А-Р-О-Н-А, – проговорила она. Прыснула и закрыла лицо блокнотом.
– Призрак по имени Спагетти, – съязвила Фенелла.
– Попроси его еще раз представиться! – потребовал Нед.
– Да, давай! – Волнение Неда передалось и Говарду. Салли прямо чувствовала, как от них исходит волна тревоги. Валит вверх, будто дым от костра.
– Зачем? – спросила Шарт. – Ладно, можно, только, похоже, все замерло.
Она подвигала стакан пальцем и едва не опрокинула.
– Давайте попытаемся – может, он вернется, – предложил Нед. – Если не хотите, мы с Говардом попробуем сами.
Нед Дженкинс и Уилл Говард переглянулись. И разом положили пальцы обратно на стакан.
– Что вы так всполошились? – спросил Джулиан Эддимен. – У нас призрак с нестандартным чувством юмора, только и всего.
Шарт с Фенеллой тоже положили пальцы на стакан. Джулиан Эддимен со вздохом последовал их примеру, театрально взмахнув рукой.
– Ну вот. – И он громко добавил: – Повтори, пожалуйста, как тебя зовут.
– Великолепно! – сказала Салли. – Хотите, чтобы я взвыла со скуки? Но другого способа поговорить с вами у меня нет, так что придется послушаться.
Она снова спустилась к столу и сунула несуществующий кулак в мягкое тепло газовой горелки из пальцев.
– Ах! – сказал Джулиан Эддимен, и глаза его вспыхнули от восторженного смеха.
А вот Нед и Уилл были совершенно серьезны. Глаза их испуганно мерцали каждый раз, когда стакан подъезжал к очередной букве. На этот раз было легче. Салли уже выучила, где какие буквы. Остальные были готовы к тому, что стакан может задвигаться, – волнение немного утихло и больше не мешало. Салли почти без труда составила по буквам: «С-А-Л-Л-И».
– Так я и думал! – сказал Нед, а Шарт выпалила:
– Не может быть! Это, наверное, какая-нибудь другая Салли.
– Вашу Салли вся школа зовет Макароной, – заметил Говард. – Потому что белая ворона.
– Да говорю я вам, не может быть! – с нажимом проговорила Шарт. – Наша Салли жива-здорова! Просто она сейчас в гостях у Одри Чемберс, там, на холме.
Для Салли это была новость. Она посмотрела на Шарт – проверить, правду ли она говорит. Похоже, да. Шарт не умела врать. Потом Салли посмотрела на Фенеллу – как раз когда Фенелла сказала:
– Только никому не говорите. Это тоже часть Плана.
Фенелла врать умела. Определить, правда это или нет, было невозможно. Салли посмотрела на Имоджин – та добавила:
– Мы надеемся, что родители решат, что ее убили или похитили, – то есть если они вообще заметят, что ее нет.
Имоджин совершенно не умела врать. Очевидно, это была правда.
– Тогда что происходит?! – завопила Салли.
– Давайте дальше, – сказал Нед. – Пока он снова не исчез. – И он отчетливо произнес в воздух перед собой: – Докажи нам, что ты Салли Мелфорд.
– Скажи нам что-нибудь такое, что может знать только она, – добавил Говард.
Салли пришла в голову только одна мысль – ровно одна. Жаль, конечно, что Говарда это поставит в неловкое положение, но нужно, чтобы все ей поверили. Она снова налегла на трескучее пространство между пятью пальцами. «Где же Г? Вон, с этой стороны». Стакан легко скользнул от Г к О и обратно к В, но после этого Салли снова сбилась. Она остановилась возле В, посмотрела, как напряглись у всех лица, и вдруг поняла, что не знает, куда дальше двигать стакан. Все молчали. Кто-то запыхтел. Имоджин, сидевшая за спиной у Шарт и Неда, склонилась над блокнотом с карандашом наготове и прислушалась, все так же неестественно склонив голову набок. Салли снова поразило, какая Имоджин несчастная. Разумеется, Салли хотела сказать про Говарда и Имоджин. «Да где же тут И?»
– И-М-О, – прошептали все вслед за стаканом.
От этого Салли растерялась. Когда ты что-то пишешь, а кто-то это тут же читает, возникает ощущение, что надо поторопиться, чтобы поскорее выдать следующую букву. «Скорей! – подумала Салли. – Что после „Имо“? Понятно что!»
– С-Т-Р-О-Д-А-И-Т! – пробормотали все.
Салли замерла, довольная, что не забыла «О» в нужном месте. А то в этих буквах так легко запутаться.
– Это особенно ничего не доказывает, – шепнул Говард Неду.
Они оба явно ждали большего и при этом почему-то вздохнули с облегчением.
Тут Салли вспомнила, что хотела сказать сначала.
– Ух, придется попотеть!
Она снова повезла стакан по столу. «У-Л-Л…» – пропустила И, но теперь уже поздно. «П-Л-А-К-А-М…» Тьфу! Промахнулась! «В-К-У-С-Т-И-М-О-Д…»
– Ой какой ужас! – взвизгнула Имоджин и вскочила. – Это и правда Салли!
Салли зависла над столом, отдыхая от трудов праведных, и увидела, как по щекам у Имоджин скатились две круглые тяжелые слезы.
Острое, как у выдры, лицо Говарда залилось темно-розовой краской.
– Почему это Салли? – спросил Джулиан Эддимен и потянулся, откинувшись на спинку стула. – Что за Вкустимод? Это где-то во Франции?
– Имоджин нашла Уилла, когда он плакал в кустах от тоски по дому, – расшифровала Шарт. – Но, Имоджин…
Джулиан Эддимен поглядел на Говарда и захихикал – крайне недобро.
Имоджин стиснула руки и словно бы вонзилась локтями в воздух, чтобы подчеркнуть свои слова:
– Я точно знаю, что это Салли! Она напоминает мне про Уилла и беспокоится за меня. Это точно Салли, с начала до конца! – Она посмотрела в воздух над головой Джулиана Эддимена. – Все хорошо, Салли. Не волнуйся за меня. Лучше скажи, что с тобой случилось. Подвинься, Шарт. Я уверена, ей будет легче говорить, если я тоже возьмусь за стакан. – Имоджин оттолкнула Шарт в сторону и торопливо положила палец на край стакана. – Давай, Салли, расскажи мне все! – воскликнула она.
Салли была тронута. По щеке у Имоджин скатилась еще одна слеза. Но в то же время Салли все это раздражало. Ей было сейчас не очень интересно про Имоджин, и вообще, она не желала, чтобы с ней разговаривали так громко и раздельно, как будто призраки глухие или туповатые.
– Не двигается, – сказал Нед.
– А по-моему, это был призрак-проказник и он с нами шутки шутил, – заявила Фенелла.
– Помолчи, Фенелла, – сказала Салли. – Ну, поехали.
От пальца Имоджин толкать стакан стало труднее, но Салли навалилась изо всех сил. Беда в том, думала она, налегая, что она не может рассказать Имоджин все, потому что сама почти ничего не знает. Легче всего задать вопрос.
– У-М-Е-Р-Л-А… – Она хотела продолжить «ли я», но слишком разогналась: – М… нет, К… нет, Н… – ой, сдаюсь! – ладно, Я.
Салли совсем не ожидала, что это произведет на всех такое впечатление.
Шарт, Уилл и Нед вскочили и замерли рядом с Имоджин. По меньшей мере два стула опрокинулись, а еще кто-то, похоже, наступил на Оливера. Пес взвизгнул и вскочил. Все так затараторили от ужаса, что Салли взмыла подальше от гомона под самый потолок и зависла там.
– Ой, что же случилось, что случилось? – верещала Имоджин.
– Так я и знал! – кричал Нед.
– Послушайте, дело серьезное, – говорил Говард. – Похоже, ваш розыгрыш зашел не туда.
А Шарт орала:
– Да замолчите вы все! Успокойтесь! Это серьезно!
Джулиан Эддимен пододвинул стул и кашлянул, чтобы привлечь внимание.
– Слушайте, если эта чушь и в самом деле напугала вас, вам нужно всего-то пойти позвонить подруге Салли, и вы убедитесь, что все это неправда.
– Вот дурак, – сказала Фенелла. – Если Салли мертвая, она не сможет подойти к телефону.
– Не думаю, что это Салли, – сказал Джулиан. – Более того, я уверен, что это не она. Давай, Шарт. Иди и позвони. Я схожу с тобой.
– Но это все равно был призрак! – крикнула Фенелла вслед Джулиану, когда они с Шарт заторопились к выходу.
Джулиан Эддимен придержал дверь, пропуская Шарт, и ответил уже с порога:
– Не надо в них верить.
– А я тогда кто, по-твоему? – завопила Салли ему вслед.
VI
Джулиана и Шарт не было довольно долго. Первые десять минут все сидели тихо и напряженно. Вторые десять минут все ерзали. Говард строил башню из буковок от «Скраббла», а Имоджин наскоро, жирными линиями зарисовала, как он это делает. А что, похоже, подумала Салли, глядя Имоджин через плечо.
Потом Имоджин отшвырнула карандаш:
– Чем они там занимаются?
– Может, наткнулись на Самого, – нервно предположил Нед.
Фенелла повернулась на стуле, чтобы удобнее было хлестнуть Неда самым что ни на есть жестким взглядом.
– Да целуются они, – с глубоким презрением процедила она.
От этого все снова замолчали – смущенно. Во время паузы Салли думала, угадала ли Фенелла. У нее было сильное чувство, что Джулиан Эддимен из тех, кто не упустит случая полезть целоваться в темноте – а уже стемнело. Она сама не понимала, почему от этой мысли у нее словно гора с плеч свалилась. И решила было отправиться проверить, правда это или нет, когда Говард сказал:
– Этот ваш План – Салли просто исчезла на неопределенный срок или что?
– Пока кто-нибудь из родителей не заметит, – сказала Имоджин.
– Но, может быть, имело бы смысл подбросить родителям какую-нибудь записку? – спросил Говард.
– Мы хотели, – ответила Имоджин, – но так и не смогли придумать, что написать. Вот и решили просто подождать, когда они заметят.
– По-моему, это как-то странно, – сказал Говард.
– А мы вообще странные, – сказала Фенелла.
Тут вернулась Шарт. Одна. Она вломилась в кухонную дверь, будто атакующий танк, и лицо у нее все сияло от облегчения.
– Все в порядке! – воскликнула она. – Салли на ферме Манган. Они уже легли спать – Салли и Одри, – но миссис Чемберс сказала, что ей слышно, как они болтают. Так что – уф! Я даже испугалась сначала, но на самом деле все в порядке. Это точно не Салли.
Все немного посмеялись и повосклицали, но недолго, сдавленно и довольно робко. Говард и Дженкинс сказали, что, пожалуй, пойдут. Пока Фенелла провожала их за зеленую дверь, Имоджин смела буковки от «Скраббла» в косметичку, где они хранились.
– Хорошо, – сказала она. – Значит, это, наверное, был какой-то злобный дух. А где Джулиан?
– Решил не возвращаться. Скоро уже звонок, – отозвалась Шарт, отмахнувшись от упоминания о Джулиане без малейшего смущения и даже с некоторым раздражением.
Салли невольно встревожилась. Шарт больше не увлечена Джулианом Эддименом – это яснее ясного. Что бы у них там ни произошло по дороге к телефону, это было окончательно. Похоже, отчасти Шарт сияла еще и поэтому. Чего Салли не могла понять, так это почему у нее сжалось сердце, если Шарт так радуется. У Салли возникло такое чувство, будто она обречена, будто теперь ей волей-неволей придется пройти какое-то тяжкое испытание. И это было так же необъяснимо, как и то, что Шарт, очевидно, была совершенно уверена, что Салли сейчас на ферме Манган, в гостях у Одри Чемберс. Это просто какое-то недоразумение! Но Шарт не способна врать и при этом еще и сиять от облегчения. Салли не знала, что и думать.
За зеленой дверью зазвенел звонок – всем в Школе пора спать. Говард и Дженкинс ушли как раз вовремя.
– Пойдем спать, – сказала Шарт. – Я с ног валюсь от усталости.
Салли – просто по привычке – двинулась наверх следом за сестрами. Возня со стаканом страшно вымотала ее, и Салли устала и впала в уныние: все ее старания ни к чему не привели – только убедили Имоджин, что она злой дух. Бестелесному сознанию Салли было больно оттого, что Имоджин так решила.
– Я же Салли! – сказала она себе. – Я знаю, кто я! Когда все в Школе лягут спать и мама зайдет пожелать нам спокойной ночи, я обязательно сделаю так, чтобы она меня заметила, чтобы она поняла, что я не злой дух. Только я не понимаю, как мне удается быть в двух местах одновременно!
В ожидании Филлис она порхала по спальне, наблюдая, как сестры раздеваются. Мыться все поленились, даже Имоджин, которая раздевалась аккуратнее остальных. Фенелла была готова первой. Она надела короткую сероватую нейлоновую ночную рубашку – живот некрасиво выпирал – и теперь бродила по комнате и рассматривала рисунки на стенах.
– А мыши могут опрокидывать мусорные корзины? – спросила она, когда дошла до Коварного коврика.
– Нет, наверное, – сказала Шарт.
К вящему отвращению Салли, никто и не подумал поставить корзинку на место и не предпринял ни малейшей попытки собрать вывалившуюся бумагу. Шарт стояла посреди груды рваных записок в одних трусах и довольно-таки критически осматривала свое крупное, рыхлое тело.
– Как ты думаешь, Филлис разрешит мне носить лифчик? – спросила она Имоджин.
– Нет. Сам скажет, это слишком дорого, – заявила Фенелла и вскарабкалась на конторку.
Имоджин старательно наряжалась в линялую зеленую пижаму. Салли узнала эту пижаму. Раньше она принадлежала Филлис. Имоджин вытащила ее из мусорного бака. Как и желтый брючный костюм, пижама была Имоджин катастрофически велика. Она была отделана мрачно-зеленым кружевом, в основном рваным, и собиралась фестонами на запястьях и щиколотках Имоджин. Тем не менее Имоджин бережно вытащила из-за одной из кроватей зеркало и оглядела себя не без удовлетворения. Ее опухшее от слез лицо прояснилось от увиденного.
– Подлинно освобожденным женщинам лифчик не нужен, – сообщила она Шарт.
– По-моему, лично я еще не настолько освобождена, – ответила Шарт, по-прежнему изучая себя.
– Нет, Имоджин, – сказала Фенелла. – Шарт имеет в виду, понравится ли это мальчикам?
Голос Фенеллы донесся откуда-то сверху. Салли посмотрела и обнаружила, что Фенелла идет по одной из трех изогнутых балок под крышей, раскинув костлявые руки и покачиваясь, будто самолет на вираже.
– Прекрати! – в полном ужасе завопила Салли. – Ты же шею сломаешь!
Фенелла, разумеется, ничего не услышала. И так и прошаркала, пошатываясь, всю извилистую черную балку до конца. Обе ее сестры и ухом не повели. Шарт холодно бросила: «Помолчи, Фенелла» – и сунула голову в огромную, как мешок, ночную рубашку. Имоджин легла на ближайшую незастеленную кровать. Закинула руки за голову и уставилась на Фенеллу – впрочем, без особого интереса. У Салли возникло отчетливое ощущение, что Фенелла уже сто раз ходила по этой балке. Но все равно она обмирала от страха. Вдруг Фенелла упадет? Салли так перепугалась, что сама не заметила, как взлетела к Фенелле и запорхала вокруг.
Присутствие Салли словно бы сбило Фенеллу с толку. Тонкие руки замахали, как мельница. Фенелла перекосилась набок. Миг – и она уже висит вниз головой, зацепившись за балку коленками. До крайности недовольная.
– Вылитая мартышка, – заметила Имоджин.
– Меня столкнул злой дух! – сердито отозвалась Фенелла вниз головой. – Кинь мне скакалку. Хочу поиграть в Тарзана.
– Сама возьми, – сказала Шарт.
Она укладывалась в постель – к возмущению Салли, в ту единственную, которая была аккуратно застелена. Значит, одна из двух оставшихся неубранных кроватей – Саллина.
От негодования Салли спустилась обратно на Коварный коврик.
– План у вас так себе! – сказала она. – Если вы не застелили мою кровать, как, интересно, Филлис догадается, что я в ней не спала, когда придет?
Говорить было бессмысленно. Имоджин и Шарт вовсю хохотали над попытками Фенеллы взобраться обратно на балку. Фенелла тоже хохотала. К вящей досаде Салли, их вдруг одолело дурацкое веселье. Так бывало сплошь и рядом. Обычно веселье охватывало их после того, как случалось что-то неприятное. Сегодня это был спиритический сеанс. А теперь их словно накрыло волной идиотизма – она смыла страдания Имоджин, вышибла из перевернутого рта Фенеллы тоненькое жеребячье ржание и повергла Шарт в такой безудержный восторг, что у нее под семью замками не осталось ни одной тщательно выверенной мысли. Воздух в спальне зазвенел от визга и взрывов дурацкого хохота.
Салли скакала над Коварным ковриком вверх-вниз и кричала:
– А как же я? Если Филлис придет поцеловать нас на ночь и застанет в таком виде, она и не ЗАМЕТИТ вашего тупого Плана!
– Нет-нет! – завизжала Шарт со своей аккуратной постели, красная, запыхавшаяся. – Нет, давайте пантомиму!
Салли представления не имела, о чем она говорит.
– И чтоб все феи летали вниз головой! – захихикала Фенелла.
– Давайте! – простонала Имоджин. – Чур, я! Всегда хотела попробовать!
– Точно! Давайте! – заверещала Шарт и вскочила с кровати.
В этот самый миг Фенелла завизжала «Уи-и-и-и!», крутанулась на балке и спрыгнула на кровать, с которой только что вскочила Шарт, – только пружины зазвенели. Чудо, что она не промахнулась мимо кровати и при этом не врезалась в Шарт. Но тут Салли в полуобмороке от ужаса вспомнила, что Фенелла всегда прыгает на кровать Шарт. Иногда она попадает в Шарт, иногда нет, но сама ни разу не ушиблась – и всегда кажется, что она угодит мимо кровати. И Салли всегда протестовала.
– Фенелла! Ты же так убьешься! – кричала она, когда Шарт тоже очутилась на Коварном коврике и отпихнула ее в сторону.
Салли приплюснуло к рисункам на стене, и оттуда она увидела, как Шарт, огромная, словно дирижабль, дергает за второй ящик в конторке.
– Эй! – оскорбилась Салли. – Это мой ящик!
– Ничего страшного, – бросила Шарт Фенелле через плечо. – Я же знаю, у нее их две, а то и больше.
– Да, длинные, должно хватить, – согласилась Фенелла.
Имоджин так и лежала, глядя вверх, на балки. Глаза у нее затуманились дурацкой мечтательностью.
– Мне кажется, это будет так изысканно, так прекрасно! – протянула она.
Салли разозлилась: ей было непонятно, что происходит. Она подозревала, что это какая-то совершенно идиотская затея и что Филлис, когда придет и застанет ее в разгаре, страшно рассердится – просто выйдет из себя и в итоге не заметит, что одной из них нет. Салли в тревоге смотрела, как Шарт выдвигает набитый ящик.
– Перья! – Шарт снова расхохоталась.
– С черной курицы! – сказала Фенелла. – Вечно она их собирает!
– Для Мониган, наверное. – Шарт порылась под перьями. Вытащила руку со старым носком. Подняла над головой и залилась хохотом пуще прежнего. Потом все-таки справилась с собой и смогла говорить – отрывистым писклявым голосом. – Глядите! Знаете, что… как вы думаете… чей?
Сестрицы покатились со смеху.
– Джулиана Эддимена!
Салли глядела на все это в полном смятении и смущении. Она представить себе не могла, зачем ей хранить носок, принадлежавший Джулиану Эддимену, и в ней все сильнее вскипала обида, что сестры считают это таким забавным. А еще она немного сердилась, что Шарт так запросто лезет в ее личный ящик, – сердилась, но не слишком, могла бы и сильнее. Просто когда живешь бок о бок с тремя сестрами, такого следует ожидать. Она и сама днем лазила по их ящикам. Но все же Салли надеялась, что Филлис войдет и поймает Шарт с поличным.
Однако ничего не случилось и не помешало Шарт, и она все рылась и копалась в ящике и выгружала оттуда всякую всячину – и в конце концов победоносно потрясла в воздухе двумя аккуратно свернутыми скакалками.
– Вот они! Так я и знала, что она их хранит!
– Отлично! – Имоджин вскочила, встала на кровати, великолепная в своей линялой, болтающейся пижаме, и взяла командование на себя. – Свяжи их вместе. Крепко.
Шарт послушалась.
– Теперь возьмитесь вместе с Фенеллой за два конца и потяните, – велела Имоджин. – Сильно. Не хочу разбиться насмерть.
– Промчишься по воздуху легче пушинки, – сказала Шарт.
– Я так и собираюсь, – сурово заверила ее Имоджин и с царственным видом подтянула широкие зеленые штаны. – Я всю жизнь мечтала изобразить фею в пантомиме. Прямо жаждала пролететь над сценой в платье с блестками – и теперь наконец узнаю, как это, хотя бы чуточку. Вот-вот сбудутся мои мечты. Теперь перебросьте конец через балку.
– Хочешь, мы сначала облепим тебе пижаму серебряной бумагой? – предупредительно спросила Фенелла.
– Нет, – ответила Имоджин. – Воображение дорисует.
Салли мрачно смотрела, как Шарт перебрасывает деревянную ручку скакалки через балку, а Имоджин подхватывает ее и подтягивает вниз, на уровень пояса. Теперь стало ясно, что они задумали. Затея была и вправду идиотская, как Салли и опасалась. Оставалось надеяться, что Филлис придет попозже и не увидит этого. Салли смотрела, как Шарт помогает Имоджин обвязать скакалку вокруг пояса, а Фенелла крепко берется за деревянную ручку на длинном конце. Шарт ухватилась за скакалку повыше.
– Готова?
– Давайте! – сказала Имоджин.
Фенелла потянула. Шарт откинула голову, уперлась мощными ногами и тоже потянула. Скакалка медленно, с громким скрипом заскользила через балку. Ноги Имоджин оторвались от кровати и скрылись в болтавшихся зеленых пижамных штанинах. Как будто чем выше поднималась Имоджин, тем ниже спускались штаны. Фенелла и Шарт шатались и пыхтели: Имоджин была вовсе не пушинка. Она со скрипом поднялась еще немного выше и вдруг – совершенно неожиданно – согнулась пополам. Красное сердитое лицо уткнулось в ниспадающие серые кружева штанов.
– Ой! – сказала Имоджин.
– Не шибко-то ты сейчас грациозная, – пропыхтела Фенелла.
– Выпрямись в воздухе, – просипела Шарт.
– Не могу! – огрызнулась Имоджин. Ноги у нее взбрыкнули, зеленый нейлон раздраженно взметнулся. – Опускайте. Веревка затянута слишком низко.
Шарт и Фенелла послушно отпустили скакалку. Имоджин плюхнулась на кровать – веревка на балке громко скрипнула – и заворочалась, запутавшись в просторных штанах.
– Помогите! Я хочу отвязать ее и пропустить под мышками!
– Нет! – закричала Салли. – Не надо!
Когда Имоджин болталась в воздухе, зрелище было крайне неприятное – будто виселица. Салли понимала, что подумает Филлис, если войдет именно сейчас.
Никто, конечно, ее не услышал. Шарт подтянула петлю из скакалки повыше, прихватив много развевающегося зеленого нейлона, и затянула у Имоджин под мышками. На крепкой талии Имоджин от веревки осталась ярко-красная борозда.
– Ты точно хочешь попробовать еще раз? – спросила Шарт. – По-моему, тебе было больно.
– Естественно! – надменно отозвалась Имоджин. – Искусство требует жертв. – Она поддернула штаны до груди и выжидательно замерла. – Тяните!
Фенелла послушно отклонилась назад и потянула за деревянную ручку. Шарт, стоявшая перед ней, тоже отклонилась назад, едва не придавив Фенеллу, и налегла на веревку. Скрип-скрип-скрип… Веревка переползла через балку, пока Имоджин не встала на цыпочки. И застряла.
– Ну что вы там возитесь? – заорала Имоджин, раскачиваясь туда-сюда на цыпочках. – Тащите меня вверх! Слабо, что ли?
– Мы и тащим! – пропыхтела Фенелла.
– У тебя центр тяжести сместился, или еще что-нибудь! – выдавила Шарт.
– Так навалитесь всем весом: он у вас есть! – скомандовала Имоджин. – Вы вместе в два раза тяжелее меня!
С этим было не поспорить. Шарт кивнула и уперлась одной ногой в кровать. Кровать тут же выскочила из-под Имоджин, а Шарт повалилась на Фенеллу. Поскольку и Шарт, и Фенелла повисли на веревке, чтобы не упасть друг на друга, Имоджин в итоге взмыла под потолок несколькими быстрыми рывками – скрип-скрип-скрип – и повисла в футе под балкой. Там она почему-то начала вертеться. Ноги у нее крутились, сизые, обмякшие, перед носом у Шарт. Руки вцепились в зеленые нейлоновые штаны, чтобы не свалились. Каждый раз, когда она поворачивалась лицом к Салли, было видно, что все это нравится ей все меньше и меньше.
– Опустите ее! – завизжала Салли. Ну точно, виселица!
Но сестрицы Имоджин налегали на скакалки и критически смотрели на нее снизу вверх.
– Что-то ты какая-то неграциозная, – заявила Фенелла. – Растопырь руки.
Имоджин, странно вытаращив большие голубые глаза, разжала сначала одну руку, державшую штаны, потом другую. Штаны тут же свалились. Имоджин, растопырив напряженные руки, медленно вращалась, будто унылое пугало.
Шарт замотала головой.
– Улыбнись, – посоветовала она.
Имоджин словно бы не сразу вспомнила, что такое улыбаться, но потом сумела оскалить зубы. Голова у нее вертелась, как хеллоуиновский фонарик. Лицо стало нехорошего цвета.
– Все равно не очень-то красиво выходит, – недовольно проговорила Фенелла. – Попробуй сделать что-нибудь изящное ногами.
Имоджин попробовала. Похоже, она хотела вытянуть одну ногу назад, как балерина. Но получилось только неуклюже раздвинуть ноги и согнуть коленки, так что пижама натянулась между ними, будто большой зеленый батут. Имоджин вертелась, как оскалившийся борец, застывший в прыжке, а из-за того, что пижамные штаны болтались, зацепившись за пятки, казалось, будто у нее две пары коленок. Лицо у Имоджин стало тускло-сизое.
Салли вдруг отчетливо поняла, что Имоджин не дышит. Взмыла под потолок проверить. Закружилась вместе с ней под балкой – внизу мелькали развороченные кровати и детские рисунки, а за натянутой до скрипа веревкой – большое, будто дирижабль, лицо Шарт, лучащееся любопытством, и белые, тощие, с мушиными коленками ноги Фенеллы, стоящей за ней. Салли видела, что петля впилась в грудь Имоджин под мышками.
– На помощь! – взвыла Салли. – Мама! Они сейчас повесят Имоджин, а она этого сама не замечает!
– Нет, все-таки некрасиво как-то, – сказала Фенелла.
Имоджин попыталась исправиться и растянула улыбку – получился глумливый оскал. Но Салли правильно догадалась. Имоджин бросила дышать.
Салли лихорадочно соображала, что можно сделать, если даже сама Имоджин не замечает, что вот-вот задохнется. А Филлис не придет. Салли вдруг это поняла. Филлис в последнее время к ним совсем не заходила. Так уставала после целого дня в Школе, что у нее просто не было сил. Салли вспомнила далекое прошлое, когда все они были маленькие и Филлис почти каждый вечер урывала минутку, чтобы поцеловать их на ночь. Так что же делать? Имоджин оцепенело вертелась на веревке, и лицо у нее синело все больше и больше.
– Точно! – Салли сама не заметила, как метнулась через всю комнату к кнопке с надписью «SOS». – Если это не SOS, тогда я даже и не знаю! – воскликнула она по пути. – Вот дуры!
Она врезалась в прохладную белую кнопочку даже яростнее, чем днем – в мусорную корзину.
Ее испуг каким-то образом передался вниз, Оливеру. Он несколько раз вопросительно рыкнул, а потом залаял, и каждое «гав» у него было будто раскат грома. Примерно в этот же миг стойкости Имоджин пришел конец. Имоджин выдавила из легких последний воздух, из оскаленного рта вырвался протяжный хриплый писк: «И-и-и!»
– Ой, она же сейчас умрет! – Фенелла осипла от потрясения.
– Опускай скорее! – крикнула Шарт.
Салли, собравшаяся еще раз ринуться на кнопку, обернулась и увидела, что они торопливо опускают Имоджин. От спешки они обожгли руки веревкой. Фенелла отпустила скакалку и повалилась навзничь. Шарт заорала. Имоджин шлепнулась на пол и лежала там зеленой нейлоновой грудой, вся густо-сизая, и дышала коротко, мелко, с подвизгиванием.
– Господи! – воскликнула Шарт, дергая за узел на скакалке. – Да веревка в нее прямо врезалась! Ножницы, быстро!
Фенелла вскочила и на узловатых ногах поскакала обратно к Саллиному ящику. На гору рваной бумаги на Коварном ковре осыпалось черное облако перьев. К вящему облегчению Салли, вместе с ними из ящика выпали ножницы. Фенелла ринулась назад, к Шарт, и испуганно нависала над ней, пока Шарт перерезала веревку, стянувшую Имоджин. Все это время Оливер внизу громоподобно лаял и выл.
– Ой, Фенелла, иди заткни его! – выпалила Шарт.
Веревка поддалась. Салли увидела, что грудь Имоджин раздулась. Имоджин громко сказала что-то вроде «хум!» и снова задышала как положено. Лицо почти сразу стало нормального цвета. Шарт и Фенелла нежно и бережно уложили ее в кровать, и она лежала там и отдувалась.
– Пожалуй, не хочу быть феей из пантомимы, – проговорила она со слезами в голосе. – Похоже, у них не жизнь, а сущий ад.
– Наверное, им надевают особую обвязку, – сказала Шарт.
– И все равно, – горестно прохрипела Имоджин, – лучше мне остановиться на музыке. Я… не приспособлена… для тягот… сценической карьеры.
Лай Оливера внизу вдруг сменился пристыженным скулежом. По лестнице раздраженно и яростно процокали каблучки. Имоджин, Шарт и Фенелла в ужасе переглянулись. Фенелла запинала скакалки и ножницы под кровать Имоджин и запрыгнула в свою постель. Шарт поколебалась и решила остаться сидеть на кровати Имоджин, будто решила с ней по-сестрински пошушукаться. Выключать свет поздно, поняла Салли. Филлис видит его с лестницы.
В следующий миг Филлис ворвалась в комнату. Она была точь-в-точь ангел мщения, которому за день пришлось слишком много мстить. «Устала, совсем устала», – подумала Салли. Под ангельскими глазами залегли глубокие морщины, в уголках ангельских губ – еще глубже. При электрическом свете и без того бледное лицо словно выцвело, волосы казались седыми от усталости. Салли достаточно было одного взгляда в это лицо, чтобы от греха подальше взмыть на балку над кроватью Имоджин.
– Что происходит? – рассерженно спросила Филлис. – Что за шутки? Думаете, ваш отец не заслуживает ни минуты покоя даже по вечерам?
– И… извини, мама, – приглушенным детским шепотом проговорила Шарт. – Просто Оливер вдруг разлаялся ни с того ни с сего.
– Я не об Оливере говорю, – сказала Филлис. – Сколько раз повторять, что тревожную кнопку можно нажимать только в настоящих чрезвычайных ситуациях? И что теперь? Только мне представился случай посидеть в тишине – впервые за день! – как пришлось мчаться сюда; только ваш отец смог хоть немного отдохнуть, как вы страшно напугали его: он решил, что начался пожар или кому-то из вас стало плохо. И вот я прихожу – и сразу вижу, что вы опять проказничаете. Кто из вас нажал на звонок?
Никто не ответил. Шарт повернула голову так, чтобы Филлис ее не видела, сморщила нос и подняла брови, словно спрашивала у Фенеллы: «А?» Фенелла, которую Филлис видела, ответила ничего не выражающим, туповатым взглядом.
– Я, – сказала Салли со своего насеста под крышей. – У меня не было другого выхода, мама.
Никто ее не услышал. Филлис обрушила свой царственно-усталый гнев на Фенеллу:
– Это ты сделала?
– Нет, конечно! – ответила та.
Филлис повернулась к Шарт:
– Ты?
– Нет, не я! – От испуга голос у Шарт прозвучал фальшиво, будто она врет. – Честное слово! – добавила она.
Луч усталого гнева Филлис переместился на Имоджин.
– Имоджин?
Имоджин как раз дошла до второго этапа страданий, когда становится гораздо хуже. Лицо у нее побелело, отчего волосы стали будто зеленоватые – но не такого зеленого цвета, как пижама. Говорить ей было трудно.
– Не я, – сипло выдавила она.
И тут воздух в спальне зазвенел от напряжения. И Фенелла, и Шарт, и Имоджин застыли в ожидании, когда луч гнева Филлис нацелится на четвертую, пустую, неприбранную кровать, где должна была быть Салли. Они старались не смотреть в ту сторону. Шарт так напряглась, чтобы не смотреть, что у нее дрожала шея.
– Ну что ж, превосходно, – произнесла Филлис. Устало повернулась обратно к двери. – Буду ждать, когда одна из вас признается мне во всем завтра. – И двинулась к выходу.
Она не успела зайти далеко. Миг – и она уйдет.
– Мама! – закричала Салли и нырнула вниз, к рассыпанной бумаге и перьям на коварном ковре.
Фенелла и Шарт переглянулись: «Ты!» – «Нет, давай ты!»
– Мама, – сказала Шарт.
Филлис обернулась на пороге – ей явно не терпелось уйти. Она так устала, что ей было трудно даже смотреть на Шарт.
– Что тебе?
– Ну понимаешь, Имоджин сейчас не слишком счастлива, – сказала Шарт. – Я думала, ты заметишь.
Очевидно, План предполагал, что имя Салли прямо упоминаться не будет. Фенелла еле заметно дернула подбородком в сторону Шарт – одобрительно кивнула.
Филлис обратила луч изнуренного внимания на Имоджин.
– Но это ведь не повод нажимать кнопку SOS, Шарлотта.
– Да, конечно, но… – с ноткой отчаяния в голосе начала Шарт. Нужно было любой ценой удержать Филлис в комнате: чем дольше она здесь пробудет, тем вероятнее она заметит пустую постель Салли. – SOS – это что у Имоджин в этом полугодии такая плохая оценка по музыке! – выпалила Шарт, явно обрадовавшись, что ее осенило. – Мы не думаем, мама, что дело только в том, что здесь ее никогда не пускают заниматься в кабинет музыки. Мы думаем, она и правда растеряла талант. Нам кажется, что ей надо выбрать другое призвание. А ты как считаешь?
Филлис с легким недоумением повернулась к Имоджин. Имоджин сумела выдавить тусклую, сконфуженную улыбку. Эта улыбка, очевидно, тронула Филлис больше, чем бледность Имоджин. Салли увидела, как Филлис собралась с силами и улыбнулась в ответ – устало, ласково, утешающе. Салли сразу полегчало. Мама и в самом деле старается как может.
– Глупости, – сказала Филлис. Собравшись с силами, она добилась, чтобы и голос у нее был ласковый, утешающий. – У Имоджин артистический темперамент, а значит, она постоянно преувеличивает. Призвание – значит взлеты и падения. Несомненно, Имоджин следует продолжать заниматься музыкой. У нее огромный талант. Каждый раз, когда я вижу, как она садится за инструмент…
– Примерно раз в год, – пробурчала Фенелла.
Филлис закрыла глаза, чтобы не слышать этого. Очередное глупое замечание Фенеллы.
– Каждый раз, – повторила она, – я поражаюсь искренности и страсти ее исполнения. Ее манера напоминает мне Майру Хесс. Я уверена, что Имоджин рождена стать концертирующей пианисткой. Ваш отец был бы несказанно огорчен, если бы она бросила музыку.
Тут Имоджин посмотрела на Шарт с той же слабой улыбкой. Кажется, она успокоилась.
Филлис вспомнила про Шарлотту и, видимо, подумала, что та может почувствовать себя обделенной.
– Точно так же, как Шарлотте у нас в семье достались все мозги и, к сожалению, совсем не досталось красоты, так же и Имоджин обладает и красотой, и музыкальным талантом. Шарлотте нужно поступать в университет. Она прирожденная учительница.
– А я? – спросила Фенелла.
Филлис обратила на Фенеллу свой золотой взгляд.
– Ну… – начала она. И явно растерялась.
– Я собираюсь стать циркачкой, – серьезно сказала Фенелла.
Филлис словно и не слышала. Очередное глупое замечание Фенеллы.
– Твое призвание уникальное и своеобразное – это я знаю точно.
Между тем Шарт размышляла над ее словами – медленно и озадаченно.
– Знаешь, мне не кажется, что я прирожденная учительница, – заметила она. – Когда я говорю, меня никто не слушает.
Филлис и этого не услышала. Очередное глупое замечание Шарлотты. Она устало улыбнулась всем и повернулась на пороге, чтобы уйти.
Салли запрыгала, точнее, запорхала на коварном ковре.
– А как же я?
Она так рвалась, чтобы ее заметили, что два-три перышка взлетели с пола, но даже если кто-нибудь это и видел, то, наверное, списал на сквозняк от двери, которую Филлис держала открытой.
Условия Плана, что характерно, нарушила Имоджин.
– А как же Салли? – спросила она. Говорить у нее по-прежнему получалось только сиплым шепотом.
– Салли?
Филлис замерла. И даже посмотрела на кровать Салли. Словно бы удивилась – правда, лишь слегка, – обнаружив, что кровать пуста.
– Ну, видишь ли, люди не слишком интеллектуальные обычно добиваются больших успехов в искусстве. Думаю, Салли ждет карьера известной художницы.
Она уже была почти за дверью.
Огромное черное перо взмыло на полпути до потолка – это Салли в отчаянии крикнула:
– Но меня ЗДЕСЬ НЕТ!
– Мама, – отрывисто сказала Фенелла тем низким командным голосом, который так сильно действовал на миссис Джилл. – Мама, тебе не кажется, что о нас совсем не заботятся?
Филлис обернулась через плечо и нахмурилась, глядя на Фенеллу. Фенелла изобразила на птичьем личике неправдоподобно очаровательную улыбку:
– Мы страдаем от недостатка внимания. – Она взялась за один из узлов, в которые закрутила волосы, и многозначительно потеребила его. – Ты заботишься о мальчишках, но не заботишься о нас, – пояснила она, теребя узел.
Шарт и Имоджин ужаснулись дерзости Фенеллы, но Филлис просто устало улыбнулась. Очередное глупое замечание Фенеллы.
– Ах, Фенелла! Мальчики оторваны от дома, им нужна забота. Кроме того, мальчики не в состоянии себя обслуживать, а девочки прекрасно это умеют. Будь умницей – ложись спать.
И с этими словами она ушла вниз по лестнице, оставив всех с разинутыми ртами. Они слышали, как ее золотой голос нежно говорит что-то Оливеру – от этого Оливер всегда рвался лизнуть ее в лицо. Потом они услышали, как за ней закрылась зеленая дверь.
– Я сделала все, чтобы она заметила мою прическу! – в ужасе проговорила Фенелла.
– Хорошо хоть нам не влетело, – сипло выдавила Имоджин.
– Погодите! – воскликнула Шарт. – Кто нажал тревожную кнопку? Точно не я, потому что я держала веревку!
– И я тоже, – сказала Фенелла. – Так что…
– А я задыхалась, – просипела Имоджин.
– А я вам о чем?! – завопила Шарт. – Но звонок-то прозвонил – Филлис его слышала. Так кто нажал кнопку? Я знаю только одного человека, способного на такой глупый поступок.
Сестры Салли переглянулись – с ужасом, злостью и изумлением.
– Салли! – хором сказали они.
VII
– Ты хочешь сказать, что это все-таки был призрак Салли? – дрожащим шепотом выговорила Имоджин. И вцепилась в край одеяла, готовая натянуть его на голову.
– Нет, – задумчиво ответила Шарт. – Мы же знаем, что Салли у Одри, так что это точно не может быть Салли. Но вполне может быть какой-нибудь бедный заблудший дух, вообразивший, что он Салли, – почему бы и нет?
Фенелла захихикала – тем глухим гнусным смешком, который называла своим Демоническим Хохотом:
– Более того, он сейчас здесь и слышит каждое наше слово!
Имоджин сипло взвизгнула и скользнула под одеяло.
– Ну вот зачем ты это сказала? – напустилась Шарт на Фенеллу. – У Имоджин выдался ужасный день: то одно, то другое. Прикуси-ка свой болтливый язык, а то не разрешу тебе помогать мне изгонять духа.
– А ты знаешь, как его изгонять? – спросила Фенелла.
– Да, – сурово ответила Шарт. Встала с постели Имоджин и протопала обратно к конторке.
На этот раз она открыла свой ящик – опрятный, почти пустой – и достала оттуда книжку в красном кожаном переплете. Салли, порхавшая над плечом Шарт, увидела, что это молитвенник, и ей вдруг стало не по себе.
– Фенелла, – сказала Шарт. – Мне понадобится твой колокольчик.
Фенелла разинула рот – стали видны два больших передних зуба со щелочкой между ними. Еще бы Фенелла не удивилась, подумала Салли, вспомнив, что это за колокольчик. Фенелла добрых две недели трезвонила в него и распевала: «Демоны! Демоны!» – во весь свой низкий, зычный голос. Она пела и звонила, пока все три сестры, побросав каждая свое занятие, не пригрозили ей тремя разными страшными карами, если снова услышат или увидят колокольчик. «Как, интересно, можно помнить этот колокольчик и не быть Салли?» – с внезапным возмущением подумала Салли. Конечно она Салли, даже если призрак!
– И еще нам нужна твоя свечка для Мониган, – сказала Шарт трясущемуся холмику, который был Имоджин.
Робко откинулся угол одеяла. Из-под него показалась Имоджин – вид у нее был гораздо здоровее прежнего, возможно, просто потому, что она раскраснелась в тепле и духоте.
– Проведешь обряд экзорцизма с книгой, свечой и колоколом, да? По-моему, исключительно умная мысль.
– Ничего подобного! – неслышно возмутилась Салли. – Я отказываюсь подвергаться экзорцизму! Я имею такое же право быть здесь, как и вы!
Пока она это говорила, Фенелла резко задвинула и свой ящик, и Саллин, подняв целое облако черных перьев, и принялась растерянно ворошить кипы нот в ящике Имоджин.
– Она лежит у левой стенки. – Имоджин устало села.
Фенелла нашла свечу. Салли вспомнила ее не хуже колокольчика, который Фенелла вытащила из-под кукол в своем ящике. Эту свечу Шарт сделала год назад, когда выдумала Культ Мониган, – отлила из огарков других свечей и шнурка от кроссовки. Она хотела покрасить свечу и для этого замешала в воск синюю гуашь, а чтобы придать аромат, влила духов, которые Имоджин купила в «Вулворте». В результате получилась шишковатая серая штуковина, похожая на чудовищный гриб, да еще и вонючая.
– Где спички? – спросила Фенелла.
Все немного помолчали.
– Внизу, – сказала Имоджин. – Только я туда не пойду: там, внизу, призрак! Мне страшно! – добавила она визгливой скороговоркой. И снова исчезла под одеялом.
– Чур, не я, – торопливо вставила Шарт.
Фенелла с достоинством выпрямилась и свысока поглядела на них.
– Иногда мне кажется, – проронила она, – что на меня здесь сваливают всю грязную работу. Разумеется, я схожу.
Она величественно прошагала к двери и повернулась за порогом, так что в проем были видны только нос и обтянутый серым нейлоном живот:
– Дуры. Оливер весь день рычит, потому что видит призрака. А сейчас он не рычит, значит призрак здесь, наверху.
Нос и живот исчезли. Костлявые ноги Фенеллы протопали вниз.
Салли решила было двинуться за Фенеллой, чтобы Оливер зарычал. С другой стороны, здесь можно было напугать сразу двоих. Горка на постели Имоджин тряслась и тихонько, мелко постанывала. Шарт побледнела, пальцы ее дрожали, когда она листала тоненькие странички маленького молитвенника.
– Ну надо же! – Шарт старалась говорить как ни в чем не бывало. – «Обряд крещения взрослых», «Катехизис», «Церемония бракосочетания». Похоже, экзорцизм сюда не включили. Как ты считаешь, литания подойдет? Или лучше «Обряд погребения умерших»?
– Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! – пищала горка Имоджин.
– «Благодарственная молитва для женщин после разрешения от бремени», – прочитала Шарт. – Нет, это не годится. «Покаянное богослужение, или Предвестье гнева Божьего и кары за грехи» – ух ты! Это уже ближе к делу. Давай-ка его и проведем. Остальное сплошь молитвы для тех, кто в море, и рукоположение епископов.
Салли сложила несуществующие руки на груди – по крайней мере, она рассчитывала, что сделала именно такой жест, – и осталась парить над перьями на Коварном ковре. Что бы эти дурочки ни делали, прогнать ее они не смогут. Она ведь им сестра – не кто-нибудь.
Тем не менее когда Фенелла притопала снизу со спичками, а Имоджин все-таки села (когда Шарт довольно-таки злобно пихнула ее), держа в трясущихся руках дымящую, потрескивающую грибовидную свечку, Салли вдруг почувствовала себя не в своей тарелке. Не то чтобы сильно. Как будто она потеряла что-то полезное, но не слишком важное – книжку или ручку. Однако чувство было отчетливое. Когда Фенелла подняла круглый, похожий на чашку колокольчик для коров и принялась звенеть им, раскачивая взад-вперед, чувство усилилось. На Салли навалились страх, одиночество и безысходность.
– А без священника разве получится? – уточнила Фенелла сквозь звон.
– Надо сосредоточиться и постараться, чтобы получилось, – ответила Шарт. И начала читать важным церковным голосом: – «Проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость пред Господом, и поставит его в тайном месте! Весь народ возгласит и скажет: аминь».
– Аминь, – послушно сказали Имоджин и Фенелла.
– «Проклят злословящий отца своего или матерь свою! Проклят нарушающий межи ближнего своего!»
– Ты уверена, что надо читать именно это? – спросила Имоджин.
– Тут так написано, – сказала Шарт. – Наверное, лучше это пропустить и перейти прямо к делу. Ну вот. «Страшно впасть в руки Бога живого: дождем прольет Он на нечестивых горящие угли, огонь и серу; и палящий ветер – их доля из чаши; се, грядет к нам Господь и узрит нечестие живущих на земле…»
Салли ощутила, как внутри раздувается знакомый ужас. Она посмотрела на сестер по очереди. Шарт была сосредоточена и полна решимости, и от этого крупные ее черты были совсем не размытые, а ясные и непреклонные. Фенелла с колокольчиком казалась старше своих лет, напряженная и безжалостная, как хищная птица. Имоджин смотрела на трепещущий огонек свечи, и над переносицей у нее залегли две маленькие отчетливые морщинки. Вид у Имоджин был испуганный, как всегда, когда ей приходилось делать волевое усилие. Салли понимала, что сейчас они сосредоточили всю свою волю на том, чтобы изгнать призрака. Ужас все нарастал в ней, а с ним и чувство утраты и одиночества.
– «И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? – нараспев читала Шарт. – Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. День Господень так придет, как тать в нощи…»
И вдруг, точно так же, как перед сеансом, Салли обнаружила, что все кругом словно разорвалось на полосы. Обрывки Шарт, Фенеллы, Имоджин, свечи раскачивались туда-сюда.
– «Доколе свет с нами, да будем веровать в свет, – пела Шарт, – да будем сынами света. Да не будем извержены во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов. Не станем пренебрегать благодатью Божией, ибо Господь в милосердии своем призывает нас к покаянию…»
Теперь уже с каждым словом Шарт, с каждым ударом колокольчика прорехи в картине становились все шире. А в них… Салли закричала беззвучным криком. Там, во тьме, таилась жирная, бесформенная серая тварь – будто кокон, будто мумия, будто личинка жука. Тварь была огромная и пыталась втянуть Салли в расширяющиеся щели – в себя.
– Не надо! – завизжала Салли.
Все, что угодно, лишь бы ее не поглотила жирная серая личинка. Салли поддалась вихрю ужаса, и он унес ее вон, в дальнюю даль, в ночь, неведомо куда, – она неслась, вертясь и крутясь, пока последние остатки ужаса не улеглись. И очутилась в темном поле – она двигалась прочь по той же дороге, только в обратную сторону.
– Может, мне просто положено уйти той же дорогой, что пришла, обратно в никуда, – уныло проговорила Салли.
Но в этом не было логики. Да, сестры ее не любят, но она по-прежнему многого не понимала. Не представляла себе, как стала призраком. И хотела это выяснить. Салли задумалась, как бы это узнать, и обнаружила, что уверенно, можно сказать, целеустремленно летит по дороге. Ночь была тихая, теплая, пахло сеном и какими-то неопределенными цветами. От этого Салли стало спокойнее. Но было так темно, что поначалу она испугалась.
– Глупости! – сказала она себе. – Призраки призраков не боятся!
Кроме того, вскоре она обнаружила, что кругом не совсем темно. Дорога тихонько светилась – слабым серовато-белым между угольно-черными шелестящими кустами. Звезды сияли над головой – будто бриллианты, раскиданные по иссиня-черному бархату, такие яркие, что среди них попадались и отчетливо зеленые, и оранжевые, и бледно-голубые, а не просто мерцающие серебряные точечки, какими их всегда представляла себе Салли. Попадались среди них и жемчужные – там, где их заслоняли мелкие клочки облаков. А когда Салли поднялась над кустами, оказалось, что и поля за ними все жемчужные, посеребренные сырым ароматным туманом, в котором выжидающе высились черные деревья.
Отсюда, с вышины, Салли прекрасно видела деревья на холме впереди, черные на фоне разбавленной черноты неба. Среди них светился оранжевый квадрат окна. Там, в спальне на ферме, кто-то был. Едва Салли увидела оранжевый квадрат, как он почти сразу погас, ненадолго ослепив ее. Там кто-то лег спать. И тут же из-за жемчужных полей еле слышно донесся звон школьных часов, отбивавших полночь.
– Полночь, – сказала Салли. – Время призраков. Мое законное время. А это – дом Одри. Вот возьму и проверю, там я или не там!
Это было так искусительно – и страшно тоже. Салли точно знала – точнее всего остального, – что произошло что-то ужасное, какая-то катастрофа. А вдруг она явится на ферму, а там лежит ее мертвое тело? Надо думать, не просто так она стала призраком – что-то с ней стряслось.
Но, как ни крути, следует пойти и проверить. Салли все плыла между кустами в гору, где дорога из-за деревьев превратилась в еле-еле мерцающую полосу, и в конце концов очутилась у ворот фермы. За воротами висел жаркий навозный запах скотного двора. Салли стало немного страшно: ведь все звери ее явно чувствуют. Она шарахнулась по воздуху в сторону от какой-то огромной белой туши, которая свирепо закряхтела на нее – это оказалась белая свинья, – а потом от зашипевшего котенка и от рыка овчарки. В конце концов душераздирающее ржание Одриного пони заставило ее метнуться сквозь стены в уютное замкнутое пространство дома. Там было душно и пахло мастикой для мебели.
Внутри Салли растерялась. Она не помнила, чтобы ей доводилось бывать в этом доме. Нашла лестницу – старую, темную, застеленную новым ковром, от которого пахло новизной; таким же новым ковром застелили и изогнутый коридор на втором этаже. На верху лестницы Салли остановилась и зависла: она не представляла себе, где искать. У нее мелькнула было мысль, что тело само притянет ее, но эта мысль как пришла, так и растворилась. Очевидно, так не получится.
Потом произошло два события. Во-первых, внезапно посветлело. В окно где-то справа упали длинные серебряные лучи и достигли изогнутого коридора. Взошла луна. Свет ее был замутненный. Между балками проступили очертания раскачивавшихся за окном деревьев, но света было достаточно, чтобы превратить коридор во что-то смутно знакомое Салли. От нового ковра остро пахло уже не духотой, а чистотой. На стенах и на столах вдоль стен коридора белые лучи отражались от полированных латунных украшений и окрашивались в желтое. Там были и латунные декоративные бляшки с конской упряжи, и масляные лампы, и штурвалы, и целый стеллаж с колоколами, и рельефы с кораблями под всеми парусами. Салли их помнила. И помнила, как Фенелла – как здесь оказалась Фенелла? – глядела на все эти латунные штучки в восхищении. «Как это роскошно! – сказала тогда Фенелла. – Ну надо же, у вас наверху так же красиво, как внизу! Когда стану взрослая, весь дом так украшу!»
Вспомнив это, Салли заподозрила, что дом Одри вдохновил их на создание выставки рисунков в собственной спальне.
Потом случилось второе событие. В конце коридора спустили воду в туалете. Получилось так громко и внезапно, что Салли снова метнулась прочь и оказалась на полпути вниз. Там из-за шума воды она еле расслышала шаги – шаги, от которых заскрипели старые половицы под новым ковром, но не слишком тяжелые и не слишком громкие. Четыре легких шага, может, пять, а потом скрип старой двери, которую не прикрыли до конца.
Салли мигом очутилась снова наверху, в коридоре. Так ходят только совсем молодые люди. Возможно, это была сама Одри. В конце коридора до сих пор вовсю шумела и булькала вода в туалетном бачке, а почти напротив еще еле заметно двигалась старая дверь. Салли скользнула сквозь темное дерево в теплую просторную комнату. Она заметила, как трепещут на фоне тусклой луны нарядные узорчатые занавески на открытом окне, а потом услышала, как тихонько дышат два человека.
Два. Точно.
Зависнув ненадолго посреди комнаты, Салли определила, откуда доносится дыхание, жар и электрическое ощущение жизни – с двух постелей: одна в темном конце спальни, другая в лунном свете, под окном. В темной постели спала Одри. Салли ее узнала, хотя не так, как узнала бы кого-то близко знакомого. От Одри мощно веяло теплом и силой, как от человека, который в ладу с самим собой; по цветастой подушке разметалось неожиданно много прямых черных волос. Увидев эти волосы и прислушавшись к легкому, тихому дыханию, Салли сообразила, почему медными украшениями восхищалась именно Фенелла. Одри сначала была подругой Фенеллы: та завязала с ней знакомство, потому что у Одри был пони, а Фенелла была помешана на лошадях. Потом ее сестер пригласили в гости показать пони и роскошный дом. Одри была ровесницей Салли, но в школе они учились в разных классах, и Салли, грубо говоря, отбила Одри у Фенеллы. А поскольку ощущение от спящей Одри было ей незнакомо, Салли заключила, что все это, наверное, произошло недавно.
Но это значило, что на второй кровати спит она сама. То есть если она жива, подумала Салли, зависнув над бугорком под одеялом. Салли во плоти зачем-то накрылась одеялом с головой, совсем как Имоджин, и ее не было видно, не считая волос. Это зрелище удивило Салли: волосы оказались гораздо светлее, чем она думала. Почему-то Салли была уверена, что волосы у нее темные, как у Фенеллы.
– Может быть, я и вправду не Салли, – сказала она.
Едва она это произнесла, как поняла, что телесная Салли не спит. Та дышала неровно и тяжело. И трескучее жизненное поле, исходившее от нее, было не нежное, как у Одри, а напряженное и порывистое. Стало ясно, что это она только что ходила в туалет. Но теперь она не собиралась спать дальше, она… она чего-то ждала.
И эта минута наступила. Из-под одеяла высунулась рука – не то чтобы знакомая или незнакомая, – и от нее веяло такой трескучей жизнью и тревогой, что Салли невольно отпрянула. Рука схватила одеяло и отбросила его, и телесная Салли вскочила с постели одним отточенным плавным движением. «Скри-ип!» – сказал старый пол, когда она выпрямилась.
Салли отлетела от нее еще дальше в полном изумлении. Прежде всего, Салли во плоти была одета – в джинсы и старый свитер. Она явно куда-то собиралась. Однако больше всего Салли изумилась тому, что эта девочка выглядела как нормальный человек. Насмотревшись на трех своих сестриц, Салли решила, что у нее в семье все ненормальные. А эта девочка была пусть и худенькая, но совсем не похожа ни на ведьму, ни на насекомое, в отличие от Фенеллы, и довольно высокая, ростом не ниже Имоджин, но не настолько крупная, как Шарт. В лунном свете она была хорошенькая, но совсем не такая яркая, как Имоджин с ее ангельской красотой, поскольку брови у девочки были темные, а профиль слегка ястребиный – это она унаследовала от Самого. И все-таки Салли не ожидала, что она окажется такой миловидной. Волосы у нее и в самом деле были вроде бы светлые. И вообще она была красивая – вся, за исключением нескладной фигуры тринадцатилетней девочки, когда спина уже выгнулась, чтобы подчеркнуть широкие бедра, но самих бедер еще нет, а вместо пышного бюста пока что два крохотных бугорка. Салли поймала себя на том, что от этого ей немножко жалко эту неожиданную девочку. Но удивление перевешивало все прочие чувства. Она ожидала увидеть что-то куда более своеобразное.
Телесная Салли, постояв секунду на месте, сделала осторожный шаг. Старые половицы тут же ответили слабым стоном. Девочка замерла. Но поздно. Контуры спящей Одри затрещали электричеством, вздыбились, приподнялись.
Тоненький сонный голос нечетко проскулил:
– Салли, ты что делаешь?
– Я просто в туалет, – ответила телесная Салли. Голос удивил Салли не меньше всего остального. Чистый и приятный.
– Ты же только что оттуда, – пробурчала Одри.
– Нет, это было час назад, – тихо и уверенно соврала телесная Салли. – Ты потом заснула. Давай спи. Я мигом.
Одри, похоже, этим удовлетворилась. Она застонала – точь-в-точь как половицы – и перевернулась лицом к стене. И сразу заснула.
Призрачная Салли услышала, как у телесной Салли вырвался вздох – резкий выдох облегчения. Потом увидела, как та легко и уверенно шагает по скрипучему полу и скользит за дверь, которую предусмотрительно не закрыла только что. Салли последовала за ней – прочь из комнаты, по изогнутому, латунно-блестящему коридору и вниз по скрипучей лестнице.
– Куда это я? То есть что ты затеяла? – спросила Салли.
Она окончательно перестала понимать, что происходит. Не последней из ее бед было то, что ей никак не удавалось заставить себя думать об этой девочке, уверенно крадущейся через дом Одри, как о себе самой. Она знала, что эта девочка – Салли. Тут ошибки быть не могло. Но при этом ей вовсе не казалось, что они одно целое. Она даже не догадывалась, что эта Салли думает и чувствует. Как будто эта Салли – какой-то чужой человек, за которым она вынуждена следовать и наблюдать, в точности как за сестрами Салли.
Телесная Салли провела ее через гостиную, украшенную блестящими штучками еще обильнее, чем коридор наверху, и отперла узкую стеклянную дверь в сад. Это Салли одобрила. Правильно, нечего ходить через скотный двор, беспокоить хрюкающую свинью и нервную собаку. Кроме того, по тому, как девочка аккуратно закрыла дверь, подсунув тряпку, было понятно, что она не просто куда-то уходит, а намерена вернуться.
А вдруг она не вернется? Может, именно поэтому Салли превратилась в призрак? У Салли вдруг возникло ощущение, что эта девочка точно идет куда-то не туда, что там опасно. Страх и мрачные предчувствия набирали силу, когда она вслед за девочкой пролетела сквозь покрытые росой кусты в самый конец сада. Может быть, эта опасность из тех, которых можно избежать? А вдруг, подумала она, Салли-призраку дарована благодать вернуться в прошлое и уберечь себя саму от этой неведомой опасности? Поэтому призрачная Салли преданно последовала за Салли во плоти за калитку в конце сада по тропинке через деревья.
За деревьями тропинка продолжилась: она вела дальше через поля и терялась в лунной дали. Салли знала, что тропа идет дальше. Но при луне, висевшей низко на востоке, будто медный гонг, пейзаж настолько изменился, что кто угодно решил бы, что здесь вообще нет никакой тропы. Поля стали жемчужными из-за полос белого тумана, лежащего в траве у самой земли. А от лунного света этот туман казался чуть ли не твердым. Нижняя половина Салли-девочки полностью скрылась в нем. Где ее ноги, можно было догадаться только по сиплому шелесту мокрой травы по джинсам. Салли-призраку было легче плыть над этой молочной белизной. У нее, как и раньше, на спортивном поле, возникло ощущение, что здесь она может раствориться и совсем исчезнуть.
Материальная Салли ускорила шаг и нервно завертела головой. Призрачная Салли ее прекрасно понимала. Хотя полосы тумана в основном лежали плоско и тихо, будто молоко, попадались места – особенно по контрасту с темными деревьями, – где он вдруг вздымался и набухал, медленный, тяжелый, густой, и получались огромные белые движущиеся силуэты. Как медведь, как личинка, – грозные, перекатывающиеся фигуры. Жути придавали и коровы, прятавшиеся в неподвижных слоях тумана: они выдавали себя только при приближении телесной Салли – то вдруг фырчали, то внезапно топали, оставаясь невидимыми. Салли-девочка приставила ладони к вискам, будто шоры, и пустилась трусцой, старательно не глядя ни вправо, ни влево.
Заухали совы – то близко, то в дальней дали. Салли вдруг поняла, что совы вовсе не ухают, как все твердят. Половина испускала долгие дрожащие «уууууу» – точь-в-точь люди, играющие в призраков. А вот другая половина рявкала, резко и неожиданно, совсем как Сам, раздающий мальчишкам приказы.
Из-за сов телесной Салли стало еще страшнее. Руки у нее уже не только работали шорами, но и прикрывали уши. Она бросилась бегом и помчалась через поля, по пояс увязая в тумане, под высокой луной, окруженной зловещим радужным ореолом, словно медным кольцом.
Сердито отдуваясь, Салли перебралась через поваленную изгородь из колючей проволоки на клочковатую траву под сухими вязами. Здесь тумана не было. Голые деревья тянули сучья в залитое лунным светом небо, все увешанные колючими черными комьями грачиных гнезд. Грачи в гнездах елозили и каркали, будто чего-то боялись. Зато, очутившись за изгородью, телесная Салли вроде бы слегка упокоилась. Она отняла руки от лица и пробралась через кусты ежевики к прогалине в самом центре кольца мертвых деревьев.
С травы ей навстречу вскочил кто-то черный:
– Ага!
Девочка захихикала – призрачная Салли просто поразилась, какой идиотский это был смех – и сказала:
– Думал, я не приду, да? Между прочим, я чуть не передумала. Я почти уверена, что у Одри в комнате был призрак.
– Я был уверен, что не придешь, – ответил Джулиан Эддимен. – Хотел уже идти спать. После того, как утром ты закатила мне скандал, когда я зарезал черную курицу…
– Ну, знаешь! – возмутилась Салли. – Это же была моя знакомая курица!
– Да ты просто крови испугалась, – сказал Джулиан Эддимен. – Готова?
– Да! – Салли отважно выпрямилась.
– Отлично, – сказал Джулиан Эддимен. – Тогда давай призывай Мониган.
И девочка, по-прежнему отважно выпрямившись, завела совсем как Фенелла:
– О Мониган, великая богиня, приди, явись рабам твоим…
Только это, как теперь вспомнилось призраку, был правильный вариант молитвы, который сочинила летом Шарт, – в нем было полным-полно красивых плавных фраз из молитвенника. И тут ей стало страшно не на шутку. Это было по-настоящему опасно. Они сами не понимали, кого призывают. Кроме того, Джулиану Эддимену вообще нечего было тут делать. Он не принадлежал к первоначальному кругу служителей Культа Мониган. Туда входили лишь избранные: секту возглавляла Шарт, как верховная жрица, и Служителями были только сама Шарт, Салли, Имоджин (которой все это с самого начала не нравилось), Фенелла, Уилл Говард и Нед Дженкинс. Видимо, Салли продолжала служение Мониган тайно, в одиночку, а потом втянула в это Джулиана Эддимена.
Они бросили служение (или думали, что бросили), потому что от него всем становилось неловко. Она это помнила, а еще помнила, как Шарт говорила: «Можно называть ее Мониган и считать все это игрой, но, по-моему, никакая это не игра. Я думаю, и правда есть какая-то древняя, темная женская Сущность, а мы ее пробудили и потихоньку подтащили поближе. Продолжать нельзя. Это небезопасно». Призрачная Салли вспомнила, как ей тогда стало интересно, зачем Шарт все это говорит, – может, хочет, чтобы все они продолжали верить, хотя самой Шарт игра уже наскучила? Но теперь она понимала, что ошибалась. Шарт говорила чистую правду. Когда материальная Салли завела свою молитву, у призрака сразу появилось отчетливое ощущение, что Сущность шевелится, вздымается, надвигается все ближе, подползает к сухим вязам из мглы, словно вздымающийся туман, влажная, бесформенная, пресная. И неимоверно могущественная. До призрака доходили несильные вкрадчивые вибрации Сущности, совсем не похожие на трескучее жизненное поле, окружавшее Салли и Джулиана Эддимена – гораздо, гораздо сильнее, и они медленно, но неуклонно прокрадывались в кольцо мертвых деревьев.
Девочка-призрак бросилась на молящуюся Салли, запорхала вокруг:
– Прекрати! Беги отсюда! Ты сама не знаешь, что делаешь! Это не шутки: Мониган есть на самом деле! А Джулиан Эддимен, по-моему, просто псих!
Однако роль ангела-хранителя ей, как всегда, не удалась. Телесная Салли не слышала ее и продолжала распевать под луной. Молитва вышла длиннее обычного. Должно быть, Салли ее дополнила – а может, это Джулиан Эддимен постарался. Теперь в ней было полно выражений вроде «напои нас своим жарким дыханием» и «да запылают наши души твоей жаждой крови» – Шарт и в голову бы не пришло вставлять такое.
Тем временем Джулиан Эддимен деловито зажигал вокруг Салли кольцо свечей. Это были высокие, толстые желтые свечи, украденные из школьной часовни. Огонек каждой свечи, затеплившись, по-новому освещал его красивое белое лицо с алыми губами. Оно все сияло саркастичным весельем, а губы, похоже, были совсем мокрые.
Песнопение завершилось. Теперь под вязами горело тринадцать свечей, и Салли-призрак ощущала, как Сущность, по прозванию Мониган, напирает на мерцающее кольцо со всех сторон.
– Хорошо, – произнес Джулиан Эддимен. – Теперь моя очередь.
Он картинно встал и сделал шаг в сторону, туда, где лежала лопата – украденная у мистера Маклаггена. Джулиан Эддимен решительно вонзил ее в землю и налег. Вывернул и опрокинул большой ком дерна, весь в полуосвещенных, закрывшихся на ночь одуванчиках. В открывшейся сумрачной яме лежал труп черной курицы. Он был весь в земле, но довольно свежий. И лежал, свесив шею набок, на груде ржавой железной цепи. Джулиан Эддимен отшвырнул курицу в сторону и вытащил железо – лязгающую охапку цепей. Бережно свернул цепь тяжелыми петлями и повесил на локоть. Потом взял курицу за шею и встал лицом к луне, Салли и свечам.
– Я посвящаю тебе, о Мониган, эти дары и самого себя, – пропел он.
Это он, конечно, говорил не всерьез. Ведь он все время ухмылялся.
Потом он шагнул в кольцо свечей и надел цепи на Салли.
И снова девочка-призрак бросилась на Салли и попыталась оттолкнуть ее и заставить убежать. Но Салли стояла себе – глаза у нее сияли и мягко помаргивали от свечей – и покорно, будто зачарованная, позволяла Джулиану Эддимену обматывать ее тяжелыми цепями. Ощущение Мониган наползло уже и в круг свечей и тяжко налегло на Салли – тяжко, как цепи. Сущность знала, что призрак здесь. И жестоко смеялась над попытками призрака напугать Салли. Однако же на всякий случай презрительно швырнула обеим мысль, будто все это просто игра. Игра, придуманная Джулианом Эддименом. В результате Салли охватила смесь отвращения, веселья и ужаса. До чего же все-таки глупо и гадостно, что лязгающие цепи должны быть все в куриной крови, которая светилась при свечах, смешанная с землей и ржавчиной. И до чего глупый жест удумал Джулиан Эддимен – оставил длинный конец цепи и намотал его себе на шею.
– Клянемся верно служить тебе, о Мониган! – И он захохотал, чтобы показать, какая все это глупость. И в качестве завершающего штриха взял мертвую курицу и прижал ее окровавленный перистый бок ко лбу Салли. А потом к своему. После чего торжественно поднял курицу обеими руками и сказал: – Повторяй за мной. Я, Селина Мелфорд, предаю себя тебе в рабыни, о Мониган, и наш договор освятил эту ночь на семнадцатое июля. Отныне и навеки я твоя.
Когда Салли начала повторять эти слова, девочка-призрак ощутила, как сила Мониган проползает меж свечей, чтобы забрать то, что принадлежит ей. В ужасе ринулась спасаться вверх. Не получилось. Ее поймали и придавили вниз, к воздетой к небу мертвой курице, и давили и давили, как она ни отбивалась и ни вырывалась. Мониган окружила ее со всех сторон, словно тусклая туманная чернота.
Вроде бы эта сила твердила, что призраку надо напитаться курицей. «Поглоти ее, – велела сила. – Тогда сможешь говорить со смертными. Поглоти ее».
Но призрачная девочка не могла есть курицу. Она не понимала как, и ей было страшно и мерзко есть труп. К тому же она понимала, что если она послушается Мониган, то поможет ей приблизиться к цели. И отбивалась как могла и в конце концов оторвалась от курицы и ринулась прочь, подальше от круга мертвых деревьев. Но Мониган была и здесь. Девочка-призрак зависла, зажатая между двумя деревьями, и мгла напирала на нее сзади, и было не сдвинуться с места. Она ясно видела и кольцо свечей, и Салли, стоявшую будто статуя, нагруженная цепями, и Джулиана Эддимена, стоявшего перед ней и сияющего от победного веселья.
Сила, подчинившая их себе, была злобная и безжалостная, но и ее все это забавляло – в точности как Джулиана Эддимена. «Отказываешься есть. – Да, сила определенно подшучивала над ней. – Прекрасно. Хотела, чтобы я осталась не у дел? Ну хорошо, я оставила тебя на семь лет. Я могу себе это позволить. – Шутка оказалась до предела жестокая и с победной ноткой. – А теперь эти семь лет кончились».
При этих словах туман за сухими вязами поднялся и надвинулся на открытое пространство – медленный, бурлящий, молочный. Он накатил на Салли и на Джулиана Эддимена и скрыл их. Несколько мгновений за пеленой тумана жалко моргали тринадцать огоньков. Потом они исчезли, и туман снова поднялся, обернулся жирной, как личинка, громадиной, которая обволокла все вокруг. Деревья, луна, поля – все исчезло в ее чреве, будто проглоченное. Но это была не личинка. Это было существо, забинтованное, будто гниющая мумия. У него была удивительная голова – будто собачья, но без ушей. И чудовищная морда. Вся из толстых, розовых, мясистых наростов, выглядывавших между бинтов. Девочка-призрак изо всех сил рвалась прочь от этого существа, а оно подтягивало ее к себе, и сделать ничего не удавалось. Миг – и она оказалась с ним лицом к лицу.
VIII
Оказалось, что это нога. Нога до бедра в гипсе, поднятая у нее перед глазами на каком-то блоке. Морда, которая так ее напугала, оказалась пальцами, торчащими из гипса.
Она лежала и смотрела на нее. «Значит, Мониган – это просто нога? – ошарашенно думала она. И тут же уточнила: – Одна из моих ног». Почему-то она не сомневалась, что это именно ее нога. Чувствовала, как нога ноет – уныло, словно издалека. Она чувствовала, как ноет и вторая нога, и краем глаза видела ее – лежащую на постели, но тоже в гипсе. Двигаться она не могла. От одной попытки что-то разглядеть все кругом посерело. Она закрыла глаза и лежала, вдыхая запахи антисептика и мастики. Было слышно, как вдали гудят какие-то аппараты, чуть ближе что-то перестукивает, пищат подметки по гладким плиткам пола, деловитые голоса переговариваются о чем-то поблизости.
Она еще не успела снова открыть глаза, как поняла, что находится в больнице. И точно: когда она заставила себя снова оглядеться, то увидела справа стойку, на которой высоко-высоко висел прозрачный пакет с чем-то красным, похожим на кровь. Из пакета свисала трубочка и пропадала из виду примерно там, где должна была быть ее правая рука. Кажется, этой рукой она немножко могла пошевелить. Другая рука – как выяснилось, когда она повела глазами в ту сторону, – тоже была задрана и в гипсе. Еще у нее возникло ощущение, будто у нее что-то не то с головой. Голова болела и отказывалась даже поворачиваться. Но, вообще-то, везде болело не то чтобы сильно. Все было какое-то далекое и дремотное.
«Понятно, почему я решила, что произошла катастрофа! – подумала она. – Интересно, что же со мной стряслось».
Тут ей пришлось закрыть глаза, и дожидаться ответа на вопрос не понадобилось. Она снова превратилась в парящее в воздухе нечто, но на сей раз это было как летать во сне. Она понимала, что лежит в постели. Лежала, летала и видела, как от нее на бешеной скорости удаляется маленький мощный автомобиль. Видела в заднее окно две головы. И видела, как эти двое дерутся. Тот, что справа, водитель, был крупнее. Крупный одержал верх, головы наклонились влево. Машина резко вильнула, левая дверца распахнулась. Машина помчалась дальше на той же бешеной скорости. От скорости дверца почти что захлопнулась, но потом снова распахнулась, и из нее выпала девушка. Выпала она, обмякнув совсем как кукла, прямо на несущуюся дорогу, и потом ее, совсем как куклу, протащило еще несколько метров по дороге, подбрасывая на ухабах, потому что нога у нее запуталась в длинной черной петле ремня безопасности. Когда нога наконец выпуталась, дверца автомобиля захлопнулась, и он укатил, бросив изувеченную девушку валяться у обочины, будто сломанную куклу.
Ей совсем не казалось, что все это с ней и случилось, но смотреть на это было неприятно. Силач за рулем выкинул девушку нарочно. Это было несомненно. Она открыла глаза и снова попыталась рассмотреть, что же это за больница, куда она попала.
На сей раз она поняла, что лежит в маленькой отгороженной комнатке в конце большой палаты. Окон в комнате не было, но стены были почти все стеклянные, так что внутрь попадало достаточно тусклого, серого света. За стеклом, в самой палате, свет был теплый, будто солнечный. Она разглядела там загипсованные ноги и медсестру, которая вела по палате какую-то женщину.
Только пациентка снова закрыла глаза, как медсестра вошла в ее стеклянную комнатушку. Она услышала голос медсестры.
– Думаю, она уже должна была очнуться… – Медсестра нагнулась над постелью и произнесла: – Просыпайся, просыпайся, моя хорошая. Тут к тебе пришла твоя сестричка. Она давным-давно тебя дожидается. Просыпайся… Ой, извините, я не расслышала имя…
Донельзя знакомый голос, чистый и приятный, ответил:
– Салли. На самом деле Селина, но у нас в семье говорят Салли.
Та, что лежала в постели, ошарашенно открыла глаза: все кругом было серое и кружилось.
«А я тогда кто?!» – поразилась она.
Она услышала, как кто-то испуганно охнул. Еще бы – наверняка вид у нее сейчас просто жуткий.
– Ты очнулась? Ты меня слышишь?
Она собралась с силами и сосредоточилась на сестре. Все кругом было еще немножко серое, но видно стало лучше. Это была та самая девушка, которая шла через палату вместе с медсестрой – совсем взрослая девица. Да, точно Салли. Те же светлые волосы, так удивившие ее тогда на ферме, только теперь они гладко зачесаны назад и наверх – не то чтобы красиво, но, наверное, модно. И не то чтобы девушка была модница. Наоборот – помятая, унылая и с красными от слез глазами. Но в ее унылом лице прослеживалось что-то ястребиное, как и положено, и не было никаких сомнений, что они с ней прекрасно знают друг друга.
– Я тебя слышу, – выговорила пациентка. Говорить было капельку больно, но не очень.
– Тогда прости меня! – выпалила Салли со слезами на глазах. – Это все из-за меня! Все потому, что я на тебя давила! Приставала, как миссионер, твердила, что тебе надо порвать с Джулианом Эддименом. Ты же знаешь, что с тобой случилось, да?
Пациентка задумалась. Девушка-кукла и автомобиль.
– Джулиан Эддимен выбросил меня из своей машины, – сказала она.
Сейчас это ее не особенно заботило. Ей даже было немного жаль Джулиана Эддимена: он ведь отдал себя в рабство Мониган, и вот теперь, через семь лет, ему пришлось убить ее.
– Прошло семь лет, – сказала она.
Ей показалось, что это логично. Однако же хорошо бы вспомнить хоть что-нибудь, что было за эти семь лет.
– Смотри, я цветы тебе купила. Вот, – сказала Салли.
Цветы поднесли ей к лицу, чтобы она их увидела. Лилии. Одни огненно-оранжевые, пятнистые тигровые, другие нежно-розовые с золотом, третьи белые, четвертые желтые. Прелестные, будто восковые, с большими припудренными тычинками. Она не могла представить себе их на грядке.
– Нравятся?
Она попробовала кивнуть и обнаружила, что не может. Но улыбку выдавила.
– Красивые. Как будто мне на могилу.
– Ой, зачем ты так? – воскликнула ее сестра. – Ты же не погибла! Послушай… – И пустилась в какие-то объяснения. Путаные, слезливые и вроде бы полные самообвинений.
Может быть, там и было про Мониган. Но пациентка этого не знала. Ей было трудно слушать. До нее ничего не доходило, кроме знакомого унылого тона. Да, ее сестра винила себя во всем, что касалось Джулиана Эддимена и катастрофы, но гораздо больше волновалась за себя, потому что была крайне недовольна собой – еще бы, после семи лет рабства у Мониган, подумала пациентка. А теперь Салли хочет, чтобы ее искалеченная сестра все это выслушала и взвалила на себя бремя недовольства, как будто у нее других забот нет. Как всегда. И это выматывало все силы.
– Салли, – проговорила наконец пациентка. – Пожалуйста, перестань. У меня от разговоров голова болит.
В ответ Салли не нашла ничего лучше, кроме как разрыдаться.
– Ой, какой ужас! – всхлипывала она. – Прости меня! Я пойду. Мне правда уже пора. Я ждала сколько могла, но мне нужно сегодня до вечера перехватить одну мою преподавательницу. А потом я вернусь, хорошо?
– Да, – сказала пациентка, надеясь, что к тому времени у нее уже хватит сил все это вытерпеть.
Она закрыла глаза и поплыла в сером сумраке, пытаясь разгадать, что же произошло. Она – одна из сестер Мелфорд, которые когда-то придумали Культ Мониган, считая, что это игра. Салли увлеклась этой игрой и научила ей Джулиана Эддимена, и все это кончилось тем, что она стала рабыней Мониган. Видимо, потом в рабство Мониган почему-то попала и какая-то из сестер Салли. Вопрос в том, которая. Если она не Салли, то кто? Она изо всех сил вспоминала, как была призраком: с кем она чувствовала больше сродства – с Шарт, Имоджин или Фенеллой? Пожалуй, ни с кем, разве что с Имоджин, когда та висела на балке, будто безумное пугало, да и то, возможно, только потому, что знала, каково быть на грани смерти.
Тут ее осенило: «Если Салли пришла меня навестить, придут и остальные. Тогда я пойму, что та, которая не пришла, и есть я». А что, умно, подумала она, но тут ей пришло в голову, что можно спросить у медсестры, кто она. Нет, спрашивать стыдно. Глупо не знать, хотя всем медсестрам наверняка известно, что она потеряла память.
Что она потеряла память, это очевидно. Прошло семь лет – или, по крайней мере, столько времени, чтобы ее сестра Салли успела превратиться в неопрятную, унылую девицу, – из чего она сделала твердый вывод: Джулиан Эддимен очень постарался убить ее. Остальное оставалось в тумане – за исключением того, что она помнила с тех пор, когда была призраком. А самое странное – все время, пока она была призраком, ей и в голову не приходило, что Джулиан Эддимен играет во всем этом какую-то важную роль: это выяснилось только в последние полчаса. Она его даже не помнила. Следовательно, она или Имоджин, или Фенелла, поскольку Шарт явно питала к нему романтический интерес, пусть и недолго. Только вот она совсем не чувствовала себя ни Имоджин, ни Фенеллой. Может, все-таки ее приняли за кого-то другого?
Нет, точно нет. Она узнала свою сестру Салли, а самым знакомым в Салли было ее вечное недовольство. И дом, где она была в виде призрака, и родители – все это было ее. И это был очень странный дом, если вдуматься: все не как у всех, родители вечно заняты, в кухне нет плиты. А вдруг это безумный горячечный бред? Нет. Она точно знала, что все это было по-настоящему, взаправду. И школа была настоящая, а может быть, и до сих пор есть. Страшно было другое: все, что касалось Мониган, тоже было по-настоящему. А значит, почему-то получилось так, что после того, как прошло семь лет, ее выпустили в виде призрака посмотреть, почему она погибла. Да нет же! Она жива до сих пор. Все так запутанно…
Тут ей пришла в голову изящная мысль: Мониган хотела ее убить, но не смогла благодаря достижениям современной медицины.
Успокоенная этой мыслью, пациентка заснула. Но голова ей не поверила и продолжала работать. В итоге, когда пациентка проснулась и обнаружила, что у постели опять кто-то сидит, то первым делом спросила:
– Какое сегодня число?
– Шестнадцатое июля, – тут же ответила посетительница. – Ты пролежала без сознания двадцать часов, насколько судят врачи. Тебя доставили вчера вечером, в полдевятого, и думали, ты не выкарабкаешься, вот что я тебе скажу! Полночи собирали, что твой пазл. Девяносто два шва наложили, представляешь? Факт. Я спросила в справочном, – весело продолжала она. И добавила с глубоким удовлетворением: – Вот натерпишься, когда их будут снимать!
Пациентка скосила глаза и увидела… нет, все-таки не незнакомку. Она точно знала, что уже видела где-то эту женщину – только где? У койки сидела нарядная, еще совсем не старая дама, которая не сдавалась под натиском лет и для этого красила волосы в ярко-рыжий цвет и щедро мазала губы оранжевой помадой. На даме было экстравагантное лоскутное пальто из ярко-лиловой клеенки вперемежку с кудрявым фиолетовым мехом. Пальто пациентка определенно видела в первый раз. Такое не забывается. А вот пухлая зеленая с оранжевым хозяйственная сумка на коленях дамы была ей смутно знакома. Как и яркие веселые глаза и сухие, острые черты лица под рыжими кудряшками.
– Держи. – Посетительница деловито порылась в оранжево-зеленой сумке. – Я тебе винограду принесла. На станции купила перед поездом. Ну и цену зарядили – правда, нынче все дорого. – Пациентка увидела ее руку, пухлую, морщинистую, в ней болталась тяжелая гроздь крупного зеленого винограда. – Любишь такой? – спросила посетительница. – Я вот всегда говорю – зеленый самый вкусный. Думала еще цветов купить, но побоялась. Где мне угодить тебе, с твоим художественным вкусом.
– Спасибо, – выговорила пациентка еле слышно. Ну и как поесть винограда, когда не шелохнуться? Но она не стала говорить этого.
Однако посетительница, оказывается, подумала об этом.
– Похоже, шевелиться ты не особенно можешь, в таком-то виде, – заметила она. – Хочешь, я буду выдавливать виноградины тебе в рот?
Потом она, судя по всему, сообразила, что пациентке это не по душе. Ничуть не обидевшись, она убрала виноград куда-то с глаз долой и снова порылась в сумке, продолжая говорить:
– Должна сказать, когда ты сюда попала, та еще была работенка выяснить, кто ты такая, но они справились. Не надо мне говорить, что с тобой стряслось. Теперь это все знают. Этот твой приятель, чтоб ему пусто было, выбросил тебя из машины. Беда в том, что он укатил с твоей сумочкой. Надеюсь, его уже поймали. Свидетелей была целая куча – вот дурак, решил обстряпать дельце прямо на шоссе! Тебя сразу нашли, подобрали, слава богу! Но в больнице не знали, кто ты такая, только и обнаружили что бирочку с фамилией на старой блузке, еще школьную, а там-то написано только «Мелфорд» – и все! Представь себе! Всю ночь выясняли и пол-утра. В конце концов разыскали тебя через художественную школу. А то ты бы меня еще вчера вечером увидела… правда, тогда ты была не в том состоянии, чтобы видеть, но ты меня поняла.
Рытье в сумке принесло плоды: старую грязную жестянку с табаком и пачку бумаги для самокруток. Посетительница принялась скручивать папиросу, а слова так и лились из нее. Пациентка смотрела на нее во все глаза. Кто же она такая? Квартирная хозяйка? Наверное, это самое правдоподобное предположение.
– «Мелфорд» – и все! – повторила посетительница, разравнивая щепотку табака по полоске тонкой бумаги. – Твоя мамаша как она есть – сделала на всех четырех один набор бирок. Если бы она дала себе труд сделать по набору для каждой, избавила бы здешний персонал от лишних хлопот. Да? – спросила она, заворачивая табак в бумажку. – Скупой платит дважды! – отчеканила она и разомкнула оранжевые губы, чтобы лизнуть бумажку. Лизнула, заклеила и продолжила: – Сколько раз я твердила твоей мамаше: не надо быть такой сквалыгой, не доведет это до добра! И вот мне и доказательство! Верно? – закончила она и победоносно сунула маленькую мятую самокрутку в рот и прикурила от массивной зажигалки из пластмассы под агат.
Это оказалось подсказкой. Пациентка сто раз во время набегов на школьную кухню видела, как именно такая мятая, гнутая самокрутка, обычно с длинным дрожащим столбиком пепла на конце, торчала изо рта посетительницы, когда та склонялась над какой-нибудь миской. Едва она это вспомнила, как заметила, что в оранжевой верхней губе есть даже специальная выемка под сигарету.
– Миссис Джилл! – воскликнула пациентка.
Миссис Джилл виновато съежилась под облаком сизого дыма:
– А что? Мне влетит, что курю в палате?
– Нет, что вы! Нет! – сказала пациентка. – Ну просто… – Оказалось, что ей невыносима мысль о том, чтобы признаться миссис Джилл, насколько пусто у нее в памяти. – Просто я не сразу вас узнала. По-моему, я еще никогда не видела вас такой нарядной.
Миссис Джилл рассмеялась – энергичным стрекочущим смехом. Смех пациентка тоже прекрасно помнила. Фенелла говорила, что он похож на звук машины, которая не хочет заводиться.
– Еще бы, ласточка! Я хорошие вещи на работу не ношу. Но я сразу заметила, что ты меня не узнаёшь. Это потому, что у тебя шок. Шок – так мне и сказали в справочном. Я там все-все про тебя разузнала. Подумала, маме-то с папой надо бы сообщить. Все записала. Хочешь, прочту тебе?
– Нет-нет, спасибо, – тут же ответила пациентка.
Миссис Джилл славилась любовью к кровавым подробностям.
– Да уж, меньше знаешь – крепче спишь, – заметила миссис Джилл. По ее тону можно было заключить, что самым безобидным в ее списке была сломанная шея. – Они тебе, наверное, сами скажут, когда решат, что ты вне опасности. В общем, из больницы позвонили на большой перемене, но сейчас же конец учебного года, сама понимаешь. Твой папа по уши в экзаменах, мама день-деньской пакует мальчишкам чемоданы – все в трудах, все в трудах. Ты же их знаешь. Вот я и позвонила твоим сестрам, а маме твоей сказала, что съезжу в город навестить тебя за нее. Между прочим… – В голосе миссис Джилл послышалась нотка яда. Пациентка тут же смутно вспомнила о тысячах скандалов между миссис Джилл и Филлис. – Между прочим, денег на билет до Лондона мне не жалко ни чуточки, но паковать мальчишечьи чемоданы я умею не хуже ее! Откровенно говоря, я еле сдержалась, чтобы не сказать: «Миссис Мелфорд, тут ваша дочка при смерти, а вы только и думаете, что паковать носки да рубашки!» Но я прикусила язык. Я первой никогда не начинаю.
– Еще бы, – сказала пациентка. В голове у нее снова все посерело. Миссис Джилл заставила ее вспомнить, как она была призраком и что это было по-настоящему. – Миссис Джилл, а вы призрака помните? Лет семь назад?
Миссис Джилл снова захохотала, как заводящийся мотор:
– Это когда я посмотрела прямо сквозь одну из вас и всю кухню заляпала заварным кремом? Ну и проказницы вы были! Что, баловались черной магией? Еще и половину мальчишек втянули! Ну да. Помню, какой тогда был скандал и как вас, всех четырех, быстренько собрали да и отправили к бабушке, чтобы не совращали мальчиков с пути истинного. Я еще сказала тогда Лили, что эти мальчишки сами кого хочешь совратят. Мальчишки – они такие. Если подумать, все это была просто дурацкая детская игра. Не понимаю, кому от нее плохо.
– Вы правда считаете, что в ней не было ничего плохого? – живо спросила пациентка.
Миссис Джилл перебросила рыжие кудряшки на одну сторону и задумалась:
– Не сказала бы, что вы были такие уж невинные ангелочки. Черная магия есть черная магия, а зло есть зло, и возраст тут ни при чем. Но дети часто балуются нехорошим. А брошенные дети балуются всем, чем угодно. Только вот ваш отец поднял бы меня на смех. Взрослому человеку неохота признаваться себе, что он и сам творил нехорошее. В этом-то и беда. Если думаешь, что ты нехороший, невозможно нормально повзрослеть. Но теперь-то все это быльем поросло, а вот за твоего отца я беспокоюсь. Он сдает. Надо бы ему на пенсию, честно говоря, но бывают люди, которые этого просто не могут. Муж моей двоюродной сестры умер в одночасье тем же вечером, когда ушел на пенсию. Она говорила мне, что, мол, работа была его жизнью и… А, привет, Шарлотта, ласточка! Надо же, как быстро добралась!
– Не так-то и быстро, к сожалению. Я собиралась во Францию с преподавательницей, сидеть с ее детьми, и пришлось сначала зайти к ней и объяснить, что я не смогу поехать, – отозвался откуда-то вне поля зрения голос Шарт, знакомый-презнакомый.
– Ну, наверняка у нее тоже есть любимые сестры, – с умудренным жизнью видом заметила миссис Джилл. – Она тебя прекрасно понимает.
– Да. Есть, – довольно резко ответила Шарт. – Потом пришлось ловить попутку из Кембриджа – на это ушла куча времени.
Она появилась в поле зрения и замерла, с нескрываемым ужасом глядя на гипс, бинты и пакет с кровью.
– Да тут живого места нет! Как она?
– В шоке, ласточка. – Миссис Джилл мигом вскочила, загремев стулом. Они с Шарт отошли в сторону, так что их стало почти не видно, и завели разговор полушепотом – из тех, от которых у любого больного возникает ощущение, что он одной ногой в могиле.
Пациентка была не против. Она и так знала, что она одной ногой в могиле. Сегодня еще шестнадцатое июля. Мониган имеет право забрать ее сразу после полуночи. Надо сказать Шарт. В основном пациентка занималась тем, что рассматривала Шарт – ту самую Шарт, которую помнила голубой диванной подушкой с размытым лицом. В памяти всплыла сцена семилетней давности – наверное, незадолго до того, как их школу распустили на летние каникулы, – как они с Шарт возвращались домой после уроков. На автобусной остановке стояла стайка девушек – несколько продавщиц из магазинчика «Бутс» через дорогу, две секретарши из школьной канцелярии и компания из политехнического училища в соседнем квартале. И вот они с Шарт вдруг задумались, как всем этим взрослым девушкам удается быть такими стройными и красивыми. Им стало интересно, что же происходит за эти пять-семь лет, что люди так меняются. Они посмотрели на других девочек, выходивших из школы. Посмотрели друг на друга.
– Ну я даже и не знаю, – мрачно протянула Шарт. – Для этого нужно чудо.
Оно и произошло с Шарт, это чудо. Судя по всему, она была студентка. На ней были старые залатанные джинсы, рубашка в клетку завязана узлом на талии, светлые волосы распущены безо всяких затей. И пациентке в жизни не приходилось видеть таких красавиц. Дело не в том, что Шарт была стройной, белокурой и юной, – а выглядела она сейчас моложе, чем когда была диванной подушкой, – дело в том, что лицо у нее теперь было открытое, сияющее, уверенное. Вид у нее стал такой, как будто она знает, какая она красавица. Это было потрясающе.
Пациентка смотрела, как Шарт солнечно улыбается миссис Джилл.
– Тогда мы с вами еще договорим, пока вы не уехали. Вы же еще зайдете попрощаться, правда? Знаете что? Я сюда прошла через травматологический пункт. У них в приемной просто фантастически удобные кресла. Посидите там, подождите меня, ладно?
– То, что доктор прописал! – закивала миссис Джилл, нагнулась и весело посмотрела в лицо пациентке. – Ну, пока-пока, ласточка. Хорошо, что жива осталась, правда? – И, рассмеявшись, как заводящийся мотор, испарилась.
– Ой, Шарт, – слабым голосом проговорила пациентка. – Зря ты отправила ее в травму!
Правильные черты Шарт сложились в более знакомую надутую мину.
– Старая вампирша, вот она кто! Больше всего на свете обожает сломанные кости и ведра кровищи. Сидела тут и злорадствовала, глядя на тебя!
– Понимаю. – (От слез сердитое лицо Шарт подернулось серым.) – Конечно злорадствовала, но все равно ты нехорошо поступила. Она приехала потому, что мама не смогла, и сама заплатила за билет, и купила мне чудесного винограда.
– Ага. Наши родители в своем репертуаре! – Шарт сердито, но все равно грациозно уселась на стул у койки. – Их нельзя отвлекать, вот и послали вместо себя миссис Джилл. А миссис Джилл и рада была поехать, потому что потом можно будет всем соседкам рассказывать, что мама с папой не поехали к тебе, даже когда ты была при смерти. Ладно, не плачь. Извини. Я знаю, что миссис Джилл сделала это не только по злобе, но и по доброте душевной, однако это ничего не отменяет, вот я и сержусь! А теперь рассказывай, как ты себя чувствуешь и что стряслось – или ты сама не знаешь? Это правда, что Эддимен, поганец этакий, выкинул тебя из машины? Да не плачь ты! Небось не перестала сходить по нему с ума, даже после того, как он с тобой поступил.
– Ничего подобного. – Пациентка сглотнула. – Ты не… ты не думай, мне всю жизнь было на него наплевать. – Глаза по-прежнему заволакивало слезами. Она понимала, что плачет потому, что видит Шарт – Шарт, чудесно преобразившуюся и все равно такую знакомую, и потому что вдруг осознала, что Шарт можно рассказать все, что угодно, – и всегда было можно. В конце концов, кто кротко выслушивал Имоджин, когда та предавалась страданиям?
Шарт вытаращилась на нее:
– Наплевать?! Скажи это кому-нибудь другому! Ты же сбежала с ним из дома, ты прямо-таки заставила Самого заплатить за твое обучение в художественной школе, лишь бы быть поближе к нему, и можешь мне поверить, еще никому не удавалось заставить Самого выложить такую крупную сумму разом! А теперь ты говоришь, что тебе наплевать на Джулиана! Кто из нас спятил? Ты или я?
– Я, – всхлипнула она. Ей было что добавить, но удалось выдавить только: – М-мониган.
– Ой. – Шарт внезапно посерьезнела и выпрямилась, так что ее сразу стало почти не видно. – Вот что странно… – проговорила она. А потом, что-то взвесив, продолжила: – Да, пожалуй, я тебе расскажу. Помнишь Уилла Говарда?
– У него еще лицо как у выдры? – уточнила пациентка.
Шарт засмеялась – коротко и весело прыснула:
– Точно, он! Вот умеешь ты подбирать слова! Так вот, он же сейчас в Канаде. Я уж думала, он совсем исчез с горизонта, но сегодня утром, как раз перед тем, как мне позвонила миссис Джилл, получила от него телеграмму. Хочешь взглянуть?
– Да, если можно. – Пациентка ушам своим не верила. Уилл Говард! Что этот домашний английский мальчик делает в Канаде?
Шарт поднялась, чтобы вытащить из заднего кармана залатанных джинсов сложенную сероватую бумажку. Нагнулась и поднесла бумажку, растянув ее двумя руками, к полным слез глазам сестры. Когда Шарт нагнулась, от нее повеяло ароматом чистых волос и здоровья.
«Я пахну иначе, – подумала пациентка. – От меня сейчас веет особым запахом, каким пахнут больные». Сначала ряды машинописных заглавных букв заплясали поверх светло-серых букв, напечатанных позади. Отчетливо читалось только слово «Онтарио». Она поморгала, буквы угомонились.
ШАРЛОТТА МЕЛФОРД
ГЕРТОН-КОЛЛЕДЖ
КЕМБРИДЖ
ПОМНИ МОНИГАН ПОТРЕБУЕТ ЖЕРТВУ СЕМНАДЦАТОГО ИЮЛЯ СЕГО ГОДА БЕРЕГИСЬ ИЛИ ПОПРОБУЙ ОПЯТЬ КУРИЦУ ТЧК
УЖАСНО БЕСПОКОЮСЬ
ГОВАРД ИЗ КУСТОВ
– Наверное, он так подписывается, потому что думает, что мы его забыли, – сказала Шарт. – Будто Говарда можно забыть! И когда я первый раз ее прочитала, то решила, что Говард просто дурачится. Потом позвонила миссис Джилл, и у меня прямо мороз по спине пробежал. Не может быть, думаю. Это же на день раньше срока – Мониган жульничает!
– Не на день, а на два, – поправила пациентка. – Это случилось вчера вечером.
– Да, я знаю. – Шарт снова помрачнела и села. – Но мне пришло в голову, что за это время было два високосных года.
Застекленную антисептическую комнатушку снова заволокло серым и холодным.
– Но это же дурость какая-то! – выпалила Шарт. – Мониган была просто глупой игрой! Не могу себе простить, что придумала ее, будь проклято мое убогое воображение! Я постоянно твержу себе, что она ненастоящая. Наверное, это все вопрос веры. Наверное, тебе надо изо всех сил постараться не верить в Мониган – я же вижу, что ты веришь, точно так же как и Говард. – Она потрясла телеграммой, будто эта бумажка была за Говарда. – Глупый мальчишка! Глупый мальчишка – уничижение паче гордости! Как будто мы могли его забыть!
Вода в глазах пациентки взбухла и скатилась по зашитым и загипсованным вискам.
– Но я ведь забыла, – призналась пациентка. – Ну то есть я не забыла его, но у меня совсем не сохранилось в памяти, что он уехал в Канаду! – Она увидела, как Шарт повернулась и изумленно уставилась на нее. – Прошло семь лет с того… с последнего, что я помню, – пояснила она. – Со мной случилась просто жуткая история. Я была призраком, вернулась домой, и вы все там были, я всех видела. Говард был одним из первых, кого я увидела. Но он был школьником.
– Ты что, правда не помнишь? – удивилась Шарт. – Это было сразу после скандала из-за курицы, когда нас всех отправили к бабушке. Уилл Говард вдруг примчался к нам и стал ныть, что его родители решили переселиться в Канаду и увезти его с собой, а он туда не хочет. Мы обещали его спрятать у себя. Но бабушка его застукала и позвонила его родителям, – закончила Шарт, помрачнев от тяжелых воспоминаний, – и они приехали и забрали его.
Настала пауза. Потом Шарт снова повернулась посмотреть на сестру:
– Призрак, говоришь? А ведь и правда, перед самым скандалом из-за курицы у нас появился призрак, то есть мы все так подумали. Ну-ка расскажи мне, как все было.
Она и рассказала, торопливо, то и дело всхлипывая – и все равно торопливо. Ее внезапно охватило навязчивое ощущение, что время у нее на исходе. Она рассказала более или менее все, до самой сцены экзорцизма, визита на ферму и полуночного ритуала, превратившего Салли в рабыню Мониган. Но вот чего она не сказала – и это распирало ее изнутри, из-под всего остального, что она не могла заставить себя рассказать даже Шарт, – так это того, что она не понимает, которая она из сестер. Не Шарт. Не Салли, думала она, пока рассказывала. Значит, я или Имоджин, или Фенелла. Но я не вынесу мысли, что Шарт знает, что я не знаю.
Шарт слушала подавшись вперед, и на лбу у нее залегли две четкие морщинки – точно такие же четкие морщинки, которые, как помнилось ее сестре, появлялись у Имоджин, когда та задумывалась.
– Это объясняет, что стряслось с курицей, – сказала Шарт наконец, когда история закончилась. – Занятно, что тогда никто из нас об этом не подозревал. Но тут что-то не сходится, понимаешь? Должно быть еще что-то. Я уверена. Жаль, что я уже плохо помню. Например, я точно знаю, о чем говорит Уилл Говард в телеграмме. Я знаю, что это было семь лет назад и что Мониган потребовала жертву, но я не знаю, откуда я это знаю. Зато знаю, что тогда мы это как-то поняли и предприняли какие-то действия.
– Ага, вы пытались меня изгнать, – напомнила ей пациентка.
Но Шарт только яростно встряхнула длинными светлыми волосами.
– Нет. Я не это имела в виду. Тогда у нас ничего не получилось. Помню, одна из нас сказала – забыла, кто именно, – что нет никакого толку устраивать по этому поводу что-то религиозное, потому что мы все абсолютно нерелигиозные. И у меня такое чувство, что все, что мы делали потом, было именно что крайне нерелигиозное. Ну то есть я это знаю, потому что это все входило в скандал из-за курицы, но… – Шарт осеклась и посмотрела на сестру с глубокой тревогой.
– Что? – спросила та.
– Прошлого не изменишь, – проговорила Шарт. – Изменить можно только будущее. Многие пишут разные истории, притворяются, будто прошлое можно изменить, но это невозможно. Прошлое можно только неправильно запомнить или по-другому истолковать, а нам это ни к чему. Я все забыла и вспомнила, только когда ты об этом заговорила. Думаю, мне не хотелось это помнить, потому что все это крайне неприятно. Для начала я забыла, как сильно мы все были влюблены в Джулиана Эддимена. У нас у всех от него по-дурацки дрожали коленки – такой он был соблазнительный, а все потому, что он так сильно отличался от Уилла, и Неда, и прочих мальчишек, не думал, будто у него две головы, не то что… как бишь звали того, кто думал, что у него две головы?
– Полудурок Филберт, – подсказала пациентка.
– Полудурок Филберт, – кивнула Шарт. – Не ходил дурацкой походкой, не притворялся параличным, не то что они. Честно говоря, я думаю, это верный признак, что Джулиан Эддимен уже тогда окончательно спятил. И тут, – изумленно добавила она, – надо было бы закончить предложение так: «…Хотя нам не полагалось об этом догадываться». Но на самом-то деле нет! Мы все понимали, что с ним что-то неладно, понимали, что это опасно, потому-то он и нравился нам так сильно. А мы ревновали друг к дружке?
– Да… – ответила пациентка. – Нет. Джулиана Эддимена – нет.
– Вот что самое странное! – сказала Шарт. – В каком-то смысле да, но на самом деле мы были… мы были так едины, что если бы одна из нас его заполучила, словно бы уже и не важно, кто именно.
– Тебя послушать, мы были как хищницы – или как самки пауков! – оторопела ее сестра.
– Вообще-то, да, – сказала Шарт. – Я вот сейчас подумала: если всем нам на самом деле было на него наплевать, даже тебе, раз уж ты так говоришь, тогда, может быть, Мониган и не была манифестацией нашей общей жажды ярких переживаний, суицидальных порывов или еще чего-нибудь.
– Пожалуйста, не умничай! – взмолилась пациентка. – Что ты хочешь сказать?
– Сама не знаю. – Шарт поникла на стуле. И закрыла лицо руками. – Призрак появился и на следующий день, – проговорила она. – Я точно помню. Судя по всему… ты еще не закончила начатое. – Она резко отняла ладони от лица. Ее снова охватила тревога. – Если считать два дня за два високосных года, у тебя есть время сегодня до полуночи. Все-таки Мониган играет честно. Или кто-то другой. Такое чувство, что тебе дозволили вернуться и посмотреть, что можно исправить. Но исправить-то ничего нельзя! – Шарт внезапно вскочила. – Нечего мне тут рассиживать и пороть чушь! Даже если Мониган существует на самом деле, никто не может изменить того, что уже случилось. Это я точно знаю и знала сегодня утром. Но все равно я такая суеверная, чтоб мне пусто было, что, когда получила телеграмму от Уилла, позвонила бабушке спросить, как там Оливер.
– Оливер! – воскликнула ее сестра. – Что, Оливер еще жив?!
– Еще как, – сказала Шарт. – А я что, не… Постоянно забываю, что ты ничего не помнишь. Он, конечно, постарел, и воняет, и жрет как свинья, но бабушка, к счастью, души в нем не чает, поэтому он живет у нее, пока я в Кембридже. Не могла же я оставить его дома, чтобы его вечно забывали покормить. – И тут без предупреждения и без объяснения Шарт вся сморщилась и заплакала.
– Что случилось? – спросила пациентка. Похоже, слезы были заразные. Она и сама начала всхлипывать.
– Прости меня! – всхлипнула Шарт. Вытащила из кармана бумажный платочек, вовремя сообразила, что это телеграмма, и вытерла лицо рукавом. – Ну вот, теперь и ты из-за меня плачешь. Просто… я, конечно, обожаю Оливера, но когда вижу тебя в таком состоянии, то понимаю, что тебя я люблю гораздо сильнее! Надо, чтобы ты… когда снова вернешься в прошлое призраком, пожалуйста, постарайся донести это до нас. Мы, конечно, были совершенно чокнутые, но совсем не дуры. И…
Тут вдруг вошла медсестра – размытая фигура, маячившая за огромной белой ногой. Она сказала Шарт:
– Выйдите, пожалуйста, минут на десять, подождите снаружи. Доктор Смайт хочет осмотреть мисс Мелфорд.
– Конечно, – сказала Шарт. Торопливо нагнулась над пациенткой – снова пахнуло здоровьем. – У меня есть ключ от твоей квартиры, поэтому я в любом случае побуду в Лондоне, пока тебе не станет лучше. Можно мне спать в твоей кровати? Я знаю, тебе тошно от одной мысли, что я буду наводить порядок в твоих вещах, так что даю честное слово ничего-ничего не трогать.
– Все нормально, – сказала пациентка. Она понимала, что врач уже в палате и Шарт сейчас уйдет. – Постой! – окликнула она. Шарт замерла. – Ты собираешься стать учительницей?
Странный вопрос, но пациентке сейчас казалось, что это очень важно.
Шарт помедлила, оглядела размытые фигуры, столпившиеся в палате. Улыбнулась. Она поняла, почему это так важно.
– Потому что Филлис всегда так про меня говорила? Брось. Это она так о нас заботилась: когда она рассуждала про наше призвание, у нее возникало ощущение, что она заботится о нашем будущем. Я еще не решила, кем быть. Не так-то просто найти работу.
И она выскользнула за дверь. Ее место заняли размытые фигуры и огромная белая нога с кивающей мордой из толстых сизых пальцев.
IX
Ее снова оставили в покое, и можно было подумать. Салли – да нет же, она никакая не Салли, она, должно быть, Имоджин или Фенелла – зависла среди жужжащих мух в пустой кухне и стала размышлять над тем, что она теперь знала. Но ее призрачный разум, как и в прошлый раз, стал ограниченным, как тонкий луч фонаря. Всего, что в него не попадало, словно бы и не существовало. Вот мухи – они существовали, как и тающие запахи завтрака из-за зеленой двери.
Сестры, похоже, еще не проснулись. Было тихо, не считая мух и далекого гомона, доносившегося из Школы. За окном шелестели яблони и клевали куры – начинался один из тех ветреных, жарких пасмурных дней, когда даже самые яркие цвета становятся тусклыми и заурядными. Это было зловеще, как будто сегодня произойдет что-то скверное. Иногда стекла покрывались капельками: за окном моросило.
Призрак висел в воздухе и пытался вспомнить, что же произошло за семь лет между сейчас и больницей. Это было время бесплодных ошибок. С одной стороны, ее жизнью распоряжался Сам, вечно сердитый, но почти всегда отсутствующий, с другой – Джулиан Эддимен, вечно смеющийся, вечно требующий все больше и больше. Сплюснутая между ними, она истончилась почти в ничто. Поначалу она старалась угодить обоим, но потом стало ясно, что угодить Самому невозможно – ему просто неинтересно. После этого она целиком посвятила себя тому, чтобы угождать требовательному Джулиану Эддимену. Пошла учиться в художественную школу, как упоминала Шарт. Вроде бы это правда. У нее сохранились смутные воспоминания, что так решил Джулиан Эддимен. Он сказал, что это будет хороший предлог жить в Лондоне, поближе к нему. Жить с ним она не могла. Он жил с родителями.
Так вот, она училась в художественной школе. Как там было? Она собрала все силы и направила тонкий луч внимания в ту сторону – и вспомнила время одиночества и обид. Там было полно блестящих живописцев и бешено талантливых юных художников, и все они умели по-умному рассуждать о том, чем занимались. Она так говорить не умела. А рисовала она неплохо для ребенка, но жалко и убого для взрослой студентки. Она оставалась там только ради Джулиана Эддимена.
Неужели она стала такой же унылой и недовольной, как взрослая Салли? Она боялась, что да. В этом она винила Джулиана Эддимена. Однако понимала, что и сама виновата, что позволила Джулиану Эддимену забрать над собой такую власть. И она решила порвать с ним. Иначе она никогда не сможет ничего сделать самостоятельно. Но ей было страшно это делать. У Джулиана Эддимена случались приступы неукротимой злобы, когда она делала что-то, что ему не нравилось, и это ее пугало. Во время такого приступа он и вытолкнул ее из автомобиля.
Он собирался в Южную Африку. Отец нашел ему там работу. Отец все ему находил, даже автомобиль, из которого он ее вытолкнул. Джулиан Эддимен хотел, чтобы она поехала с ним в Южную Африку – все бросила и поехала. И она поняла, что настал момент, когда придется сказать «нет». На то была тысяча причин, особенно что Южная Африка не та страна, где хочется жить. Но она все не решалась сказать «нет» – так она его боялась – и собралась с духом, только когда они ехали в его автомобиле. Тогда она стиснула руки и зубы, набралась храбрости и сказала «нет». И у Джулиана Эддимена приключился необычный приступ лютой злобы…
Тут ее сбил с мысли Оливер. Он вышел из гостиной, сонно спотыкаясь, и издал тихий, будто издалека, рокот, когда обнаружил, что она еще здесь. Но он уже свыкся с ее присутствием. Она же была ему родная. Между прочим, могла бы не слоняться без дела, а выпустить его для утреннего моциона. Поэтому Оливер с намеком оттащил свою пеструю тушу, с осла размером, к задней двери и терпеливо замер там, нацелив нос в сторону выхода. Призрачная сестра ничего не сделала, и тогда он несколько раз пискнул – будто донесся издалека свисток спортивного судьи – и остался стоять, терпеливо нацелясь на выход.
– Без толку, – сказала она. – Я не могу открывать двери в таком виде.
Оливер ей не поверил. Ткнулся носом в щелку у косяка и многозначительно засопел туда. Это ни к чему не привело, и тогда он вздохнул, поднял огромную лапищу с тремя когтями и ударил в дверь. Дверь зашаталась. Оливер подождал, посмотрел через плечо на призрак и снова ударил в дверь.
– Прекрати. Я же тебе объяснила. Я не могу.
Однако Оливер так и бил лапой в дверь, и дверь так и тряслась, и от этого содрогался весь дом.
С пятой попытки псу удалось вызвать Фенеллу – она, полусонная, протопала по лестнице в серой нейлоновой ночнушке.
– Ы, – сказала Фенелла. – Призрак вернулся. Глупый пес. Призраки не могут открывать двери.
Она открыла дверь, и Оливер величественно выдвинулся в сад.
Призрачная сестра тоже полетела в сад – без всяких причин, просто потому, что Шарт беспокоилась за пса. Она следовала за Оливером, когда он прошел сквозь стайку кур и лаконично задрал лапу на угол шалашика, где пряталась Мониган. Потом она проследила, как он огибает школьные здания и выходит на просторное тускло-зеленое спортивное поле. Там Оливер предпринял прогулку по самому длинному своему маршруту – на ту сторону поля, почти до самых мертвых вязов. Туда призрачная сестра за ним не последовала. Она зависла у школы, глядя, как неуклюжий пес, огромный даже на таком расстоянии, не спеша бредет вдоль живой изгороди и время от времени суется носом в корни кустов.
Она чувствовала присутствие Мониган. Мониган ждала, злорадствовала, победоносно вздымалась. Нынче ночью Салли и Джулиан Эддимен подарили Мониган столько жизненной силы, сколько не было у нее столетиями, и теперь призрачная сестра ощущала эту жизненную силу в каждой суховатой мимолетной капле дождя, в каждом едком, хлестком луче солнца. Шарт может сколько угодно говорить, что это она семь лет назад выдумала Мониган, но это неправда. Школа стояла на месте, которое когда-то именовалось поместье Манган – отсюда и имя, которое позаимствовала Шарт, а потом неправильно выговорила Фенелла. Но кто поручится, что Шарт не позаимствовала имя какого-то реального существа – может, случайно, а может, существо ей подсказало? Нет. Мониган самая что ни на есть реальная – вот в чем ужас.
Призрачная сестра вдруг страшно перепугалась, осознав, что сможет цепляться за свой клочок существования – белый прямоугольный клочок размером с больничную койку, до которого отсюда семь лет, – только если будет держаться поближе к людям. Люди отпугивают Мониган. Люди не дадут Мониган приблизиться и забрать ее, если только дать им время разобраться, что и как. Сколько у нее времени, чтобы все им втолковать? Через семь лет было, ну, скажем, часа три дня. А здесь который час? Позже, чем можно подумать, глядя на сонных сестер. Потому что из здания красного кирпича доносится гул: там идет урок. Десять утра?
В подтверждение ее догадки забили школьные часы. Тяжко возвестили десять. Значит, у нее девять часов. До семи вечера. Не так-то много.
Она помчалась обратно в квартирку сестер. Скорее! Надо их разбудить. Заставить их ПОНЯТЬ! Она была на месте одновременно с Оливером, и на сей раз их впустила Имоджин. Имоджин и Фенелла вставали. Вид у Имоджин был встрепанный и нездоровый, желтый брючный костюм шел ей меньше прежнего. Фенелла тоже была встрепанная. Гульки торчали в стороны, зеленый мешок косо обвис.
Она стояла посреди захламленной гостиной и гулко орала Имоджин в кухню:
– У Оливера лапы жутко болят, а призрак опять вернулся!
– Откуда ты знаешь? – откликнулась Имоджин.
– Знаю – и все! – проорала Фенелла.
Сверху, из спальни, донесся бессловесный яростный рык Шарт. Будто дикий зверь. Обе ее сестры – и призрак тоже – застыли на месте и испуганно поглядели на потолок. Сверху послышался яростный скрип кроватных пружин, потом настала тишина.
Фенелла на цыпочках прокралась в кухню.
– По-моему, ей уже пора вставать, а то Оливер неприсмотренный ходит, – шепнула она Имоджин.
– Тсс! – шикнула Имоджин и покосилась на потолок, нервно прижав к груди полбуханки.
Они простояли так целую минуту. Когда показалось, что опасность миновала и Шарт больше не подает признаков жизни, Имоджин мрачно прошептала:
– Кукурузные хлопья кончились.
– Пошли добудем, – сказала Фенелла.
Призрачная сестра двинулась за ними, поскольку помнила, что миссис Джилл видит ее, – протолкнулась сквозь зеленую дверь и пробилась сквозь серебристую в белую школьную кухню, полную завтрачных запахов. Там было спокойно. Две другие женщины в белом сидели друг напротив друга у белого стола и ели кукурузные хлопья. Теперь, глядя на них глазами человека из семилетнего будущего, призрачная сестра видела, что одна из них была неприметная старушка, а другая – молоденькая девушка, едва ли старше Шарт. Чтобы заявить о своей взрослости, девушка выкрасила волосы в непроницаемый, противоестественный черный. Значение имела только миссис Джилл – на остальных можно было не обращать внимания. Миссис Джилл сидела за столом спиной к двери. На нынешнем этапе жизненного пути волосы у нее были перечно-русые. Перечная голова повернулась на стук двери – показался острый профиль и мятая сигарета под верхней губой.
– Вон из моей кухни, – приказала миссис Джилл.
На это Фенелла просто подошла к столу и забрала с него пачку хлопьев. Три женщины в белом неприязненно смотрели на это, но никто ничего не сказал, пока к столу не подошла еще и Имоджин. Имоджин испуганно пригнула голову, изобразила глупую вежливую улыбку, взяла со стола кувшин с молоком и хотела было унести. Стало ясно, что тут больше подходит беспардонная тактика Фенеллы. А Имоджин с ее манерой извиняться напрашивалась на неприятности.
Все три женщины подали голос.
– Э-э! – сказала молоденькая. – Ну-ка поставь на место.
– Вы не имеете права, – сказала старая.
– Еще чего удумали! – Миссис Джилл, как всегда, мгновенно разогналась с места в карьер. – Ни здрасте, ни до свидания, берут еду и уходят! Нахлебницы – вот вы кто! В вашем возрасте я уже вовсю работала! Пора вам, девочки, научиться самим о себе заботиться – хватит таскать все подряд у меня из кухни!
– Это мы так о себе заботимся, – пришибленно пояснила Имоджин.
Миссис Джилл развернулась на стуле. Сигарета яростно запрыгала.
– Мало стараетесь, вот что! Мне надоело, что вы вечно сюда приходите и все подряд тащите. Поговорю об этом с вашей мамой! – Сигарета все прыгала, голос миссис Джилл тоже, визгливый, пронзительный.
Эту тираду все давно выучили наизусть, так что можно было не вслушиваться. Призрачная сестра с надеждой подплыла поближе, чтобы миссис Джилл ее заметила. И миссис Джилл ее заметила – это несомненно. Она смотрела то на призрак, то на Имоджин, то на Фенеллу, и сигарета по-прежнему яростно подпрыгивала на каждой третьей фразе, будто знак препинания. Но миссис Джилл, очевидно, решила, что призрак здесь исключительно для того, чтобы действовать ей на нервы, и придется взвалить на себя еще и этот крест.
– Опять вы со своими дурацкими фокусами! – Сигарета подпрыгнула в сторону призрака. – С меня хватит! – Сигарета подпрыгнула в сторону Имоджин. И в сторону Фенеллы: – Сейчас же пойду пожалуюсь вашей маме!
Похоже, миссис Джилл была настроена серьезно. Она даже привстала на стуле.
Тут вступила Фенелла.
– Идите, если хотите, – безразлично сказала она. – А я пойду и расскажу, сколько всего вы уносите в своей оранжево-зеленой сумке.
Лицо у миссис Джилл разом окаменело. Оно было острое, жесткое, красное, и глаза ее, полные яда, уставились в глаза Фенеллы.
– Ясно, – процедила она. – Понятно. – Она повернулась к своей фаянсовой чашке с кофе на столе. – Только вот что еще не забудь, девочка моя…
Больше она ничего не сказала. Взяла чашку. Остальные две женщины снова стали есть хлопья. Теперь они не обращали на Фенеллу и Имоджин никакого внимания – с тем же успехом сестры могли тоже превратиться в призраки. Они тихо и торопливо отступили к выходу, пятясь и прижимая к груди кувшин молока и пачку хлопьев.
– Зря ты это сказала, – шепнула Имоджин, когда они очутились в коридоре за дверью.
– Ты тоже зря, – отозвалась Фенелла. – Куда было деваться? Она бы пошла к Филлис.
– Но мы же имеем право на еду! – возмутилась Имоджин. – Что нам еще делать? Думаешь, Филлис дала бы нам денег на хлопья?
– Нет, – сказала Фенелла.
Они вернулись к себе в кухню, и там Фенелла первым делом бухнула целую груду хлопьев в миску Оливера и щедро залила их молоком, а потом взяла другую миску и насыпала туда груду хлопьев для себя – еще больше, но без молока. Села и стала есть их всухомятку.
– Возьми молока, – без всякой надежды сказала Имоджин, стоявшая с кувшином в руке.
– Не-а, – сказала Фенелла. – Они от молока размякают.
– Молоко полезное, – заметила Имоджин и полила молоком свои хлопья.
– Я полезного не ем, – отрезала Фенелла.
Настала тишина – только три пары челюстей жевали хлопья. Призрачная сестра зависла в этой тишине, не зная, как быть. Глупо было ждать, что миссис Джилл ее заметит. Если бы миссис Джилл что-то поняла, она бы сказала об этом в больнице. По словам Шарт получалось, что что-то поняли именно сестры. Как же привлечь их внимание?
– Одна из них – я, – сказала она.
И посмотрела на Имоджин. Имоджин торопливо зачерпывала хлопья ложкой и понуро отправляла в рот. По щеке у нее потихоньку сползала слеза. Из-за миссис Джилл она снова затеяла страдать, а значит, вряд ли что-нибудь заметит.
Значит, Фенелла? Фенелла чувствовала ее присутствие. Может, все дело в том, что они один и тот же человек? Она подплыла поближе, зависла над костлявым плечом Фенеллы, возле острой челюсти, деловито жевавшей хлопья.
– Фенелла, – сказала она. – По-моему, я твой призрак.
Ничего из этого не вышло, потому что наверху снова пробудилась к жизни Шарт. Она испустила вопль, перешедший сначала в рев, потом опять в вопль, – и все это совсем не напоминало человеческий голос:
– Хватит так жутко хрустеть!
Все челюсти замерли, даже у Оливера. Все внимание устремилось в потолок.
– Поспать не дают! – завизжала Шарт. – Расхрустелись тут!
Фенелла выразительно покосилась на Имоджин и пронзительно завопила в ответ:
– Одиннадцатый час! Мы завтракаем!
– Тогда прекратите сейчас же! – взревела Шарт. – А не то спущусь и убью!
Она не шутила. Это было всем очевидно. Оливер с тяжким вздохом улегся у миски. Имоджин с Фенеллой переглянулись.
– Невозможно бесшумно есть хлопья! – еле слышно выдохнула Имоджин.
– Даже размякшие! – мрачно прошептала Фенелла.
– И хватит шептаться, чтоб вам пусто было! – заорала Шарт.
Имоджин с Фенеллой снова переглянулись: их объединила общая ненависть к Шарт. Призрачная сестра их прекрасно понимала. Она думала о Шарт с теплотой, но подозревала, что теплота эта была излишней. Может, взрослая Шарт и заслуживала такого отношения, но эта Шарт – нет. Призрачная сестра забыла, какой бывала Шарт утром – не только сегодня, но и вообще по утрам. И это еще цветочки. Имоджин повесила голову и вцепилась в край стола, набираясь храбрости.
– Я бы не стала, – предостерегла ее Фенелла.
Имоджин не обратила на нее внимания. Она проделывала это каждое утро. Жизнь ее ничему не учила. Собрав всю свою отвагу, Имоджин молча встала и мягко-мягко прокралась через гостиную. Остановилась у подножия лестницы, склонила голову набок и состроила нежнейшую улыбку. Имоджин считала себя добрым ангелом. А как же иначе – в таких-то обстоятельствах?
– Шарт, солнышко! – проворковала Имоджин снизу. – Хочешь, кофейку тебе принесу?
Ответом ей был жуткий рык. Имоджин поежилась. Оливер в припадке ярости по сравнению с Шарт был сущий агнец.
– Шарт, солнышко, я поставлю чайник? – проговорила Имоджин. Это было уже не воркование, а мелкая дрожь.
– Да заткнись ты! – прорычал сверху сиплый звериный голос. – Достала со своей деликатностью!
– Шарт, солнышко… – не слишком разумно завела Имоджин.
– Аа-а-а-а-р-р-р-р! – заорала Шарт.
Что-то наверху вздыбилось, потолок содрогнулся от тяжкого удара. Имоджин побледнела. Поза доброго ангела стала больше похожа на позу спортсмена на старте. И немудрено. Потолок затрясся. Лестница задрожала. По ней с неимоверной скоростью промчалась Шарт – всклокоченная, белая, ощеренная, она перелетела через все ступеньки, словно и не прикоснувшись к ним. Перед призраком мелькнули оскаленные зубы, опухшие веки, крошечные поросячьи глазки – и он мигом удрал на пианино. Имоджин метнулась в сторону и исчезла в уголке между пианино и диваном. Когда Шарт приземлилась на пол гостиной с грохотом, от которого покачнулся весь дом, в комнате на вид было пусто.
– А-а-а-р-р! – зарычала Шарт и заозиралась поросячьими глазками. И в три прыжка выскочила в кухню.
Раздался грохот, коротко взвизгнул Оливер, на пол грузно попадали тела. Из-за двери выскочила Фенелла – на четвереньках, будто паукообразная обезьяна, – и юркнула к Имоджин за диван.
– Говорила я тебе, не надо! – зашептала она.
– А ну вылезайте, уховертки трусливые! – заходилась Шарт.
Последовало несколько великолепных ударов.
– Что она там делает? – прошептала Имоджин, когда в гостиную прокрался еще и Оливер. Он поджал расплывчатый хвост между толстыми задними ногами. Его всего колотило.
– Опять ломает стул, наверное. – Фенелла вздохнула.
И верно – удары сменились деревянным треском и грохотом досок по каменному полу. При этом рычание Шарт понемногу становилось не таким звериным. Один раз послышалось даже отчетливое «ой!» человека, загнавшего себе занозу под ноготь. За ним последовала сиплая человеческая ругань. После чего раздался последний стук – и тишина. И наконец – шуршание хлопьев, насыпаемых в миску.
Имоджин слегка расслабилась. И даже отважилась сесть.
– У Шарт по утрам сахар в крови низкий, – объяснила она Фенелле.
– Это теперь так называется? – спросила Фенелла. – А я думала – дурной характер.
Они сидели рядышком на полу и слушали, как женщина-горилла за стеной чавкает хлопьями. Призрачная сестра спорхнула к ним.
– Фенелла, ты знаешь, что я здесь. Помоги мне, пожалуйста. У меня осталось всего шесть с половиной часов.
К несчастью, в этот самый миг Имоджин тоже подала голос.
– Фенелла, – сказала она, – что мне делать? Мне нужно там пройти, чтобы позаниматься. – Она показала на кухонную дверь.
Фенелла разговаривала с Имоджин. И не услышала голос призрака.
– Подожди часок, пока она не станет человеком.
– Но через час кабинет музыки будет занят! – простонала Имоджин. – Меня опять прогонят.
– Заткнитесь! – зарычала Шарт из кухни. – Дайте спокойно позавтракать!
Фенелла и Имоджин заткнулись. Остаток беседы они вели на языке жестов, так что им было не до призрака.
– Ой, ну ладно! – в отчаянии прошептала Имоджин через некоторое время. – Все и так ужасно. Но она меня убьет, спорим?
– Я тебя прикрою, честное слово! – прошептала в ответ Фенелла.
Имоджин со вздохом поднялась на ноги и выдернула из-под подметок края штанин. Принялась понуро убирать с пожелтелых клавиш старого пианино картину, бумаги и банку с акварельной водой и вытирать с них пыль передом костюма. Костюм был до того велик, что Имоджин забирала ткань в горсть и использовала его как тряпку и ей даже не приходилось наклоняться вперед. Тем временем Фенелла подтащила к двери в кухню кресло и заняла пост, по-турецки усевшись на его спинку. Знаками показала, что Шарт уже читает книжку.
Имоджин кивнула и пристроила ноты на желтый пюпитр. Потом пристроилась сама на шаткий, облезлый табурет и уставилась в ноты.
– Ну, давай! – шепотом подбодрила ее Фенелла. – Играй!
Но Имоджин словно бы очутилась в плену мрачных предчувствий. И просто сидела. Призрачная сестра прекрасно понимала ее: она знала, какой бывает Шарт. И попробовала воспользоваться паузой, чтобы привлечь их внимание.
– Имоджин! Фенелла! – закричала она. – Помогите!
По ощущениям, получалось не тише, чем вопли Шарт. Но даже сама она понимала, что не издает ни звука. И в отчаянии осеклась.
– Получится душераздирающе, – пробормотала Имоджин.
– Ну, наше пианино до глубины души пробирает, – прошептала в ответ Фенелла.
– Я не об этом, – отозвалась Имоджин. И вздохнула. Когда она положила обе руки на пожелтелую клавиатуру и заиграла, лицо ее все набухло от страданий.
Призрачная сестра слушала ее не без удивления. Эту пьесу она знала не хуже Имоджин, которая, видимо, давно выучила ее наизусть. Имоджин не нужно было смотреть в ноты. Локти у нее были неподвижны, голова слегка склонилась: она словно бы прислушивалась к чему-то далеко за пределами музыки. Может быть, ждала очередного взрыва Шарт. Но плохо было не только это. Призраку эта пьеса помнилась летящим электрическим рокотом, а основная тема словно бы выскальзывала из этого рокота куда-то вбок. Конечно, Имоджин играла на дешевом, старом пианино, сильно расстроенном. Но играла она как автомат, и музыка была просто последовательностью нот.
– Да ладно тебе, Имоджин! – вырвалось у призрака. – Ты же можешь лучше!
– Нет, не могу, – ответила Имоджин, продолжая играть и не оборачиваясь. – По-моему, мне эта пьеса до смерти надоела.
Имоджин ее слышала! Дело, наверное, в том, что она играла и на самом деле не вслушивалась. Призрака охватило страшное волнение, и, чтобы не дать волнению проявиться и отвлечь Имоджин, призрачная сестра затараторила:
– Значит, ты просто слишком долго ее мусолила.
– Всего две недели, – уныло ответила Имоджин.
– Ну ладно, – сказала призрачная сестра. – Тогда попробуй что-нибудь другое, что тебе больше нравится. А пока играешь, послушай, что я тебе…
– Да не в этом дело! – раздраженно перебила ее Имоджин, рассыпая ноты горохом, будто механическое пианино. – У меня абсолютная память на музыку. Этого я не отрицаю. Но…
– Заткнитесь! – зарычала Шарт с порога.
Изо всей силы брошенная книга угодила Фенелле в живот и сшибла ее со спинки кресла. Следом за книгой Шарт запустила пачкой хлопьев. Пачка попала Имоджин в голову и взорвалась, осыпав ее хлопьями. Хлопья взвились в воздух и дробно обрушились на клавиши.
– Получите! – взревела Шарт. – За адский шум! Я же сказала вам: тихо!
Имоджин повернулась к ней с неимоверным достоинством. По щеке у нее сползал прилипший к слезе кукурузный ошметок. Пока он сползал, Имоджин изучала свирепую мину Шарт: не проявится ли в ней что-то человеческое? Видимо, она решила, что Шарт уже возвращается в лоно цивилизации.
– Мне надо заниматься, – сказала она.
– Только при этом не обязательно болтать сама с собой, будто психованная! – зарычала Шарт и тяжело и грозно задышала носом, будто бык, готовый поддеть кого-то на рога.
– Хочу и разговариваю! – возразила Имоджин. – А ты рассыпала все новые хлопья. Ну-ка убери.
– Это вы меня довели! Сами убирайте! – взревела Шарт.
– А меня ты зашибла насмерть! – оглушительно прогудела Фенелла, вылезшая из-за кресла. Она встала на колени и схватилась за живот. – Вот умру, и мой призрак вернется и будет тебя преследовать!
К этому времени все три кричали одновременно. Имоджин кричала ритмично и для этого мерно ударяла ладонью по клавиатуре. Шум поднялся ужасный. Бум, блямс, визг!
Призрачная сестра висела посреди всех этих воплей и какофонии и дрожала. Она была потрясена не ссорой – к ссорам она привыкла, – а тем, как хорошо она знала пьесу, которую играла Имоджин. Если из этого следует, что она и есть Имоджин, как ее занесло в художественную школу? Все знали, что Имоджин собирается стать концертирующей пианисткой. А тут еще и Фенелла окончательно все запутала, пригрозив вернуться и преследовать Шарт. Фенелла говорила предельно серьезно. И вот теперь она здесь – в виде призрака.
– Да как же мне это выяснить? – закричала она про себя и полетела прочь от этого гвалта.
Вопли становились все тише, тише, и это было большое облегчение. Но внимания сестер сейчас не привлечь – это уж точно. Она от них слишком далеко. Перед глазами снова замаячила чудовищная мумифицированная нога. И когда узкий луч мысленного фонаря опять высветил больницу, сразу вернулось воспоминание о серой шуршащей бумажке, на которой плыли слова.
ОНТАРИО. ГОВАРД ИЗ КУСТОВ.
X
– Ну конечно! – воскликнула она. – Говард во всем этом участвовал. Он-то мне и нужен.
С этими словами она промчалась между яблонь. Проскочила кусты, пролетела над вытоптанной травой в саду под липами и через стрельчатую дверь ворвалась в школу из красного кирпича. Наполнявший здание гул подсказал ей, что уроки еще идут, но, несомненно, вот-вот начнется большая перемена. Она подплыла к стрельчатой двери с табличкой «IV A». И замерла. Из-за двери до нее донесся голос Самого.
– Какая разница? – сказала она. – Он же не заметил меня в прошлый раз.
Протолкнулась сквозь деревянные доски и окунулась в тепло класса за порогом.
Сам вышагивал туда-сюда перед шеренгой лиц, крючконосый, недовольный, руки у него были сцеплены за спиной, и от этого плечи пиджака топорщились, будто два сложенных крыла. Точь-в-точь орел, беспокойно переминающийся на насесте. Клюнет каждого, кто подойдет слишком близко. Сам был в самом скверном настроении – утреннем: приступы ярости у Шарт были наследственные.
Он говорил, резко кивая на каждом шаге:
– Значит, вы так и не уяснили себе, зачем учить грамматику. Значит, вы заразились этой новомодной чушью. Вы полагаете, что отличать глагол от существительного незачем. Еще раз спрашиваю, Филберт: что такое предлог?
Сидевший прямо перед ним Полудурок Филберт ошарашенно улыбнулся – показалась щель между зубами. При виде этого голова у Самого дернулась, будто орел собрался растерзать Полудурка Филберта. Улыбка на лице Полудурка Филберта погасла.
– Я знаю, что это такое, сэр, просто объяснить не могу, – протараторил он.
– Это неосязаемо, сэр, – добавил с задней парты кто-то сильно умный.
Все головы повернулись поглядеть, кто же это. Среди прочих была и прилизанная, как у выдры, голова Уилла Говарда, а рядом с ним – светло-русый бобрик Неда Дженкинса.
Призрачная сестра рванулась к ним:
– Говард! Послушай!..
– Неосязаемо! – взревел Сам. Хуже Шарт. – В каком это смысле?! – Руки у него взметнулись. Орел раскинул крылья, готовый ринуться на жертву. – Неосязаемое – это то, чего нельзя коснуться. Полагаю, это означает, что вы намерены вообще не касаться темы предлогов. Вот что я вам скажу, мальчик мой…
Пока Сам разорялся, призрачная сестра безрезультатно билась об электрическое жизненное поле, окружавшее прилизанную, как у выдры, голову. Но Говард вместе со всеми остальными глядел, как Сам кричит и раскидывает крылья, и ждал смертельного удара.
Удар последовал. Сам сложил крылья, снова стиснул руки за спиной и притих.
– Превосходно, – сказал он. – Нам нужно убедиться, насколько закоснело это невежество. Я не выпускаю мальчиков из школы без знания основ грамматики. Откройте учебники на странице сорок пять и напишите мне перевод предложений с первого по пятое.
– Сэр, но скоро звонок с урока! – возразил кто-то особенно храбрый.
– Да неужели? – Голова Самого хищно дернулась в сторону храбреца. – Вот досада. Тогда придется работать побыстрее, поскольку ни один мальчик не выйдет из класса, пока не сдаст мне перевод этих пяти предложений.
Воздух в классе сгустился от вздохов и стонов, которые так и не прозвучали, поскольку никто не отважился стонать вслух. Застучали переплеты, зашуршали страницы: все искали страницу сорок пять. Как странно, подумалось призраку, что учителя всегда велят открыть учебник так, словно ты можешь мгновенно найти нужную страницу. Это же невозможно. Раскрывались тетради, извлекались ручки, склонялись головы. Призрачная сестра посмотрела сверху вниз на приглаженный склоненный затылок Говарда. Нет, ничего не выйдет. Желтая шариковая ручка Говарда замерла в воздухе и раздраженно дергалась, будто чирикала что-то неразборчивое: Говард пытался понять, что, собственно, означает предложение номер один. Мысли Говарда занимали исключительно латынь и большая перемена – там уж точно не было места ни призракам, ни даже сестрам Мелфорд, как бы он с ними ни дружил. Вот ручка опустилась. Говард принялся писать.
«1. Мы показываем на слонов…»
Точно! Можно сделать, как на сеансе! Призрачная сестра ринулась на руку Говарда, елозившую по бумаге, и на стиснутую в ней ручку.
«…Подступающих к Риму», – невозмутимо дописал Говард. Призраку не удалось сдвинуть его руку ни на миллиметр. Вот ручка снова поднялась над страницей, зачирикала в воздухе: Говард вникал в предложение номер два. Призрачная сестра ждала в смятении. Вот-вот он снова примется писать, и тогда она толкнет ручку. Ручка опустилась. Призрачная сестра навалилась на нее, надавила изо всех сил.
«2. Многочисленное войско приближается к высокому храму», – написал непрошибаемый Говард. Желтая ручка снова взмыла вверх. Призрачная сестра на грани отчаяния взмыла вместе с ней. Только одно придавало ей сил, чтобы парить над Говардом и ждать следующей попытки. Говард прислал телеграмму. А значит, призраку удалось как-то достучаться до него. Но над третьим предложением он задумался надолго. Должно быть, оно было трудное.
По другую сторону от нее что-то шевельнулось – это красная ручка в левой руке Неда Дженкинса медленно, нерешительно двинулась вниз, к чистой странице.
– Не знала, что ты левша, – сказала Неду призрачная сестра. – Эй!
Желтая ручка Говарда все еще чирикала по воздуху. Может, раз все равно приходится ждать, попробовать подтолкнуть руку Неда?
Призрачная сестра ринулась на красную ручку Неда в тот самый миг, когда стержень коснулся бумаги. Нед держал ручку вяло, небрежно – похоже, ему хотелось только одного: чтобы урок поскорее кончился. И ручка поддалась. Под натиском призрака она дернулась вбок и прочертила длинную волнистую линию. Нед пробормотал что-то в сердцах. Поднял ручку, и жизненное поле его руки электрически затрещало от прикосновения к призраку. Но призрачная сестра не отпустила руку Неда. Навалилась изо всех сил. Жизненное поле затрещало снова – Нед сопротивлялся, хотел поднять руку и убрать ручку с бумаги – оно раскалилось от электричества – лицо Неда сначала залилось нездоровой густой краской, потом кровь отхлынула, и оно стало изжелта-белым, все в крупных веснушках цвета кукурузных хлопьев. Призрачная сестра придавила его руку к тетради. Рука вдруг обмякла. Нед держал ручку еле-еле и глядел на нее не мигая, весь белый. Призрачная сестра испугалась, что у него обморок. Зато ручку удалось сдвинуть с места.
Это по-прежнему было неимоверно трудно. Рука Неда была как мертвый груз – белая, веснушчатая, костлявая. И эта рука привыкла писать почерком Неда. Чужой почерк давался ей плохо. Призраку пришлось налегать, напирать, пихать – и все равно не получалось выводить обычные маленькие буквы. У нее буквы получались большие, нескладные, разлапистые. Поэтому – и еще потому, что писать было так трудно, – пришлось быть краткой.
«Я ОДНА ИЗ МЕЛФОРД НЕ ЗНАЮ КТО ЧЕРЕЗ 7 ЛЕТ ПОМОГИ МОНИГАН ПОМОГИ»
Послание закончилось резким росчерком, поскольку Нед, все такой же белый и ошарашенный, видимо, думал, что она напишет еще что-нибудь. Пришлось выкрутиться из его обмякшей руки и пихнуть ее в другую сторону, чтобы показать, что послание окончено. Нед подскочил. На его щеки вернулся слабый румянец. Призрачная сестра увидела, как он торопливо заозирался. Кто-то из мальчиков уже выходил к учительскому столу и сдавал тетрадки Самому. Почти сразу же раздался оглушительный трезвон: началась большая перемена. От этого Нед снова подскочил и принялся действовать, словно гальванизированный. Ловко – так ловко и проворно, что стало ясно, что он проделывал такое сплошь и рядом, – он вырвал страницу из тетради. То есть не вырвал: он разогнул скрепки в середине и вынул двойной листок целиком – страницу в начале тетради и страницу в конце – и одним молниеносным движением сложил его и убрал в карман. Затем он снова загнул скрепки и застрочил на следующей чистой странице так быстро, словно промедление грозило ему смертью.
«1. Чудовищные слоны наступают на нас в Риме, – прочитала призрачная сестра. – 2. Большой храм уходит вверх на много миль».
– Ой! – воскликнула она. – Пальцем в небо! Ну вот, теперь тебе влетит из-за меня.
Зависнув над Недом, она смотрела, как он чудом дописывает пять совершенно безумных фраз одновременно с Говардом, у которого пять фраз получились тщательно выверенные.
Они вместе встали и пошли к столу Самого сдавать тетради.
Тетрадь Говарда Сам взял равнодушно, просто крякнув. Но на Дженкинса он посмотрел пристально – несомненно, заметив, как выступили у того на пепельно-бледном лице ярко-желтые веснушки.
– Вам нехорошо, Дженкинс?
– Нет, сэр.
– Хм, – сказал Сам. – Значит, ваша бледность вызвана вдохновением. Несомненно, ваш перевод отражает обычный для вас полет творческой фантазии. – И собрался было открыть тетрадь.
– Не надо! – вырвалось у призрака.
Говард схватил Дженкинса за локоть и с лукавой, веселой усмешкой наклонился к Самому:
– Ему нужно на воздух, сэр. По-моему, он не переваривает латынь.
– Или школьный завтрак, – отозвался Сам. И ко всеобщему облегчению, положил тетрадь Неда на растущую стопку и протянул руку за следующей тетрадкой, которую протягивал ему кто-то из-за спины Дженкинса.
Говард вытолкал Дженкинса в открытую дверь, в круговорот беготни в коридоре. Призрачная сестра последовала за ними. В трескучей толкотне ей было проще висеть в воздухе над двумя головами – прилизанной и русой.
Она услышала, как Говард говорит:
– Ну правда, Дженк, ты чего? Ты как будто призрака увидел.
Дженкинс коротко хохотнул, словно поперхнулся.
– Видеть – не видел. Пошли, Уилл. Нам надо еще разок прочесать кусты изгороди. Только быстро.
Говард резко остановился. Они с Дженкинсом были словно остров в трескучей толпе.
– Макарона? – спросил он.
– Да, – ответил Дженкинс. – Кажется. И кажется, это срочно. Пошли.
Получилось! И призрачная сестра с огромным облегчением помчалась к сестрам дожидаться мальчиков.
В кухне оказалась Филлис – издерганный суровый ангел. Шарт, Имоджин и Фенелла стояли перед ней рядком, надутые. Сломанный стул кто-то затолкал под стол, с глаз долой, но хлопья по-прежнему валялись повсюду, будто осенние листья, и цепочкой вели в гостиную.
– Имоджин, я не собираюсь обсуждать достоинства и недостатки вашего рациона, – говорила Филлис. – Вы не даете работать миссис Джилл, и это непозволительно. Она жаловалась на вас и вчера, и сегодня утром…
– Я тоже жалуюсь, – заявила Фенелла. – Мама, миссис Джилл каждый день уносит продукты в своей оранжево-зеленой сумке.
– Это я также не собираюсь обсуждать, Фенелла. – Филлис повернулась к Фенелле. Она даже глаза закрыла – так была сердита. Должно быть, именно поэтому она не заметила две гульки из волос у Фенеллы на голове. – Никто из вас четырех не понимает… – Отсутствия Салли она тоже не заметила. – Никто из вас не понимает, похоже, как трудно сейчас найти работницу в кухню. Сердить миссис Джилл для меня непозволительная роскошь. Если она уволится, я окажусь в безвыходном положении.
– Опять скандал, – угрюмо проговорила призрачная сестра.
Тут она сообразила, что ей совершенно не обязательно торчать здесь и все это слушать. Пожалуй, это первое преимущество, которое нашлось в ее нынешнем призрачном состоянии.
Она снова выпорхнула наружу. Хотела вернуться к Говарду с Дженкинсом – к этому времени они должны уже были продираться сквозь кусты по тайной тропе. Может быть, она даже сумеет как-то предупредить их про Филлис. Но вместо этого она натолкнулась на Оливера. Оливер в сером свете тусклого дня искал в огороде вкусные корешки. Он увлеченно рылся – тихо, спокойно, не слишком напрягаясь, – в мягкой унавоженной земле у грядки с ревенем. Яма получилась уже довольно большая. Вокруг массивной туши погруженного в раздумья Оливера валялись поломанные розовые стебли и вянущие листья ревеня. Пес протянул тяжеленную лапищу с тремя когтями, разгреб землю, опрокинул очередной куст ревеня, а потом с легким интересом повернул голову.
В трех шагах от него стоял неприятный мистер Маклагген и грозил ему граблями.
– Кыш! Вон от моего ревеня, зверюга!
Оливер задумчиво оглядел мистера Маклаггена, а потом мирно вернулся к искоренению ревеня.
– Бр-р-рысь отсюда, зверюга!
Мистер Маклагген ткнул в Оливера граблями, угодил ему в бок. Навалился на грабли, упершись в землю обеими ногами в резиновых сапогах, и пихнул. Оливер с усталым видом выставил четвертую лапу в сторону для равновесия и снова покосился на мистера Маклаггена, который все наваливался и пихал. Через некоторое время псу стало неприятно, что ему мешают, и он тихонько зарокотал. Мистер Маклагген тут же убрал грабли и попятился. Оливер вернулся к прерванному копанию.
Мистер Маклагген помахал граблями в воздухе:
– Эй, ты! Может, конечно, твоя лапа приносит удачу, но она тебе не поможет, когда я нажалуюсь мистеру Мелфорду. Вот тогда получишь трепку, и никакая лапа не спасет!
Призрачная сестра полетела дальше. Оливер сумеет за себя постоять, а вот Говард и Дженкинс, может быть, и нет. Она хотела вернуться к ним. Но, вероятно, из-за того, что сказал мистер Маклагген, снова очутилась возле Самого.
Сам был в большой дымной комнате, где собралось много мужчин и несколько женщин. Должно быть, учительская – она ни разу не видела, как там внутри. Но и сейчас особенно ничего было не разглядеть. Тонкий лучик внимания полностью сосредоточился на Самом. Настроение у него, похоже, улучшилось. Так или иначе, он смеялся, зажав в зубах мундштук пахучей черной трубки. В облаке синего дыма бабочкой трепетала раскрытая тетрадь.
– Только послушайте, – сказал Сам. Другой рукой он помешивал кофе в чашечке. У него была особая, навязчивая манера помешивать кофе: он зажимал ложку между большим и указательным пальцем, и эти пальцы словно кивали и кивали, вращали, вращали, вращали ложкой, будто автомат.
– Дженкинс, – процедил Сам сквозь зубы, все помешивая и помешивая кофе. – Этот мальчик – чистый гений, не нашедший себе должного применения. Он способен сделать три ошибки в слове «еще». Послушайте.
Продолжая помешивать кофе, Сам попытался одной рукой расправить тетрадь в воздухе. Та наполовину закрылась. Страница, которую он попытался прочитать, перелистнулась – за ней показалась следующая. Эту страницу Дженкинс, очевидно, собирался вынуть, но забыл. На ней красовался один из хороших плохих рисунков Неда – один из лучших: на нем Сам в виде огромного черного орла с хохолком на голове и яростно сверкающим глазом одной когтистой лапой цеплялся за насест, а в другой держал книгу.
– Хм.
Сам уставился на рисунок довольно-таки мрачно.
Призрачная сестра мельком увидела, как собеседник Самого согнулся от хохота. Но все ее внимание было нацелено на Самого – на пальцы Самого с зажатой в них ложкой: как они кивают, кивают, плавно закручивают водоворотом кофе в чашке, вращают, вращают, вращают ложку…
Все это кивание и вращение потащило ее прочь. Из-за них проступила огромная белая нога, мумифицированная в гипсе. Возникло ощущение, что кругом какие-то люди, они что-то делают. Кто-то совсем незнакомый нагнулся над ней и называет ее солнышком.
– Солнышко, если слышишь меня, пошевели рукой!
Она лежала и думала об этом так же мрачно, как Сам разглядывал рисунок Неда. Ее опять утащило, утащило на семь лет вперед – это было ясно. А все Мониган. Мониган не желала, чтобы она совала нос в Школу. Там что-то происходит или вот-вот произойдет – что-то важное. Если она будет там, то, вероятно, ей даже представится случай одолеть Мониган. Значит, надо вернуться. Сейчас же.
И она бросилась туда. Кто-то незнакомый все нависал над ней и умолял пошевелить рукой, но она не осмелилась послушаться. Все это задержало бы ее здесь. Она билась, рвалась, отбивалась – лишь бы вернуться на семь лет назад. Это оказалось не в пример труднее, чем толкать руку Неда. Она чувствовала себя как мистер Маклагген, когда тот налегал на непоколебимого Оливера. Мониган сопротивлялась ей. Для Мониган не составляло никакого труда переместиться на семь лет в любую сторону. Время в Школе и в больнице для нее шло параллельно. Наверное, у богинь всегда так. И богине проще простого не пропустить призрак из одной ленты времени в другую.
Как только призрачная сестра это поняла, она налегла пуще прежнего. Ведь это означало, что прошлое можно изменить, что бы ни говорила Шарт. Потому что, с точки зрения Мониган, главного в прошлом еще не случилось. И призраку надо туда попасть. Обязательно.
Она чувствовала, как Мониган отступает – на шажок, на волосок. Сначала она поддавалась с обидой. Потом – пожав плечами. И наконец отпрянула с мерзкой издевательской усмешкой. Призрачная сестра прямо почувствовала, как Мониган думает: «За что боролась, на то и напоролась!»
Рывок – и она вернулась, испуганная и растерянная.
– А вдруг я опоздала?
И верно: она едва не опоздала. Филлис ушла. В кухне Нед Дженкинс, по-прежнему бледный как полотно, навис над двойным листком из своей тетради. Вокруг на столе были разложены другие бумаги: записка от Салли, школьное сочинение Шарт, стихи почерком Имоджин и каракули Фенеллы. Очевидно, все пытались определить, чьим почерком писал призрак. Шарт, Имоджин, Фенелла и Говард склонились над бумагами, но с таким видом, будто уже потеряли к ним интерес.
– Итак, насколько мы можем судить, – говорил Говард, – это не почерк Неда. Он может принадлежать любой из вас. Вы все пишете примерно одинаково, даже Салли.
– Ну, это точно не Салли, – уверенно сказала Имоджин. – Вы все слышали, как я говорила с ней по телефону.
– Да и призрака здесь уже нет, – добавила Фенелла.
– Поставил нас всех на уши и сбежал, – сердито пробурчала Шарт. В отличие от Самого, она еще не пришла в благостное расположение духа, хотя уже оделась – и то хлеб. Сегодня она была голубой диванной подушкой в джинсах – и джинсы были куда больше и шире, чем старые латаные, в которых она будет ходить через семь лет.
Бледный Нед Дженкинс поднял голову:
– По-моему, призрак вернулся.
Фенелла вскинулась, чтобы возразить, но ответила не сразу.
– Да, так и есть. Он снова здесь. Я чувствую.
Тут Имоджин закатила истерику. Отпрянула от стола, тряся руками, будто они были мокрые:
– Что нам делать? Кто-нибудь, сделайте что-нибудь! Я не собираюсь всю жизнь жить рядом с призраком! Я против!
– Замолчи, Имоджин! – велела Шарт. – Этот призрак попал в беду. Конечно мы что-нибудь сделаем, особенно если учесть, что это, очевидно, призрак одной из нас.
– Или он так думает, – уточнил Говард. – Что же нам делать?
– А что мы можем? – Имоджин дико затрясла руками. – Даже экзорцизм не помог!
– Это было религиозное как я не знаю что, – угрюмо проговорила Фенелла. – А мы совсем не религиозные – вот у нас ничего и не вышло.
– Тогда у кого-нибудь есть какие-нибудь нерелигиозные идеи? – спросил Говард.
В наступившей тишине Нед Дженкинс прошептал, будто надеялся, что никто не услышит:
– Я могу попробовать написать еще что-нибудь.
– Давай, – сказала Шарт. – Только… – Она осеклась. Поглядела в потолок, и глаза ее слегка округлились. – Погодите, – сказала она. И вдруг сорвалась с места и умчалась в гостиную.
Под ногами у нее захрустели кукурузные хлопья. Что-то посыпалось. Послышались глухие удары и пронзительный звон. Потом Шарт так же внезапно вернулась, красная, запыхавшаяся, и шлепнула на стол кипу толстых дешевых книг в бумажных обложках. Шлеп – «Одиссея»; шлеп – «Илиада»; шлеп – «Энеида» Вергилия.
– Вот! – выдохнула Шарт. – Тут где-то есть про то, как их разговорить… Сказано, как говорить с призраками… Я точно знаю! Мальчики, кто-нибудь из вас знает, где именно?
– Кто – мы? Нет, – оторопел Говард.
– Я такого в жизни не читал, – сказал Дженкинс.
– Тьфу! Я-то думала, вам дают классическое образование! – Шарт лихорадочно листала то одну, то другую книгу. – Точно знаю: где-то здесь. Кто-то, не помню кто, чтобы призраки с ним говорили, поил их кровью… – Она бросила лихорадочные поиски и шлепнула книги обратно на стол. – Не могу найти, но все равно точно знаю. Давайте попробуем. Пошли добывать кровь. Живо!
– Кровь? Где? – Говард и Дженкинс ошарашенно переглянулись.
– И зачем? – добавил Говард.
– Тупицы, – сказала Шарт. – Если призрак сможет заговорить, то расскажет нам, как ему помочь.
– Не дури, – сурово сказала Фенелла Говарду. – В каждом человеке уйма крови. Можешь себя порезать. А потом иди посмотри, нет ли запасов крови в кабинете биологии.
– Вот безмозглый! – сказала Имоджин Дженкинсу. – Сколько раз я проходила мимо маленьких мальчиков и каждый раз видела, что у двоих-троих идет носом кровь. Иди приведи их – пусть кровят прямо здесь.
– Точно, – сказала Шарт. Принесла с сушилки эмалированную миску и с грохотом водрузила на стол. – Пусть вот сюда и кровят. Передайте, что мы оценим любой вклад, даже самый скромный. А я пойду устрою набег на миссис Джилл, – может, чего и раздобуду. Быстро. Такими темпами большая перемена кончится, а мы ничего не успеем.
Говард и Дженкинс наконец уразумели, в чем суть.
– Все в доноры! – в восторге воскликнул Говард. – Бежим, Дженк!
Все умчались, кроме Фенеллы. Фенелла забралась с ногами на стол, села там на колени, нагнувшись над миской, и принялась усердно колотить себя по длинному острому носу. Призрачная сестра полетела за Шарт сквозь вихрь грохочущих дверей в очередной набег на владения миссис Джилл. Ей было тревожно: мало ли что Шарт учинит с миссис Джилл.
Шарт стояла, прислонясь спиной к серебристой металлической обшивке двери в школьную кухню. На лице у нее была размытая вежливая улыбка, как будто Шарт не собиралась причинять миссис Джилл особого вреда.
– О, – сказала она. – Отлично.
Теперь на белом столе стоял серебристый поднос, над которым высились два округлых лоснящихся кома двух говяжьих сердец. Они плавали в жидкой крови, заполнившей поднос почти до краев. Это зрелище обрадовало призрачную сестру не меньше Шарт. Теперь не придется пускать кровь самой миссис Джилл. Шарт подошла к белому шкафчику и, не стесняясь, взяла оттуда белый фаянсовый кувшин. Видимо, ее тактика обращения с миссис Джилл была где-то на полпути между Имоджин и Фенеллой. Миссис Джилл – она стругала в миксер латунно-желтый маргарин – обернулась к Шарт и нацелилась в нее сигаретой, но не сказала ни слова.
Шарт тоже не сказала ни слова. Еще раз улыбнулась миссис Джилл и приподняла поднос, чтобы налить с уголка крови в фаянсовый кувшин.
Два скользких говяжьих сердца, естественно, съехали по наклонному подносу, подняв волну крови.
– Чтоб его, – сказала Шарт.
Поставила кувшин на стул, подтянула стул, чтобы опереть на него край подноса, и свободной рукой придержала скользкие коричневые сердца.
– Эй, сладкая парочка, что это вы затеяли? – поинтересовалась миссис Джилл.
– Просто кровь понадобилась, – как ни в чем не бывало отозвалась Шарт.
– А продукты пачкать тоже понадобилось? – Миссис Джилл выпустила из рук кусок маргарина и надвинулась на Шарт, вытирая на ходу руки. После этого она вынула сигарету изо рта, чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений. – Вон отсюда, – велела она. – Сейчас же.
Шарт не спускала с нее бдительных глаз.
– Сейчас же и уйду, – ответила она. – Кого из нас вы имели в виду под сладкой парочкой?
– Не хуже моего знаешь, – парировала миссис Джилл. – Я, кажется, сказала: вон отсюда!
Она уже подошла так близко, что могла схватить поднос, – и протянула руку. Шарт отпустила сердца и поспешно отступила с почти полным кувшином.
– Чтобы вернула мне кувшин! – сказала миссис Джилл.
– Вы обвиняете меня в воровстве? – Шарт отступила за порог, и снова захлопали двери.
Призраку совсем не понравилось, какое лицо сделалось на прощание у миссис Джилл.
Между тем Фенелла в кухне стояла на коленях над миской и вытирала верхнюю губу туалетной бумагой. Одна из гулек была красная и липкая.
– Удалось добыть крови из носа, – похвасталась Фенелла. – Но бывало и получше.
– Дорога каждая капелька, – бодро ответила Шарт. На широком дне миски появилось несколько ярко-красных пятен. Шарт вылила туда все из кувшина. Получилась водянистая смесь.
– Как-то жидковато, – засомневалась Фенелла.
– Сейчас загустим, – пообещала Шарт. Взяла с заставленной сушилки у раковины столовый нож-пилу и протянула над миской левую руку. Повозила по ней зазубринами. – Ой, я забыла, – сказала она, продолжая возить ножом по руке. – Этому, из книги, еще приходилось мечом отгонять прочих духов, чтобы крови напился только нужный.
– Я этим займусь. – Фенелла слезла на пол и достала из ящика в столе огромный клиновидный разделочный нож. И замахала им в разные стороны над миской, пока Шарт возила по руке ножом, распевая: – А ну прочь, незваные духи и призраки! Нам нужен только наш!
– Уй! – воскликнула Шарт. – Ладно бы только больно было, так еще и крови не добыть. Я же знаю, что древние римляне только этим и занимались. Регулярно кончали с собой таким способом в термах. Может, у современных людей вены стали какие-то другие – как ты считаешь? – Она полоснула ножом по запястью и была вознаграждена набухающей красной каплей. – Уй! Ай-й-й!
– Надави, – настоятельно посоветовала Фенелла и помахала ножом. – А то свернется.
Едва Шарт сумела выдавить несколько красных капель из запястья в миску, как в заднюю дверь ворвалась Имоджин. Она вела за плечи двух маленьких мальчиков. Один прижимал к носу замызганный красным платок. Другой бережно держал у лица бумажный стаканчик.
– Я пообещала каждому по десятипенсовику, – предупредила Имоджин. – Вот. Вон миска. Капайте кровью в нее.
Мальчик с платком послушно прошаркал к столу и нагнулся над миской. Тот, что со стаканчиком, огляделся и решил, что главная здесь Шарт.
– Тут довольно много. – Он показал стаканчик. – Стоит не меньше фунта.
– Ерунда, – отрезала Шарт, глянув на содержимое стаканчика. – Я только что дала больше задаром.
– Донорам крови никогда не платят, – сказала Имоджин. – Я вам говорила.
– Их чаем поят, – возразил мальчишка и вцепился в свой стаканчик. – Фунт двадцать. Это же моя кровь – не что-нибудь!
– Да не стоит эта капелька фунт двадцать! – сказала Шарт. – Нормальные доноры сдают не меньше пинты!
Мальчишка глядел на нее исподлобья и упорно не выпускал стаканчика из рук.
– Если ты и правда хочешь сдать пинту, я тебе помогу, – заявила Фенелла и картинно взмахнула клиновидным ножом. – Подставляй яремную вену, а потом я налью тебе чайку.
Мальчишка поглядел сначала на нее, потом на нож, потом еще на окровавленную гульку надо лбом. Потом поставил стаканчик и был таков. Второму мальчишке выдали десятипенсовик – причем оказалось, что больше денег ни у кого нет.
– Надеюсь, остальные денег не попросят. – Имоджин резкими, неуклюжими от отвращения движениями тоже проткнула кожу на запястье и с неожиданной результативностью нацедила в миску целую струйку крови.
Увы, все требовали денег. Два маленьких мальчика оказались первыми из целой лавины доноров. Дженкинс и Говард привели каждый по два маленьких мальчика. А Говард притащил вдобавок еще и тушку кролика из кабинета биологии: вдруг сгодится. Кролик оказался заспиртованный. Они положили его на стол, где он вонял формальдегидом, весь ободранный и будто утонувший, и занялись расквашенными носами четверых доноров. Все четверо потребовали по фунту – не меньше. Шарт вздохнула и выдала им долговые расписки.
– Кролика можно принести в жертву, – предложил Говард, пока протыкал себе палец галстучной булавкой. – Нам же нужна жертва, если мы хотим быть нормальными язычниками.
К этому времени слух пронесся по всей школе. Мальчики, в основном младшие, повалили к ним валом – кто осторожно крался через яблоневый сад, кто воровато проскальзывал в зеленую дверь – с бумажными стаканчиками и фольговыми корзиночками от пирожных, где колыхались драгоценные капельки крови. Вскоре выяснилось, что рыночная цена за донорство – фунт двадцать пенсов. На меньшее никто не соглашался. Кое-кто просил больше. Обычно это были те, кто приходил без всяких следов крови и заявлял, что готов за деньги подвергнуться удару в нос. За такое запрашивали фунт сорок пенсов. Бил Нед Дженкинс. Он был настоящий мастер. Но если до крови не получалось, а кровь легко идет далеко не у всех, то мальчику вручали нож и предлагали добыть кровь самостоятельно. Тогда цена падала до прежних фунта двадцати. Шарт выписывала расписки – призраку показалось, что набежало на добрых шестьдесят фунтов. Но не все хотели только денег. Большинство доноров прослышали, что есть еще и призрак. Примерно каждый четвертый сдавал кровь по сниженной цене, за фунт, при условии, что ему разрешат остаться посмотреть, что будет, когда призрак выпьет крови.
– Тогда жди в саду, – говорила таким Шарт. – Все равно он должен быть на улице, – объясняла она остальным. – В книге он был под открытым небом. А для крови, по-моему, вырыли канавку.
В саду становилось довольно людно. Уровень мутноватой красной жидкости в миске многообещающе рос. Фенелла махала над ней разделочным ножом все веселее и веселее.
– Море вкусной кровищи! – распевала она. – Посторонним призракам вход воспрещен!
Призрачная сестра висела над ними, глядела вниз, на растрепанную голову Фенеллы и мелькающий в воздухе нож, и еще ниже, на грязную миску липкой красной крови.
– Нет, Фенелла, я не ты, – сказала она. – Мне все это совсем не нравится. Это отвратительно. Наверное, я Имоджин.
Но и Имоджин больше не смотрела на происходящее с отвращением.
– Вот что удивительно, – сказала она с середины забитой донорами кухни. – У меня такое чувство, что все, не считая кролика, очень правильно. Теперь я уверена в успехе.
– Ну, откровенно говоря, я думаю, все это мерзко, – заметил Говард. – А ты, Нед?
– Я тоже, – сказал Дженкинс. – Но Имоджин правду говорит.
Похоже, многие были согласны с Говардом. В очереди доноров в саду появилась и компания старших мальчиков, в том числе Полудурок Филберт, и они громко выражали свое мнение. В основном свистом и улюлюканьем, но то и дело слышалось распевное: «Гадкие, противные затевают мерзость!»
– Не обращайте внимания, – посоветовала Имоджин. – Они просто не понимают, насколько серьезно положение.
Певцы разошлись не на шутку, когда открылась задняя дверь и в кухню сунул голову Джулиан Эддимен.
– Что происходит? – Он расхохотался. Глаза у него сияли, мокрые красные губы блестели. – Я слышал, вы требуете крови.
– Естественно. Это способ заставить духов заговорить, – живо отозвалась Шарт.
Джулиан Эддимен посмотрел на Фенеллу, махавшую ножом над миской, на кролика, лежавшего рядом на столе, на Говарда с Дженкинсом и на очередную парочку доноров. И преисполнился лукавого веселья. Тут раздался пронзительный звонок – большая перемена кончилась.
– Оп-па! – сказал Джулиан Эддимен. – Ну, если он вам что-то сообщит, расскажите потом. – И со смехом ускользнул за порог.
– Эй! – окликнула его Фенелла. – Сначала сдай кровь!
Но Джулиан Эддимен уже исчез, к большому облегчению призрака. Доноры из кухни помчались вслед за ним. Распевающая в саду компания тоже потянулась прочь вместе с почти всей очередью доноров – медленно и огорченно. Однако многие все-таки решили послушать призрака и задержались под деревьями, полные надежд. А еще подтянулась партия новеньких доноров, человек восемь-десять: они шагали через сад со стороны изгороди, бережно неся перед собой бумажные стаканчики.
– Перемена же кончилась! Им что, все равно? – поразилась Имоджин, глядя из окна, как они приближаются.
– Всегда можно выдумать уважительную причину – стоит только захотеть, – сказал Говард. – Ну что, Дженк, нам пора?
– Я хочу узнать, что скажет призрак, – ответил Дженкинс, упрямо выпятив бледный подбородок.
В этот самый миг миссис Джилл распахнула зеленую дверь и сказала:
– Зайдите, взгляните, мистер Мелфорд. Тут столько крови, что впору миноносец запускать.
XI
На пороге кухни возник Сам. Говард, стоявший ближе всех к гостиной, мгновенно нырнул туда регбийным приемом и исчез – только еле слышно хлопья хрустнули. Дженкинс, вместе с Имоджин глядевший в окно, не нашел другого выхода, кроме как согнуться в три погибели и втиснуться под раковину. Имоджин прикрыла его собой. Шарт подскочила к ней, а призрачная сестра присоединилась к ним: ей подумалось, что лучше бы держаться подальше от Самого. Фенелла из чистой бравады недобро посмотрела миссис Джилл прямо в глаза и продолжила махать разделочным ножом.
– «Вон отсюда, пауки, – пропела она. – Прочь, медянки в темных пятнах» – кстати, одна из них сейчас прямо здесь, так вот пусть или выйдет, или упадет на пол и извивается!
Сам посмотрел на нее, на миску с кровью, на кролика – и вдвинулся в комнату. Было видно, что он готов убивать. Снаружи, в саду, его силуэт узнали и оцепенели от ужаса. Собравшиеся послушать, что скажет призрак, кинулись прятаться. Компания доноров, приближавшаяся со стаканчиками, сначала попятилась, потом в панике метнулась в кусты, побросав стаканчики.
– Ну и ладно. Крови у нас уже почти хватит, – пробормотала Шарт.
– Видите, мистер Мелфорд? – победно вопросила миссис Джилл.
– Да, благодарю вас, миссис Джилл, – сердечно ответил Сам и отошел проводить миссис Джилл и придержать перед ней зеленую дверь.
Но поскольку миссис Джилл была та еще вампирша, она притворилась, будто не поняла намека. Она передвинулась к столу и скрестила руки, после чего уставилась на миску с кровью и застыла, явно дожидаясь продолжения.
Пришлось Самому вернуться в кухню. От этого повисла пауза: никто не понимал, что теперь будет. Все прекрасно знали, что Сам хочет закатить очередной безобразный скандал. Он хочет визжать, орать, раздавать оплеухи и обзывать дочерей сволочными девками, но не хотел делать этого при миссис Джилл. Поэтому он стоял, встопорщив перья и глядя на них исподлобья – орел, готовый терзать, – а все остальные не понимали, что теперь делать – бояться, смущаться или вздыхать с облегчением.
В конце концов Сам прибег к сарказму.
– Похоже, я породил ведьминский шабаш, – заметил он.
Миссис Джилл обрадованно закивала. Сам раздраженно покосился на нее.
– Положи нож, Имоджин… э-э… Селина… э-э… Фенелла, – приказал он.
Вот что любопытно: Сам помнил по именам и фамилиям всех учеников до единого, но вечно путал собственных дочерей. Ему всегда приходилось перебрать не меньше трех имен, чтобы в конце концов угадать. Когда Фенелла положила нож, он сказал:
– Я его конфискую. Им можно убить. Что здесь делает этот отвратительный кролик? Шарлотта… Имоджин… Фенелла, сейчас же верни его в кабинет биологии.
Фенелла с сомнением поглядела на него исподлобья, не уверенная, что он имеет в виду именно ее.
– Я сказал: сейчас же верни! – прогремел Сам – криком он отчасти выпустил пар.
Фенелла торопливо подхватила кролика и бросилась с ним к двери.
– Нет! Стой! – прогремел Сам. – Я еще не закончил!
Фенелла остановилась и замерла с кроликом, прижатым к зеленому мешку.
– Что это вы, свол… своенравные девчонки, собрались делать с этим… этим диким натюрмортом? Отвечайте! Нечего стоять разинув рот! Для чего вам, интересно, этот омерзительный таз с кровью? Отвечайте!
– Древнегреческий опыт с духами, – выдавила Фенелла. Она почти всегда была единственной, кто отваживался разговаривать с Самим, когда у него случались такие взрывы. – Про него написано в книге Вергилия. Это по учебе. Ты же учишь в Школе греческому и Вергилию.
– Вергилий был не грек, – прорычал Сам, – ты, тупая свол… своенравная девчонка! Если уж тебе приспичило выискивать в классике отвратительные эпизоды, хотя бы воспроизводи их правильно. Кто такой Вергилий?
– Э-э… римский поэт, – пролепетала Имоджин.
– Верно, – сказал Сам.
Все сразу превратилось в урок. Сам это понял, еще раз раздраженно покосился на миссис Джилл и превратил все обратно в скандал, нацелив дрожащий палец и свирепый взгляд на миску крови.
– А вот это, – проговорил он, – вот эту мерзость следует убрать немедленно. Мне все равно, что тут вы затеяли – гадания или жертву богам, – но этого здесь быть не должно. Селина… Фенелла… Шарлотта, сию же секунду вынеси ее и вылей.
– Нам она нужна! – возразила Фенелла. – Она стоила нам кучу денег!
Сам развернулся к ней, готовый терзать. Но вспомнил о миссис Джилл и вместо этого взревел:
– Я тебе сказал вернуть кролика в кабинет биологии! Как ты смеешь не слушаться меня? Сейчас же отнеси его на место!
Фенелла протестовать не стала. Она метнулась к двери, взмахнув кроликом, и исчезла, пока Сам опять не передумал.
Сам развернулся к Имоджин и Шарт:
– Имоджин… Селина… Шарлотта, я велел тебе вынести этот ужасный таз! Немедленно! Вынеси его в сад и вылей!
– Если ты имеешь в виду меня…
Шарт совсем не спешила двигаться с места. Ведь тогда будет утрачена целая миска крови, добытой с таким трудом. К тому же Шарт боялась приближаться к Самому. У него была кошмарная манера бить по лицу наотмашь, едва окажешься в пределах досягаемости. Но самое плохое было даже не это: Шарт понимала, что стоит ей перестать заслонять раковину своей широкой спиной, Сам увидит, что там прячется Нед Дженкинс.
– Тебя, кого же еще, мерзкая девчонка! – заорал Сам. – Я что, непонятно выразился?
– Да! – рявкнула Имоджин, у которой было парадоксальное свойство внезапно смелеть. – Надо было сказать: Шарлотта! А ты перебрал все наши имена! Неужели так трудно запомнить, кого из нас как зовут?
– Это просто наглость, Селина, – сказал Сам.
– Ну вот, опять! – выпалила Имоджин. – Тебе бы понравилось, если бы я постоянно называла тебя Филлис?!
Глаза у Самого округлились. Он замер, готовый разить, и смотрел на Имоджин взглядом, в котором ярость мешалась с изумлением. Он совсем не понимал, что она хочет сказать, но твердо знал, что это дерзость. Взгляд его быстро стал яростным целиком. Тут Имоджин открыла рот, чтобы что-то добавить. Шарт попыталась заставить ее замолчать и для этого пнула в лодыжку.
Имоджин тут же громко вскрикнула, присела и обеими руками схватилась за просторную желтую штанину:
– Ой! Нога!
Получилось до того убедительно, что Шарт тоже поверила и встревоженно наклонилась над ней. Пришлось Имоджин извернуться и криво подмигнуть. А дело в том, что у Имоджин была одна особенность: она не умела подмигивать. Даже под страхом смертной казни – а тем более когда под страхом смертной казни оказался Нед Дженкинс. Возможно, все потому, что черты лица у нее были чересчур уж правильные – и бездонные синие глаза плохо закрывались по отдельности. Но она очень постаралась. Сначала перекосила одну половину лица, потом вторую. Получилось две страшные гримасы. Миссис Джилл и Сам наверняка подумали, что она корчится от боли. А Шарт наконец сообразила, что Имоджин присела, чтобы спрятать Неда Дженкинса.
– А! – понимающе воскликнула Шарт, после чего ей пришлось торопливо добавить: – Прости меня, Имо!
А поскольку Сам буравил ее свирепым взглядом, она обежала кухню по стеночке, чтобы между ней и Самим оказался стол. Глаза миссис Джилл так и стреляли то на Шарт, то на Самого: она прикидывала, попадет ли Шарт в пределы досягаемости. И похоже, была слегка разочарована, когда Шарт очутилась по ту сторону стола напротив Самого. Тогда глаза миссис Джилл выжидательно нацелились на миску с кровью.
Шарт тоже посмотрела на миску и сказала – умильно и расплывчато:
– Нехорошо выливать это в сад. Такое хорошее удобрение. Ты же знаешь, что на крови во Фландрии выращивали маки? Давай я отнесу ее в огород и…
Тут Сам ринулся вперед, оперся обеими руками на стол и едва не ткнулся носом в лицо Шарт.
– Твой треклятый пес, – надтреснуто выговорил он, – только что разрыл все грядки. – И рявкнул: – Я сказал – вылить!
Его крик не оставлял простора для возражений. Шарт отпрянула, схватила миску и ринулась прочь. Кровь в миске крутанулась – и, как часто бывает, когда крутится густая жидкость в эмалированной миске, испустила долгую тягучую ноту, низкий печальный стон.
Глаза у миссис Джилл стали круглые. Но этот стон завладел не только ее вниманием – он приманил и призрачную сестру. И когда Шарт выскочила с миской в руках за заднюю дверь в сад, где висела тонкая дымка дождя, миссис Джилл проводила ее взглядом, а призрак вылетел за ней.
– Ну что – он там все? – послышался из-за зарослей крапивы театральный шепот.
– Нет, – ответила Шарт.
И правда, Сам еще не угомонился. Было слышно, как он напустился на Имоджин.
– Похоже, Нед попался, – пробурчала Шарт.
Она потащила миску через сад к шалашу Мониган – и нагнулась, чтобы сунуть ее внутрь.
– Не смей! – завизжала призрачная сестра.
Шарт замерла и задумалась.
– Нельзя же, чтобы ее разбавило дождем, – проговорила она наконец, будто все слышала. Задвинула миску в шалаш и зашла за него – так из окна кухни было видно только верхнюю ее половину. За шалашом стояла другая эмалированная миска, поменьше, в которую иногда насыпали корм для кур. В ней застоялось немного грязной воды.
– Отлично, – сказала Шарт.
Она взяла миску и разыграла великолепный спектакль: вышла туда, где ее было видно из кухни, и картинно выплеснула воду. Сам, может быть, и не смотрел, но миссис Джилл – наверняка. Потом, шлепая миской по бедру, чтобы не бросалось в глаза, что она меньше прежней, Шарт вернулась и распахнула дверь в кухню.
– Кровь утилизирована, – объявила она.
Сам, который буравил взглядом Имоджин, по-прежнему съежившуюся на полу, отвлекся и развернулся.
– Хорошо. Прекрасно. И если вы затеете еще какую-нибудь омерзительную чушь, предупреждаю, кара будет страшной. Уразумели, вы, тупые свол… своенравные девчонки?
– Да, – разом отозвались Шарт и Имоджин.
– Прекрасно. – Сам подошел к зеленой двери и распахнул ее перед поварихой. – После вас, миссис Джилл, – учтиво прозвучал его голос. Пришлось той волей-неволей удалиться за порог перед Самим, хотя она явно ожидала большего. Сам вышел следом и попытался было хлопнуть дверью, чтобы выразить накипевшее. Но поскольку дверь была из тех, что открываются в обе стороны, ничего у него не вышло – она только болталась туда-сюда все время, пока Имоджин неловко поднималась с пола.
– Где кровь? – спросила Имоджин, когда дверь успокоилась.
– В хижине Мониган, – ответила Шарт. – Наверняка это дурное знамение, но…
– Тихо, – замогильным голосом произнес Нед Дженкинс из-под раковины. – У него жуткая манера потом сразу возвращаться.
– Он так только с мальчиками. – Имоджин протянула руку, чтобы помочь Неду выбраться, и он выбрался, слегка перемазанный. – У тебя вся спина в заварном креме, – сурово сказала Имоджин. – Постой.
Пока она его вытирала, из гостиной осторожно прохрустел по хлопьям Говард. Миг спустя в заднюю дверь сунула голову Фенелла.
– Дождь перестал, – сказала она. – Здесь будем или на улице?
– На улице, – сказала Шарт. – Все древнее колдовство всегда делается на улице. Кроме того, там больше мест, куда удрать.
Так что не прошло и минуты, как миску бережно водрузили на мокрую кочку у подножия пологого склона, засаженного яблонями. Мокрая крапива и крошечные зеленые яблочки словно подмигивали в нездорово-желтоватом солнечном свете. От отсыревшего шалашика Мониган поднимался пар. Шарт, Имоджин, Фенелла, Говард, Дженкинс и те доноры, кто так и не ушел, окружили миску. Из доноров остались четверо маленьких мальчиков – штанины у них внизу совсем промокли, плечи заморосило дождем, а носы были перемазаны кровью.
Все примолкли и ждали. В отдалении деловито клевали куры, которых все это абсолютно не интересовало.
– Да ничего не будет, – брезгливо процедил один из доноров. – Зря только кровь у нас отобрали.
Фенелла посмотрела на него с глубочайшим презрением и воздела тощие руки.
– Призрак! – воззвала она. – Призрак, явись и пей!
Тогда все остальные тоже подняли руки с разной степенью смущения. У Говарда руки были вялые, кисти болтались, как будто он надеялся, что никто не заметит. Нед Дженкинс потянулся вверх, словно доставал что-то с полки. Имоджин приняла театральную позу жрицы.
– Явись и пей, – не слишком стройным хором сказали все.
Призрак обреченно завис над миской. Под блестящей поверхностью сквозь разбавленную кровь из говяжьих сердец медленно тянулись вязкие щупальца более густой крови. Призрачная сестра сомневалась, что решится даже попробовать отпить из миски. Это же людоедство. А Шарт еще и ставила миску в шалаш Мониган, будто жертву. Мониган была рядом. Призрачная сестра ощущала, как та напирает со стороны сада, глядит на нее с лукавым ироническим весельем, как Джулиан Эддимен, подзуживает пить. Точь-в-точь как с той мертвой курицей.
При всем при том она по-прежнему считала, что для нее это единственная возможность что-то им объяснить и заручиться их помощью. Но если это значит, что стоит ей выпить крови, как Мониган заберет ее… Она не знала, что делать. И все равно не могла заставить себя отпить.
Мониган все это несказанно забавляло. Собравшиеся вокруг миски мало-помалу опускали руки. Вот-вот они сдадутся. Мальчики поменьше сунули руки в карманы и по всем признакам думали уже убираться подобру-поздорову. А призрачная сестра все парила над миской, не понимая, что ей делать. Она бы так ничего и не сделала, если бы в больнице через семь лет не началась какая-то суматоха и не отвлекла ее.
Чей-то голос у нее над ухом сказал:
– Нам нужен еще пакет крови.
«Какой еще пакет крови?» – оторопела она. И вспомнила. Все время, пока она парит здесь, ей переливают кровь. Ей дарят жизнь благодаря крови, которую сдали неизвестные великодушные люди, поскольку знали, что так нужно. Тогда и пить кровь тоже можно – какая разница? То же самое, только здесь она знала, чья это кровь. Да, маленькие мальчики сдавали кровь за деньги, но Говард, Дженкинс и ее сестры были так же великодушны, как неизвестные больничные доноры. И оба дара пропадут впустую, если она откажется от них и позволит Мониган забрать ее в полночь.
Она метнулась вниз как можно быстрее, чтобы не пришлось ни о чем думать. Блестящая лужа крови надвинулась на нее, исчерченная отражениями листьев и яблочек – но ни следа отражения самого призрака. Теперь, вблизи, оказалось, что кровь тоже тихонько потрескивает от того же электрического ощущения жизни, что и человеческие тела. Только слабее. Поле не помешало ей опуститься под липкую покалывавшую поверхность. Это было будто купаться в газировке. У нее все потрескивало. Призрачная сестра попыталась было что-то такое сделать, чтобы проглотить кровь, но, похоже, надо было иначе. Она как будто впитывала кровь всем своим существом. Ощущала, как та входит внутрь, как пощипывает от нее все то, что теперь уже точно чувствовалось как тело.
Она выпрямилась, потрескивая. В ушах непонятно ревело, на глаза напирала размытая зеленая пелена, в нос ударил острый запах дождя. Все это было смутно – но она понимала, что это. Она слышала, видела, чувствовала точно так же, как люди в своих телах, только совсем недолго. И в тот же миг ощутила, что Мониган отступает. Мониган была зла, глумлива и не собиралась сдаваться, но сад она покинула. То, что здесь произошло, было вне ее власти.
Вокруг нее все вытаращились. Большинство лиц были белые. Маленькие мальчики умудрились одновременно и отпрянуть, и податься вперед: назад – от ужаса, вперед – от любопытства.
– Стоит прямо в миске, – прошептал один. – Похоже, девочка.
– Висит. Вся расплывчатая, – произнес голос Говарда. – Кто это?
– Вот именно, – сказал призрак. – Кто я? Неужели вы меня не узнаете?
Это она сказала. Но услышала она, как и все остальные, не столько голос, сколько стон – так стонет жидкость, когда ее взбалтывают в эмалированной миске, только со словами. И не со словами даже, а с поломанными ошметками слов. Как радио с помехами.
– Кто я, кто я… о, кто я? – протянула она, словно сова, которую заело.
Все бросились было врассыпную, но остановились.
Маленький мальчик сказал:
– Я тоже слышал.
– Что он говорит? – Имоджин нетерпеливо вытянула шею.
– По-моему, – медленно произнесла Шарт – язык у нее слегка заплетался, – по-моему, он не знает, кто он.
– На тебя похожа, Шарт, – сказала Фенелла.
– Или на Салли, – сказал Дженкинс. – А чего это она вся закутана в белое?
– Я исключительно сильно напугана! – напористо, пронзительно проговорила Имоджин. – Я считаю, мы вызвали дьявола!
– Нет, мертвеца, – возразил кто-то. – Вон, саван.
– Да нет же, – сказал призрак. – Ничего вы не понимаете. Я еще жива, но умру, если вы мне не поможете.
Вышло так же искаженно, отрывисто, как и в первый раз: «Понима… умру… поможете».
– Я тебя не понимаю, – сказала Фенелла.
Поле зрения загромоздила огромная клочковатая фигура Оливера, морда у него была вся в земле. Оливер тут же увидел призрак. Взвизгнул от радости и бросился к миске со всех ног – хвост так и вилял. Но в трех шагах остановился, задрожал, заскулил и жалостно уставился на привидение, зависшее над миской. Было видно, что приближаться он не осмеливается. В возмещение он еще усерднее завилял огромным хвостом.
От этого всем сразу полегчало.
– Оливер ее узнает, – сказал Говард. – По-моему, это и правда кто-то из вас.
– Ну, она так и говорит, – отозвалась Шарт. – Прошу тебя, кто бы ты ни была, скажи нам, кто ты и зачем явилась к нам.
Призрачная сестра поняла, что объяснять надо как можно скорее. Тело, которое дала ей кровь, потрескивало все слабее, особенно внизу. Она попыталась поглядеть вниз. И увидела высокий полупрозрачный силуэт человека, в основном затуманенный белым, и сквозь него просвечивала зеленая трава в саду. Белые одежды озадачили ее не меньше прочих. Может быть, это больничная рубашка? Но самое неприятное было в том, что между размытым белым и блестящей кровью в миске была щель – а должны были быть ее ноги. Там потрескивание совсем не ощущалось.
Тем временем Имоджин свирепо теребила четырех маленьких мальчиков:
– Вы знаете, кто это? Вы ее узнаете?
Они мотали головами. Похоже, от ужаса они лишились дара речи, и Оливер им мало помог.
Призрак заговорил. Призрачная сестра, как могла, постаралась втолковать им все как можно понятнее. Она рассказала им про Мониган, про Джулиана Эддимена, про больницу. Рассказала, как призраком вернулась на семь лет в прошлое. Но слышала она при этом только непонятные, смазанные обрывки и стонущие ошметки слов – и знала, что и остальные слышат то же самое.
– Мониган… Мониган… жертва… семь лет… жизнь… помогите. Помогите. Помогите будущему сейчас… только вы… помогите кровь Мониган… семь лет… помогите… жизнь… умираю… семь… помогите…
Ее голос все стонал и бормотал, но она с первого же слова ощущала, как он слабеет. Не прошло и нескольких секунд, как ей стало ясно, что его уже никто не слышит. А еще она чувствовала, как Мониган далеко-далеко злорадствует и веселится, что она сказала так мало и упустила такую блестящую возможность.
Поэтому она отчаянно выдавливала из себя слова. А электрическое потрескивание жизни, которую подарила ей кровь, с каждым мигом все слабело, слабело и затухало. Она чувствовала, как оно вытекает из груди, поднимается по рукам, в шею, в голову. И вот оно исчезло.
Исчезло. Она снова лежала на больничной койке и видела серость кругом.
Голос Шарт произнес:
– К ней пускают только по одному. Я пойду. Но должна тебя предупредить…
Шарт перешла на шепот. Пациентка лежала и слушала этот шепот и все думала про кровь. Вдруг они ошиблись? Шарт поставила миску к Мониган в шалаш, и это тревожило пациентку. Вдруг из-за этого обязательства Салли перешли на нее?
Возле ее койки очутился кто-то еще. Правда, пациентка поначалу видела только огромный букет красных и белых роз, которые этот кто-то старательно ставил в вазу.
– Это же прорву денег стоит! – заметила пациентка, крайне тронутая.
– Еще бы. Красивые, правда? Люблю транжирить деньги. Я вытянула их из Самого, чтобы переночевать в гостинице, но теперь придется спать у тебя на полу.
– Вроде бы спать у меня на полу собиралась Шарт, – сказала пациентка.
Она начала сосредотачиваться на посетительнице. И не узнала ее – точно так же, как не узнала поначалу миссис Джилл. Это была красивая и модная девушка, одетая гораздо лучше Шарт. Блестящие каштановые кудри были красиво подстрижены и уложены, лицо красиво и тщательно накрашено. От нее веяло нежным ароматом, а на пальцах, поправлявших розы в вазе, были длинные, яйцевидные красные ногти. Но голос был точно знакомый – хотя теперь он стал низкий, аристократичный и взрослый.
Девушка отвернулась от роз и сказала:
– Шарт говорит, у тебя сотрясение и ты ничего не помнишь, но, судя по последней фразе, соображаешь ты хоть куда. Как ты себя чувствуешь?
При этих словах прелестные накрашенные губы растянулись в улыбке, полной нежности, и показали два крупных передних зуба с широкой щелью между ними.
– Боже милостивый!.. – еле выговорила пациентка. – Ты же Фенелла!
Наверное, прошло не семь лет, а больше, подумалось ей. Этой Фенелле не может быть всего семнадцать.
– А что ты такая модная?
– Это мой лондонский парадно-выездной наряд, – с достоинством отвечала Фенелла. – Я всю Пасху проработала в «Бутс», чтобы скопить на него. Решила, тебе понравится. А прическу мне сделала сестра миссис Джилл.
– А, – сказала пациентка. – Э-э… Ты ведь уже не учишься в школе?
Фенелла вздохнула – а потом ощерилась и сразу стала прежней, десятилетней Фенеллой. Никаких сомнений.
– Учусь, – прорычала она. – Хотела уйти. Я тебе говорила. Жуть как хотела уйти, но Сам не разрешил. Я пригрозила нарочно завалить выпускные экзамены повышенной сложности, если он заставит меня остаться. Может, и завалю – еще не решила. Но я же собираюсь стать оперной певицей, так что все складывается удачно.
– Певицей?!
– Ну да, – кивнула Фенелла. – Послушай.
Она повернулась к стеклянной стене и открыла рот. Оттуда вырвалась протяжная, чистая нота. Пациентке в жизни не приходилось слышать ничего прекраснее. А еще нота была оглушительно громкая – дальше некуда. От нее у пациентки запульсировало все – от головы до подвешенной на вытяжке ноги. За стеклянной стеной повернулись забинтованные головы, оглянулись посетители. А пациентка сразу вспомнила, что Фенелла с детства умела безо всяких усилий издавать гулкие, низкие вопли в два раза громче всех.
– Ой, – сказала пациентка. – Очень красиво, только больше, пожалуйста, так не делай. Тебя выставят.
– Конечно, – ответила Фенелла. – Я просто хотела тебе показать, что голос у меня есть, и еще какой. Я знаю, что ты за меня беспокоилась. Но больше не надо, честное слово. Я хожу на настоящие уроки вокала. Вытянула деньги из Самого.
– Из Самого?..
– Да, – подтвердила Фенелла с легчайшим, не более, намеком на самодовольство. – Месяц назад. Я умею вытягивать из него деньги не хуже тебя. Может, даже и лучше. Я вот как сделала: пришла к нему с таблицей, где в одном столбце написала сумму, которую придется заплатить за уроки, а в другом – стоимость всего того, за что приходится платить другим отцам, а ему нет: ну, за одежду, еду, отопление, карманные расходы и все такое прочее. Даже за год набегала приличная сумма. Страшно было ему показывать. – Фенелла помолчала – похоже, сама слегка удивилась. – Я думала, он будет вне себя от ярости, если ткнуть его носом в то, какой он скупердяй. Ты бы тоже так подумала, да? А он первым делом умножил все на четыре, чтобы понять, сколько он сэкономил на нас всех. И получилась такая уйма, что он страшно обрадовался. А тут я к нему чуточку подольстилась. Есть одна штука, которую вы никогда не замечали, – объявила Фенелла. – Сам обожает, когда ему льстят. Мальчишки это знают. Они вечно подлизываются. А вы этого никак не могли понять – только скандалили с ним все время. Вот я и взяла пример с мальчишек, подлизалась – и за пять минут вытянула из него деньги на уроки вокала.
– Ловко это ты, – восхитилась пациентка.
После этого, как часто бывает, когда навещают больных, у них кончились темы для разговора. Фенелла сидела и смотрела на пакет с кровью – опасливо, но с научным интересом. Ее сестра лежала и думала.
Я Имоджин, думала она. Это все объясняет. Я не чувствую себя Имоджин, и мне не слишком-то хочется становиться концертирующей пианисткой, но я точно она. Вот интересно, не без надежды подумала она, а вдруг моей карьере теперь конец… ой, нет. Я же учусь в художественной школе, точно. Как странно. Минуточку…
– Фенелла! А кто нарисовал твой портрет, который еще стоял у нас на старом пианино?
– С ежевичными кустами, что ли? – спросила Фенелла. – Ты, кто же еще.
Тут обе разом затараторили. Фенелла, естественно, победила: сказались крепкое здоровье и куда более громкий голос.
– Кстати, если увидишь миссис Джилл раньше меня, передай, что я поехала следующим поездом, потому что не успела вовремя вытянуть деньги из Самого.
– Почему…
– На самом деле я, конечно, получила их, как только позвонили из больницы, – продолжала Фенелла. – Но мне было даже подумать тошно, чтобы ехать с миссис Джилл. Она или рассуждает о всяких болячках, или начинает мной распоряжаться. Как будто я не человек, а живая оранжево-зеленая сумка. Так что, если можно…
– Конечно. Она сейчас сидит в травматологии. Шарт ее туда отправила.
На это Фенелла коротко хохотнула – смех у нее неожиданно оказался таким же оглушительным, как певческий голос. И они снова умолкли.
Так не годится, подумала пациентка. Я еще столько всего не знаю.
– Фенелла, который час?
Фенелла поглядела на золотые часики на запястье – несомненно, она вытянула их из Самого, как и уроки вокала.
– Начало пятого.
Еще час прошел.
– Фенелла, а помнишь, к нам являлся призрак?
Фенелла тут же вскинулась. Глаза ее, и без того большие и красиво увеличенные косметикой, стали просто огромные.
– Мы его прогнали. После обеда он исчез.
– Как? Что мы сделали?
Фенелла пожала плечами. Теперь это был изящный жест, но означал он то же самое, что всегда у Фенеллы: она все знает, но не скажет.
– Фенелла, прошу тебя. Мне ужасно важно знать. Как ты не понимаешь – это же я была тем призраком!
– Если ты думаешь, что мы до сих пор не догадались, ты дура, – неохотно отозвалась Фенелла. – Но это было много лет назад. Сейчас никто из нас уже ничего не может поделать.
– Да нет же! – воскликнула ее сестра. – Я знаю, что могу все исправить!
– Этак ты себя в гроб вгонишь, – сказала Фенелла. – Типун мне на язык, конечно. Ну ладно, хотя я не до конца понимаю, как так получилось. Шарт что-то такое сказала, и мы все поехали куда-то на велосипедах, и у нас почему-то получилось, хотя как, я не знаю. В общем, когда мы приехали обратно, призрака с нами уже не было, но мы все промокли, и Уилл и Нед попались, потому что были мокрые.
– А куда мы поехали?
Этого Фенелла, очевидно, не хотела говорить. Она терпеть не могла отвечать на вопросы. Особенно на важные. Обычно в таких случаях она молчала как рыба или притворялась, будто забыла. Ей же всю жизнь было трудно что-то объяснять. Но поскольку вопросы ей задавала тяжелобольная сестра, она взяла себя в руки и ответила:
– Мы поехали туда, где вроде бы обитала Мониган, – куда же еще.
Ее сестра прекрасно понимала, каких усилий Фенелле стоило это сказать. Она попыталась улыбнуться, и Фенелла улыбнулась в ответ двузубой улыбкой, которая гораздо больше подходила бы к веснушкам и двум гулькам надо лбом, чем к облику нынешней элегантной Фенеллы.
– Спасибо. А где она жила?
Фенелла снова сделала над собой усилие и ответила точно так же, как ответила бы семь лет назад:
– За Сонным Пейзажем, за Изнанкой Потустороннего.
XII
Она помчалась обратно – снова призраком, но уже победоносно. Она была уверена, что мысль вступить в противоборство с Мониган принадлежала не Шарт, а ей. Выходит, ей удалось повести сестер, а может, и мальчиков, в какую-то атаку на Мониган. Ей не терпелось вернуться в сад, к миске с кровью.
И вот она вернулась. Вот сад, по-прежнему залитый нездорово-желтым солнечным светом, и зеленые яблочки еще блестят от капелек дождя. Но пока ее не было, что-то случилось. Эмалированная миска валялась в траве кверху дном. Призрак уставился сверху вниз на темные комья земли, приставшие к ней, на бурое кольцо грязи. Курицы, деликатно приподнимая лапы, расходились от призрака подобру-поздорову.
Шалаш Мониган в отдалении лежал в руинах. По прямоугольнику пожелтелой травы были разбросаны клочья ковра. Сушилка для белья и два шезлонга, на которых держался ковер, были разломаны на куски, и на местах свежих разломов показалась желтая древесина. Наверняка дело рук Шарт – кого ж еще.
Призрака охватил леденящий ужас. Сестры все поняли, но еще не видели, на какие злодеяния способна Мониган. Она сказала им, что все это сделала Мониган, а они в ответ осквернили святилище Мониган. Теперь Мониган разгневается.
Она повисла над клочьями мокрого ковра, вслушалась, вчувствовалась – она сама не знала, как это назвать, – и ждала Мониган и гнева Мониган. И ничего не произошло. В саду тихо. Мониган здесь нет. Где же?..
Конечно, Мониган здесь нет. Старая плесневелая кукла, которая уже больше года изображала Мониган, исчезла. Среди клочьев ковра и обломков дерева ее нет и следа – ее вообще нет в саду. Что они с ней сделали, с этой куклой? Куда увели Мониган?
Призрак ринулся в дом выяснять. Никого. В кухне мухи вились над тремя тарелками, наскоро выскобленными, с остатками еды. Задняя дверь стояла распахнутой. Из всего этого следовало, что они выбегали в спешке, но призраку захотелось все проверить. В гостиную. Никого. На полу по-прежнему валялись кукурузные хлопья. Поверху громоздились свергнутые со стеллажа книги, бумаги и карта Северного Гемпшира. Портрет Фенеллы уставился на призрак с кресла, в тусклом косом луче солнца плясали пылинки.
– Шарт! Имоджин! Фенелла! – закричала призрачная сестра беззвучно и безрезультатно. Ответом ей было лишь жужжание мух.
Она метнулась к лестнице, и тут что-то зашевелилось. Бурый ковер, сваленный грудой на полу, поднял большую косматую морду и со стоном встал на ноги. Оливер стоял и смотрел на нее, слегка помахивая хвостом. И скулил – еле слышно, беспокойно, выдыхая через огромный нос.
Она знала этот скулеж. Оливер так грустил. Он хотел сказать, что все ушли, а его бросили. Она слышала его частенько, когда возвращалась из школы и вела себя тихо, а Оливер думал, что он один.
– Ой, бедный Оливер! – сказала она.
Оливер слегка насторожил уши, скулеж сошел на нет. Он ее слышал. Он единственный слышал ее. Но вот послушается ли он ее команды?
– Хороший песик, Оливер, – сказала она. – Иди сюда. Ушли – так давай их поищем. Ну, искать, малыш!
Она бросилась из комнаты за открытую заднюю дверь и замерла там.
К ее великому облегчению, Оливер потащился следом. Остановился на пороге рядом с ней и опустил голову, смирный, будто шахтерский пони, и такой же большой, – ждал, куда она теперь направится.
– Ищи Шарт, – сказала она. – Ищи их, малыш. Вперед.
Оливер не пошелохнулся. Она в отчаянии вспомнила, как Шарт всегда говорила, что он тупой как пробка и начисто лишен нюха.
– Ну как хочешь, а я пошла! – сказала она и помчалась обратно в яблоневый сад.
Оливер снова грустно заскулил. Он не любил дальние прогулки и всегда сопротивлялся до последнего, если его пытались вывести, но оставаться один на каникулах не любил еще сильнее. И теперь он понимал, что от него за яблони улетучивается последняя надежда на человеческое общество – пусть и очень странное, но какое уж есть. Оливер испустил тяжкий вздох и решил предпринять моцион. Протопал к сараю в углу сада. С надеждой сунул тяжелую морду в открытую дверь. И снова вздохнул. Там было пусто – только ржавели останки древнего трехколесного велосипеда.
Значит, они взяли все велосипеды и куда-то поехали, как и говорила Фенелла. Как видно, эта идея все-таки принадлежала не призраку, а кому-то другому. Но куда они поехали? Слова «Сонный Пейзаж» были для нее пустым звуком, а вот Изнанку Потустороннего она смутно помнила.
– Пойдем, Оливер, – сказала она и помчалась дальше.
Пес потянулся за ней, но на его морде расплывчато читались возражения. Вместе они свернули за Школу, потом за дальний угол и очутились у длинного навеса, где держали велосипеды мальчиков. Оливер прилежно протопал вдоль ряда велосипедов, пока не дошел до ярко-красного в самом конце. Там он лаконично задрал лапу и оросил красное заднее колесо. И сел на землю. Он достаточно потрудился.
Она запорхала над ним, едва не визжа:
– Да, я знаю, что мальчики тоже поехали. КУДА? Оливер, пожалуйста, покажи мне!
Ее одурачили. В этом не было сомнений. Мониган задержала ее болтовней с Фенеллой, чтобы она опоздала вернуться и не успела всех перехватить. А значит, ей обязательно нужно их найти.
– Оливер! Прошу тебя!
Оливер решил, что покоя ему все равно не будет. От него отстанут, только если он двинется дальше. Поэтому он неохотно поднялся и затопал прочь. На этот раз он направился по тропинке вокруг огорода и по школьной подъездной аллейке к большим железным воротам. Снаружи проходила дорога. Оливер посмотрел на нее с отвращением – ему было больно ходить по жесткому – и снова остановился.
– В какую сторону, Оливер?
Вправо дорога вела в Чиппинг-Милтон, куда девочки ходили в школу. От нее в обе стороны разбегались проселки, уводившие в сотню дальних мест. Если все уехали туда, без помощи Оливера ей никак не обойтись. Налево была ферма Одри, а за ней – низины.
– Покажи, Оливер!
Со стоном, исполненным долготерпения, Оливер прошаркал на дорогу и повернулся налево.
– Ты уверен, Оливер?
Она не сомневалась, что он ошибается.
Чтобы подтвердить, что он уверен, Оливер припустил своей особой походкой – Имоджин звала ее верблюжьей – таковы были его представления о беге. Он по очереди выбрасывал передние лапы вперед и в сторону, вперед и в сторону и покачивался всей тушей. Поднялся на холм – призрак летел вровень с ним – и очутился у входа во двор фермы Одри. Там Оливер замедлил ход и двинулся прогулочным шагом. На этот раз он и в самом деле забрел далеко и больше гулять не собирался. Где-то за амбаром залаяла овчарка: она его почуяла. Кроме овчарки, во дворе, похоже, не было ни души. В сером свете он казался пустым, вымершим, заброшенным, будто прислоненная в углу ржавая борона.
– Нет, не может такого быть, Оливер! Здесь никого нет!
Невидимая овчарка услышала ее и отчаянно затявкала.
На шум из стойла, где жил пони Одри, вышла женщина. Моложавая, смуглая, красивая и совершенно незнакомая – впрочем, она и должна быть незнакомой, если я Имоджин, подумалось призраку, – но было понятно, что это мама Одри. Женщина увидела Оливера, ссутулившегося у ворот. Оливера она знала. Его все знали. Кто хоть раз увидит Оливера, никогда его не забудет.
– Привет, Оливер, привет, хороший пес! – Она подошла и потрепала Оливера по голове. От нее исходило такое живое, энергичное покалывание, что призраку пришлось отпрянуть. – Так, значит, тебя с собой не взяли? – продолжала мама Одри. – Ну, старина, тут их искать бесполезно. Они укатили в низины. Минут пятнадцать назад заехали и позвали с собой Одри и Салли. Теперь тебе их не догнать. Иди домой.
Оливер вздохнул. Призрак метнулся дальше по дороге.
– За мной, Оливер!
– Давай, Оливер, иди домой, – повторила мама Одри.
Оливер принял решение. Дальше он не пойдет даже ради человеческого общества. Он и без того забрел в несусветную даль – чуть ли не за милю от дома. Пес повернулся и побрел обратно под горку.
Придется одной. Куда – она себе не представляла. Дорога впереди ветвилась раза три, не меньше, и оставалась одна надежда – перехватить всех до первой развилки. В панике она мчалась все быстрее и быстрее. Даже хорошо, что Оливера с ней сейчас нет: можно лететь с нечеловеческой скоростью. Мимо мелькали кусты. Внизу проносился белесый проселок. Она разогналась до скорости велосипеда – нет, даже быстрее, как тот автомобиль, из которого ее выкинули. Нет, нельзя. Надо замедлиться. Нельзя разгоняться до скорости того страшного автомобиля. От этого накатили воспоминания – и на этот раз она увидела все не как зритель, а так, будто все произошло с ней самой. Дорога мчалась назад у нее перед глазами. Кто-то толкнул дверь и ее вместе с ней – и дорога прилетела прямо в лицо. Пришлось остановиться.
И тут она увидела их всех – хвала небесам! Они стояли враскорячку верхом на велосипедах большой толпой перед самой первой развилкой, где висела табличка: «МАНГАН-ДАУН. ТУПИК». В тусклом, зловещем свете вид у всех был потрепанный. Самым ярким пятном была Фенелла в ядовито-зеленом мешке, но и она напоминала несчастную маленькую беспризорницу. Велосипед у нее был детский, доставшийся из пятых рук и перекрашенный в нежно-голубой давным-давно, еще когда он перешел к Салли. Возле нее стоял раскрасневшийся Говард на шикарном сером велосипеде. У стоявшего бок о бок с ним Неда Дженкинса велосипед был гораздо более потрепанный. На заднем крыле у него красовалась надпись «ФИЛБЕРТ». Призраку стало интересно, спросил ли Нед разрешения у Полудурка, прежде чем взять велосипед; вероятно, нет.
Имоджин стояла в стороне ото всех, испуганная и раздраженная. Раздраженная она была в основном потому, что ей достался второй по размеру велосипед, который больше подошел бы Фенелле. Но на нем никто не хотел ездить. У него постоянно соскакивала цепь. А Имоджин пришлось его взять, потому что Салли, когда отправилась в гости к Одри, взяла единственный их приличный велосипед и сейчас на нем и ехала. А последний оставшийся велосипед – взрослый – подходил по росту только Шарт. Он был массивный, черный и назывался Термоядерный тяжеловоз – понятно почему. Кроме велосипеда Говарда, на всю компанию было только два приличных велосипеда. Один принадлежал Одри. Он был с такими маленькими толстыми колесами, из тех, про которые Сам вечно рычал, что для детей они непозволительно дорогие. Второй был Джулиана Эддимена. Призрачная сестра в смятении смотрела и на него, и на самого Джулиана Эддимена. Как он-то здесь оказался? Но вот он – с блестящими велосипедными прищепками на штанинах, небрежно опирается на ручки золотистого спортивного велосипеда с таким количеством передач, что цепи приходится огибать с дюжину шестеренок, прежде чем попасть на заднее колесо. Джулиан Эддимен со снисходительно-ироничной усмешкой слушал Салли, которая, как обычно, со всеми спорила.
– Вы мне ничего не сказали! – говорила Салли. – Пока не расскажете, шагу не сделаю!
– Да не надо тебе шагать, надо крутить педали, – сказала Фенелла.
– Я же тебе говорила! – кипятилась Шарт. Она была вся красная – столько сил уходило на то, чтобы сдвинуть Термоядерный тяжеловоз с места. – Мы едем в Угодья Мониган, потому что все время, пока ты была в гостях, у нас был призрак.
– Все равно не понимаю, зачем вам я! – возразила Салли. Похоже, упоминание о Мониган ее ни капли не встревожило, да и Джулиан Эддимен ухом не повел. – Ну призрак, а я-то тут при чем?
– Возможно, это твой призрак! – крикнул ей Говард из задних рядов. – Мы его видели. Он на всех вас немножко похож. И твердит «помогите!» и «Мониган».
Но Салли не насторожило даже это. Она тряхнула светлыми волосами:
– У вас просто воображение разыгралось. Или вы все сочинили. Вы же сочинили про Мониган.
– Нет, не сочинили! – вырвалось у Имоджин.
– Вот мы и решили, – продолжала Шарт терпеливым тоном, который обычно выводил Салли из себя, – что одна из нас каким-то образом попала в когти Мониган в будущем и вернулась в прошлое, в сейчас, чтобы рассказать нам об этом.
– Мы подумали, она вернулась, потому что мы можем что-то сделать, – добавил Нед Дженкинс. – И теперь хотим попробовать это сделать.
Салли посмотрела на Шарт так, будто была готова взорваться, а на Неда – с сомнением. Джулиан Эддимен засмеялся и показал на руль Термоядерного тяжеловоза.
– Это что, и есть тот призрак?
– Нет, – сердито буркнула Шарт.
К рулю была привязана бечевкой плесневелая кукла Мониган в сером вязаном платьице.
– Ну что, – спросил Нед, – поехали?
Салли по-прежнему сомневалась. Не могла придумать, как сказать «да» или «нет», не уронив своего достоинства.
– Ладно – уже собрались, давайте поедем, – предложила Одри. – Какое-никакое, а приключение. А то мне скучно.
– А мне прямо до смерти охота поглядеть на настоящую, живую богиню, – засмеялся Джулиан Эддимен.
– Ладно, – устало согласилась Салли.
– Вот только не надо так рваться вперед. – Шарт тяжело надавила на педаль, чтобы стронуть Термоядерный тяжеловоз с места. Велосипед, как всегда, застрял на месте и только дрожал. – А то кто-нибудь еще решит, что ты и правда хочешь ехать, – добавила Шарт, ловя равновесие.
Велосипед наконец сдвинулся и покатил с таким видом, будто предназначался вовсе не для этого и перемещение в пространстве было просто побочным эффектом его работы. Шарт налегла на педали и с лязгом выкатила на дорогу с табличкой: «МАНГАН-ДАУН. ТУПИК», оставив Салли свирепо смотреть ей вслед. Остальные покатили за ней. Дорога была совсем узенькая и извилистая и вела в гору. Велосипедисты ехали по ней тесной кучкой, с трудом. Всем было ясно, что ведет их Шарт, поэтому никому не хотелось обгонять ее, невзирая на то что Термоядерный тяжеловоз придумали не для езды. И все равно Фенелла с Имоджин оказались в хвосте. Ноги у них отчаянно мелькали вверх-вниз, вверх-вниз. Обеих мотало зигзагами. Отчасти так было проще въехать в гору, а отчасти велосипеды у них были такие никудышные, что ехать на них прямо было невозможно.
Призрачная сестра, преисполненная благодарности, последовала за процессией. Какие они все добрые – даже Одри и Салли… Правда, насчет Джулиана Эддимена она была не вполне уверена.
Одри плавно катила рядом с Салли – тик-тик, тик-тик.
– Как это славно, что мы едем спасать чей-то призрак, – сказала она.
– Да уж, славно, – резковато отозвалась Салли. – Если только Шарт не выдумала все с начала до конца.
– Вечно ты всех критикуешь! – огорчилась Одри.
– Да! И что? – сказала Салли.
Похоже, они с Одри не очень ладили. Салли поднажала и догнала Шарт.
Джулиан Эддимен легко и непринужденно ехал рядом с Шарт, а Шарт, пыхтя, громыхала во главе кавалькады. Снисходительная легкость и непринужденность Джулиана Эддимена ее явно раздражали.
– Поезжай тогда вперед, что ли! – рявкнула она, когда Салли поравнялась с ней.
Но Джулиан Эддимен вперед не поехал и по-прежнему мягко катил рядом с сестрами.
Салли бросила на Джулиана Эддимена взгляд, в котором читалось, что и ее раздражает его присутствие, но он и на это не обратил внимания. Тогда Салли посмотрела на Шарт, и они раздосадованно переглянулись.
– Как там наш План? – спросила Салли шепотом – не то чтобы очень тихим: ведь ей надо было перекрикивать дребезжание велосипеда.
– Никак, – пропыхтела Шарт. – Никто ничего не заметил.
– Даже прическу Фенеллы?! – поразилась Салли.
– Ага, – пропыхтела Шарт. – Приходил Сам нас пропесочить и, как всегда, прошелся по всему списку имен и назвал и твое тоже, но так и не заметил, что тебя нет. А на Фенеллу смотрел, да не видел.
– Ну ладно, попытка не пытка, – сказала Салли. И притворилась, будто раздумывает. На самом деле, конечно, она просто хотела провести прошлую ночь не дома. – Ну его, этот План. Давай я вернусь домой – какая разница.
Одри, ехавшая прямо за ней, все слышала. На лице ее не отразилось ничего, кроме великого облегчения. Она улыбнулась, притормозила, чтобы Нед Дженкинс и Уилл Говард поравнялись с ней, и покатила между ними, завязав какой-то вежливый светский разговор. Они были знакомы, но виделись не слишком часто.
– Вы отпросились с уроков на сегодня? – спросила Одри.
– Увы, нет, – отозвался Говард без тени сожаления в голосе. – У нас сегодня после большой перемены спортивные игры, и мы их прогуливаем.
– А вас не будут ругать? – спросила Одри у Неда.
– Только если попадемся, – бодро ответил Говард. – Тогда в лучшем случае оставят после уроков на несколько часов.
Тут все, кроме Имоджин и Фенеллы, доехали до гребня холма. Имоджин и Фенелла отчаянно давили на педали, чтобы ускориться и не отстать от остальных. В итоге их зигзаги вошли в противофазу, и велосипеды, естественно, столкнулись. Цепь велосипеда Имоджин тут же свалилась с отработанной годами тренировок легкостью. Имоджин встала на дороге, посмотрела сначала на цепь, потом на черную смазку на штанах и произнесла самое скверное слово в своем лексиконе:
– Вот гадство!
Все остановились.
Джулиан Эддимен снисходительно засмеялся:
– Эй, дорогу специалисту.
Имоджин поглядела на него, словно прикидывала, стоит ли ему доверять. Что бы там ни говорила Шарт семь лет спустя, у Имоджин, похоже, был иммунитет к чарам Джулиана Эддимена.
– Поскольку ты считаешь себя умнее всех, – процедила она с нескрываемой неприязнью, – я заявляю, что ты не сможешь нацепить обратно эту гадскую цепь.
– Легко! – сказал Джулиан Эддимен.
Он прислонил свой красавец-велосипед к кустам и принялся за работу. Остальные встали в кружок и смотрели. Как только он надел цепь обратно, она тут же свалилась. И еще раз. И еще. И потом еще разок. Джулиан Эддимен все гуще покрывался смазкой и все сильнее злился.
Пока Джулиан Эддимен трудился, Шарт стояла на обочине, где росли кусты.
– Мы уже близко к Угодьям Мониган, – провозгласила она. – Там, внизу, озеро Плесневелого Теста, а еще Гадкое дерево, а под ним Гадкое место.
Призрачная сестра подлетела поглядеть, куда показывает Шарт. В поле за кустами виднелась низинка, где земля была цвета замазки. А прямо в кустах рос скрюченный дуб.
На все это она смотрела с ужасом. Она и забыла, что у Шарт есть такая привычка – наделять жизнью любой пейзаж, присваивая имена всем его деталям. Несомненно, это свидетельствует о том, какое живое у Шарт воображение, но Мониган тут ни при чем.
– Куда ты нас завела? – возмутилась призрачная сестра. – Все в игры играешь?! Я думала, ты и правда хочешь что-то сделать, чтобы вызволить меня!
В этот самый миг цепь на велосипеде Имоджин свалилась в десятый раз. Имоджин изо всех сил сдерживала смех.
– Все, сдаюсь! – с омерзением воскликнул Джулиан Эддимен.
Фенелла разразилась самым своим гулким смехом.
– Дорогу специалисту, – передразнила она.
Имоджин присела рядом с Джулианом Эддименом и взялась за цепь обеими крупными, неуклюжими на вид руками. Дважды дернула цепь и крутанула педаль велосипеда. Цепь наделась на звездочку и не соскочила. Все захихикали.
Джулиан Эддимен разозлился до жути. Он привстал на коленях и посмотрел на Имоджин исподлобья. Это был совсем не человеческий взгляд. Как будто на нее уставился опасный дикий зверь. Призрачная сестра отпрянула за спины Неду с Фенеллой. Точно так же Джулиан Эддимен смотрел на нее в машине, прежде чем вышвырнуть на шоссе.
– Призрак здесь, – заметила Фенелла.
Имоджин встала, вытащила серый носовой платок и вытерла руки от смазки – короткими, резкими от брезгливости движениями.
– Нечего так смотреть на меня, Джулиан Эддимен. Я не одна из твоих преданных поклонниц! – Она многозначительно покосилась на холм, где Шарт и Салли стояли, опершись локтями на рули велосипедов, и о чем-то тихо и серьезно разговаривали. Было ясно, что они соскучились друг по другу.
Джулиан Эддимен густо побагровел. Встал, схватил свой велосипед, прислоненный к кустам, и покатил дальше.
Все остальные тоже оседлали велосипеды и поехали за ним. Дорога вела вниз, а потом сворачивала.
– А вот и Сонный Пейзаж, – объявила Шарт.
Они поняли, что она имела в виду. Дорога вела между округлыми холмами совершенно нездешнего вида – такие получаются, если проводить по бумаге волнистые линии. На каждом холме где-нибудь торчала рощица. У некоторых деревья росли кругами на вершинах. У некоторых – тоже кругами, но на склоне. У остальных шеренга деревьев тянулась ровно на половине высоты. Траву на них только что скосили, так что холмы были сплошь в серо-зеленую полоску, будто вельветовые, и эти полоски вились вокруг всех этих разнообразных рощиц. Когда процессия велосипедов свернула, солнце осторожно протянуло длинные пальцы из-за серых облаков и потрогало круглые пупырышки серо-зеленой травы, торчавшие из колец жухлого сена у подножий.
– Если бы я такое нарисовала, все решили бы, что я это выдумала, – заметила Салли.
Одри сказала Шарт:
– Какое у тебя богатое воображение! И правда, будто во сне!
На это Шарт раздраженно скривилась – и скривилась еще сильнее, когда Джулиан Эддимен завилял перед всеми туда-сюда, трескуче хохоча.
– Сонный Пейзаж! В жизни не видел таких снов!
– А мне снилось похожее, – сказал Говард. – Много раз. Точно такие же рощицы.
– Их здесь нарочно высадили, чтобы прикрывали от ветра, – издевательски процедил Джулиан Эддимен. – Они так и называются – ветрозащита. – И снова презрительно завилял туда-сюда и только грубо хохотал в ответ на все, что они говорили.
Не то чтобы они много говорили. От Сонного Пейзажа веяло непонятным спокойствием, которое никому не хотелось тревожить. Даже хохот Джулиана Эддимена и лязг Термоядерного тяжеловоза не особенно нарушали тишину.
За последним холмом дорога просто обрывалась. Ее перегораживал белый заборчик, а за ним на фоне неба чернела полоска леса. За лесом не было ничего. Как будто он рос на краю земли.
– А вот и Изнанка Потустороннего, – сообщила Шарт.
– Как интересно! – захохотал Джулиан Эддимен. – Ну что, поехали домой?
– Надо оставить велосипеды здесь и дальше идти пешком, – сказала Шарт.
Они сложили велосипеды в кучу под объявлением на белом заборчике.
– Тут сказано: «частные владения», – испуганно заметил Говард.
– Здесь никогда никого не бывает, – ответила Шарт и пролезла под забором, прижимая к груди куклу Мониган.
С левой стороны лес огибала белесая меловая тропа, пролегавшая у подножия холма. Все двинулись следом за Шарт, и лес напирал на них справа: он шелестел и качался от ветра, которого никто не чувствовал.
– Шумит, как море, – сказал Нед Дженкинс, глядя на лес. Вблизи не было видно ничего, кроме листьев, которые метались и шелестели на ветру.
– Когда-то эта земля была дном морским, – сказала Шарт. – И когда поднимается ветер, она вспоминает об этом.
– Ага-ага! – сказал Джулиан Эддимен.
– Мне кажется, этот мальчик очень неприятный, – сообщила Имоджин Фенелле. – Зачем он с нами поехал?
– Он всегда филонит игры, – ответила Фенелла. – И тогда ему надо как-то себя занять.
Пока они шли, казалось, будто тропинка ведет их прямо в хмурое, серое небо, но на самом деле она спускалась по отлогому склону за лесом. Там было душно, затхло, жарко. По одну сторону расстилалось поле, где паслись три ярко-гнедые лошади. По другую из земли торчали все такие же круглые травянистые холмики – целая толпа. Они были низкие – чуть выше голов велосипедистов. Призрак смотрел на холмики в полном ужасе. Одри при виде лошадей со знанием дела ахнула и задержалась полюбоваться на них.
– По-моему, она сама как лошадь, – шепнула Салли на ухо Шарт.
Джулиан Эддимен громко расхохотался, но душная, тяжелая тишина словно бы погребла его хохот под собой.
Говард смотрел на толпу бугорков с большим интересом.
– Что здесь стряслось? Нашествие гигантских кротов?
– Это курганы, – ответила Шарт. – Доисторический могильник. Все, кто здесь погребен, когда-то были великими властителями, но умерли так давно, что их уже забыли.
Ее призрачной сестре стало интересно, откуда Шарт это знает. Сама-то она это точно знала. Она ведь была призраком и видела невидимую тень над курганами. В этой тени мерцали тонкие гирлянды теней погуще, испускавшие тихий шепоток и печальные обрывки всего того, что когда-то было так важно. То и дело в сумраке проглядывал отблеск давно истлевшей короны. Эта тень и была источником жара и тишины, и все это до того страшило призрака, что ему приходилось держаться поближе к толпе живых. Этот страх отчасти передался и им. Весело было, похоже, только Одри и Джулиану Эддимену.
Взлетел жаворонок. Взмыл из гущи курганов, трепеща крыльями, и засвиристел. В его песне не было радости. Как будильник зазвенел. Призрачная сестра вздрогнула и уставилась на него. Песня словно предупреждала Мониган, что она здесь. И верно: когда жаворонок поднялся в небо, трепеща крыльями так, словно каждое движение давалось ему с усилием, из-за курганов взлетел второй жаворонок, а за ним, еще дальше, и третий. Тревожные ноты их песен сыпались вниз с перестуком, будто капли свинца.
– Мониган знает, что я уже близко, – сказала она.
Имоджин запрокинула голову, чтобы посмотреть на жаворонков.
– Они так делали и раньше, когда мы сюда приходили, – сказала она Шарт. – Прямо будто предупреждают кого-то.
– Прямо будто взлетают в небо и щебечут! – злобно передразнил ее Джулиан Эддимен.
Тут неприязнь Имоджин к нему достигла предела.
– Ты грубиян и тупица! Видеть тебя больше не желаю! – отчеканила она. – Мне даже находиться рядом с тобой противно! Все – я еду домой, сию же секунду! – И она бросилась бежать назад, к лесу.
– Вернись! – крикнула ей вслед призрачная сестра. Это был полный провал. Они должны были прийти к Угодьям Мониган вместе с Имоджин. А теперь она убегает со всех ног. Крепкие ноги мелькали, будто крутили педали велосипеда, желтая фигура все уменьшалась на фоне темной листвы Изнанки Потустороннего. – Верните ее! – крикнула прочим призрачная сестра. – Она – это я! Я тоже должна быть здесь!
XIII
Салли и Фенелла что-то кричали вслед Имоджин. Но Имоджин все бежала, будто и не слышала.
– Ну ее, – махнула рукой Шарт. – Все равно она не хотела увидеть Мониган.
– Ты хочешь сказать, она струсила и нашла предлог удрать, – засмеялся Джулиан Эддимен.
Может, и так. Похоже, все так решили, хотя больше никто не смеялся. Они неловко застыли у зеленых курганов, а над головами у них беспощадно свиристели жаворонки.
– Эти курганы на меня тоску наводят, – проговорил Говард. – Пошли уже.
К большому облегчению призрака, Шарт повела их дальше по дороге. Призрачная сестра боялась, что Шарт уведет их в курганы. С нее станется именно так представить себе обиталище Мониган. Но Угодья Мониган оказались еще немного дальше, там, где тропа переваливала через гребень холма и, как и дорога, обрывалась. Внизу раскинулась большая, круглая, как чаша, низина. По краю этой чаши бежала зеленая полоса травы, тщательно огороженная цепью и забором. На цепи висела табличка: «Частный плац-левада. Вход воспрещен».
– Здесь тренируют скаковых лошадей, – пояснила Одри.
Внутри ограды расстилался луг – овал жесткой травы. Там была Мониган. Призраку подумалось, что у Шарт недюжинная интуиция. Это и в самом деле были Угодья Мониган с незапамятных времен. Сначала призрачная сестра ощутила, как Мониган заполняет низину, будто лужа плотного газа. Потом, когда семеро живых проскользнули под цепью и пересекли беговые дорожки из упругого дерна, она увидела в этом газе скользящие, изменчивые, растворяющиеся картины. Это было все, что вершили в честь Мониган. Текла тусклая кровь. Блестел, обрушиваясь, топор – а потом нож. Бестелесные рты раззевались в беззвучном крике. И все это, и сонмы тому подобного плавились, кружились и всплывали вновь, пока семеро шли вниз по склону. Среди всего этого тоже плавились и менялись, но никуда не исчезали высокие бесплотные деревянные столбы. Иногда они стояли в ряд. Но чаще кольцом. И как бы они ни стояли, это были столбы, куда приносили жертв Мониган, чтобы убить.
Интуиция Шарт чуть-чуть промахнулась. Шарт остановилась в центре низины – ее призрачная сестра точно знала, что они не очутились ни в переменчивом ряду столбов, ни перед оплывающим кольцом. Но Мониган все равно была там и теснила их отовсюду.
– Бояться здесь нечего, – сообщил Джулиан Эддимен, сунув руки в карманы. – На горизонте ни единой богини.
– Что теперь надо делать? – спросила Фенелла у Шарт.
– Читать молитву, – велела Шарт. – Это очень опасно, но придется.
Шарт подняла куклу Мониган обеими руками и запела, остальные подхватили нестройным хором:
– О Мониган, великая богиня, приди, явись…
Призрачная сестра смотрела на них, стараясь не замечать кипевшей вокруг фантасмагорической бойни. Говард перезабыл почти все слова. Нед помнил только половину, а Фенелла постоянно сбивалась на свой личный вариант. «Медянки в темных пятнах», – несколько раз повторила она. Примерно то же самое происходило с Салли. Она несколько раз сбивалась на что-то вроде «да запылают наши души тво…» – но осекалась с виноватым видом. Одри, само собой, слов молитвы не знала, но повторяла, спотыкаясь, за Шарт – из вежливости, хотя к концу ее разобрал смешок. К счастью, у Шарт была отличная память. Прошел, наверное, год с тех пор, как она читала молитву в последний раз, но сейчас она запевала громко и отчетливо и безжалостно перебивала все их запинки и оговорки. В результате получилось как в церкви, когда никто толком не знает гимна и все ждут, какую ноту органист сыграет следующей.
Джулиан Эддимен ничего не говорил и ничем не показывал, что уже слышал молитву. Когда пение окончилось, он иронично процедил:
– Что, уже все?
– Теперь сидим и ждем, когда Мониган явит себя, – сказала Шарт.
Джулиан Эддимен плюхнулся в нагретую траву. Все остальные тоже сели или опустились на колени. В траве было полно цветов: призрачной сестре раньше не попадалось полей, где было бы столько разноцветных, разномастных цветов. Нед Дженкинс принялся нервно собирать по одному каждого вида, через некоторое время Одри вызвалась ему помогать. Они ползали по траве и бормотали: «Такого синенького у тебя еще нет» и «А это дикие фиалки». Тем временем Джулиан Эддимен переместился поближе к Шарт. Похоже, он так и не понял, что то, что у них произошло у телефона, было окончательно. Выждав с минуту, он попытался взять Шарт за руку. Салли это видела, но, похоже, ничуть не встревожилась.
Шарт сердито вырвала руку:
– Это тебе не пикник.
– Ну надо же, а я-то думал!.. – И Джулиан Эддимен лег навзничь и закрыл глаза.
Призрачной сестре очень хотелось, чтобы они относились к делу серьезнее. Мониган собиралась с силами. Она медленно сползалась от краев низины к центру ближайшего кольца бесплотных столбов – и там твердела, раздувалась, росла. Призрачной сестре не было ее видно, но она чувствовала, что происходит, потому что образы убийств и все столбы по краям низины растаяли вовсе, а в центре стали резче. И вот уже Мониган ощущалась как душное мерцание – все гуще и гуще. Поскольку Шарт немного ошиблась с местом, мерцало только с одной стороны, почти что за спинами живых.
Но и они что-то почувствовали. То и дело кто-нибудь оборачивался. Через некоторое время все, кроме Салли и Джулиана Эддимена, уже сидели, беспокойно поглядывая направо. Салли собирала цветы и напевала. Похоже, она присутствия Мониган вообще не ощущала. Джулиан Эддимен притворился спящим. Призрачная сестра только диву давалась. Как будто они начисто забыли полуночный обряд посвящения! Ей подумалось, что воспоминания о нем затуманились в их головах, превратились в дурацкую полуреальную шутку.
И вот Мониган уже стала как толстая подушка из ничего, источающая духоту и трепещущую тоску. Она высилась почти что до тяжелого неба – и совсем рядом с живыми.
Шарт встала и полуобернулась. Все равно она смотрела немного мимо.
– Она здесь.
– Приветики, Мониган! – крикнул Джулиан Эддимен, не шелохнувшись.
Никто не обратил на него внимания. Все, кроме Салли, оставили его лежать и встали лицом туда же, куда и Шарт, – немного мимо.
– Мониган, великая богиня, у нас тут призрак, и этот призрак в твоей власти и просил нас помочь. Что нам сделать, чтобы выкупить его у тебя?
Мониган ответила. Это было как волна зноя – или волна тяжести. Беззвучная, далекая, презрительная.
– Делайте что хотите. Я оставляю за собой право забрать чью-то жизнь через семь лет, начиная с сегодняшнего дня.
– Вы слышали? – воскликнул призрак.
Салли даже головы не подняла, но у остальных сделался такой вид, будто они изо всех сил прислушивались.
– Как будто вибрация, – прошептал Говард.
– Она говорит, что оставляет за собой право забрать чью-то жизнь через семь лет, – сказала Фенелла.
– Так я и думала, – сказала Шарт.
– Мало ли что случится за семь лет! – заявил Джулиан Эддимен из травы.
– Чью жизнь? – спросил Нед, глядя немного мимо Мониган.
Но Мониган соглашалась иметь дело только с Шарт, с верховной жрицей. Ей было забавно возобновить старые церемонии. Все остальные не почувствовали ничего, кроме напора густой духоты.
– Она не говорит чью, – сказала Фенелла.
– Как же нам теперь быть? – спросил Говард. – По-моему, кому-то из вас грозит страшная опасность. Может, предложим ей взамен что-нибудь другое? Ну пусть каждый сделает ей какое-нибудь подношение.
– Хорошая мысль, – сказала Шарт. – Валяй, ты первый.
– Золотая галстучная булавка! – тут же сказал Говард.
Отстегнул булавку и бросил в траву. Она поблескивала там в зарослях клевера, знакомая всем ничуть не хуже, чем сам Говард. Говард никогда не снимал эту булавку, хотя Сам грозился конфисковать ее по десять раз за полугодие. На золоте красовался эмалевый британский флажок.
Мониган задумалась. Давно миновали те времена, когда ей подносили золото. Нет, она не отвергла подношение. Просто не сочла его особенно ценным.
– Говард! – позвала его призрачная сестра. Теперь она понимала, почему Говард уехал в Канаду. – Будь осторожен! Будьте осторожнее! – крикнула она.
– Теперь я, – сказала Фенелла. Она бережно поднесла руки к вискам, а потом сделала вид, будто так же бережно кладет что-то на траву возле булавки. – Кусочек мозга, – пояснила она. – Не весь – весь мне самой понадобится, – а только тот кусочек, каким большие девочки сдают выпускные экзамены повышенной сложности. Я буду уже старая – мне будет все равно.
– Вот тупица! – воскликнул Джулиан Эддимен и выразительно взглянул в небо. Поморгал. – Кажется, дождь начинается.
Призрак не увидел никаких кусочков мозга, но тяжкое мерцание Мониган обдумало и это подношение. И тоже не сочло его особенно ценным.
Тут, видимо, настала очередь Неда Дженкинса. Он торопливо пошарил в верхнем кармане и извлек сложенный листок бумаги, которого явно очень стеснялся.
– Разворачивать не надо. – Он бросил листок поверх булавки. – Она сама знает.
Да, Мониган знала, что там, на бумаге. И обдумала и это. Похоже, бумага была ценнее всего остального, но все равно не стоила жизни.
Тогда Шарт посмотрела на Одри. Призраку подумалось, что это не совсем честно. Одри не имела ко всему этому никакого отношения. Но Одри, очевидно, была убеждена, что участвует в какой-то жутковатой игре, поэтому прыснула и бросила на бумагу букет цветов, который собрали они с Недом.
На это Мониган содрогнулась так иронично и злорадно, что призраку стало страшно за Одри – похоже, та здорово сглупила.
После этого Шарт посмотрела на Салли и Джулиана Эддимена – и все остальные тоже. Но те притворились, будто не замечают. Они в эти игры не играли. Поэтому настала очередь Шарт. Она испуганно шагнула вперед, по-прежнему немного мимо сгустившейся Мониган, держа под подбородком куклу Мониган. Мокрая слизь из куклы сочилась между ее пальцев, когда она сказала:
– Прошу тебя, Мониган, если тебе нужна жизнь, может быть, тебе сгодится Оливер?
– Шарт! – вскрикнула ее призрачная сестра.
Нед Дженкинс крякнул – как видно, хотел возразить, но прикусил язык, – а Фенелла посмотрела на Шарт исподлобья.
– Я все понимаю. – По щеке у Шарт поползла слеза. Она не считала, что это игра, что бы там ни думала Одри. – Я понимаю, он всего лишь зверь, – сказала она Мониган, – зато его ужасно много.
Густое молчание Мониган не выражало ничего, кроме полнейшего презрения.
– Я больше ничего не могу придумать, – сказала Шарт.
Молчание Мониган замерцало от злобы. Подношение должно было быть безупречным. А у Оливера на одной лапе было только три пальца. Оливера она отвергла наотрез.
Призраку было неясно, что Шарт поняла, а что нет. Шарт отвернулась.
– Без толку. – В ее полном смирения голосе слышалось печальное, шаткое облегчение. – По-моему, мы сделали все, что могли.
Она повернулась и положила серую куклу Мониган рядом с остальными дарами.
В этот самый миг все вздрогнули от двойной вспышки белого света. Когда Шарт выпрямилась, над низиной ударил гром – и мощно раскатился вокруг. Джулиан Эддимен тут же вскочил и полез в задний карман. Едва брызнули первые капли дождя, как он развернул полиэтиленовый дождевик и не без самодовольства закутался в него. После чего достал из кармана такую же непромокаемую шапочку и надел и ее тоже.
– Надо было тоже сообразить взять дождевик, – сказал Говард.
И тут обрушился ливень. Хлесткие белые линии дождя с градом сжали круглый плац в крошечный серо-зеленый клочок. Призрачная бойня исчезла за этой завесой, бесплотные столбы растворились. Мониган рассеялась. Теперь призрак не видел ничего, кроме промокших людей, которые, суматошно пытаясь хотя бы отчасти остаться сухими, пригнули головы и бросились наутек, отчего у них под ногами еще суматошнее запрыгали, отскакивая от травы, градины и капли. Семеро живых скрылись за стеной ливня. Один вернулся. Блестящая от полиэтилена фигура метнулась назад, подхватила куклу Мониган и снова умчалась в дождь.
Она открыла глаза и увидела красиво накрашенное лицо Фенеллы, бледное и обеспокоенное.
– Ну слава богу! – сказала Фенелла. – Я уж думала, все – ты умерла у меня на руках. Уже собиралась кричать, звать медсестру.
Запах травы и дождя исчез, сменился ароматом роз, заглушавшим больничные запахи.
Итак, она вернулась, так ничего и не добившись. Никто не сумел поднести Мониган дар, равноценный жизни. А Мониган забрала все, что могла, и ничего не дала взамен. Пациентка едва не заплакала оттого, сколько всего пошло прахом: Говарду пришлось уехать в Канаду, Фенелла теперь не сдаст выпускные экзамены и не поступит в университет, Нед и Одри потеряли все, что им было даровано. А щедрое подношение Шарт – Оливера – презрительно швырнули ей в лицо. Судьба Оливера, пожалуй, единственное, что утешало пациентку. Может быть, все произошло потому, что она сбежала – Имоджин сбежала. Она понимала, что это погубило все.
В стеклянную комнатушку решительно вошла Шарт – столь же естественная и небрежная, как Фенелла – приглаженная и ухоженная. Даже и не скажешь, что сестры.
– Там уже начинают выгонять посетителей, – сказала Шарт. – Вот я и решила вернуться на минуточку.
– Как хорошо! – воскликнула Фенелла. – Шарт, я думала, она умерла!
Она стала рассказывать Шарт, почему ей так показалось, – совсем не похоже на Фенеллу. Должно быть, она и правда очень испугалась. Но пациентке не хотелось ее слушать: она и сама перепугалась. Посмотрела за вздернутую на вытяжке ногу в палату, где началось робкое движение: некоторые посетители собрались уходить. Многие делали это с явным облегчением. Они исполнили свой долг и исчерпали все темы для бесед. Но некоторые, как и Шарт, еще раз забегали попрощаться напоследок. Эти были напряженные и встревоженные. Один из них, высокий, бледный молодой человек с букетом, вдобавок еще и заблудился. Он, похоже, неправильно запомнил, где лежит тот, к кому он шел, и теперь бродил между койками, все сильнее падая духом.
– Что сделал Джулиан Эддимен с куклой Мониган? – спросила пациентка.
Разговор Шарт с Фенеллой разом оборвался.
– Ты про что? – не поняла Шарт. – Насколько мне известно, он ее в руки не брал.
– Брал, – сказала пациентка. – Я вот только что видела, как он взял ее за Изнанкой Потустороннего. Сбегал за ней, пока вы все удирали от дождя.
Фенелла уставилась на Шарт. Глаза у нее стали большие-пребольшие.
– Я понятия не имела, что он ее забрал, – проговорила Шарт. – Я не видела ее с тех самых пор, как мы оставили ее в Угодьях Мониган.
Снаружи, в палате, молодому человеку указали на дверь. Очевидно, он перепутал палату. Пациентка надеялась, что он все-таки найдет нужную. Очень уж он огорчался.
– Как вы считаете, Уиллу Говарду, наверное, в Канаде совсем тошно? – сказала пациентка.
– Да нет, – ответила Фенелла. – Он месяц назад прислал мне письмо. Приглашал приехать к нему погостить. По его словам получается, там просто рай, так что, может, и съезжу. Говорит, не вернется в Британию ни за какие деньги.
– Это очень… – начала было пациентка, но тут молодой человек с букетом возник возле ее койки. Его сопровождала миловидная медсестра, видимо решившая проявить материнскую заботу.
– Ну вот она, – сказала медсестра. – Пока вы блуждали, времени у вас почти не осталось, но я постараюсь как можно дольше вас не замечать. Развлекайтесь. – Она подмигнула Шарт и Фенелле. – Вас тоже здесь нет, – добавила она.
– Спасибо, – пришибленно произнес молодой человек вслед медсестре.
– Нед! – воскликнули Шарт с Фенеллой.
Нед Дженкинс улыбнулся им и протянул в сторону пациентки букет цветов. Это были герани и анютины глазки, а еще – мелкие белые цветочки, название которых она вечно забывала, и крошечные голубенькие, и жесткие желтые – все-все цветы, какие обычно высаживают в ящиках под окном. Точно – там они и росли! Теперь она вспомнила, что Нед Дженкинс снимал комнату в довольно шикарном доме на той же улице, что и она, и владельцы дома необычайно гордились своими цветочными ящиками. Пациентку разобрал смех. Смеяться было нелегко, но сдержаться она тоже не могла.
– Нед! Ты разорил целый цветочный ящик!
– На самом деле я взял по несколько цветочков из каждого, – ответил Нед. – Решил, что лучше оставлю немножко, а то меня выставят. Просто, понимаешь, денег на цветы у меня нет.
Фенелла гулко расхохоталась.
– Узнаю старину Неда! – сказала Шарт.
Пациентка смотрела на Неда сверху вниз и сама не понимала, как могла его не узнать. Наверное, рассудила она, все дело в том, что она по-прежнему думала о нем как о школьнике со светло-русым бобриком. А теперь волосы у Неда были скорее светло-каштановые, чем русые, а веснушки почти выцвели. Но она так хорошо его знала! Он учился вместе с ней в художественной школе, только поступил позднее. И тоже не умел вести разговоры об искусстве. Поэтому он был практически всегда готов посидеть с ней и попить кофе – правда, платить за кофе вечно приходилось ей, потому что у Неда хронически не было денег, – и поболтать о том, почему это все их соученики такие умные. Несмотря на это, она даже восхищалась Недом. Нед состоялся как художник. Его хорошие плохие рисунки прекрасно принимала публика. Всего неделю назад один журнал купил у него серию мини-комиксов под названием «Оливер!». Пациентка не вполне понимала, почему он сейчас прямо сам не свой.
– Ну, Салли, как ты себя чувствуешь? – спросил он.
Она оторопела. Кто из них спятил? Или она все-таки Салли? В голове все словно попадало с полок, смятение распространилось по всему телу, обернулось лавиной онемелого покалывания и отголосков боли. Она Салли. Филлис знала, что говорила. Но это же бред! Значит, та неряшливая дурнушка была Имоджин?!
Нед, похоже, не заметил ее изумления. И объяснил сдавленным голосом:
– Извини, Салли, что я так поздно. Я бы час назад приехал, но наткнулся возле музыкального колледжа на Имоджин. Она сказала, что только что побывала у тебя и ты, похоже, думаешь, что ты – она. Это совершенно выбило у нее почву из-под ног. Вот я и привез ее сюда. Салли, можно, я приведу ее и ты ее успокоишь? Она там сидит в коридоре и рыдает в три ручья.
– Конечно. – Салли почувствовала себя виноватой.
– Тащи ее сюда, – велела Фенелла. – Если скажут, что нас слишком много, мы с Шарт выйдем.
– Только передай ей, что, если вздумает тут страдать, я ее прибью, – добавила Шарт.
– Не будет, – заверил ее Нед. – Она обещала. Сейчас приведу.
Он передал цветы из ящика Фенелле – они успели подвянуть – и ушел.
Пока его не было, пациентка лежала, вполуха слушая, как Фенелла рассказывает Шарт про уроки вокала, а Шарт в ответ говорит всякое про Кембридж, и размышляла о том человеке, кем, оказывается, была. Это было неприятно. Она написала портрет Фенеллы – а больше ничего хорошего она о себе не знала. Например, она отбила Одри у Фенеллы – только для того, чтобы провести ночь на ферме Одри, потому что ей нужно было тайно повстречаться с Джулианом Эддименом для полуночного обряда посвящения Мониган. Какая глупость! И ведь чары Джулиана Эддимена на нее тоже не действовали – еще не действовали. Она знала, что у него есть склонность ко всяким мерзостям и кровожадный азарт, выходивший за рамки нормального. Именно поэтому он заставил всех провести спиритический сеанс. Но она решила стать той, кто поможет ему утолить эту мерзкую жажду азарта. Теперь-то она помнила, как ей было противно, когда он убил ту несчастную черную курицу. И даже помнила, пусть и смутно, как бежала той ночью сквозь пронизанный лунным светом туман к мертвым вязам. На эти воспоминания причудливо наложились более свежие: как она в виде призрака смотрит на девочку, бегущую через поля. Зачем она это сделала? Ведь даже история с черной курицей сама по себе была для нее чересчур. Должно быть, Салли считала, что, раз она самая нормальная из четырех странноватых сестер, надо доказать, что она может зайти дальше любой из них.
Но самое плохое было потом, когда она назавтра отшила Одри. Она прямо видела, как это делает. Да, за все это она поплатилась семью тоскливыми годами, но она не была уверена, что эту Салли, ту, которой она была тогда, стоило спасать от Мониган. И ей пришло в голову, что потому-то она и забыла, что она Салли: она себе совсем не нравилась.
– Что случилось с Одри? – спросила она.
– Тсс, – сказала Шарт. – Нед идет.
Тут она поняла, что можно было и не спрашивать. Она все вспомнила. Одри бегала за Недом Дженкинсом, да так, что все над ней потешались. Семь лет она бомбардировала его записочками, валентинками и объяснениями в любви. Она приезжала в Лондон и закатывала сцены, чем ставила Неда в ужасное положение. Нед говорил, что Одри – самая скучная девица на свете, и клялся, что не подавал ей ни малейшего повода для такой преданности. Но теперь Салли засомневалась, не кривил ли он душой. На эту мысль ее натолкнул не только букет, который собрали Нед и Одри. Она вспомнила миловидную медсестру. Нед очень ловко умел создать впечатление очаровательной беспомощности. Благодаря этому таланту он вертел Самим как хотел, управлялся с ним даже лучше Говарда. Наверняка он точно так же управился с владельцами цветочных ящиков. И все равно Мониган было за что призвать к ответу. И ее, Салли, тоже. Бедная Одри. Ее втянули во все это только потому, что она жила на ферме по соседству.
Салли посмотрела на Неда – тот как раз вернулся в сопровождении меланхоличной взрослой Имоджин. Никакой очаровательной беспомощности. Он просто места себе не находил. Салли посмотрела на Имоджин – и поняла, что по-прежнему не может поверить, что эта помятая серая мышь получилась из ангелоподобной девочки с сияющими синими глазами, которая наряжалась в желтые брючные костюмы и фасонистые зеленые пижамы. Что же случилось, что довело ее до такого состояния?
Глаза у Имоджин опухли, но было видно, что она прилагает все силы, чтобы не страдать. Она даже выдавила улыбку, когда Шарт и Фенелла сказали: «Привет, Имо!» И еще раз улыбнулась, когда Нед подтолкнул ее к койке. Салли смотрела снизу вверх на эту жалкую, унылую улыбочку и набиралась отваги, чтобы вынести очередной приступ недовольства Имоджин – того самого недовольства, которым, как она теперь понимала, Имоджин заразилась от нее. Все эти годы Салли была такая же унылая, как Имоджин.
– Прости меня, Имо, – сказала она. – Когда ты была здесь в тот раз, я ничего не помнила. Я была призраком…
– Я знаю. – Имоджин хлюпнула носом.
На это Фенелла и Шарт разом затараторили – пустились рассказывать о призраке, чтобы предотвратить приступ страданий.
Но Нед прервал их болтовню:
– Мы знаем все о призраке. Имоджин считает, что может кое-что предпринять.
– Салли говорит, что видела, как Джулиан Эддимен тайком вернулся и стащил куклу Мониган, – сказала Шарт. – Меня это всерьез тревожит. Я представления не имела…
– Не важно. Мы все равно можем ее одурачить, – сказала Имоджин.
Она села на стул и склонилась над Салли, от ее дыхания слабо веяло лавандой. Салли прекрасно помнила этот запах. Он витал в ванной в квартире, которую они с Имоджин снимали последние два года. Как она могла забыть! Да, Имоджин училась в музыкальном колледже, собиралась стать концертирующей пианисткой.
– Послушай, Салли, – сказала Имоджин. – Я уже много раз тебе объясняла, только ты меня, кажется, не слушала. Я была в ужасе. Мне казалось, Мониган для нас слишком умная. Но я думаю, что она слишком… слишком первобытная, чтобы быть умной. Она просто парализовала наш разум и надеялась, что у нее все получится. Помнишь, как я убежала?
– Обратно за Изнанку Потустороннего, – ответила Салли.
И снова у нее появилось двойное воспоминание – воспоминание призрака, наложенное на картину семилетней давности: бегущая желтая фигурка Имоджин, сама Салли – девочка, сердито кричащая что-то ей вслед, и снова сама Салли – призрак, глядящий на это в полном смятении.
– Да, так вот, я хочу, чтобы ты пошла и нашла меня, – сказала Имоджин. Над переносицей у нее от серьезности залегли две морщинки. – Разыщи меня до того, как я решу вернуться домой. Можешь? Сделай что угодно, лишь бы уговорить меня вернуться к Мониган. И заставь меня что-то ей отдать. Тебе не надо говорить мне, что именно. Я сама пойму.
– Ты же пытаешься изменить прошлое, Имо, – разве нет? – засомневалась Шарт. – По-моему, это невозможно.
– Прошлое – невозможно, – ответила Имоджин. – Я собираюсь изменить будущее.
– А ты вернулась к Мониган или нет? – спросил Нед. Он тоже был предельно серьезен. – Это важно: если нет, Салли бессмысленно тебя убеждать.
Имоджин запустила пальцы в зачесанные назад волосы. Несколько тусклых белокурых прядей повисло по сторонам лица, отчего она стала чуть больше похожа на Имоджин семь лет назад.
– Вроде бы… вроде бы да, – проговорила она. – Вроде бы что-то меня заставило. Но в голове все перемешалось, потому что была гроза. А я тогда ужасно боялась молнии. Но, по-моему, в тучах были призраки… – Она с серьезным видом наклонилась к Салли. – Попробуй, Салли. Не только ради себя, но и ради меня.
– Я постараюсь, – пообещала Салли.
Она неуверенно закрыла глаза и попыталась снова стать призраком. Поначалу ничего не вышло. Она даже решила, что забыла, как это делается. Лежала, чувствуя тупые тычки боли в ноге и мелкое, назойливое покалывание во всем остальном теле, и слушала приглушенные голоса сестер и Неда. Те снова пустились обмениваться новостями. Она услышала, как Шарт в восторге воскликнула: «Так Оливер станет героем комикса? Чудесно!»
Это было последнее, что она услышала. Она растаяла и превратилась в призрака.
Но что-то было неправильно. Она попала в косой предвечерний свет, а не в дневной. И дождь уже перестал. Мокрая трава и капли на ежевике ловили последние лучи солнца, искрились красно-оранжевым.
Она очутилась лицом к лицу с Самим. Это было совсем неправильно.
Сам закатил такой многоэтажный скандал, что по сравнению с ним все остальные скандалы казались попросту мирными забавами. Глаза его лезли из орбит от ярости. Он был весь белый и клокотал. Орлиный клюв клевал и терзал. Сам все тыкал пальцем вниз, в землю, вонзал орлиный коготь туда, где на траве валялся выдранный пучок одуванчиков. Рядом виднелась лопата мистера Маклаггена и еще металлоискатель, а у ног Самого чернела неопрятная яма. В яме поверх груды цепей лежала черная курица. По курице ползали насекомые. Надо всем этим в гнездах на мертвых вязах шумно гомонили грачи.
– Воплощенное зло! – клокотал Сам. – Зло! Это… это самая настоящая черная магия! Гнусная, разрушительная, извращенная, омерзительная, ужасная, дьявольская! Воплощенное зло, говорю я вам!
Перед ним рядком выстроились перепуганные Шарт, Имоджин, Салли и Фенелла. Лица у них были огорошенные, а у Шарт, Имоджин и Фенеллы еще и виноватые: ведь Сам так страшно разозлился. Вид у Салли был скорее измученный. Она не понимала, почему Сам так разъярился из-за какого-то эксперимента, пусть и довольно нездорового. «Кому от этого плохо?» – читалось в ее взгляде.
– К тому же и курица была превосходная! – заходился Сам. – Сколько невинных мальчиков вы совратили этим… этим сатанизмом? Говарда и Дженкинса. А еще кого? Отвечай, Селина… Имоджин… Шарлотта!
– Джулиана Эддимена, – сказала Фенелла.
– Чушь! – завизжал Сам. – Ты злобная маленькая ведьма, Шарлотта… Имоджин… Фенелла! Эддимен вне подозрений!
И Сам так распалился из-за этой, как он думал, наглой лжи, что честно и беспристрастно влепил всем четырем по пощечине наотмашь, продолжая при этом яростно визжать.
От его ярости призраку пришлось отпрянуть. Судя по всему, когда у Самого случались припадки неукротимой злобы, жизненное поле вокруг него расширялось и теперь трещало и искрило на расстоянии нескольких шагов. Но еще неприятнее было то, что призрачная Салли прекрасно помнила эту сцену. Она помнила, как ее выдернули из-за стола, где они ужинали заварным кремом – в тот вечер ничего другого у миссис Джилл в запасах не нашлось: за ними явился Полудурок Филберт, полный такого самодовольства и такого праведного негодования, будто две головы ему в самый раз, и отконвоировал их за поле на допрос к Самому над гадостной курицей. Было просто непостижимо переживать одно и то же дважды одновременно – как незримая свидетельница и как живая Салли, кривившаяся от каждой пощечины, которые призрачная Салли так хорошо помнила.
Она решила здесь не задерживаться. Одного раза было достаточно, и вообще она угодила не в то время. Прошло несколько часов с тех пор, как Имоджин, мокрая и страдающая, прикатила домой. Призрачная Салли знала, что теперь будет. Филлис погрузит их всех вместе с Оливером в школьный микроавтобус, отчего они сразу поймут, в какую немилость впали. Раньше Сам не разрешал им даже приближаться к микроавтобусу – он принадлежал Школе. Но Сам сказал, что больше не желает видеть дочерей. Поэтому Филлис было позволено взять микроавтобус, чтобы отвезти их к бабушке.
После этого все утихло. Бабушка была из тех, кто прячет острые коготки в бархатных лапках. Бросив на Фенеллу один-единственный взгляд, она принесла ножницы и отрезала гульки. Заставила всех вымыть голову. Требовала, чтобы они принимали ванну каждый вечер и помнили о хороших манерах за столом. Правда, бабушкин дом был из тех мест, где естественным образом стараешься не топать и ни на кого не повышать голоса. Сестрам было обеспечено регулярное питание и постоянное внимание. Бабушка купила Фенелле и Имоджин новую одежду, очень красивую, и заплатила за все из своего кармана. Подарила Салли свои краски, старые, но хорошие, а Шарт – серебряную шкатулочку для украшений. И прямо-таки влюбилась в Оливера. Втайне сестры были ей от души благодарны. Даже Оливер вел себя прилично. Покой слегка нарушило только внезапное появление Уилла Говарда.
Она открыла глаза.
Все ждали ее. Она увидела шеренгу напряженных лиц.
– Ну что? – спросила Шарт.
– Ничего не получилось, – сказала она. – По-моему, Мониган не пускает меня в нужный момент. Я вернулась в разгар скандала из-за курицы.
Имоджин, Шарт и Фенелла при этих словах невольно поежились, как от холода. Вспоминать скандал из-за курицы было мучительно.
– А в какой момент ты хотела попасть? – спросила Имоджин.
– Сразу после того, как я вернулась сюда в прошлый раз, – ответила Салли. – Но…
Имоджин подалась вперед. Она хотела обрушить на Салли обе руки, как частенько обрушивала на желтое пианино. Но замерла, поскольку сообразила, что Салли будет больно.
– Нет-нет! Это слишком поздно! – воскликнула она. – Надо попасть туда до того, как я испугалась грозы!
От резкого движения и от волнения из узла у нее на макушке вылезли шпильки и зазвенели по полу. На плечи старенького пальто упали длинные пряди пепельных волос.
Салли улыбнулась. Шпильки из Имоджин вечно так и сыпались. С тех самых пор, как она решила, что должна выглядеть как настоящая пианистка и убирать волосы назад, вся квартира была усыпана шпильками. Шпильки обнаруживались даже в сахарнице и масленке.
– Но до этого я была там, как раз когда началась гроза, – возразила Салли.
– А ты не пробовала попасть в одно и то же время дважды? – спросила Фенелла.
Она задала вопрос тем самым гулким, парализующим голосом, каким воздействовала на миссис Джилл. И Салли, открывшая было рот, чтобы сказать «нет», осеклась на полуслове. Она вспомнила, какое странное чувство охватило ее во время скандала из-за курицы: как будто она была там дважды. И она в каком-то смысле была дважды в ту полночь в поле, когда сама же бежала сквозь туман. Теперь она помнила, как была там во плоти, как мчалась, закрыв лицо руками, и как совы кричали ей вслед, и как ей было страшно, до того страшно, что ноги не слушались, но она все бежала, потому что думала, что если струсит, то потеряет себя. И ведь все равно потеряла, только не так, как боялась.
– Я, наверное, попробую, – выдавила она. – Но если Мониган заметит…
– В том-то и дело! – воскликнула Шарт. – Нацелься в тот момент, когда Мониган была очень занята, когда все мы были в Угодьях Мониган!
– Когда мы все отдали ей то, что было ей не нужно, но она все равно забрала, – с горькой обидой сказал Нед.
– И еще, – сурово добавила Имоджин. По полу снова зазвякали шпильки. – Найди меня, и тогда мы поможем тебе. Когда найдешь меня, пошевели рукой, и мы все силой воли заставим меня услышать тебя. Да? – Она развернулась к остальным, волосы взметнулись пеленой.
– Ну, можно… – с сомнением отозвалась Фенелла.
XIV
Мониган забрала и у Одри, и у Уилла Говарда, и, возможно, у Неда то, что они и не думали отдавать. Теперь, когда Салли это знала, ей совсем не претила мысль одурачить Мониган. Она помчалась на семь лет в прошлое, изо всех сил изображая, будто ей движет чистое любопытство. Она намекнула Мониган, будто отправляется туда лишь затем, чтобы поглядеть, что станется с Говардом и Недом, когда они, мокрые до нитки, захотят пробраться в Школу и их поймают. Мониган ее пустила. Это было не важно. Салли подождала, пока не увидела, как учитель – другой, не Сам – ехидно смотрит на мальчишек, а с них на пол в коридоре так и течет, а потом ускользнула вбок и промчалась на десять миль оттуда и примерно на час назад.
Она едва не промахнулась. Очутилась в кольце беговых дорожек на частном плаце, и жаворонки свиристели в вышине, а под ней расстилалась овальная низина. Джулиан Эддимен валялся на траве, поодаль от него сидел кто-то, и этот кто-то была она сама. Остальные стояли, глядя немного мимо. Себя в виде призрака она не нашла. Она затерялась среди бесплотных, тающих столбов, среди визжащих, окровавленных духов, окружавших густое невидимое естество Мониган. В этот самый миг Фенелла, пронзительно-яркая в своем зеленом мешке, шагнула вперед и бережно прижала руки к голове. Призрачная Салли ощутила, как алчно сосредоточилась Мониган на подношении Фенеллы. И торопливо скользнула за гребень холма.
– Помогите! – вырвалось у нее.
Она забыла эти курганы. Они теснились слева, стайка мелких зеленых холмов, древних и, на взгляд живого человека, довольно мирных. Но призрачная Салли видела, что их окутывают незримые тени, полные мимолетных полурастаявших обрывков теней поплотнее. Да, они наполовину растаяли, но именно они отправили жаворонка в небо, чтобы предупредить Мониган. Это было племя Мониган. Вот почему их погребли рядом с Угодьями Мониган. И если они увидят ее, то снова отправят в небо жаворонка.
Но ей надо было пробраться мимо. Имоджин побежала к лесу. Ничего не поделаешь: надо промчаться мимо курганов как можно быстрее. Она собрала все силы и понеслась над тропой прямо-таки со свистом. И на ходу сквозь свист слышала бормотание древних призраков. Неразборчивое, будто разговор в соседней комнате, в который не вслушиваешься – о древней жизни, древних бедах, о том, как судили древние споры, давным-давно поросшие быльем. Справа три огненно-красные лошади в поле почуяли, что она идет. Они пустились с места галопом – хвосты развеваются, спины прямые – из конца в конец поля. Призрачная Салли испугалась, что из-за этого ее заметят древние тени, и помчалась еще быстрее – и сама не заметила, как разогналась даже быстрее автомобиля Джулиана Эддимена. Ей нужно было только одно – поскорей очутиться за лесом.
Бормотание стихло, деревья мелькнули мимо, и вот она уже у груды велосипедов. Имоджин здесь не побывала. Ее велосипед лежал под остальными, и цепь волочилась по траве. Где же тогда Имоджин? Салли ругала себя за то, что не спросила в больнице, но, судя по тому, что говорила Имоджин, у нее самой в голове тоже перепуталось. Может, она и сама не знала, куда бежит. Скорее всего, в катившийся волнами лес.
Призрачная Салли полетела в Изнанку Потустороннего. Внутри было на удивление прозрачно. Сплошь высокие молодые буки – будто серые колонны подпирали качающуюся зеленую крышу. Ближе к опушке с той стороны, откуда она пришла, деревья расступались перед отлогим узким холмиком, сплошь покрытым мхом. Холмик был рукотворный. Она сразу поняла, что это тоже могила, просто другой тип кургана из другой эпохи, и погребен тут кто-то очень важный. Такая тишь и прохлада стояли здесь, а деревья так походили на колонны, что лес был словно часовня, построенная на костях древнего короля.
Когда Салли плыла мимо кургана, из него донесся голос.
– Я лежу под холмом и жду, когда настанет пора нужды во мне. Пришло ли такое время?
– Э-э… кажется, нет, – ответила она.
– Я надеялся, что ты явилась призвать меня, – сказал голос. – Ведь ты и живая и мертвая – как и должно быть.
Это ее очень встревожило.
– Н-на самом деле я здесь не затем, чтобы позвать тебя, – сказала она. – Я ищу свою сестру Имоджин. Ты, случайно, не видел ее? Вряд ли…
– Имоджин? Имогена? – проговорил голос. – Давным-давно. Пропала. Ее нет давным-давно.
– Ой, – испугалась она. Вдруг здесь, под узким холмом, лежит прорицатель? Не было печали! – Моя сестра жива. У нее светлые волосы, она одета в желтое.
Настало молчание. Затем голос мрачно заговорил:
– Ах эта. Желтая, как зерно, – вот только что она пробежала мимо меня, тая в себе силу, способную принести жизнь в царство мертвых. Я счел, что это предвестье и скоро меня призовут. Нужен ли я сейчас в мире живых?
– Честно говоря, не думаю, – ответила она. – А… а ты кто? Король?
На сей раз молчание затянулось. Потом голос сказал:
– Я забыл.
Кто-кто, а она его понимала. Ей стало его жалко.
– Рано или поздно ты станешь нужен, и тебя обязательно призовут. Скажи, ты знаешь Мониган?
Молчание было долгим и ледяным. Наконец голос проговорил:
– Оставь меня в покое.
Она поняла, что больше он с ней не заговорит. Конечно, Мониган он знал. Тем не менее она учтиво поблагодарила его. Он подарил ей надежду – и такой надежды у нее не было с тех пор, как она очнулась в больнице. «Принести жизнь в царство мертвых», – повторила она и полетела по прохладному проходу между церковных деревьев. Лес был такой прозрачный, что она сразу увидела бы Имоджин, если бы та была поблизости. Но в лесу Имоджин не было.
Имоджин нашлась за опушкой по ту сторону леса, где склон холма переходил в поле. Там буйно росла земляника. Имоджин сидела среди кустиков и безобразно объедалась. С ней такое происходило сплошь и рядом, когда она сердилась на себя. Губы, руки, весь перед брючного костюма были в розовых пятнах от земляничного сока. Имоджин с бешеной скоростью рвала ягоды и заталкивала их в себя.
– Какой изысканный вкус, – донеслось до призрачной Салли, когда она подлетела поближе.
Салли до того обрадовалась, что нашла Имоджин, что с минуту просто порхала над ней и смотрела, как она ест. Потом вспомнила, что ей нужно было не просто найти Имоджин, но еще и сделать кое-что. Еще минута ушла у нее на то, чтобы вспомнить, что надо поднять в больнице руку, чтобы остальные как-то ей помогли. Она висела в воздухе и старательно поднимала руку. Напряглась изо всех сил, но, судя по всему, это было попросту невозможно. Она не имела никакой власти над собственным телом, оставшимся на семь лет в будущем. Пять отчаянных минут она лихорадочно придумывала, как же заставить работать эти далекие мускулы, а Имоджин совала в рот ягоду за ягодой. Потом стало поздно. Дерево рядом с ней высветилось зеленым от двойной вспышки молнии. Миг – и ударил гром.
Имоджин выронила горсть земляники и вскочила на ноги, ударили первые капли.
– Ой-ой-ой! – закричала она. – В грозу нельзя быть возле деревьев!
Снова сверкнула молния. Имоджин завизжала. Ее визг потонул в раскатах грома, но призрачная Салли видела, как она визжит: рот у нее был открыт, губы побелели в свете молнии. Потом Имоджин скрылась за стеной дождя. Повернулась и бросилась бежать прямо в поле. Призрачная Салли едва не потеряла ее. Ринулась следом и нашла Имоджин по чистой случайности: та в панике металась по полю, не разбирая дороги и неловко поддергивая штанины. Призрачная Салли металась вместе ней и паниковала ничуть не меньше. Они обе представления не имели, куда бежать. Все скрылось за дождем. Призрачная Салли боялась отвлекаться: вдруг она снова потеряет Имоджин из виду. Она знала, что пошевелить рукой сумеет, только если вернется в больницу, но тогда она потеряет Имоджин. А Имоджин боялась останавливаться. Один раз она продралась сквозь живую изгородь с визгом: «Здесь нельзя! Кусты тоже дерево!» – а потом снова пустилась бежать, но в конце концов поскользнулась на мокром склоне и покатилась вниз, заливаясь слезами.
– Чужие. – Сквозь хлесткий шум дождя донеслось бормотание. – Сказать… зажечь маяк… не получится… переговоры… предостеречь…
Призрачная Салли поняла, куда они угодили. Склон, по которому скатилась Имоджин, был одним из круглых курганов. И его обитатель заметил их. Теперь Мониган знает. Она почуяла обман. Как ни старалась призрачная Салли удержаться возле скорчившейся в траве фигурки Имоджин, она почувствовала, как ее отталкивает прочь. И одновременно обнаружила, что возле нее валяется какая-то вялая тяжелая штуковина – неужели чья-то рука? Салли содрогнулась и уронила ее.
Голос Неда произнес:
– Она тебя нашла! Всем сосредоточиться.
Салли снова лежала на больничной койке и от охватившего ее уныния даже не могла сказать, что ничего у нее не вышло. К тому же она ощущала себя там тверже и отчетливее прежнего. Чувствовала тяжесть вздернутой на вытяжке ноги. Все остальное болело – довольно сильно.
– Глазам своим не верю, – сказала Шарт.
Все смотрели куда-то за ее койку. Салли покосилась туда.
Там виднелась размытая желтая фигурка. Промокшая девочка в желтом брючном костюме, оборванная, будто беспризорница. Вокруг нее хлестал бестелесный дождь, от которого она мокла еще сильнее – и смотрела на них с явным ужасом.
Размытые губы зашевелились. Салли слышала, что они сказали – но больше никто:
– Я намерена считать все это каким-то жестоким футуристическим экспериментом. Я отказываюсь думать, что сошла с ума.
Бедная Имоджин, подумала Салли. Как ей, наверное, было страшно.
Фенелла с поразительным хладнокровием вцепилась в спину взрослой Имоджин всей наманикюренной пятерней:
– Живо! Объясни ей!
Взрослая Имоджин успела только податься вперед и открыла рот, чтобы заговорить, но тут на пороге появилась миловидная медсестра.
– Пять часов!.. – деловито начала она. Увидела размытое желтое привидение. Подскочила. Развернулась и вышла с окаменелой маской спокойствия, как у человека, притворяющегося, будто ничего не произошло.
– Быстро, пока она не вернулась! – сказала Шарт.
– Имоджин, – сказала взрослая Имоджин, – пожалуйста, поверь, что это правда. Я – это ты. Взрослая ты. Ты через семь лет. Ты меня понимаешь? Вот какой ты станешь.
Размытые синие глаза обратились к ней. Да, призрачная Имоджин поняла ее, но ей не понравилось то, что она увидела.
– А это Шарт, Фенелла и Нед Дженкинс, – торопливо добавила взрослая Имоджин.
Размытые глаза осмотрели всех по очереди и вроде бы узнали. У нее получается лучше, чем у меня, подумала Салли.
– А это Салли, – сказала Имоджин. – Мониган собирается забрать Салли.
Размытая Имоджин уставилась на Салли. Губы у нее снова зашевелились.
– Это не Салли. Волосы не те.
Фенелла подалась к взрослой Имоджин:
– Я знаю, в чем дело. Имо, это Салли, честное слово. Когда она выросла, волосы у нее потемнели. Так часто бывает. Теперь ты мне веришь?
Вот, оказывается, почему я считала, что у меня темные волосы, подумала Салли.
Размытая Имоджин покивала и внимательно посмотрела на нее. Она поверила Фенелле.
– Ты должна помешать Мониган, – сказала взрослая Имоджин. От волнения вид у нее стал больной. – Это можешь только ты. Ты должна прямо сейчас пойти к Мониган и кое-что отдать ей – ты сама знаешь что. Сумеешь? Ради всех нас.
Похоже, размытая Имоджин решила, что это неплохая мысль. На ее изможденном лице проступила слабая улыбка. Призрачная Имоджин кивнула еще раз – бодро и уверенно. Все шумно вздохнули с облегчением. Как только они чуть-чуть расслабились, размытые контуры Имоджин размылись еще сильнее и растворились, как акварель в воде.
Салли подскочила и бросилась за ней. Как ей это удалось, она сама не знала. Она будто бы застряла в ноющем теле, как застревают в тесной одежде. Лихорадочно выпуталась из него – и сумела нагнать Имоджин, когда та сидела между двумя курганами, закрыв лицо руками.
– Ой, призраки!.. – проговорила Имоджин.
Призраков и правда было много, но не тех, кого Имоджин имела в виду.
– Лазутчики, – произнес древний призрак под курганом. – Враг наступает. Доклад часовых…
– Тихо ты! – прикрикнула на него Салли. – Никакие мы не враги. Мы пришли… мы пришли с дарами.
– Караван с Востока, – пробормотал призрак и, к вящей радости Салли, пустился в рассуждения о зерне и самоцветах, а о них словно бы и забыл.
Имоджин поднялась на ноги, ее трясло. К этому времени гром грохотал уже далеко-далеко. Дождь немного унялся, но еще отнюдь не перестал. Волосы у Имоджин стали серые от воды и облепили голову. Желтый брючный костюм так промок, что сквозь него розовыми пятнами просвечивала кожа. Но взгляд у Имоджин был полон решимости – растерянной, испуганной, но решимости. Она выдернула насквозь мокрые штанины из-под хлюпавших туфель и заковыляла за курганы в низину Мониган. Дорогу она знала. Должно быть, была здесь вместе с Шарт, когда та нашла это место. Перевалила за гребень холма, протопала дальше сквозь дождь, подлезла под цепь и пересекла беговые дорожки.
Когда Имоджин двинулась в серую низину за пеленой измороси, Салли отстала от нее – испугалась, что Мониган заметит, что она снова здесь и пытается ее обмануть. Мониган смотрела, как приближается Имоджин. Она снова разлилась по всей своей низине, но уже не так мощно. Столбы и фантомы таяли за завесой дождя.
Тут Салли вдруг начала понимать, какая механика стоит за сущностями вроде Мониган. С точки зрения Мониган, все времена шли параллельно, но одни из них, например время обитателей курганов, были прямо перед ней, а другие, вот как это, оказывались где-то на краю поля зрения. А по краям поля зрения Мониган только всасывала все, до чего могла дотянуться. Она не стала сосредотачиваться на них с Имоджин – ее алчно интересовало лишь то, что Имоджин могла ей дать, и она не заметила, что на несколько минут Имоджин попала на семь лет вперед. А призрак Салли вообще не интересовал Мониган. Она считала, что здесь Салли больше делать нечего.
Посередине низины Имоджин остановилась и подобрала мокрый клочок бумаги. Это был рисунок Неда. Галстучная булавка Говарда валялась неподалеку, но не попалась Имоджин на глаза.
– Что это? – Имоджин развернула мокрую бумажку.
Салли отважно спорхнула вниз, к Имоджин, и заглянула ей через плечо. И увидела себя. Ошибиться было невозможно – даже сейчас, когда рисунок расплылся и выцвел от воды. Рисунки Неда всегда выходили до того похоже, что Салли точно знала, что это она. Теперь она поняла, почему Нед всегда так охотно пьет с ней кофе. И понадеялась, что Имоджин все-таки сумеет обвести Мониган вокруг пальца.
– Как это неосмотрительно с его стороны, – сказала Имоджин. – Я ему обязательно верну.
Она подняла руку с бумажкой и прочитала молитву. Знала она ее почти как Шарт. Запнулась только дважды.
Мониган не стала сгущаться, чтобы ответить Имоджин. Она делала это, лишь когда опасалась что-то утратить. А сейчас она алчно ждала – и больше ничего.
– Слышишь меня, Мониган? – спросила Имоджин. Голос ее звучал по-особенному, звонко и торопливо, как всегда, когда она говорила о чем-то крайне серьезном. – Послушай. Я дам тебе то, что тебе очень понравится. Я принесу тебе величайшую жертву.
Мониган стало интересно. Салли тоже. Имоджин картинно взмахнула рисунком и зашагала туда-сюда под дождем: она произносила речь.
– Величайшую жертву, – повторила она. – Лучше, чем жизнь. Я отдам тебе честь и славу, Мониган. Тебе будут аплодировать полные залы, тебя станут приветствовать толпы. Тебе будут вручать награды, издавать твои биографии, ты будешь дарить незабываемые впечатления и другим и себе. Я отдам тебе годы прилежных занятий, Мониган, и безмятежность моего точеного профиля, склонившегося в размышлениях о прекрасном и о том, как донести его до других…
Имоджин сделала театральную паузу и взмахнула рисунком Неда примерно в ту сторону, где была Мониган. Молодчина, думала Салли. Умеет себя разрекламировать. Ну и что такого? Имоджин считала, что ее никто не видит, а с Мониган, похоже, именно так и надо разговаривать. Алчность Мониган залила низину до краев.
– Я приношу тебе величайшую жертву, – продолжала Имоджин. – Расцвет моей юности и красоты в сиянии софитов. Я отдаю тебе свое музыкальное призвание, Мониган. Нравится?
– Да, – сказала Мониган, надвинулась и забрала подношение.
Салли чуть не заулюлюкала. Ей хотелось обнять Имоджин. Но Имоджин отвернулась, совершенно вымотанная, и ее снова затрясло.
– По-моему, Мониган могла бы ответить хотя бы из вежливости, – сказала она. – Не что-нибудь, а величайшая жертва, между прочим!
Тут она расплакалась и бросилась вверх, к изгороди, окружавшей низину.
Салли отчаянно хотелось броситься за Имоджин, сказать ей, что Мониган отозвалась, согласилась на сделку, ответила «да». Но она точно знала, что сейчас Имоджин ее не услышит. А поскольку внимание Мониган еще было нацелено на это время, Салли пришлось обратиться к Мониган самой – в конце концов.
– Мониган, – сказала она. – Ты не можешь меня забрать. Я уже не совершенная жертва. Я вся разбита и переломана. Тебе придется довольствоваться призванием Имоджин. Оно совершенно, поскольку пока что существует только в ее воображении.
Мониган оттолкнула ее в сторону, капризно возмущаясь, почему это в отведенный срок затесались два лишних дня из високосных лет и не позволили ей забрать Салли раньше.
И Салли, ликуя, улетела от ее толчка на семь лет вперед и снова очутилась на больничной койке.
– У тебя все получилось! – сказала она Имоджин. – Ты отдала Мониган свое музыкальное призвание! И она его забрала!
Все так обрадовались, что Салли оторопела. Но особенно она оторопела от Имоджин. Имоджин вскинула голову, отчего на пол посыпались последние шпильки, и расхохоталась.
– Как чудесно! – воскликнула она. – И какая славная шутка! Пусть забирает. Мне оно ни к чему. У меня и таланта-то особого никогда не было. Просто Филлис однажды сказала, что я красиво смотрюсь за инструментом, – вот я и начала заниматься. Я надеялась, что Мониган заберет мой дар. И даже набралась отваги и сегодня, после того как побывала у тебя в первый раз, подала заявление на отчисление из музыкального колледжа, но боялась, что все равно ничего не выйдет. А теперь я могу делать что хочу!
Она стала гораздо больше похожа на ту Имоджин, которую Салли знала с детства. От помятости не осталось и следа. Глаза снова засияли пронзительным, живым светом. Одного взгляда на нее Салли было достаточно, чтобы понять, что Имоджин поистине способна на великие дела. Интересно, на какие именно.
А когда Салли задумалась, что же сталось с тем промокшим от дождя рисунком, и посмотрела на Неда, то увидела, что он переменился ничуть не меньше. Это ее встревожило.
– А вы уверены, что дело того стоило? Все, на что вы пошли, только чтобы спасти меня? – спросила она.
– Ой, да ладно тебе, Салли! – разом воскликнули все три сестры. В их голосах прозвучала такая скука, что сразу стало ясно: сомнения Салли в себе надоели им не меньше, чем страдания Имоджин.
А теперь, наверное, ни в том ни в другом больше нет нужды. Салли, как и Имоджин, сделала неверный выбор – в случае Салли катастрофически неверный. Обе они хотели, чтобы было за что зацепиться, и обе цеплялись за то, что не принесло им никакой пользы. Теперь и Салли может делать что хочет.
А чего она хочет? В отличие от Имоджин, она хотела того же, чего и всегда: писать картины, хорошо писать, писать все лучше и лучше. А пока она была призраком, то насмотрелась всякого, что прямо просилось на холст: Сонный Пейзаж, Фенелла, размахивающая ножом над миской с кровью, Шарт в утренней ярости, Имоджин, свисающая с балки, а потом – с грибовидной свечой в руках, Сам, похожий на орла, и те странные моменты, когда мир разрывался на полосы, – и это только начало. При мысли обо всем, что теперь можно нарисовать, ее окатило волной жара – а с ним пришла легкость. И эта легкость сказала ей, что она поправится и все будет хорошо.
Миловидная медсестра вернулась, на сей раз полная решимости выставить посетителей вон. Но из-за спины у нее кто-то проталкивался, твердя устало и суетливо:
– Я приехала на машине издалека, из-за города, чтобы повидать дочь. Прошу вас, пустите меня хотя бы поздороваться.
Это была Филлис. Салли потрясенно смотрела на нее. Филлис превратилась в серебряного ангела, изможденного, в морщинах, – будто какое-то серебряное орудие, покрытое вмятинами и царапинами после долгих-долгих лет небесных битв. И это тоже надо написать, подумала Салли. И тут с изумлением заметила, что глаза у Филлис, похоже, полны слез.
– Только пять минут, – сказала медсестра и не стала уходить.
– Всем привет, – сказала Филлис. – Салли, ласточка… – Она нагнулась и поцеловала Салли. Было больно. – Я не могла не приехать, – сказала Филлис. – Скоро каникулы, все чемоданы запакованы, так что поживу у тебя, пока тебе не станет лучше.
Тесновато будет у нас в квартире, подумала Салли.
– Вот что я тебе привезла, – продолжила Филлис. – Ты, кажется, ее любила.
И она достала куклу Мониган. Просто куклу – сухую, мягкую, серую, залатанную, с маленьким-маленьким личиком и в неумело связанном платьице. От нее веяло еле заметным запахом застарелой плесени. Салли предпочла бы, чтобы этой куклы здесь не было.
– Где ты ее взяла? – спросила она.
– Сто лет валялась у меня в бельевом шкафу, – сказала Филлис. – Я нашла ее на подъездной аллее в тот день, когда всех вас отправили в ссылку к бабушке.
Она повернулась, чтобы сказать Неду, что прекрасно его помнит. Салли обнаружила, что движение толпы выпихнуло Фенеллу на другую сторону ее койки.
– Что с ней сделать? – прошептала Фенелла, дернув головой в сторону куклы.
– Сжечь, – ответила Салли.
– Будет исполнено, – сказала Фенелла – и тут она вскинулась и обернулась вместе со всеми остальными.
В стеклянную комнатушку ворвалась миссис Джилл в крайнем возбуждении. Она размахивала газетой.
– Послушайте! Я принесла вечернюю газету! – сказала миссис Джилл. – Вы уж простите меня, милая, я только на минутку, – бросила она медсестре. – Я просто попрощаться.
– Ну все, сдаюсь, – объявила медсестра.
– Тут говорится… – начала миссис Джилл. – О, здравствуйте, миссис Мелфорд. Надо же, и вы тут. Послушайте меня. Этот ее хахаль убился насмерть. Тут сказано: «После долгой автомобильной погони…» Все читать не буду, глаза уже не те – в общем, он разбился прямо рядом со Школой, у развилки на Манган-Даун. Заехал туда, где тупик, и врезался в столб у леса. Машина всмятку. Когда его нашли, был уже мертвый. Ну? Что вы на это скажете?
Никто не сказал ничего. Мониган все-таки заполучила свою жертву. Снова всех обманула. Может быть, ей с самого начала нужен был Джулиан Эддимен. Он принадлежал ей точно так же, как и Салли.
В наставшей тишине, пока миссис Джилл стояла и наслаждалась произведенным впечатлением, медсестра взяла себя в руки и сказала, что теперь уже точно всем пора уходить.
Примечания
1
Прогоняя пауков и змей-медянок, Фенелла цитирует пьесу Шекспира «Сон в летнюю ночь». (Здесь и далее примеч. ред.)
(обратно)2
Майра Хесс (1890–1965) – прославленная британская пианистка.
(обратно)


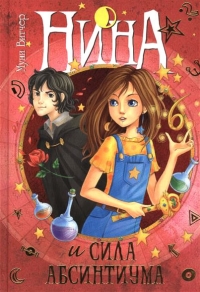


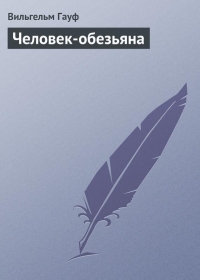


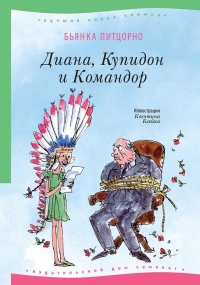
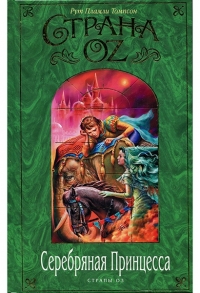
Комментарии к книге «Дом за порогом. Время призраков», Диана Уинн Джонс
Всего 0 комментариев