Жорж Санд Бабушкины сказки
Замок Пиктордю
Моей внучке
АВРОРЕ САНД
Вопрос в том – существуют ли волшебницы или нет. В твои годы любят чудесное, и я желала бы, чтоб оно действительно было в природе, которую ты тоже очень любишь.
Полагаю, что чудеса в природе бывают, иначе я не могла бы тебе рассказывать о них.
Остается узнать, где находятся существа, называемые сверхъестественными – духи и волшебницы; где их начало и конец; какую власть имеют они над нами и в чем проявляется влияние их на нас. Многие между взрослыми людьми не знают этого, а потому я хочу заставить их прочитать те сказки, которые я рассказываю, укладывая тебя в постель.
I
Говорящая статуя
То, о чем я расскажу вам, происходило в дикой и далекой стороне, называемой в то время Жеводанской провинцией. Там среди пустыни, лесов и крутых гор стоял одинокий заброшенный замок Пиктордю. Печален, очень печален был его вид, он как будто скучал, точно человек, который, привыкши принимать гостей и задавать пышные праздники, вдруг перед смертью видит себя больным, немощным и всеми покинутым.
Господин Флошарде, знаменитый на юге Франции художник, проезжал в почтовой карете по дороге, идущей вдоль берега маленькой речки. С ним была его единственная восьмилетняя дочь Диана, за которой он ездил в монастырь Визитандин-де-Манд и которую он вез домой, потому что она заболела перемежавшейся через два дня на третий лихорадкой, мучившей ее в продолжение почти что трех месяцев, вероятно, вследствие быстрого роста. Доктор советовал ей родной воздух, и Флошарде ехал с ней в свою хорошенькую виллу, которая находилась в окрестностях Арля.
Выехав из Манда накануне того дня, с которого я начинаю мой рассказ, отец и дочь сделали небольшой круг, чтобы повидаться со своей родственницей. Ночь они должны были провести в Сен-Жан-Гардонанк, который называется теперь Сен-Жаном ди-Гард.
Это происходило задолго до существования железных дорог, тогда, когда во всем подвигались несравненно медленнее, нежели теперь. Пускаясь в путь в экипаже, они могли приехать к себе только на другой день. Ехали они тихо еще и потому, что дорога была отвратительная. Господин Флошарде вышел из коляски и шел рядом с извозчиком.
– Что это такое перед нами? – спросил он его. – Какая-нибудь развалина или просто гряды беловатых скал?
– Что вы, сударь, – ответил извозчик, – да разве вы не узнаете замка Пиктордю?
– Как же я могу узнать, когда я вижу его в первый раз. Я никогда не ездил по этой дороге и уж конечно никогда более по ней не поеду, она ужасна, и мы совсем не подвигаемся вперед.
– Терпение, сударь. Зато эта старая дорога гораздо ближе новой; по новой вам бы пришлось до заката солнца сделать семь лье, а по этой не более двух.
– Но если нам придется ехать по этой кратчайшей дороге пять часов, то я не вижу никакой выгоды.
– Вы, сударь, изволите шутить. Мы не более как через два часа будем в Сен-Жан-Гардонанк.
Господин Флошарде вздохнул, думая о своей маленькой Диане. Это был день приступа лихорадки, и он, выезжая, надеялся, что до заката приедет в гостиницу и уложит ее в постель, где она обогреется и отдохнет. Воздух на низменности был сырой, солнце уже закатывалось; он боялся, чтобы она еще более не разболелась, если ей придется во время пароксизма лихорадки провести холодную ночь в карете, трясясь по старой дороге.
– Значит, – сказал он кучеру, – эта дорога совершенно заброшена?
– Да, сударь, эта дорога была сделана для замка, и замок теперь также заброшен.
– А он мне кажется еще таким богатым и обширным. Почему же это там более не живут?
– Потому что настоящий владелец получил его в наследство тогда, когда он разрушался, а для того, чтобы поправить его, у него нет средств. Замок этот во время оно принадлежал богатому барину, который там много делал глупостей, задавал балы, комедии, игры, празднества и тому подобные вещи. Сам он разорился, потомки его не поправились точно так же, как и сам замок, который, хотя и сохраняет величественный вид, но в один прекрасный день обрушится со своей высоты в реку и частью на дорогу, по которой мы теперь едем.
– Лишь бы нам удалось сегодня проехать, а там пусть валится сколько ему будет угодно! Но что у него за такое странное название, Пиктордю?
– Его назвали так по имени вон той горы, видите, которая выходит из-за леса над замком и которая как будто разворочена огнем. Говорят, что в древние времена вся эта местность была выгоревшей. Эти страны назывались вулканическими. Я готов спорить, что вы не видали ничего подобного?
– Напротив, я много видел, только теперь это меня нимало не интересует. Прошу тебя, мой друг, сесть на козлы и ехать как можно скорее.
– Извините, сударь, этого еще нельзя. Мы должны сначала проехать резервуар каскадов парка. Там почти нет воды, но зато есть много мусора, а потому мне нужно осторожнее свести моих лошадей. Не бойтесь за маленькую барышню, опасности нет никакой.
– Может быть, – ответил Флошарде, – но я все-таки лучше возьму ее к себе на руки, ты мне только скажи, когда это нужно будет сделать.
– Да вот, сударь, мы и подъехали, а потому делайте, как вам угодно.
Художник велел остановить карету и взял из нее свою маленькую Диану, которая, почувствовав лихорадочную слабость, заснула.
– Поднимитесь сначала вот на эту лестницу, – сказал ему извозчик, – а потом, перейдя террасу, вы в одно со мной время будете у поворота дороги. – Флошарде вошел на лестницу, неся свою дочь. Несмотря на разрушение, эта лестница была действительно барская, ее балюстрада была, вероятно, прежде очень красивая. В саду, на некотором расстоянии, виднелись еще великолепные статуи. Эта терраса, когда-то выложенная плитами, сделалась теперь притоном диких растений, которые росли между распавшимися камнями вперемежку с несколькими редкими кустами, которые в былое время были посажены отдельно в виде корзины.
Пурпуровая жимолость переплелась с огромными кустами шиповника, между терновником цвел жасмин, над туземными кипарисами и дикими каменными дубами возвышались ливанские кедры, плющ стлался коврами или висел гирляндами, разросшийся на ступенях клубничник шел арабесками до самых подножий статуй. Эта терраса, поросшая свободными растениями, может быть, не была никогда еще так хороша, как теперь.
Но Флошарде был салонный живописец и не особенно любил природу. Кроме того, роскошь этих разнохарактерных растений во время сумерек затрудняла ходьбу. Он боялся, чтобы шипы не расцарапали прелестного личика его дочери, а потому, проходя, он защищал ее, насколько мог; вдруг через несколько времени внизу террасы послышался раздававшийся по камням стук лошадиных подков, а затем голос извозчика, который о чем-то горевал, потом стонал и, наконец, проклинал, точно с ним случилось какое-нибудь несчастье.
– Ступай, папа, беги скорей, чтобы узнать, что случилось, – сказала Диана своему отцу. – Мне здесь хорошо. Сад этот так нравится мне. Оставь мне только твой плащ, я буду ждать тебя не шевелясь. Вернувшись, ты найдешь меня здесь у подножия вот этой большой вазы. Обо мне, прошу тебя, не беспокойся.
Флошарде закутал ее в свой плащ и побежал посмотреть, что произошло внизу террасы. Сам извозчик был невредим, он, желая перебраться через мусор и разные обломки, опрокинул карету, два колеса которой были совершенно раздроблены; одна из лошадей упала и ранила себе колени. Извозчик был в отчаянии, его стоило пожалеть, но Флошарде не мог удержаться от бесполезного гнева. И его положение было ужасно: что мог он сделать ночью с девочкой, которая была слишком тяжела, чтобы нести ее на расстояние двух лье, то есть трех часов ходьбы? Было невозможно придумать что-нибудь лучше. И он оставил извозчика выпутываться из своей беды одного, а сам ушел отыскивать свою Диану. Но вместо того чтобы найти ее спящей у подножия вазы, как он и ожидал, он увидел ее идущей к нему навстречу, бодрой и почти что веселой.
– Папа, – сказала она ему, остановившись у перил террасы, – я все слышала, и хотя извозчик не сделал себе вреда, но лошади ранены и карета сломалась. Мы не можем ехать сегодня вечером далее, и я, сидя здесь, начала было мучиться твоей тревогой, как вдруг слышу голос дамы, которая назвала меня по имени. Я подняла голову и увидела ее с протянутыми по направлению к замку руками, которыми она, вероятно, приглашала меня туда войти. Пойдем, я уверена, что она будет очень рада и что нам будет у нее хорошо.
– О какой даме ты говоришь мне, мое дитя? Замок этот пустой, и я здесь никого не вижу.
– Ты не видишь этой дамы, вероятно, потому, что теперь уже наступает ночь, но я ее еще отлично вижу. Посмотри, она все еще там и указывает на дверь, через которую мы должны войти к ней.
Флошарде посмотрел по тому направлению, куда показывала ему Диана, он увидел там статую в человеческий рост, изображавшую аллегорическую фигуру, может быть, гостеприимства, которая грациозным и необыкновенно изящным движением как будто указывала приезжающим вход в замок.
– То, что ты принимаешь за даму, не что иное, как статуя, – сказал он своей дочери. – Что же касается того, что она с тобой говорила, то это тебе пригрезилось.
– Нет, отец, мне это не пригрезилось, и нам нужно поступить, как она желает.
Флошарде не хотел противоречить больному ребенку. Он бросил взгляд на богатый фасад замка, который, украшенный ползучими растениями, повисшими у балконов и у каменных лепных украшений, казался еще великолепным и крепким. «И в самом деле, – подумал он, – этот замок, если бы я только мог отыскать в нем, в ожидании лучшего, какой-нибудь уголок, где бы моя девочка могла отдохнуть, может служить нам убежищем». Войдя вместе с Дианой, которая крепко держала его за руку, в роскошный вход с колоннами и идя все прямо вперед, они пришли в просторное отделение, которое имело вид цветника, поросшего дикой мятой, шандрой с беловатыми листьями и окруженного колоннами; некоторые из них валялись на полу, а остальные поддерживали остатки купола, сквозившего в тысяче местах. Развалину эту Флошарде нашел неудобной и хотел было вернуться назад, как вдруг встретил извозчика, который шел к нему навстречу.
– Следуйте, сударь, за мной, – сказал извозчик Флошарде, – здесь в замке есть павильон, еще довольно крепкий, где вы можете отлично провести ночь.
– Значит, нам непременно нужно провести здесь ночь? Неужели нет возможности дойти если не до города, то хотя бы до какой-нибудь фермы или деревенского дома.
– Невозможно, сударь, точно так же, как нельзя оставить и ваши вещи в карете, которая, как вы видели, не может более служить вам.
– Вынуть мой багаж оттуда нетрудно, его немного, а потому им смело можно навьючить одну из твоих лошадей, на другую сяду я с моей дочерью, а ты, идя возле нас, покажешь нам дорогу к ближайшему жилью.
– Здесь нет никакого жилища, до которого мы могли бы сегодня добраться. Горная дорога слишком дурна, и мои бедные лошади обе зашиблись. Я не знаю, как мы и выберемся отсюда даже среди белого дня. С Божьей милостью! Самое главное, что нам нужно сделать, – это поторопиться устроить маленькую барышню. Я вам сейчас найду комнату, где еще сохранились двери и ставни и где потолок не грозит опасностью. Для моих лошадей я также нашел что-то вроде конюшни, и так как у меня есть с собой небольшой мешок овса, а у вас немного провизии, то мы, конечно, сегодня вечером не умрем с голода. Я вам тотчас же принесу из кареты все вещи и подушки, ночь скоро пройдет.
– Делай, как находишь лучше, – сказал Флошарде, – благо ты теперь опомнился. Здесь, вероятно, есть какой-нибудь сторож, которого ты знаешь и который не откажет нам в пристанище.
– Здесь нет никакого сторожа, замок Пиктордю сам себя сторожит… Но об этом я вам расскажу после. Вот мы и у дверей старой залы бань. Я знаю, как она отворяется. Проходите, сударь, туда, там нет ни крыс, ни ночных сов, ни змей. Подождите меня там без боязни.
Действительно, разговаривая и проходя по разным отделениям замка, они дошли до какого-то низенького, довольно тяжеловатого павильона в старом стиле. Это было, как и весь замок, здание во вкусе Возрождения, хотя фасад его и представлял прихотливое сочетание разных архитектурных затей. Павильон этот находился посреди запертого в четырех стенах двора и был подражанием в миниатюре древним баням. Внутренность его была довольно хорошо защищена от холода и еще достаточно сохранилась.
Извозчик принес один из каретных фонарей и свечу. Он начал выбивать из кремня огонь, после чего Флошарде убедился, что ночлег действительно возможен. Он сел на тумбу и хотел было взять на колени Диану, пока извозчик сходит за вещами и подушками, но она сказала ему:
– Нет, отец, благодарю, не беспокойся. Я очень рада провести ночь в этом прелестном замке. Я более не больна, пойдем-ка лучше, поможем нашему извозчику переносить вещи, тогда дело пойдет скорее. Я уверена, что ты голоден, что же касается меня, то я думаю, что я с удовольствием буду есть пирожки и фрукты, которые ты для меня положил в маленькую корзиночку.
Флошарде, увидя свою больную девочку такой бодрой, взял ее с собой, и она действительно сумела быть им полезной. Спустя четверть часа подушки, плащи, сундучки, корзины – словом, все, что находилось в карете, было перенесено в залу бань старого замка. Диана не позабыла также и свою куклу, которая во время похождения сломала себе руку. Она хотела было заплакать, но, видя своего отца, у которого также разбилось несколько ценных вещей, нашла в себе настолько мужества, чтобы удержаться от жалоб. Извозчик нашел, чем их обрадовать, объявив, что две бутылки хорошего вина уцелели от опасности, и неся их, он сиял от радости.
– Теперь, – сказал ему Флошарде, – так как ты нашел нам жилище и с такою преданностью служишь нам… скажи, как тебя зовут.
– Романеш, сударь!
– Итак, Романеш, ты будешь с нами ужинать и, если желаешь, то можешь также и спать с нами в этой зале.
– Нет, сударь, я должен вычистить и накормить моих лошадей; но от стакана вина никогда не следует отказываться, да еще после несчастья. Сначала позвольте мне послужить вам. Маленькая барышня хочет, может быть, воды, я знаю, где здесь находится родник, но прежде я хочу приготовить ей постельку; я ведь знаю, как ухаживать за детьми, у меня есть свои!
Говоря таким образом, добрый Романеш расставлял все вещи.
Ужин состоял из холодной дичи, хлеба, ветчины и кое-каких сластей, которые Диана грызла с большим удовольствием.
Не было ни стульев, ни стола; посередине залы находился мраморный фонтан, бассейн которого имел форму небольшого амфитеатра со ступенями, на которых было очень удобно сидеть. Родник, снабжавший в былые времена этот фонтан водой, струился еще и теперь в ограде павильона, наделяя путешественников хорошей водой, которую Диана пила из своего маленького серебряного стаканчика. Флошарде дал Романешу целую бутылку вина и, откупорив другую, предложил ему чокнуться.
Во время еды художник пристально вглядывался в свою дочь. Она была весела и с удовольствием променяла сон на болтовню; но когда она поела, отец предложил ей отдохнуть. Из подушек и плащей в мраморном бассейне, находившемся на краю фонтана, была сделана для нее очень недурная постель.
Приключение это случилось среди лета. Погода стояла чудная, начинала светить луна. Но кроме лунного света их новое помещение освещала еще свеча, так что оно нисколько не было мрачно. Внутренность павильона была разрисована фресками. На потолке в гирляндах были изображены летающие птицы, ловившие бабочек, которые были больше их самих. На стенах, держа одна другую за руки, танцевали хороводом нимфы, которые нельзя сказать, чтоб были целы: у одной недоставало ноги, а у других руки или головы. Протянувшись на импровизированной постельке и держа в своих объятиях куклу, Диана была совершенно спокойна и в ожидании сна рассматривала хромых танцовщиц и, несмотря на вышесказанные недостатки, находила вид их очень праздничным.
II
Дама под покрывалом
В то время, как Романеш, превратившись в лакея, убирал остатки ужина, господин Флошарде, думая, что дочь его заснула, сказал:
– Романеш, объясни же мне, пожалуйста, почему этот замок сам себя сторожит? Ты мне дал давеча понять, что на это существует какая-то особенная причина.
Романеш немного замялся, но хорошее вино его доброго путешественника развязало ему язык, и он начал следующий рассказ:
– Я уверен, сударь, что вы станете надо мной смеяться. Вы, так называемые ученые люди, ведь не верите в иные вещи.
– Ну, оставь это и говори, мой любезный, я тебя слушаю, хотя, по правде тебе сказать, я и не верю в вещи сверхъестественные, в этом я сознаюсь. А все-таки я очень люблю рассказы о таинственных вещах. Замок этот должен иметь свою легенду, расскажи мне ее, я не буду смеяться.
– Извольте, сударь, я вам расскажу ее. Я уже сказал вам ранее, – начал извозчик, – что замок Пиктордю сам себя сторожит, но это только так говорится. На самом деле его охраняет дама под покрывалом.
– Кто это такая дама под покрывалом?
– А вот этого-то никто и не знает! Одни говорят, что это живая женщина, которая только одевается по старой моде, другие – что это душа умершей принцессы, которая жила в нем много лет тому назад и которая будто бы приходит сюда каждую ночь.
– Так, значит, мы будем иметь удовольствие сегодня видеть ее?
– Нет, вы ее не увидите. Дама эта очень вежлива, она только желает, чтобы к ней входили порядком; она даже сама приглашает проезжающих войти, и если на ее зов они не обращают внимания, тогда она опрокидывает их кареты, сбивает с ног лошадей, а если идут пешком, тогда скатывает на дорогу такое множество камней, что ходьба по ней делается невозможной. Так и сегодня, должно быть, она с высоты башни или террасы приглашала нас войти, потому что говорите, что хотите, а несчастье, которое с нами случилось, совсем неестественное, и если бы вы непременно захотели продолжать путь, то вышло бы еще хуже.
– А! теперь я понимаю, почему ты нашел невозможным сопровождать нас в какое бы то ни было другое место.
– В другом месте и даже в самом городе вам бы было гораздо хуже: там не было бы так чисто, разве только ужин был бы лучше… хотя я нашел его очень хорошим!
– Да, его было совершенно достаточно, и я нисколько не огорчаюсь, что я здесь. Послушай, мне бы хотелось поскорей узнать все, что только относится к даме под покрывалом. Я думаю, что когда к ней являются без приглашения, то она не бывает этим особенно довольна?
– Она не сердится и не показывается, – ответил извозчик, – ее никто не видел, но иногда голос ее слышался, и, если она кричит вам: «Уходите!», тогда волей-неволей вы чувствуете себя обязанным повиноваться, вас что-то невольное, невидимое подвигает вперед, будто сорок пар лошадей тянут вас вон.
– Тогда и с нами может повториться то же самое, потому что она нас не приглашала.
– Извините, сударь, я уверен, что она приглашала нас, но только мы не обратили на это внимания.
Тогда Флошарде вспомнил, что маленькая Диана слышала, будто бы статуя, стоящая на террасе, звала ее.
– Говори тише, – сказал он извозчику, – этот ребенок и без того бредил о чем-то в этом роде, и мне бы не хотелось, чтобы она верила в подобные глупости.
– А! – вскричал простодушно Романеш. – И она слышала!.. Вот видите, сударь, значит это так! Дама под покрывалом обожает детей, и, когда она увидела, что вы не уверовали в ее приглашение, она перевернула карету.
– И испортила твоих лошадей? Это уж совсем не годится для такой гостеприимной особы!
– Если вам сказать истинную правду, сударь, так мои лошади не особенно расшиблись, у них только показалось немного крови, вот и все. Весь свой гнев она обратила на карету, и если нам завтра и не удастся починить ее, то мы найдем другую; вы опоздали всего на несколько часов, потому что все равно хотели провести ночь в Сен-Жан-Гардонанк. Но, может быть, вас где-нибудь ждут и вы боитесь, что будут беспокоиться, если вы не приедете в назначенный день?
– Конечно, – ответил Флошарде, который несколько боялся философской беззаботности доброго извозчика или вторичного исполнения какой-нибудь новой прихоти дамы под покрывалом.
На самом же деле Флошарде никто не ожидал в назначенный день. Жена его не знала даже, что Диана была больна в монастыре и что им придется свидеться раньше каникул.
– Однако, – сказал Флошарде Романешу, – я думаю, что нам время спать. Хочешь спать здесь? Я ничего против этого не имею, если ты найдешь только, что здесь тебе будет удобнее, чем с лошадьми?
– Благодарю, сударь, вы очень добры, – ответил Романеш, – но я только и могу спать с ними. Каждый имеет свои привычки. Вам, вероятно, не будет страшно оставаться здесь вдвоем с вашей маленькой барышней.
– Страшно? Нет, тем более что я не увижу дамы. Кстати, можешь ты мне объяснить, как же могут знать, что она под покрывалом, если никто никогда не видел ее?
– Я уж этого, сударь, не знаю; это старая история, и не я ее выдумал. Сам я верю в нее и не мучаюсь над ней, во-первых, потому что я не трус, а во-вторых – я не сделал ничего такого, что бы могло раздражить духа замка.
– Итак, добрый вечер, добрая ночь, – сказал Флошарде, – смотри, приходи завтра сюда вместе с рассветом, не опоздай; услужи нам поскорей и хорошенько, потом не пожалеешь. Оставшись один, Флошарде подошел к своей дочери и прикоснулся к ее щекам и маленьким ручкам, он был чрезвычайно удивлен и вместе с тем обрадован, найдя их свежими. Потом он пощупал ее пульс, хотя и не понимал хорошенько в детской лихорадке. Диана поцеловала его и сказала:
– Будь покоен, отец, мне очень хорошо. С моей куклой лихорадка, не тревожь ее.
Диана была кроткая и любящая девочка, никогда ни на что не жаловалась. В эту ночь вид ее был такой покойный и веселый, что даже ее отец повеселел.
«С ней тогда был припадок, – подумал он, – она бредила, когда ей казалось, что статуя говорит с ней, но пароксизм был очень короток и, кто знает, может быть, перемены воздуха было совершенно достаточно для ее выздоровления. Может быть, монастырская жизнь ей совершенно не годится, а потому я лучше сделаю, если оставлю ее с нами, моя жена, вероятно, не будет на это в претензии».
Завернувшись, насколько это было возможно, в плащ, Флошарде протянулся на ступеньках фонтана около своей дочери и не замедлил заснуть, как человек, еще молодой и здоровый, каким он и был на самом деле.
Господину Флошарде было не более сорока лет. Он был красив собой, любезен, богат, хорошо воспитан и кроме всего этого очень честный человек. Он зарабатывал много денег, делая портреты очень законченные и очень изящные, которые дамы находили постоянно похожими, потому что они всегда выходили на них приукрашенными и моложавыми. Говоря правду, все портреты его были схожи между собой. Создав для себя раз навсегда очень красивый тип, он и воспроизводил его постоянно, с небольшими изменениями, стараясь между прочим передавать как можно вернее туалет и прически своих моделей. Верная передача этих деталей составляла всю особенность изображаемых им лиц. Он с необыкновенным искусством передавал цвет платья, завиток локона, легкость ленты; некоторые из его портретов узнавались, например, по изумительному сходству подушки или попугая, поставленного подле модели. Но, несмотря на это, он все-таки был не без таланта. У него даже в своем роде было много таланта, но оригинальности гения, понимания настоящей жизни – этого нельзя было и требовать от него, впрочем, это нисколько не мешало ему иметь несомненный успех и быть предпочитаемому модной буржуазией всякому великому мастеру, который бы имел смелость воспроизвести бородавку или заметить морщинку.
После двухлетнего брака с матерью Дианы он овдовел и женился во второй раз на молодой девушке, бедной, но из хорошей семьи, которая считала его самым великим художником в мире – она не была глупа от природы. Но она была такая хорошенькая, такая хорошенькая, что у нее не хватало времени ни размышлять, ни образовывать себя. Оттого-то она и сложила с себя обязанность заниматься воспитанием дочери своего мужа. Она принудила его отдать Диану в монастырь, уверяя, что в этом возрасте и притом единственной дочери Диане будет гораздо веселее в обществе маленьких подруг, чем одной в доме отца. Она не умела ни играть с девочкой, ни занимать ее, да если бы и умела, то у нее не нашлось бы на это времени. А ей много было нужно для того, чтобы переодеваться по десять раз в день и каждый раз все изящнее и роскошнее. Флошарде был добрый отец и хороший муж. Он находил прекрасным, что госпожа Флошарде была немного легкомысленна, – ведь она, убивая целый день на наряды, делала это для того еще, чтобы нравиться ему, кроме того, она делала это еще и для того, чтобы быть ему полезной – она помогала ему изучать принадлежности дамского туалета, на который он обращал так много внимания в своей живописи.
Засыпая в бане старого жилища, Флошарде думал и о туалетах, и о красоте своей жены, и о своей больной дочери, может быть, уже выздоравливающей; он вспоминал также и о богатых заказчиках, к которым он опоздал, и о несчастье, случившемся с каретой, о странном совпадении фантастического рассказа извозчика с бредом его дочери, и, наконец, о даме под покрывалом, и о потребности крестьян верить в такие сверхъестественные вещи, которые даже не вызывают в них страх. Перебирая в уме все эти разнообразные впечатления, он заснул глубоким сном и даже немного прихрапывал.
Диана также, кажется, спала, хотя я не могу сказать положительно, потому что не знаю наверное. Говоря вам об отце и матери ее, я позволила себе это отступление, потому что не желала подвергать ваше терпение долгому испытанию, а напротив, хочу поскорее познакомить вас с теми причинами, которые сделали эту девочку почти постоянно задумчивой и мечтательной. Диана провела первые годы детства со своей кормилицей, которая боготворила ее, но которая имела привычку мало говорить; девочка должна была сама справляться, как умела, с теми идеями, которые являлись в ее неразумной головке. Следовательно, вы не должны слишком удивляться тому, что я буду вам о ней рассказывать.
Теперь я должна рассказать вам, как ум ее был возбужден и как быстро он работал в замке Пиктордю.
Услышав храпенье своего отца, она открыла глаза и посмотрела вокруг себя. В большой круглой зале было темно, но так как своды ее были не особенно высоки и повешенный на стене каретный фонарь бросал тусклый и дрожащий свет, Диана могла различать одну или двух танцовщиц, сделанных на манер древних нимф; танцовщицы эти находились прямо против нее. Танцовщица, лучше других сохранившаяся и вместе с тем более обиженная, потому что у нее от сырости совершенно пропало лицо, была большого роста женщина, одетая в зеленое платье, которое сохранило еще свою свежесть, ее обнаженные руки были отлично нарисованы, равно как и ноги. Диана во время своего слабого сна, хотя весьма неясно, но все-таки немного слышала разговор извозчика с ее отцом о даме под покрывалом. Она мало-помалу начала думать о том, что это обезглавленное туловище, может быть, имеет что-нибудь близкое с легендой замка.
«Я не понимаю, – думала она про себя, – почему мой папа называет эти вещи глупостью. Я так, напротив, совершенно уверена в том, что эта дама, когда я была на террасе, говорила со мной, я даже помню ее мягкий, милый голос. Я была бы очень довольна, если бы она снова заговорила со мной. Кроме того, если бы я не боялась обеспокоить папу, который считает меня больной, я бы пошла посмотреть, там ли еще она».
Едва успела она об этом подумать, как фонарь, висевший на стене, погас, после чего она увидела промелькнувший по комнате сильный голубоватый свет, как будто бы свет луны; в этом мягком луче света она увидела, как ее древняя танцовщица отделилась от стены и стала подходить к ней.
Не подумайте, что Диана испугалась, нет, это была прелестного вида женщина. С платья ее, грациозными складками лежавшего на ее стане, как будто бы сыпались серебряные звездочки, полы ее легкой туники поддерживались поясом с дорогими камнями, на голове было накинуто блестящее газовое покрывало, из-под которого на белые как снег плечи падали русые косы; сквозь этот газ нельзя было разглядеть ее лица, но оттуда, где должны находиться глаза, выходили два бледных луча. Обнаженные ноги ее и открытые до плеч руки были совершенством красоты. Мало-помалу эта бледная и неясная нимфа стены сделалась очень милым живым существом.
Она подошла поближе к ребенку и, не касаясь отца, лежавшего близ дочери, наклонилась ко лбу Дианы и поцеловала его. Диана слышала, но не чувствовала легкого прикосновения губ ее. Девочка обвила было ее шею руками, чтобы удержать ее и отплатить ей лаской, но обняла одну тень.
– Вы, верно, сделаны из одного тумана, – сказала она ей, – потому что я вас не чувствую? По крайней мере, поговорите со мной, чтобы я могла узнать, та ли вы дама, которая уже говорила со мной.
– Это была я, – ответила дама, – хочешь идти со мной гулять?
– Я очень хочу, но только ты должна прежде вылечить меня от лихорадки, чтобы успокоить моего отца.
– Не заботься ни о чем, когда ты со мной – тебе нечего бояться. Дай мне твою руку!
Девочка с доверчивостью протянула ей свою руку, и хотя она и не чувствовала руки феи, но ей казалось, что какая-то приятная свежесть разлилась по всему ее существу. Они вместе вышли из залы.
– Куда ты хочешь идти? – спросила дама.
– Куда тебе угодно, – ответила девочка.
– Хочешь вернуться на террасу?
– Хорошо, терраса с ее кустарниками и высокой травой, усеянной маленькими цветочками, мне очень нравится.
– Не хочешь ли ты лучше посмотреть внутренность моего замка, который еще лучше?
– Да он совсем сквозной и разрушенный!
– В этом-то ты и ошибаешься. Он кажется таким только тем, кому я не позволяю его видеть.
– А мне разве ты дозволишь его посмотреть?
– Конечно. Смотри!
Развалины, среди которых, как показалось Диане, она была уже, в один миг превратились в прелестную галерею с рельефной позолотой на потолках. Между большими окнами зажглись хрустальные люстры, а в нишах, держа факелы, встали большие фигуры прелестной работы из черного мрамора. Другие статуи, одна из бронзы, другая из белого мрамора или яшмы, роскошной скульптурной работы, некоторые позолоченные, появились на своих подножиях, а мозаичный пол с изображением цветов и птиц, чудно разбросанных, протянулся на бесконечное пространство под ногами маленькой путешественницы.
Вдали послышались звуки музыки, и Диана, которая так любила музыку, начала подпрыгивать и бегать, ожидая увидеть танцующих; она не сомневалась, что фея поведет ее на бал.
– Ты, я вижу, очень любишь танцы, – сказала ей фея.
– Нет, – отвечала она, – я никогда не училась танцевать, у меня слишком слабые ноги, но я люблю смотреть на все красивое, и мне бы хотелось увидеть вас танцующей в хороводе так, как я вас видела нарисованной на стене.
Когда они вошли в большую залу, увешанную сильно освещенными зеркалами, фея скрылась, а Диана в ту же минуту увидела в этих зеркалах целые ряды дам, одетых, как и фея, в зеленые платья и газовые покрывала; все они скользили и вились под звуки невидимого оркестра. Она с удовольствием смотрела на этот хоровод, смотрела до тех пор, пока у нее не устали глаза и ей не показалось, что она засыпает.
Но ее пробудило легкое прикосновение свежей руки феи, после чего она очутилась в другой комнате, более красивой и богатой, чем первая. Посередине этой комнаты находился золотой, очень хорошей работы стол, загроможденный до самого потолка разного рода лакомствами, необыкновенными фруктами, цветами, пирожными и конфетами.
– Возьми, что тебе нравится, – сказала фея.
– Мне ничего не хочется, – ответила Диана, – разве только немного холодной воды. Мне так жарко, как будто я танцевала.
Фея дунула на нее сквозь свое покрывало, и Диана почувствовала прохладу, и ей не хотелось уже более пить.
– Теперь тебе хорошо; так скажи мне, что ты хочешь видеть.
– Все, что ты сама пожелаешь, чтобы я видела.
– А сама ты разве не можешь решить?
– Покажи мне богов.
Фея не удивилась такой просьбе.
У Дианы была когда-то в руках старая книга о мифологии, с отвратительными рисунками, которые сначала казались ей очень хорошими и которые потом ей наскучили. Теперь, пользуясь случаем, ей хотелось посмотреть что-нибудь получше. Она была уверена, что фея может показать ей красивые картины. И действительно, фея повела ее в залу, где были картины, представлявшие мифологические божества в человеческий рост. Диана посмотрела на них сначала с удивлением, а потом, когда они задвигались, с удовольствием.
– Прикажи им подойти к нам поближе, – сказала она фее. Тогда все эти божества вышли из своих зал и начали ходить вокруг них, потом поднялись наверх, очень высоко, и стали кружиться под потолком, точно птицы, которые догоняют одна другую.
Они кружились так быстро, что Диана не могла более различать их. Ей казалось, что между ними она узнала тех, которые ей так нравились в ее книге, а именно: грациозную Гебу с кубком, гордую Юнону с павлином, миловидного Меркурия с маленькой шапочкой на голове и, наконец, Флору со всеми ее гирляндами. Это движение снова утомило ее.
– Здесь у тебя чересчур жарко, – сказала она фее, – веди меня в новый сад.
В один миг они очутились на террасе, но она не была больше той разрушенной и одичавшей террасой, по которой она так недавно проходила, направляясь к замку. Теперь это был цветник с дорожками, посыпанными песком и маленькими разноцветными камешками, имеющими вид мозаики. Вокруг были насажены цветы клумбами, которые своими рисунками, составленными из тысяч цветов, напоминали дорогой ковер. Поставленные на свои подножия статуи пели в честь луны хвалебные гимны. Диана пожелала видеть богиню, в честь которой ей было дано имя. Богиня эта не заставила себя ждать, она появилась на небе в форме серебряного облака. Она была очень, очень велика и держала в руке блестящий лук. По временам она делалась маленькой до того, что ее можно было принять за ласточку, потом она подвигалась ближе и делалась снова большой. Диана следовала за ней глазами, потом сказала фее:
– Теперь мне бы хотелось тебя поцеловать.
– Значит, ты захотела спать? – сказала фея, взяв ее снова в свои объятия. – Так спи, но когда ты проснешься, смотри, не забывай того, что я тебе показывала.
Диана крепко заснула и потом, когда она открыла глаза, увидела себя лежащей в мраморном бассейне, она держала в своей руке маленькую руку куклы. Голубоватая заря заступила место бледной луны. Господин Флошарде встал и, открыв свой дорожный несессер, начал потихонечку бриться, потому что в то время светский человек, несмотря ни на какие условия, в которых он находился, покраснел бы от стыда, если бы не брился каждое утро.
III
Маленькая Пиктордю
Диана встала, надела свои башмаки, которые она сняла, когда ложилась спать, застегнула крючки у своего платья и потом попросила у отца зеркало, чтобы немного причесаться, пока он с Романешем будет все готовить к отъезду. Флошарде, зная ее аккуратность, оставил ее одну, впрочем предупредил, что если она захочет выйти, то чтоб она смотрела себе под ноги, проходя по развалинам замка.
Диана покончила со своим туалетом, убрала все вещи в несессер и, видя, что отец не возвращается, пошла бродить по замку, думая отыскать все те прекрасные вещи, которые она видела вместе с феей во время своего ночного путешествия, но она не нашла даже и признаков того, что видела. Спиральные лестницы были изломаны, или их ступеньки вертелись на шпилях, не находя точки опоры в стенах разрушенных башен. Залы верхнего этажа обрушились друг на друга, так что нельзя было понять распределения комнат. Видно было только, что все здание было богато отделано, некоторые перегородки и стены сохраняли еще следы живописи; на мраморных обломках виднелась позолота, среди разгрома у некоторых стен еще держались великолепные камины, на полу валялись разного рода обломки: кусочки разноцветных стекол от оконных рам блестели как искорки на зелени диких растений; там и сям валялись маленькие мраморные ручки, когда-то принадлежавшие, вероятно, купидонам, или бронзовые позолоченные крылышки зефиров, отпавшие от какого-нибудь канделябра; между всем этим попадались обрывки обоев, съеденных мышами, но на которых еще можно было различить бледное лицо королевы или вазу, наполненную цветами, одним словом, здесь можно было видеть всю княжескую роскошь, превращенную в лохмотья, весь мир богатства и веселья, обратившийся в прах.
Диане казалось странным такое полное запущение замка, тем более что фасад его еще гордо поднимался около оврага. «Вероятно, – думала она, – то, что я теперь вижу, только грезы. Мне говорили, что когда со мной лихорадка, то я брежу. Вот сегодня ночью, например, со мной не было лихорадки, и тогда я видела вещи, как они должны быть. Теперь я, положим, не чувствую себя больной, но фея сказала мне, что можно видеть замок только тогда, когда она позволяет, и я должна довольствоваться и тем, каким она мне его показывает в эту минуту».
Проискав напрасно красивые комнаты, большие галереи, картины, статуи, золотой стол, заставленный конфетами, одним словом, все те чудеса, среди которых она провела ночь, Диана ушла в сад, где и нашла одну только крапиву, терновник, царский скипетр и златоцветник. Я не знаю, показалось ли ей, что растения эти были нисколько не хуже тех, которые она видела ночью, равно как и цветники, хотя они были лишены симметричных рисунков и цветных камней, остатки которых она нашла, ища землянику в траве, – одним словом, все это нравилось ей в том виде, в каком оно было теперь. Между мозаиками она подняла несколько обломков и положила их себе в карман, потом, перейдя к краю террасы, начала искать среди пустого кустарника ту статую, которая накануне говорила с ней. Диана нашла ее с теми же протянутыми руками по направлению к входу в замок, но она не говорила более. Да каким образом она могла говорить? У нее не было не только рта, но и вообще лица. У нее был цел один только затылок с небольшим кусочком драпировки, наброшенной не ее каменные волосы. Другие статуи были еще более разрушены как временем, так и камнями, которыми бросали в них для забавы глупые дети. Человек более развитой, чем Диана, понял бы, что эти статуи, стоящие среди пустынных развалин, могли пугать прохожих и что умные люди, желая сохранить их, рассказывали, а невежды верили им, что замок этот сторожит дама без лица, которая манит к себе людей, неспособных сделать вреда, и наказывает неучей, которые докончили бы это разрушение. Несколько несчастий, случившихся внизу террасы, где проезд между большой стеной и маленькой речкой был действительно очень труден, распространили всюду веру в духа, охраняющего развалины, и никто более не смел ни ломать, ни трогать их; но печальное состояние других статуй свидетельствовало о тех оскорблениях, которым они подвергались в прошлом. У всех них чего-нибудь недоставало: у иных одной или обеих рук, другие же, сбитые с подножий, лежали во всю длину в фиолетовом чертополохе или желтом диком льне.
Рассматривая с вниманием ту, которая говорила с ней, Диане показалось, что она узнала в ней портрет своей любезной феи и в то же время ту танцовщицу, которая была нарисована в зале, где она спала. Она могла воображать себе все, что хотела насчет обеих, потому что все эти божества во вкусе Возрождения и вместе с тем подражания древним имеют в формах, а также и костюмах семейное сходство; по прихоти случая, у обеих недоставало лица, а потому идея маленькой Дианы, если и не была совсем верной, то, по крайней мере, очень остроумной. Устав ходить, она пошла навстречу своему отцу и нашла его внизу террасы, торопившего починку кареты.
Романеш достал поблизости кого-то вроде каретника, доброго мужика, не слишком неловкого, но не особенно расторопного, быть может, потому, что у него не было достаточно инструментов.
– Нужно немножко потерпеть, моя маленькая барышня, – сказал ей Романеш, – я нашел для вас черный хлеб, который не очень дурен, свежие сливки и вишни. Все это я отнес в вашу большую комнату. Вернитесь-ка да покушайте, это вас немножко рассеет.
– Хотя мне совсем не скучно, – ответила Диана, – но я все-таки пойду поем. Благодарю вас за вашу заботу обо мне.
– Ну, как ты себя сегодня чувствуешь? – спросил ее отец. – Как ты провела ночь?
– Я, папа, мало спала, но мне было очень весело.
– Весело во сне! Ты хочешь, вероятно, сказать, что ты видела хороший сон? Так что же, это хороший знак! Иди, кушай.
Провожая дочь глазами, Флошарде удивлялся хорошему характеру этого бледного и слабого ребенка, которому все нравилось и который не только никого не беспокоил своей болезнью, а, напротив, при всяких обстоятельствах казался спокойным и веселым.
«Я не понимаю, – думал он, – почему моя жена непременно хотела удалить ее из дома, где она не делала никакого шума и была всем довольна. Я знаю, что моя сестра, монахиня в Визитандин-де-Ланд, очень добра к ней, но моя жена должна бы была еще более лелеять ее».
Диана вернулась в залу бань, и так как она умела читать, то заметила надпись, наполовину стертую. Эта надпись была вырезана над дверью бань. Ей удалось разобрать ее и прочесть: «Баня Дианы».
– Вот как! – сказала она сама себе, смеясь. – Значит, я у себя дома. Как бы мне хотелось выкупаться, жаль, что нет более воды и я должна довольствоваться только тем, что могу здесь завтракать и спать.
Кончив закуску, которую Романеш поставил для нее на край стены бассейна, и найдя ее превкусной, Диана захотела рисовать.
Вы, конечно легко поймете, что рисовать она не умела; отец ее никогда не давал ей уроков; он довольствовался тем, что снабжал ее карандашами и бумагой в таком количестве, какое она хотела иметь, после чего она садилась в угол его мастерской и рисовала там разные детские каракули, копируя в то же время и портреты, которые делал ее отец. Он находил рисунки ее очень странными и от души смеялся над ними, но он и не думал, что у нее есть хотя какое-нибудь призвание к живописи, а потому и решил не принуждать ее следовать его карьере.
В монастыре, где Диана провела целый год, рисованию не учили; в то время обучались искусству только тогда, когда им нужно было зарабатывать себе хлеб, а так как Флошарде был богатым человеком, то и думал сделать из своей дочери настоящую барышню или, говоря другим языком, хорошенькую особу, умеющую со вкусом одеваться и свободно болтать, не ломая себе головы над другими посторонними вещами. Диана со страстью любила живопись и никогда, видя картину, статую или образ, не проходила мимо, не сосредоточив на них все свое внимание. В церкви монастыря были кое-какие статуэтки святых, а также и незатейливая живопись, которая ей более или менее нравилась. Не знаю почему, рассматривая фрески бани Дианы в замке Пиктордю и вспоминая немного смутно все то, что она видела в продолжение ночи вместе с феей, она убедилась, что образа монастыря ничего не стоят в художественном отношении и что то, что у нее теперь перед глазами, действительно очень хорошо.
Она вспомнила, что, укладывая свой чемодан, отец ее положил в него два альбома и сказал: «Вот этот маленький назначен для тебя, Диана, если у тебя не прошла еще охота марать бумагу». Теперь она отыскала этот альбом и, очинив своим маленьким ножичком карандаш, принялась копировать нимфу в зеленом платье, которую утреннее солнце освещало своим ярким лучом; рисуя, она заметила, что эта фигура совсем не танцевала, а только величественно проходила, отмечая ритм музыки легким шагом, но не была в беспрестанном движении, как другая; ее обе ноги спокойно стояли на облаке, которое несло ее, и руки, сплетенные с руками сестер ее, тоже не делали никаких усилий, чтобы ускорить движение хоровода.
«Это, может быть, муза», – подумала Диана, которая не позабыла еще мифологии, несмотря на то что все эти басни были совершенно изгнаны из монастыря. Размышляя о мифологии, Диана продолжала рисовать; недовольная первым рисунком, она делала другой, не удавался другой – третий и так далее, пока не изрисовала до половины своего альбома. Но и после этого она не была еще довольна и продолжала бы дальше, если бы не почувствовала прикосновения чьей-то маленькой руки к своему плечу.
Быстро обернувшись, Диана увидела позади себя девочку лет десяти, очень бедно одетую, но хорошенькую и прекрасно сложенную. Девочка эта, смотря на рисунок ее, сказала ей с насмешливым видом:
– А! Да вы занимаетесь рисованием разных головок на книгах, не правда ли?
– Да, – ответила Диана, – а вы?
– Я, нет, никогда! Отец мне это запрещает, и я не порчу его книг.
– А мой отец дал мне этот альбом, чтобы занять меня, – отвечала Диана.
– В самом деле? Значит, он очень богат?
– Богат? Я, право, не знаю!
– Вы не знаете, что значит быть богатым?
– Да, не особенно много, я никогда об этом не думала.
– Потому что вы богаты, я же очень хорошо знаю, что значит быть бедным.
– Вы бедны… а у меня ничего нет, чтобы дать вам, но я попрошу у моего отца…
– А! Значит, вы меня принимаете за нищую? Вы не особенно вежливы. Вы думаете это, верно, потому, что на мне надето ситцевое платье, а на вас шелковая юбка? Так знайте же, что я стою неизмеримо выше вас. Вы ни больше ни меньше как дочь художника, а я девица Пиктордю.
– Откуда вы можете меня знать? – спросила ее Диана, нисколько не ослепленная этим отличием, в котором она ничего не понимала.
– Я сейчас только видела вашего отца, он разговаривал с моим отцом на дворе моего замка. Я знаю также, что вы провели здесь ночь; ваш отец просил у моего отца за это извинение, и мой отец как настоящий аристократ пригласил его прийти к нам в дом, который устроен лучше, чем этот покинутый замок. Я это говорю вам для того, чтобы предупредить вас, что вы сегодня обедаете с нами в нашем новом доме.
– Я буду там, где пожелает мой отец, – ответила Диана, – но мне бы хотелось знать, почему вы говорите, что этот замок покинут. Мне кажется, что он очень хорош и что вы только не знаете всего того, что в нем находится.
– В нем находятся, – сказала маленькая Пиктордю с грустным, но величественным видом, – змеи, летучие мыши и крапива. Вы над этим смеетесь. Я знаю, что мы потеряли богатства наших предков и теперь принуждены жить в деревне, как простые деревенские дворяне. Но мой отец сказал мне, что это нисколько не унижает нашего достоинства, потому что никто не в силах сделать, чтобы мы не были более настоящими Пиктордю.
Диана все менее и менее понимала язык этой барышни. Она спросила ее очень простодушно, не дочь ли она дамы под покрывалом.
Этот вопрос, no-видимому, очень раздражил молодую владетельницу замка.
– Поймите раз и навсегда, – ответила она сухо, – что дама под покрывалом не существует и что только одни невежды и дураки могут верить подобным глупостям. Я не дочь привидения – моя мать и мой отец принадлежали оба к хорошей фамилии.
Диана, чувствуя, что она слишком мало знает, чтобы отвечать, промолчала; пришедший отец сказал ей, чтобы она готовилась к отъезду. Карета была починена. Маркиз Пиктордю настаивал, чтобы художник пообедал с ними. В то время обедали в двенадцать часов. Новый дом маркиза находился у выхода оврага, на дороге де-Сен-Жан-Гордонанк. Время от времени маркиз приходил прогуливаться на развалины жилища своих предков, но в этот день он пришел совершенно случайно и, увидя Флошарде с дочерью, он отнесся любезно и гостеприимно к путешественникам, попавшим в его замок по воле случая. Флошарде сказал потихоньку Диане, чтобы она, прежде чем запереть сундук, достала бы себе из него другое платье, но Диана, несмотря на свое простодушие, имела много такта; она хорошо видела, что Бланш Пиктордю завидовала даже и простенькому дорожному платью, а потому не хотела усиливать досаду ее, переодевшись в другой лучший наряд. Она просила своего отца позволить ей остаться так, как она была; она даже сняла со своей шеи и положила наскоро в карман свою маленькую бирюзовую брошку, которая была приколота к бархотке. Когда все в карете было уложено, маркиз и его дочь, пришедшие сюда пешком, сели в нее вместе с Дианой и Флошарде и немного спустя были уже у подъезда своего нового дома. То была небольшая ферма с голубятней, носившей фамильный герб, и с господскими комнатами самого скромного вида. Маркиз был очень хороший человек, правда, весьма ограниченный и малообразованный, но зато хорошо воспитанный, очень гостеприимный и набожный; но, несмотря на все это, он не мог примириться с мыслью быть последним из сеньоров своей провинции, он, который по своему рождению считал себя выше восьми важных баронов Жеводанской провинции. Он не чувствовал злобы против кого бы то ни было и находил должным и справедливым, чтобы художник обогащался своим трудом. К Флошарде, о котором он, вероятно, слышал еще ранее, он относился с большим уважением и оказал ему радушный прием; но вместе с тем он не мог удержаться от извинений, которые он повторял на каждом шагу насчет отсутствия в его доме роскоши.
– Что делать, – прибавлял он, – в этом мире разрушения дворянство без денег не ставится ни во что. – По характеру своему он не был угрюмым, но он скучал без развлечений. Он дурно делал, что говорил таким образом о своем положении при дочери. Маленькая Бланш и без того была от природы надменной и завистливой. Характер ее и теперь уже был озлоблен, а это было очень жаль, потому что она могла бы быть очень милой девочкой, такой же счастливой, как и другие, если бы она могла примириться со своим положением. Ее отец был очень добр к ней, к тому же она имела все необходимое, ей недоставало только роскоши.
Обед был весьма хороший, его подавала и готовила здоровая крестьянка, бывшая кормилица Бланш; она была их единственной прислугой. Во время обеда разговор шел о многих вещах, которые совершенно не интересовали Диану; но когда он перешел на старый замок, который она только что оставила с живым сожалением, хотя не смела выказать его, она насторожила уши, как только могла.
Ее отец говорил маркизу:
– Я удивляюсь вам, когда вы мне жалуетесь на затруднительное положение ваших дел и на то запустение, в котором вы оставили те образцы древнего искусства, тогда как вы могли бы извлечь из них выгоду.
– Разве есть действительно в моем замке образцы древнего искусства? – спросил маркиз.
– Нет сомнения, что они были, пока не обрушились все крыши замка. Я сужу об этом по остаткам, которые, спасенные вовремя, могли бы быть отосланы в Италию, где до сих пор еще сохранился вкус к таким древностям.
– Да, – отвечал маркиз, – имей я кое-какие деньги, я бы действительно мог еще что-нибудь спасти, это я знаю; но этих-то кое-каких денег у меня и не было, сначала нужно было бы выписать мастера, который сделал бы всему оценку и выбор, а потом, считайте, укладку, перевозку, кроме того, нужно было иметь еще надежного человека, который мог бы присутствовать при перевозке. Вы понимаете, что я лично не мог исправлять ремесло купца!
– Не было у вас никого в соседстве, кто бы мог приобрести кое-какие обои и статуи?
– Никого. Богачи нашего времени пренебрегают древностью. Они следуют моде, а теперь в моде китайские вещи, вещи из раковин и напудренные пастушки; нимф и муз более не любят. Теперь нужно как можно больше напутанного, богатого, тяжелых украшений… Таково, вероятно, и ваше мнение?
– Я никогда не порицаю моды, – ответил художник, – и уже по своему положению состою ее слепым и покорнейшим слугою, но мода меняется, и кто может поручиться, что она вскоре не полюбит всего того, что относится к старому стилю времен Валуа. И если вы сохраните еще кое-какие остатки из украшений вашего замка, то поберегите их; может прийти время, когда они будут иметь свою цену.
– Я ничего не мог сохранить, – ответил маркиз, – когда я только что родился, отец мой оставил все разрушаться из гордости и злобного отчаяния и выехал из замка только тогда, когда он грозил обрушиться ему на голову. Покорившись судьбе и повинуясь воле неба, я переехал на житье в эту ферму – единственное достояние, которое у меня осталось от громадного имения.
Диана старалась понять все, что она слышала, и когда поняла, то почувствовала угрызение совести. Недолго думая, она вынула из своего кармана горсть маленьких разноцветных камешков, которые она набрала в цветнике, и, передавая их Флошарде, сказала:
– Папа, эти камешки я взяла в саду замка. Я думала, что они были совершенно обыкновенные; но раз ты сказал, что маркиз дурно сделал, что не позаботился сохранить свои вещи от уничтожения, то нужно их возвратить ему; они принадлежат маркизу, и я совсем не имела намерения отнимать их у него.
Маркиз был тронут милым поступком Дианы и, возвращая ребенку мозаики, сказал:
– Прошу вас сохранить их на память о нас. Я сожалею, моя милая, что эти стеклянные осколки и мраморные куски не имеют никакой цены. Я бы хотел предложить вам что-нибудь получше. – Диана отказывалась от игрушек, которые ей были так мило предложены.
Вынимая поспешно все, что находилось у нее в кармане, она вынула также свою маленькую бирюзовую брошку; взяв ее в руки, она пристально посмотрела сначала на своего отца, потом показала ему глазами на маленькую Бланш, которая, по-видимому, горела желанием взять брошку. Флошарде понял намерение своей дочери и, отдавая брошку маленькой Пиктордю, сказал:
– Диана просит вас принять взамен ваших хорошеньких камешков вот эти граненые для того, чтобы вы имели что-нибудь друг от друга на память.
Бланш покраснела до самых ушей. Она была слишком горда, чтобы принять так просто, но желание иметь эту хорошенькую бирюзовую вещицу заставляло биться ее сердце.
– Вы сделаете большую неприятность моей дочери, если откажетесь взять ее, – сказал Флошарде.
Бланш как-то судорожно схватила брошку и, почти что вырвав ее из рук художника, выбежала, даже не поблагодарив его, до того она боялась, что отец заставит ее отказаться, что он, вероятно бы, и сделал, если бы был уверен, что его послушают; но, зная характер своей дочери, он не хотел, чтобы его гости сделались свидетелями неприятной сцены. Он просил Флошарде извинить грубые манеры этой маленькой дикарки и сам поблагодарил его вместо нее.
По окончании обеда Флошарде, который хотел ехать остальную часть дня, простился с маркизом, приглашая его, если ему случится когда-нибудь быть на юге, не лишить его своего посещения. Маркиз поблагодарил его за те приятные минуты, которые он доставил ему своим присутствием, после чего они пожали друг другу руки. Бланш по приказанию своего отца очень неохотно и холодно поцеловала Диану. Она уже успела надеть на шею бирюзовую брошку и придерживала ее рукой, – как бы боясь, чтобы ее не взяли назад. Диана нашла Бланш очень глупой, и она ей это прощала ради доброго маркиза, который распорядился наполнить находящиеся в карете корзины самыми лучшими пирожками и фруктами, какие только у него были.
IV
Маленький Бахус
Остальная часть путешествия прошла без приключений. Когда Флошарде передавал свою дочь мачехе ее, у Дианы не было больше лихорадки, и цвет лица ее был почти так же хорош, как прежде. Флошарде сказал своей жене:
– Я привез вам ее, потому что она была больна. Мне кажется, что она теперь совершенно поправилась, хотя нужно следить, чтобы лихорадка снова не вернулась.
Диана была так рада, что она наконец среди своих родных, что несколько дней была в каком-то опьянении от радости. Госпожа Флошарде сначала была очень довольна присутствием падчерицы и занималась ей; госпоже Флошарде казалось даже, что она очень любит Диану. Она сделала ей тысячу маленьких подарков и забавлялась ей, как красивой куклой. Диана, в свою очередь, позволяла ей завивать себя, наряжать и не высказывала ни малейшего нетерпения во время, которое было посвящено туалету; но, не отдавая себе в том отчета, она сильно скучала оттого, что ей приходится тратить столько времени на свою особу; она сдерживала зевоту и бледнела, когда ей нужно было стоять перед зеркалом и примерять разные тряпки. Сама она не могла принарядиться по вкусу своей мачехи, и, когда она одевалась просто, по-своему, та кричала на нее и бранила ее, как будто она сделала какой-нибудь большой проступок. Ей хотелось чем-нибудь заняться, чему-нибудь выучиться, она задавала много вопросов, но госпожа Флошарде находила их или глупыми, или совсем неуместными и считала даже бесполезным удовлетворять любопытство насчет серьезных вещей, которые, по ее мнению, Диане совсем не нужно было знать. Диана скрывала от своей мачехи, что у нее было такое сильное желание учиться рисовать. Госпожа Лора Флошарде не могла дождаться того времени, когда муж ее составит себе состояние и в доме не будут более говорить о живописи, и она будет иметь средства сделаться важной дамой.
Диана начала серьезно скучать и жалеть о монастыре, который она совсем не любила; но там у нее были, по крайней мере, определенные часы занятий.
Она снова побледнела, сделалась вялой, лихорадка стала снова появляться через день, перед закатом солнца, и продолжалась до утра.
Тогда госпожа Лора очень обеспокоилась и стала по совету разных приезжающих модных барынь мучить Диану приемами всевозможных лекарств. Каждый день появлялись новые средства для лечения лихорадки, но так как ни одно из них не употреблялось серьезно и постоянно, то ничто и не помогало. Девочка с кротостью подчинялась всему, в то же время старалась всеми силами убедить своих родных, что она совершенно здорова.
Господин Флошарде, хотя менее волновался, но огорчался гораздо более, чем его жена. Обязанный проводить целый день за работой, по вечерам он сидел у кровати своей дочери и, слушая ее бред, боялся, чтобы она не сошла с ума.
К счастью, у Флошарде был друг, хороший старый доктор, который мог лучше понять происходящее. Он хорошо знал госпожу Флошарде и заметил ее обращение с ребенком. Однажды он сказал Флошарде:
– Нужно оставить этого ребенка в покое, выбросить все пузырьки и пилюли и давать ей только то, что прикажу я; кроме того, ей не нужно ни в чем противоречить – все привычки ее весьма разумны. Разве вы не замечаете, что праздность, на которую ее обрекают, думая, что занятия ей вредны, делает ее еще более больной. Она скучает, дайте же ей самой найти себе занятие, и когда она на чем-нибудь остановится, то не мешайте ей заниматься, а только помогайте ей. Главное, не делайте из нее куклы для примеривания платьев, это не доставляет ей никакого удовольствия, а только утомляет ее. Пусть ее стан и волосы останутся совершенно свободными, и если госпоже Флошарде неприятно видеть ее такой, то постарайтесь, чтобы она забыла о ней и занялась бы чем-нибудь другим.
Господин Флошарде понял, в чем дело, и, зная, как трудно убедить госпожу Лору, начал советовать ей рассеяться. Он уверял ее, что ребенок вовсе не болен серьезно, а потому и предложил ей снова возвратиться к своей обычной жизни визитов, прогулок, городских обедов, балов и вечеров.
Ему не стоило большого труда получить на это ее согласие. Диана сделалась свободной, и ее кормилица, назначенная ходить за ней и сопровождать ее всюду, не противоречила ей ни в чем, как это она делала и всегда.
Тогда Диана спросила снова и получила позволение быть в мастерской отца в то время, когда он работал; сидя там, в своем уголке, она смотрела то на полотно, то на модель, но не пробовала уже более рисовать каракули, вероятно, чтобы не дать повода смеяться над собой. Она поняла теперь, что живопись есть искусство и, прежде чем его узнать, нужно изучить его.
Ее желание учиться было так сильно, что оно сделалось ее постоянной мыслью, но она более не говорила о нем; она боялась, что отец скажет ей, как и в прошлый раз, что она неспособна на это, и что ее мачеха также, со своей стороны, воспротивится желанию ее.
Господин Флошарде, однако, не противоречил ей, а господин Ферон, старый доктор, советуя подмечать ее стремления, ждал, чтобы она снова выказала свою склонность делать портреты, и заранее приготовил для нее запас карандашей и бумаги. Диана не пользовалась ими, она только смотрела на произведения и картоны своего отца и мечтала. Она часто думала о замке Пиктордю, и так как при ней иногда говорили о той развалине, где господин Флошарде поневоле провел ночь, то она не смела более и думать о всем том, что фея под покрывалом показывала ей. Она сожалела, что видела ее так смутно, вероятно, вследствие своего лихорадочного состояния, и желала, если это был сон, то чтобы он снова повторился. Но нельзя грезить о том, о чем пожелаешь грезить, и муза бань Дианы не приходила звать ее.
Однажды, просматривая свои игрушки и приводя их в порядок, она нашла между ними маленькие камешки и остатки мозаики, которые она подняла в цветнике Пиктордю.
Между ними был какой-то камешек, облепленный со всех сторон песком; он был величиной с орех, она подняла его для того, чтобы сделать шарик. Но когда она в первый раз попробовала его пустить в дело и бросила оземь, она увидела, что песок отскочил от него и что он сделался настоящим мраморным шариком. Шарик этот не был совершенно круглым: он был скорее овальным, и на нем видны были впадины и выпуклости. Диана осмотрела его со всех сторон и увидела, что это была маленькая головка от статуэтки, изображавшей ребенка; головка эта показалась ей такой хорошенькой, что она не могла от нее оторвать глаз; она поворачивала ее в разные стороны, ставила то на свет, то в полусвет, думая отыскать в ней еще какую-нибудь новую красоту.
В эту минуту доктор тихо вошел в ее комнату и, увидя ее поглощенной созерцанием этой головки, спросил самым дружеским голосом:
– На что это ты смотришь с таким удивлением, моя милая Диана?
– Я не знаю, – ответила она, покраснев, – посмотрите сами, мой добрый друг, мне кажется, что это маленькая головка купидона.
– А мне кажется, что она скорее принадлежит молодому Бахусу, потому что в его волосах есть виноградная ветка; где это ты нашла ее?
– В песке и в камешках в том старом замке, о котором не далее как вчера вам говорил мой отец.
– Покажи-ка мне! – начал снова доктор, надевая свои очки. – Ну что же, это очень миленькая вещица! Она старинная.
– То есть такая, которая теперь не в моде. Мама Лора говорит, что все, что старинное, – скверно.
– Я же думаю совсем напротив, по-моему, все, что ново, то дурно.
В эту минуту вошел господин Флошарде. Он окончил сеанс портрета и, прежде чем начать другой, пришел пожать доктору руку и спросить его, как он находит девочку.
– Я ее нахожу в очень хорошем состоянии, она даже разумнее вас, потому что она восхищается этим обломком древней статуэтки, на которую вы бы, конечно, так не залюбовались.
После объяснения, каким образом эта статуэтка попала в руки Дианы, Флошарде посмотрел на нее с совершенным равнодушием и потом бросил ее на стол, сказав:
– Она нисколько не лучше других вещей того же времени, если ее только можно отнести к древнему искусству. Я не берусь судить так, как вы, который имеет какую-то манию к подобным обломкам. Я не отрицаю вашего знания и вашей учености, милый доктор, но эти обломки до того стары, до того утратили свою форму, что вы, я думаю, смотрите на них скорее глазами веры. Я, признаюсь вам, не могу так восхищаться, и все эти предполагаемые образцовые произведения греческого и римского искусства производят на меня иногда впечатление кукол Дианы, когда у них изломан нос и выломаны щеки.
– Невежда! – сказал, рассердясь, доктор. – Как вы можете делать такие сравнения!.. А! да вы просто легкомысленный артист! Вы понимаете только лишь в кружевах да муфтах, а до того, что живет, вам нет никакого дела.
Флошарде привык к вспышкам доктора, он принимал их шутя, и, когда слуга пришел известить его, что карета маркизы де Се-Пуант въехала во двор, он вышел, продолжая смеяться.
– Вы сердиты сегодня, мой добрый друг, – сказала сконфуженная Диана доктору, – мой отец хороший художник, это говорят все.
– Потому-то он и не должен говорить глупостей, – ответил доктор, все еще раздосадованный.
– То, что он говорил, была неправда, он сказал это ради шутки.
– Вероятно. Оставим это, но ты… послушай, сама ты находишь эту головку хорошенькой, не правда ли?
– О! Она мне очень нравится!
– Знаешь почему?
– Нет.
– Отгадай.
– Потому что она смеется и имеет веселый и детский вид, точно настоящий ребенок.
– Между тем это образ бога?
– Вы сами сказали, что это бог виноделия.
– Значит, это не такой ребенок, как все другие? Тот, кто его сделал, вероятно, думал, что он должен быть крепче и сильнее любого другого ребенка. Посмотри на эту связку шеи, на крепость и красоту затылка, на эти несколько грубые волосы, падающие на низкий, широкий, но вместе с тем благородной формы лоб. Но я говорю тебе слишком много – ты этого не можешь еще понять.
– Продолжайте, мой добрый друг, я, может быть, пойму!
– Напряженное внимание не утомляет тебя?
– Напротив, это дает мне отдых.
– Ну хорошо: во-первых, ты должна знать, что греческие художники обладали пониманием великого и это чувство они влагали даже в самые мелкие работы. Я не знаю, помнишь ли ты мою маленькую коллекцию статуэток?
– Разумеется, очень хорошо помню, равно как и те коллекции, еще лучшие, которые находятся в городе. Но мне никогда никто ничего не объяснял.
– Когда-нибудь ты придешь ко мне на целое утро, тогда я постараюсь объяснить тебе, каким образом самыми простыми средствами и формами, едва намеченными, эти мастера создавали все великое и прекрасное. Ты у меня увидишь также римские бюсты более близкой нам эпохи. Римляне тоже были великие артисты, хотя менее благородные, менее строгие, чем греки, но, верные правде жизни, они чувствовали ее везде, где она действительно была.
– Здесь я немного понимаю, – сказала со вздохом Диана, – и мне бы очень хотелось знать, что вы называете жизнью?
– Это очень просто. Например, как ты думаешь: твое платье, твой башмак, твой гребень – живые это предметы или нет?
– Конечно нет.
– Ну, а мой взгляд, моя улыбка, эта глубокая морщина на моем лбу, что это – мертвые?
– Конечно, нет.
– Хорошо. Поэтому, когда ты видишь изображенного на картине или в статуе человека, лицо которого не живет, то будь уверена, что они не лучше твоей куклы, и все хорошо выполненные детали его платья или его вещей не помогут сделать того, чтобы он казался живым. Вот, например, эта головка без туловища, которую ты держишь теперь в руках, она очень стара, а между тем она живет, потому что тот, кто ее высекал из мрамора, имел сильную волю и талант, чтобы заставить ее жить. Понимаешь теперь меня?
– Я думаю, что немного понимаю, но расскажите еще.
– Нет, на сегодняшний день довольно. Мы поговорим с тобой об этом в другой раз; смотри только не потеряй…
– Мою маленькую головку? О! Будьте покойны. Я ее слишком люблю. Она мне досталась от кого-то, кого я никогда не забуду.
– От кого это?
– От дамы, которая… от дамы, которую… но я… я не могу вам этого сказать!
– У тебя есть секреты?
– Да. Я не могу сказать!
– Мне, твоему старому другу?
– Вы будете надо мной смеяться?
– Клянусь, что нет.
– Вы скажете, что это была лихорадка.
– А если даже я это и скажу?
– Мне будет это неприятно.
– Тогда я не скажу. Расскажи.
И Диана передала ему все свои видения и все превращения в замке Пиктордю; доктор слушал ее весьма серьезно и не выказывал ни малейшего сомнения, напротив, своими вопросами он помогал ей привести на память все виденное, для того чтобы лучше понять ее.
Для него такое проявление лихорадки, повлиявшей на воображение ребенка, склонного к поэзии, а также и ко всему таинственному, представляло интересный случай для изучения. Он не нашел нужным разуверять Диану и оставил ее в сомнении, но он также не подтверждал, что все виденное и слышанное ей была действительность. Он сделал вид, будто он сам хорошенько не знает, был это бред лихорадки или нет, и неизвестность, в которой она осталась, доставила ей много радости. Оставляя ее, он говорил самому себе: «Многие не знают того вреда, который можно причинить детям, осмеивая наклонности и подавляя способности их. Этот ребенок рожден художником, а отец ее и не подозревает того. Но сохрани ее Бог от его уроков! Они подавят в ней всякое понимание искусства, и оно опротивеет ей». К счастью Дианы, отец ее не хотел заставлять ее работать и, видя ее такой слабенькой, решил не противоречить ей ни в чем. Не одно утро провела она у доктора, где ей несколько раз случилось видеть его древности, бюсты, медали, статуэтки, камни и гравюры. Он был большой любитель и знаток, несмотря на то что никогда не брал карандаша в руки; он старался все объяснять ей, а этого было слишком достаточно для того, чтобы Диана получила тотчас же желание копировать все, что она видела. В то время как он делал свои визиты больным, она оставалась у него и рисовала.
Я бы вас обманывала, мои милые дети, если бы говорила вам, что она хорошо рисовала. Нет, она была слишком молода, во-первых, да, кроме того, слишком предоставлена самой себе; но, несмотря на это, она уже приобрела очень многое, а именно – сознание, что рисунки ее ничего не стоят. Прежде, бывало, она довольствовалась всем, что выходило из-под карандаша ее; она смотрела глазами фантазии и совершенного невежества и часто на своих рисунках принимала уродов за красивые лица, и когда, бывало, делала шарик с четырьмя прямыми черточками, то уверяла себя, что это были баран или лошадь.
Эти легкие мечтания рассеялись скоро, и каждый раз, как она делала рисунок и доктор говорил ей: «Это недурно!», она тотчас же говорила сама себе: «Это нехорошо, я вижу, что это нехорошо».
Было время, когда она думала, что лихорадка мешала ей хорошо видеть, тогда она просила своего доброго друга доктора вылечить ее.
Мало-помалу он в этом преуспел, и тогда, чувствуя себя более крепкой и сильной, она не поторопилась, чтобы ей как можно поскорее научиться рисовать. Диана на время забыла свои карандаши и проводила все дни в прогулках по саду или по деревне в сопровождении своей кормилицы и стала отлично спать по ночам.
V
Потерянное лицо
В мае Флошарде оставили город и переселились в деревню. Диане очень нравилось там. Однажды она рвала фиалки у опушки небольшой рощи, находившейся между садом ее отца и садом соседней дамы, вдруг она услышала голоса, посмотрев сквозь ветви, она увидела свою мачеху, которая сидела в гостях у соседней дамы. На госпоже Лоре был роскошный туалет из кисеи на розовом шелковом чехле. Соседка была одета более практично для прогулки по лесу. Диана пошла было им поклониться, потом сконфузилась и остановилась.
Она совсем не была дика, но госпожа Лора сделалась к ней так холодна и так равнодушна, что она не знала, будет ли мачехе приятно, когда она к ней подойдет.
Колеблющаяся и огорченная, она вернулась назад и принялась снова рвать фиалки, впрочем, не желая совершенно уходить; она ожидала, что ее, может быть, позовут. Так как она была нагнувшись за кустарниками, то эти дамы не могли видеть ее, и Диана сделалась невольно свидетельницей того, что госпожа Лора говорила своей приятельнице.
– Я думала, что она придет вам поклониться, но вместо того она спряталась, чтобы избавиться от этого. Бедный ребенок! Она так дурно воспитывается с тех пор, как мне запретили заниматься ей. Что вы хотите, моя милая? Отец ее очень слаб и, кроме того, находится под влиянием этого неуклюжего медведя, доктора Ферона. Он решил, что девочка не должна получать никакого образования, ну, теперь вы сами видите, каковы последствия.
– Очень жаль, – говорила другая дама, – а она такая хорошенькая и у нее очень кроткий вид. Я ее часто вижу подле моего цветника, никогда она в нем ничего не трогает, и когда меня видит, то всегда очень вежливо мне кланяется. Если бы она была немножко получше одета, все было бы хорошо.
– Да как можно ее одевать? Вообразите, моя милая, этот старикашка-доктор запретил ей даже надевать корсет! Не велел носить ни одной косточки! Как же вы хотите, чтобы после этого она не сделалась горбатой.
– Она совсем не горбатая. Напротив, она очень хорошо сложена; но ее можно бы было одеть, совсем не стягивая, а только положив на ее юбочки немножко отделки.
– О! Этого она сама не хочет. Этот ребенок ненавидит туалет. Это она, верно, наследовала от своей матери, которая, как говорят, была совсем простая женщина и более занималась своей кухней, нежели тем, чтобы сделаться женщиной нарядной и хорошего тона.
– Я знала ее мать, – заметила ей соседка, – это была очень хорошая женщина, очень рассудительная и почтенная, я вас уверяю.
– А, может быть! Я это говорю так, чтобы что-нибудь сказать. Господин Флошарде имеет ее портрет, но он у него где-то запрятан, так что я его никогда не видела. Он вообще не хочет, чтобы я с ним говорила о ней, это мне, конечно, все равно! Что касается ребенка, то пусть его воспитывают как хотят, особенно когда это меня не касается; а я бы любила ее, если бы мне позволили сделать из нее миленькую девочку… но…
– Что же, она груба и беспокойна?
– Нет, моя милая, хуже этого: она просто немного идиотка.
– Бедная девочка! Разве ее ничему не учат?
– Ничему! Она не умеет даже – вообразите! – завязать ленточки и пришпилить к волосам цветок.
– Я думала, что она любит рисовать?
– Да, она это любит, но отец ее говорит, что у нее нет вкуса и она ничего не понимает в живописи, как и во всем остальном…
Диана ничего более не слыхала. Она закрыла руками уши и ушла в глубину рощи, чтобы скрыть свои слезы. Она чувствовала себя глубоко огорченной, хотя не отдавала себе отчета, почему именно: было ли тому причиной унижение, что ее считают такой глупой, или то, что отец находил ее неспособной, или наконец то, что она узнала, что ее не любят. «Но мой отец меня любит, – говорила она сама себе. – О, в этом я уверена! Если он находит меня глупой и неловкой… Это может быть, но от этого он меня не менее любит. Это только мама Лора презирает меня, и только ей нет до меня дела».
До настоящей минуты Диана делала все, что могла, чтобы любить госпожу Лору. Теперь она почувствовала, что она для нее ничто, и в первый раз подумала о своей матери, стараясь всеми силами ее припомнить, но это было невозможно; она была еще в колыбели, когда потеряла мать, и не могла чувствовать этой потери. Она очень смутно помнила также и о свадьбе своего отца с госпожой Лорой. Она в этот день в первый раз заметила грусть на лице своей кормилицы; помнила также, как много раз та, глядя на нее, говорила:
– Бедная малютка, какое это для нее несчастье.
Сначала госпожа Лора целовала Диану и кормила ее конфетами.
Тогда ребенок не обращал более внимания на печаль кормилицы. Она начала понимать ее только тогда, когда от мачехи ей приходилось выслушивать горькие слова о себе самой и о своей покойной матери, о которой никто никогда ничего не говорил и о которой она начала думать с таким страстным чувством, какое она еще никогда в жизни до сих пор не испытывала, как будто Диана сделала в самой себе открытие такого чувства, которое, казалось, было заснувшим в глубине ее сердца. Она упала на траву, повторяя дрожащим от рыдания голосом:
– Мама! Мама!
Тогда она услышала между ветвей цветущей лилии мягкий голос, который говорил ей:
– Диана, моя милая Диана, дитя мое, где ты?
– Здесь, здесь! Я здесь! – закричала Диана, убегая, точно помешанная.
Голос снова звал ее то с той, то с другой стороны.
Она бросилась на его зов, подошла к берегу большой реки, не понимая, в какой местности она находится. Она вошла в воду и увидела себя сидящей на дельфине, у которого были серебряные глаза и золотые ноздри. Она не думала более о своей матери и смотрела на сирен, которые срывали цветы на самой середине реки. Потом она вдруг очутилась на вершине горы, где стояла большая статуя из снега.
Это была кормилица, ее добрая Жоффрета, которая, поднимая ее с земли, говорила:
– Я твоя мать, приди поцелуй меня.
Но Диана не могла более двигаться, потому что она сама сделалась статуей из снега. Вдруг она разломилась на две части и покатилась на дно оврага, где снова увидела замок Пиктордю и даму под покрывалом, которая делала ей знак, чтобы она следовала за ней. Она начала было кричать: «Покажите мне мою мать!», но дама под покрывалом обратилась вдруг в облако, и Диана проснулась, почувствовав на своем лбу поцелуй.
– Я ищу вас добрых четверть часа. Не нужно так спать на траве, земля еще свежа. Вот вам полдник, за которым я только что ходила. Вставайте же, вы простудитесь, пойдемте вон туда кушать на солнышке.
Диане не хотелось есть. Она была очень взволнована своим сном и смешивала видения с тем, что было прежде с ней наяву. Первые минуты она не давала себе отчета, а потом вдруг обратилась к Жоффрете и сказала ей:
– Нуну, – так звала она свою кормилицу – скажи, где мама? Не теперешняя мать, нет, нет, не госпожа Лора, но настоящая, прежняя?
– А! Боже мой! – сказала Жоффрета совсем удивленная. – Она на небе, вы ведь это знаете!
– Да, ты мне это уже раз говорила! Но где это небо? Как туда идти?
– Разумом, мое дитя, добротой и терпением, – отвечала Жоффрета, которая была далеко неглупа, хотя мало говорила, особенно без нужды. Диана опустила голову и задумалась.
– Я знаю, – сказала она, – что я ребенок и что у меня нет еще разума.
– О! напротив, для ваших лет у вас его вполне достаточно.
– Но в мои лета бывают глупы, не правда ли, и наскучивают другим?
– Зачем вы это говорите? Разве я скучаю с вами? Разве ваш отец не ласкает вас и доктор не любит?
– Но госпожа Лора?
И так как Жоффрета не любила лгать, то ничего ей и не ответила на это. Диана же прибавила:
– О, я отлично знаю, что она меня не любит. Скажи мне, моя мать любила меня?
– Конечно, она обожала вас, хотя вы были совсем крошечкой.
– А теперь, если бы она меня увидела, то, как ты думаешь, полюбила ли бы она меня больше или меньше?
– Матери любят своих детей всегда одинаково, сколько бы им лет ни было.
– Тогда это мое несчастье, что у меня нет более матери?
– Этому несчастью вы должны помочь, стараясь быть доброй и умной, такой, какой вы были бы, если бы она постоянно вас видела.
– Но она ведь меня не видит?
– Да я этого и не говорю! Я ничего не знаю, но я также не могу сказать, что она вас не видит.
Кормилица должна была отвечать таким образом потому, что девочка имела богатое воображение и глубокие чувства. Поцеловав кормилицу, Диана задала ей еще тысячу вопросов о своей матери.
– Дитя мое, – сказала Жоффрета, – вы от меня многого требуете. Я знала вашу маму очень недолго, для меня она была самым лучшим, самым прекрасным существом на свете, я много оплакивала ее и плачу о ней до сих пор, когда вижу ее во сне. А потому прошу вас, не говорите мне много о ней, если вы не хотите сделать мне неприятность.
Она сказала это для того, чтобы успокоить Диану, которая была очень взволнована. Хотя Жоффрете и удалось развлечь Диану, но вечером с ней опять был легкий припадок лихорадки и в продолжение целой ночи она видела смутные и тяжелые сны. К утру она успокоилась, открыла глаза и увидела, что день начинал заниматься. От голубой занавески окна комната ее казалась совершенно голубой, и она не могла сначала ничего разглядеть; мало-помалу она начала яснее видеть, видеть настолько, что могла четко различить фигуру, стоящую у постели ее.
– Это ты, Нуну? – сказала она, но фигура ничего не отвечала, и Диана услышала, что Жоффрета, лежа в своей постели, немного кашляла. Кто была эта фигура, которая, казалось, как будто охраняла Диану?
– Это вы, мама Лора? – спросила Диана, забывая ее недавние слова и готовая снова любить ее. Фигура не отвечала, как и прежде. Всматриваясь пристальнее, Диана увидела, что лицо ее было под покрывалом.
– А! – сказала она с радостью. – Я узнаю вас! Вы моя добрая фея, которая пришла оттуда. Так вот вы, наконец! Вы, может быть, пришли, чтоб сделаться моей матерью?
– Да, – ответила дама под покрывалом приятным голосом, который звенел, как звук хрусталя.
– И вы будете меня любить?
– Да, если ты сама меня полюбишь.
– О! Конечно, я хочу вас любить!
– Хочешь идти со мной гулять?
– Конечно, сейчас, только я слаба!
– Я понесу тебя.
– Да, да! Идем!
– Что бы тебе хотелось видеть?
– Мою мать.
– Твоя мать – я!
– Правда? О! Тогда снимите ваше покрывало, чтобы я могла видеть ваше лицо.
– Ты хорошо знаешь, что у меня его более нет!
– Увы, значит, я его более не увижу?
– Это зависит от тебя, ты его увидишь в тот самый день, когда ты мне возвратишь его.
– Ах! Боже мой, что это значит? И как я это сделаю?
– Нужно, чтобы ты его нашла; пойдем со мной, я научу тебя многим вещам.
Дама под покрывалом взяла Диану в свои объятия и понесла.
Я не сумею вам сказать, куда именно, – сама Диана не могла об этом вспомнить. Но кажется, что она видела много-много прекрасного, потому что, когда Жоффрета пришла будить ее, она оттолкнула ее рукой и повернулась на другую сторону, чтобы снова продолжать спать и снова грезить; но сон ее переменился. Дама под покрывалом превратилась в доктора, который говорил ей:
– Что мне за дело, любит тебя госпожа Лора или не любит. У нас есть другое дело получше, о котором мы должны заботиться, чем думать о ней!
Потом Диане показалось, что ее постель покрыта картинами, которые были одна другой лучше, и каждый раз, как она видела лицо феи и музы, то она говорила: «А, вот моя мать, я уверена!» Но лицо тотчас же изменялось, и она не могла найти того, которое искала и хотела узнать.
Около девяти часов доктор, предупрежденный Жоффретой, вошел к Диане вместе с ее отцом. У ребенка не было более лихорадки; кризис прошел.
За ней ухаживали целый день и следующую ночь. Через два дня она была совершенно спокойна и по приказанию доктора начала гулять и снова вести беззаботную жизнь.
VI
Отыскиваемое лицо
В один прекрасный день этого года доктор, который следил за всеми, заметил перемену в семействе. Лора не могла скрыть желания снова отдать Диану в монастырь, не потому, чтобы она ненавидела ее: Лора не была зла, она была лишь тщеславна и считала Диану глупой, потому что сама была глупа. Она огорчалась тем, что не может управлять ею, что не может сделать ее своей игрушкой. Она беспрестанно твердила мужу о праздной жизни этого ребенка. Она убеждала его изменить ее рассеянную и бесполезную жизнь. Флошарде не знал, что и думать: он колебался между нападками жены и советами доктора. Он смотрел на дочь с сомнением, с тревогой, спрашивая себя, развита ли она не по летам, как утверждал Ферон, или же она дика и неразвита, как напевала Лора, наконец, не лучше ли, для ее же пользы, снова вверить ее попечениям его сестры, монахини в Манде. Со своей стороны Диана, по выздоровлении, успокоенная разумными речами Жоффреты и по природному добродушию, не волновалась более из-за холодных и язвительных придирок своей мачехи, но она уже не любила ее и не искала ее любви. Она относилась вполне равнодушно к этой прекрасной даме. Диана думала совсем о другом.
Желание учиться снова начало томить ее, она хотела изучать уже не только живопись, но и историю искусства, которой объяснения доктора придали интерес и важность. Ее тревожили вопросы о причине и начале всех вещей. «Слишком рано, – говорил доктор, – в твоем возрасте лучше не знать человеческого безумия». Но насколько невозможно излагать историю какого бы то ни было искусства, не касаясь при этом причин его упадка и развития, настолько невозможно это и в общей истории рода человеческого, и он невольно вовлекал ее в действительное изучение этих причин. Она слушала его с такой жадностью, что он сожалел о невозможности заняться с ней подолее, тем более что у Дианы не было никаких серьезных понятий. Флошарде готов был взять для нее гувернантку, но легко было предвидеть, что ни одна не покажется сносной Лоре.
Тогда доктор сделал решительный шаг.
– Отдайте мне вашу дочь и ее кормилицу, – предложил он художнику.
– Вы шутите? – вскричал Флошарде. – Отдать мою дочь?
– Да, отдать, но не покинуть ее, так как мы живем бок о бок, как в городе, так и в деревне. Она будет приходить к вам ночевать, если вы хотите, но будет оставаться у меня с утра до вечера; я буду учить и воспитывать ее по-своему.
– Но у вас нет времени, – сказал Флошарде.
– Я найду его. Я уже стар и довольно богат, я имею право располагать собой и передать моих пациентов моему племяннику, который заканчивает свое образование. Он очень способный. Я воспитал его как сына, но я всегда желал иметь дочь и разделить мое состояние между двумя детьми различных полов. Итак, дело слажено?
Последний довод доктора был очень силен. Флошарде не считал себя вправе отказаться от такого прекрасного будущего для своей дочери, тем более что, судя по образу жизни Лоры, он боялся, что его собственное состояние не сегодня завтра расстроится. Чтобы удовлетворять свою страсть к роскоши, она наделала долгов, которые он не осмелился не признать.
Он уступил, и Лора осталась вполне довольна. Она считала даже более удобным, чтобы девочка с Жоффретой совершенно поселилась у доктора. Флошарде опять уступил, и Диана была помещена в хорошенькой маленькой комнатке, бок о бок с Жоффретой. Доктор сдержал свое слово. Он почти оставил свою деятельность, но, будучи признан великим врачом, он не мог не посвящать для консультаций по два часа в день, во время отдыха своей воспитанницы; Диана проводила эти два часа у своего отца.
Вечером приходил Марселей, племянник и преемник Ферона, советовался с ним насчет серьезных или интересных случаев, почтительно принимая его замечания. Потом, если у него было время, он играл и болтал с Дианой, к которой относился как к младшей сестре, потому что Марселей был добрый малый, хорошо воспитанный и неспособный чувствовать зависть; он обладал большими знаниями и практикой, которыми был обязан дяде. Наследник с таким характером!.. Вы видите, дети, что чудесное есть в природе и, если таких наследников и немного, все же они есть, и я их знаю.
Диана была очень счастлива, очень прилежна и совершенно здорова… Она, казалось, немного забыла свою страсть к рисованию. Можно было сказать, что она, несмотря на свой возраст, понимала, что в развитии состоит все и что не знать чего-нибудь, – значит ничего не знать.
Когда Диана стала большой особой двенадцати лет, она была еще прелестное дитя, простое, живое и доброе во всем, никогда не замеченное в тщеславии, несмотря на то что она была очень основательно образована для своего возраста и ее ум имел пылкие и серьезные стороны, хотя их и не замечали. Она нарисовала очень изящную картину, над которой она работала, присматриваясь к приемам своего отца, но не показывала ее никому, потому что однажды доктор сказал, что картина очень хороша, а Флошарде возразил, что она очень плоха. Диана понимала, что доктор хотя и был хорошим критиком, но ничего не смыслил в исполнении. Он развивал в ней любовь к прекрасному, но не мог дать ей способности воспроизвести его. Она чувствовала, что отец ее имел систему совершенно противоположную теориям доктора, что он никогда не относился хорошо к тому, что не подходило под его вкус, и что он вследствие этого, сам того не сознавая, мог быть несправедливым.
Но могла ли Диана сама это знать? Вот о чем она спрашивала себя с тревогой. Что должна была она думать о таланте своего отца, который доктор критиковал с таким очевидным постоянством? Что она должна была думать о критике доктора, который не умел держать карандаш, не мог провести линию? Эта задача тревожила ее так сильно, что она опять слегка заболела. Она быстро выросла, но не очень похудела и не ослабла. Доктор заботился о ней без особенного беспокойства, но старался угадать ту нравственную причину, которая снова вызвала эти легкие приступы лихорадки. Жоффрета доверила ему, что, по ее мнению, Диана слишком много рисует. Не желая, чтобы ее видели за работой, она вставала рано утром, и кормилица замечала, что она, работая, то краснела и казалась обезумевшей от радости, то бледнела, с глазами полными слез, и приходила в уныние.
Доктор решился добиться признания от своей возлюбленной приемной дочери, и, несмотря на желание молчать, она не могла противостоять его нежным вопросам.
– Ну, хорошо, сказала она, я признаюсь. Меня мучит одна мысль. Мне нужно найти лицо, а я не нахожу его.
– Какое лицо? Все дама в покрывале? Неужели эта фантазия ребенка возвратилась к такой большой и умной девочке?
– Увы, мой друг, эта фантазия меня никогда не покидала с тех пор, как женщина в покрывале сказала мне: «Я твоя мать, и ты увидишь мое лицо, когда ты мне возвратишь его». Я не поняла этого тогда, но мало-помалу догадалась, что мне нужно найти и нарисовать это лицо, которого я никогда не видела: это лицо моей матери; его-то я и ищу. Мне говорили о ней, что она была так прекрасна! Я, может быть, не в силах буду сделать что-нибудь подобное, не имея большого таланта; я хочу его иметь, но его нет. Я недовольна собой, я разрываю или пачкаю все, что ни сделаю. Все мои лица выходят безобразными или незначительными. Я смотрю, как мой отец украшает свои модели, потому что он умеет их украшать. Я вижу теперь и знаю очень хорошо, что от этого зависит его успех. Вот до чего я дошла! Когда я смотрю на эти модели, которые, конечно, не всегда прекрасны, – ведь к нему приходят позировать также дамы довольно увядшие и господа довольно безобразные, – то нахожу наиболее безобразных все-таки сноснее тех условных фигур, которые изображает мой отец. Они, по крайней мере, были самими собой, эти лица, которые позировали перед отцом, в них было что-нибудь оригинальное, а это именно папа и считает своей обязанностью отнять у них, и они довольны, что он отнимает это у них. В моей голове все недостатки их отражаются так, как они есть, и я хорошо знаю, что если я буду рисовать, то буду поступать совершенно иначе, нежели папа. Это-то меня и тревожит и печалит, потому что у него несомненный талант, а у меня его нет.
– У него есть талант, у тебя нет его, это верно, – возразил доктор, – но он у тебя будет, ты слишком о нем тревожишься, а это знак, что он придет к тебе, и когда он у тебя будет, – я не хочу сказать, что твой талант будет больше, чем его, я ничего не знаю, – это будет совершенно другой род таланта, потому что ты смотришь другими глазами. Отец не может ничему научить тебя; ты сама должна найти свой талант, а для этого нужно время. Ты слишком торопишься и этим рискуешь многое потерять; ты схватываешь лихорадку и, конечно, ничего не сделаешь, если не будет здоровья. Что же касается лица, которое ты отыскиваешь, то ты можешь, если это тебе необходимо, узнать даму под покрывалом, которая тебя так волнует; у твоего отца есть очень хорошая и похожая миниатюра твоей матери; не он делал этот портрет, и он не любит его, потому что он сделан не в его духе. Он не показывает его никому и утверждает, что это совершенно не она; я же говорю, что это именно она, и могу попросить его показать тебе этот портрет.
В эту минуту Диана только и желала видеть черты своей матери. Она живо поблагодарила доктора и, тронутая и обрадованная, приняла предложение его. Ферон обещал ей, что она увидит эту миниатюру завтра же, и взял с нее слово до тех пор успокоиться и работать с меньшим жаром и большим терпением.
– Меньше чем через десять лет нельзя узнать, что ты можешь сделать. Тебе нужно видеть образцы великих мастеров. Мы предпримем путешествие, когда ты будешь в таком возрасте, что оно принесет тебе пользу; путешествие, в продолжение которого ты будешь брать уроки у какого-нибудь хорошего живописца, потому что здесь, на глазах отца, нас будут порицать за это. Его считают первым живописцем в свете, и ему самому, может быть, было бы больно видеть тебя у постороннего учителя.
– О, это невозможно! Я это понимаю! – вскричала Диана. – Я потерплю, мой добрый друг, я обещаю быть рассудительной.
Диана, насколько могла, сдержала свое слово. Но лишь только она заснула, она опять увидела даму в покрывале, которая звала ее в замок Пиктордю. Едва прибыли они туда, как явилась высокая девушка, стройная и красивая, которая умоляла их уйти как можно скорее, потому что замок должен разрушиться. Диана знала, что эта молодая особа была не кем иным, как Бланш де Пиктордю, и, когда она назвала ее по имени, та отвечала ей:
– Вам нетрудно меня узнать, потому что вы видите на моей шее бирюзовую брошку, которую вы мне дали. Без этого вы не узнали бы меня, потому что у вас нет памяти и вы недостаточно искусны, чтобы нарисовать меня. Удалитесь отсюда. Замок гнил и ветх. Он не может противиться бурям и клонится к разрушению.
Диана испугалась, но дама в покрывале, отстранив Бланш рукой, вошла в галерею и сделала Диане знак следовать за собой. Диана повиновалась, и замок обрушился на них, но не причинил им ни малейшего вреда, точно падал маленький снежок; земля покрылась камеями, одна другой лучше, падавшими с облаков.
– Скорей, поищем мое изображение! – сказала дама в покрывале. – Оно должно быть, как тебе известно, здесь, между ними. Если же ты не найдешь его, тем хуже для тебя: ты меня никогда не увидишь. – Диана долго искала, поднимая камеи, одни углубленные, вырезанные в твердом камне, другие выпуклые, на раковинах. На одних были фигуры во весь рост, в высшей степени изящные, на других – нежные или строгие профили; некоторые, как древние маски, выражали гримасы; большая часть имела суровое или меланхолическое выражение, и все были превосходной работы, которой она могла только удивляться. Но фея торопила ее.
– Скорее, скорее, – говорила она, – не увлекайся рассматриванием всего этого, меня, только меня ты должна найти.
Тогда Диана подняла просвечивающий сердолик, на белом матовом фоне которого был вырезан профиль неподражаемой красоты, с волосами, откинутыми назад, с лентой и звездой во лбу. Сначала эта маленькая головка показалась ей величиной с камень перстня, но, по мере того как Диана всматривалась в нее, она росла и скоро заняла всю ее ладонь.
– Наконец! – вскричала фея. – Вот я! Это я, твоя муза, твоя мать, и ты увидишь, что я не обманываю тебя.
Она откинула свое покрывало, приколотое сзади, но Диана не могла увидеть ее лица, потому что видение исчезло, и она проснулась в отчаянии. Однако видение было так живо, так поразительно, что она не вдруг собралась с мыслями и даже сжала руку, думая найти в ней драгоценную камею, которая, по крайней мере, сохранила бы ей так пламенно отыскиваемый дорогой образ. Увы, эта мечта продолжалась не более мгновения. Ее рука была сжата, а когда она открыла ее, в ней не было ничего, ровно ничего.
Когда она встала, доктор вошел к ней, держа сафьяновый ящичек с золотыми застежками, который он открыл, думая обрадовать ее. Но она вскричала, отталкивая его:
– Нет, нет, мой добрый друг! Я не должна еще видеть ее! Она этого не хочет. Надо, чтобы я сама нашла ее, иначе она покинет меня навсегда!
– Как хочешь, – отвечал доктор. – Я не всегда понимаю твои мысли, но не хочу им противоречить. Оставляю тебе этот медальон. Он твой! Твой отец дарит его тебе, и ты его посмотришь, когда фея, которая разговаривает с тобой во сне, позволит тебе это или когда ты перестанешь думать о феях, что будет скоро; теперь ты еще в том возрасте, когда предпочитают грезы действительности, и я не беспокоюсь за твой рассудок.
Диана поблагодарила Ферона за добрые слова и за подарок, который он выпросил для нее. Она поцеловала медальон, не открывая его, бережно спрятала в свое маленькое бюро и поклялась самой себе ждать позволения таинственной музы и сдержала свое слово. Она сопротивлялась желанию увидеть дорогое лицо и снова принялась писать его своим карандашом. Она не забыла и слова, данного своему другу, и работала с большим терпением, не стремилась более к мгновенному успеху и прилежно копировала образцы, не надеясь уже в один день создать что-нибудь великое. Странная идея поддерживала ее терпение: она старалась припомнить прекрасный профиль, который видела и осязала в своем сне. Он всегда был перед глазами ее и всегда один и тот же. Но она избегала думать о нем слишком долго и слишком часто, потому что тогда он казался ей дрожащим и угрожал исчезнуть.
VII
Найденное лицо
Диана продолжала учиться и была очень счастлива, но однажды – ей было тогда около пятнадцати лет – она нашла своего отца печальным и изменившимся.
– Ты болен, мой дорогой отец? – спросила она, обнимая его. – Твое лицо изменилось!
– Э! – отвечал Флошарде несколько резко. – Разве ты что-нибудь смыслишь в лицах?
– Я стараюсь, папа, я делаю, что могу, – отвечала Диана, которая видела в словах отца насмешку над ее несчастной страстью к искусству.
– Ты делаешь, что можешь! – сказал Флошарде, взглянув на нее печально. – Зачем забрала ты себе в голову глупую идею быть художницей? Ты не имеешь к этому нужды, ты, которая нашла себе второго отца, более умного и более счастливого, чем первый. Ты хочешь узнать тревоги труда, когда можешь избегнуть их, зачем? Для какой цели?
– Я не могу ответить тебе, милый папа. Это делается против моей воли, но если тебе не нравятся мои попытки, я откажусь от них, как бы мне это тяжело ни было.
– Нет, нет! занимайся, делай, что хочешь, стремись к невозможному; это счастье молодости. Со временем ты узнаешь, что талант не спасает от злого рока и несчастия!
– Боже мой, ты несчастлив! – вскричала Диана, бросаясь в его объятия. – Возможно ли это? Как? Почему? Ты должен мне это сказать. Я не хочу быть счастливой, когда ты несчастлив.
– Не пугайся, – отвечал Флошарде, обнимая ее с нежностью. – Я сказал это, чтобы испытать тебя. У меня нет никакого горя, но я думал, что ты меня не любишь более, потому что… потому что я пренебрегал твоим воспитанием и вверил его другому. Ты, может быть, думаешь, что я был легкомысленным, равнодушным отцом, поступал, как ребенок.
– Нет, нет, мой отец, я тебя обожаю и никогда не думала этого. Зачем буду я так думать, боже мой?
– Да потому, что я много раз думал то же самое. Я упрекал себя. Теперь я утешаюсь при мысли, что, если мне придется испытать несчастье, ты от этого не пострадаешь.
Диана пробовала еще расспрашивать отца; он отклонил разговор и возвратился к своей работе.
Но он был беспокоен и нетерпелив и недоволен тем, что делал. Вдруг он бросил свою кисть и сказал с досадой:
– Дело не пойдет сегодня, я испачкал полотно и чуть не разорвал его. Пойдем, прогуляемся вместе.
Когда они были готовы уйти, вошла Лора, разряженная как всегда, но тоже с расстроенным лицом.
– Как! – обратилась она к мужу. – Вы уходите, тогда как вы должны отдать этот портрет сегодня вечером.
– А если я отдам его завтра? – отвечал Флошарде сухо. – Разве я раб моих заказчиков?
– Нет, но… необходимо получить за него деньги сегодня же вечером, потому что завтра утром…
– Ах да! Ваша портниха, ваши поставщики тканей… Они потеряли терпение, я знаю, и если я их не удовлетворю, выйдет новый скандал.
Диана, изумленная и испуганная, широко раскрыла глаза, поразившие госпожу Лору.
– Милое дитя, – сказала она ей, – вы слишком часто беспокоите вашего отца, вы мешаете ему работать, а сегодня ему особенно нужно работать. Оставьте его в покое.
– Вы меня гоните? – вскричала Диана с изумлением и ужасом.
– Никогда! – воскликнул Флошарде, насильно посадив ее подле себя. – Останься! Ты-то никогда мне не мешаешь.
– Так, стало быть, я мешаю! – отвечала госпожа Лора. – Я понимаю это и знаю, что мне делать.
– Делайте, что вам угодно, – возразил Флошарде ледяным тоном.
Она вышла, а Диана залилась слезами.
– Что с тобой? – сказал ей отец, пытаясь улыбнуться. – Что тебе до того, что я по временам ссорюсь с Лорой? Она не мать тебе, и не безумно же ты ее любишь?
– Ты несчастлив, – отвечала Диана, рыдая. – Мой отец несчастлив, и я не знала этого.
– Нет, – сказал он, принимая свой обычный легкий тон. – Это не несчастье, а неприятность. Правда, я не имею достаточно средств, но я приобрету их. Я буду работать больше, вот и все. Я думал получить возможность отдохнуть и заработать хорошенькое именьице ценой около двухсот тысяч франков. В провинции это приятное удобство, но надо тебе сказать, – потому что ты все равно узнаешь это не сегодня завтра, – мы жили слишком широко; я имел глупость делать постройки; сметы были ужасно высокими – словом, нужно их перепродать, и с убытком, потому что кредиторы преследуют меня. Поэтому ты не удивишься, если услышишь, что я разорен. Ты не очень беспокойся: люди всегда преувеличивают. Я продам, что имею, и мои долги будут уплачены, моя честь незапятнанна. Ты не будешь краснеть за своего отца. Будь покойна! Я все поправлю. Я еще молод и силен; я буду брать несколько дороже за работу; нужно только, чтоб заказчики согласились на это. Со временем я надеюсь скопить еще более, чтобы дать тебе достаточное приданое, если только ты не очень спешишь замуж; в таком случае доктор даст задаток.
– Ах, не говори обо мне! – вскричала Диана. – Я никогда не думала о замужестве, и меня никогда не занимало, что предстоит мне в будущем. Будем говорить о тебе одном. Неужели этот прекрасный городской дом, который ты так любишь, который ты так хорошо устроил и к которому ты так привык, будет продан? Нет, это невозможно! Где же ты будешь работать? И твой дом в деревне также будет продан?.. Где же ты тогда будешь жить?
Флошарде, видя, что Диана взволновалась из-за него более, чем он бы хотел, старался успокоить ее, говоря, что, может быть, добьется новой отсрочки. Ее беспокоила чрезмерная работа, которую он брал на себя. Она боялась, чтоб он не заболел. Притворясь успокоенной, чтоб доставить ему удовольствие, она, совсем убитая, возвратилась вечером домой, скрывая слезы. Она не осмелилась открыть доктору свое горе, опасаясь услышать от него порицание и осуждение своего отца. Она сыграла в шахматы со своим старым другом и удалилась в свою комнату поплакать на свободе.
Она мало спала и не видела снов. Утром, как всегда, принялась за работу, стараясь развлечься, но постоянно возвращалась к одной тяжелой мысли, что Лора уморит ее отца усиленной работой и что, если бы ее бедная мать была жива, Флошарде был бы всегда умерен и счастлив. Она впервые так оплакивала в сердце свою мать, потому что прежде, сожалея о ней, она никогда не думала таким образом; теперь она сожалела о счастии, которое мать ее могла дать ее отцу и которое она унесла с собой.
Она рисовала машинально, не думая, что делали ее руки.
Из глубины души призывая свою мать, она говорила ей: «Где ты? Видишь ли ты, что происходит? Разве не можешь ты сказать мне, что делать, чтобы спасти и утешить того, кого другая разоряет и делает несчастным?»
Вдруг она почувствовала горячее дыхание на своих волосах, и голос тихий, как утренний ветерок, прошептал над ее ухом: «Я здесь, ты нашла меня».
Диана вздрогнула и обернулась: позади ее никого не было. В комнате ничто не двигалось, кроме теней на белом еловом полу от колеблемых ветерком листьев липы. Она взглянула на бумагу: там был легко очерченный ею силуэт; она обозначила его более, дорисовала лицо, не придавая ему важности. Потом она сделала на этой голове прическу, нарисовала ленту и звезду, вспоминая о великолепной камее, виденной ею во сне, и равнодушно смотрела на свой рисунок, когда Жоффрета пришла прибрать в комнате.
– Ну, дитя мое, – сказала добрая женщина, подходя к ней, – довольны вы сегодня вашей работой?
– Не более, чем всегда, моя милая Жоффрета. Я даже хорошенько не знаю, что нарисовала… Но что с тобой? ты бледна, на глазах слезы?
– Ах! Господи Боже! – вскричала Жоффрета. – Возможно ли? Неужели это вы рисовали? Стало быть, вы смотрели на портрет? Вы срисовали его?
– Какой портрет? Я ничего не срисовывала.
– Тогда… тогда… это призрак, чудо! Доктор, подите, посмотрите, подите, подите, посмотрите! Что вы на это скажете?
– Что? Что там такое? – сказал доктор, искавший Диану, чтобы завтракать. – Почему Жоффрета кричит о чуде?
И, взглянув на рисунок Дианы, прибавил: «Она срисовала медальон! Но это очень хорошо, моя дочь! Знаешь ли ты, что это очень хорошо! Это удивительно! Поразительное сходство! Бедная молодая женщина! Мне кажется, что я вижу ее. Вперед, дочь моя! Мужайся! Ты будешь делать лучшие портреты, чем твой отец: этот прекрасен, он как живой».
Диана с изумлением посмотрела на свой рисунок и нашла в нем верное изображение камеи своего сна, образ которой запечатлелся в памяти ее; но это, как и то сходство, которое находили Жоффрета и доктор, было без сомнения плодом фантазии. Она не хотела говорить им, что никогда не открывала медальона: она боялась, чтоб они не открыли его, а она еще не считала себя достойной этой награды.
За завтраком она, однако, спросила у своего доброго друга, уверен ли он, что портрет ее матери действительно похож.
– Как же бы иначе я узнал его? Ты хорошо знаешь, что я не говорю для угождения тебе. Жоффрета, – прибавил он, – принеси этот рисунок. Я хочу его видеть.
Жоффрета исполнила приказание, и доктор пристально вглядывался в рисунок, прихлебывая свой кофе. Он не говорил более ничего, совершенно углубившись в созерцание, а Диана с тоской спрашивала себя: «Что, если первое впечатление не возвратится к нему!» В эту минуту доложили о господине Флошарде, который иногда приходил к доктору пить кофе.
– Что это вы рассматриваете? – спросил он Ферона, поцеловав дочь.
– Посмотрите-ка, – отвечал доктор.
Флошарде нагнулся над рисунком и побледнел.
– Это она, – сказал он в волнении. – Да, это милое и доброе создание, о котором, хотя я этого и никому не высказываю, но думаю постоянно и теперь более, чем когда-либо. А кто делал этот портрет, доктор? Это копия с медальона, что я дал вам для Дианы; только это бесконечно более прочувствовано и лучше исполнено. Черты здесь более благородны и более верны. Это замечательная вещь, и у меня нет ни одного ученика, способного сделать так. Скажите же, скажите, кто это делал?
– Это… это… – сказал с лукавой запинкой доктор, – маленький воспитанник… мой воспитанник, не во гнев вам будет сказано!
Флошарде взглянул на дочь, которая отвернулась к окну, чтобы скрыть свое волнение, потом обернулся к доктору с вопросом на лице. Он понял и с величайшим изумлением перевел глаза на рисунок, отыскивая, нельзя ли к чему придраться, и ничего не находя, потому что был в том состоянии духа, когда люди менее уверены в себе и более склонны признавать, что даже в самых очевидных вещах можно ошибаться.
Диана не смела обернуться, она боялась думать, она наклонилась над окном, чтобы скрыть свое смущение, не обращая внимания на солнце, которое ударяло ей в голову и резало своими яркими лучами ей глаза. В этом забытьи она увидела высокую белую фигуру чудной красоты, зеленоватое платье которой блестело, как изумрудная пыль. То была муза ее грез, то была добрая фея, дама в покрывале; но на лице ее более не было покрывала, оно развевалось около нее, как золотое сияние, и ее прекрасное лицо, лицо камеи, виденной ею во сне, было совершенно такое, какое Диана нарисовала и которое Флошарде рассматривал на бумаге с удивлением, смешанным с некоторым ужасом.
Диана протянула руки к этому лучезарному образу, который улыбался ей и радостно говорил, исчезая: «Ты опять увидишь меня».
Диана, пораженная и восхищенная, упала на стул в углублении окна, у нее вырвался крик радости. Флошарде и доктор бросились к ней, думая, что ей дурно, но она успокоила их и, не говоря им про свое видение, спросила у отца, действительно ли он доволен ее работой.
– Я не только доволен, – отвечал он, – я восхищен и растроган. Я порадую тебя, дитя мое: в тебе есть священный огонь и притом знание живописи не по летам. Продолжай, не утомляя себя, работай, надейся, но чаще сомневайся в себе: это очень полезно, а я, я не сомневаюсь более, я совершенно счастлив!
Они обнялись, рыдая. Потом Флошарде попросил свою дочь оставить их с доктором наедине, поговорить о делах. Она удалилась в свою комнату, где была одна, потому что Жоффрета завтракала. Диана подбежала к своему бюро, вынула сафьянный ящик, который она перевязала черной атласной лентой, чтобы избежать искушения открыть его слишком рано. Она, наконец, открыла его, стала на колени на подушку и поцеловала медальон, прежде чем взглянуть на него, потом закрыла глаза, чтобы представить себе идеальный образ, который обещал ей снова явиться. Она увидела его совершенно ясно и, уверенная в позволении его, наконец взглянула на портрет. Это было то же лицо, которое она нарисовала, это была муза, камея, мечта, и все-таки это была ее мать. Это была действительность, отысканная поэзией, чувством и воображением.
Диана не спрашивала себя, каким чудом это сделалось. Она приняла дело так, как оно было, и не старалась потом объяснить его рассудком. Я думаю, что она была совершенно права. В молодости лучше верить в божественных друзей, чем слишком верить в самого себя.
VIII
Перемена
Я не буду рассказывать день за день два следующих года, прожитых Дианой. Она продолжала работать скромно и мужественно, часто с почтительной нежностью прося совета у своего отца. Но он не всегда был в состоянии понимать то, чего сам не мог сделать.
Диана безотчетно избрала путь, совершенно противоположный его пути. Ее родина обладала многими произведениями древней скульптуры, которыми начинали дорожить, потому что французский вкус получил новое направление. Гравюра распространяла и популяризировала драгоценные находки Геркуланума и Помпеи: картины, вазы, статуи, утварь, всевозможные предметы. Изящная простота, как тогда говорили, стремилась заменить пестроту китайщины, манерность и округленность рококо. Изучали лучше Италию, путешествовали больше и, если еще дорожили прекрасным колоритом и игривой фантазией Ватто, то не менее пленялись этрусскими вазами и греческими медальонами. Общество не возвращалось более ко времени Валуа, которое известно теперь под именем эпохи Возрождения; предпринимали новое возрождение, менее оригинальное, но все-таки прекрасное. Тогда делалась мебель в так называемом древнем стиле, который известен нам под именем стиля Людовика XVI. Она была прекрасна и изящна, хотя и неверна древности. Женщины также стали уменьшать свои монументальные прически и небрежно взбивали вокруг лба свои все еще напудренные волосы. Мужчины, завивая, связывали простой лентой свои длинные волосы, которые недавно еще носили в кошельке, а некоторые поднимали их в косы черепаховой гребенкой.
Флошарде в своей мастерской был причесан именно таким образом и снимал портреты с людей более просто одетых, нежели те, которые доставили ему столько славы.
Никто не удивлялся тому, что дочь Флошарде, на которую начинали обращать внимание, была одета еще проще, чем то предписывала мода; никто не спрашивал себя, каким образом это отражение прошедшего, этот только что развивающийся вкус успел уже так быстро, так решительно сродниться с ней, с ее стремлениями и талантом. Только Флошарде сделался печальным и получил отвращение к своей манере писать. Это обновление формы искусства застало его врасплох, его, который всегда старался выставить на первый план наряд. Он замечал постепенный упадок известности, которой он пользовался. Он попробовал увеличить свою цену в то время, когда общество менее всего было расположено платить дорого, и, так как он унизился до того, что стал торговаться, то скоро увидел уменьшение числа заказчиков. Талант его дочери становился известным, и ему не боялись говорить, что дочь должна ему помогать и, где нужно, заменять его. Конечно, бедный человек не завидовал таланту своей милой Дианы, но он ни за что не соглашался заставить ее прервать ее независимые и плодотворные занятия, чтобы предаться ремеслу для приобретения денег на прихоти госпожи Лоры.
В продолжение этих двух лет положение художника сделалось очень затруднительно. Он хотел все спасти усиленной работой, он убивал себя трудом, но все-таки не достигал того, чего хотел. Работы становилось все меньше и меньше. Неспособная соблюдать экономию в расходах, госпожа Лора собрала свое маленькое имущество и удалилась в Ним к своим родителям, где проводила три четверти года, лишь ненадолго являясь к мужу, а в остальное время тратила на новые платья то немногое, что у нее было, вместо того, чтобы употребить его на облегчение хозяйственных затруднений. Диана, видя отца покинутым, печальным и одиноким, опять переселилась к нему и делила свое время между ним и доктором. Прежде всего она отпустила всех слуг. Жоффрета сделалась кухаркой, и Диана помогала ей, чтобы ее отец, привыкший жить хорошо, не знал никаких лишений. Она привела в порядок дом и дела. Долго отклоняла она опасность, угрожавшую состоянию Флошарде, аккуратно выплачивая проценты. Но наконец настал день, когда кредиторы, устав ждать, наложили запрещение на дома, сады, маленькую ферму, предметы искусства и движимость отца ее. Это было жестоким ударом для Флошарде, который не мог более скрывать своего несчастья от дочери и друзей. Он вынужден был все покинуть и искать в другом месте не новых, постоянных заказчиков, – на это нужны были годы, – но хоть какой-нибудь работы. Он уже получил заказ для церквей в Арле. Там он писал святых дев и ангелов и тотчас же стал мечтать о возможности приняться за портреты. В то же время он рассчитывал прослыть учителем прекрасного, взявшись за то, что он называл высокой живописью. Но способ изображения святых дев и ангелов уже переменился. Долгое время любили улыбающихся полненьких мадонн времен Людовика XV. Теперь предпочитали мадонн более серьезных и менее похожих на хорошеньких деревенских кормилиц. И добрые матушки, которых Флошарде тщетно окружал светлым сиянием, усеянным превосходно отделанными розами, возбуждали немало шуток. Эти насмешки, которые из уважения к его прежней известности не доходили до него, достигли, однако, ушей Дианы. Она поняла, что эта новая попытка не поднимет ее отца, и, войдя однажды вечером к доктору, когда он удалился в свою комнату, она сказала ему:
– Знаете ли вы, мой добрый друг, что мой отец погиб?
– Да, я это знаю, – отвечал доктор, – совершенно погиб! Ему нужно двести тысяч франков, и никто не хочет ссудить их ему.
– Но если кто-нибудь поручится?..
– Кто сделает эту глупость? Это все равно, что бросить двести тысяч в воду: твой отец не расплатится никогда.
– Вы сомневаетесь в нем?
– Не в нем, но лишь только он приобретет видимое довольство, его жена возвратится и разорит его еще больше.
– Купите, по крайней мере, один из его домов, чтобы он мог удовлетворить кредиторов. Вы позволите мне жить в нем с отцом, а когда его не станет, вы возьмете все обратно. С меня довольно таланта, чтобы прожить, мне надо так мало, мой заработок самого маленького размера удовлетворит меня.
– Ты забываешь, что твоему отцу нет еще и пятидесяти лет, а мне уже семьдесят пять. Если я куплю его имение, я уже не буду получать процентов с моего капитала и умру в нужде. Разве ты этого хочешь?
– Нет, я буду платить за наем. Я буду работать, моя добрая фея сделает для меня еще одно чудо: я приобрету деньги. Попробуйте, мой друг, отклонить продажу нашего имущества, поручившись за уплату, и вы увидите, что не пройдет двух лет…
– Это не так верно, – сказал доктор. – Есть другой способ решить дело, но он очень тяжел. Я могу купить для тебя городской дом твоего отца и все предметы искусства из деревенского дома. Я могу предложить ему сохранить свое жилище, свои привычки и благосостояние, так как вы можете отдавать внаем часть этого большого дома, и у вас будет небольшой доход, достаточный для удовлетворения ваших потребностей. Но вот что выйдет из этого: госпожа Лора вернется к мужу и выгонит тебя своими сплетнями. Ты не выдержишь этой борьбы, которой ты никогда не хотела бы начинать, и возвратишься ко мне, чему, конечно, я буду очень рад. Но твой отец подчинится ее игу, начнутся долги, потому что им не хватит маленького дохода с квартир. Тогда ты откажешься от собственности, чтобы спасти честь своего имени, твой отец будет так же разорен, как сегодня, а ты, ты лишишься всего, потому что приданое, которое я хочу тебе дать, уйдет на оборки к юбкам твоей мачехи. Ты знаешь, что я хочу разделить мое имение между тобой и моим племянником. А долги твоего отца составляют около половины моего состояния. Итак, для спасения твоего отца я должен пожертвовать твоим будущим – это так же верно, как дважды два – четыре.
– Пожертвуйте им! Нужно пожертвовать им! – отвечала Диана властным тоном, как одна из тех гордых богинь, на которых она походила стройным профилем и прекрасным станом. – Вы мне никогда не говорили, что хотите сделать это для меня. Теперь, когда я это знаю, я покойна: мой отец спасен! Вы не можете посоветовать мне покинуть его в отчаянии и несчастии ради моего будущего.
– Это прекрасно, – сказал доктор, – но мое настоящее, мое? Мои доходы, то есть мое благосостояние? Что ж, я должен уменьшить их наполовину завтра же?
– Если бы вы выдали меня замуж, не сделали ли бы вы то же самое?
– Я думал, что ты останешься со мной, что мы будем жить семейством. Таким образом издержки не были бы заметны, выкупаясь семейным счастьем. Чем терпеть лишения ради того, чтобы дать возможность жить широко Лоре…
– Без сомнения, – возразила Диана, – это не радость; но вот что я думаю: я решилась заменить ее влияние на отца своим и чувствую, что достигну цели. Я буду отдавать вам проценты с капитала, который вы мне доверите. Верьте мне, если я люблю отца, я люблю также и вас и не хочу, чтобы вы хоть сколько-нибудь страдали от благодеяния, оказываемого мне.
– Хорошо, – сказал доктор, обнимая ее, – я согласен! Иди спать и спи спокойно. Будь что будет! Твой отец будет спасен до следующего раза, как ты хочешь того.
Действительно, на следующий день городской и деревенский дома Флошарде были куплены с аукциона доктором Фероном. Но, сверх ожидания Дианы, он закрепил за ней то и другое; он знал, что делал, и не хотел предоставить ей на выбор: или бороться с отцом, или быть разоренной им. Он знал слабость Флошарде к жене и не хотел допустить гибельного сближения между ними. Он ничего не открыл Флошарде.
– Друг мой, – сказал он ему, – я сожалею, что не могу спасти вас от этой катастрофы, вы лишились всего имущества, но, пока я имею доходы, живите спокойно и впредь не делайте долгов. Вы будете жить у вашей дочери, которой я отдаю внаем ваш дом, ставший теперь моим. Она получит ту половину дома, которая вам служила только для балов, спектаклей, а ваши заказчики будут поддерживать ваши и ее доходы, потому что она будет возле вас и, совершенствуясь, возвратит славу вашей мастерской. В ней нет безрассудного тщеславия. Я знаю, что общественное мнение хорошо расположено к ней и, если она захочет, у нее будут заказы и успех.
Флошарде поблагодарил доктора, однако заметил, что, если его жена захочет жить с ним, он должен будет избрать другое жилище.
– Если это будет, – возразил Ферон, – то пусть она примет то, что предложит вам обоим ваша дочь, как главная жилица моего дома.
– Моя жена никогда не согласится на это. Она слишком горда, она будет жить отдельно от меня, ссылаясь на то, что я не могу предложить ей жилище, так как она не хочет быть ничем обязанной моей дочери.
– Это будет очень дурной предлог, так как ничто не помешает ей платить за наем квартиры у своей падчерицы. Кроме того, это будет для нее удобный случай участвовать в общих издержках и исполнить обязанность, которой она слишком пренебрегала.
Флошарде понял, что доктор прав. И в самом деле, его жена причинила ему столько несчастий, что он не мог очень сожалеть о ней. Его легкомысленный характер не позволял ему видеть, какое унизительное положение ему предлагали. Нежный, честный, доверчивый по природе, он надеялся возвратить себе своих заказчиков и независимость, как только долги его будут уплачены.
IX
Возвращение в Пиктордю
В самом деле, с Флошарде совершился переворот. В провинции не любят сомнительных положений, и, сверх того, ввиду его возможного банкротства весь свет взволновался, потому что он считал себя более или менее скомпрометированным. Когда все было уплачено, честного художника, совершенно разоренного, увидали весело ожидающим перед своим полотном прихода благосклонных фигур своих сограждан, – эти фигуры являлись с улыбкой и после тысячи знаков уважения и участия, более или менее деликатно выраженных, тотчас же предлагали работу. Подле него Диана за своим мольбертом ждала спокойно и бодро, чтобы к ней привели детей всех этих господ и дам. Она выбрала эту специальность, чтоб не вмешиваться в дела своего отца. К ней приводили все молодое поколение города и окрестных замков, надежду семейств, гордость матерей, толпу красивых малюток, потому что не должно забывать, что Арль – страна красоты.
Диана выказывала много веры в свои силы, но то была роль, которую бедное дитя разыгрывало по необходимости. В сущности, она считала себя слишком мало знающей, чтобы работать хорошо, и все еще, несмотря на свой возраст, просила чудесной поддержки своей матери, прекрасной музы, потому что эти два образа слились в один в мыслях ее.
В первый раз, когда она решилась приняться за работу, она отыскала в своем бюро старую святыню, которую она уже давно не видала, – маленькую головку ребенка Бахуса, найденную в Пиктордю; Диана поняла ее теперь и нашла еще более прекрасной, чем она казалась ей прежде. «Милый маленький божок, – сказала она, – ты пробудил меня к жизни в искусстве. Вдохнови меня и теперь! Открой мне ту тайну истины, которую вложил в тебя великий неведомый артист. Я соглашаюсь остаться такой же неизвестною, как он, если создам несколько образцов такой красоты, как ты».
Диана еще не позволяла себе писать красками, она начала с пастели, которая была в большой моде в то время. Первые рисунки ее были до того замечательны, до того прекрасны, что о ней заговорили в двадцати местах. Заказчики в одно и то же время возвращались к ее отцу и приходили к ней. Дворянство и купечество любили встречаться в этой скромной мастерской, где отец и дочь работали вместе; один – умно и весело болтая после многих лет тоски и забот, которые теперь прошли; другая – молчаливая и скромная, не подозревая о своей красоте и не возбуждая зависти. Вспоминая легкомысленные черты, безумные наряды и резкий тон Лоры, никто не жалел, что Флошарде избавились от нее. В другой раз к ним приходили просто поболтать: это вошло в моду. Приходить туда беседовать сделалось признаком хорошего тона.
В конце года Флошарде и его дочь, живя очень скромно, но без больших лишений, имели возможность заплатить доктору за наем квартиры. Получив деньги, он отложил их на имя Дианы. Он сделал ее, по завещанию, наследницей всех своих доходов. Но он остерегался высказывать это, сколько для того, чтобы не задеть достоинства Флошарде, столько же и для того, чтобы Диана сохранила решимость держать Лору в отдалении.
Несмотря на эту скромную обстановку, госпожа Лора возвратилась, когда узнала, что долги уплачены и дела пошли хорошо. Ей не особенно нравилось жить у родителей, которые были небогаты и бережливы. Там она почти не бывала в свете и ее роскошные наряды мало служили ей. Она возвратилась, и Диана принудила себя принять ее ласково. Сначала она держалась в стороне, но скоро захотела бывать в обществе, посещавшем мастерскую ее мужа. Ее присутствие обдавало холодом, ее болтовня была некстати; находили даже безвкусными ее роскошные наряды и драгоценности, которые она должна была бы поспешить продать, чтобы освободиться от общих долгов. Поговаривали, что она держит себя слишком свободно и принимает с Дианой пренебрежительный тон, вовсе не идущий к ней; и ей дали почувствовать, что ее присутствие не было приятно. Раздосадованная, госпожа Лора удалилась из мастерской и старалась завязать знакомство вне ее. О, напрасно: это была закатившаяся звезда, ее красота увядала с ее успехами. В обществе господствовали более строгие идеи. Ее приняли холодно, и только несколько визитов, сделанных наудачу, были ей возвращены.
Тогда она, чтобы приобрести себе вновь уважение, стала лицемерить и, сбросив свои цветные платья, как вдова Мальборо, приняла манеры и тон ханжи. Перемена эта не могла быть искренней, и она дурно сделала, приняв на себя эту роль. Прежде она была только легкомысленной и эгоисткой, теперь она сделалась лживой, завистливой и злой. Она бранила весь свет, при случае клеветала, все поносила и смущала семью своими обвинениями, своими жалобами, своей щепетильностью и колкостью.
Диана относилась к ней с неизменной кротостью и, видя, что ее отец все еще привязан к этой легкомысленной женщине, она делала возможное и невозможное, чтобы приучить ее к бережливой жизни. Она противилась только одному – необузданному желанию Лоры поставить дом на прежнюю ногу. Рассчитывая на деньги, зарабатываемые ее мужем, госпожа Лора хотела прогнать жильцов и по-прежнему принимать у себя гостей. Диана не уступила, и мачеха с этих пор стала поступать с ней как с врагом, называла тиранкой и глупой всякому, кто только желал слушать эту клевету. Диана сильно страдала от этого преследования и почти решилась возвратиться в дом доктора, чтобы работать спокойно, но она прогоняла эту мысль, боясь, что отец будет без нее несчастлив.
Однажды ее посетила молодая дама, которую она тотчас же узнала, так как была памятлива на лица. Это была виконтесса Бланш де Пиктордю, вышедшая незадолго перед тем замуж за одного из своих кузенов. Она была все такая же красивая, как и прежде, такая же бедная и недовольная своей судьбой и такая же гордая своим именем, которое она имела удовольствие не переменить. Она представила Диане своего молодого супруга. Это был простой малый с обыкновенным и глуповатым лицом, но он был также Пиктордю, отпрыск старшей ветви дома, а Бланш никого другого не считала достойным себя.
Однако, несмотря на это упорство в своих идеях, Бланш сделалась общительнее; она была неглупа в известных отношениях и очень ласково отнеслась к Диане, расхвалила ее талант и не пыталась уже, как прежде, унижать ее профессию. Диана увидела ее опять с удовольствием: ее имя, ее лицо пробудило в ней самые приятные воспоминания детства. Чтобы заставить ее снова прийти, она попросила позволения сделать с нее портрет. Бланш вспыхнула от удовольствия, как в то время, когда она получила бирюзовую брошь. Она сознавала свою красоту и была в восторге увидеть свое лицо, изображенное искусной рукой, но она была бедна. Диана поняла ее затруднение.
– Я у вас прошу это как услугу, – сказала она. – Воспроизводить прекрасное лицо для меня удовольствие, которое достается мне не каждый день, и так как это трудно, то это двигает меня вперед.
В глубине души Диана хотела заплатить только старый долг сердца воспоминанию о Пиктордю. Бланш не поняла этой деликатности и приписала ее своей красоте. Она долго заставила себя упрашивать, приводила различные отговорки, но в то же время боялась быть пойманной на слове. Она говорила, что недолго пробудет в Арле, что ее средства не позволяют ей оставаться в богатом городе и что муж ее, занятый земледелием и охотой, торопит ее возвратиться в деревню, где они постоянно живут.
– Я сделаю с вас, – возразила Диана, – только легкий эскиз тремя карандашами: белым, черным и красным. Если я успею, это выйдет очень хорошо и я у вас займу только одно утро.
Бланш согласилась на завтра. На следующий день она пришла в хорошеньком небесно-голубом платье и с бирюзовой брошью, прикрепленной к ленте на шее.
Диана была в ударе и сделала один из своих лучших портретов, виконтесса нашла себя такой прекрасной, что слезы благодарности повисли на ее длинных черных ресницах, обрамлявших голубые глаза. Она поцеловала Диану и умоляла ее приехать к ней в замок.
– В замок Пиктордю? – вскричала Диана с удивлением. – Вы мне сказали, что живете у отца. Разве вы поправили старый замок?
– Не весь, – отвечала виконтесса. – Мы не имели возможности это сделать, но мы подновили маленький павильон и переселимся туда в будущем месяце. Там есть комната для друзей. Если вы захотите обновить ее, то доставите мне величайшее удовольствие.
Предложение было чистосердечно. Бланш прибавила, что отец ее будет счастлив увидеть снова Диану, так же как и господина Флошарде, о котором всегда вспоминал с удовольствием и называл его «своим другом Флошарде», когда слышал толки о его превосходных картинах.
Диане очень хотелось снова увидеть Пиктордю, и она обещала сделать все возможное, чтобы побывать там в следующем месяце, одна или с отцом, так как этот последний уже давно дал ей слово предпринять небольшое путешествие, чтобы несколько развлечься и повидаться в Манд с ее старой теткой-монахиней. Пиктордю лежал недалеко от этой дороги, и они, конечно, сделают небольшой крюк, чтобы побывать там.
Госпожа Лора была сильно раздосадована, когда узнала, что Диана думает немножко отдохнуть, чтобы поправить свое здоровье. Ей хорошо было известно, что дочь зарабатывает более, чем отец, что ее более ценят как живописца, нежели его. Из-за отсутствия Дианы могли уменьшиться домашние доходы, и Лора так резко дала Диане это почувствовать, что раздражило ее до крайности. У нее с едкостью выторговывали одну-две недели свободы, которой она совершенно лишала себя в течение двух лет, работая без отдыха, чтобы загладить бедствие, причиненное этой праздной и бесполезной женщиной.
Надо сознаться, что положение было затруднительно. У Дианы достало мужества, – а мужества нужно было много, – чтобы отказаться от приглашения доктора, который звал ее в Италию или Париж и даже был готов сопровождать ее туда, лишь только бы она этого пожелала. Диана страстно желала ехать, но не хотела признаться в этом, чтобы не поддаться искушению. Она находила, что это еще слишком рано, что на отца ее нельзя еще положиться, чтобы оставить его одного в продолжение нескольких месяцев под влиянием Лоры.
Когда Диана увидела, что в благодарность за ее жертву у нее оспаривают право отдохнуть несколько дней, она едва не пришла в уныние от своей задачи и не порвала все. Она устояла, однако отвечала с кротостью, что скоро вернется, и собирала свои вещи, несмотря на то что мачеха двадцать раз прерывала ее несносными придирками.
Доктор должен был вмешаться и решить, что Диана отправится на следующий же день с Жоффретой. Он просил, смеясь, свое милое дитя вести записки о своих призраках, если только она будет иметь еще счастье видеть их, чтобы потом рассказать ему о них так же мило, как прежде.
Через два дня они должны были прибыть в Сен-Жан-Гардонанк. Марселей Ферон, племянник доктора, сделавшийся такой же знаменитостью, как и дядя, провожал их до этого города, где они провели ночь. Оттуда он отправился к одному из своих друзей, жившему по соседству, между тем как Диана, с радостью отыскавшая честного извозчика Романеша, отправилась со своей кормилицей в наемном экипаже по дороге в Пиктордю. Теперь эта ужасная дорога была исправлена, и наши путешественницы без всяких приключений прибыли после обеда к террасе замка.
Здесь уже не было прежнего входа. Обновленный павильон, который был не что иное, как прежняя купальня Дианы, имел особый вход ниже. Но Диане хотелось увидать статую, говорившую с ней. Она боялась, что не найдет ее более. Послав вперед Романеша и Жоффрету, она перескочила через недавно поставленную маленькую изгородь и легко поднялась по неровным и изломанным ступеням большой лестницы.
Было около четырех часов пополудни, солнце косыми лучами озаряло все предметы. Диана, еще не видя своей любимой статуи из-за скрывавших ее кустарников, заметила тень ее на песке террасы, и сердце ее забилось от радости.
Она побежала туда и взглянула на нее с изумлением. В ее воспоминаниях статуя была громадна, а в действительности она едва достигала человеческого роста. Была ли она такой прекрасной и замечательной, какой тогда казалась Диане?
Нет, она была несколько манерна, складки ее одежды были слишком изысканны и изогнуты, но все же она была изящна и грациозна, и Диана, опечаленная своим разочарованием, послала ей поцелуй, наивно ожидая, однако же, что статуя возвратит ей его.
Терраса была так же запущена, как и прежде; высокая трава не была помята, видно было, что никто никогда не бывал там. Потом Диана узнала, что Бланш, которая боялась змей и принимала за них невинных ужей, никогда не ходила в развалины и не позволяла никому ходить туда. Однако она жила среди этих развалин; Диана удивлялась и радовалась одновременно, видя, что это уединение и беспорядок, которые были ей некогда так милы, не потерпели никакого мещанского улучшения, то есть переделки.
Она восхищалась беспорядком деревьев, лишенных листьев и засохших рядом с живыми и ветвистыми, великолепными дикими растениями, растущими рядом с растениями возделанными, которые теперь росли вместе на свободе, переплетая свои ветви. Она восхищалась этим хаосом камней, где мох равно владел и природной скалой, и скалой, отесанной рукою человека. Она снова увидела чистый ручеек, который когда-то питал своими водами пруды и каскады и который скромно журчал теперь в траве между камней. Она рассматривала этот изящный фасад возрождения, где прихотливыми гирляндами извивался долговечный плющ. Быть может, не хватало нескольких тонко отделанных окон, нескольких башен. Диана не входила в эти подробности; целое имело еще тот благородный и строгий вид, который сохраняют здания этой блестящей эпохи даже в своем разрушении.
X
Речь статуи
Диана сама хотела найти среди хаоса развалин дорогу в павильон и нашла ее без труда. Бланш, предупрежденная прибытием ее экипажа, вышла к ней навстречу и приняла ее, осыпая ласками; потом она проводила гостью в павильон бань, где Диана провела ту памятную в своей жизни ночь. Увы, здесь все изменилось. Большая круглая зала, где была купальня, исчезла. Стесали мраморные украшения, чтобы сделать колпак над очагом, своды, украшенные гирляндами, были превращены в синий потолок, нимфы, увы! не водили уже более свой легкий и скромный хоровод кругом стен. Зала, обитая оранжевым полотном с большими букетами, сделалась четырехугольной; оставшиеся части превратили в маленькие комнатки.
Проходы арок были освобождены от мусора и диких растений; источник, лишенный своих растений и мятной травы, исчез, заключенный в сруб колодца; куры копались в навозе на соседнем дворике, который прежде служил для входа в баню и был еще выстлан порфиром. Аллея шелковиц, недавно посаженных, казалось, еще не привыкших к климату и почве, спускалась вниз по новой дороге, оставляя в стороне старый парк и развалины. Обитатели Пиктордю, забившись в угол гнезда своих предков, старались, насколько было возможно, избежать перехода через развалины.
Восхищаясь, чтобы угодить Бланш, умением, с которым она извлекла пользу из развалин древнего замка, Диана вздыхала, думая, что она извлекла бы ее совершенно иначе. Но Бланш казалась так горда и довольна своими переделками, что Диана удержалась от замечаний. Маркиз и зять его явились к обеду. Зять был красный и разгоряченный, он сзывал своих собак, крича далеко раздававшимся голосом и громко смеясь после каждой фразы, хотя и нельзя было понять, чему именно он смеется. Маркиз, как всегда, вежливый, благосклонный, ровный и задумчивый. Он принял Диану очень любезно и ничего не забыл из ее первого посещения. Потом он засыпал ее странными вопросами, на которые невозможно было отвечать, не входя в объяснения, как для ребенка.
Этот добрый человек жил так далеко от света, кругозор его жизни был так узок, что, желая говорить обо всем, чтобы не показаться отсталым, он показывал только, что он не в состоянии понимать что бы то ни было.
Бланш, более умная, нежели отец, и более отполированная светом, с которым имела кое-какие сношения, страдала от простоты своего отца и особенно от самоуверенности, с какой муж ее высказывал еще более нелепые суждения. Она противоречила им обоим, не скрывая своего презрения к их невежеству. Диана сожалела о прежнем безмолвии Пиктордю и спрашивала себя, зачем она покинула милую болтовню своего отца и интересную беседу доктора, чтобы выслушивать это нелепое трио, не имевшее даже достоинства согласия.
Сославшись на усталость, она рано удалилась в тесную комнатку, которую хозяева ее величали громким именем почетной комнаты. Но она не могла уснуть. Запах свежей краски заставил ее открыть окно, чтобы избежать головной боли.
Она увидала, что окно выходит на маленькую лесенку, криво лепившуюся к стене. Это был уцелевший остаток старинной постройки, перила еще не были исправлены. Ночь была светлая и прекрасная. Диана, завернувшись в свой плащ, спустилась вниз, довольная тем, что она одна и может пойти, как прежде, на поиски в чудесный замок своих сновидений. Прекрасная муза, ее добрая фея, не явилась протянуть ей руку, чтобы провести ее под кругами, начертанными воображением ее в пространстве над разрушенными сводами. Она не могла вступить под эти арки, которые тщетно пытались выдвинуться из груды обломков. Но она воссоздала в своем уме этот волшебный замок в итальянском вкусе, воздвигнутый в пустыне еще в то время, когда Италия превосходила нас в деле искусства и вкуса. Она восстановила мысленно весь блеск этого исчезнувшего великолепия, которое не могло более возродиться под своей старой формой и которое промышленность уже изгоняла из будущего. Она не встретила во время прогулки никакого призрака, но испытала наслаждение созерцать чудные эффекты лунного света на развалинах. Она поднялась так высоко по скалам, господствовавшим над замком, что видела в глубине лощины переливы зеленовато-серого света в маленькой речке. То здесь, то там черная масса обломков, загромождавших ложе ее, рисовалась среди переливов алмазного блеска. Ночные совы перекликались, точно кошки, папоротники и дроки разливали свое дикое благоухание. Глубокая тишина царила в воздухе, ветви старых деревьев были так же неподвижны, как каменные изваяния террасы.
Диана чувствовала потребность окинуть взглядом свою короткую жизнь среди этой природы, которая невольно наводила на размышления о вечности. Она опять увидела свое детство, свои порывы глубокой пытливости, свои болезненные припадки, свои стремления к таинственному идеалу, минуты отчаяния и восторга, свои печали, свои усилия, свои успехи и надежды.
Но здесь она остановилась: ее будущее было неопределенно, таинственно, как некоторые фазы ее прошлого. Она чувствовала все, чего недостает ей, чтобы перешагнуть скромные границы, которые она поставила себе, когда решила помогать своему отцу. Она хорошо знала, что по ту сторону ремесла, которое обеспечивало ее независимость и человеческое достоинство, простирается для нее широкое поприще. Но получит ли она когда-нибудь возможность вступить в него? Может ли она путешествовать, познавать, чувствовать? Оставить окружающих, знакомство, будничные обязанности – тот предел, который ее отец мог перейти и на котором он остановился, подчинившись требованиям женщины, видевшей в искусстве один барыш?
Диана чувствовала, что и ее жизнь связывала и разбивала та же женщина, от которой нужно было ежечасно отстаивать ленивый и колеблющийся ум отца. Диана еще недавно была готова раздавить ее своим презрением. Но она сдержалась, потому что имела над собой власть, которой недоставало ее отцу, потому что тайный голос шептал ей, когда она почти не могла сдержать себя: «Ты знаешь, что надо преодолеть себя».
Она вспомнила эти минуты внутренней борьбы и подумала о своей матери, которая, без сомнения, передала ей эту тайную и драгоценную энергию терпения. Она с жаром стала молить этого духа-покровителя проникнуть в ее душу, чтобы указать ей долг ее, подобно тому, как образ его являлся ей в видениях, чтобы показать ей красоту. Должна ли она решительно отказаться испытать высшие наслаждения духа для того только, чтобы не покинуть своего отца? Или должна противиться голосу этой музы-матери, которая поднимала ее и переносила в область красоты и истины, чтобы показать ей тот бесконечный путь, на котором художник не должен останавливаться?
Она шла, размышляя таким образом, и очутилась возле статуи без лица, ее первой учительницы. Она прислонилась к подножию, положив руку на ее холодные ноги. Диане показалось, что она слышит голос, который как будто исходил от статуи и отдавался в ней самой сильным дрожанием и который говорил ей:
«Оставь заботу о своем будущем, о душе твоей матери, которая живет в тебе и над тобой. Мы вместе найдем дорогу к идеалу. Настоящее только перепутье, где, остановившись, ты не перестанешь работать. Не думай, что непременно должен быть выбор между долгом и благородным человеколюбием. То и другое должно идти вместе, помогая друг другу. Не думай, что подавленный гнев и перенесенная скорбь – враги таланта. Не изнуряют они, но возбуждают. Случалось, что ты находила в слезах образ, который искала, и будь уверена, когда ты страдаешь с мужеством, твой талант растет вместе с твоими силами, хотя ты того не замечаешь. Здоровье ума не в спокойствии, оно только в победе».
Диана возвратилась, проникнутая этим внутренним откровением и, оставя окно открытым, заснула так хорошо, как никогда.
На следующий день она чувствовала сладостный покой во всем своем существе. И терпеливо выслушивала наивности доброго маркиза и пошлости его зятя. Она сообщила свое хорошее расположение духа, и Бланш и увела ее, несмотря на сопротивление, осмотреть развалины среди белого дня.
Доктор не ограничился тем, что объяснял своей милой Диане прекрасное в искусстве: он научил ее понимать его и в природе; он дал ей познания, которые придали интерес ее прогулкам. Он просил ее привезти из своего путешествия несколько редких растений. Диана искала их и находила. Она заботливо собирала их для своего старого друга и прибавила еще от себя цветы, менее редкие, но более красивые: гусиную траву скал, прекрасную синюю луговую герань рядом с грациозной коленчатой, мыльную траву, которая пестрила своими бесчисленными цветочками скалистые берега реки, альпийский кочедык, распускавшийся в сырых местах развалин, моннельгаский люпин, усеявший золотыми звездами дерн террасы. Собирая эти цветы, Диана нашла довольно безобразную монету, покрытую толстым слоем ржавчины, и отдала ее Бланш, советуя осторожно очистить ее, чтобы не исцарапать.
– Сохраните ее, – отвечала виконтесса, – если вы видите какую-нибудь цену в этих старых грошах, я не понимаю в этом ничего, у меня много других, которым я не придаю никакого значения.
– Вы мне покажите их, – попросила Диана, – я смыслю в этом немного и с помощью доктора Ферона, который очень учен, могу отличать более интересные. Кто знает? У меня рука счастливая на находки. Быть может, вы обладаете, сами того не подозревая, маленьким сокровищем.
– Которое я вам от души отдам даром, милая Диана! Все это медь, очень тонкое золото или почерневшее серебро.
– Это ничего не значит! Если там найдется несколько дорогих вещей, я вам скажу потом, и вы назначите цену.
Она рассмотрела медали, собранные некогда маркизом и брошенные в угол его жилища, где их отыскали не без труда. Диана подумала, что не все же они ничего не стоили, и взялась передать их лицам, более сведущим. Она не хотела очищать ту, которую нашла, боясь испортить ее и связывая какую-то суеверную идею со своей находкой. Она завернула ее в бумагу и положила вместе с другими в свой чемодан.
На следующий день она пошла на вершину горы смотреть восход солнца; она была одна и шла наудачу. Она очутилась во впадине скалы против чудного маленького каскада, который, блестящий и светлый, ниспадал между кустами шиповника и шелковистых кистей ломоноса. Солнце косо бросало розовые лучи на эту великолепную картину, и Диана в первый еще раз почувствовала вполне прелесть красок. Так как гора освещалась только сбоку, то Диана вполне отчетливо сознавала эту волшебную жизнь света, то разлитого широкими волнами, то отраженного и переходящего неподражаемыми сочетаниями от яркого блеска к мягкой полутени, от жарких тонов к холодным. Ее отец часто говорил ей о средних тонах.
– Отец, – вскричала она невольно, как будто он был здесь, – нет средних тонов, клянусь тебе, их нет!
Она улыбнулась своему увлечению и упивалась на свободе этим откровением, которое давали ей небо и земля, листва и воды, травы и скалы, заря, сменяющая ночь, и ночь, кротко и покорно удаляющаяся под прозрачными покровами, которые солнце разрывало своими первыми лучами. Диана почувствовала, что она может писать красками, не бросая пастели, и ее сердце забилось радостью и надеждой.
На возвратном пути она остановилась опять около статуи и вспомнила все, что вчера сложилось в душе ее.
«Если ты та, кто говорил со мной, – думала она, – то ты научила меня вчера добру. Ты мне показала, что хорошее решение лучше хорошего путешествия. Я тебе обещала войти, улыбаясь, в тюрьму долга, и я сегодня же сделала в искусстве удивительную победу. Я более чем поняла, я почувствовала, я увидела! Я приобрела новую способность! Свет озарил меня, лишь только воля возвратилась в мое сознание. Благодарю, о моя мать, о моя фея! Я обладаю истинной тайной жизни».
Диана покинула Пиктордю, чтобы провести два дня в Манде. Возвратясь домой, она принялась за свою работу и в то же время попробовала, никому не говоря, писать красками. Она просила снабжать ее картинами великих мастеров и каждое утро по два часа копировала их. Она внимательно следила за работой своего отца, который все-таки время от времени писал для церквей толстых мадонн с ротиком в виде сердечка, но который приобрел большой навык в обращении с красками. Она пользовалась его достоинствами и его недостатками.
Однажды Диана попробовала сделать красками портрет: снимая портреты с детей, она создала ангелов.
На другой день разглядели, что картина ее превосходна, и слава ее широко распространилась. Лора поняла, что эта прекрасная девушка, так ненавидимая ею и такая терпеливая, была курица с золотыми яйцами, которую не следует убивать. Она притихла, покорилась, притворилась ласковой и, за недостатком истинной нежности, к которой было неспособно ее сердце, показывала ей внешние знаки уважения и внимания. Она согласилась не проклинать ее более, считать себя очень счастливой и не нуждаться ни в чем, даже пользоваться известной роскошью, – потому что Диана охотно лишала себя платья, чтобы дать ей лучшее, – согласилась наконец не беспокоить более доброго Флошарде, который благодаря дочери снова стал таким же рассудительным и счастливым, как был при своей первой жене.
Однажды к Диане явилась виконтесса де Пиктордю и после тысячи любезностей и стольких же околичностей спросила, не может ли она получить обратно часть своих медалей. Она призналась, что поправка павильона потребовала более денег, чем она думала, и что муж ее затрудняется заплатить занятую им сумму, в сущности небольшую, но для него очень значительную.
Бланш прибавила, что если Диана все еще имеет страсть художника к развалинам Пиктордю, то она согласна продать их и уступить ей их со всей скалистой частью парка за весьма умеренную цену.
– Милая виконтесса, – отвечала ей Диана, – если я когда-нибудь и буду в состоянии позволить себе эту фантазию, то все-таки подожду, пока вы не получите серьезного отвращения к замку своих предков. Но знайте, что вам совершенно не нужно приносить эту жертву. Я не забыла про ваши старые монеты. Мне нужно было только время, чтобы найти знатоков для оценки их; я достигла своей цели и могу с удовольствием объявить вам, что три или четыре из них имеют действительную ценность и особенно та, которую я сама нашла. Я собиралась сообщить вам о предложениях, полученных доктором от музеев и любителей. Так как вы здесь, то посоветуйтесь с доктором Фероном, но знайте, что, приняв те предложения, которые получены, вы будете иметь сумму вдвое большую, чем вам нужно.
Изумленная Бланш бросилась на шею к Диане и называла ее своим ангелом-хранителем. Она условилась с доктором, который сделал все как нельзя лучше и скоро возвратил ей вырученную за медали сумму.
Диане нечего было более делать в замке Пиктордю. Она не хотела обладать им в материальном смысле. Она обладала им в своей памяти, как дорогим и священным видением, являвшимся ей, когда она того желала. Фея, которая встречала ее там, покинула его, чтобы последовать за ней, и эта вдохновительница обитала теперь с ней навсегда и везде, где бы она ни была. Она строила бесчисленные замки, дворцы, полные чудес, она давала ей все, чего бы она ни пожелала: горы, леса и реки, небесные звезды, цветы и птиц. Все смеялось и пело в ее душе, все сверкало перед глазами ее, когда после серьезной работы она чувствовала, что достигает успеха, делает шаг вперед в искусстве.
Рассказывать ли вам ее остальную жизнь? Вы отгадаете ее, дети, это была жизнь возвышенная, счастливая и плодотворная превосходными работами. Диана в двадцать пять лет вышла замуж за племянника доктора, своего достойного брата по усыновлению, заслуженного человека, который всегда думал о ней. Она стала богата и могла делать много добра. Между прочим, она основала мастерскую для бедных молодых девушек, которые получали там образование даром. Она, предпринимая с мужем путешествия, которые снились ей, и возвращаясь, всегда находила счастливыми свою родину, своего старого друга, отца и даже мачеху, которую она наконец полюбила за то, что много должна была простить ей, – правило добрых натур привязываться к тому, от кого они много терпели. Они дорожат тем, что им дорого стоило. Великие души любят жертвы, что составляет великое счастье для мелких душ. Бывают и те и другие, и, по-видимому, последние живут за счет первых, но, в сущности, тот, кто жертвует собой и прощает, получает высочайшие наслаждения, потому что с ним живут гении и феи, духи, совершенно свободные в своих взглядах, они избегают себялюбцев и являются только глазам, раскрытым энтузиазму и преданности.
Крылья мужества
АВРОРЕ И ГАБРИЭЛЕ САНД
На этот раз, мои милые девочки, я расскажу вам длинную историю, как вы того желали. Если вы заснете, слушая ее, я докончу вам ее в другой раз с тем условием, однако, что вы не забудете начала. Аврора просила, чтоб я выбрала местом рассказа какую-нибудь местность, замеченную вами в продолжение ваших путешествий. Выбор мой, следовательно, не слишком обширен, и я принуждена опять вести вас в Нормандию, где вы уже познакомились с цветущим болотом королевы Квакуши[1]. Только на этот раз я покажу вам не эти тихие воды, а неподалеку оттуда синее море, которое вам еще более понравится. Возьмите ваши вязанья или какое другое рукоделие и слушайте внимательно, но спрашивайте, если чего не поймете. Я стану пояснять вам словесно то, что непонятно для вас: изустные выражения всегда понятнее книжных. Вы желали, чтоб в рассказе было чудесное, я исполнила ваше желание, но рядом с чудесным встретится вам и много истинного – такого, о чем вы еще не слыхали. Вы должны быть рады, равно как и ваши большие кузены, что приобретете новые сведения. Природа, милые мои дети, – неистощимая сокровищница чудес, она внушает нам удивление каждый раз, когда становятся нам доступны ее откровения.
Ноган. Октябрь. 1872 г.I
В стране, называемой Ош, в тех местах, где находится город Сен-Пьер-д’Азив, в трех лье от моря, жили-были крестьянин с женой; благодаря своему труду они были люди не бедные. В те времена, то есть лет сто тому назад, страна эта была плохо обработана. По ней тянулись пажити, за пажитями сады с яблонями, далее опять шли пажити, а там – опять сады с яблонями; везде, где только мог обнять глаз, до самого горизонта, все было плоско, ровно, только местами попадался ореховый лесок да деревянный домик с садиком или глиняная мазанка; камня в этой стороне очень мало. Здесь разводили хороших коров, приготовляли славное масло и сыр, пользовавшийся известностью; но так как в те времена не было здесь ни железных, ни больших дорог, ни дач, которых так много понастроено нынче по морскому берегу, то понятия здешних крестьян были очень ограничены, и они нисколько не заботились о том, чтоб земля их доставляла больше урожая, и не пробовали ни сажать, ни сеять ничего нового, чего не сажали и не сеяли прежде.
Крестьянина, о котором идет моя речь, звали Дуси, а жену его Дусет. У них было много детей, все они работали, как отец и мать, и так же, как отец и мать, ничего не придумывали нового, ни на что не жаловались, были очень добры, очень кротки и очень равнодушны ко всему на свете; они ничего не делали скоро, но всегда что-нибудь да делали и были способны, с течением времени, прикопить кое-какие деньжонки, чтобы купить клочок земли.
Только один из них, которого прозвали Хромушей, не работал или почти не работал; и не потому, что он был малосильный или больной, нет, он был не только сильный и здоровый мальчуган, хотя и прихрамывал немножко, но даже очень хорошенький и румяный, как яблочко. Не был он также ни непослушен, ни ленив, но ему засела в голову мысль сделаться моряком. Если бы у него спросили, что такое моряк, то он не сумел бы порядком объяснить этого, так как ему было только десять лет, когда мысль эта запала ему в голову, и вот по какому случаю.
У него был дядя, брат его матери, который с ранней молодости уехал в море на купеческом корабле и насмотрелся разных земель. Этот дядя жил на морском берегу в Трувилле; иногда он приходил повидаться с Дуси и рассказывал разные диковинки, может быть, не все, что он говорил, была правда, но Хромуша всему верил, так как ему очень нравились дядюшкины рассказы. Мало-помалу ему сильно захотелось попутешествовать по морю, хоть он никогда не видывал моря и даже не знал хорошенько, каково оно, это море.
А оно было, однако же, недалеко, и он очень легко мог бы сходить посмотреть на него, хромота не помешала бы ему. Но отцу его совсем не хотелось, чтоб сын его полюбил путешествия, да и было не в обычаях тогдашних крестьян уходить без нужды далеко от дома. Старшие братья ходили на ярмарки и на рынок, когда было нужно. В это время меньшие братья пасли коров, так что для Хромуши никогда не приходила очередь погулять, он заскучал оттого и начал задумываться. Когда он пас стадо, то вместо того, чтоб чем-нибудь забавляться, как, например, плести корзины из тростника или строить домики из земли да из прутиков, он смотрел, как бежали облака, особенно засматривался он на стаи перелетных птиц, отправлявшихся далеко за синее море или возвращавшихся обратно на родину.
– Вот счастливцы-то, – думал он, – у них есть крылья, и они летят, куда хотят. Они могут видеть весь мир Божий и никогда не скучают.
Он так часто смотрел на птиц, что научился наконец распознавать их по полету, он изучал все сноровки птичьего полета, так, он знал, что грачи рассекают воздух стрелой, что скворцы летают плотными стаями, что хищные птицы парят в поднебесье, а дикие гуси тянутся, как нить, на равном расстоянии один от другого. Он бывал очень рад, когда прилетали из-за моря перелетные птицы, и часто пробовал бежать так же скоро, как они летали, но это был напрасный труд. Не успеет он пробежать десяти шагов, глядит – птицы уже улетели за целую лье и исчезли из вида.
Потому ли, что он был хром, или потому, что он от природы не был храбр, только Хромуша не уходил далеко от дома и не старался удовлетворить свою любознательность.
Раз как-то пришел дядюшка-моряк навестить своих родных, и Хромуша сказал, что ему хотелось бы, если позволит отец, уйти с дядей, чтобы взглянуть на море.
– Тебе-то уйти с дядей? – сказал со смехом отец Дуси. – Уж лучше молчи! Ты не умеешь ходить и всего трусишь. И не затевай никогда, зятюшка, брать его с собой, он хилый мальчуган и трусишка. Прошлый год он спрятался за дрова и пролежал там целый день, потому что увидел запачканного сажей трубочиста и вообразил, что это черт. К нам ходит шить горбатый портной, так он не может видеть его без крика. Да что! Чуть заворчит собака или корова посмотрит на него попристальней, даже если упадет яблоко, он уже улепетывает во все лопатки. Право, можно сказать, что он родился на свете с крыльями страха за спиной.
– Это пройдет, пройдет, – возразил дядя Локиль, так звали моряка, – у детей бывают за спиной крылья страха, а потом отрастут другие.
Эти слова очень удивили маленького Хромушу.
– У меня нет крыльев, – сказал он, – отец смеется надо мной; а может быть, они бы выросли у меня, если бы я сходил взглянуть на море.
– Так в таком случае у твоего дяди должны быть крылья, – проговорил отец Дуси. – Попроси, чтобы он показал их тебе.
– У меня есть крылья, когда надо, – отвечал моряк со скромным видом, – мои крылья – крылья мужества, когда надо лететь навстречу опасности.
Хромуше очень понравились эти слова, и он твердо запомнил их, но отец Дуси сбил похвальбу зятя.
– Я верю, – сказал он, – что у тебя есть эти крылья, когда дело идет об исполнении твоего долга, но когда ты приходишь домой, ты уже не похвалишься ими, потому что жена тебе подрезает их.
Отец Дуси сказал это потому, что жена Локиля ворочала всем домом, между тем как Дусет, напротив, была очень покорна своему мужу.
Она оттого и не одобряла затей Хромуши, что отец его не хотел слышать о них. Он говорил, что ремесло моряка и не по силам человеку, у которого одна нога слабее другой, он говорил также, что Хромуша, несмотря на то что здоров, никогда не будет настолько силен, чтобы рыть землю, и что его надо выучить ремеслу портного, так как ремесло это прибыльно в деревне.
Портной каждый год приходил проведать Дуси. Раз, когда он пришел, отец Дуси сказал ему:
– Друг мой, Тяни-влево, – портного так прозвали потому, что он был левша, – нынешний год у нас нет для тебя работы, но вот мальчуган, которому очень хочется выучиться твоему ремеслу. Я тебе заплачу кое-что за его ученье, если только ты будешь рассудителен и удовольствуешься тем, что я тебе назначу. Через год он будет в состоянии помогать тебе, будет исполнять твои поручения, будет, наконец, прислуживать тебе и зарабатывать таким образом свое пропитание.
– А что же ты мне заплатишь за его ученье? – спросил портной, взглянув на Хромушу искоса, с видом пренебрежения, как бы затем, чтобы заранее сбавить цену товара.
Пока крестьянин и портной договаривались об условиях и не сходились в двух ливрах, Хромуша, ошеломленный новостью, – у него никогда не было ни малейшего желания ни кроить, ни шить, – пытался сохранить хладнокровие и хорошенько рассмотреть хозяина, которому его предлагали. Это был низенький человечек, за каждым плечом у него было по горбу, он косил обоими глазами и хромал на обе ноги. Если бы можно было расправить его и растянуть на столе, то он оказался бы довольно высокого роста, но он был так исковеркан и, так сказать, плохо свинчен, что когда ходил, то был не выше самого Хромуши, которому было тогда двенадцать лет и который был не слишком высок для своего возраста. Тяни-влево было на вид уже лет пятьдесят. Его лысая, непомерно длинная голова, с лицом, обтянутым желтой кожей, походила на огромный огурец. Он был одет в нищенские лохмотья, оставшиеся за негодностью без употребления, когда он перешивал одежду своих заказчиков и которые выбросили бы их в навозную яму, если бы он вовремя не попросил; но всего чудовищнее в нем были руки и ноги, чрезвычайно длинные и очень проворные; ничего, что руки его были похожи на два веретена, а ноги на ходули – он ходил и работал еще попроворнее других. Глаз едва успевал следить за его толстой иглой, сверкавшей в его руках с быстротой молнии, когда он шил, и за облаком пыли, которое он подымал по дороге, когда бежал.
Хромуша не раз уже видал Тяни-влево и всегда находил, что он очень безобразен; но в этот день он показался ему просто страшным, таким страшным, что он непременно убежал бы куда-нибудь, если бы не вспомнил, что у него за спиной крылья страха, за которые упрекал его отец.
Сторговавшись, Дуси и портной ударили по рукам и распили, чокаясь, полжбана сидра, а Дусет, узнав, что дело кончено, пошла, не говоря ни слова, в соседнюю комнату связывать в узелок поклажу бедного мальчугана, которого портной должен был увести от нее на три года.
До сих пор Хромуша мало думал о том, что его ожидает в будущем. Слыхал он и прежде, как отец его говорил, что надо его выучить какому-нибудь ручному ремеслу, потому что он хром, но он никак не воображал, что его отдадут в ученье так скоро, да еще и против его желания. Сказать отцу, что он не хочет быть портным, оказать сопротивление, не приходило ему в голову, так как он был кроток и покорен; сначала он было подумал, что не решат дела без его согласия, но, когда увидел, что мать его ушла из комнаты, не взглянув на него, точно боялась расплакаться перед ним, он понял свое несчастье и бросился за ней с тем, чтобы просить ее заступиться за него.
Но он не успел. Портной протянул ему руку и сцапал его, как паук цапает муху; затем посадил его верхом себе на горб, схватил крепко за ноги и, встав, сказал отцу Дуси:
– Ладно, дело кончено. Пусть мать наплачется вволю; она меньше станет плакать, когда не будет видеть его. Она еще с час будет собирать его пожитки, ты пришлешь мне его узелок в Див, я проживу там три дня. Да ну, молчи же, мальчуган, не кричи, а не то – видишь большие ножницы, что у меня за поясом – я отрежу тебе язык.
– Будь с ним поласковее, – сказал отец, – он не злой мальчик и будет тебя слушаться.
– Уж ладно, ладно, – возразил портной, – не беспокойся о нем, я знаю, как взяться за дело. Пора идти, не нежничай, а не то я откажусь от него.
– Да дай же хоть обнять-то его, – сказал отец Дуси, – ведь он уходит…
– Э! Да ты опять его увидишь, он придет вместе со мной работать к вам. Прощай, прощай, пожалуйста, без сцен, без слез, а не то я оставлю его. Не очень-то дорожу твоей платой.
При последних словах портной перешагнул за порог и пустился бежать мимо яблонь с Хромушей на горбу. Ребенок хотел было закричать, но у него стеснило дыхание и зубы его застучали от страха. Он обернулся и с отчаянием взглянул на родительский дом. Его не столько огорчало то, что портной уводил его и не дал ему проститься хорошенько с родителями, сколько эта жестокость: она была непонятна ему. Мать Хромуши между тем выбежала за дверь и протянула к нему руки. Хромуше, несмотря на душившие его рыдания, удалось вскрикнуть: «Мама!» Она сделала несколько шагов вперед, словно хотела догнать его, но отец остановил ее, и она упала, бледная как смерть, на руки к старшему сыну своему, Франсуа, тот с горя выбранил портного и погрозил ему кулаком. Тяни-влево только захохотал на эту угрозу ужасным смехом, похожим на скрип пилы по камню, и зашагал еще проворнее своими гигантскими, чудовищными шагами, за которыми никто не мог поспеть.
Хромуша вообразил, что мать его умерла, и, видя, что ему нет спасенья, захотел также умереть, опустил голову на уродливое плечо портного и лишился чувств.
Ноша показалась тяжела портному; он подумал, что Хромуша уснул, снял его с плеч и посадил на своего осла, которого оставил пастись на лугу и который был так же мал, безобразен и хром, как и хозяин его. Он дал ослу хорошего пинка, тот зашагал по дороге и, прошагав три лье, остановился только у холмов, называемых дюнами.
Здесь портной прилег отдохнуть, нисколько не заботясь о том, спит ли мальчик или болен. Хромуша, открыв глаза, подумал, что он один, и посмотрел вокруг, не понимая, где находится; это было странное место, какого он никогда еще не видел. Он был точно в яме, в небольшой лощине, поросшей густым и жестким дерном, который рос клочьями по остроконечным верхушкам поднимавшихся кругом холмов. Хромуша очутился в расщелине больших холмов серого мергеля, которые, местами разрываясь, тянутся между городами Вилье и Безенваль по берегу моря и скрывают его от глаз, когда идешь посреди них.
Когда прошла первая минута удивления, Хромуша припомнил, что портной унес его из дома, и сердце его сжалось при этом воспоминании; но вдруг он подпрыгнул от радости: он вообразил, что похититель бросил его, и решил, что, поискав немножко дорогу, ему удастся добраться до дому.
Задумано – сделано. Хромуша встал и уже сделал несколько шагов по лежавшей перед ним довольно широкой тропинке, как вдруг остановился, весь похолодев от ужаса: в двух шагах от него, растянувшись на траве, лежал портной; он спал одним глазом, а другим следил за всеми движениями мальчика. Немного подальше осел щипал траву.
Хромуша тотчас же прилег снова и ни гугу, хоть сердце у него сильно билось. Вдруг он услыхал вблизи звуки, похожие на карканье ворона. Он обернулся и увидел, что портной преспокойно себе спит и храпит с открытым глазом. Он всегда так спал: один глаз у него был кривой и никогда не закрывался; но и так он спал крепко. Портной очень умаялся, потому что было жарко.
Хромуша, несмотря на ужас, который внушал ему этот гадкий, глядевший на него глаз, подполз на коленях к портному и провел перед открытым глазом рукой, глаз не мигнул: он ничего не видел. Тогда ребенок, все ползком, выбрался по тропинке из лощины и очутился в другой, более обширной лощине, по которой также шла дорога.
Хромуша сбросил с ног деревянные башмаки, чтоб было легче бежать, и пустился со всех ног по траве в сторону от тропинки: взбежав на холм во весь дух, он проворно, как заяц, побежал вниз в кустарник, который скрывал его с головой, и, прячась за ним, крался в гуще ветвей и диких растений. Долго бежал он так; потом вдруг вспомнил, что если портной ищет его, то, увидев, как колышется высокая трава и ветви, пожалуй найдет его; он остановился, забрался в самую чащу и притаился там, удерживая дыхание.
Побег удался ему как нельзя лучше. Тяни-влево долго проспал, проснувшись и увидев на траве деревянные башмаки, он понял, что пленник его убежал; он не стал поднимать башмаки и преспокойно пошел, посмеиваясь себе под нос, по дороге в Див, где рассчитывал провести ночь. На тропинке видны были следы голых ног.
«Этот дурень, мальчишка, – думал портной, – вообразил, что побежал к дому, а того не знает, что дом-то остался у него за спиной; я догоню его в четыре шага». И, погоняя перед собой палкой осла, портной зашагал вдоль по дороге своими длинными кривыми ногами, похожими на две косы и проворными, как крылья. Но благодаря счастливой мысли ребенка повернуть в противоположную сторону, чем дальше шагал портной, тем больше удалялся от него.
II
Было уже темно, когда Хромуша успокоился настолько, что решился, наконец, выйти из своего убежища. Была прелестная, тихая и безлунная весенняя ночь. Не трогаясь еще с места, Хромуша стал прислушиваться, и его очень испугал какой-то странный шум. Он вообразил, что это скрипит песок под ногами ужасного портного; потом – так как шум этот по временам походил на шум, производимый материей, когда ее рвут – мальчик опять-таки подумал, что это портной рвет материю, собираясь кроить ее своими страшными ножницами. Шум, однако же, постоянно повторялся, однозвучный и мерный. Это были всплески морских волн, разбивавшихся о берег. Хромуша никогда не слыхал шума волн, ему захотелось посмотреть, что это такое шумит; он высунул голову из-за куста и, осмотревшись, насколько было возможно в темноте, убедился, что, кроме него, не было никого в этой пустыне. Это была непонятная для него местность. Перед ним был длинный полукруг холмов, но он не мог рассмотреть их изгибов и выступов; они казались ему огромной стеной, полуобратившейся куда-то в пустое пространство. Это пустое пространство было море, но мальчик не имел никакого понятия о море. Ночной сумрак скрывал от него горизонт, так что он не мог различить черты, где кончается море и начинается небо, и только удивлялся, глядя на звездочки, блестевшие в вышине, и на странные огоньки, отражавшиеся внизу. Может быть, это были молнии? Но в таком случае как же они сверкали внизу? Мудрено было понять такие чудеса Хромуше, отроду не видавшему ни настоящей реки, ни даже небольшой горы. Он ступил несколько шагов в высокой траве, не смея сойти пониже; ему было страшно, и он был голоден.
– Поищу-ка я, – подумал он, – местечко, где бы можно было прилечь да уснуть, а рано поутру завтра стану спрашивать, как мне пройти домой; приду домой и узнаю, умерла ли моя мама или нет.
Он заплакал при этой мысли, но тут же вспомнил, как сам лежал в обмороке на спине у портного, и стал надеяться, что мама его оживет.
Он не решался лечь где ни попало, боясь, чтоб его не застал врасплох его ужасный хозяин; Хромуша все еще думал, что портной отыскивает его, и первым его делом было отойти подальше от дороги. Он стал осторожно спускаться вниз, но вскоре увидел, что это труднее, чем он думал. Почва холма была неровная, вся в расщелинах и буграх, как кора каштанового дерева. Мальчик хватался за выдававшиеся бугры, но они осыпались у него под рукой. Местами попадались большие ямы, поросшие травой и колючими растениями; он боялся упасть в них, и в самом деле он свалился в две или три ямы; на дне их была даже вода, только, к счастью, они были неглубоки. Темнота, одиночество и опасный, непривычный для жителя равнины путь, который был для бедного мальчугана тем еще труден, что он хромал, навели уныние на него. Уныние перешло в ужас. Он уже отложил мысль спуститься с холма и попробовал взобраться наверх. Но оказалось еще хуже. В тех местах, где солнце осушило почву и где росла густая трава, склон этой мнимой скалы был так скользок, что нога не находила опоры, мергель осыпался большими кусками, крупные камни валились, точно с неба. Ребенок выбился из сил и вообразил, что погиб, а тут еще на беду пришли ему на память и волки.
В отчаянии он бросился на густой мох и постарался заснуть, чтоб не чувствовать голода. Ему приснилось, что он катится с холма; вдруг что-то пробежало по нему, может быть, лисица, а может, и заяц, бедняга до того перепугался, что вскочил и, не помня себя от страха, бросился бежать куда глаза глядят, рискуя попасть в яму с водой и утонуть в ней. Он был уже не в состоянии рассуждать и не распознавал предметов, которые видел днем. Он бежал из одной лощины в другую. Ему чудилось уже, что он не бежит, а летит над землей, высокие гребни холмов казались ему великанами, которые смотрят на него, покачивая головами, всякий куст принимал он за притаившегося зверя, готового броситься на него. Ему приходили в голову разные нелепые фантазии. Раз как-то дядя его, моряк, сказал:
– Когда человек отдастся духам моря, то духи земли не взлюбят его.
Хромуша теперь припомнил эти символические слова, и они звучали в ушах его какой-то угрозой.
– Я слишком много думал о море, за это земля теперь ненавидит меня и не хочет носить, – размышлял он, – она расступается и проваливается везде под моими ногами; она встает передо мной буграми, которые осыпаются и хотят задавить меня. Я пропал! Я не знаю, где море, а может быть, оно было бы подобрее для меня; я не знаю, в какой стороне наша деревня и найду ли когда наш дом. Может быть, земля так же рассердилась на отца моего и на мать мою и их уж нет на свете.
Вдруг он услыхал над своей головой странные звуки. Множество тихих, жалобных голосов как будто призывали на помощь; это были не птичьи голоса – нет, то были голоса маленьких детей, такие кроткие и грустные, что Хромушей еще сильнее овладели тоска и уныние.
– Сюда, сюда, маленькие духи! – вскричал он. – Прилетите ко мне, поплачьте со мной или унесите меня, чтоб я мог плакать с вами; по крайней мере, вы горюете все вместе, а мне и поплакать-то не с кем!
Но тихие голоса неслись все мимо, мимо над Хромушей, не обращая на него внимания, хотя и его голос присоединился к общему хору. Прошло с четверть часа, а голосов было такое множество, что они все еще раздавались, мало-помалу они стали слышаться реже. Хор удалялся. Одиноко звучали уже только отставшие, они молили с выражением глубокой тоски, чтоб их подождали. Хромуша бежал за голосами, стараясь догнать их. Но вот прозвучал и последний. Мальчиком овладело снова отчаяние. Невидимые товарищи несчастья как будто облегчили его скорбь, а теперь он опять остался один-одинешенек посреди пустыни.
– Духи ночи, может быть, духи моря, сжальтесь надо мной, унесите меня! – закричал он.
В ту же минуту он сильно размахнул руками, как бы желая расправить крылья; в самом ли деле у него выросли крылья, так как он сильно желал иметь их, или все это было лихорадочным бредом, только он почувствовал, что отдаляется от земли и летит в ту сторону, куда полетели и странствующие духи. Несясь по сероватому воздушному пространству, он как будто ясно различал маленькие черные стрелы, летевшие впереди него; но они скоро исчезли, перед ним был только туман, и он напрасно кричал, чтоб его подождали. Голоса все еще звучали жалобным хором, но они летели быстрее его и замирали в облаках. Тогда Хромуша почувствовал, что устал, крылья отказывались служить ему, и он стал тихо, но безостановочно опускаться все ниже и ниже к подошве холма. Лишь только ступил он на землю, как замахал руками. Он все еще воображал, что это не руки, а крылья и что он может опять взлететь на воздух, когда отдохнет. Впрочем, ему некогда было долго раздумывать о том, руки ли у него или крылья: то, что он увидел, так сильно заняло его, что он почти забыл о себе.
Было темно, но не настолько, чтоб нельзя было различать не слишком отдаленные предметы.
Хромуша сидел на мелком мягком песке, посреди больших беловатых шарообразных масс, которые он принял сначала за покрытые цветом яблони. Но всмотревшись попристальнее и дотронувшись до них, он распознал, что это были большие скалы, похожие на те, которые он видел наверху и которые, может быть, много-много лет тому назад скатились на морской берег.
Берег здесь был славный, чистый, потому что в этом месте море, поднимавшееся ежедневно до подошвы дюны, смывало своими волнами всю грязь, которая падала с мергелевых холмов. Тысячи ручейков пресной воды струились с высоты и, разбегаясь по песку в разные стороны, тихо, беззвучно сливались с морем. Вода еще не достигала всей высоты прилива. Хромуша слышал плеск приближающихся волн, но перед ним не было еще ничего, кроме длинной беловатой песчаной полосы, по которой было разбросано множество черных глыб; они были различной величины и все более или менее округлены. Хромуша не боялся более, он смотрел на эти неподвижные массы с изумлением; они очень походили на стадо больших, спящих зверей; ему захотелось поближе рассмотреть их, он подошел к одной и дотронулся до нее. Это была скала, похожая на ту, у подошвы которой он опустился.
Но отчего же эта скала была черная, тогда как там, выше, на берегу скалы белые? Он опять дотронулся до скалы, и ему попалось в руку что-то похожее на огромную кисть черного винограда. Он был голоден и поднес ее ко рту. То были твердые раковины, но у Хромуши были острые зубы; он прокусил раковину, затем открыл ее ножом, бывшим у него в кармане, и принялся есть заключенных в них животных, одно за другим; они были очень вкусны, и их было здесь множество. Все белые камни, скатившиеся сверху, были покрыты ими, оттого-то и казались черными.
Наевшись досыта, он приободрился и стал рассудительнее. Он теперь уже не верил, что у него были крылья и что он летал в облаках, а подумал, что просто скатился с холма на берег.
Тогда он влез на одну из высоких черных скал и стал осматривать окрестность. Он опять увидел бледные длинные полосы света, похожие на молнии, которые видел прежде. Они сверкали будто по самой земле. Что бы это такое было? Хромуша вспомнил, как дядя его говорил, что вода в море ночью блестит, как белый огонь, и догадался, наконец, что перед ним море. Волны были совсем уже близко, они приближались к скалам, но так медленно, с таким однообразным, мерным шумом, что ребенок не видел, как они подвигались, и преспокойно остался на скале. Он смотрел, как они плескались вокруг, то подступали к скалам, то отскакивали назад, набегали на берег и разливались по нему с глухим рокотом, не лишенным своеобразной гармонии и навевающим сон на мало-мальски утомленного человека.
Было около десяти часов, а Хромуша обыкновенно ложился спать гораздо раньше. Конечно, скала, покрытая раковинами, была не слишком удобной постелью, но когда человек очень устал, то может заснуть, где ни попало. Несколько минут мальчик смотрел отяжелевшими глазами на тонкую серебристую пелену, тихо расстилавшуюся по песку, волны отхлынут, а пелена еще стелется, они унесут ее с собой, нахлынут снова, и пелена разольется еще дальше. Ничто не может быть ужаснее медленного, но коварного морского прилива.
Хромуша очень хорошо видел, что песчаная полоса становится все меньше да меньше и что мелкие волны играют уже у подошвы скалы, на которой он лежал.
Но ему так нравилась их белая пена, что они не внушали ему никакого опасения. Да, это было море. Наконец-то он увидел его! Оно было не очень велико, так как он видел вокруг себя только несколько беловатых сверкающих полос; далее поверхность моря сливалась с ночной темнотой. Море было совсем незлое, ведь оно, конечно, знало, что Хромуша всегда рвался к нему. Море непременно было умное и рассудительное, так как дядюшка-моряк, рассказывая о своих морских похождениях, отзывался о нем с уважением, как о какой-нибудь важной особе. Хромуше пришло в голову, что он еще не поклонился морю и что это невежливо. Полусонный, он почтительно снял с головы отяжелевшей рукой шерстяную шапку и поклонился морю, затем опустил голову на протянутую левую руку и крепко заснул, все еще держа в правой руке шапку.
III
Часа через два его разбудил какой-то странный шум. Волны так сильно бились о скалу, на которой он спал, что она, казалось, дрожала, да и скалы-то почти не было видно.
Белая пена окружала ее широкой каймой. Прилив был высок. Ребенок не понимал, что такое творилось вокруг него. Он хотел было убежать в ту сторону, с которой влез на скалу, но везде была вода, так что под ней исчезли даже все черные скалы. Волны доходили до подошвы белых скал и, казалось, хотели подняться еще выше. Хромуша опустил ноги в воду, чтобы узнать, глубоко ли. Он не достал до дна, но почувствовал, что если соскользнет со скалы, то волны унесут его. Тогда он подумал, что теперь уже непременно погибнет, вспомнил о матери и закрыл глаза, чтобы, по крайней мере не видеть, как будет умирать.
Вдруг он услышал над головой те же самые детские голоса, которые слышал на холме, и приободрился. Ведь он уже летал, отчего же не полетать ему еще? Он закричал, стараясь подражать голосам невидимых духов, и вдруг услыхал, что они парят над ним, точно призывают и ждут его. Он снова сильно размахнул руками, которые, вероятно, обратились в крылья, так как он поднялся на воздух. Но на этот раз он полетел не под облака, а понесся над морем. Он летал туда и обратно, касаясь крыльями волн, возвращался отдыхать на скалу, снова взмахивал крыльями, опять улетал, плавал и чувствовал необыкновенное удовольствие. Морская вода казалась ему теплой; он держался в ней очень легко и свободно, как будто был отличным пловцом. Ему захотелось заглянуть в морскую глубину, он сложил крылья и погрузил голову в воду. Вода была вся из белого огня, но не горела. Наконец он устал, возвратился на скалу и снова крепко заснул, убаюканный мелодическим плеском волн и тихими голосами духов, которые еще звучали как голоса маленьких детей в воздушном пространстве.
Когда он проснулся, солнце вставало в серебряном тумане, который широкими полосами уходил за горизонт. Свежий ветер рябил зеленоватую поверхность моря, а там на восточной стороне в нем отражались широкие сверкающие розовые и лиловые полосы; туман быстро рассеялся на горизонте, и Хромуша с высокой скалы, на которой спал ночью, увидел все морское пространство. Море сегодня было более спокойно, нежели накануне, и ушло гораздо дальше. Мальчику захотелось рассмотреть его поближе при дневном свете. Он слез со скалы и побежал по песку, не боясь замочить ноги в больших лужах, оставленных морским приливом, напротив, он был даже очень рад, когда забрался по колено в воду. Он набрал множество разнообразных раковин, все они были очень красивы; затем он возвратился к подошве холма, здесь струилось несколько ручейков – Хромуша напился. Вода была сладковата, но все же не такого едкого отвратительного вкуса, как морская, которой он уже было попробовал. Мальчик был так доволен, что видел, наконец, это чудное море, о котором прежде так много мечтал, что ему не хотелось возвращаться домой. Он почти забыл все, что случилось с ним накануне. Он ходил по берегу, на все смотрел, до всего дотрагивался и старался разъяснить себе все, что было у него перед глазами. Вдали плыли барки, он увидел на них людей и паруса, надутые ветром, и в первый раз стало ему понятно значение лодки. Он даже увидел вдали на горизонте корабль и вообразил было, что это церковь. Но эта диковинка плыла так, как и барки, и у Хромуши сильно забилось сердце. «Что, – подумал Хромуша, – это корабль или плавающий дом?» На таком корабле путешествовал и его дядя. Мальчику захотелось также попасть на корабль и посмотреть, где кончается море, там, за сероватой линией горизонта, отделяющей его от неба.
Он совсем уже было забыл о портном, как вдруг увидел вдали, на берегу какого-то человека, который шел в его сторону. Хромуша испугался сначала, но очень скоро успокоился, увидев, что человек этот был вовсе не урод, как портной, но такой же, как и все люди; ему даже показалось, что это был его старший брат Франсуа, погрозивший накануне портному кулаком; Франсуа терпеть не мог портного и очень любил своего маленького братишку Хромушу.
В самом деле, это был он – Франсуа. Хромуша побежал навстречу ему и бросился в его объятия.
– Откуда ты взялся? – вскричал Франсуа, обняв его. – Теперь только семь часов, а ты не из Дива. Где ты ночевал?
– Вот там, на этом большом черном камне, – отвечал Хромуша.
– Как! На Большой Корове?
– Это не корова, мой милый Франсуа, это настоящий камень.
– Э, да я и сам это знаю, а ты разве не знаешь, что эти большие каменья называют Черными Коровами? Но где же был ты во время морского прилива?
– Я не понимаю, о чем ты говоришь.
– Ведь морские волны доходят сюда, вот до этих камней, которые называют Белыми Коровами.
– Ах да, я видел, как они подходили сюда, но духи моря не дали мне утонуть.
– Не говори глупостей, Хромуша, морских духов нет. Вот про земных я не скажу…
– Земные это или морские духи, – живо перебил его Хромуша, – я не знаю, только я тебе говорю, что они помогли мне.
– Ты видел их?
– Нет, я слышал их. Видишь, я остался жив и здоров и даже славно спал, хотя со всех сторон вокруг меня была вода.
– Ну, так я тебе скажу, что ты очень счастливо отделался. Я знаю, что во время прилива, когда море тихо, только вот этот камень, Большая Корова, не покрывается водой; но если бы поднялся ветер, хоть и не очень сильный, вода покрыла бы камень и тебя не было бы уж на свете, мой бедный мальчик.
– Как бы не так! Я умею прекрасно плавать, нырять, летать над волнами. Это превесело.
– Полно, полно, не говори пустяков. Твое платье сухо; тебе было страшно, холодно, ты был голоден, а все-таки ты, по-видимому, совсем здоров. Поешь-ка хлеба, который вот я принес тебе, и выпей несколько глотков сидра из этого меха, а потом расскажи мне толком, как ты убежал от этой собаки – портного, так как я вижу, что ты улизнул из его когтей.
Хромуша рассказал все, что случилось с ним.
– Ну, – сказал Франсуа, – я очень рад, что он не успел еще помучить тебя, ведь он злой человек, я знаю, что он морил своих учеников голодом и колотил их без пощады. Наш отец не верит мне и убедил и матушку, что я зол на портного и лгу на него. Ты ведь знаешь, что она очень боится отца и всегда пляшет под его дудку. Вчера мать очень плакала и не ужинала, а сегодня поутру послушалась отца и перестала плакать; оба они теперь воображают, что ты перестал горевать, как и они, и что ты привык уже к твоему хозяину. Нет никакой возможности разубедить их. Если ты вернешься домой, отец тебя прибьет и сам отведет сегодня же вечером в Див, где портной – он вечно там шляется по чужим домам, не имея настоящего пристанища. Мать не заступится за тебя, она будет только плакать. Послушай-ка лучше моего совета – иди в Трувилль к дяде Лакилю, ты попросишь его, чтобы он определил тебя юнгой на какой-нибудь корабль, ты будешь доволен, так как всегда желал плавать по морю.
– Да меня не примут на корабль, – проговорил Хромуша уныло. – Отец говорит, что хромой не человек и ни на что не годится, как только в портные.
– Ты совсем не так сильно хромаешь, если мог пробегать всю ночь без башмаков по таким местам, как здешние, ведь их недаром называют пустынями. Разве у тебя болят ноги?
– Нисколько, – отвечал Хромуша, – только правая нога устала побольше левой.
– Это ничего, ты только не говори об этом у дяди. Делать-то тебе больше нечего. Если бы отец был здесь, он велел бы мне волей-неволей отвести тебя к портному и мне это было бы очень горько, так как я знаю, что ждет тебя у портного; но отец ничего не знает и, если ты хочешь, я провожу тебя в Трувилль. Это недалеко отсюда, и я успею еще до вечера вернуться домой.
– Так пойдем в Трувилль! – вскричал Хромуша. – Ах, мой милый Франсуа, ты спасаешь мне жизнь! Что ж! Если мама не захворала с тоски по мне, а отец и совсем не думает тосковать, так уж лучше мне уехать на корабле в море, море будет радо мне, оно было для меня таким добрым.
Через три часа они пришли в Трувилль, в те времена это была бедная деревня, населенная рыбаками.
Дядя Лакиль жил на самом берегу моря в собственном домике; у него была жена и семеро детей; все его имущество состояло из этого домика и большой лодки. Он обласкал Хромушу, похвалил его за то, что не хочет быть портным, выслушал с восторгом рассказ о том, как он провел ночь на Большой Корове, и с жаром уверял, что он самой судьбой назначен для самых чудных приключений. Он обещал начать с завтрашнего же дня хлопотать о том, чтобы мальчика приняли на какой-нибудь купеческий или военный корабль.
– Теперь иди домой, – сказал он, обращаясь к Франсуа, – я знаю, что отец Дуси упрям, а потому ты хорошо сделаешь, если не скажешь ему, что проводил мальчугана ко мне. Пусть он думает, что он у портного; знаю я этого морского рака, портного, он большой негодяй, скуп, трусит перед сильными и обижает слабых. Признаюсь, мне было бы очень обидно, если бы мой племянник попал в учение к такому скверному человеку. Иди с Богом, Франсуа, и будь спокоен. Я беру все на себя. Со временем отец и мать Хромуши еще будут гордиться им. Пусть пока думают, что он в Диве. Тяни-влево зайдет к вам, может быть, не раньше еще, как месяца через два или три. Когда отец твой узнает, что Хромуша улизнул, то мальчуган тогда будет уже плавать на корабле; если его там и будут когда кормить колотушками, так все же на корабле совсем другое дело. Моряки хорошие люди, так от моряка можно перенести побои, а уж терпеть побои от горбуна самое последнее дело, хуже этого позора и быть не может.
Франсуа и Хромуша нашли, что все это очень справедливо. Последнему даже не пришло в голову, что можно поколотить кого-нибудь без всякой вины – ни за что ни про что. По его понятиям только портной мог быть способен на такую жестокость. Франсуа отправился домой. Уходя, он дал своему братишке узелочек с бельем, которое его матушка исправно перечинила, новые башмаки и немножко денег; он прибавил к ним две собственные большие красивые монеты в шесть ливров каждая и маленький кошелек с медными деньгами для того, чтобы Хромуше не пришлось без крайней нужды разменять монеты; затем Франсуа поцеловал Хромушу в обе щеки и наказал, чтобы он хорошо вел себя.
Дядя Лакиль был очень добрый человек, очень восторженный, даже немножко легкомысленный, но кроткий, как большей частью бывают люди, которым пришлось много натерпеться горя на своем веку. Он много путешествовал и насмотрелся разных разностей, зато он давал волю своей фантазии, в особенности когда ему случалось выпить лишний стакан сидра. Тогда все ему казалось в преувеличенном виде, так что рассказы его не отличались строгой правдивостью. Хромуша слушал с жадностью и задавал ему тысячу вопросов. Когда подали ужин, пришла тетушка Лакиль. Это была высокая сухощавая женщина в грязной поношенной юбке и в коленкоровом чепчике, какие носят крестьянки в той стороне. У ней росло на подбородке, пожалуй, еще больше волос, чем было их в бороде ее мужа, и по всему видно было, что он у ней под башмаком. Она не особенно ласково поздоровалась с Хромушей, муж поспешил объявить ей, что он у них только на время. Она подала Хромуше тарелку, нахмурив брови, и сказала за ужином, что у него такой же аппетит, как у морской свинки. На следующее утро Лакиль исполнил свое обещание. Он сводил Хромушу к нескольким судохозяевам, но те отказались принять мальчика на свои суда, потому что он хромал. На военные корабли также не приняли мальчугана. Бедняга Хромуша возвратился с дядей домой очень огорченный; Лакиль должен был сознаться жене, что план его не удался, потому что мальчик хромал и, кроме того, так как он вырос не на морском берегу, то казался на вид робким и мешковатым.
– Я это знала заранее, – сказала тетушка Лакиль, – он ни на что не годен, и крестьянин-то из него выйдет плохой; напрасно ты взялся за это дело, ты вечно наделаешь глупостей, когда сделаешь по-своему. Надо отвести его к портному или к отцу и матери. У меня и без него много детей, к чему мне еще брать на себя лишнюю обузу.
– Подожди, жена, – сказал Лакиль, – имей терпение, может быть его еще и возьмет к себе какой-нибудь рыбопромышленник.
Тетушка Лакиль пожала плечами. В деревне было и без того много детей, приученных к рыбной ловле. Кому нужен был Хромуша, который ничего не умел и до которого никому не было дела? На другой день, однако, Лакиль опять попробовал куда-нибудь пристроить его, и это ему опять не удалось. У всех было больше детей, нежели работы для них. Тетушка Лакиль кричала, что у ней и без того слишком много расходов и что она не намерена кормить лишнего дармоеда. Муж просил ее потерпеть еще несколько дней и поехал с Хромушей на рыбную ловлю. Мальчик забыл все свои горести, когда очутился на лодке, которую тихо качала морская волна среди неизмеримого водного пространства, которое ему так нравилось.
– Он, однако, сильный мальчуган, – сказал дядя Лакиль, возвратясь домой, – он не труслив и не страдает морской болезнью. Он даже, как настоящий моряк, может стоять в лодке, когда она качается. Если бы его можно было оставить у нас, я бы из него сделал человека.
Тетушка Лакиль ничего не ответила; но когда настала ночь и дети все улеглись, Хромуша, которого так сильно тревожила мысль о своей участи, что он не мог заснуть, слышал, как тетушка Лакиль сказала мужу:
– Довольно уже нянчиться с ним. Портной пойдет за товаром в Гонфлер, и завтра он будет у нас в деревне. Я хочу, чтобы ты отдал ему его ученика, он образумит его. Если хочешь, чтобы ребенок был послушен, так самое лучшее средство выпороть его до крови.
Лакиль только опустил голову и молча вздохнул. Хромуша понял, что участь его решена и что дядя не спасет его от портного, и решился убежать. Он дождался, когда все уснули, тогда он потихоньку оделся, взял свой узелок, который заменял ему подушку, и пересчитал деньги. У Хромуши была очень оригинальная спальня. Дети Лакиля спали с отцом и матерью на двух кроватях, и так как кроме этих кроватей лечь было не на чем, то Хромушу поместили на полатях, над которыми было слуховое окно. Там спал он на вязанке водорослей. К полатям приставляли лестницу. Хромуша уже вытянул было ногу, чтобы ступить на нее, но лестницы не оказалось. Он вспомнил тогда, что тетушка Лакиль переставила ее на другой конец комнаты, когда забиралась по ней на чердак. Хромуша отдернул задвижку, которой было закрыто слуховое окно, и увидел, что ночь была светлая. Он рассмотрел также и лестницу, она стояла очень далеко, полати же были очень высоки, нельзя было спрыгнуть с них в комнату, не сломав себе шеи.
Странно, что Хромуша не вспомнил о своих крыльях. Но с тех пор как брат его посмеялся над его видениями, он не смел никому говорить о них и думал, что видел крылья во сне. Однако надо было убежать еще до рассвета. Он опять отворил слуховое окно и убедился, что пролезет в него; но окно находилось очень высоко от земли. Море было еще далеко. Накануне во время прилива он заметил, что вода доходила до столбов, поддерживавших дом, но когда начнется опять прилив? Он слыхал, что прилив бывает через двадцать три часа, но он плохо знал счет и не мог рассчитать времени прилива.
– Что ж за беда, если море придет за мной, – рассудил он наконец, – я не боюсь его, оно доброе для меня.
Долго стоял он так с узелком в руке, не зная, на что решиться, сон одолевал его. Ему уже мерещилось, что он на лодке вместе с дядей, как вдруг порыв ветра распахнул плохо запертое окно. Хромуша совершенно проснулся и услыхал детские голоса маленьких духов. На этот раз он разобрал, что они пели.
– Лети, лети скорее на море, на море, – пели духи, – не спи, расправь свои крылья и лети с нами на море, на море.
У Хромуши сильно забилось сердце, он почувствовал, что крылья его раскрылись. Он выпорхнул в окно и спустился по старой мачте, стоявшей близ стены и служившей насестом для голубей, или, как почудилось ему, полетел и очутился посреди воды в дядиной лодке.
Она была прикреплена к столбу цепью, запертой на замок. Впрочем, морские волны только еще лизали берег, и там, где стояла лодка, вода была неглубока; не знаю, полетел ли Хромуша над водой, как летают морские чайки, или поплыл, но знаю только, что он очутился, нисколько не замочив одежды, на большой песчаной равнине, поросшей местами очень сухим морским тростником; нелегко было бежать по такой равнине, к тому же было поздно и Хромушу клонило ко сну. Он прилег на мягкий, теплый песок и проспал до солнечного восхода. Он славно выспался и был очень рад, что ему удалось вырваться на свободу; только, к сожалению, радость его скоро омрачило неприятное открытие: он думал, что летел накануне по направлению к Гонфлеру, так как видел Гонфлерский маяк, но он ошибся. Он узнал место, где находился. За несколько дней перед тем он проходил тут с братом своим Франсуа, когда шел к дяде. Следовательно, он возвращался теперь к Черным Коровам. Портной на обратном пути из Дива должен был пройти здесь, и Хромуша мог встретиться с ним. Что было делать? Идти обратно в Трувилль также было опасно: его там увидели бы и выдали бы врагу.
Хромуша решился идти вдоль морского берега между дюнами, держась подальше от дороги, которая шла повыше песчаной равнины. Он слыхал от дяди, что портной терпеть не мог моря, – он боялся его до сумасшествия и говорил, что всякий раз, когда ему случалось ехать на лодке, то он бывал болен. Его тошнило от одного вида морских волн, и он всегда избегал идти берегом, а обходил его окольным путем.
Хромуша пришел в Виллер, где, осторожно осмотревшись, торопливо купил большой хлеб и тотчас пошел опять вдоль берега. Он снова увидел Черных Коров с тем же удовольствием, с каким увидел бы свой родимый дом с садиком, и снова очутился в совершенном одиночестве.
Теперь, однако, он уже не хотел возвратиться домой; из слов брата он понял, что нет никакой надежды смягчить отца и найти защиту у матери. Он принялся есть, осматривая берег. В несколько дней, проведенных у дяди, он получил кое-какое понятие об окружающей местности. День был ясный. Он видел вдалеке устье Сены и открытые равнины, по которым шла дорога в Гонфлер. Дюны были единственным надежным убежищем во всей окрестности, где он мог жить в безопасности. Бедный ребенок боялся всех на свете, а знакомство с тетушкой Лакиль еще больше запугало его и не могло внушить доверия к роду человеческому. К тому же он давно привык к одиночеству, так как пас коров в безлюдной стране, где было мало прохожих; да и с тех пор, как он познакомился с духами, ему вовсе уже не казалось страшно жить одному в пустыне. Пораздумав хорошенько о своем положении, Хромуша порешил обойти дюны и, выбрав местечко, поселиться в нем навсегда.
Навсегда! Вы, может быть, скажете мне, что это невозможно, скажете, что стал бы делать Хромуша, когда настала бы зима, и что денег, которые были у него, было слишком мало, чтобы он мог покупать еду, и наконец, откуда бы он брал одежду в такой пустыне, где ничего не росло, кроме плохой травы, которую даже не хотели есть коровы?
Правда, что на морском берегу было несметное множество ракушек; но ведь все ракушки да ракушки, надоест наконец, особенно когда еще притом и вода очень невкусна. Я вам скажу на это, что Хромуша был совсем не такой ребенок, как те дети, которые в двенадцать лет умеют читать и писать. Он ни о чем не имел понятия, ничего не предвидел, не умел размышлять, даже, может быть, не привык и думать. О нем всегда заботилась мать, и ему невольно казалось, что она все еще тут, подле него, что она даст ему супу, когда он захочет есть, и закутает его одеялом, когда он ляжет в постель. Он только машинально твердил себе, что поселится тут навсегда, потому что вся будущность для него заключалась в том, чтобы спастись от портного.
Он забрался в расщелины дюны. Около Черных Коров дюна была более ста метров вышины, с остроконечными верхушками, красивая, но мрачная; бока ее пестрели красным, серым и темно-оливковым цветами, отчего она походила на настоящую скалу. На ней-то и захотелось приютиться Хромуше, но это оказалось невозможным; а впрочем, может быть, ведь и можно было как-нибудь взобраться на нее? Брат так напугал его, что очень опасно спать на Черных Коровах, что он обещал никогда больше этого не делать. К тому же днем он становился не так уже храбр, как ночью, и терял веру в свои ночные грезы. Он попробовал вскарабкаться на дюну в том месте, где ему показалось удобнее, и это удалось ему лучше, нежели он ожидал. Вскоре он узнал, по каким местам можно было ходить безопасно и что опасные, которые осыпались, надо было обходить там, где росли известные ему растения. Наконец он добрался до самой большой дюны, некоторые расщелины ее поросли травой, по которой нога его не очень скользила и по которой можно было ходить не проваливаясь. Долго-долго бродил он таким образом по этим более или менее окрепшим холмам и увидел наконец род пещеры, сделанной отчасти самой природой, отчасти рукой человека. Он вошел в нее. В ней была точно комнатка, нарочно устроенная для жилья. У стены стояла деревянная скамья. Одно место было совсем черно, как будто здесь кто-то разводил огонь; но в то же время видно было, что тут уж очень давно никто не жил, так как пышная зеленая трава, которая росла у входа, вовсе не была измята. Даже целые кусты хворостника заграждали вход в пещеру, и никто не думал рубить их.
Хромуша завладел этой кельей, покинутой уже много лет тому назад, вероятно оттого, что холм осыпался. Он положил на скамью узелок свой, нарезал сухой травы и устроил себе из нее постель.
«Теперь, – думал он, – ни портной, ни тетушка Лакиль никогда не отыщут меня. Я славно заживу здесь! Вот если бы только была у меня здесь хоть одна корова из нашего стада, мне было бы повеселей».
Он задумался о коровах, которых, впрочем, никогда особенно не любил; ему взгрустнулось; делать ему было нечего, так как хлеба у него было достаточно еще дня на два, и он решился не выходить из дюны, пока, по его соображениям, портной мог быть в окрестностях; со скуки он залег спать, хотя было еще светло, и проспал до вечера. Проснувшись, он обрадовался темноте, потому что впотьмах портному было труднее найти его, и вышел из пещеры. Перед ней был овраг, поросший травой и испещренный множеством цветов.
– Это будет мой садик, – решил Хромуша и стал прогуливаться по этому странному садику.
Овраг был окружен почти прямыми скатами холма, так что из него был виден только клочок неба. Хромуша был в нем точно в норе. Он не помнил, с которой стороны попал в него, и задумался о том, как же он выберется оттуда, когда захочет выйти из своих владений?
Теперь усталость его прошла, он был сыт и спокойнее духом и в первый раз в жизни принялся соображать и размышлять. Он сообразил, что так как в пещере кто-то жил, то непременно должен быть какой-нибудь путь, которым приходили и уходили оттуда. Он решил также, что море должно быть где-нибудь близко, потому что он находился в глубине дюны, далеко от тропинки, прорезывающей ее почти посредине той самой тропинки, по которой он убежал от портного. Но отчего же не было видно моря? Овраг поворачивал несколько вправо. Хромуша пошел влево и скоро пришел к невысокой стене, очевидно сделанной рукой человека; в стене было пробито отверстие; мальчик взглянул в него и увидел море футов на сто ниже того места, где он стоял. Из-за темных туч выплывала луна. Хромуша очень обрадовался, что море было близко, так что он во всякое время мог любоваться на него и слышал плеск его волн, этот плеск станет убаюкивать его, и под мерный ропот его он станет спать в пещере гораздо спокойнее и безопаснее, чем на Черной Корове, которая вся дрожала от напора волн. Он внимательно осмотрел внутреннюю стену утеса; в этом месте дюна была так тверда, что ее можно было назвать утесом. Стена была совершенно отвесная и неприступная. Человек, живший здесь когда-то, должно быть, также скрывался, потому что пробил себе сторожевое окно в таком диком и крутом утесе.
Потом Хромуше захотелось посмотреть другой конец этого оврага, в котором он был заключен, и пошел было туда, но вдруг ему загородила дорогу глубокая расщелина в совершенно прямой естественной стене.
При свете месяца, полузакрытого тучами, мальчик старался отыскать тот путь, которым попал в овраг. Ощупью пробрался он около расщелин по грудам осыпавшейся и загромоздившей их земли; но дорога эта оказалась так опасна, что он решился отложить поиски до утра. Луна все более и более заволакивалась тучами, но надо рвом было еще не совсем темно. Хромуша пробрался в пещеру по окраине своего садика; ему не хотелось спать, но ему было скучно в темной пещере; он думал, что маленькие духи прилетят утешить его своим пением, но вокруг него раздавался только глухой рев разыгрывающейся бури; мальчик заснул тревожным сном.
Он обыкновенно спал так крепко, что никогда не видал снов, а если и видел когда, то не помнил. Но в эту ночь ему много грезилось. Он видел, будто ходит по дюне и никак не может выбраться из нее; потом вдруг он очутился как-то в родительском доме, отец его считал деньги и все твердил: «Восемнадцать, восемнадцать, восемнадцать!» Дуси предлагал портному восемнадцать ливров за первый год ученья Хромуши, а портной хотел двадцать. Отец Дуси крепко стоял на своем и все твердил: восемнадцать да восемнадцать, до тех пор, пока портной не согласился. Тогда Хромуша почувствовал, как на него опустилась безобразная, крючковатая рука портного; он вскрикнул от ужаса и проснулся.
В пещере было темно, как в могиле. Хромуша насилу сообразил, где он, и начал уже было успокаиваться, как вдруг, в двух шагах от него, совершенно внятно раздалось: «Восемнадцать, восемнадцать, восемнадцать!»
Хромуша замер от ужаса, волосы у него стали дыбом, на теле выступил холодный пот. Голос, сказавший это роковое число, не был похож на звучный, сильный голос его отца. Нет! Это был какой-то хриплый, разбитый голос, ну вот точно как у портного! Неужели портной был в пещере? Неужели он отыскал-таки приют Хромуши и уведет его с собой? Мальчик, вне себя от ужаса, спрыгнул со скамьи, на которой лежал… что-то зашумело около него.
– Восемнадцать, восемнадцать, восемнадцать! – затвердило невидимое существо хриплым голосом, и что-то вихрем вылетело из пещеры. – Восемнадцать, восемнадцать, восемнадцать! – раздалось еще несколько раз, пока наконец голос замер вдали.
Хромуша немножко опомнился, когда враг его удалился.
– Может быть, – пришло ему в голову, – буря случайно загнала портного в пещеру. Он не видал меня, пока я спал, а когда я проснулся и соскочил со скамьи, он, верно, испугался меня, поэтому и убежал.
Мысль, что портной был трус, даже, может быть, еще более трус, чем сам он, Хромуша, воодушевила его необычайной храбростью. Он взял палку, положил подле себя на скамью и снова улегся, с твердой решимостью не давать пощады врагу, если он появится.
Он заснул, но через несколько времени опять проснулся; буря прошла, трава у входа в пещеру была освещена луной. Пока Хромуша спал, шел дождь, и листья висячих растений, спускавшихся над отверстием пещеры, сверкали как изумруды.
Вдруг Хромуша, к крайнему своему удивлению, услыхал где-то недалеко мычанье быков, блеянье коз и собачий лай. Голоса этих животных раздавались так часто, что он, закрыв глаза, мог вообразить, что находится дома; однако он очень хорошо знал, что он в пещере посреди пустыни. Каким же чудом могло быть в этих местах стадо? А если это было стадо, то, значит, где-нибудь неподалеку жили и люди.
Сначала голоса эти нравились ему; слыша их, он чувствовал себя уже не таким одиноким в пустыне, но вдруг с разных сторон множество голосов опять закричало диз юйт, диз юйт[2]! Точно будто на всех вершинах дюны сидело по портному и все они пугали Хромушу и смеялись над ним. Он не мог уже снова заснуть и, притаясь в уголке, стал дожидаться, когда рассветет, но крики затихли. Наконец занялась заря. Хромуша вышел из пещеры и посмотрел вокруг. Нигде не было ни души, только на вершинах дюны сидело множество птиц. Несколько птиц пролетело над головой мальчика. Тут были болотные кулики разных видов, пигалицы с блестящими, как изумруды, зелеными перьями порхали, рассекая воздух грациозными движениями крыльев; большая выпь летела уныло, закинув на спину голову и вытянув лапки. Хромуша никогда не видал таких птиц и не знал, как они называются, потому что в той местности, где он жил, не было ни озерка, ни реки, и перелетные птицы не останавливались там для отдыха. Он рассматривал их с удовольствием, но все-таки не мог объяснить себе причины странных голосов, слышанных ночью, и решился посмотреть, нет ли поблизости какого жилья.
Прежде всего надо было выйти из оврага. При дневном свете Хромуша очень легко отыскал выход и так же легко пролез в него, несмотря на то что он был тесен и отчасти зарос кустами колючих растений. Он хорошо приметил это место, так что мог даже и ночью найти его; а затем он влез повыше на скалу, откуда была видна вся окрестность. Но куда ни смотрел он, всюду была только пустыня, нигде не было ни клочка обработанной земли, ни домика.
Он вообразил тогда, что все слышанное им ночью было проделками леших, которым вздумалось попугать его. Ведь брат его Франсуа сказал:
– Нет морских духов, но что касается земных духов, то это другое дело.
Родители его верили в домовых, которые будто бы охраняют лошадей, коров и других домашних животных от всяких бед или насылают на них болезни. Хромуша слепо верил тому, что слышал от родителей. Пока он жил дома, ему не случалось иметь дела ни с какими духами, но с той ночи, которую он провел на Черной Корове, он стал верить в морских духов; если были морские духи, то отчего же не могло быть земных. Мысль эта встревожила его, так как он имел повод полагать, что земные духи были не расположены к нему. Уж не хотели ли они выжить его из дюны, или, может быть, портной был колдун и, превратясь в невидимого духа, мучил его ночью. Словом, в голове Хромуши бродила всякая чепуха; впрочем, ведь дух, твердивший диз юйть, диз юйть, убежал от него, а другие не посмели даже войти в пещеру. Они только кричали на разные голоса, подражая крику животных, может быть с тем, чтобы заставить его выйти, и, если бы он вышел, они сбили бы его с пути, так что он бы заблудился.
«Пусть в другой раз они кричат, как хотят, – подумал он, – я не высуну носа из пещеры, в дюне я не заблужусь, потому что знаю ее теперь вдоль и поперек; если же духи придут ко мне в пещеру, я их славно отколочу; ведь дядя недаром же говорил, что у меня вырастут крылья мужества».
IV
Ему захотелось пить, и он начал искать воду. В ней не было недостатка, везде текли ручейки. Хромуша заметил, что чем выше тек ручеек, тем вода была лучше на вкус, но все-таки отдавала землей.
Наконец он нашел струйку воды, которая пахла диким тмином; эта вкусная вода сочилась из ущелья в скале капля по капле, так что надо было иметь какой-нибудь сосуд, чтобы напиться ею. Хромуша видел много больших устричных раковин, увязших в мергеле, но почти все они были поломаны; прежде морской прилив доходил до этих мест и выбрасывал сюда эти раковины. Поискав немножко, Хромуша нашел много цельных раковин. Он подставил их очень искусно одну под другой под струйку воды, так что вода капала в каждую из них; таким образом, у него мог быть всегда наготове запас свежей и приятной на вкус воды. Мальчик подождал, пока наполнилась одна раковина, и унес ее в свой сад, где предполагал позавтракать. У него не было ничего, кроме черствого хлеба, но он не привык к варенью и другим лакомствам, а потому с большим аппетитом поел хлеба и запил водой.
День промелькнул очень быстро. Погода была чудная; он рассматривал растения, которые росли в дюне и которых не было в долинах. Некоторые из них были некрасивы, все в шипах и колючках, но Хромуша не был за то в претензии на них; они, точно часовые, защищали от врагов вход в его владения. Другие, напротив, были очень милы и очень нравились ему, потому что оживляли его пустыню; он даже остерегался ходить по ним или садиться в тех местах, где они росли; ему стало бы досадно на себя, если бы он помял их.
В этот день он вдоволь насмотрелся на море из отверстия, пробитого в стене, на склоне утеса, которое он назвал своим окошком. Море показалось ему в этот день чудно хорошо, так хорошо, как никогда еще не бывало. Вдали видны были барки и лодки различной величины, но ни одна из них не приближалась к утесистому берегу, так как места эти считались опасными. Нынче со всех сторон съезжаются сюда промышленники за устрицами. В те же времена здесь была настоящая пустыня; в целый день Хромуша не видел на берегу ни души. Это придало ему смелости. Под вечер он пошел на берег собирать ракушки на ужин и взглянул, не видать ли с берега его окна, но его вовсе не было видно, так как оно было очень высоко и невелико, а трава и кусты совершенно закрывали стену. Несмотря на все свое старание, Хромуша не мог разглядеть, где оно. Он так много ходил и лазил в этот день, что проспал всю ночь как убитый. Если даже духи шумели, кричали и говорили ночью, он не слыхал их.
Третий день своего пребывания в пустыне Хромуша употребил на то, чтоб хорошенько ознакомиться с подошвой дюны, с той целью, чтоб выискать местечко, где можно было бы спрятаться, если бы неприятель застиг его врасплох на берегу. Он нашел с десяток таких местечек. Теперь, когда он подробно ознакомился с местностью и убедился, что никто до него не доберется здесь, он вполне почувствовал себя на воле, как какой-нибудь дикий зверек в родимом лесу. Он набрал также большой запас ракушек и отнес в пещеру для того, чтобы завтрак был у него всегда под рукой, если бы он заленился спуститься к берегу.
На берегу росло много тростника, дрока, мелкого ивняка и другого гибкого кустарника; он нарезал ветвей, снес их домой, он уже называл мысленно пещеру своим домом и принялся плести большую и прочную корзину. Он устроил себе также великолепную постель из водорослей, которые море выкинуло на берег.
Наконец ему пришло на ум заняться охотой. Он умел мастерски метать камни; долго подкарауливал он морскую куропатку, которая прыгала и резвилась на берегу, и попал в нее метким ударом; надо было теперь зажарить ее. В узелке Хромуши был прибор для добывания огня, который в те времена всегда брали с собой, когда пускались в дорогу. Он состоял из железного кольца, кусочка трута и кремня. Хромуша набрал груду хвороста, высек кремнем огонь так же скоро, как если бы чиркнул спичкой, и зажарил куропатку. Не стану утверждать, что мясо ее было очень вкусно, думаю даже, что оно пахло дымом, но Хромуше оно показалось превосходным, и он очень жалел, что не может попотчевать своей стряпней мать и брата Франсуа.
Морская куропатка вовсе не принадлежит к семейству куропаток, ее скорее можно приписать к семейству ласточек. Она питается не зерном, а ракушками. Это очень жирная красивая птичка, на шее у ней кольцо из перьев другого цвета, чем остальное оперение, придающее ей в самом деле сходство с куропаткой, величиной она с черного дрозда. Обед Хромуши, как видите, не был обременителен для желудка. Подстерегая куропатку, Хромуша видел на берегу много других птиц, которые также сильно привлекали его. Тут были пыжики, ржанки, морские жаворонки, которые также не принадлежат к семейству жаворонков, а скорей к семейству морских куликов, устрицеядцы или морские сороки, нырки, белобрюшки, чайки, гагары; под вечер они прилетали на берег и с шумным криком порхали и резвились на песке.
Хромуша заметил, что некоторые птицы, очень большие, летавшие над самой водой, точно плавали, с солнечным закатом улетали еще дальше в открытое море, как будто и спали на море. Другие возвращались к берегу и исчезали в расщелинах дюн. Были и такие, которые поутру высоко-высоко взвивались в воздух и терялись в белых облачках, скользивших как волны по небу, озаренному розоватым отблеском утреннего солнца. Вечером они словно спускались с облаков и ужинали на скалах и на песчаном берегу. Хромуша сначала подумал было, что они целый день летают в поднебесье, но вскоре увидал, как одна из этих птиц, сидевшая на самой верхушке дюны, вспорхнула с нее, описала в воздухе круг и спустилась к воде; за ней и другая сделала то же самое, потом третья и так далее. Хромуша насчитал их штук до двадцати. Он заключил из этого, что у них есть гнезда на вершинах дюны и что они, как совы, принадлежат к ночным птицам, то есть к таким, которые днем спят, а промышляют корм ночью.
Хромуша часто из своего окошка наблюдал за птицами, так что они не видали его. Раз он увидел сцену, которая очень заняла его. Морские ласточки, описывавшие большие круги около того места, где он находился, часто роняли из клюва что-то похожее на ракушек или маленьких рыбок; при этом они покачивались в воздухе на одном месте и испускали крик, которым, казалось, звали кого-то. Хромуша стал внимательно следить за одной из них и посмотрел вниз: на земле что-то закопошилось; ему показалось, что то были маленькие птенчики, подбиравшие корм, брошенный матерью. Хромуша сошел на берег и увидел, что не ошибся. Он подошел к птенчикам и хотел взять их, так как они еще не умели летать, но мать их опять закричала, и они проворно побежали в траву. Хромуша раздвинул траву и нашел их. Они сидели прижавшись друг к другу. Он не взял их, чтоб не огорчить их мать, ведь, вероятно, думал он, она знала, сколько у нее было птенцов.
Ему часто случалось видеть, как птицы добывали рыбу, и он научился от них этому промыслу. На берегу были не одни раковины, когда, после прилива, волны отступали от берега, они оставляли на нем множество хорошеньких, очень аппетитных на вид рыбок. Вся сила была в том, чтобы успеть подхватить их, пока волна еще не отхлынула и не унесла их обратно в море. Морские птицы были очень хитры и очень ловко ловили рыбок. Хромуша попробовал было подражать им. Но прилив был сильный, и Хромуша хоть и не боялся моря, а все-таки подумал, что не мешало бы, если бы у него были крылья, чтобы вспорхнуть над волной, и пожалел, что не может превратиться в птицу по своему желанию. Но судьба ниспосылала ему этот дар только в минуты крайней опасности или сильного отчаяния; Хромуше же не хотелось снова подвергаться ни тому ни другому, и он решился лучше поучиться плавать, не надеясь на воображаемые крылья, а просто с помощью собственных рук и ног.
Так как он не боялся утонуть, то вскоре стал плавать, как чайка; надо полагать, что способность эта присуща людям, как и всем другим животным, и только страх мешает им иногда развить ее.
Вот только было худо, что Хромуша уставал плавать гораздо скорее, чем птицы, и не так зорко видел в морской воде, а потому ему никак не удавалось наловить столько рыбы, сколько они ловили. Он перестал соперничать с этими ловкими рыбаками и стал наблюдать за другими птицами, которые не ныряли, а рылись клювом в морском песке. Он смастерил лопатку, начал также рыться в песке и нашел множество маленьких угрей, которыми изобилует этот берег; он нажарил их на ужин; они оказались очень вкусными; если бы еще у Хромуши был хлеб, то он был бы совершенно доволен своей судьбой; но хлеб весь вышел, а он не смел сходить за ним в Виллер.
Хромуша решился как можно дольше обходиться без него и задумал добыть яиц, так как тогда была именно та пора года, когда птицы кладут яйца; он не знал, что морские птицы большею частью не вьют гнезд, а несутся прямо на песок или где-нибудь на скале. Хромуша нашел яйца там, где вовсе не ожидал, но они были так малы, что он не обрадовался своей находке. Большие птицы, которые несли большие яйца, должно быть, неслись на самых вершинах скалы; но туда, казалось, не было никакой возможности взобраться; правда, что со стороны пустыни скала была вполовину ниже, чем со стороны берега, но зато она была очень крута и приходилось лезть на нее по очень рыхлым земляным буграм.
У Хромуши кружилась голова, когда он только смотрел снизу на ее вершину, впрочем, он с каждым днем становился отважнее. Он приобретал, но понемногу, то хладнокровное мужество, которое, вместо того чтобы слепо бежать от опасности, умеет взвесить степень ее и найти средство избежать ее. Он так изучил все изгибы, впадины и выпуклости большой скалы, что наконец вскарабкался благополучно почти до самой верхушки. Труд его вознаградился с избытком: он нашел в одном углублении четыре больших красивых зеленых яйца и положил их в свою корзинку, дно которой было выложено водорослями. Кроме яиц он нашел еще здесь три великолепных пера и воткнул их себе в шапку. Перья эти были длинные, тонкие, нежные и белые как снег, должно быть они выпали из головы или из хвоста птицы. Так как яйца были еще теплы, то Хромуша заключил, что птицы эти, вероятно, неслись ночью, и ему пришло в голову, что нетрудно будет словить их. Пораздумав, однако, хорошенько, он отказался от этой затеи. Может быть, и в самом деле ему удалось бы поймать двух или трех птиц, но зато он напугал бы остальных и они переселились бы куда-нибудь в другое место, а ему хотелось постоянно лакомиться яйцами.
Прошла уже целая неделя, а Хромуша не видал ни души ни на берегу, ни на дюнах. У него было так много дел, что ему некогда было скучать; но, когда он обжился на новоселье и узнал как свои пять пальцев все закоулки в дюнах и на берегу и убедился, что не умрет здесь с голода, дни стали ему казаться длиннее, и он стал скучать. Он уже был знаком теперь с образом жизни почти всех птиц, населявших берег; теперь ему хотелось знать их названия, откуда они прилетели, сообщить кому-нибудь свои наблюдения, – словом, побеседовать с кем-нибудь.
Погода стояла прекрасная, майское солнце высушило грязь, и на берегу стали появляться прохожие; сильно билось сердце у Хромуши всякий раз, когда он видел живого человека – так бы и полетел к нему, кажется, и заговорил бы с ним. Сказал бы ему, например, вот хоть, что погода хорошая, что весело гулять теперь или что-нибудь подобное, но у него не хватало духа: что, если у него спросят, кто он таков и что он тут делает? Хромуша знал, что бродяжничать нехорошо, что бродяг ловят и иногда сажают даже в тюрьму. Он был слишком прямодушен и честен, чтобы солгать, ему и в голову не приходило назваться каким-нибудь вымышленным именем и сочинить какую-нибудь сказку, чтоб объяснить свое житье в этих местах; он предпочел скрывать радость видеть людей.
В одно утро восточный ветер донес до него звуки колокола, которые напомнили ему, что день был воскресный. Хромуша по привычке надел свое праздничное платье, новые башмаки, чисто вымылся, причесался, воткнул в шапку три белых пера, которые нашел на скале, и пустился в путь-дорогу, сам еще не зная хорошенько, куда идет. Он привык по воскресеньям ходить к обедне. В деревне к обедне сходились все старые и малые. После службы начиналось веселье, молодые люди играли в кегли и плясали. Звуки колокола как будто призывали мальчика в среду его ближних; ему казалось невозможным провести воскресенье в одиночестве.
Почем знать, может быть, он еще встретит брата Франсуа? Он дорого бы дал, чтобы услыхать что-нибудь о своих родителях, и решился рискнуть. Портной, наверное, был теперь далеко от Гонфлера. Хромуша пошел прямо через пустыню и вскоре очутился в двух шагах от Виллера. Он никого не знал там и надеялся, что никто не обратит на него внимания, как это случилось уже два раза, когда он проходил через Виллер, ему только хотелось увидать людей и услышать звуки человеческого голоса, но к крайнему его удивлению, на этот раз все не только смотрели на него, когда он проходил мимо, но даже провожали его глазами.
V
Это встревожило Хромушу, и он уже хотел отправиться обратно восвояси, но, проходя мимо булочной, он не устоял против искушения и зашел в нее.
– Сколько же тебе надо хлеба, мальчуган? – весело спросил булочник, взглянув на него с удивлением.
– Не можете ли вы дать мне один очень большой хлеб, – ответил Хромуша, которому хотелось, чтоб ему хватило его на несколько дней.
– Разумеется, могу, – отвечал булочник, – хоть даже два или три, если только у тебя хватит силы нести их.
– Так дайте три, – сказал Хромуша, – мне не будет тяжело.
– У вас, верно, большая семья? – заметил булочник.
– Должно быть, что так, – отвечал мальчик, которому не хотелось солгать.
– Ого! какой ты гордец! – сказал булочник. – Ты неразговорчив. Ты не хочешь сказать, откуда ты, а ты нездешний, я тебя никогда не видел.
– Да, я нездешний, – ответил Хромуша, – только мне некогда разговаривать. Дайте мне, пожалуйста, три хлеба и скажите, сколько они стоят?
– Да недешево, – отвечал булочник, – в здешней стороне хлеб ведь очень дорог, но если ты отдашь мне вот эти перья, что у тебя на шляпе, так приходи ко мне каждое воскресенье весь месяц, я буду каждый раз давать бесплатно по три таких же хлеба. Этот обмен выгоден для тебя, ты должен быть рад.
Хромуша сначала подумал было, что булочник смеется над ним; но так как тот настаивал, то мальчик смекнул, что, верно, перья его большая редкость и что все прохожие на улицах смотрели на них, а не на него. Он проворно снял их, булочник потянул уже было руку за ними, но Хромуша не дорожил деньгами; он считал себя богачом, так как обладал двумя экю и отказался отдать эти красивые перья, найденные на вершине скалы, куда он вскарабкался с опасностью для жизни.
– Нет, – сказал он, – вот вам деньги, возьмите сколько вам следует за три хлеба, я не отдам перьев.
– Хочешь, я буду давать тебе по три хлеба не один, а два раза в неделю?
– Нет, благодарствуйте, уж лучше возьмите деньги за хлеб.
– Хочешь – по четыре хлеба в неделю в продолжение двух месяцев?
– Я сказал вам, что не хочу, – отвечал Хромуша, – я не отдам перьев.
Булочник дал ему три хлеба. Хромуша заплатил за них и вышел из булочной. Чтоб возвратиться в пустыню, ему пришлось обогнуть дом булочника, и он услыхал, как булочник сказал жене:
– За сорок восемь фунтов хлеба он не хотел уступить мне своих перьев.
Хромуша остановился под окном и стал слушать.
– Да это настоящие ли перья квиквы? – сказал женский голос.
– Настоящие! – отвечал муж. – Да еще какие славные! Я никогда не видывал таких.
– Они становятся нынче редкостью, – продолжала жена, – эти птицы не водятся больше на здешнем берегу; нынче за одно такое перо платят по луидору. Ты мог бы выручить за них три луидора. Надо догнать этого мальчика и предложить ему по одному экю в три ливра за перо, может быть, наличные деньги прельстят его скорее, чем кредит в булочной.
Но Хромуша, как мы уже знаем, не слишком дорожил деньгами. Он пошел скорее и, пока булочник искал его направо, он убежал налево и возвратился в свою пустыню.
Он много раз раздумывал об этом приключении.
«Отчего же, – думал он, – перья квиквы – этих птиц, я помню, называли квиквами – такая редкость. Что за чудо, что птичье перо стоит луидор? Я думал, что они ни на что негодны, и воткнул их в шапку так только, ради забавы, а выходит, что, если бы я потребовал, чтоб булочник снабжал меня хлебом целый год, он, может быть, согласился бы, лишь бы только я отдал ему мои перья со шляпы».
Хромуша, никогда не видевший нищеты, был некорыстолюбив. Ему гораздо было приятнее обладать диковинкой, может быть, еще одаренной какой-нибудь тайной чудной силой. Погруженный в свои думы, шел он, ничего не подозревая, по дороге, пролегавшей посреди дюн, как вдруг услыхал позади себя пронзительный, хриплый голос.
– Вы сказали, – говорил этот голос, – что он пошел в эту сторону; будьте спокойны, я догоню его, и, если он не хочет продать своих перьев, я отниму их у него, таким образом, они нам достанутся задаром, это будет самая выгодная сделка.
Голос раздавался еще вдали, но он так хорошо был знаком Хромуше, что он в ту же минуту узнал его, не было никакого сомнения – за ним гнался портной! В ту же секунду у Хромуши выросли крылья страха и унесли его далеко от дороги в кустарник. Но когда он очутился в кустарнике, ему стало очень стыдно, что он так боялся горбуна.
Ведь он влезал на большую дюну и плавал по морю, а Тяни-влево никогда бы не отважился на такие подвиги.
«Пора, – подумал он, – быть мне настоящим человеком и перестать бояться другого человека, иначе я буду вечно несчастен и вечно связан во всех моих поступках. Я так же высок и так же силен, как этот злодей портной, а дядя Лакиль говорил, что он храбр только с трусами. Будь что будет, а уж я постараюсь задать ему жару! Добрые морские духи не оставят меня».
Он воткнул в шапку свои перья, удальски надел ее набекрень, положил хлеб на траву и, вооружась своей толстой палкой с железным наконечником, пошел прямо навстречу портному с твердой решимостью так отколотить врага, чтоб у того навсегда пропала охота преследовать его. Однако, когда он очутился лицом к лицу с портным, сердце у него сильно екнуло, и он чуть было не убежал. Но в ту же минуту он вытянул руки, воображая, что это крылья мужества, и очень проворно и ловко завертел палкой. Портной попятился шага на два.
– Ах, да это мой маленький ученик, – проговорил он с приятной улыбкой. – Хромуша, голубчик, ты, верно, не узнал меня? Ведь я твой друг. Я не имею против тебя никаких дурных намерений.
– Неправда, имеете, – возразил Хромуша. – Вы хотите отнять у меня мои перья. Я знаю это.
– С чего ты взял? – вскричал портной в изумлении. – Кто мог тебе сказать это?
– Должно быть, духи, – отвечал Хромуша, стоявший в воинственной позиции на большом камне на краю дороги; услыхав слово «духи», Тяни-влево побледнел и задрожал, так как был твердо убежден в их существовании.
– Ах, какой же ты сердитый, голубчик! – проговорил он. – Ты скажи мне только, где гнезда квикв, у которых такие славные перья. Я больше ничего от тебя не требую.
– Их гнезда в таком месте, – отвечал Хромуша, – куда могут летать только птицы да духи. Это значит, что я вас не боюсь, и, если вы все еще затеваете против меня какие-нибудь козни, я вас унесу туда, куда квиквы уносят морских раков, и сброшу вас оттуда в море на самое дно.
Хромуша был так зол на портного, что сам не помнил, что говорил, но Тяни-влево вообразил, что Хромуша продал свою душу черту, он пробормотал что-то сквозь зубы и пустился улепетывать со всех ног обратно в Виллер. Хромуша, сам не веря себе, что одержал такую блестящую победу, пошел в кустарник, где захватил свой хлеб, и убежал в пещеру.
– Конечно, – говорил он вслух сам с собой – он чувствовал непреодолимую потребность говорить, – теперь я ничего больше не буду бояться, и никто не уведет меня туда, куда я не хочу идти. Я теперь свободен, если это дух моря даровал мне мужество, то я не хочу утратить его дара. Теперь, – продолжал он рассуждать, – я стану еще искать перья этих чудных птиц, которым все люди завидуют. Когда я наберу много перьев, я продам их и пойду скажу отцу: «Теперь мне не нужно быть портным: ничего, что я хромой, я могу в один день приобрести больше денег, чем мои братья в целый год». Отец будет доволен и позволит мне жить, как я хочу.
Пустыня показалась ему очень приятной. Он был так рад, что у него был хлеб, да еще к тому же такой вкусный, что он в этот день ничего не ел, кроме хлеба. Прежде его несколько тревожила мысль, чтобы не пришлось ему насидеться голодным, равно и мысль о необходимости каждый день промышлять себе обед на морском берегу. Теперь же он был вполне уверен, что в состоянии ходить везде, куда ему вздумается, без страха и покупать все, что захочет; в нем разыгралось самолюбие. Теперь он не хотел уже довольствоваться только маленькими птичками и маленькими рыбками, ему захотелось иметь предметы роскоши и добыть такие перья, которым позавидовали бы все жители в окрестностях, а жадный портной умер бы с досады.
На следующее же утро он совершил мудреный и опасный подвиг. Еще до рассвета он полез на вершину, пробираясь между высокими остроконечными утесами и шагая через глубокие расщелины так ловко и осторожно, что не разбудил ни одной птицы. Взобравшись, наконец, на вершину, он потихоньку прилег на склон, так что мог за всем наблюдать, и лежал неподвижно. Он очень удивился, приметив развалины, которых прежде не замечал. Здесь была когда-то караульня, то есть то, что нынче называют береговым телеграфом: такой телеграф находится теперь в другой части этих же самых дюн. Он служит для того, чтоб видеть все происходящее на море и чтоб передавать предостережения. Около того места, где лежал Хромуша, стоял прежде простой шалаш, построенный с той целью, чтоб воспрепятствовать краже морской соли, составлявшей тогда отрасли контрабанды, которой промышляло много удальцов.
Шалаш обрушился вместе с частью большой скалы, но от него уцелела еще часть остова с кое-какими досками. Развалины эти служили отличным приютом для птиц, которые любят сидеть на насестах. Квиквы большие охотницы до деревьев, но запуганные в окрестных лесах промышленниками, торговавшими их дорогими перьями, поселились во множестве в этом давно забытом и недоступном для глаз убежище. В некотором расстоянии от того места, где обрушилась скала, образовался род небольшого болота, и кроме квикв переселилась туда целая колония других водяных птиц.
Понятно теперь, отчего существовала пещера и окошечко, пробитое внизу в стене. Караульщики были обязаны жить на вершине скалы в шалаше, но там было опасно, и они тайком от начальства устроили себе жилье в пещере, где были лучше защищены от морского ветра; отверстие в стене пробили они затем, чтобы не взбираться на вершину скалы для наблюдений.
Хромуша, который в свое краткое пребывание в Трувилле приобрел кое-какие понятия, очень был рад, что никто не знает, где живут квиквы. Он принялся рассматривать их гнезда, грубо свитые из ветвей в развалинах шалаша. В них сидели только самки на яйцах, мало-помалу стали возвращаться и самцы с ночного промысла. Старинные натуралисты назвали этих птиц за образ жизни, а также и за крик nycticorax, то есть ночными воронами. Они принадлежат к семейству цапель, настоящее их название квиква. У них густое оперенье; они летают без шума, как вообще ночные птицы. Впрочем, когда у них есть птенцы, они промышляют и днем. В колонии на скале птенцы еще не вылупились из яиц и самцы кормили самок. Хромуша прежде видел этих птиц только снизу, когда они летели, и думал, что они все белые, но теперь он увидел, что у них были белые только брюшко да шея. Крылья их были светло-серые, красивая, темно-зеленая мантия покрывала их спину, а на голове у них был хохолок из трех длинных и нежных перьев, грациозно закинутых за спину. Казалось, что этот головной убор был только у самцов; впрочем, Хромуша заметил, что и у многих самцов его не было. Тогда была пора, когда птицы линяют, и много этих драгоценных перьев было рассеяно по скале. Но Хромуша не хотел подбирать их теперь. Он хотел познакомиться с образом жизни этих ночных бродяг и лежал не шевелясь. Самцы улетали и прилетали обратно, принося самкам рыбу, раковины, насекомых. Вдруг один из них увидел Хромушу и издал крик. В ту же минуту все разом повернули головы в ту сторону, где лежал мальчик.
Сначала он было оробел немножко, когда на него уставилось множество больших красных глаз. Всех самцов было штук пятьдесят. Они были величиной с молодую индейку и вооружены длинными клювами и острыми когтями. Если бы все они накинулись на Хромушу, то ему пришлось бы плохо. Но они только посмотрели на него с видом удивления и, так как он не шевелился, они забыли о нем и занялись своими делами. Они дрались между собой, нанося друг другу удары крыльями, потом стали чиститься, потягиваться и даже зевать, как уставшие люди; наконец, каждый из них выбрал себе уютное местечко, и при солнечном восходе все заснули, стоя на одной ноге. Тогда Хромуша потихоньку встал, осторожно, не разбудив птиц, собрал перья и спустился со скалы с благоразумной решимостью никогда не брать яиц из гнезд, чтобы птицы не вздумали переселиться куда-нибудь в другое место.
На следующую ночь он опять вскарабкался на скалу, нарочно пораньше до возвращения самцов с ночного промысла. Осторожно, не разбудив самок, покрошил он хлеба около их гнезд. Он думал, что хлеб понравится птицам и они будут благодарны ему. Мысль ребенка оказалась справедливой. Почти все птицы, какой бы корм они ни привыкли есть, любят хлеб, и Хромуша поутру увидел, что все крошки съедены. Несколько дней сряду крошил он хлеб около гнезд, и вскоре квиквы, как самки, так и самцы, привыкли к нему; они улетали уже не так далеко, когда он подходил, а под конец и вовсе перестали слетать с мест при его приближении. Вылупившиеся птенчики познакомились с ним прежде, чем научились бояться людей, и стали до того ручными, что прилетали к нему, садились на его колени, ели из его рук и, когда он уходил, летели вслед за ним до окраины дюны.
Занятие это доставляло такое удовольствие, что он вовсе перестал скучать. Он начинал любить этих диких птиц так, как никогда не любил домашних голубей и кур; он гордился тем, что приручил этих недоверчивых созданий, тогда как никто из окрестных жителей не знал, где они скрываются; вскоре и все другие птицы перестали бояться его, так как он расхаживал между ними осторожно, без шума, не спугивая их, и везде крошил хлеб. Они привыкли летать и резвиться вокруг него. Совесть стала упрекать его за убийство морской куропатки, и он отправился купить сыра и мяса, чтобы не подвергаться искушению лишать жизни товарищей своего уединения.
Он не хотел идти в Виллер из опасения, что тамошний булочник, пожалуй, узнает его, станет приставать к нему и, может быть, даже будет следить за ним украдкой, чтобы проведать, где он живет. Он заприметил деревеньку поближе, она была расположена на самой дюне, на ее склоне к равнине. Кажется, деревенька эта называется Обервилль. Он нашел там все, что желал, и даже увидел в лавке славные яблоки; у него не хватило твердости духа, чтобы устоять против соблазна, он купил яблок, за которые заплатил очень дорого, и выпил кружку сидра, который очень любил. На этот раз у него не было перьев на шапке, и он очень остерегался, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего. У него были две тайны: первая – кто он и откуда, потому что он боялся, чтобы его не отвели к родителям, вторая – чтобы не проведали о его приюте на дюне, потому что это открытие привлекло бы туда любопытных ребятишек и промышленников, торгующих перьями. Но он слушал, что говорили другие, и узнал много нового. Мальчикам этой деревни были довольно хорошо известны береговые птицы, они говорили, что только две породы из них считаются дорогими: квиквы, до которых стало вовсе невозможно добраться, потому что они или очень хорошо умеют скрываться, или вовсе перестали вить гнезда на этом берегу, и другие, маленькие птички, гагары; последние были перелетные птицы, и прежде их преследовали так неутомимо, что они стали очень недоверчивые и редко показывались в этих местах. Хромуша расспросил про гагар и узнал, что на брюшке у них очень густой блестящий пух, употребляющийся для украшения одежды вместо меха. Его скупали промышленники, торговавшие перьями, приезжавшие сюда два раза в год. У Хромуши было уже до дюжины хохолков; ему очень хотелось знать, когда приедут эти промышленники, чтобы продать им свой товар, но он боялся возбудить подозрение расспросами и отложил их до другого раза.
VI
Хромушу удивляло, что до него никто еще не отыскал приюта квикв на вершине скалы, но он услыхал кое-что об этом, что заставило его призадуматься. «В старину, – говорил рассказчик, – птицы эти жили на деревьях – на большом утесе, но от него отвалился большой осколок и так как нынче там не растет деревьев, корни которых связывают почву, то на него перестали взбираться. Говорят, что земля там такая рыхлая, что весь утес может обрушиться от тяжести только одного человека».
Хромуша ушел из деревни немножко встревоженный. Как было ему не тревожиться, когда он жил на этом утесе и каждое утро влезал на самую вершину его?
Ночью ему стало страшно. По морю ходили большие валы. До него доносился их глухой рокот, он беспрестанно просыпался, воображая, что это обрушивается утес. Он слишком хорошо изучил местность и знал, что пещера, в которой он жил, принадлежала к той же каменной породе, как и большие камни, называемые Черными и Белыми Коровами и которые обрушились сверху вместе с землей. Море постоянно подмывало подошву дюн и, как говорили, каждую зиму сносило их. Очень могло быть, что большие камни, под которыми находилась пещера Хромуши, лежали на очень рыхлом грунте. Кроме того, земля могла осыпаться сверху и завалить вход в пещеру, и тогда Хромуша остался бы в ней навеки, погребенный заживо.
Бедный мальчик не мог спать. Теперь, когда он умел размышлять, он чувствовал, что эта драгоценная способность влечет за собой другой печальный дар предвиденья. К счастью, им владела страсть, заглушавшая страх. Он хотел жить сообразно с природой, свободным и самостоятельным существом. Он не знал этого слова – «природа», но был в восторге оттого, что живет как дикарь, и чувствовал какую-то горделивую радость при мысли, что его не соблазняет мирный приют у домашнего очага и тишина родимых полей. Он решился остаться в своем гнезде на том основании, что если на скале поселились птицы, то, вероятно, они в этом случае одарены большей проницательностью, нежели человек, и чувствуют инстинктивно, что скала еще тверда и не скоро обрушится.
Он прожил в дюне все лето, покупая себе съестные припасы в разных местах; он нигде не говорил, кто он и откуда; все более и более привыкал он питаться только дарами моря и плодами для того, чтобы не быть рабом своего желудка. Вскоре он стал так воздержан в пище, что его уже не тянуло ходить в деревню. Ему удалось встретить промышленников, приехавших за перьями, и он продал им свой товар так, что никто не видел. Он был настолько благоразумен, что не стал очень дорожиться, чтобы иметь покупателей и впредь. Он согласился взять по экю за перо, а так как у него было пятьдесят перьев, ему отсчитали триста ливров блестящими золотыми луидорами. В те времена такая сумма считалась огромной, и можно поручиться, что ни одному крестьянскому мальчику никогда не привелось добыть столько денег.
Сделавшись обладателем такого несметного богатства, Хромуша решился отнести его своим родителям, но прежде ему захотелось повидаться с дядей Лакилем. Вся его одежда, даже и праздничная, сильно пострадала от постоянного лазанья по скалам, а ему хотелось явиться к родным в приличном виде, и он заказал себе в Диве новое платье, немного белья и хорошую обувь. Расплатясь за все как следует, положив в карман деньги и взяв в руки палку, он перед наступлением зимы пошел в Трувилль, где встретил дядю, в горьких слезах возвращавшегося из церкви. Он только что похоронил свою жену, и хотя она делала жизнь его несчастной настолько, насколько было в силах ее, бедняга оплакивал ее так, как будто жил с ней душа в душу. Он очень удивился, увидев Хромушу. Он думал, что мальчик живет у родителей, и даже не сразу узнал его, так он переменился. Хромуша вырос и сильно загорел от морского воздуха, он окреп, потому что много ходил и лазил, и перестал хромать. Выражение лица его также изменилось, теперь на нем отражалась какая-то уверенность и серьезность, а взгляд стал живой и проницательный. Платье сидело на нем лучше, чем прежнее, которое сшил Тяни-влево, привыкший шить на крестьян без мерки, по навыку и глазомеру, и Хромуша казался в нем ловчее и молодцеватее; Лакилю это тотчас бросилось в глаза.
– Откуда ты? – вскричал он. – Ты не из дома?
– Нет, – отвечал мальчик, – только скажите мне поскорей, здоровы ли мои родители, я расскажу потом про себя.
– Я ничего не знаю про них, – отвечал дядя. – Когда ты убежал от нас, ночью… кажется, будет тому с полгода…
– Так точно, дядя, я считал месяцы.
– Ну да. Я очень беспокоился о тебе и везде отыскивал тебя. Но через несколько дней случилось здесь проходить портному. Он сказал, что встретил тебя неподалеку от Виллера и что не стал тебя принуждать идти с ним, так как подумал, что родители твои оставили тебя дома и что ты шел по какому-нибудь поручению от них. Я перестал беспокоиться о тебе; а тут скоро захворала моя бедная жена, так что я никуда не уходил из дома, только ездил ловить рыбу. Оттого я ничего не знаю про твоих. Вероятно, они думают, что ты где-нибудь далеко за морем, так как я говорил Франсуа, что определю тебя юнгой на какой-нибудь корабль. Мне кажется, что теперь ты можешь смело идти домой, родители не отдадут тебя опять портному. Не знаю, что у вас было с ним, но только он сказал, что скорее согласится взять себе в учение чертенка, чем такого странного и несговорчивого мальчика. Я подумал, что ты показал ему зубы, и был рад этому.
– Я показал ему мою палку, – сказал Хромуша, – вы правду говорили, дядя, у меня выросли крылья мужества.
И он рассказал все свои приключения и показал удивленному моряку сотню экю.
– Прекрасно, – вскричал дядя Лакиль, – теперь ты богат и можешь устроиться, как тебе хочется! Коль скоро ты можешь быть полезен, всякий согласится принять тебя на корабль; ты можешь уехать в далекие страны, где водится много птиц, гораздо более красивых и редких, чем твои квиквы, как, например, фаэтоны или тропические птицы, хохлатые американские цапли, райские птички, фениксы, возрождающиеся из своего пепла, кондоры, которые уносят быков, и бездна других, о которых ты не имеешь и понятия.
– Правда, дядя, что я почти ничего не знаю, – сказал Хромуша, – и мне не мешало бы кое-чему поучиться.
– Путешествие всему выучит.
Эта красивая фраза не убедила племянника. Лакиль совершил кругосветное плавание, но не умел читать, и Хромуша, беседуя с ним, начинал замечать, что дядя имеет ложные понятия о самых простых вещах, так, например, он верил, будто бы некоторые птицы питаются только воздухом, что другие не несут яиц, а родятся от уткородков – пупырчатых моллюсков, прицепляющихся к подводной части кораблей. У Хромуши был очень мечтательный ум, он охотно верил в волшебных птиц, то есть в духов или гениев, принимающих на себя птичий образ; но он уже достаточно наблюдал законы жизни и потому не мог разделять заблуждения и предрассудки дяди.
Тем не менее мысль путешествовать казалась ему очень соблазнительной. От скуки он очень часто мечтал в своей пустыне о далеком морском плавании. Лакиль советовал ему отправиться в Гонфлер и взять место на каком-нибудь корабле, отъезжающем в Англию. В Гонфлере всегда были корабли, готовые отплыть в эту страну. Там водилось много гагар, и Хромуша мог приобрести их сколько душе угодно. Но когда мальчик услыхал, что их надо убивать и ощипывать, чтобы добыть их пух, он грустно опустил голову. Он ни за что не хотел убивать птиц, эта мысль внушала ему ужас.
После ужина он гулял с дядей по морскому берегу; они опять заговорили о морском путешествии, и у Хромуши сильно забилось сердце при виде больших судов, готовых к отплытию в Гонфлер на следующее утро. Он уже хотел было обратиться к какому-нибудь из судохозяев, чтобы взять себе место на его судне, как вдруг услыхал в темноте хорошо знакомые ему жалобные детские голоса.
– Вот они! Вот они! – вскричал он. – Они прилетели за мной.
Дядя разинул рот от изумления. Хромуша, протянув руки, побежал вслед за невидимыми духами, продолжавшими призывать его. Сначала они летели вдоль берега, как будто к пристани, потом вдруг повернули и понеслись через поля. Хромуша бежал за ними и все хотел за ними подняться в воздух, но наконец выбился из сил и, запыхавшись, возвратился к дяде, который думал, что он сошел с ума.
– Послушай-ка, Хромуша, – сказал дядя, – неужели ты в самом деле считаешь караваек за духов?
– Караваек! Что это за каравайки, дядя?
– Ты их не знаешь? Правда, они летают только в темные ночи, так что их никогда не видно. О них никто не имел бы и понятия, если бы иногда не удавалось застрелить какую-нибудь каравайку, целясь наудачу во всю стаю. Только это случается очень редко; говорят, что они летают скорее, чем дробь из ружья. Я согласен, что это необыкновенные птицы, они несут яйца в облаках, и ветер высиживает их.
– Нет, нет, дядя, – вскричал с живостью Хромуша, – если это птицы-каравайки, как вы их называете, то они не несут яиц в облаках, если же это духи, как я в том твердо уверен, то они вовсе не несут яиц. Может быть, их пение похоже на пение караваек, я сам, когда в первый раз услыхал их, подумал, что летели ночные птицы, но когда я хорошенько вслушался, то понял, что они пели. Они меня звали, они дали мне крылья и научили меня плавать по морю, не замочив одежды; они помогли мне улететь из вашего дома в слуховое окно. Да, они часто помогали мне и утешали меня. Я верю в них, я их люблю и побегу за ними туда, куда они укажут мне.
– А почему же, – возразил дядя, – ты не пошел теперь, куда они указывали?
– Они не хотели, чтобы я шел туда. Они очень ясно показали мне, повернув в сторону от морского берега, что не хотят, чтобы я нынче вечером взял место на судне. Они полетели вон туда, на юг. Скажите, пожалуйста, ведь там наша деревня?
– Конечно, там, в трех лье от моря по прямой линии.
– Это значит, что завтра же поутру я должен пойти туда. Я хочу повидаться с родителями и отдать им деньги.
– Все это хорошо, только они спрячут деньги и не дадут на дорогу, когда ты захочешь путешествовать.
– Что ж за беда? Я могу во всякое время вскарабкаться опять на скалу и еще набрать перьев; а со временем они позволят мне поступить на корабль.
Хромуша так и сделал. Он расспросил о дороге и на следующее утро около полудня стоял уже перед калиткой родного сада.
VII
Мать увидала его прежде всех, она узнала его еще издали, несмотря на то что он переменился, и, вне себя от восторга, бросилась обнимать его. Хромушу глубоко тронула ее радость, было время, когда он думал, что она не особенно сильно любит его, а бедная женщина тем сильнее любила его и горевала о нем, что принуждена была расстаться с ним, скрепя сердце. Отец Дуси, Франсуа и вся остальная семья также обрадовались Хромуше; он был хорошо одет, здоров на вид и даже перестал хромать, что доказывало, что он не терпел лишений в продолжение своего путешествия. Все, даже и Франсуа, были убеждены, что он приехал издалека, потому что во время его отсутствия дядя Лакиль не виделся ни с кем из семьи.
Отец Дуси, впрочем, немножко побранил Хромушу за то, что он уехал, не спросясь родителей, и прибавил, что если он будет не в состоянии зарабатывать сам себе пропитание, то будет в тягость семье. Хромуша выслушал это со скромным видом и подал отцу кошелек.
– Я надеюсь, – сказал он, – что буду всегда в состоянии заработать себе честный кусок хлеба, не обижая ни людей, ни животных. Вот что я заработал за шесть месяцев; если вам нужны деньги или если вам просто они могут доставить удовольствие, примите их от меня, милый отец. Я надеюсь, что на будущий год принесу вам еще больше.
Вся семья вытаращила глаза на золотые монеты, но отец Дуси покачал головой.
– Где ты взял эти деньги, мальчуган? – спросил он. – Скажи-ка мне это, хоть я и простой крестьянин и никогда не путешествовал ни по морю, ни сухим путем, но очень хорошо знаю, что ни юнга, да и никакой другой ученик твоих лет не может заработать столько денег; в ученье берут вас только за хлеб.
Хромуша увидел, что отец подозревает его в чем-то дурном, и рассказал, каким образом приобрел такое богатство. Отец поверил ему, так как местные жители знали, что за перья некоторых птиц промышленники платят очень дорого. Он заметил только, что квиквы вывелись в тамошних местах, что, вероятно, Хромуша встретил их где-нибудь далеко в другом месте; отец Дуси был твердо убежден, что мальчик ездил летом на корабле в далекие страны. Хромуша, несмотря на расспросы дяди Лакиля, не сказал ему, в каком именно месте жил на берегу. Он не открыл также этой тайны и своим родителям. Он знал, что, если он заикнется о Черных Коровах и о большом утесе, ему строго-настрого запретят ходить туда, потому что место это считалось опасным. Родители его вообразили, что он приехал из Шотландии от дяди Лакиля, и Хромуша не стал разуверять их.
Он довольно удачно отделывался в первый день свидания от вопросов, которыми осыпали его. Родные его не имели ни малейшего понятия о чужих странах, и Хромуше не пришлось много выдумывать. Он говорил, что в Шотландии, так же как и во всяком другом месте, едят хлеб, овощи и мясо, что деревья не растут там корнями вверх и что он ничего не видел необыкновенного ни там, ни в других местах.
– Хорошо, хорошо, – сказал отец Дуси под конец ужина, – мне нравится, что ты не выдумываешь и не говоришь вздора, как твой дядя Лакиль. Будь всегда так же благоразумен и рассудителен, и все пойдет прекрасно, у тебя изобретательность и способность к торговле. Ты знал, какой лучше вывезти товар, чтобы прибыльнее продать его. Я не хочу лишать тебя твоих денег, они твои, я куплю тебе на них хороший участок земли. Это будет основанием твоего будущего богатства.
– Если вам не нужны деньги, – возразил Хромуша, – в таком случае лучше отдайте их мне, я поеду опять путешествовать, и, может быть, мне удастся наткнуться на что-нибудь новое.
Случилось то, что предвидел дядя Лакиль. Отец Дуси не хотел и слушать того, что говорил Хромуша. Он не мог представить себе другого помещения денег с толком, кроме покупки на них земли для яблоневых садов; он думал, что нехорошо оставить в распоряжении ребенка такую сумму денег. Он похвалил сына за то, что тот не растратил денег, а привез домой, но не был уверен, что Хромуша не растратит, если получит их снова. Хромуша должен быть уступить; ему, как видите, подрезали крылья. Он лег спать опечаленный, он видел, что ему приходится отложить, хотя на время, дальнейшие путешествия.
Но он увидел во сне, что духи сказали ему: «Надейся, мы тебя не покинем, ты нас послушался, и мы за то сумеем наградить тебя».
Он решился покориться своей участи и, сказать по правде, был доволен тем, что спал теперь на мягкой теплой перине. Уже недели две как стало похолоднее, и ему было не совсем удобно в пещере, где по стенам сочились капли воды и куда врывались порывы ветра. Дуси жили хорошо, они были не бедны и не скупы. Хороший хлеб и сидр водились у них всегда в изобилии, и Дусета была одарена талантом варить очень вкусно свинину. Хромуша был ее любимцем, она была так нежна с ним и так за ним ухаживала, что он не мог устоять против искушения, и ему до того понравилась спокойная и беззаботная жизнь среди семьи, что он решился провести дома всю зиму. Он видел, как стаи перелетных птиц потянулись с моря в сторону суши, одни, чтобы перезимовать в болотах, другие, чтобы лететь в далекие теплые страны. Он думал, что в такое время года птицы не остаются более в северных странах. Он еще не знал, что некоторые виды их любят холод и улетают не на юг, а на север.
Ему не хотелось лгать без нужды, и он сказал отцу, что не был связан никаким условием, которое могло бы заставить его возвратиться на корабль. Он хотел добиться того, чтобы родители предоставили ему свободу и отпустили бы его добром из дому. Так как у него не было никакого дела, то он принялся опять пасти коров, но неуклюжие и неповоротливые коровы вовсе не нравились ему; плоская, однообразная равнина нагоняла на него тоску. Он стал скучать, его думы вечно летали над морем и утесами. Раз как-то отец послал его в Див к аптекарю за лекарством. В те времена употреблялись более сложные лекарства, чем нынче, и аптекари обязаны были учиться многому.
Див – очень древний город, но Хромуша остался безразличен к нему. Ему очень не нравилась местность, окружающая город, хотя она довольно красива со стороны, противоположной морю, но Хромуша смотрел только на море. Песчаный плоский берег был не по душе ему. В узком канале, заменяющем гавань, откуда некогда отправился на завоевание Англии флот Вильгельма Завоевателя, стояли большие суда, которые вели незначительную торговлю с Гонфлером. Вид их показался так соблазнителен Хромуше, что им овладело сильное желание проехаться по морю хоть только до Гонфлера, и он чуть было не забыл об отцовском поручении. Он устоял, однако, против искушения и спросил, где живет аптекарь. Пока готовили лекарство, Хромуша опять чуть было не забыл, что надо отнести его домой. Предмет, приковавший к себе его внимание и приводивший его в неописуемый восторг, был турухтан, или морской павлин, как зовут этих птиц, сидевший неподвижно на палке в стеклянной клетке. Он был точно живой. Глаза его блестели, и клюв был открыт. Аптекарь, которого забавляло удивление мальчика, отворил клетку и сказал ему, чтобы он дотронулся до птицы. Оказалось, что она была набита соломой. Хромуша, никогда не видевший чучела птицы и даже не имевший понятия о таком искусстве, обратился к аптекарю и с жаром стал просить его, чтобы тот показал ему, как набивают птиц. Подобная просьба деревенского мальчика удивила его.
– Пожалуй, – проговорил он, – ты сделаешь мне удовольствие, если станешь помогать мне в этой работе, особенно если ты так же ловок, как и решителен.
Он сообщил затем Хромуше, что тамошний священник, равно как и владетель соседнего замка, были большие любители орнитологии, как называл аптекарь науку о птицах, которая учит распознавать их и разделять на различные семейства и виды. Священник и барон добывали себе птиц, где только могли, барон платил за них, не жалея денег, а священник тратил на них все, что позволяли ему средства. Окрестность изобиловала морскими и береговыми птицами, потому что берега были очень песчаны и в стране было много болот, образуемых рекой Дивой. Охотники подкарауливали дичь в болотах и на берегу и относили ее в замок. У барона была большая коллекция чучел. Аптекарю поручено было изготовлять их, он был довольно искусен в этом деле, но у него не было помощника, так что он принужден был употреблять на эту работу слишком много времени. Он сказал Хромуше, что старательный и понятливый ученик был бы ему очень полезен и что он стал бы платить жалованье тому, кто захотел бы выучиться его делу.
– Возьмите меня, господин, – сказал Хромуша, – я уверен, что выучусь скоро и хорошо, даже, если вы не обидитесь, скажу вам, что знаком с птицами лучше, чем вы. Вот эту, например, которую вы называете турухтаном – я не знал ее названия, – я сто раз видел на воле и знаю, как она летает, как садится и все, что ее касается. Вы хотели придать ей такой вид, как будто она собирается драться, а это не так; если бы ее можно было мять, как тесто, я показал бы вам, как она любит сидеть.
Аптекарь был умный человек, а потому признавал ум и в других. Замечание Хромуши не рассердило его.
– Что же, – сказал он, – попробуй, ее можно мять, как ты говоришь, то есть можно придать ей другой вид, согнув иначе проволоку, заменяющую ей кости и мускулы. Ничего, попробуй, если испортишь – беда небольшая, турухтан ведь не какая-нибудь редкая птица.
Хромуша с минуту не знал, на что решиться. Он побледнел, немного вздрогнул, потом постарался припомнить живых турухтанов, которых видел, и вдруг, взявшись за птицу осторожной, но твердой рукой, он придал ей, не попортив ни одного перышка, такую естественную позу и вместе с тем такой гордый вид, что аптекарь чрезвычайно удивился.
– В самом деле, – сказал он, – эта поза натуральнее, чем та, которую сделал я, но моя зато была энергичнее.
– Что вы говорите, сударь? – сказал Хромуша.
– Я хочу сказать, что птица казалась более сердитой так, как я ее посадил. Ведь турухтаны хищные птицы.
– Они хищные, но совсем не злые, сударь, – возразил Хромуша убежденно. – Птицы бывают злы только тогда, когда голод вынуждает их драться, а эти почти никогда не наносят вреда друг другу. Турухтаны дерутся только для игры, и то из похвальбы, когда на них смотрят. Вот как они дерутся: самцы садятся в ряд на песчаные бугорки, а. самки на другие бугорки напротив и смотрят на них. Тогда старики говорят по-своему молодым: «Ну, детки, покажите-ка нам, мастера ли вы драться». Двое молодых схватываются и начинают тузить друг друга крыльями до тех пор, пока не выбьются из сил. За ними начинает другая пара; иногда две пары дерутся одновременно, но всегда друг против друга, и никогда стая не нападает на стаю ни из-за самок, ни из-за корма. Когда забава эта наскучит им, все опять становятся друзьями и летят вместе гулять или промышлять корм.
– Все это очень возможно, – сказал со смехом аптекарь, – если ты так внимательно наблюдал птиц, то, конечно, знаешь их лучше, чем я, и я сознаюсь, что мне больше нравится турухтан так, как ты посадил его. Я думаю, что у тебя большая способность к наблюдательности и, может быть, ты художник от природы.
Хромуша не понял, что это значит, но сердце его радостно забилось, когда аптекарь сказал ему:
– Приходи завтра, я стану учить тебя этому ремеслу, оно немудреное, и ты скоро выучишься, так как видно, что ты любишь и понимаешь природу, а потом я устрою тебе в замке место препаратора, ты станешь изучать естественную историю птицы и со временем можешь сделаться смотрителем коллекции у барона или у кого другого. Как знать, может быть, из тебя еще выйдет ученый!
Хромуша хорошо понял только то, что увидит новых, неизвестных ему птиц, узнает, как они называются и где живут. Он не пошел, а полетел домой и без труда получил от отца позволение работать по птичьему ремеслу.
– Коли он этого хочет, – сказал отец Дуси, глядя с улыбкою на жену, – и так как господин аптекарь очень хороший человек, то я думаю, ты, Дусет, будешь рада, если сын наш будет жить недалеко от нас и мы будем часто видеться с ним, не так ли?
Дусет, конечно, больше хотела бы, чтоб Хромуша жил дома, но так как муж соизволил улыбнуться, то она сочла долгом ответить не менее приятной улыбкой. Притом же она страшно боялась, чтоб Хромуша опять не вздумал уехать в Шотландию, которая, по ее мнению, была где-то на краю света и в которой, как мы знаем, он никогда не бывал.
Через месяц Хромуша умел прекрасно приготовлять мышьяковый состав, которым предохраняют птиц от порчи и моли, умел также сдирать кожу с птицы, выворачивая ее наизнанку, как перчатку, не запачкав и не попортив притом ни одного перышка. Знал, какие надо оставить косточки, чтоб прикрепить к ним проволоку, и умел делать из нее птичий скелет, умел выбрать из запаса стеклянных глаз именно те, которые наиболее были похожи на настоящие глаза той или другой птицы. Умел набивать чучело, сохранив настоящую форму птицы, зашить ей брюшко так искусно, что нельзя было найти шов, поставить ее на ноги, распустить или сложить ей крылья, а что касается грациозности или оригинальности позы, то он с самого первого дня оказался в этом деле мастером.
Аптекарь, которому давно уже хотелось продать все свои аппараты для набивания чучел, чтобы очистить от них свою лабораторию, недолго думая, решился определить Хромушу к барону Платкоту, тому самому господину, который страстно любил орнитологию; что же касается священника, то аптекарь скрывал от него таланты Хромуши, священник был также страстный любитель этого искусства, часто менялся с бароном птицами и даже соперничал с ним, а потому аптекарь боялся, чтобы он не завладел Хромушей еще прежде барона.
Аптекарь был не только умный, но и хороший, честный человек, он принимал участие в Хромуше, который вполне заслуживал того своей кротостью и умом. Он свел его в замок и отрекомендовал барону как способного, понятливого и трудолюбивого мальчика.
– Я не сомневаюсь в его способностях, – вежливо отвечал барон, – но он еще ребенок, он очень мил, это правда, но ведь он простой крестьянский мальчик, он ничему не учился, ничего не знает.
– Но вы, господин барон, все знаете, – сказал любезно аптекарь, – и выучите его всему, чему пожелаете. У вас нет детей, займитесь этим мальчиком, он будет со временем хороший и верный слуга вам. Я вам советую, господин барон, взять его тотчас же, потому что священник непременно завладеет им, как скоро увидит его работу.
Затем аптекарь открыл ящик, который принес с собой, вынул из него и поставил на стол три различные птицы; Хромуша до такой степени умел придать каждой из них свойственную ей позу, что барон, знаток в этом искусстве, вскрикнул от изумления.
– Я вижу, что эта превосходная работа не ваша, господин аптекарь! – сказал он. – Можете ли вы поручиться мне, что это сделал вот этот мальчик?
– Уверяю вас, господин барон.
– Сам? Никто не помогал ему?
– Никто.
– В таком случае я беру его. Оставьте его у меня, он не пожалеет, что поступил на службу ко мне.
VIII
С того же дня Хромуша поселился в замке в маленькой комнатке под самой кровлей. Комнатка была очень мила. Первым делом Хромуши, войдя в нее, было взглянуть в окно и осмотреть окрестности. Они были прелестны. Замок стоял на высоком холме. Из окна была видна с одной стороны долина Ом и реки Дива и Орн с лесистыми берегами и волнистыми полями, с другой – море и берега его. Хромуша тотчас узнал зубчатые вершины большого утеса. Он еще лучше разглядел их в зрительную трубу, находившуюся в бельведере замка, который был над кровлей. Он с восторгом увидел гряду Черных Коров, возвышающуюся над волнами, и свой родимый дом в деревне, сквозь пожелтевшую листву яблонь видна была его соломенная кровля. Он не помнил себя от восторга, что поселился на такой высоте, словно птица в воздушном пространстве, и что мог пользоваться зрительной трубой, которая придавала его зрению, хорошему от природы, почти птичью зоркость. Он рассмотрел и узнал все деревеньки и деревни на берегу, узнал также Трувилль и разглядел мыс, скрывающий Гонфлер.
Не меньше рад был он и на другой день, когда водворился в лаборатории, где уже были расставлены и разложены все склянки, инструменты и припасы, присланные аптекарем. Дверь из лаборатории вела прямо в музей барона, и Хромуша увидел там в больших шкафах за стеклами множество птиц местных и чужих, более или менее редких, но все равно интересных, так как он хотел изучить их названия и виды. Когда Хромуша рассматривал коллекцию, в музей вошел барон, он пришел объяснить Хромуше, в чем будут состоять его занятия.
– Господин барон, – сказал мальчуган с доверчивостью, свойственной прямодушным людям, – ваша коллекция птиц худо размещена. Вот, например, эта птичка стоит тут потому только, что она маленькая, но это совсем не ее место. Она должна стоять вот здесь, подле этих птиц, так как принадлежит к их семейству, ручаюсь вам. У нее их клюв, их лапки, она кормится тем же, чем и они, я знаю этих птиц, если же она и не совсем такой породы, то все же приходится им сродни, как двоюродный брат их или племянник, может быть.
Хромуша был вообще неразговорчив, но, когда речь шла о птицах, он делался говорливым. Барон заставил его разговориться. Он удивлялся верности его суждений, его наблюдательности и превосходной памяти. Хромуша запомнил в одно утро все названия птиц, которые сказал ему барон, и повторил их без ошибки. Но вдруг он заметил, что барон зевает, беспрестанно нюхает табак, словом, что ему наскучило учить его.
– Мой добрый господин, – сказал Хромуша, – я слишком рано поступил к вам на службу, вы соскучитесь заниматься мной. Я должен сам учиться, один, а для этого мне надо выучиться читать. Позвольте мне пойти к священнику, он должен иметь терпение, потому что учит других быть терпеливыми; я попрошу его выучить меня читать и, когда выучусь, приду опять к вам.
– Нет, нет, – вскричал барон, – я не отпущу тебя к священнику. Мой камердинер довольно образован, он тебя выучит читать.
Камердинер читал бегло, у него был хороший почерк, и он настолько знал грамматику, что мог довольно сносно написать письмо под диктовку барона, который сам был ученый и остряк, но слишком знатного рода для того, чтобы знать правописание. В те времена светские люди стыдились знать грамматику. Ла Флер, так звали камердинера, принялся учить Хромушу, он немножко чванился перед крестьянским мальчиком своими познаниями и был очень нетерпелив. С детьми надо иметь терпение. Но для таких, как Хромуша, которые сильно хотят выучиться и боятся, чтобы их не перестали учить, беспечный и нетерпеливый учитель не помеха учению. Хромуша напрягал все свои умственные способности, затем чтобы Ла Флеру не надоело учить его, и через год выучился читать, писать и считать так же хорошо, как и сам Ла Флер.
Но он не ограничился этим. Ученые названия птиц – латинские, и многие сочинения, относящиеся к естественным наукам, написаны по-латыни. Хромуша по воскресеньям бывал свободен и ходил к священнику набивать ему птиц, а священник за то, пока он работал, учил его латыни. На следующий год Хромуша знал уже латынь настолько, насколько было нужно для его ремесла.
Ученье не мешало ему исполнять свои обязанности. Он набивал всех птиц, как туземных, так и заграничных, которых доставляли барону его поставщики и корреспонденты, поправлял чучела, которые были плохо набиты или попортились от времени. Он заботился также о том, чтобы птицы, составлявшие коллекцию, стояли каждая на своем месте, смотря по родству, и иногда у него возникали по этому поводу споры с бароном, который считал себя очень ученым и неохотно сознавался в своих ошибках. Но Хромуша благодаря своему врожденному здравому смыслу и настойчивости всегда умел убедить барона, барон был неглуп и в таких случаях пожимал плечами и делал вид, будто соглашается с Хромушей только из снисходительности, оттого, что ему надоело спорить.
– Ну хорошо, – говорил он, – сделай по-своему, из-за таких пустяков не стоит нам ссориться.
Но это были совсем не пустяки. Священник, который был ученее и умнее барона, хотя обладал не такой обширной коллекцией, очень дорожил Хромушей и говорил, что если бы Бюффон узнал про него, то вывел бы его в люди.
Хромуша, однако, не гордился этим. Он глубоко уважал Бюффона и с жаром читал его знаменитую естественную историю. Мальчик был так создан, что его не соблазняли ни слава, ни деньги, – словом, никакие житейские блага, ничего, кроме природы. Он по-прежнему только и мечтал, что о путешествиях, наблюдениях и открытиях.
Хромуша беспрестанно вспоминал о своей пещере в большом утесе. Он не придавал большой цены спокойной и удобной жизни в замке. Напротив, он дорого бы дал, чтобы опять на каменной скале любоваться дикими цветами и слышать пение птиц, летающих на свободе, которых он сделал такими ручными. У него сжималось иногда сердце, когда он вспоминал, как они были привязаны к нему.
– Где-то теперь, – думал он иногда, – все вы, пернатые товарищи моего уединения? Где вы, болотные кулики мои, умевшие так славно подражать блеянию коз и собачьему лаю? Где ты, одинокая выпь, мычавшая как бык? Где вы, хорошенькие, шаловливые пигалицы, кричавшие мне хриплым голосом, как портной: «Диз юйт, диз юйт!» Где вы, каравайки, призывавшие меня в ночной темноте такими детскими голосами, вы, одарившие меня волшебными крыльями мужества?
Хромуша, как видите, не верил уже больше в ночных духов, но он не чувствовал себя счастливее от этого. Он сожалел о том времени, когда в темную бурную ночь воображал, что над ним летают невидимые духи-покровители, и ему казалось, что он понимает их пение. Среда, в которой он жил теперь, нисколько не способствовала развитию в нем наклонности к чудесному. В ту эпоху каждый хотел быть философом, даже священник, на что уж Ла Флер – и тот беспрестанно болтал о Вольтере, хоть никогда не читал его, и отзывался с величайшим презрением о суеверии и предрассудках крестьян.
Хромуше пошел шестнадцатый год. Познания его в орнитологии были уже так обширны, что ни барон, ни священник не могли сообщить ему больше никаких новых сведений по этой части, и им овладело сильное, непреодолимое желание поучиться этой науке у более сведущего учителя, чем книги, – у самой природы. Он чувствовал почти болезненную тоску, все замечали его бледность. Он был очень доволен бароном и привязан к нему, но ему страстно хотелось вырваться на волю, и он объявил барону, что хочет отправиться путешествовать, причем обещал привезти ему для его музея всех интересных птиц, какие только попадутся ему. Барон стал ему выговаривать, зачем он хочет оставить его службу, попрекнул его образованием, которым будто бы Хромуша обязан ему, и назвал его неблагодарным. Затем сказал мальчику, что даст ему, если он останется, то же жалованье, как и Ла Флеру, и что если он хочет, то может обедать не в людской. Хромуша поблагодарил, но отказался.
– Может быть, – сказал барон, – тебе обидно, что ты носишь ливрею, в таком случае я разрешаю тебе одеваться так, как аптекарь.
Хромуша и от этого отказался. Ему, напротив, казалось, что он даже слишком роскошно одет. Барон, рассердясь, назвал его опять неблагодарным и сумасбродом, сказал, что не хочет больше знать его и вычеркнет из своего завещания статью, в которой назначалась Хромуше небольшая пожизненная пенсия. Но ничто не помогло. Хромуша, целуя ему руки, отвечал, что хоть барон и лишит его пенсии, но он все так же будет любить его и будет предан ему, но что он умрет, если проживет еще долее взаперти, что ему, как птице, необходима свобода и что он готов подвергнуться из-за нее всяким лишениям и нищете.
Барон, видя, что делать нечего, уступил, он согласился отпустить Хромушу и отдал ему жалованье, к которому прибавил еще довольно щедрую награду. Хромуша отказался от денежной награды, но попросил барона дать ему зрительную трубу и кое-какие инструменты. Барон дал ему то и другое и, кроме того, заставил взять деньги. Такая доброта тронула Хромушу, и ему показалось, что он в самом деле неблагодарный; он бросился к ногам барона и сказал ему, что отказывается от путешествия, но просит только отпуска на неделю, причем дал слово, что, возвратясь домой, постарается привыкнуть к той мирной и счастливой жизни в замке, которой был обязан своему покровителю. Барон расчувствовался, обнял Хромушу и снабдил всем необходимым для его экскурсии.
Хромуша провел один день у родных и на следующее утро отправился один к большому утесу. Тогда была весна, и погода стояла чудная. Хромуша так усердно работал для музея барона и так прилежно учился, что никогда почти не гулял. В три года, которые он провел в замке, он ни разу не видал Черных Коров, и ему хотелось взглянуть, какие опустошения в продолжение этого времени сделало в них море. Он слышал, как говорили у барона и у аптекаря о значительных обвалах, но так как видел из бельведера, что очертания зубчатых вершин большого утеса нисколько не изменились, то верил только наполовину рассказам об обвалах.
В простом крестьянском балахоне, в толстых башмаках и холщовых штанах, в шерстяном колпаке довольно порядочного объема, как нельзя лучше защищающем от ветра его голову, с мешком на спине, в котором лежали инструменты, два или три каталога, зрительная труба и съестные припасы, Хромуша скорым шагом пошел к дюнам, но не по берегу, так как берег во многих местах был загроможден грудами обвалившегося мергеля. По мере того как Хромуша шел дальше, он замечал, сколько значительных перемен произошло в этих местах, прорезанных новыми расщелинами. Там, где прежде росла трава, теперь была грязь такая глубокая, что трудно было пройти, не увязнув в ней; в других местах почва, прежде рыхлая, теперь окрепла и покрылась растительностью. Хромуша не узнавал когда-то так хорошо знакомую ему местность. Тропинки, проложенные им и известные только ему одному, исчезли. Ему пришлось снова изучать дюны, чтобы избежать расщелин и оврагов. Наконец он добрался до большого утеса, он еще уцелел, но склоны его были теперь обнажены и усеяны выдающимися остроконечными зубцами, что, казалось, невозможно было и подумать добраться до пещеры.
IX
Хромуша, однако, ни за что не хотел отказаться от этой мысли; после многих поисков ему удалось-таки найти не слишком опасный путь. С несказанной радостью увидел он наконец свой садик, окошко и пещеру. Рука времени почти не прикоснулась к бывшим его владениям. Он немедленно занялся своим водворением в старом жилище. Прежде всего он вымел и вычистил пещеру, в которой птицы оставили следы своего пребывания, нарезал сухого морского тростника и развел в пещере огонь, чтобы осушить ее. Он даже накурил в ней можжевеловыми ягодами, чтобы очистить воздух. Затем нарезал травы и устроил себе постель на скамье и, перекусив, лег на траву, в так называемом саду, посреди полевых цветов, которые так любил и которые показались ему теперь прелестнее, чем когда-либо. Он заснул крепко, так как встал очень рано и дорога по изрытым дюнам очень утомила его.
Когда он проснулся, первым делом его было влезть на большой утес, чтобы посмотреть, живут ли еще на нем птицы. Он вскарабкался туда с большим трудом, беспрестанно подвергаясь опасности, но на утесе не было уже ни одного гнезда и не валялось ни одного перышка. Квиквы покинули утес, это был недобрый знак: они инстинктивно чувствовали, что он скоро обрушится. Но куда же делись они? Хромуша не хотел торговать перьями, так как зарабатывал теперь достаточно, но ему очень хотелось видеть своих старинных пернатых друзей и посмотреть, узнают ли они его после такого продолжительного отсутствия, что, впрочем, было очень сомнительно.
Осмотревшись вокруг, он увидел на изгибе скалы большую новую расщелину и осторожно полез в нее. Она походила на новую улицу, проложенную природой в его опустевшем городе. Пробираясь по ней, Хромуша спустился на нижние глыбы и очутился близ своей пещеры; он очень удивился, увидев, что все окрестные скалы казались белыми от птичьего помета. Он тотчас же принялся отыскивать гнезда и нашел их множество, в них лежали яйца, которые грело солнце. Вокруг лежало много перьев, доказывавших, что здесь летали самцы. Квиквы переселились, и то, что они избрали себе новое место жительства подле пещеры, доказывало, что она была еще крепка и прочно сидела в глубине скалы. Хромуша обрадовался этому открытию, он легко пробрался отсюда в пещеру, перескочив через небольшую яму, ему было приятно, так сказать, иметь под рукой своих старинных друзей.
Хромуша имел большую наклонность к уединению, и этот день, проведенный в пустыне, казался ему чем-то вроде награды за три года мужественно переносимого изгнания. Он обошел дюны на всем протяжении их и осмотрел все происшедшие в них перемены. С радостным чувством увидел он опять Черных Коров, все по-прежнему покрытых раковинами, с наслаждением выкупался в море и проверил все свои прежние наблюдения над птицами как перелетными, так и жившими постоянно в этих местах. Теперь уже он знал все, что касается их, так что ничему не мог научиться новому, но сделал только одно новое замечание, что или у этих животных нет памяти, так как они вовсе не узнали его и не летели клевать хлебные крошки, которые он бросал им, или что то были не те самые птицы, которых он знал прежде. Впрочем, и для этих птиц также хлеб был лакомством, потому что лишь только Хромуша отходил в сторону, они кидались на крошки и с шумным криком ссорились из-за них. Он надеялся, что успеет опять приручить их за неделю, которую намеревался провести на утесе, сам не отдавая себе отчета, почему это место так нравилось ему.
В молодости мы почти безотчетно увлекаемся нашими склонностями. И однако Хромуша был уже далеко не тот невежественный ребенок, каким был тогда, когда прожил, как дикарь, полгода в этих местах. Он был теперь довольно образован и имел понятия о жизни природы. Прежде он очень любил море, скалы, птиц, цветы и облака, сам не сознавая, почему все это нравилось ему.
Наука и сравнение научили его понимать прекрасное, страшное и грациозное в природе. Теперь в нем как будто удвоилась способность наслаждаться природой. В нем было врожденное чувство изящного и прекрасного, но он был скромен, как вообще все люди, живущие по преимуществу созерцательной жизнью; он не сознавал в себе этого дара и был благодарен матери-природе за то, что она произвела такое могущественное впечатление на его душу, когда он был еще ребенком.
И мать-природа как будто обрадовалась возвращению своего любимца под кров свой. В первую же ночь она доставила ему великолепное зрелище. Когда закатилось солнце, небо покрылось массой черных туч с огненными каймами, море засветилось фосфорическим блеском. Хромуша ушел в пещеру и лег в ней. Разыгрался ветер, и дождь потоками хлынул из черных туч, но по временам из-за них выглядывала луна, и в зелени, висевшей фестонами над входом в пещеру, сверкали изумруды. Хромуша спал, несмотря на рев бури, иногда его будили раскаты грома, и он с удовольствием прислушивался к ним. Вдруг раздался такой сильный удар, что Хромуша вздрогнул и невольно вскочил со скамьи. Над головой его послышалось множество жалобных криков, почти в ту же минуту он почувствовал на лице и на плечах взмахи многих крыльев, которые без шелеста поднимались и опускались вокруг него. Это были его соседи, испугавшиеся грозы. Самки оставили свои яйца, которые перебили в испуге, и, гонимые ветром, с отчаянными криками опустились над садом Хромуши, многие из них вторглись даже в пещеру. Хромуше стало очень жаль их, он не прогнал бедных птиц, хотя некоторые из них, полумертвые от страха, попадали даже на скамью, на которой он лежал. Он осторожно улегся и вскоре опять заснул.
С рассветом Хромуша увидел, что многие птицы сильно пострадали. У одних были вывихнуты крылья, другие окривели, третьи были так жестоко изранены, что умирали, многие были уже мертвы. Хромуша помог пострадавшим как умел и пошел посмотреть на опустошения, произведенные бурей в птичьей колонии. Ему представилось грустное зрелище: самки с жалобными криками искали свои яйца. Хромуша попробовал было починить гнезда, но оказалось, что все яйца пропали, те, которые не разбились, спеклись от электрического тока; птицы, убедясь, что все погибло, стали сзывать друг друга жалобными криками. Вся колония собралась на скале и как бы стала держать совет, потом с грустными прощальными воплями взвилась над морем и исчезла в утреннем тумане. Все птицы, которые только могли летать, улетели.
Хромуша, видя, что они не возвращаются ни на другой день, ни после, подумал, что они, вероятно, расстались навсегда с этим негостеприимным берегом. Он продолжал ухаживать за больными, которые вскоре стали такими ручными, что клевали корм из его рук, Хромуша мог дотрагиваться до них, гладить их, согревать их своими руками. Они похаживали вокруг него без малейшей боязни, днем грелись на солнце в саду, ночью возвращались спать в пещеру. Они совершенно забыли о своем погибшем потомстве и не летали на старое пепелище. Когда здоровые птицы собрались в путь, больные отвечали грустными и хриплыми отрывистыми криками на их шумный призыв, они покорились своей участи как неизбежной и скоро привыкли к новой жизни – в зависимости от человека.
Хромуше представился теперь случай наблюдать то, что всегда возбуждало в нем страстное любопытство, а именно, до какой степени развивается смышленость животных, когда они чувствуют, что одного их инстинкта недостаточно для сохранения жизни. Он то ухаживал за выздоравливающими, более или менее изувеченными, то бродил по дюнам и собирал птиц других видов, которые также пострадали от бури и лежали больные в разных местах.
На другой день поутру он сходил в Обервилль, в деревню, в которой прежде покупал съестные припасы, и запасся там кормом для больных птиц. Некоторые из них умерли, другие поправились. Отыскивая на вершинах увечных птиц, Хромуша стал замечать, что здоровые подстерегали, когда он проходил, и клевали крошки, которые он бросал. Через несколько дней птицы стали ручными. Хромуше казалось, что те, которые привыкли к нему скорее других, были те самые, которых он приручал прежде.
Но между птицами, жившими на воле, и теми, которых увечье поставило в зависимость от Хромуши, оказывалась большая разница. Последние стали доверчивы до надоедливости, они не могли летать. И это лишение сильно развило в них эгоизм, и они от скуки стали великими прожорами, тогда как жившие на воле были деятельны и независимы. Хромуше больше нравились свободные птицы; но он, конечно, больше заботился о тех, которые больше нуждались в нем, несмотря на то что быстрое подчинение их человеческой воле внушало ему почти презрительное чувство.
Он усердно ухаживал за ними и надеялся, что его стараниями они скоро поправятся до такой степени, что будут в состоянии опять вести независимую жизнь. Он был хорошо знаком с анатомией птиц, потому что в течение трех лет составлял их скелеты из проволоки и мог мастерски лечить больным птицам сломанные крылья и лапки. Но когда те, которые выздоровели, захотели вернуться к своим товарищам, жившим на воле, последние приняли их очень недружелюбно. Они накинулись на бедных пришельцев с явным намерением выщипать им все перья и растерзать их на части, бедняжки бросились со стыдом к ногам Хромуши, как бы прося у него защиты от жестоких товарищей. Хромуша водворил между ними мир с помощью довольно строгих мер. Можете представить себе, с каким интересом наблюдал он в продолжение этой войны за всеми приемами и проделками птиц.
Наконец неделя прошла, и Хромуша стал подумывать о возвращении в замок. Да и нельзя было оставаться здесь долее, так как утес сильно пострадал от последней бури. Подле разрушенного грозой гнезда квикв образовалась новая расщелина, и потоки грязи из размытого дождями мергеля потекли даже в сад Хромуши. Он с грустью смотрел теперь на этот прелестный уголок, где когда-то насадил самые красивые растения, какие только попадались ему в окрестностях, например, дрок, великолепную румянку, морские красенки с ярко-желтыми цветами, прелестные стройные желтокорни с цветами самого чистого лилового цвета, красивые вьюнки-трилистники с ярко-розовыми лепестками, украшенными белыми жилками и с толстыми блестящими листьями, которые раскидывают свои грациозные гирлянды даже на морском песке, омываемом приливом. Без Хромуши все это разрослось, так что даже ветви растений врывались в самую пещеру, все это вскоре должно было исчезнуть навеки под тяжелой массой мергеля, бесплодного, когда он не смешан с другой, более плодородной землей. Мергель под влиянием могущественных сил грозы и дождя угрожал залить и засыпать не только сад, но и самую пещеру. Хромуша был слишком внимателен и слишком привык наблюдать обвалы мергеля, так что обвал не мог застигнуть его врасплох. Однако последние ночи он, как говорится, спал только одним глазом и считал дни, говоря сам себе:
– Сегодня опять хорошая погода и солнце осушит всю эту грязь. Но если завтра пойдет еще дождь, то мне придется скоро убраться отсюда, и может быть, еще мой маленький мирок погибнет и разрушится на моих глазах.
Желая спасти выздоравливающих птиц, он решился отнести их к священнику в Див, любителю живых животных, тогда как барон Платкот больше любил набитые чучела. Священник был настоящий натуралист, а барон только собиратель коллекций. С этой целью Хромуша сходил в лесок, нарезал прутьев и сделал большую корзину для птиц, но так как птиц было много и ноша была бы слишком тяжела, то он с вечера нанял осла, которого оставил на ночь в своем садике, он хотел отправиться в путь рано поутру.
X
Ночь была очень дождливая и бурная, и в садик натекло много размытого мергеля. Хромуша встал еще до рассвета, собрал всех своих птиц, покормил их, усадил в корзинку, выложенную травой, навьючил ее на осла и осторожно свел его со скалы на морской берег. В это время, как он и рассчитывал, начинался морской отлив, так что он надеялся дойти по морскому берегу до самого Дива. Но осел, услыхав шум волн и не видя моря, так как было еще почти темно, до того струсил, что встал на месте как вкопанный, пригнув назад уши и дрожа всем телом. Хромуша был очень терпелив. Он не стал понукать и бить осла, а, напротив, стал ласкать его, чтобы дать ему время привыкнуть к испугавшему его шуму.
В эту минуту он заметил на Большой Черной Корове, возвышавшейся над волнами, какой-то необыкновенный предмет. Он не мог хорошенько разглядеть его, так как были еще сумерки, но видел, что предмет этот был живое существо. У него было маленькое тело и длинные лапы, которые шевелились. Хромуша вообразил, что это гигантский крокен, и его так разобрало любопытство, что он оставил осла и пошел к Большой Черной Корове. Странное существо продолжало шевелить то одной лапой, то другой, но тело его, казалось, приросло к скале. Хромуша боялся, чтобы это необыкновенное животное не ушло в воду прежде, чем он успеет взглянуть на него, а потому проворно разделся, бросил свою одежду на осла, который все еще стоял, не трогаясь с места, и пустился вплавь к Черной Корове. Зыбь была так сильна, что он мог плыть только хватаясь за рассеянные по берегу и покрытые водой скалы, которые были ему очень хорошо знакомы. Наконец он подплыл довольно близко к Большой Корове и увидел, что существо, уцепившееся за вершину ее, был не осьминог, а человек, показывавший все признаки сильнейшего отчаяния. Только человек этот был очень необыкновенный. Он был такого оригинального сложения, что Хромуша невольно вспомнил о смешном и вместе страшном портном, бывшем пугалом его в детстве. Он один только мог быть так безобразен, только у него могла быть такая огромная голова и такие руки и ноги, похожие на палки, обтянутые мокрой одеждой. Хромуша подплыл к нему и услышал крик: «Сюда ко мне, ко мне!» И он доплыл до последней скалы перед Черной Коровой, которая и теперь тоже возвышалась над водой. Так как почти уже рассвело, то Хромуша мог рассмотреть, что это в самом деле был несчастный горбун, о котором он вспомнил с отвращением, несмотря на то что уже три года как не видел его. Он крикнул ему:
– Не шевелитесь, подождите меня!
Но это было напрасно. Тяни-влево или не расслышал его слов, или не мог устоять против напора волны, только он протянул свои длинные руки к Хромуше и в одну минуту исчез в волнах, пенившихся вокруг скалы. Хромуша стоял на другой скале, на которую взобрался, чтобы перевести дух, с минуту он пробыл в нерешительности, мысль о возможной смерти оледенила его ужасом. В такие минуты соображают быстро. Он понял, что, если попробует спасти портного, обезумевшего от страха, тот вцепится в него, как пиявка, не даст ему плыть и оба они утонут.
Погибнуть так внезапно, такой ужасной смертью, когда он был еще так молод и жизнь так много сулила ему в будущем, казалось ему ужасным. Да и стоил ли портной, чтобы подвергаться из-за него такой опасности? Он был очень злым, дурным человеком! Нет, нет! подобная попытка была бы только бесполезной жертвой, безумием!
Все это мелькнуло в голове Хромуши с быстротой молнии; вдруг он услыхал энергический и нежный напев своих старинных друзей, крылатых морских духов: «Раскрой крылья, раскрой твои крылья! – пели эти ласковые голоса. – Мы здесь!»
И Хромуша почувствовал, как раскрылись его крылья – широко-широко, как крылья морского орла, и он прыгнул в пенящиеся волны. Он сам не помнил, как удалось ему схватить портного посреди ослеплявшей его пены, как он боролся с ним, с нечеловеческим усилием выплыл из огромной волны, которая несла его в открытое море, как, наконец, добрался до Большой Коровы и в изнеможении упал подле портного, который лежал без чувств.
Ему казалось, что все это случилось во сне; Хромуша был теперь образованный человек, но в эти минуты он твердо верил, что обязан был своим подвигом духам-покровителям, и никто не разубедил бы его.
– Благодарю вас, мои возлюбленные! – вскричал он, проворно поднявшись на ноги.
Затем он перевернул портного навзничь, головой вниз, для того чтобы у него вытекла вода изо рта, из носа и из ушей, и принялся изо всей силы тереть его. Тяни-влево вздохнул наконец и минут через пять пришел в чувство и начал орать во все горло, так как все еще задыхался. Он был как безумный и хотел снова броситься в воду, чтобы добраться вплавь до берега. Хромуша сильно ударил его ладонью, что окончательно привело его в чувство.
– Да не бойтесь, верьте мне, – сказал он, когда портной в состоянии был понимать что-нибудь. – Через минуту вся вода отхлынет отсюда, и мы дойдем до берега посуху. Мне удалось отогреть вас немножко, если же вы опять озябнете теперь, то умрете.
Тяни-влево послушался и через четверть часа сидел уже на берегу перед грудой горевшей сухой травы, которую Хромуша набрал на берегу, в тех местах, куда не доходил прилив. Подкрепив силы хлебом, который дал ему добрый мальчик, Тяни-влево рассказал, как, несмотря на то что боялся моря, попал на Черную Корову.
– Надо тебе признаться, – сказал он, – что я мало зарабатывал моим ремеслом и с того дня, как увидел у тебя на шапке три дорогих пера, только и думал о том, как бы открыть, где водятся эти редкие птицы. Мне случалось видеть, как они летают над этим проклятым утесом и вокруг него, но у меня недоставало духа взобраться. Я могу ходить и лазить довольно проворно и ловко, но Господь Бог не одарил меня храбростью. У меня недоставало решимости ни залезть на утес, ни продать, как ты, душу черту.
– Господин портной, – сказал Хромуша, подавая ему тыквенную бутылку, наполненную сидром, – выпейте несколько глотков, это освежит вашу голову, что, кажется, будет нелишним, только дураки верят в чертей, а что касается до того, что я, как вы говорите, продал душу черту, то я должен заметить вам, нисколько не желая оскорбить вас, что вы врете.
Портной был и большой драчун, но он видел, что имел дело не с робким малым, и потому опустил голову и пробормотал извинение.
– Мой милый Хромуша, – сказал он, – я обязан вам тем, что составляю еще украшение здешнего мира, за это вас станут благословлять и наши красавицы.
– Так как вы умны и острите сами над своей особой, – сказал Хромуша, – то я прощаю вас.
Но портной говорил это не шутя. Он воображал, что очень хорош собой, и очень серьезно стал уверять, что женщины находят его очень любезным и стараются наперерыв завладеть его сердцем. Тут с Хромушей сделался такой сильный припадок смеха, что он упал навзничь, схватившись за бока, и заколотил ногами по земле. Портному было это очень досадно, но он не смел выказать свою досаду и продолжал свой рассказ.
– Меня сгубили мои похождения, – сказал он, – смейтесь сколько угодно, но тем не менее это истинная правда, что я уехал отсюда по желанию одной вдовы, которая хотела выйти за меня замуж. Она говорила мне, что богата, и я уже было согласился жениться на ней, как вдруг узнал, что у нее нет ни гроша за душой, она даже не могла заплатить за меня какой-то пустой должишко в трактире. Я, разумеется, отказался от нее и отправился обратно в здешние края; желудок мой и кошелек были пусты, а в душе моей была смерть. Я остановился у булочника в Виллере и был принужден попросить у него ломоть хлеба, чтобы не умереть с голода. Булочник рассказал мне, что вы продали барону Платкоту на три тысячи экю перьев квикв и что он взял вас к себе в услужение и сделал вас своим наследником. По крайней мере, здесь ходят такие слухи. Тогда я задумал во что бы то ни стало добраться до квикв и набрать их перьев.
Надо было поспеть сюда к утесу до рассвета, когда они улетают с берега. Я вышел из Виллера в полночь и думал, что приду к Черным Коровам еще до прилива, но надо полагать, что или часы у булочника отстают, или я выпил лишнего; булочник умный человек, он любит образованных людей и, когда мы с ним беседовали вечером, очень усердно потчевал меня сидром. Словом, не знаю, что тому виной: сидр ли, часы ли или, может быть, сам черт, который замешался в это дело, только меня застиг морской прилив еще в темноте, и волны унесли меня на эту скалу, где я погиб бы без вас.
– То есть, – возразил Хромуша, – если бы у вас было побольше хладнокровия и рассудительности, вы преспокойно просидели бы на скале до отлива и потом возвратились бы на берег посуху. Впрочем, так как вы здравы и невредимы теперь, то возьмите вот эти два экю и идите себе с богом, мне некогда больше терять с вами время.
Портной осыпал Хромушу изъявлениями благодарности, он хотел даже поцеловать ему руку, но Хромуша не допустил до этого. Море отступило далеко, осел совершенно успокоился и зашагал по берегу. На спине у него была клетка с птицами, а позади нее большой пучок растений, которые Хромуша набрал для своего приятеля аптекаря по его просьбе. Портной, несмотря на то что Хромуша простился с ним, не отставал от него и с жадным любопытством посматривал то на птиц, сидевших в клетке, то на связку растений.
– Вы можете, – сказал ему Хромуша, – заработать кое-что, собирая вот такие травы, как эти; но что касается птиц, живущих в дюне, я запрещаю вам ставить им силки и возмущать их покой.
– Отчего же? – проговорил портной робко, с затаенной досадой. – Ведь береговые птицы, кажется, общее достояние. У вас в клетке великолепные квиквы, они принадлежат вам по праву, потому что вы завладели ими, но ведь их еще много осталось. Будьте же так добры, сжальтесь над бедным человеком, скажите, где скрываются днем эти птицы и каким образом можно безопасно добраться до них, так как ведь вы же добыли их.
– Господин Тяни-влево, вы хотите делать то, что я запрещаю, вам не жаль огорчать меня, несмотря на услугу, которую я оказал вам. Так слушайте же и поймите, что случится с вами, если вы вздумаете лезть на скалу.
– А что такое? – спросил портной недоверчиво.
– Разве вы ничего не слышите?
– Я слышу гром в той стороне, где Гонфлер.
– Это не гром, это рушится утес. Пойдемте скорей!
Хромуша стал погонять осла; портной опередил его. Когда он убедился, что опасность далеко, он остановился, оглушенный страшным грохотом, и, обернувшись, увидел, что часть горы с огромными каменными глыбами обрушилась в море. Каменные глыбы, отброшенные далеко от берега, образовали среди своих предшественниц Черных Коров новое стадо Белых.
Хромуша также остановился и обернулся. Он увидел, как обрушившийся обломок скалы увлек с собой в море развалины его пещеры и обсерватории.
– Господин Тяни-влево, – сказал он, когда догнал его, – у меня была там дача, сад и столько квикв, сколько душе моей было угодно, пойдите же теперь, если хотите, возьмите все это себе.
Смущенный портной отрицательно покачал головой. У него навсегда прошла фантазия лазить по скалам и ловить птиц.
Хромуша печально продолжал свой путь. Он любил эту пустынную скалу почти так же горячо, как любят только человека. Вынесенные им там лишения, опасности, с которыми он там боролся, приятные, равно как и страшные мечты и сны, посещавшие его там, – все это было для сердца его крепкими связями, которые неизбежное и давно предвиденное несчастье уничтожило навеки.
«Мать-природа, – подумал он, – не всегда бывает одинаково добра, у ней есть законы очень суровые, которые можно было бы счесть за капризы, если бы они были необъяснимы. Впрочем, она все-таки заслуживает любви, потому что умеет вознаграждать, и, вероятно, я опять найду когда-нибудь уютный уголок, где снова заживу с глазу на глаз с ней».
Дорогой Хромуша собирал растения, которые попадались на берегу. Это был последний день его отпуска. Он вошел в Див вечером для того, чтобы не видели его птиц, и отнес их тихонько к священнику; он попросил его ничего не говорить барону о том, как они достались ему.
– Разумеется, что не скажу! – вскричал обрадованный священник. – Он не дал бы мне покоя, пока не отнял бы у меня всех этих прелестных живых птиц, чтобы превратить их в мумии. Будь спокоен, он не увидит их.
Простившись со священником, который принялся со своей служанкой хлопотать о том, как бы поместить поудобнее своих пернатых гостей, Хромуша понес аптекарю собранные на берегу травы и, наконец, к ночи с грустным чувством возвратился в замок.
XI
На следующее утро барон застал Хромушу в лаборатории за работой. У Хромуши было веселое лицо, казалось, что он совсем выздоровел от тоски, но прошло два дня и бедный мальчик стал опять по-прежнему бледен и грустен. Барон принялся расспрашивать, о чем он скучает.
– Господин барон, – сказал Хромуша, – я чувствую, что мне надо уехать, я не могу здесь жить дольше, я думал было, что свежий воздух и прогулка исцелят меня, но я ошибся. Для моего исцеления нужна не неделя, а гораздо больше времени, может быть, год, а может быть, и еще больше, я и сам не знаю. Лишите меня ваших милостей, я недостоин их, но не сердитесь на меня, или я умру с тоски, а тогда не нужно мне будет и свободы.
Барон, видя, что Хромуша так сильно тоскует, оказался вполне хорошим человеком. Он стал утешать мальчика и обещал ему, что никогда не оставит его, но он просил его, прежде чем он пустится надолго в путь, исполненный опасностей, – так как путешествия всегда более или менее сопряжены с опасностями, – высказать ему откровенно все, что у него на душе. Барон не понимал такой сильной любви к уединению и думал, что Хромуша что-нибудь скрывает от него.
– Хорошо, – сказал он, – я вам все скажу, хоть, может быть, вы меня сочтете за идиота или за безумца. Я люблю птиц, но только не мертвых, а живых, я хочу жить с ними, я люблю также птиц на картинах, так как живопись воспроизводит жизнь; мне даже кажется, что я сумею сам верно нарисовать тех птиц, которых хорошо изучу. Но набивание чучел внушает мне отвращение. Вечно жить посреди трупов, рассекать мертвые тела, делать чучела – это выше моих сил. Мне кажется, что я сам превращаюсь в мумию. Вы восхищаетесь блеском, который я умею придать перышкам мертвых птиц, и естественностью их поз, но я вижу в них только скелеты, они преследуют меня во сне и требуют, чтобы я возвратил им жизнь; когда я прохожу вечером по стеклянной галерее, мне чудится, что они стучат клювами в стекло, что они требуют, чтобы я выпустил их на волю. Они как привидения наводят на меня ужас; я ненавижу сам себя за то, что занимаюсь этим ремеслом. Конечно, я не виноват в их смерти, я только раз в жизни убил птицу, но меня вынудил к тому голод, я не мог никогда себе простить этого и поклялся, что никогда больше не убью ни одной. Тем не менее я существую за счет жизни тех птиц, из которых делаю чучела. Эта мысль преследует меня, как упрек совести. И кроме того… но этого я не могу вам сказать, у меня не хватает духа…
– Что такое еще? – спросил барон. – Скажи мне все, как лучшему своему другу.
– Так слушайте же, – прибавил Хромуша. – На берегах и на море со мной говорят голоса, которых не слышит никто другой. Говорят, что птицы посредством криков умеют выражать все свои ощущения и желания, но что птичий язык никто не понимает, кроме самих птиц. Это верно. Но есть птицы, язык которых понятен мне, они говорят мне, что я должен делать в те минуты, когда у меня не хватает смелости решиться на что-нибудь. Я думаю, что это не птицы, а добрые духи, окружающие нас и принимающие на себя видимые образы, когда они хотят показать нам, что заботятся о нас и руководят нами. Я не говорю, что они делают чудеса, но мы делаем чудеса под влиянием их, они превращают наш человеческий эгоизм и трусость в порывы мужества и самоотвержения. Вы удивляетесь, мой дорогой покровитель, а между тем, как часто говорили вы так красноречиво, когда дело шло о науке, что природа говорит с нами всеми своими голосами, что она возвышает нас над тщеславием, честолюбием и другими бесплодными страстями, что она делает нас нравственно лучше. Ваши слова запали мне в душу, и я слышал эти голоса природы. Они приводят меня в восторг, я не могу жить без них, но здесь они безмолвствуют. Отпустите меня путешествовать. Без сомнения, они внушат мне желание возвратиться к вам с результатами моих открытий, как уже внушили мне раз мысль возвратиться к родителям с покорной головой; только убедительно прошу вас, отпустите меня теперь. Я должен следовать за ними, я слышу, что они призывают меня, они хотят, чтобы из меня вышел настоящий ученый, то есть воспитанник самой природы.
Барон нашел, что Хромуша не совсем неправ, но что у него расстроено воображение и что путешествие развлечет его. Он снабдил его деньгами, инструментами и всем необходимым для продолжительного морского плавания и взял ему место на одном из тех больших судов, которые еще и нынче два или три раза в год ходят из Дива в Гонфлер. В Гонфлере Хромуша сел на корабль и отправился в Англию, откуда потом переправился в Шотландию, затем в Ирландию и на другие соседние острова. Он жил свободный и счастливый, в самых диких местностях, все изучал, все наблюдал сам, без посторонней помощи. Через год он возвратился к барону и привез ему богатый запас сведений, из которых многие противоречили предположениям старинных естествоиспытателей, но тем не менее были верны.
Затем Хромуша прожил несколько недель у барона и часто виделся в это время со своими друзьями; на следующий год он посетил Швейцарию, Германию и даже некоторые польские, русские и турецкие провинции. Впоследствии он объехал север России и часть Азии; везде покупал он птиц, которых туземцы убивали на охоте, делал из них мумии и посылал барону, коллекция которого стала таким образом одной из богатейших во Франции. Но он твердо держал свою клятву – никогда не стрелял сам птиц и никому не поручал стрелять их для себя. Это была его мания, и, может быть, вследствие ее наука потеряла несколько драгоценных экземпляров. Но зато, с другой стороны, Хромуша обогатил науку таким множеством новых и верных сведений, рассеявших прежние заблуждения, освященные временем, что барон был совершенно доволен им. Он записал все открытия, сделанные Хромушей, и издал в виде ученого труда, на котором позабыл только выставить имя настоящего автора. Таким образом барону долго приписывали честь этих научных открытий.
Хромуша не был за то в претензии на него. Он не был честолюбив и был вполне счастлив тем, что мог удовлетворить свою страсть к природе. Барон приобрел репутацию ученого и некоторую известность, что постоянно было целью всех его стремлений, и отблагодарил Хромушу тем, что сделал его наследником всего своего состояния. После смерти барона племянники его затеяли большой процесс с жалким, дрянным педантом, как они называли Хромушу, который, по их мнению, умел подольститься к дяде. Завещание было сделано вполне законным образом, и очень вероятно, что Хромуша выиграл бы процесс, но он не любил спор и согласился на первую сделку, которую ему предложили. Противники оставили ему замок, музей и участок земли, которого было достаточно на то, чтобы жить без больших затей и путешествовать.
Хромуша был так доволен своей судьбой, что считал себя ее баловнем. Он поселил в замке свою семью, а также дядю Лакиля с семьей, а сам проводил жизнь в беспрестанных путешествиях. Время от времени он возвращался домой и занимался коллекцией своего благодетеля, которую свято поддерживал. Иногда он пропадал по целым годам, и никто не знал, жив ли он, так как он проживал подолгу в таких диких местах, где не имел никакой возможности послать о себе известие родным. Он был всегда кроток, терпелив, обязателен, великодушен и щедр более, чем то позволяли его средства. Естествоиспытатели, встречавшиеся с ним в отдаленных экскурсиях и, между прочими, Левальян, передают много случаев, доказывающих его чрезвычайную доброту и необыкновенное мужество, но так как он сам никогда не рассказывал о себе, то неизвестно, насколько справедливы показания его современников.
Годы шли за годами, и Хромуша наконец состарился. Однажды, изучая в Лапландии нравы гагар, он сильно утомился и замерз, так что опять начал хромать, как в детстве. Он привык к движению, необходимость вести теперь более сидячую жизнь тяжело отозвалась на расположении его духа, и он стал скучать, он думал, что ему осталось уже недолго жить, и в последние свои годы разослал птиц, составлявших его коллекцию, разным музеям, со множеством анонимных примечаний, которые ученые оценили по достоинству, хотя и не знали автора их. Насколько другие любят молву о себе, настолько Хромуша любил оставаться неизвестным; тем не менее его все знали, любили и уважали в окрестностях, называли господином бароном, и даже нашелся бы не один человек, который был бы готов по одному его слову броситься в воду. Хромуша был очень счастлив, как видите. Последнее время своей жизни он занимался рисованием. Его превосходные рисунки ценились очень дорого. Почувствовав близость кончины, он захотел еще раз взглянуть на большой утес. Он был еще не очень стар, и семья его не имела серьезных опасений насчет его здоровья. Верные друзья его, аптекарь и священник, были гораздо старше его, но они были еще довольно крепки и бодры. Они вызвались было проводить его, но Хромуша поблагодарил их и сказал, что хочет остаться один. Все знали его склонность к уединению и не хотели стеснять его, он обещал не уходить далеко по морскому берегу.
Настал вечер, Хромуша не возвращался. Братья его, племянники и друзья стали беспокоиться, и все, в том числе священник и аптекарь отправились с факелами отыскивать его. Но напрасно проискали они всю ночь. Его нигде не было видно. На следующее утро принялись его искать везде по берегу и долго повсюду расспрашивали о нем. На дюнах царило безмолвие, море не выбрасывало никакого трупа. Одна старуха, ловившая рано поутру раков на морском берегу, уверяла, будто видела большую морскую птицу, какой никогда прежде не видывала, птица эта пролетала так низко над ее головой, что даже задела крыльями за ее чепец, и прокричала ей голосом господина барона:
– Прощайте, добрые люди, не горюйте обо мне, я опять раскрыл мои крылья.
Королева Квакуша
В Нормандии или Пикардии, хорошенько не припомню, в большом старинном замке жила знатная владелица больших поместий, старая барыня, которая, несмотря на свои преклонные годы, была очень добрая и рассудительная женщина. Замок был окружен рвами, поросшими тростником, кувшинками, морским ситником и тысячью других красивых диких растений, в которых жило множество лягушек, некоторые из них были такие старые и огромные, что нельзя было надивиться их громадным размерам и громкому голосу. Владелица имения, которую звали госпожой Иоланд, прекрасно спала под кваканье их, да и все жители замка совершенно привыкли к нему. Случилась большая засуха. Вода во рвах пересохла, тростник и другие растения погибли, множество лягушек, саламандр и других маленьких животных, живших в тех растениях, умерло, отчего грязь наполнилась миазмами и стала распространять дурной болотный запах. В замке и его окрестностях появилась злокачественная лихорадка, которою заболела и госпожа Иоланд со всеми почти жителями замка.
У госпожи Иоланд были дети, которые все пристроились в других странах. При ней находилась только пятнадцатилетняя внучка ее Маргарита, очень сметливая и бойкая девочка и такая услужливая, что, несмотря на то что она была вовсе не красива, все любили ее без ума. Она была мала ростом, но ловка и довольно грациозна, зато нос ее был слишком мал, глаза ужасно круглы, рот громадный. Госпожа Иоланд, бывшая в свое время красавицей, иногда говаривала: какая жалость, что такое милое и смышленое дитя походит на лягушечку!
Может быть, вследствие этого сходства Маргарита любила лягушек и жалела, когда они стали умирать от голода и жажды в пересохших рвах. Несмотря, однако же, на привязанность ее к этим невинным животным, ей пришла мысль, что хорошо было бы совершенно высушить рвы и обработать их под сады. Насаженные во рвах плодовые деревья были бы защищены от морозов, очищенная почва перестала бы распространять вредные испарения, и лихорадки непременно бы прекратились в замке и окрестностях его. Во время болезни бабушки и старых служителей Маргарита так заботливо ходила за ними, что благодаря попечению ее все больные выздоровели, а когда настала зима, она сказала бабушке, которой еще прежде сообщала свою мысль:
– Милая бабушка! Рвы теперь пока без воды, мороз истребил всех животных и все растения. Пригласим работников до начала весны и, не дожидаясь дождей, которые воскресят все болотное царство, велим вычистить сор и прокопать борозды для стока воды. Заменим дурную землю хорошей, посыплем песком аллеи, будем сеять и сажать, а в будущем году о болезнях не будет и помину.
– Делай как знаешь, Маргариточка, – отвечала госпожа Иоланд. – Ты рассудительная девочка, и я тебе предоставляю распоряжаться рабочими.
Маргарита поспешила отдать приказания, и недели через две очистили все большие рвы, устроили прекрасные цветники, усыпали песком прелестные аллеи, а в марте насадили вдоль стены шпалерником деревья; посреди цветников появились редкие кустарники, на клумбах цветы. В мае все зазеленело и расцвело. В каждом отделении цветников устроили мраморные бассейны, в которых дождевая вода оставалась чистой и прозрачной, а в ней плескались прекрасные рыбки огненного цвета и чудные белоснежные лебеди. Маргарита устроила красивые шалаши, окрашенные зеленой краской, куда поместила своих лебедей и павлинов. Щеглята, зяблики стали вить гнезда на деревьях. Сады были так хорошо защищены от жары и холода, что она с удовольствием проводила в них почти все время, да и госпожа Иоланд частенько спускалась в сад по отлогой лестнице, устроенной для нее заботливой внучкой.
Настало лето, а о болезнях не было и слуха. Однажды Маргарита спросила бабушку, довольна ли она была ее распоряжениями?
– Конечно, довольна, – отвечала старушка, – потому что ты всем оказала важную услугу; но откровенно тебе признаюсь, что, припоминая былое время моей молодости, я невольно начинаю грустить, разумеется не о болоте, а о прекрасной прозрачной воде, которой было в изобилии в нашем поместье; а по моему мнению, вода служит лучшим украшением жилища знатных людей. Теперь наш замок более походит на мещанский домишко, и я уверена, что наши соседки подсмеиваются над нашими плантациями, полагая, что мы собираемся торговать плодами на рынке.
Маргарита так смутилась от слов бабушки, что, покраснев, опустила голову. Госпожа Иоланд поцеловала ее и, чтобы утешить, сказала:
– Теперь дело уже сделано, оно принесло пользу, а нужно всегда предпочитать полезное приятному. Мы будем есть наши яблочки, а соседки будут пустословить. Продолжай свои занятия и будь уверена, что я тебя одобряю.
Оставшись одна, Маргарита крепко призадумалась. Она никогда не видела рвов, наполненных прозрачной водой, может быть, воображение бабушки несколько преувеличивало красоту их, но Маргарита и сама припоминала, как она любовалась роскошной зеленью, покрывавшей их точно изящным узорчатым ковром с крупными букетами гигантского тростника, поднимавшего свои головки темно-коричневого бархата. Она припоминала и водяную чечевицу, и волчью траву с красивыми букетиками белых и красноватых мелких розанчиков, и водяные лютики с тысячью матово-серебряных цветочков, плавучий шилыгак, водяную лазорево-голубую веронику и, наконец, всевозможные мхи, которыми она забавлялась в детстве, свертывая их в гнездышко; из длинных оленьих языков она делала себе пояса, а из красивого папоротника – плюмаж. Она вспомнила все это, и ей стало так жаль прошлого, что прекрасный сад ее показался ей скучным и некрасивым.
«Я уничтожила все, что мне нравилось и о чем бабушка сожалеет, – подумала Маргарита. – Может быть, осенние дожди и в нынешнем году привели бы все в прежний вид».
Она взглянула на свои мраморные бассейны, на красных рыбок и прекрасных лебедей и горько заплакала, вполне убеждаясь, что все это не стоило больших лягушек, саламандр, водяных ящериц и тысячи животных, которые некогда резвились во мху и тине. Сквозь слезы она смотрела на прозрачную воду, струившуюся по чистому желобку из переполненных бассейнов, и бессознательно следила за свободным течением струйки, стремившейся по полянке к хорошенькому ручейку.
Маргарита шла по сырой траве до самого ручейка, куда вода тихо пробегала, скрываясь в дерне; она пришла к берегу, где от сильного скопления воды образовалось довольно большое болото, которого до сих пор она не замечала. Дно реки было весьма неглубоко, а деревья, поваленные грозой, замедляли в этом месте течение ее, и потому вода, прибывшая с поляны, останавливалась у берегов. Тростник, украшавший прежде стены рвов, теперь переплелся в беспорядке со своими товарищами – волчьей травой, шильником, водяным ситником, ирисами, белым лютиком и голубыми верониками, а вокруг этой растительности роились мириады различных насекомых. Большие и маленькие стрекозы, веснянки, коромысла, стрекозы красные, как коралл, голубые, зеленые и блестящие, как бриллианты, легкие перлянки, прозрачные воздушные поденки и другие с черными крапинками, восхитительные цветочники с розовыми точно осыпанными изумрудами крыльями – и весь этот мир насекомых роился, разлетался или гонялся друг за другом в чудной зелени великолепного папоротника. Между стебельками этого крошечного девственного лесочка копошились жесткокрылые то золотисто-бронзового цвета, то аспидного оттенка или ярко-красного, будто раскаленного на огне; тростянки и жуки-головастики – жильцы земли, которые как будто заняли свой блеск у металлов, как воздушный мир бабочек занимает его у цветов, а сетчатокрылые у солнечных лучей. Тяжелые дитики менее ярких цветов плавали с удивительной ловкостью в воде, которую туча двукрылых долгоногих комаров осыпала, словно золотой пылью.
Маргарита вспомнила то время, когда она любовалась играми этих маленьких созданий и вместе с тем плаванием лягушек. Но как она ни искала их, все было напрасно. Всего было много в воде, исключая лягушек. «Да неужели же нет ни одной лягушки на всем земном шаре? – подумала она. – Ни маленькой, ни большой, и не я ли причиной истребления бедных животных?»
Солнце, скрывшееся за большую темную тучу, снова озарило всю поляну таким лучезарным блеском, что Маргарита принуждена была на мгновенье закрыть глаза, и, открыв их, она увидела себя уже не на берегу болота, а на островке, образовавшемся из ветвей и корней. Она была окружена глубокой прозрачной водой, которая искрилась тысячами блесток. Солнце так приветливо освещало все болото, что оно оказалось очаровательным; вода блестела в нем, точно расплавленное золото, камыш представлялся пальмами, покрытыми изумрудными и яхонтовыми плодами, а со старой наклоненной к берегу ивы сыпались дождем лазоревые с серебристыми брюшками насекомые, спешившие упиться соком из лиловых цветочков посконника. Маргарита была так очарована необыкновенным зрелищем, что и не подумала разъяснить себе, каким чудом она туда попала и как оттуда выйдет.
Вдруг ей послышалось слабое невнятное пение, выходившее как бы из воды. Вскоре это пение перешло чуть слышным лепетом в траву; мало-помалу голоса становились громче, а слова яснее, и наконец Маргарита услыхала свое имя, повторяемое тысячами тонких голосов, кричавших: «Марго, Марго, Марго, Марго!»
– Что это там такое? – проговорила она. – Чего вы от меня хотите?
Тогда все ящерицы, саламандры, водяные пауки, речные полипы, требляки и стрекозы начали все вместе говорить, не переставая в то же время и прыгать, скользить, нырять, летать и неистово плясать, повторяя «Марго, Марго!» на всевозможные тона, так что совершенно оглушили Маргариту.
– Послушайте же меня, – сказала она, затыкая уши, – если вы хотите, чтобы я вас поняла, то не говорите все разом, а растолкуйте мне пояснее ваше требование.
Наступило молчание, все животные притихли, солнце снова скрылось, а из раздвинувшегося тростника вдруг явилась необыкновенная зеленая лягушка, с черными крапинами, такая громадная, какой испуганная Маргарита никогда еще не видывала.
– Если твои намерения чисты, тогда не пугайся, – сказала ей лягушка голосом, звучавшим подобно ракете. – Но знай, что если ты имеешь некоторую власть на земле, то я всесильна в этих водах и травах, одним словом – я всемогущая королева Квакуша! Тебя я коротко знаю, потому что долго жила под окном твоего старинного жилища. В то время я повелевала многочисленным населением, рожденным от меня, и мы все тебя любили, потому что и ты нас любила. Мы подметили твое наружное сходство с нами и признавали тебя за свою сестру. Каждый день ты приходила смотреть на нас, наши ловкие движения тебя восхищали, а мелодичные голоса прогоняли твою тоску. Ты никогда не делала нам зла, и потому я не обвиняла тебя в наших несчастьях. Засуха истребила мой народ, увы! и я одна пережила это бедствие; одна я, следя капля за каплей за водой, бежавшей к этой луговине, основалась здесь и останусь до тех пор, пока не произойдет от нового моего брака новое поколение. Выслушай же меня внимательно: отрекись от всякой попытки высушить мое новое царство, как ты высушила рвы твоего жилища. Здесь я хочу основать свою резиденцию, и знай, что если ты не пощадишь и этот луг, тогда горе тебе и всему твоему семейству!
– Вы, право, смеетесь надо мною, сударыня, – смело возразила Марго. – Я догадываюсь, что вы волшебница, а в таком случае вы знаете, что я никогда не имела намерения огорчить вас, я даже готова оказать вам от чистого сердца всякую услугу, потому что вижу ваше горе и сострадаю вам.
– В таком случае я открою тебе всю мою душу, мое прекрасное дитя, и расскажу тебе все мои несчастья. Пойдем вместе со мною в мой хрустальный дворец, там ты услышишь о чудесах, которые никогда не доходили до человеческого слуха.
Тут королева Квакуша нырнула в самую глубину, и доверчивая Маргарита готова была последовать за ней, как вдруг почувствовала, что кто-то остановил ее за юбку. Она обернулась и увидела стоявшего за ней прекрасного Геба, самого большого и ручного из лебедей ее. Он был любимцем ее, и на нем было золотое ожерелье. В то самое мгновенье все волшебные чары лягушки потеряли свою силу, сознание возвратилось к Маргарите, и она испугалась, увидевши себя в воде, окруженной глубоким мраком, потому что солнце уже скрылось, небо было покрыто тучами, и она не знала, куда ступить, чтобы выбраться из болота.
– Ах! милый мой Геб, – сказала она лебедю, лаская его, – как ты меня здесь отыскал и научи меня, как выйти отсюда.
Лебедь ловко ухватился за платье и стал тащить ее изо всей силы. Она старалась помогать ему и, наконец, почувствовала под ногами песок и камни; но едва только вышла она из болота, как лебедь исчез. Напрасно она звала его, обошла всю местность, даже решилась идти опять на островок, умоляла лягушку сказать ей, куда скрылся лебедь, – все безмолвствовало, а ночь становилась все темнее и темнее.
«Уж не во сне ли я все это видела? – подумала она. – Или не пошел ли Геб прежде меня в замок?»
Она поспешила к бабушке и, повидавшись с нею, пошла удостовериться, не пришел ли Геб, но ни в шалаше, ни в саду, ни на дворе, ни на ферме, – нигде его не было, и это ее сильно тревожило.
Бабушка также очень беспокоилась о Маргарите, которая сказала ей, что замечталась у ручья, но, боясь ее насмешек, не осмелилась рассказать ей о чудесах, которые она слышала и видела, тем более что и сама не совсем верила в действительность их. Исчезновение лебедя смущало ее, и, когда после напрасных поисков все улеглись спать, она не могла заснуть, а открыв окно, стала смотреть во все стороны и тихим свистом звать своего прекрасного лебедя. Наконец, утомившись от напрасных ожиданий, она бросилась в постель, слушая раскаты грома и свист ветра.
Вдруг ей послышался нежный голос, походивший на отдаленную музыку, который ей говорил:
«Не страшись ничего, я забочусь о тебе, но не доверяйся королеве Квакуше, благоразумная девица не должна пускаться в разговоры с незнакомыми лягушками».
Проснувшись, она очень скоро поняла, что ей приснились и звуки, и слова, и почти убедилась, что и все происшествия, которые случились с ней накануне, были действием воображения, тем более когда, подойдя ко рвам, она увидела своего прекрасного лебедя, плавающего в бассейне. Она его окликнула и, лаская, стала кормить хлебом. Он ел хлеб с прежней жадностью и принимал ласки по обыкновению равнодушно, потому что хотя был красивым и ручным, но по природе своей не смышленее других лебедей. Маргарита попыталась поговорить с ним, но он не обратил на это никакого внимания, а когда насытился, то отправился охорашиваться на солнышке, приглаживать свои перышки и чесать брюшко, после чего преспокойно заснул.
Маргарита стала, однако же, искать причину своим сновидениям и, наконец, вспомнила, что в детстве она с удовольствием слушала сказки бабушки, под которые всегда засыпала, и что в одной из них говорилось о волшебнице-лягушке, делавшей разные чудеса; но, несмотря на все старание, она никак не могла припомнить всего содержания сказки.
«Она-то и бродила у меня в голове, – подумала Маргарита, – и чтоб успокоить воображение, я непременно попрошу бабушку рассказать мне ее снова, и мы посмеемся с ней».
Она пошла к госпоже Иоланд в гостиную, но совершенно растерялась, увидев там молодого человека, белого, румяного, завитого, напудренного по последней моде, в прекрасном офицерском мундире небесно-голубого цвета, отделанном серебряным галуном. Наружность его и костюм так поразили ее, что она совсем позабыла и о лягушках, и о волшебницах. Молодой человек встал и подошел к ней с такой ловкостью, как будто собирался протанцевать менуэт. Он поцеловал ей руку и сказал самым вкрадчивым голосом:
– Наконец-то я вас увидел, милая кузина Маргарита! Как я счастлив познакомиться с вами! Вы выросли, но лицо ваше нисколько не изменилось.
Маргарита покраснела, приняв это за комплимент, и не знала, что отвечать. Она совсем не узнавала того, кто называл ее кузиной.
– Милое дитя мое, – сказала госпожа Иоланд, – неужели ты забыла своего кузена Мелидора де Пюиперсе? Правда, ты была совсем ребенком, когда он уехал офицером. Теперь ему двадцать лет, его родственники добыли ему полк, и он уже полковник драгунского полка. Поцелуйтесь, дети мои, и будьте по-прежнему друзьями.
Маргарита вспомнила теперь о кузене, которого в детстве терпеть не могла, потому что он любил всех дразнить и всегда был праздным. Но так как она не была злопамятна, то и подставила ему щеку, к которой он едва прикоснулся губами с насмешливым видом, огорчившим ее. Она решила, что он или неблагодарный, или забыл все мелкие неприятности, за которые она на него сердилась.
Он продолжал разговор, и она прислушивалась с большим вниманием, потому что он говорил о чудесах Парижа: о спектаклях, о празднествах и балах, на которых он отличался. Рассказывал о модах и о женских нарядах и казался таким знатоком, что Маргарита стала стыдиться своего скромного платьица с красными цветочками и узенькой ленточки, поддерживавшей ее прекрасные волосы. Что же касается его, то он не обращал никакого внимания на ее досаду, а госпожа Иоланд находила своего племянника изменившимся к лучшему. Она улыбалась, слушая его болтовню, которая ей смутно напоминала былое время ее успехов в свете. За обедом господин де Пюиперсе нашел все блюда плохими, даже и пирожное, которое Маргарита отлично готовила и которое всем нравилось; он отнесся с совершенным пренебрежением к прекрасному яблочному сидру – местному, родному произведению и, не стесняясь, попросил шампанского, которое сей же час, по приказанию бабушки, поспешили подать, но и шампанское он нашел слабым, а между тем пил так неумеренно, что начал болтать вздор.
Госпоже Иоланд не понравились его выходки, и она сказала ему:
– Иди спать, мой милый, я уверена, что тебя приучали к вежливости, и потому завтра ты освежишься и поймешь, что неловко выказывать пренебрежение к тому, что тебе радушно предлагают.
Маргарита была очень довольна уроком бабушки и, засыпая, нисколько не думала о кузене; но так как в сердце человеческом, даже самом рассудительном, всегда найдется уголок для тщеславия, то и Маргарита на другой день, при всем своем благоразумии, упрекнула свою горничную за то, что та подавала ей всегда самые дурные платья, и потребовала одно из новых.
Тогда горничная подала ей нарядное шелковое желтое платье, подаренное бабушкой. Но госпожа Иоланд давно уже не выезжала из деревни и потому не имела никакого понятия о нарядах, а Маргарита до сих пор находила коротенькие юбки из прочной ткани самым удобным костюмом для своих занятий в садах. Она вообще не любила нарядов, а надев желтое платье, отделанное лентами огненного цвета, она доставила молодому Пюиперсе прекрасный случай посмеяться над ней. Но, по-видимому, урок госпожи Иоланд сохранялся еще в его памяти, и Маргарита даже удивлялась его вежливости и любезностям, которые он говорил ей. Он извинялся во всем, что наговорил неприятного накануне, уверяя, что это произошло от головной боли, которой он часто страдал; одним словом, он употреблял все старание загладить свою прошлую вину. Маргарита, желая со своей стороны оказать ему внимание, любезно предложила после завтрака пройтись по саду. Она восхищалась его похвалами и расспросами обо всем, что видел. Взглянув на красных рыбок, он спросил, вкусны ли они, а любуясь лютиками, назвал их тюльпанами. Он с удовольствием смотрел на плавающих лебедей, находя, что для охотника они могли бы служить прекрасной целью.
Но эти слова не прошли ему даром. Геб точно понял значение их и с яростью бросился на Пюиперсе, ударяя его крыльями и клювом. Встревоженная Маргарита боялась, чтоб, защищаясь от его нападений, драгунский полковник не сделал бы его жертвой. Но не тут-то было! Прекрасный полковник искал спасения возле своей кузины, тогда Геб пришел в еще большее ожесточение и стал щипать ему икры, а храбрый кузен обратился в бегство и, дрожа от страха, приютился за садовой решеткой, которую он запер, чтобы защититься от нападений врага. Маргарита могла с трудом оттолкнуть разъяренную птицу и перейти к кузену, испуг которого очень удивил ее; но он объяснял причину своего бегства страхом лишить ее любимой птицы, которую он мог легко убить в припадке гнева, защищаясь от ее нападений.
Маргарита готова была всему верить и все простить и потому с удовольствием продолжала прогулку с кузеном; она старалась обратить внимание его на прекрасные высокие деревья, окружавшие сад, а он спросил ее о стоимости их.
– Я, право, не знаю, сколько они стоят, – отвечала Маргарита, – потому что они не продаются.
– А когда они будут вашей собственностью? Бабушка мне утром сказала, что она вам отдаст после смерти своей все, чем владеет в этой местности.
– Она никогда мне об этом не говорила, и я вас прошу, Мелидор, не говорить мне о смерти бабушки.
– Нужно, однако, привыкать к этой мысли, она уже очень стара и желает прежде смерти отдать вас замуж.
– Я не выйду ни за кого, – воскликнула Маргарита, – потому что никогда не решусь расстаться с моей доброй мамой, которая меня воспитывала и которую я люблю более всего в мире!
– Это все очень мило, но тетушка Иоланд недолго проживет, и вам необходимо приискать хорошего мужа, который устроит ваши дела, продав все эти поля, луга и этот отвратительный старый замок, в котором вы заживо погребены. Тогда, милая Маргарита, вы будете наряжаться по последней моде, ездить ко двору, у вас будет прелестный экипаж, выездные лакеи, бриллианты, ложа в опере, отличное помещение в Париже, – одним словом, все, что составляет счастье женщины.
Сначала Маргарите не понравились рассуждения ее кузена, но он не переставал делать оценку всему, что осматривал, и так напел ей в уши о будущем богатстве ее, что она сама призадумалась и даже удивилась, как до сих пор ей не приходилось об этом подумать.
Они сами не знали, как очутились у болота. Вдруг Пюиперсе вскрикнул:
– Ах, какая чудная лягушка! Никогда еще не видел я такой громадной, а лягушки – очень вкусное блюдо, я ею воспользуюсь.
Лягушка беззаботно покоилась на солнышке. Он поднял уже свою палку.
– О, не убивайте ее, – воскликнула Маргарита, останавливая его за руку, – если не хотите огорчить меня, не трогайте это бедненькое животное!
– Это отчего? – спросил удивленный кузен и, обернувшись к ней, взглянул на нее как-то особенно выразительно.
Взгляд его смутил Маргариту; но под влиянием своих сновидений и не давая себе никакого отчета в своих словах и действиях, она тихонько толкнула лягушку кончиком своего зонтика, сказав:
– Проснитесь, сударыня, и спасайтесь скорее.
Лягушка нырнула и скрылась, а полковник покатывался со смеху.
– Чему вы так смеетесь? – спросила его Маргарита. – Я не люблю, чтоб мучили животных…
– Особенно лягушек, – возразил Пюиперсе, продолжая смеяться до слез. – Вы покровительствуете лягушкам и, как видно, с ними очень вежливы, даже в самых близких отношениях!
– А хотя бы и так, – сказала Маргарита, – что вы находите в этом смешного?
– Ничего, конечно, – отвечал Пюиперсе, принимая серьезный вид, – если лягушка смышлена и ловка… то и к ней можно привыкнуть и привязаться, – она такое же животное, как и любое другое… Обещаю вам, кузина, не обижать никогда ваших друзей; а теперь поговорим о другом, и верьте мне, что я от чистого сердца признаю вас за самую милую особу и уверен, что, узнав свет, вы много выиграете.
«А свет, верно, очень увлекателен», – думала Маргарита, когда она возвращалась домой, опираясь на руку полковника. Ее мучило любопытство, и в тот же вечер она не могла не спросить у госпожи Иоланд, отчего она перестала выезжать из деревни.
– Эге! Марго, – отвечала добрая старушка, – вот ты и скучаешь в деревне! Потерпи, дитя мое, я уже очень старая и скоро, скоро ты будешь свободна располагать собой.
Маргарита залилась слезами и, бросившись на шею госпожи Иоланд, не в силах была произнести ни одного слова. Госпожа Иоланд поняла ее доброе сердце и привязанность к ней и, обратившись к своему племяннику, сказала:
– Ты ошибся, мой друг, в своих расчетах. Марго не скучает со мной и не желает расставаться. А ты можешь возвратиться в свой полк и веселиться сколько тебе угодно.
– Вы меня гоните, милая тетушка, – отвечал он, – и я имею честь откланяться. Завтра рано утром я уеду. Прощайте, Маргарита, поразмыслите хорошенько, – и он, ловко раскланявшись, удалился.
– Что это все значит, добрая мама? – воскликнула Маргарита, когда он ушел.
– Это значит, дитя мое, что от тебя будет зависеть выйти замуж за твоего кузена Пюиперсе.
– Как? Разве он приезжал, чтобы посвататься за меня?
– Нет, он об этом прежде не думал, но сегодня утром ему пришла эта мысль.
– А отчего?
– Может быть, ты ему понравилась, – сказала, улыбаясь, госпожа Иоланд.
– Бабушка! Не смейтесь надо мной! Я знаю, что я нехороша. Ведь вы сами называли меня часто лягушонком.
– А это не мешает же мне тебя любить, следовательно, можно быть лягушонком и внушать привязанность.
– Кузен меня слишком мало знает и потому не мог полюбить. Скажите мне правду, бабушка, ведь он не может меня любить!
– Ты лучше меня можешь решить этот вопрос, вы гуляли вместе целое утро без меня. Он, вероятно, наговорил тебе много любезностей, а ты, может быть, призналась, что не прочь выйти замуж, чтобы иметь значение в обществе и выезжать в свет.
– Нет, бабушка, он солгал, я этого не говорила.
– Может быть, подумала. А он такой лукавый, что отгадал твои мысли.
Маргарита никогда не лгала и потому замолчала. Госпожа Иоланд догадалась о причине ее молчания и сказала ей:
– Послушай, милое дитя, ты ухаживала за мной и заботилась о моей старости, а я должна стараться доставить тебе счастье и блестящее положение в твоей молодости. Ты будешь богата, и кузен твой это знает. Я не стану говорить о нем ни хорошего, ни дурного. Ты умна и рассудительна и сама произнесешь о нем свой приговор. Он советовал тебе поразмыслить. Поди отдохни, и если завтра утром ты пожелаешь удержать его, то распорядись об этом сама.
Маргарита была так взволнована происшествиями этого дня, что не могла заснуть, а предалась различным предположениям и размышлениям. Она не чувствовала никакой привязанности к своему кузену, но почем знать, может быть, он и полюбил ее, несмотря на ее некрасивую наружность. А если он сумел оценить ее ум и любезность, то это доказывало и его ум, а сначала он показался ей глупым и неприятным. Положим, что у него было много недостатков, он легкомыслен, расточителен и любит хорошо поесть, но у него было доброе сердце, потому что он сразу уступил ее просьбе, когда узнал, что она любила животных, и ко всему этому он не был упрям. «Я так дурна собой, – думала Маргарита, – что могу понравиться разве такому же дурнушке, как и я сама, и тогда все скажут: она и не могла рассчитывать на красивого. Ведь очень простительно желать красивого мужа, чтобы, гуляя с ним под руку, иметь удовольствие слышать: Марго на лицо точно лягушка, а все-таки она умела понравиться этому красавцу, напудренному, расфранченному, он полковник и мог бы выбирать между всеми красавицами! Я не могу расстаться с бабушкой, что ж! Если он меня любит, то согласится оставить меня с ней, а сам будет приезжать к нам почаще. Бабушка не стесняет мою свободу и я должна решиться прежде наступления утра, потому что, если я не остановлю его отъезда, тогда он будет недоволен и более не возвратится. Не написать ли ему письмо? Можно его пораньше передать. Недостает смелости! Не понимаю, отчего он так испугался моего лебедя и отчего лебедь так злобно бросился на него? Во многих случаях кузен выказывает свои странности! Например, отчего он так рассмеялся, когда я сказала лягушке…»
Утомленная Маргарита заснула на стуле. Желая победить сон, она привстала и вдруг очутилась у самых рвов, близ мраморных бассейнов, освещенных луной. Как удивилась она, когда увидела кругом и даже в самой воде тростник, которого она там прежде не замечала. Она так устала, что хотела отдохнуть на дерновой скамье, как вдруг королева Квакуша быстро скакнула к ней и стала ей говорить:
– Ты добрая девочка, Марго, ты спасла мне жизнь, и я вышла из своего дворца, чтоб дать тебе дружеский совет. Я знала, что найду тебя здесь, эти места мне известны, как мои пять пальцев. Выходи замуж за твоего кузена, моя милая, тебя ожидает с ним счастье и слава!
– Так вы не сердитесь на него за то, что он собирался лишить вас жизни?
– Он принял меня за простую лягушку, и с этой минуты я решила из предосторожности носить корону и мои драгоценные украшения. Сегодня же вечером я хочу одеться прилично моему званию.
– А где же ваша корона и драгоценности? – спросила удивленная Маргарита. – Где они?
– Они у тебя, Марго, и я пришла за ними к тебе.
– Как так?
– Узнай мою жизнь, которую я собиралась тебе рассказать в тот день, когда твой ужасный лебедь, которого ты называешь Геб, прервал мой рассказ. Узнай, что это принц Роланд! Послушай, как он рвется из своего заключения, он готов растерзать меня, но я прежде всего уверилась, что он под крепким запором, к тому же я знаю магические слова, чтоб держать его в повиновении. Теперь слушай меня и старайся извлечь для себя пользу из моего рассказа.
Я – твоя прародительница, не по прямой линии, а прабабка прабабки твоей тетки Пюиперсе, матери твоего кузена-полковника. Оттого я и принимаю участие и в нем, и в тебе. В настоящее время я волшебница, но была некогда простой смертной, как и ты, и родилась в этом замке. Меня звали Ранаидой, я была хороша как день, одним словом, так красива, будучи женщиной, как теперь хороша лягушкой. Отец мой занимался магией, преподавал мне тайные науки, и так как я была чрезвычайно умна, то и сделалась такой ученой, что мне стали доступны самые сокровенные тайны, и между прочими – тайны превращения. Я легко переменила свой вид и посредством известных снадобий и чародейства снова принимала свой прежний образ. Это давало мне возможность узнавать все, что делалось и говорилось на земле и в водах, тщательно скрывая свое могущество, потому что в то время невежества и суеверия я была бы предана сожжению как колдунья.
Мне было двадцать лет, когда принц Роланд женился на мне. Он был молод, богат, любезен и красив. Я любила его до безумия, у нас было много детей, и мы были чрезвычайно счастливы в этом замке, который в то время отличался пышностью и гостеприимством. Вдруг мне показалось, что муж мой ухаживал за одной из моих приближенных, которую звали Мелазией. Я подкараулила ее вечером около рвов вместе с человеком, закутанным в плащ. Я полагала, что это был мой муж, и превратилась в лягушку, чтобы иметь возможность рассмотреть его вблизи или узнать его по голосу. Я притаилась между двумя камышами на мостиках через рвы, и он прошел близехонько от меня. Тут я поняла свою ошибку: незнакомец был пажом моего мужа и сам был неравнодушен к Мелазии. Я так обрадовалась этому открытию, что поспешила возвратиться в свою комнату, а так как время было позднее, я бросилась в постель и сладко заснула, не подумавши, увы! принять напиток, который должен был возвратить мне мой настоящий вид.
Мелазия в обычный час вошла в мою комнату, чтобы разбудить меня, но так испугалась, увидав лягушку в мой рост, растянувшуюся на постели, что остановилась безмолвно в совершенном оцепенении, почему я и продолжала покойно спать. Как только она пришла в себя, то затворила тихонько дверь моей комнаты и побежала будить принца Роланда, чтобы спросить его обо мне и передать ему, что она видела на моей постели. Воображая, что девушка обезумела, принц прибежал в мою комнату, но, когда он увидел меня в этом виде, никак не подозревая, что этой лягушкой была его жена, он взглянул на меня с отвращением, обнажил шпагу и одним ударом отрубил переднюю мою лапу. Мои чары спасли меня от смерти. Пока я скрывалась в образе, принятом мной посредством чар, разрушение не могло коснуться меня в продолжение двухсот лет. Я была ранена, но не смертельно, и потому стремглав бросилась на окно, а с окна в ров, в котором отнятая лапа в то же мгновение заменилась другой, такой же здоровою, как и та, которую ты теперь видишь. Оттуда я стала прислушиваться к суматохе, происходившей в замке. Делались распоряжения, чтобы отыскать владетельницу замка. Муж мой был неутешен, а я ждала наступления ночи, чтобы осторожно пробраться в покои. Я карабкалась, прыгала со ступени на ступень до своей комнаты и поспешила выпить напиток, который должен был возвратить мне прежнюю красоту. Увы! Напрасно я присоединяла к напитку самые таинственные заклинания и натиралась волшебными мазями, несчастная рука не вырастала. Она оставалась лягушачьей лапой, и, когда муж мой, убитый горем, приблизился к моей комнате с намерением прекратить там свое горькое существование, я едва-едва успела завернуться до половины в мой бархатный плащ, чтобы скрыть эту несчастную лапу.
Мой муж чуть не умер от радости, когда увидел меня. Он обнимал меня, проливая слезы, и осыпал вопросами. Ему казалось, что какой-нибудь злой дух похитил меня у него, и он желал знать, каким чудом я ему возвращена. Я придумывала разные приключения и в это время старалась освободиться из его объятий, чтобы скрыть от него мою лапу, но, к несчастью, сознавала, что скоро откроется горькая истина.
Тогда я прибегла к крайним мерам, к мерам ужасным, – я решилась уничтожить того, кого любила более жизни.
Испуганная Маргарита хотела было встать и бежать подальше от ненавистной Ранаиды, но оставалась как бы прикованной влиянием чар, а лягушка продолжала свой рассказ следующим образом:
– Знай, дитя мое, что я не могла иначе действовать. Клятва, которую ничто не может ни уничтожить, ни изменить, заставляет всех, имеющих волшебную силу, умерщвлять каждого, кто каким-нибудь образом откроет ее. Как скоро мой муж увидел бы мою лапу, он должен был погибнуть и быть увлечен в пропасть духами, моими властителями и повелителями.
Нужно было во что бы то ни стало вырвать его из власти их, прежде чем ему сделается все известным. Я подмешала к его вину снадобье, от которого в то же мгновение, как он выпил его, у него выросли белые перья и большие крылья, менее чем через четверть часа он превратился в белого как снег лебедя. Таким образом он в продолжение двухсот лет был избавлен от смерти и власти духов, он должен был навсегда оставаться лебедем.
Узнай, что нынешней ночью на заре исполнится ровно двести лет и что от тебя зависит возврат моей молодости, моей красоты и моего человеческого значения в мире.
– Я на все согласна! – сказала Маргарита. – Потому что вы верно окажете ту же услугу и Гебу, то есть принцу Роланду.
– Конечно, – отвечала Ранаида, – это мое самое горячее желание.
– В таком случае, я готова. Говорите поскорее, что нужно делать.
– Для большей ясности ты должна выслушать мой рассказ до конца. Едва принц Роланд почувствовал свое превращение, как он с самым ужасным ожесточением бросился на меня с намерением умертвить. Может быть, в нем еще сохранилось настолько человеческого разума, чтобы сознать несчастие, которому я была невольной причиной, или он повиновался одному своему животному инстинкту, но злоба его была так велика, что я вынуждена была произнести магические слова, которые нас совершенно разъединяли в продолжение двухсот лет. Тогда он улетел с громким криком, и вчера только в первый раз я увидела его у болота – места моего нового жительства, куда он приходил за тобой.
– А отчего же, госпожа Квакуша, – спросила Маргарита, – вы были осуждены снова превратиться в лягушку и оставаться в этом виде двести лет, когда от вас зависело оставаться прекрасной женщиной, скрывая свою лапу от нескромных глаз.
– Такова была воля жестоких духов. Они не могли простить мне способа, придуманного мной для спасения моего мужа, и осудили меня на разлуку с моими детьми и на брак с Квакушей, царем лягушек, с которым я долго царствовала во рвах и после него я теперь вдовею. Впоследствии замок перешел к твоей бабушке, и все снадобья, над которыми я так трудилась, или совершенно затерялись, или утратили свою силу. Но у вас находится неоцененное сокровище, и оно может возвратить мне мою прелесть. Это сокровище заключается в моем брачном волшебном уборе, который хранится в шкатулке кедрового дерева в комнате госпожи Иоланд. Это ваше самое редкое и драгоценное семейное достояние. Шкатулка принадлежит тебе, потому что бабушка намерена сделать тебя своей наследницей. Иди за ней и принеси ее сюда.
– Нет, госпожа Квакуша, – отвечала Маргарита, – я не решусь похитить то, что еще принадлежит моей доброй бабушке, разве с ее позволения…
– Да тут дело идет не о похищении, – продолжала Ранаида, – и я вовсе не хочу возврата своих вещей. Я их надену на одну только минуту, а как скоро возвратится мой настоящий вид, мне они ни на что не будут нужны, и я тебе их возвращу, потому что тебе-то они очень пригодятся. Эти волшебные драгоценности имеют силу одарять красотой самых безобразных, и если ты их наденешь на один только час, вместо того, чтобы походить на такую лягушку, как я, ты будешь такой же красавицей, какой я была прежде и какой опять буду, одним словом, первой красавицей в мире.
Маргарита не устояла против соблазна и поспешила за шкатулкой, но, когда она стала доставать ее из шкафа, ей показалось, что бабушка спросонья смотрит на нее. Тогда она опустилась на колени перед ее кроватью, готовая во всем признаться, но госпожа Иоланд перевернулась преспокойно на другую сторону, и Маргарита поспешила выбежать из комнаты, потому что начинало уже рассветать. В то же мгновение она очутилась у бассейна, где ее ожидала царица Квакуша.
– Ах! Господи! – воскликнула она, подавая ей шкатулку. – Ключа-то к ней нет, а я не знаю секрета, как открыть ее.
– А я знаю, – отвечала лягушка, прыгая от радости. – Тому, кто в жизни своей не сказал ни одной лжи, достаточно проговорить эти два слова: «Шкатулка, отопрись!»
– Так вы и скажите их, госпожа Квакуша.
– К несчастью, не могу, моя милая, потому что я поневоле лгала, скрывая тайну моей науки. А ты должна их проговорить, и тогда я удостоверюсь в чистоте твоих правил.
– Шкатулка, отопрись! – сказала Маргарита с полной уверенностью. – И шкатулка отворилась, извергая яркое огненное пламя, на которое лягушка не обратила никакого внимания. Она опустила в нее свои лапы и вынула сначала зеркальце в золотой рамке, потом блестящее изумрудное ожерелье, отделанное в старинном вкусе, такие же серьги с подвесками, убор для головы и кушак из жемчуга с изумрудными застежками. Она надела все эти украшения и посмотрелась в зеркало, делая самые странные ужимки.
Маргарита тревожно следила за ней, страшась, чтобы она не исчезла вместе со всеми вещами ее бабушки, но Квакуша и не помышляла о бегстве. Она находилась в полном упоении, охорашивалась и смотрелась в зеркало с беспорядочными движениями и смешными гримасами. Ее круглые глаза искрились ярким огнем, изо рта выходила зеленоватая пена, а тело ее принимало отливы серо-зеленоватые и багрово-синеватые, рост же доходил почти до человеческих размеров.
– Марго, Марго, – вскрикнула она, уже не смягчая голоса, – смотри и любуйся! Взгляни, как я расту, как я изменяюсь! Смотри, как я хорошею! Дай мне твою вуаль, я из нее сделаю пока одежду, скорее, скорее, нужно же одеться поприличнее… Да где же мой веер из перьев, куда ты его дела?.. Ах, вот он… нашла! А мои белые перчатки… подавай скорее мои надушенные перчатки! Ожерелье нехорошо застегнуто, застегни его покрепче! Какая же ты неловкая! О боже! Где букет новобрачной… не остался ли он в шкатулке? Посмотри, поройся… вот он! Я его приколю к поясу! Взгляни! Чудо совершается. Венера – ничто в сравнении со мной! Я, одна я, настоящая Цитера, вышедшая из священных волн. Теперь начну танцевать. У меня делаются судороги в икрах, это признак превращения. Да, да, танцы ускорят мое искупление, я чувствую уже возврат моей прежней грации, пламя вечной юности охватывает все мое существо! Чх! Чх! Вот я начинаю чихать! Чх! Чх!
И, говоря это, королева Квакуша неистово прыгала и скакала, но, несмотря на все свои усилия, она все-таки оставалась лягушкой, – а горизонт начинал светлеть. Она смеялась, кричала, плакала, била мрамор бассейна задними лапами, махала веером, вытягивала передние лапы, точно балетная танцовщица, перегибала свой корпус и вертела глазами, точно алмея. Маргарита, все время в страхе смотревшая на нее, была так поражена необыкновенными телодвижениями ее, что вдруг разразилась самым безумным смехом и упала на дерн. Лягушка пришла от этого в страшный гнев.
– Замолчи, негодная, – закричала она, – твой смех мешает моим заклинаниям! Замолчи, иначе ты получишь достойное наказание!
– Ради бога, простите меня, госпожа Квакуша, – отвечала Маргарита, – я не могла удержаться, но вы так смешны! Право, можно умереть со смеха!
– Я бы готова была тебя сей же час совершенно уничтожить, но, к несчастью, не могу этого сделать, – возразила Ранаида, бросаясь на нее и поводя по лицу ее скользкой холодной лапой, – это меня бесит, но ты отплатишь мне за мои страдания. Я хотела тебя пощадить, но ты уничтожила во мне чувство сострадания. Нужно положить всему конец! Страдания мои невыносимы! Пусть же мое безобразие перейдет на тебя, и тогда мое искупление ускорится. Ты и до этого была некрасива, вот тебе зеркало, полюбуйся и, если есть охота, посмейся теперь!
Маргарита взяла зеркало из рук волшебницы и вскрикнула от ужаса, увидев себя без волос, с зеленым лицом и совершенно круглыми глазами.
– Лягушка, лягушка! – воскликнула она в отчаянии. – Я делаюсь лягушкой! Я лягушка! Кончено! – И, бросив зеркало, она невольно сделала прыжок и погрузилась в бассейн.
Несколько минут она оставалась в каком-то бессознательном усыплении. Между тем солнце взошло на горизонте и залило, точно целым огненным морем, всю природу, поглощая верхушки тростника над ее головой. Тогда она очнулась, решилась всплыть на поверхность воды, и ей представилось необыкновенное зрелище: несчастная Квакуша лежала безжизненная на берегу, лапки ее были подняты кверху, и все туловище ее совершенно омертвело. У нее была ужасная голова человеческого вида с длинными зелеными водорослями вместо волос, остальная часть туловища, в размерах обыкновенного человеческого роста, была матовой белизны, морщинистая и сохраняла формы лягушки. Возле нее стоял принц Роланд, облаченный в серебряные доспехи с золотой перевязью, в каске с белоснежным нашлемником, на плечах же его оставались большие лебединые крылья. Он снимал с Квакуши волшебный убор, в который Ранаида напрасно нарядилась.
– Подойди ко мне, Маргарита, – сказал он, – и поспеши надеть эти драгоценности, которые возвратят тебе твой первоначальный вид, никогда не пытайся украшать себя силой волшебства. Оставайся благоразумной и доброй девочкой и ищи мужа, который полюбит тебя не за наружную красоту. Прощай, смерть этой преступной волшебницы выкупила меня из неволи, на которую я был осужден в продолжение двухсот лет. Не жалей о ней, она тебе лгала в своем рассказе и хотела умертвить меня, чтобы иметь возможность похоронить вместе со мной свои преступные тайны. Но духи, которых она напрасно настраивала против меня, приняли меня под свою защиту. Теперь я возвращаюсь к ним, но буду заботиться о тебе, если ты останешься всегда достойной моего покровительства.
Он расправил свои крылья и поднялся по направлению солнечных лучей. Маргарита увидела его в воздушном пространстве, она приняла его сначала за Геба в золотом ожерелье, потом он ей представился утренней звездой, и, когда он совершенно скрылся из вида, она стала искать труп лягушки, но на месте его нашла отвратительный черный-пречерный гриб, который распылился от дуновения ветра.
Она снова очутилась в своей комнате на стуле, а солнце светило ей прямо в глаза. Она подбежала к зеркалу и в первый раз в жизни осознала себя очень хорошенькой, только казалась несколько утомленной.
«Неужели это был сон? – подумала она. – Но отчего же на мне надеты старинные драгоценности, которыми бабушка так дорожит? Уж не во сне ли я ходила за ними?»
Она сняла их с себя, положила в шкатулку, пошла ко рвам и заглянула в шалаш, думая найти там Геба.
– Вы ищете лебедя? – спросил ее садовник. – Он улетел. На заре я видел, как он взвился за стаей диких лебедей, которые здесь пролетали. Я вам часто говорил, барышня, что нужно бы подломить ему кончик крыла, вам не угодно было меня послушать, вот он и улетел.
– Тем лучше, – сказала Маргарита, – потому что он теперь счастлив на свободе, но в то время, как он улетал, не заметили ли вы чего-нибудь около рвов высокого тростника?
– Тростника? Еще бы! Я беспрестанно смотрю за чистотой и сегодня еще повыдергал все отростки, которые пробиваются вокруг бассейнов, и усыпал все песком.
Маргарите сначала показалось, что на песке точно следы лягушачьих лап, отпечатавшихся во время неистового танца Квакуши. Но, вглядевшись внимательно, она узнала следы павлинов, приходивших обыкновенно копаться в земле.
В то же время она услыхала шум проезжавших лошадей и, взглянув, узнала на подъемном мосту своего кузена Пюиперсе, уезжавшего в сопровождении своих слуг. Она совершенно о нем позабыла и нисколько не огорчилась его отъездом. Она могла заставить его вернуться одним словом. Она это знала и на мгновение задумалась, потом пожала плечами и равнодушно смотрела на удалявшегося полковника.
Возвратившись домой, она увидела служителей замка, собравшихся на крыльце и деливших между собой то, что, уезжая, драгунский полковник бросил им на водку. Они роптали, что им приходилось не более как по одному су.
«Может быть, он намерен возвратиться, – подумала Маргарита, – оттого он их и наградил так мало, а может быть, он очень беден, а в таком случае его нельзя и винить».
– Виделась ли ты со своим кузеном? – спросила ее госпожа Иоланд, когда она вошла к ней с шоколадом. – Остается он у нас или нет?
– Я его видела издали, когда он уезжал, бабушка, но с ним не говорила.
– Отчего же?
– Сама не знаю! Может быть, оттого, что я слишком была встревожена сном, который хочу вам рассказать. Но так как этот сон или видение был следствием смутного воспоминания сказки о волшебной лягушке, которая меня усыпляла, я вас попрошу повторить мне ее как в детстве.
– Я едва ее помню, – отвечала госпожа Иоланд, – мне тем труднее передать тебе ее без изменения, что я при рассказе каждый раз изменяла ее. Погоди, я, может быть, и припомню… Жила-была в этом замке прекрасная наследница, которую звали…
– Ранаидой! – воскликнула Маргарита.
– Совершенно верно, – сказала бабушка, – она была волшебницей…
– И вышла замуж за прекрасного принца… скажите-ка его имя, добрая мама!
– Постой, дай припомнить!.. Вспомнила – принц Роланд!
– Теперь мне понятно, что я во сне видела эту сказку, но так ясно, как будто все происходило перед моими глазами.
– А конец?
– Ужасный! Лягушка, желая принять человеческий образ…
– Так надувалась, так надувалась, что наконец и лопнула?
– Именно так.
– А для развязки тебе послужила басня, которую ты учила в одно и то же время, потому что мне никогда не приходилось кончать сказку, которая тебя усыпляла ранее развязки.
В это самое мгновение сильный порыв ветра принес в комнату множество сухих листьев и соломинок. Маргарита пошла затворить окно и увидела на нем листок исписанной и разорванной бумажки. Он походил на черновое письмо, и она собиралась бросить его за окно, как вдруг увидела на нем свое имя. Тогда она подала его бабушке, которая взяла его и, внимательно рассмотрев, передала ей обратно, говоря:
– Это начало письма твоего кузена к матери. Ветер занес его из комнаты, которую он занимал, а так как мы с тобой в настроении верить духам, то не худо поблагодарить домового, которому, вероятно, мы обязаны открытием тайны твоего кузена. Я разрешаю тебе прочесть это письмо.
«Милая матушка, простите все мои глупости, которые я надеюсь скоро загладить, женясь на Маргарите. Я узнал, что она наследница всего состояния старой тетушки и потому решаюсь вступить с ней в брак. Девочка самая безобразная, настоящая лягушка, или скорее похожа на зеленую жабу, а ко всему этому страшная кокетка и без ума от меня, но так как мы с вами в долгах, то…
Черновое письмо этим и кончалось, но для Маргариты этого было довольно, она молча смотрела на раздраженную бабушку, которая совершенно убедилась в дурных свойствах своего племянничка. Маргарита сказала ей:
– Не будем досадовать, добрая мама, а лучше посмеемся над всем случившимся. Я совсем не влюблена в кузена, и меня нисколько не оскорбляет его тщеславие. Вчера вечером вы мне велели хорошенько поразмыслить. Не знаю, размышляла я или просто спала, но в моих сновидениях мне представлялось то, что послужило мне прекрасным уроком.
– Что же ты видела во сне, дитя мое?
– Я видела лягушку, рядившуюся в богатые изумруды, она обмахивалась веером, танцевала сарабанду, красовалась и, наконец, лопнула. Она мне казалась такой смешной, и я не хочу походить на нее… Я видела еще прекрасного лебедя, скрывшегося за солнечными лучами, он мне сказал: «Ты найдешь счастье лишь с тем, который полюбит тебя без всяких украшений». Я хочу последовать его совету.
– И будь уверена, что тебя каждый полюбит такой, какой создал тебя Господь, – отвечала госпожа Иоланд, целуя ее, – потому что заслуженное счастье – лучшее украшение.
Великан Иеус
Моей внучке
ГАБРИЭЛЕ САНД
И ты также, моя розовая малютка, будешь разбивать своими крошечными ручками камни, которые тебе будут встречаться на жизненном пути, и ты хорошо будешь разбивать их, потому что ты терпелива. Слушая историю великана Иеуса, ты поймешь, что такое метафора.
I
Когда я жил в прелестном городке Тарб, каждую неделю у дверей своих я видел бедного калеку Микелона на его маленьком осле в сопровождении женщины и троих детей. Я всегда подавал им что-нибудь и терпеливо выслушивал жалобную историю, которую Микелон рассказывал под моим окном; она неизменно кончалась метафорой, поразительной в устах нищего.
– Добрые люди, – говорил он, – помогите бедняку, который был добрым работником и который не заслужил своего несчастья. У меня была хижина и кусочек земли в горах, но однажды, когда я работал изо всех моих сил, гора обрушилась и сделала меня таким, каким вы теперь видите. Великан придавил меня.
Последний год моего пребывания в Тарбе я заметил, что уже много недель Микелон не появлялся за своей милостыней, и осведомился, не болен ли он или не умер ли. Никто ничего не знал. Микелон был жителем гор, и если только он где-нибудь жил, что очень сомнительно, то жил далеко. Я настоятельнее стал осведомляться о нем, потому что интересовался особенно детьми Микелона, которые были прелестны. Я заметил, что старший, которому уже двенадцать лет, был мальчик сильный, на вид гордый и понятливый и мог бы уже начать работать. Я выговаривал родителям, что они не думают о том. Микелон осознал свою ошибку и обещал мне покончить с этой школой нищенства, худшей из всех. Я предложил ему с помощью еще некоторых других лиц поместить мальчика в школу или на ферму. Микелон с тех пор исчез. Я покинул эту прекрасную страну и через пятнадцать лет снова находился там проездом, располагая несколькими днями, я не мог оставить Пиренеи, не посетив горы. Таким образом, я снова с радостью увидел часть тех прекрасных мест, которые очаровывали меня в былое время.
В один из этих дней, выбрав совершенно новый для меня путь, чтоб отправиться из Кампана в Аргелез, я шел пешком по долине, замкнутой передними выступами пика дю-Миди и пика де-Монт-Эгю. Я думал, что не буду иметь нужды в проводнике, потоки, русла которых служили мне путеводителями, казались мне нитями Ариадны, предназначенными направлять мои шаги среди этого лабиринта ущелий. Я был еще молод, ничто меня не останавливало; достигнув прелестного озерка Ускуау, я не мог преодолеть желания подняться на скалистый хребет, по другую сторону которого должны находиться другое озеро и другой поток, – озеро и поток Изаби, и по всей вероятности тропинки, которые спускаются к Вильлонг и Пьерфиту. Рассчитывая, что я всегда успею взять это направление, я повернул направо и стал углубляться в узкое ущелье, вдоль которого поднималась тропинка, становясь все круче и круче.
Там я очутился лицом к лицу с красивым горцем в очень чистой шерстяной коричневой одежде, подпоясанной красным поясом, в белом берете на голове и в башмаках, сплетенных из пеньки. Так как нам нельзя было разойтись на этой тропинке, то я остановился и, прижавшись немного спиной к скале, хотел дать пройти этому человеку, который, казалось, спешил более, чем я, но, вместо того чтобы пройти мимо, он остановился и, приподняв вежливо свою шапку, смотрел на меня с особенным вниманием. Я, со своей стороны, также посмотрел на него, сознавая, что уже не в первый раз я встречаю этот взгляд, не будучи, однако, в состоянии припомнить, где и когда я мог видеть его лицо.
– А! – вскричал он вдруг радостным тоном. – Это вы! Я вас теперь узнал, но вы не можете помнить меня… Извините, я пойду вперед, нет надобности нам мешать друг другу, в двух шагах отсюда дорога удобнее, я хочу расспросить вас, как вы теперь живете. Я рад, очень рад, что встретил вас!
– Но кто же вы такой, друг мой? – спросил я. – Я напрасно стараюсь припоминать…
– Не будем здесь разговаривать, – возразил он, – вы выбрали дурную тропинку, вы не горец. Здесь надо думать, куда поставить ногу. Следуйте за мной, со мной вам будет безопасно.
Действительно, у непривыкшего человека могла закружиться голова, тропинка становилась отвесной, но я был молод, к тому же натуралист и не нуждался в помощи. Пять минут спустя тропинка повернула и повела по одной из тех ложбин, которые звездой сходятся к каменному хребту Монт-Эгю. Там было достаточно места, чтобы идти рядом, и я торопил моего спутника назвать себя.
– Я, – сказал он, – Микель Микелон, старший сын бедного Микелона, того нищего, который в базарные дни приходил в Тарб и которому вы всегда подавали с таким радушием. А это было так приятно для меня, потому что в таком несчастном ремесле нередко приходилось терпеть такие унижения, которые гораздо хуже, чем отказ.
– Как? Это вы, мой милый, вы, прежний маленький Микель?.. Действительно, теперь я узнаю ваши глаза и ваши прекрасные зубы.
– Но не мою черную бороду, не правда ли? Говорите мне «ты» по-прежнему. Я не забыл, что вы желали мне добра, вы были небогаты, я это видел, а хотели за меня платить в школу, но бедный отец вскоре умер, и после того случилось много перемен.
– Расскажи мне обо всем, Микель, ты теперь, как кажется, уже не бедствуешь, чему я очень рад. Но если я могу оказать тебе какую-нибудь услугу, я и теперь это сделаю.
– Нет, благодарю вас! После многих трудностей теперь у меня все идет хорошо. Но вы могли бы мне доставить большое удовольствие.
– Говори!
– Если бы вы пообедали у меня!
– Охотно, если это не так далеко отсюда и если сегодня же вечером я могу попасть в Аргелез или, по крайней мере, в Пьерфит.
– Нет, об этом нечего и думать. Мой дом недалеко отсюда, но зато несколько высоко; теперь уже четыре часа, а спускаться с этой стороны, когда солнце уже сядет, опасно! У вас верный глаз и верный шаг, правда, но все же я не буду покоен. Надо вам переночевать у меня. Право, сделайте мне это одолжение. Вам не будет слишком дурно. У меня хоть и бедно, но чисто. Мне много приходилось терпеть от грязного жилья в моем детстве, я и полюбил чистоту. К обеду у меня будет мясо серны, которую я убил недавно. Пойдемте, пойдемте! Если вы откажете, то огорчите меня.
Микель был так искренен, к тому же у него было такое приятное лицо, что я от души принял бы его предложение, даже если бы мне пришлось провести ночь на соломе и поужинать кислым молоком и черствым хлебом, обыкновенной пищей жителей гор.
Продолжая наш путь, я стал расспрашивать его, но он отказался отвечать.
– Наш путь труден, – сказал он, – разговаривать здесь и неудобно и небезопасно. Когда мы будем дома, я расскажу вам всю мою историю, довольно странную, как вы увидите! Теперь идите за мной и ставьте ваши ноги туда, куда я буду ставить свои, или лучше – нога у меня небольшая – наденьте мои сандалии сверх ваших ботинок, ваша обувь не годится для ходьбы по горам.
– А ты пойдешь босиком?
– Мне это будет еще удобнее.
Я отказался, он настаивал, я стоял на своем и следовал за ним, задетый немного в своем самолюбии. Однако я должен сознаться, что избежать опасности было делом нелегким. Мы взбирались на отвесные вершины и спускались по скользким оврагам, вязли в снегу, скрывавшем гладкие кремни, которые катились под нашими ногами. Самое трудное было пробираться по тропинкам, проложенным по торфяным склонам и избитым стадами.
Наконец, совершив один из самых утомительных подъемов, мы очутились на прекрасной луговине, тянувшейся широкой волнистой полосой между зеленеющими холмами, над которыми высились передние выступы гор самых смелых очертаний. Мы находились в сердце или, лучше сказать, на ключицах гор, в этих таинственных областях, которые встречаются в крутых горных спусках, где можно подумать, что находишься в приятных долинах тихой Аркадии, если бы в ущельях скал не проглядывали местами зубчатые очертания ледников с одной стороны и страшные пропасти с другой.
– Теперь мы вошли во впадину горы, – проговорил Микелон, – и можем разговаривать. Не беспокойтесь, мы почти что дома, эта долина вся принадлежит мне. Она не широка, но достаточно длинна, и земля хорошая, трава сочная. Посмотрите вон туда, там видны моя хижина и мое стадо. Мы живем там часть года, а на зиму спускаемся в долину.
– Ты говоришь: мы, у тебя, стало быть, есть семья?
– Я неженат. Но со мной живут две мои молоденькие сестры, мне неохота обзаводиться семьей, пока они не пристроены. Это когда-нибудь должно случиться, но время еще терпит, и мы пока живем себе спокойно. Вы их увидите, этих девочек, которых вы знали такими жалкими. Но и они тоже изменились! А вот, взгляните мимоходом, какие у меня славные коровы!
– Действительно, они делают честь твоему пастбищу, однако не очень легко, должно быть, заставить их спуститься отсюда?
– Напротив, совсем нетрудно. С другого конца моего маленького владения есть тропинка, которую я сделал удобно проходимой. Та, на которой я вас встретил, неудобна, но нам приходилось идти по ней, чтобы не сделать большой обход.
– Я попал на нее случайно, но ты, верно, куда-нибудь шел по делу и из-за меня должен отложить его?
– Напротив, я очень рад и желал бы пожертвовать чем угодно ради удовольствия видеть вас, дело, по которому я шел в Леспонн, может быть отложено на завтра.
Мы подошли к месту, огороженному палисадником наподобие сада, прилегающего к жилью. Правду сказать, овощи не были разнообразны, кажется, всего и была одна репа; климат на этих высотах слишком суров и не дает возделывать других овощей, но зато дикие растения были интересны, и я дал себе слово осмотреть их завтра утром. Микель торопил меня войти в его жилище, которое среди сколоченных из досок хлевов для скота имело вид настоящего дома. Он весь был построен из дикого красноватого мрамора, невысокий и прочный, покрыт наподобие черепицы тонкими листами шифера и мог выдерживать метра на два вышины снега, под которым он бывал погребен каждую зиму. Внутри массивная сосновая мебель, две хорошие комнаты, хорошо протопленные. Одна служила спальней для сестер, где они и работали, и готовили обед, в другой стояла постель Микеля, настоящая постель, хоть и без простыней, правда, но с очень чистыми шерстяными одеялами; тут же находились шкап, стол, три табурета и с дюжину книг на полке.
– Я с удовольствием вижу, что ты умеешь читать, – сказал я ему.
– Да, я немного выучился от других, а больше сам собой. Когда есть к чему охота!.. Но позвольте, я пойду позову сестер.
Он ушел, бросив в очаг охапку сосновых ветвей. Я стал рассматривать его книги, любопытствуя узнать, из чего состояла библиотека бывшего нищего. К моему великому изумлению, я нашел переводы наилучших книг: «Библию», «Илиаду» и «Одиссею», «Лузиаду», «Неистового Роланда», «Дон-Кихота» и «Робинзона Крузо». Сказать правду, ни одно из этих сочинений не было полно, их истасканный вид обличал их долгую службу. Несколько сшитых листов содержали, кроме того, народную легенду о четырех сыновьях Эмона, различные рассказы испанские и французские на тему песни Роланда, наконец, небольшой трактат по элементарной астрономии, очень истрепанный, но полный.
Микель вернулся со своими сестрами Магелонной и Миртиль, двумя высокими девушками восемнадцати и двадцати лет, прелестными в своих капорах из красной шерстяной материи и в своих праздничных, очень чистеньких нарядах, надетых по случаю моего прихода. Загнав своих коров, они поспешили принарядиться, не делая из этого тайны и не примешивая к этому ни капли кокетства. Возобновив наше знакомство, причем только старшая неясно припоминала меня, одна из сестер поторопилась уйти, чтобы насадить на вертел заднюю ногу серны, между тем как другая стала накрывать стол и ставить приборы. Все было очень опрятно, и обед показался мне отличным, дичь изжарена впору, сыр хороший, вода была чиста и приятна на вкус, – был подан и кофе, – единственный горячительный напиток, который позволял себе хозяин: он никогда не пил вина.
Я нашел сестер прелестными, в них было столько естественности и здравого смысла. Старшая Магелонна имела вид открытый и решительный, Миртиль, более робкая, отличалась трогательной кротостью взгляда и голоса. Более занятые желанием хорошенько прислуживать нам, нежели желанием привлекать к себе внимание, они говорили мало, но все их ответы были умны и милы.
– Устали вы? – спросил меня Микель, когда приборы были убраны. – Не хотите ли заснуть или послушать мою историю?
– Я не устал. Рассказывай, я с удовольствием буду слушать.
– Хорошо, – ответил он, – я расскажу вам, – и, обращаясь к сестрам, прибавил. – Вы ведь тоже знаете ее?
– Нам все кажется, что мы еще недовольно знаем ее, – отвечала Магелонна.
– То есть, – прибавила Миртиль, – это зависит… Мы ее знаем с одной стороны, а с другой… ты никогда не рассказываешь ее так, как бы нам хотелось.
Мои глаза с удивлением глядели на Микеля, как бы прося объяснения этих совершенно непонятных слов.
– Объясни это нашему гостю, – обратился он к Магелонне. – Хотя и Миртиль говорит недурно, но ты, как старшая, говоришь лучше.
– О, я не сумею объяснить этого! – вскричала Магелонна, покраснев.
– Как бы то ни было, – сказал я ей, – я вас прошу рассказать, а если я чего не пойму, то попрошу вас мне объяснить.
– Ну, хорошо! – отвечала она, немного смешавшись. – Я сейчас объясню вам: брат мой рассказывает недурно, когда передает так, как передают все люди, видевшие известные вещи, но когда он рассказывает то, что он сам видел и как он сам понимает виденное им, то у него выходит так занимательно, что можно заслушаться. Скажите ему, чтобы он не робел, и рассказал бы вам свою историю, она так интересна, что ничего подобного, я думаю, не найдется и в его книгах.
Я просил Микеля дать волю своему воображению, если воображение должно было играть роль в его рассказе. Он на минуту задумался, продолжая подкладывать сучья в очаг, потом с добродушной и тонкой улыбкой взглянул на своих сестер, и вдруг глаза его заблестели, и с оживленным жестом он начал так.
II
На склонах Монт-Эгю, в ста метрах над нами, – я вам покажу это завтра – есть небольшая нагорная равнина с ложбиной посередине, поддерживаемая выступами скал и похожая на ту, на которой мы теперь живем; в летнее время она покрыта прекрасной травой, вся разница между обеими та, что на первой холоднее и зима продолжительнее. Равнина эта носит странное название: ее называют площадкой Иеуса. Не можете ли вы мне объяснить, что значит это имя?
Подумав с минуту, я отвечал:
– Я слышал, что многие из Пиренейских гор были посвящены Юпитеру или Зевсу, или иначе сказать Иеусу…
– Так и есть! – вскричал с радостью Микель. – Вы видите, сестры, что я не выдумал это и что люди образованные подтверждают мое мнение. Теперь скажите мне, помните ли вы, как кончалась жалобная песня моего бедного отца, когда он просил милостыню?
– Я ее очень хорошо помню! «Великан, – говорил он, – придавил меня».
– Теперь вы поймете. Мой отец был поэт, его воспитали старые испанские пастухи на высоких пограничных пастбищах, и у всех этих людей были свои рассказы и песни, которые вы уже не услышите в наше время. Они все умели читать, и многие знали по-латыни, которую они учили, чтобы стать священниками; но или они недостаточно ее знали, или сделали что-нибудь противное правилам, или, скорее всего, были замешаны в политические дела, только это было племя почти погибшее, и в наших странах не верят более ничему тому, чему они учили, ни тайнам их, ни науке. Но мой отец верил, и так как ум его был склонен к вере во все чудесное, он и меня воспитал в этих мыслях. Не удивляйтесь, если они еще остались во мне.
Я явился на свет в этом доме, то есть на том месте, которое он занимает, тогда это была просто хижина, как те, в которых теперь помещаются мои коровы. Мой отец владел частью этого участка, который он называл своей площадкой. Выше была площадка Иеуса, куда он меня водил иногда, чтобы по рыхлости снега узнать, должны ли мы продолжить или сократить наше житье в горах. Каждый раз, как мы проходили мимо великана, то есть мимо большой скалы, которую издали можно было принять за исполинскую статую, он крестился и приказывал мне плевать, подавая сам пример. Это, по его мнению, было делом истинного христианина, так как этот великан Иеус, по имени которого называлась площадка, был языческим богом. Долгое время великан вследствие такого объяснения отца наводил на меня страх, но, видя, что и плевки, направленные против него, не вызывают с его стороны никакой мести за нанесенные оскорбления, я мало-помалу стал глубоко презирать его.
Однажды, я помню это очень хорошо, мне было тогда восемь лет, около полудня отец мой работал в нашем садике, мать и сестры (Магелонна умела уже тогда доить и убирать у коров, Миртиль только что начала ходить одна) стерегли скот на конце площадки, я сбивал масло в двух шагах от дома. Вдруг над головой моей разражается ужасный удар, похожий на удар грома, с сильным порывом ветра, который опрокидывает меня, и я падаю оглушенный, почти без памяти, хотя не чувствую никакой боли. Минуту я остаюсь неподвижен и не понимаю, что со мной случилось.
Ужасные крики приводят меня в себя. Я приподнимаюсь и хотя я стою лицом к дому, но не вижу его более: он раздавлен, разрушен громадными камнями, на которые напирают другие, все это начинает колебаться и катиться в мою сторону. Я понял, что это падает нечто вроде лавины, и, обезумевший, убегаю, не сознавая куда. Наконец я останавливаюсь около матери и сестер, которые призывали меня отчаянными криками. Я оборачиваюсь, падение лавины остановилось; великана Иеуса уже нет более на его месте на скале, он обрушился на наш дом, и его рассыпавшаяся масса покрывает наш сад и большую часть нашей площадки.
– Где отец? – спрашивает мать.
– Отец? Не знаю.
– Господи, он раздавлен! Останься здесь, посмотри за сестрами, я побегу!
И бедная мать бросилась к падающим еще обломкам скалы. Не следовать за ней было невозможно. Я отвожу детей в сторону, оставляю их в безопасном месте, запрещаю им трогаться, а сам бегу вслед за матерью, громко призывая отца. Я должен сказать, к чести этих двух девушек, что они сначала как бы послушались меня, но минуту спустя уже бежали, как и я, среди обломков, старшая тащила младшую, и обе искали и призывали отца. Время от времени мы переставали кричать, чтобы прислушиваться, так тянулось с добрый час; наконец, слышу слабый стон, бросаюсь в ту сторону и нахожу нашего бедного отца распростертым, без движения, под массой обломков. Что он не вполне был раздавлен каменьями, было делом случая, не совсем обыкновенного: скала образовала как бы свод над его головой и телом. Удар раздробил ему кости правой ноги и руки, вот почему он не мог подняться и выйти оттуда. Он делал так много тщетных и мучительных усилий, что, наконец, выбился из сил и лишился чувств, увидев нас. Нам удалось его вытащить. Мать была как помешанная. Что было делать с человеком наполовину мертвым в этой пустыне, где не осталось нам никакого пристанища, ни одного дюйма земли, который бы не был покрыт обломками, ни одной вещи, которая не была бы сломана?
Магелонна не растерялась, она указала мне на хижины, которые были ниже нашей площадки, и как серна побежала в ту сторону. Я понял, что она пошла искать помощи, и начал собирать разломанные доски, чтобы сделать носилки. Когда жители низших хижин прибежали, им оставалось только связать эти доски вместе и перенести к себе как можно скорее отца. Был вызван доктор, и за отцом был хороший уход; но немало ушло времени, пока мы смогли получить эту помощь, опухоль увеличивалась, рука плохо заживала, нога была так раздроблена, что пришлось ее отнять. Вот каким образом этот честный человек впал в нищету и должен был бросить работать, купить осла и просить по дорогам милостыню со своей семьей. У нас остался в долине, недалеко от Пьерфита, маленький зимний домишко, но наш главный достаток были коровы, которых нечем было кормить. Пришлось продать обеих коров, которые у нас остались, три другие, испуганные обвалом великана, вероятно, бросились в пропасть и погибли.
Мать чувствовала большое отвращение к нищенству. Она хотела найти какую-нибудь работу в городе и на свой заработок содержать отца, но он не мог выносить мысли оставаться без дела и для того, чтобы кормить свое семейство, решился просить милостыню. И действительно, это был тяжелый труд – шататься во всякое время по дорогам. Для матери, которой нередко приходилось носить меньшую сестру, труд этот был еще тяжелее. Для меня, на обязанности которого было водить осла и ходить за ним, было также тяжело. Эта жизнь заставляла меня страдать, ибо представляла массу соблазна на дурные дела и возможность сделаться разбойником; но я вам уже сказал, что отец был поэт, и я употребляю это слово потому, что в то время, не зная еще, что значит оно, я слышал его от людей очень ученых, которые, слушая моего отца, удивлялись его речам и его мыслям. Вы были всегда очень заняты, потому никогда и не имели времени порасспросить его, а то бы и вы, как и другие, подивились его уму.
Именно благодаря уму отца я и удержался на хорошей дороге. Он поучал меня на свой лад, разговаривая со мной, и показывал мне все в мире в величии и красоте, и с такой увлекательностью, что, когда зло встречалось мне на пути, я находил его до того безобразным и мелким, что поворачивался к нему спиной. Правда, отец мог научить меня читать, о чем он, однако, нисколько не думал. Эта постоянно бродячая жизнь не располагала к сосредоточению внимания, и у меня не было охоты начать учиться. Затем надо сказать вам, что со времени несчастья отец был почти постоянно в возбужденном состоянии и не имел того спокойствия, которое нужно для преподавания. Он учил нас рассказами, песнями и притчами, сестры и я были достаточно смышлены, хотя в то время не знали ни а ни б. Бедная мать столько же знала, сколько и мы.
Весь сезон вод мы странствовали по горам. Ходили в Баньер, де-Бигорр, в Люшон, Сен-Совер, Котере, Бареж, О-Бонн, всюду, где были богатые иностранцы. Зиму мы проводили в Тарбе, По и больших долинах. При нашем ремесле, получая много и издерживая мало, потому что мы все были умеренны, в несколько лет мы собрали более того, что мы потеряли. Мать, у которой была возвышенная душа, пробовала убедить отца, что мы не имеем более права эксплуатировать общественное сострадание, что я был уже в таком возрасте, что мог прокормить себя, что же касалось ее, то она с помощью Магелонны в состоянии поддерживать остальных членов семейства ремеслом прачки. Отец не слушал мать. Он так пристрастился к этой бродячей жизни, не столько потому, что она была прибыльна, сколько потому, что она занимала его и заставляла забывать о своей немощи. Я был согласен с матерью, но мы должны были уступить, и эта жизнь продолжалась бы до сих пор, если бы бедный отец не схватил воспаление в груди, от которого он и умер в несколько дней. Мы все были глубоко опечалены его смертью. Хотя он и противился нашим желаниям, но в то же время был такой добрый, такой почтенный человек и так любил нас, что мы все обожали его.
После этого несчастья мы поселились в Пьерфите, и мать завела там небольшое хозяйство.
– Дитя мое, – сказала она мне однажды, когда мы были одни, вскоре после того, как мы устроились на новом месте, – я тебе должна сказать, в каком положении находятся наши дела. Отец твой оставил нам кое-что. Такие бедняки, как он, не делают завещания, он доверял мне, предоставив свободу распоряжаться, как я найду нужным для выгоды детей. Я желаю, чтобы ты знал, что мы четверо имеем около трех тысяч франков. Я разделила их на две равные части: одну мне и твоим сестрам, другую тебе.
– Это несправедливо, – возразил я, – я имею право только на одну четверть.
– Тут вопрос не в праве, – сказала она. – Дело идет о ваших потребностях, забота о которых лежит на мне и судить о которых я могу лучше, чем вы. Моя работа верная. Девочки будут мне помогать, и мы заживем хорошо, имея в запасе про черный день, но ты мальчик и должен сам зарабатывать себе хлеб честным трудом. Я не рассчитываю кормить и содержать тебя, это значило бы приучить тебя к бездельничанью. Подумай, как устроить тебе новую жизнь, я тебе дам сто франков, чтобы ты мог приискать себе какое-либо занятие. Впоследствии, когда ты устроишь свою жизнь без нашей помощи, то по справедливости должен будешь получить часть большую против твоих сестер. Когда тебе исполнится двадцать один год, ты получишь от меня тысячу четыреста франков. А если я умру, то ты получишь их из банка, куда я хочу положить деньги на твое имя; а к тому времени сестры при их природном уме поймут и одобрят то, что я сделала.
Со слезами обняв мать и сестер, с узелком платья, привязанным к концу палки, и ста франками в кармане я ушел, с печалью расставшись с семьей и унося с собой решимость исполнить свою обязанность.
III
– До сих пор, – продолжал Микель, – я вам рассказывал обо всем, как оно было; теперь я прошу вас позволения говорить о том же, только так, как оно представилось мне с той минуты, как я очутился один на свете, предоставленный самому себе, четырнадцати лет от роду.
Мать дала мне некоторые указания, которым я мог следовать. Она посоветовала мне пойти к родственникам и знакомым, которые принимали в нас участие и могли дать мне совет и помощь в нужде, но у меня была мысль ребяческая, если хотите, но очень упорно засевшая в моем мозгу. Я хотел увидеть нашу бедную покинутую площадку, нашу разрушенную хижину, место, на котором искалеченный отец выбирался из-под скалы. Он так часто говорил мне об этом несчастье, столько раз рассказывал подробности своим образным языком, чтобы привлечь внимание и возбудить интерес своих давальцев, что память моя сохранила все до мельчайшей безделицы. Я даже думаю, что я помнил более, чем на самом деле было, и что это было плодом моего воображения… Но вы, услыхавши мой рассказ, сами отгадаете, что именно подсказывало мне мое воображение, нет надобности забегать вперед.
Я прямо отправился в Монт-Эгю. Мы так исходили эту местность, когда еще были нищими, что она мне была хорошо известна, но, поднявшись на скалы, я совсем заблудился и не мог ничего припомнить. Я карабкался наудачу и после многих бесполезных скитаний, наконец, нашел нашу площадку, которую легко было узнать по свежему еще обвалу, покрывавшему ее. Это все еще была наша собственность, мы также не думали ее продавать, как никто не подумал купить ее у нас. Она не представляла более никакой ценности. Скоту разве на несколько дней хватило бы травы, которая пробивалась в промежутках между обломками, но из-за этого не стоило тратить ни труда, ни денег, чтобы здесь снова устроиться. Недавняя потеря отца вызвала печальные воспоминания во мне, и когда я увидел великана, разбитого на тысячи кусков, неподвижного, покойного и как бы наслаждающегося нашим несчастьем, сильный гнев овладел мной.
– Ужасный великан, – вскричал я, – бессмысленный Иеус, я хочу отомстить тебе за моего отца, надругаться над тобой и проклясть тебя! Когда еще я был маленьким, сколько раз я пытался плюнуть на тебя, но ты был недосягаем по твоей высоте, а теперь, когда я вырос и ты валяешься распростертый у моих ног, я хочу плюнуть тебе в лицо!
И между этими обломками я стал искать тот, который должен был быть головой великана. Мне казалось, что я нашел его, я узнал обломок скалы, которым был придавлен мой отец, в нем была расщелина, которая зияла подобно широкой пасти, пытающейся грызть землю. Я изо всех сил ударил ее своей палкой с железным наконечником и… тогда, верите мне или нет, услышал глухой голос, грохочущий как подземный гром, который говорил: «Это ты? Что тебе надо от меня?» Я так испугался, что бросился прочь, полагая, что это новый обвал, но минуту спустя я снова вернулся. Мне во что бы то ни стало хотелось плюнуть в лицо великана, если бы он даже потом проглотил меня, и я нанес ему это оскорбление, которого он, казалось, не заметил. «Вот тебе, – сказал я ему, – ты все такой же негодяй! Знай же, что я намерен спихнуть тебя в поток, чтобы ты совсем разбился на куски!» И вот я стал толкать этот громадный обломок, стараясь сдвинуть его с места.
Время шло, пот лился с меня градом, наконец, видя, что все труды мои напрасны, я старался разбить его, бросая в него камни. По крайней мере, я имел удовольствие увидеть, что скала была не из твердого камня и что мои удары оставляли на ней зарубки, которые я принимал за повреждения и раны. Когда я выбился из сил, у меня явилось желание посмотреть вблизи остатки нашей хижины, и я удивился, найдя от нее уголок, где можно было приютиться в случае дождя; местечко это было огорожено обломками стены и, как видно, еще недавно служило пристанищем какому-нибудь пастуху коз, который, пробыв здесь некоторое время, покинул это место, потому что на траве, высокой и сочной, которая росла вокруг развалин, не было видно следов стада. Солнце уже садилось, и я решился провести здесь ночь. Подняв несколько камней, я загородил ими вход, чтобы обезопасить себя от волков, и, присев на остаток пола, утолил голод куском хлеба, который был у меня в моей холстинной сумке. Затем, чувствуя себя усталым и соскучившись от одиночества, я прилег, чтобы заснуть; но от сильной ходьбы и возбуждения я впал в какое-то лихорадочное состояние, к тому же я отвык от того величественного безмолвия гор, которое ни с чем нельзя сравнить и которое не нарушается даже непрерывным шумом потоков. Нельзя сказать, чтобы ложе мое было из удобных, и как ни был я неприхотлив, однако ворочался с боку на бок, чтобы удобнее протянуться, до такой степени было тесно мое убежище. Я наконец решился сесть на корточки и так как было душно, то я отодвинул один из камней, которыми загородил вход, и стал смотреть, чтобы как-нибудь развлечься.
Как велико было мое удивление, когда я увидел, что все изменилось на площадке с той минуты, как взошла луна. Площадка вся потемнела, покрылась травой, и если еще и виднелись кое-какие обломки скалы, то они были величиной не больше баранов, а также и численностью своей напоминали небольшое стадо. Я был так удивлен, что вышел из моего уголка, чтобы прикоснуться к земле и к траве и удостовериться, что я не грежу и нахожусь на месте обвала, а не на прекрасном лугу, который расстилался здесь в прежнее время. Радость моя при этом, кажется, была сильнее удивления. Я обернулся и вдруг позади себя увидел великана вышиной с пирамиду, основание которой занимало всю глубину площадки влево от меня. Сначала он мне показался таким, каков был прежде, когда он возвышался на краю площадки Иеуса, над нашей площадкой, но, по мере того как я смотрел, вид его изменялся: основание его суживалось, как тумба, туловище принимало человеческую форму, а голова походила на шар. Ему недоставало только рук, но когда я стал пристальнее всматриваться в него, то увидел, что у него есть и руки, только они были прижаты к телу, и вся эта масса была неподвижна. Это была настоящая статуя, только такая высокая, что я не мог различить лица ее.
Естественно, я должен был бы испугаться при виде всего этого, но, как хотите объясняйте, я почувствовал лишь гнев. Моим первым движением было поднять камень и пустить им в великана, но я в него не попал, бросил другой, и он коснулся его бедра, третий попал ему в самую середину живота, и при этом послышался звук как будто от удара в громадный металлический колокол, и в то же время из груди великана вылетел крик хриплый, бешеный, дикий, повторенный эхом горы. Гнев мой усилился, и я стал пускать в него всеми каменьями, которыми я завалил вход. С каждым разом становясь все сильнее и искуснее, я попал наконец ему в самое лицо, голова его упала и покатилась к моим ногам. Я бросился к ней, пытаясь разбить ее еще моей палкой, но я был остановлен выходившим из этой чудовищной головы голосом, перекрываемым сухим разбитым старческим смехом.
– Это ты, негодяй, – вскричал я, – смеешься или плачешь таким смешным манером? Я заставлю тебя замолчать, подожди немного!
И я намеревался возобновить свои удары, как вдруг голова исчезла и очутилась на плечах великана, хотя я не мог заметить, как это случилось. Я пришел в ярость и стал швырять каменьями. Один из пущенных мной камней задел его левую руку, рука упала, но снова очутилась на своем месте в ту минуту, когда я попал в правую руку, и та упала. Тогда я стал метить в его ноги, в эти отвратительные ноги, сросшиеся между собой, и колосс сломился в основании и во всю длину растянулся на земле, разбившись на тысячу кусков; тут я понял, какую ужасную глупость я сделал, потому что прекрасный луг скрылся под его обломками и на рассвете дня я увидел бедную площадку, заваленную каменьями, – такой, какой я нашел ее вчера при моем приходе.
Я чувствовал такую усталость, я так надорвался в этой бешеной борьбе, которая длилась всю ночь, что, упав в изнеможении на том месте, где стоял, я заснул таким глубоким сном и как будто сам превратился в камень. Проснувшись, когда солнце было высоко и пекло, я подумал, что мне пригрезился ужасный сон, и стал размышлять, доедая остаток своего хлеба и собирая черные ягоды, которые у нас зовутся медвежьим виноградом. Сон этот, если только то был сон, должен был иметь какое-нибудь значение для меня, но какое? Я искал в своем уме и ничего не находил. Одно, в чем я не сомневался, что великан мог являться мне, сколько ему было угодно, я никогда не почувствую к нему страха. Я ненавидел его за то зло, которое он причинил моему отцу, и меня не покидала мысль отомстить ему, унизить его, насколько то было в моей власти.
При полном солнечном свете я убедился, что все вокруг меня было в том же положении, в каком мы оставили все это восемь лет тому назад: дом почти разрушен и негоден для житья, луг уничтожен грудой камней и песка, и нет никакой возможности извлечь из него пользу. Кроме того, снег, покрывавший площадку Иеуса, от которого в прежнее время мы были защищены обрушившимся утесом, прошлой зимой спустился сюда. Вдоль скалы видна была вырытая падением великана широкая борозда, через которую массы снега скатывались на нашу площадку, что еще более увеличивало опустошение.
Несмотря на все эти разочарования, упорная мысль прожигала мой мозг. Я хотел снова овладеть моей собственностью и прогнать великана. Но как? Какими средствами? Я и сам не знал, но я решился это сделать.
Мечтая об этом, я собирал каменья и бросал их в кучу один на другой, пытаясь таким образом очистить лоскуточек земли хоть не больше того, где бы я мог поместиться сам. Я желал узнать, как глубоко засыпана была почва и может ли она возвратить свое прежнее плодородие. Я был удивлен, найдя траву очень густой в местах, где камни не лежали сплошной массой. Растительность представлялась даже слишком сильной, потому что трава сгнивала в сырости, так как не было стока для воды и она образовывала всюду лужи и затопи. Земля была влажна и рыхла, я мог запустить в нее глубоко мои руки и убедиться, что это все еще была хорошая земля, способная давать урожай, если бы можно было провести на ней правильные неглубокие канавы для стока воды.
В час времени я очистил пространство около метра. Отдохнув с минуту, я снова принялся за работу с большим рвением. Под вечер я смерил свою работу, оказалось, что я очистил добрых шесть метров. Правда, на этом месте камни лежали не так плотно и были мелки.
«Все равно, – думал я, – кто знает, что я буду в состоянии сделать со временем?»
Голод давал знать о себе, я спустился на площадку Мори, ту, которая находилась под нашей и была обитаема почти круглый год. Хижины, построенные на ней, переменили хозяев. Я не знал там никого, и никто не знал меня, но у меня были деньги и хотя с меня ничего не спросили за ужин, я заговорил сам о плате, потому что никому не хотел быть в тягость, рассчитывая провести здесь несколько дней.
Старик Брада, хозяин этой площадки, был добрый и, добродушно приняв меня, удивился моей идее, тем более что я остерегался ее высказывать в подробностях.
– Ты, стало быть, ищешь у нас работы? – сказал он. – К несчастью, дитя мое, у меня столько народу, сколько мне нужно, и я не могу нанять тебя.
– В эту минуту я не ищу работы, – сказал я, – она у меня есть, и я имею немного денег, чтобы ждать, но вы, может быть, принимаете меня за бродягу, который хочет спрятаться в горах с мыслью сделать или скрыть какую-нибудь глупость, а потому я вам скажу сейчас, кто я. Слыхали вы что-нибудь про Микелона?
– Да, это имя здесь известно, потому что площадка, которая над нами и которая, как я слышал, называлась в старину Зеленая, стала называться площадкой Микелона со времени несчастья, случившегося с этим бедняком. Я здесь всего четыре года и слышал это от других.
– Так вот, этот бедняк был мой отец, и эта площадка моя собственность. Я родился тут и не видал ее с тех пор, как мне было восемь лет, и вот теперь снова увидел ее. Я провел на ней прошлую ночь и хочу возвратиться туда завтра, а может быть, и послезавтра еще.
– Если это так, – сказал старик, – то оставайся у меня неделю и больше, если хочешь, и мне не надо от тебя никакой платы, потому что я твой должник.
– Каким образом?
– А вот каким. Нередко козы мои паслись на твоей площадке, хотя я и не имел на нее никакого права, но так как место было покинуто, то я и думал, что не причиню никому убытка, не давая пропадать траве, которая там пробивалась; правда, ее было немного, но все же она чего-нибудь да стоит, и я сказал себе, что, если кто заявит на нее свои права, я готов заплатить за то, что поел мой скот. Хозяином оказываешься ты, тем лучше, оставайся у меня и не трогай своих денег. Я очень доволен, что могу расплатиться.
Я должен был согласиться, мы поужинали, и я лег спать на соломе, вместе с его работниками. Сильно утомленный, я спал крепко и на рассвете был уже на пути к своей площадке, с запасом еды на день, хлебом и куском свиного сала.
Этот день прошел у меня в размышлении. Я хотел высчитать – вещь едва ли для меня тогда возможная, – сколько понадобится часов работы, чтобы расчистить мою площадку. Если бы я умел, как теперь это умею, писать цифры на бумаге одни над другими, желание мое могло бы еще быть не совсем неразумным, но я мог держать их только в голове и перебирать одну за другой, и на это ушло у меня все время. Однако я принялся за дело не совсем дурно, начав терпеливо измерять своей палкой поверхность площадки, концом своего ножа отмечал числа на скале, придумывая различные знаки вместо цифр, которых я не знал, например, простой крест для 100, двойной крест для 200 и так далее. Наконец, в продолжение дня я пришел к тому заключению, что мог хотя не узнать наверное, но предположить приблизительно, на сколько метров в длину и в ширину простиралась моя собственность. Следующие дни прошли в вычислении, сколько потребуется времени на уборку камней. Я нашел, что потребуется два года, считая пять месяцев в году, когда можно было работать, так как в остальное время года снег мешал. Теперь оставалось вычислить продолжительность трудной работы и для этого следовало приняться за нее.
Я попросил моего хозяина одолжить мне большой железный молот, которым я и начал разбивать громадные глыбы. Скала была известковая и не особенно твердая, и я с таким увлечением принялся за эту работу каменщика, что не замечал усталости. Я был счастлив и с гордостью крошил брюхо великана. Я решил сделать метр в продолжение дня и сделал. Тут я почувствовал такое утомление, что нечего было и думать спускаться к моему хозяину, и решился еще раз провести ночь у себя, чтобы завтра сейчас же приняться за работу.
Едва я успел заснуть в своем полуразвалившемся шалаше, как был разбужен великаном, который на этот раз прогуливался спокойно вдоль и поперек площадки. Прежде чем осмотреть его, я обратил внимание на почву, она оказалась совершенно свободной от каменьев и покрытой прекрасной зеленью. Еще не совсем стемнело, запад еще алел, и снег вершин, подернутый розовым отливом, выдавался на синеве неба.
Я стал наблюдать за чудовищем, шаги которого потрясали землю, оно, казалось, не обращало на меня внимания, я лежал не шевелясь, желая уловить его привычки. Я решился не действовать так неразумно, как в первый раз, и узнать, не вздумается ли ему самому уйти отсюда, так как теперь он сам ходит. Ему, должно быть, прискучили удары, которые я ему наносил днем.
Действительно, он намеревался уйти и пытался подняться на площадку Иеуса, но принимался за это не так, как следовало: вместо того чтобы сделать обход, он пытался вскарабкаться на скалу по прежнему пути, которым он спустился когда-то к нам. Не успел он сделать и двух шагов вдоль крутизны, как упал на колени ничком, зарычав грозным голосом: «Никто не придет мне помочь подняться к себе?» В два прыжка я был возле него и, схватив его ужасную руку, уцепившуюся за выступ скалы, сказал:
– Слушай, ты понимаешь теперь, что я твой господин, так послушайся меня и уходи отсюда другой дорогой!
– Хорошо, подними меня, – отвечал он, – возьми на плечи и снеси туда наверх.
– Ты говоришь глупости, мне не поднять и одного твоего пальца, но я буду мучить тебя, если…
– Не можешь ли ты оставить меня в покое, малютка? Мне здесь хорошо, и я остаюсь. Только хочется спать на спине, помоги мне.
Я ударил его ногой в бедро, он обернул ко мне свое громадное отвратительное лицо, покрытое беловатыми лишаями. Видя его таким образом в своей власти, я почувствовал еще сильнее всю ненависть, которая накипела у меня против него, и не мог преодолеть желания ткнуть палкой в его пасть. Он, видимо, не заметил этого, но из этой пещеры, служившей ему ртом, послышался тоненький, чуть слышный голосок, прислушавшись, я услыхал следующие слова:
– Злой мальчишка, зачем ты разорвал мою ткань и чуть не раздавил меня?
– Кто ты? – сказал я, с осторожностью вытаскивая свою палку и прикладывая ухо ко рту великана.
– Я моховой паучок, – отвечал голос. – С тех пор как я существую, я обитаю здесь, я работаю, тку, охочусь, зачем ты беспокоишь меня?
– Отправляйся ткать и охотиться в другое место, милый друг, свет достаточно велик.
– Я мог бы то же посоветовать и тебе, – возразил он. – Зачем ты терзаешь эту скалу, которая принадлежит мне? Разве нет другого места для тебя?
В эту минуту великан, в которого я снова запустил свою дубину, чихнул и прогнал далеко паука, а меня отнесло как бы ураганом к подножию скалы.
Только там пришел я в себя.
Ведь жил же этот паук всю свою жизнь в пасти великана, нимало не заботясь о его капризах, и жил бы там всегда, если бы я не помешал ему. Отчего не устроиться и мне так, чтобы жить бок о бок со своим врагом, не настаивая на его удалении? В том положении, в каком он лежал теперь на спине, он мог защищать мою площадку, задерживая снег, скатывающийся на нее с горных вершин. Поднявшись к нему и поместившись против его уха, потому что голос мой должен был казаться ему столь же слабым, каким мне казался голос паука, я сказал:
– Ты говоришь, что тебе здесь хорошо и что ты хочешь остаться?
– Да, – отвечал грозный голос, который, как мне казалось, выходил из живота великана, – я здесь останусь, когда ты приготовишь мне постель.
– Вот еще какой барин! – возразил я со смехом. – Не прикажете ли постлать пуховик?
– Я удовольствуюсь песчаным ложем, но нужно, чтобы была впадина для моей головы, впадина для каждого из моих членов и особливо большая впадина для моих бедер, для того чтобы я мог спать, не скатываясь вниз. Так скорее же устраивай мне это и старайся, чтобы мне было хорошо, не то я растянусь опять на твоем лугу, где мне было бы недурно лежать, если бы ты не щекотал меня время от времени своим ломом.
– Правда, – проговорил около меня человеческий голос, – самое разумное, что можно сделать – оставить его там, но только убрать к стороне как следует. Он служил бы тогда преградой льдам сверху, и я не знаю места, где бы он мог меньше мешать тебе, потому что тебе нечего и думать о том, чтобы перенести его на прежнее место, удалить его с твоей площадки каким-нибудь другим способом ты не имеешь права.
– Как? – удивился я, не заботясь узнать, кто говорит со мной таким образом. – Я не имею на это права! А он имел право завладеть моей землей.
– Он имел лишь по праву сильного, – возразил голос, – но ты не имеешь его, закон сильнее человека, и если ты, желая освободиться от своего врага, спустишь его к своим соседям, тебя или не допустят это сделать, или накажут.
– А если я его столкну в пропасть?
– Нет пропасти, которая не была бы чьей-нибудь собственностью, и к тому же в глубине каждой пропасти бьет поток воды, который бывает собственностью всего мира, и ты не имеешь права остановить его течение или дать ему другое направление. Так, стало быть, ты должен оставить у себя великана, и так как этот обломок скалы принадлежит тебе, то ты обязан отнести туда каждый осколок ее. Таким образом, вместо того чтобы вредить, он станет полезен тебе.
Я только что намерен бы ответить, что нет надобности относить его туда, так как он сам улегся там, как вдруг точно какой свет озарил меня и я увидел, что сижу в хижине своего хозяина перед очагом и что это он разговаривает со мной.
– Полно, – сказал он, – ты говоришь, как ребенок спросонья; впрочем, хоть ты говоришь подчас смешные вещи, но у тебя бывают и хорошие мысли. Пойдем ужинать, ты поздно вернулся, но я тебя поджидал, и мы поговорим прежде, чем лечь спать.
Я не мог вспомнить, о чем мы говорили, и мне было стыдно, что я ничего не могу сказать. Пригрезилось ли мне в то время, как я вошел домой, что я боролся с великаном, что разговаривал с пауком, что великан предлагал мне условия и что я имел глупость рассказать обо всем отцу Брада? Или все это случилось со мной при закате солнца, и великан, по всей вероятности обладающий волшебными силами, перенес меня незаметно в хижину Брада?
– О чем же мы сейчас говорили? – спросил я после ужина у старого пастуха.
– Ты говоришь точно со сна, – отвечал он мне, – разве ты не помнишь, о чем мы говорили? Тебя слишком утомляет эта работа. Ты слишком еще молод, чтобы исполнять один этот громадный труд.
– Как вы думаете, сколько же людей потребуется, чтобы довести ее до конца?
– Это зависит от времени, которое ты полагаешь на это. Мне кажется, что в два рабочих года двенадцать хороших работников могут это сделать.
– Двенадцать? Уверены ли вы? А я думал, что я справлюсь один…
– Ты это видел во сне! И двенадцати работникам будет работа, а во многих местах придется взрывать порохом, чтобы раздробить большие массы.
– Взрывать порохом? – вскричал я. – Вот отличная мысль! Да, да, под него надо подложить огонь… Это заставит его уйти.
– Без сомнения, потому что сам собой он не уйдет.
– Уйдет, говорю вам, это лентяй, который не хочет сделать никакого усилия, или глупец, который не знает, что он делает! Но когда он почувствует порох…
– Ведь это скала: она треснет, а из обломков нужно немедля сделать плотину, и это будет стоить больших денег. А у тебя они есть?
– У меня сто франков.
Отец Брада засмеялся.
– Ну, этого недостаточно, – сказал он, – надо, по крайней мере, десять раз столько.
– У меня со временем столько будет.
– Ну так и жди этого дня.
– И вы полагаете, что не безумно с моей стороны желание отнять мою собственность у этого великана?
– Нисколько! Земля – дело доброе и святое, и жаль, когда тот, у кого она есть, принужден отказаться от нее. Господь не любит, чтобы бросали ее, если есть возможность отвоевать ее у льда и камня.
– То есть у злых духов! Хорошо! Я буду оспаривать ее у этого глупого и жестокого демона, который хотел задавить моего отца и который разрушил мой дом. Он пустил меня по миру, с самого детства заставил таскаться по большим дорогам, тогда как сам спал спокойным сном на нашем лугу. Он уберется оттуда, вспомните мои слова. Я слишком его ненавижу, чтобы терпеть его там теперь, когда я становлюсь взрослым; и если бы мне пришлось за этим делом истратить на себя то, что я имею, что должен иметь впоследствии, если возвращение собственности моей обойдется мне дороже, чем она сама стоит, тем хуже! Семь лет уже, как я кляну этого великана, если нужно, я употреблю еще семь лет, чтобы отомстить ему и прогнать его.
– Ты странный мальчик, – сказал старый пастух. – Сорвиголова! И я этого не порицаю, видно, что ты любил своего отца и что у тебя есть гордость и мужество. Но мы еще обсудим твою мысль. Я с радостью помог бы тебе… но я слишком беден и слишком стар.
– Вы можете мне помочь: продайте мне ваш железный молоток.
– Возьми его так. Мне он не нужен. Он тяжел, – оставляй его на твоей площадке, там никто не украдет его ночью: все слишком боятся великана.
– Боятся? Я этого не знал! Так, стало быть, знают, что он встает ночью и ходит?
– Говорят так, что касается меня, я не верю этому. Я служил в Африке, бывал в сражениях и приучился не бояться пушечных ядер, так камни-то уж не испугают меня.
– Да и я не боюсь их, добрый Брада! Я уверен, что этот великан дьявол, и потому-то принял твердое намерение вести с ним войну, какую вы вели с бедуинами.
– Ладно, – возразил старый пастух, – это твое дело. Но уже поздно, пора спать.
На следующий день, когда я поднимался на свою площадку, он окликнул меня.
– Иди потише, – сказал он, – я хочу пойти с тобой. Я хожу хоть и не скоро, а все же прихожу туда, куда иду; мне бы хотелось посмотреть на этого знаменитого великана. Я редко поднимаюсь наверх и никогда не обращал особенного внимания на эту каменную глыбу, может быть, я могу дать тебе добрый совет.
– Работы в десять раз больше, чем я предполагал, – сказал он, осмотрев все. – Десяти хорошим работникам не расчистить этого в два года. Потребуется также немалое количество пороха… Поверь мне, откажись от своего намерения: затеяв эту работу, ты истратишь все, что у тебя есть, и труд твой пропадет даром.
– Однако вы слышали же раньше от других, добрый Брада, что трава этого пастбища лучшая из горных трав? Мой отец столько раз повторял это, и я этому верю.
– Я и не говорю, что нет. То малое количество, которое еще пробивается там, превосходного качества; но когда ты расчистишь, я полагаю, надо будет унаваживать, а чтобы унавозить, нужно иметь стадо, и порядочное стадо немедля, потому что прежнее удобрение уже не действует, и это значит начинать пастбище на девственной земле. Если ты богат, если у тебя есть четыре тысячи франков, например…
– У меня нет и половины.
– Ну так не начинай этого дела, оно разорит тебя. Это что за насечки на скале?
– Это я сделал, эти знаки я придумал, чтобы сделать расчет.
– А, понимаю. Ты разве не умеешь писать?
– Ни читать, ни писать.
– Очень жаль. Тебе следует научиться, это поможет тебе более, чем все твои удары молотом о камень.
– Очень может быть! Если бы вы меня научили…
– Я сам немного знаю, но все же это лучше, чем ничего, и если ты желаешь…
Я начал ученье в этот же вечер, возвратившись часом раньше в хижину Брада. Старший из работников, бывших в услужении у старого пастуха, видя мое усердие, принялся также учить меня, и я должен сказать, если он и был менее терпелив, чем старик, то знал больше его. Таким образом, я начал понимать настолько, что мог заниматься один. Я стал брать с собой книгу и во время отдыха учился с вниманием и упорством, равным тому, которое привязывало меня к работе на моей площадке.
Старик Брада, видя, что все его благоразумные советы не поколебали моего намерения, решился не отговаривать меня более, он только слегка подсмеивался надо мной, когда в разговорах с ним я называл великана дьяволом, насмешки его заставили меня быть более осторожным в словах. Я стал говорить о нем, как о простой куче камней, что, конечно, не уменьшило моей ненависти к нему и не изменило моих мыслей о нем. Работники старика Брада, однако, были одного мнения со мной и признавали, что в этих проклятых скалах существовала какая-то волшебная сила. Они слыхали, что на других горных пастбищах, когда на месте обрыва начинали делать плотину, дьявол разорял каждую ночь работу самых искусных работников. Они иногда приходили посмотреть, как я работаю, потому что я работал со страстью, и из дружбы ко мне помогали, хотя при этом побаивались, и даже один из них, увидев во сне великана, поклялся, что более не прикоснется к скале. Я не настаивал. Мне было очень хорошо известно, что, угости я их в воскресенье вином, они сделались бы смелее, но я не хотел отвлекать их от обязанностей, – это значило дурно заплатить за гостеприимство, которое мне оказывал старик Брада.
Тем не менее от времени до времени они приходили пособлять мне. Старик Брада согласился держать меня и кормить с тем, чтобы козы его могли пользоваться травой, которая кое-где пробивалась на моей площадке. Мальчик, на обязанности которого было отводить коз, в то время когда я прилежно трудился, забавлялся, строя себе шалаш довольно прочно из остатков – из камней и из хвороста, которыми он распоряжался очень ловко. Таким образом, у меня появилось пристанище на ночь, которым я и пользовался много раз, чтобы не тратить времени на ходьбу, на ночевку и возвращение на работу.
IV
Всякий раз, как я спал в этом шалаше, великан являлся ко мне, и каждый раз он казался все более и более подвижным и тревожным. Для меня было очевидно, что ему надоело мое преследование и что он становился все легче и все более желал удалиться восвояси. Но в то же время мне казалось, что он становился все глупее, потому что вместо того, чтобы ложиться, где я ему советовал, он пробовал самые невозможные положения. Я пытался образумить его в моем и его интересе, обещая оставить его в покое, когда он уляжется там, где я желал его видеть. Он не понимал ничего или же отвечал такими грубостями, что я вынужден был колотить его, прибитый, он обрушивался и делал мой луг пустыней.
Видя, что нет возможности разговаривать с этим неучем, я навсегда отказался от этого. Я перестал обращать внимание на его выходки, которые не вели ни к чему, и нередко засыпал под глухой шум его неровных шагов, он начал хромать. Я видел очень хорошо, что всего разумнее для меня было продолжать откалывать ему ноги, и что только силой его можно выжить отсюда, и то раздробив на мелкие куски.
Таким образом прошло три месяца. Я сделался силен, как молодой бык, и выучился очень скоро читать настолько, чтобы понимать прочитанное. Старик Брада, не понимавший всех слов и всех идей своих книг, был удивлен, когда я ему объяснил их. Отец мой, не обучавший меня грамоте, научил меня, однако, многое понимать, и жители хижины стали смотреть на меня, как на ученого, скрывавшего свою ученость. Они более не отговаривали меня от моего намерения, и я решился поспешить с исполнением его, затратив на это некоторую сумму.
Спустившись в долину Лесспон, я отправился на мраморные ломки в Кампан, чтобы нанять рабочих, но не нашел ни одного. Это было в самый разгар сезона, когда все население бывает занято прислуживанием иностранцам или работой при них. С меня запросили сумасшедшую цену. Мне удалось достать немного пороха, и я возвратился утешенный тем, что могу задать праздник своему врагу Иеусу.
На следующее утро я побежал, чтобы приготовить все, предупредив своих хозяев не удивляться шуму, и выкопал небольшую мину инструментом, который случился под рукой. За дело я взялся не совсем неумело, я достаточно насмотрелся, как производили подобную работу по горным дорогам. Сердце мое билось от злобной радости, когда я зажигал фитиль. Я положил весь мой порох, взрыв был великолепен и кончился благополучно, хотя был для меня небезопасен, потому что я из гордости не хотел принять какие-нибудь предосторожности. Пасть великана разорвалась до ушей, так как мина моя направлена была к его лицу, и я, хохоча как сумасшедший и глядя на его безобразную гримасу, упал окровавленный и раненый близ него. Рана моя не имела ничего серьезного, и я скоро поднялся на ноги.
– Упивайся моей кровью! – сказал я, склоняясь к его обожженной башке. – Это наш бой насмерть. Ты не можешь истекать кровью, но я надеюсь, что ты страдаешь так же, как ты заставил страдать моего отца.
В эту минуту я увидел зрелище, которое вызвало во мне жалость. Взрыв разорил бедный муравейник, приютившийся в ухе великана. Маленький мирок был в страшной тревоге, однако не терял времени, спасая своих убитых, и не пустился в бегство с поля битвы, но мужественно лез приступом на развалины, чтобы унести свои личинки и положить их в безопасное место.
– Простите меня, – обратился я к ним, – я должен был бы предупредить вас, но я помогу вам спасти ваших детей. – Я взял своей деревянной лопатой толстый пласт земли муравейника, рыхлой и изрытой мелкими ходами с лежавшими в них личинками, и отнес его на некоторое расстояние. Я смотрел, как проворные муравьи, последовав за мной, возвращались той же дорогой, чтобы окончательно переселиться в свое новое жилище. Они, конечно, переговаривались друг с другом, условливались и помогали друг другу. Ни один из них не казался растерявшимся от неожиданного бедствия, все они сохранили мужество.
– Мужественные малютки, – сказал я, – вы мне даете великий урок! И я не покину свою работу, хотя бы она обрушилась на меня.
Но я работал один, и мою голову теперь наполняла одна мысль – найти себе помощника. Я еще не уведомлял о себе свою мать, хотя находился очень недалеко от нее. Я боялся, и не без основания, что она станет упрекать меня за то, что я даром трачу время, теша себя пустыми мечтами, вместо того чтобы искать себе занятие. Меня мучила мысль о беспокойстве, которое должна испытывать она относительно меня, и я отправился повидаться с ней.
Она действительно беспокоилась обо мне и побранила меня, что я еще не заработал ничего, но, узнав, что я научился читать, не истратив на это ничего, она смягчилась и была принуждена согласиться, что я не бродяжничал. Тут я открыл ей мое сердце, рассказал, на что я употребил свое время, и повторил все свои надежды. Она была очень удивлена, очень растрогана и в то же время испугана. Она говорила со мной так же, как старик Брада, и умоляла не рисковать деньгами на такое безрассудное предприятие. Однако я успел заметить ее привязанность к этому лоскутку земли, где она была так счастлива, как нигде не была более счастливой, и куда она столько раз мечтала возвратиться, как она сама призналась мне. Я не хотел слишком упорно стоять на своем, надеясь, что, может быть, со временем я смогу убедить ее. Я обещал ей употребить эту зиму с пользой для себя, потому что должен был покинуть горные высоты. Я сдержал данное ей слово. Окончив свои работы с расчисткой каменьев, далее продолжать которые мешал снег, я подарил старику Брада хороший капюшон шерстяной материи из барежа, а работникам его различные небольшие вещицы. Мы расстались добрыми друзьями, обещая свидеться на будущий год, и я отправился искать себе счастья по направлению к Лурду, в каменоломни и на горные дороги. Мысль моя не покидала меня, я хотел научиться бороться со скалой и овладеть ей как можно скорее и искуснее. Я исполнял простую работу, но, занимаясь ей, приглядывался к работам инженеров, стараясь понять все, что они делают. Я зарабатывал немного, так как должен был кормить и содержать себя. Заработок этот я употреблял теперь на уроки арифметики, потому что чтение у меня шло хорошо благодаря моему терпению, что же касается письма, я упражнялся в нем сам, копируя чужое писанье. На все это я употреблял час или два вечером каждый день и почти все воскресенье. На меня смотрели как на малого очень разумного не по летам, на самом же деле я был не более как упрямец самой большой руки.
Лишь только весна распустила снега, я бросил все, чтобы повидаться с матерью и купить тачку, кирку, порох, бурав, молот, – все, что необходимо мне было, чтобы как следует напасть на своего врага. Я упросил мать дать мне еще сто франков, в случае если я истрачу те сто, которые у меня были в запасе, и если, как окажется, работа моя будет стоить того, чтобы продолжать ее. Прежде чем дать согласие на мою просьбу, мать захотела прийти посмотреть на мою работу летом.
Я нанял в Лурде двух ребят моих лет, которые, пообещав сойтись со мной в Пьерфите, действительно пришли в назначенный день. Это были добрые товарищи, трудолюбивые и скромные. Все шло сначала хорошо, они не чувствовали никакого страха к великому Иеусу и без церемонии ломали ему бока и разрывали челюсть. Мы построили себе хижину более просторную и прочную, так как зима разрушила ту, которая была у меня. Старик Брада всякую неделю спускался в долины за припасами для себя, и мы поручили ему покупать, что нужно, также и для нас, и доставлял на своем осле.
До тех пор, пока дело ограничивалось взрыванием скал, товарищи мои были веселы, но когда пришлось убирать камни, нагружать и возить тачку, скука овладела ими. Они были жители долин, и горы наводили на них уныние, и я не мог более отвлекать их от овладевавшей ими по вечерам скуки, которую еще более усиливал раздражавший нервы их шум потоков. То, что увлекало меня, наводило на них тоску, и в одно прекрасное утро я увидел, что и ими овладевал страх. Страх чего? Они не хотели сказать. Я, может быть, поступал неблагоразумно, рассказывая им про свою ненависть к этой скале и, положим, хоть я и не рассказывал про свои ночные видения, которые нередко являлись мне среди тишины в то время, когда другие спали, но, может быть, кто-то из них заметил это или услыхал что-нибудь. Как бы то ни было, они объявили мне, что уже с них будет этого уединения, и расстались со мной друзьями, стараясь отговорить меня от моего намерения.
Однако им не удалось это. Наняв других товарищей, которые несколько подвинули работу, хотя не дали пока видимых результатов, я снова был оставлен один под тем предлогом, что я задумал безумное предприятие и что оставить меня одного значило оказать мне услугу.
В первый раз почувствовал я, что теряю мужество. Я не спал по ночам, великан являлся мне более прочным, более живучим, чем когда-либо, сидящим на одном осколке камня посреди других, которые мне удалось оторвать от целой глыбы. При свете луны, слегка подернутой облаком, он представлялся мне пастухом, стерегущим стадо белых слонов. Я подходил к нему, влезал ему на колени и, цепляясь за его бороду, подымался до его лица и давал ему пощечины своим железным молотом.
– Пастух, – говорил он своим рыкающим голосом, – иди, ищи другое пастбище. Это мое навсегда, ты сам дал мне этих овец, – продолжал он, указывая на разбросанные кучи, – и я намерен кормить их на твой счет до окончания века.
– Это мы еще увидим, – возражал я. – Ты надеешься победить, потому что я один, хорошо, ты узнаешь, что может сделать один человек!
На другое утро я принялся за осколки утеса с таким жаром, что недели две спустя у великана не осталось ни одной овцы, и он опять выказал намерение уйти, сделав шаг к тому месту, где я хотел устроить из него плотину.
Однажды в воскресенье мать и сестры пришли повидаться со мной. У меня было расчищено все место, где случилось несчастье с отцом, луг был окопан канавкой, сочная трава зеленела, прекрасные водяные голубые колокольчики смотрелись в полосу воды. Я поставил деревянный крест на этом месте и сложил из камней скамью. Мать была очень тронута этим, она плакала и молилась и, осмотрев затем наше маленькое владение, четвертая часть которого была расчищена и зеленела, она призналась мне, что не ожидала увидеть такого успеха. Но когда, немного отдохнув, она пошла посмотреть нерасчищенные места, то пришла в ужас и умоляла меня удовольствоваться тем, что сделано.
– Ты можешь, – сказала она, – отдать внаем эту часть для пастбища твоим соседям внизу. Конечно, это будет очень небольшой доход, который все же лучше, чем безумная трата.
Я не соглашался, мать рассердилась немного и погрозила не давать мне более денег. Магелонна, сделавшаяся уже почти взрослой, заплакала из-за меня. Она держала мою сторону и ободряла меня. Она говорила, что хотела бы быть мальчиком и иметь силу, чтобы помочь мне. Ничто не казалось ей более прекрасным, как горы, она поклялась не выходить замуж за городского. Она всегда помнила нашу гору и мечтала возвратиться туда при малейшей возможности. Маленькая Миртиль ничего не говорила, но, широко раскрыв свои голубые глаза, как куропатка, прыгала между скал в каком-то восторге, который она чувствовала и выражала, не умея отдать себе в нем отчета.
Я приготовил маленький полдник из ягод с лучшими сливками старика Брада. Мы расположились на развалинах нашего дома, растроганные, печальные и радостные в одно и то же время. Мать простилась со мною, не обещав ничего, она много обнимала меня и не имела силы упрекать. Таким образом, я работал один до конца лета. Чем далее подвигалась моя работа, тем более я убеждался в предстоявшей мне трудности перенести эту гору каменьев, но тем усерднее продолжал я трудиться. Я уже не спускался с площадки, разве на короткое время в воскресенье. У меня было помещение, и я оставался в нем, вечера проходили у меня в чтении, письме и вычислениях. Роясь в обломках, я сделал драгоценное открытие: я нашел старый ящик, совершенно сохранившийся, в котором были различные рабочие инструменты, несколько вещей из хозяйства и отцовские книги, все разрозненные. Я читал и перечитывал их с большим наслаждением, не досадуя даже, когда мне приходилось остановиться на середине интересного приключения, которое продолжалось у меня в голове благодаря моей фантазии. Книги наполнены были чудесными подвигами, которые разжигали мой мозг и воспламеняли мужество. Мне нисколько не было скучно одному. Я научился делать вычисления цифрами относительно продолжительности моей работы. Я видел, что один только в несколько лет буду в силах привести к концу свое дело, но, что бы ни говорили, я пристрастился к нему. Великан так отлично был искрошен, что уже не пытался более собирать свои кости для прогулки. Я спал спокойно, он не мешал мне, разве изредка я слышал его стоны, похожие на мычание быка, соскучившегося на пастбище. Я заставлял его молчать, грозя порохом, зная, что он это ненавидит более всего. Тогда он умолкал, и я видел, что он был побежден и что должен был чувствовать себя в моей власти.
С наступлением зимы я устроился как и прошлый год и заработал больше. Мне было уже семнадцать лет, я вырос, и мускулы мои окрепли. Несмотря на мою молодость, мне платили как взрослому человеку. Один из господ, заправлявших работами, заметив меня, нашел, что я понятливее и настойчивее прочих рабочих, и полюбил меня. С тех пор он стал поручать мне такую работу, при которой я мог бы научиться чему-нибудь новому, он дал мне помещение в своем жилище и стол, и благодаря ему весной весь мой заработок сохранился. По окончании работ он оставил этот край и хотел взять меня с собой в качестве слуги и товарища, обещая устроить мою карьеру, но ничто не могло заставить меня покинуть мою площадку. Я возвратился туда, как только это позволил растаявший снег.
V
Почти вся скала была уже раздроблена. Мне оставалось работать на тачке. Она была нетяжела, но зато всего скучнее. Все это лето и следующие за ним, а затем и третье я провел за этой работой. Наконец, к концу пятого года в один прекрасный вечер разбитое на куски тело великана было окончательно снесено на расщелину ската горы и образовало прекрасную плотину, которая могла выдержать в самые суровые зимы напор льдов со всей массой песка, которую они увлекают с собой и которая, встретив точку опоры в разбитом великане, скопляется и увеличивает таким образом объем и крепость плотины. Луг, который я осушил посредством канав, выложенных камнем, имел сток в ложбине потока и без всякого удобрения давал великолепную траву. На нем было столько цветов, что он казался настоящим садом. Козы не приходили уже более сюда, потому что со второго же года я насадил снова буки, вырванные обвалом, и мои молодые деревца были уже сильны и покрыты густой листвой. Мало-помалу я вырвал папоротники и другие негодные травы, которые завладели было лугом, я их сжег и, удобрив землю их пеплом, превратил лишаи и мох в траву. Нагрузив последнюю свою тачку, может быть четырехтысячную, я остановился и не повез ее дальше, желая доставить сестре Магелонне удовольствие самой стащить ее, чтобы иметь право сказать, что это именно она закончила мою работу.
Тогда я стал на колени лицом к солнцу и возблагодарил Бога за мужество, которое Он поддерживал во мне, и здоровье, которое мне дозволило так успешно привести к концу начатое мной дело, на которое, по словам многих, могла бы быть потрачена вся жизнь человека. Мне же всего было двадцать один год. Я только вступил в совершеннолетие и уже окончил взятую на себя задачу! Впереди у меня была целая человеческая жизнь, чтобы наслаждаться моей собственностью и вкусить плод своего труда.
Солнце садилось во всем своем величии, окруженное золотистыми лучами и пурпуровыми облаками, оно мне представлялось божественным оком, благосклонно взиравшим на меня. Снег на вершинах сверкал подобно алмазам, хор потоков ласкал слух, легкий ветерок колебал цветы, которые склонялись, будто нежно целуя мою землю. О чудовище, которое не давало мне покоя, не было и помину, оно теперь навеки смолкло и не представляло более образа великана. Частью оно было покрыто зеленью, мхом и вьющимися растениями, которые уже цеплялись на тех местах, где я перестал ходить с киркой и тачкой, и под этим покровом великан не был более безобразен; вскоре его и совсем не будет видно.
Я был так счастлив, что в эту минуту не питал более ненависти к нему, и, обратившись, сказал:
– Теперь ты будешь спать спокойно, и я ни днем ни ночью не буду трогать тебя. Злой дух, живший в тебе, побежден, я запрещаю ему возвращаться в тебя. Я освободил тебя от него тем, что принудил тебя быть полезным на что-нибудь, да минует тебя молния и не размоет тебя снег!
Мне послышался как будто продолжительный вздох покорности, исчезнувший в вышине. С тех пор я ничего более не слыхал и не видел.
С самого утра я стал готовиться к маленькому празднику, который мне хотелось устроить. Я пригласил старика Брада, который всегда был для меня добрым соседом и другом, прийти ко мне около полудня со всеми своими работниками и стадом, которое должно было обновить мой луг, и потом побежал в Пьерфит за матерью и сестрами.
– Вот, – сказал я, – я кончил свою работу, не истратив ничего из тех денег, которые вы сберегли мне к моему совершеннолетию. Они мне теперь понадобятся для покупки стада и постройки настоящего жилья, но я желаю, чтобы между нами четырьмя все было общее до тех пор, пока сестры не пожелают устроиться, и тогда мы все разделим на равные доли. А теперь пойдемте, у меня лошадь и телега с провизией, которую я закупил к обеду, и я довезу вас до подошвы горы. Я хочу, чтобы вы подняли букет на площадке Микелона.
Поднявшись на нашу равнину, мать и сестры не верили глазам своим: из раскинутой палатки поднимался дым и голубоватой струей вился в воздухе. Старик Брада с помощью нескольких женщин и девушек из окрестностей, мимоходом также приглашенных мной, готовили к обеду горных куропаток, которых вы называете белыми куропатками, потому что они белы зимой, тетеревов и сливочный сыр. Стадо старика Брада, рассыпавшись по лугу, щипало усердно траву, как бы свидетельствуя о превосходном качестве ее. Ребята накрывали стол и приготовляли сиденье из сосновых бревен и досок, слегка отесанных, и все это среди зелени и цветов имело вполне праздничный вид. Букет из рододендронов и диких фиалок был привязан к веревке, посредством которой мать должна была вздернуть его на шест. Что касается меня, я также был удивлен музыкой, о которой я и не думал позаботиться. Старик Брада пригласил одного из своих приятелей, который играл на гуслях, чтобы мы могли потанцевать. После обеда у нас был бал, и сестры были счастливы, что могут потанцевать. Мать, растроганная, в слезах, подняла букет. Магелонна с гордостью отвезла последнюю тачку и сбросила без труда груз ее в кучу. Все были веселы и потому добры и дружественны. Никто не напился пьян, хотя я и не жалел вина. Наши горцы умеренны и вежливы, как это всем известно.
При наступлении вечера я проводил свое семейство. Мать, благословляя, вручила мне деньги на постройку дома, в котором мы живем теперь, и на покупку скота. Она была согласна жить со мной летом на нашей площадке, сестры не могли нарадоваться.
Следующий год в то самое время, как мы готовились устроиться в новом доме, нас постигло горе. Мать сделалась больна, и мы, уже отчаиваясь в ее выздоровлении, как только опасность миновала, перенесли ее на нашу гору, где прекрасный воздух вскоре вылечил ее. Если вы сегодня не видите ее здесь, то потому только, что эта честная женщина мало того, что постоянно занята дома, ходит еще заработать нам денег на стороне, теперь она находится в Котере, где стирает и гладит юбки и разные наряды проживающим на купаньях иностранцам. Всюду ее охотно берут, так как она хорошая прачка и добрая женщина, с которой приятно иметь дело. Что касается нас, то, как видите, нам хорошо здесь и мы с печалью расстаемся с нашей площадкой на зиму и возвращаемся на нее с первыми весенними днями. И охотиться у нас можно, дичи вдоволь. Иногда и его степенство медведь заглядывает в нашу сторону, заблудившись, и бывает хорошо принят у нас в кладовой. Волки тоже немного тревожили нас сначала, но и они были встречены как следует. Наша площадка стала лучше, чем когда-либо была. У меня отлично идут дела со скотом, который я откармливаю и продаю каждую осень в долинах, покупая там весной новый, это приносит мне такую выгоду, что я мог прикупить смежную с моей площадкой землю, чтобы увеличить выгон для скота. Земля была запущена, и я заплатил за нее дешево. Теперь она стоит земли моей площадки, и на будущий год я увеличу вдвое свое стадо, то есть мой оборотный капитал.
– Вот моя история, дорогой мой гость, – сказал Микелон в заключение. Если она вам наскучила, прошу извинить. Я несколько робел сначала от боязни, что вы меня не поймете, а затем, когда увидел, с каким любопытством вы меня слушаете, я успокоился.
– Любезный мой Микель, – отвечал я ему, – знаете ли вы, о чем я думал, вычисляя в своем уме число ударов вашего молота и свезенных вами тачек с каменьями. Прежде всего я сожалел, что такой человек, как вы, не предназначен судьбой проявлять такую упорную волю на более широком поприще, затем я подумал, каково бы ни было поле нашей деятельности, всем нам приходится разбивать каменья, и все мы оказываемся работниками более или менее сильными и терпеливыми. Человек, способный возвратить себе свою способность, так как это сделали вы, – человек недюжинный, но что всего более поражает меня в этом, не говоря уже про упорство крестьянина, которое тоже заслуживает уважения, – так это то, что вы были воодушевлены чувством более высоким, нежели корысть, именно сыновней любовью и той борьбой за плодородие земли, которую вы считали долгом человека.
– Много благодарен за ваши слова, – ответил Микелон, – вы угадали. Однако сюда примешивалось нечто, что вы должны осудить: именно вера в злых духов в природе.
– О, ну ведь вы этому уже не верите теперь, я очень хорошо вижу.
– Слава богу, вы понимаете меня! В детстве я был склонен к мечтательности и подвержен галлюцинациям… И затем я не уразумел еще смысла религии. После я понял, что Бог один и что всегда человечество искало Его под разными именами. Если гроза несет с собой молнию, так это еще не значит, что молния эта хотела поразить скалу, и обрушивающаяся скала не хочет зла человеку, которого она придавливает… Вот вы увидите завтра на вершине моей плотины, где накопился уже порядочный слой земли и она удобрена, целый лес дикого лавра, взлелеянного моими собственными руками, как священный знак благоговения перед законом природы, символами которой служили древние боги и мой Иеус.
Я провел отлично ночь под крышей Микелона и, не дождавшись восхода солнца, пошел осмотреть площадку. Микелон был на своем скотном дворе, угадывая, что мне приятно будет оставаться одному, он имел скромность оставить меня блуждать где я хочу. Я нашел прекрасные образчики растений, анемоны с цветком нарцисса, липкие веснянки, камнеломные растения различных видов, редкие и прелестные; но все мое внимание было обращено на великана, этот памятник, достойный того, чтобы посвятить его божеству, которое вдохновляет человека творить такие неоспоримые чудеса, – терпению! Я собрал драгоценные по редкости образчики мхов; наблюдал ученые работы муравьев и искусную и неутомимую охоту маленького паучка. Я не прочь был послушать немного из любопытства рычание великана, но до слуха моего долетал лишь гармонический и свежий голос прекрасного потока, ниспадавшего поблизости, воды которого, направленные стараниями Микелона, орошая луг, журчали очень весело свое аллегро.
Микелон снова угостил меня отличным обедом и вывел живописными местами на обратную дорогу. Он не хотел ничего принять от меня за свое гостеприимство, кроме семян диких цветов, собранных мной в других горах. Когда я сказал ему, что для ботаника большое удовольствие сеять в различных местах редкие и красивые растения, имея в виду исследования других ботаников, он казался тронутым и пораженным этой мыслью и обещал следовать моему примеру. Подобно всем горцам, находясь в общении с любителями и туристами, он приобрел некоторые познания из естественной истории. Он предложил проводить меня в свой домик в Пьерфите, чтобы поделиться со мной образчиками растений и минералов отличной кристаллизации, найденными им на великане, лютиками и рамондиями, собранными близ ледников.
– Не правда ли, – сказал он мне, – что наши горы настоящий рай для ботаников? Вы имеете тут в одно и то же время цветы и плоды всех времен года. В глубине долин лето и осень, поднявшись же несколько выше, вы встречаете весну; еще выше вам представляется растительность, которая бывает в первые дни марта. Таким образом, вы можете набрать в один и тот же день орхидеи первых весенних дней и орхидеи глубокой осени. Так здесь и для всего, для воздуха и света. В один день, по мере того как вы поднимаетесь, вы можете любоваться блеском солнца на озерах, видеть осенний туман на лугах нагорных равнин и созерцать величественную зиму на вершинах гор. Возможна ли скука при виде всех этих красот, собранных вместе? Подобная роскошь стоит того, чтобы купить ее семью месяцами изгнания в долине. Вот почему мы так любим наши горы и прощаем им, что они изгоняют нас в долину каждый год. Мы понимаем, что есть сила, которой они принадлежат более, нежели нам, и что мы должны довольствоваться теми чудными улыбками, которыми они нас награждают при нашем возвращении.
Микелон и в Пьерфите предложил мне свое гостеприимство. Мне было совестно принимать столько услуг от человека, для которого я так мало сделал.
– Вспомните, – сказал он мне при расставании, – что вы когда-то говорили моему отцу: «Не нужно, чтобы этот ребенок нищенствовал, в глазах его есть что-то такое, что обещает ему не такую участь». Я услышал тогда ваши слова, и, кто знает, не обязан ли я им тем, что стал человеком?
Розовое облако
I
Катерина должна была пасти трех овец. Она не умела еще ни читать, ни писать, но зато была большая мастерица говорить; это была славная девочка, только немножко любопытна и причудлива, что, впрочем, служило доказательством того, что она не была упряма.
Вскоре после Рождества три овцы ее принесли ей трех ягнят; двое из них были очень большие и здоровые, а третий такой крошечный, такой крошечный, точно кролик. Мать Катерины, Сильвена, с большим презрением отзывалась об этом бедном ягненке и говорила, что напрасно он родился на свет, что он не выровняется и останется навсегда таким дрянным, что даже не будет стоить корма, который для него понадобится.
Эти слова сильно огорчили Катерину, которая находила, что это было самое хорошенькое маленькое животное из всех, которых она видела, а главное – оно больше всех других подходило ей по своему росту. Она дала себе слово ухаживать за своей овечкой и назвала ее Бишеттой.
И действительно, она так ухаживала за ней, что чуть не уморила ее. Она уж слишком любила ее, беспрестанно ласкала, носила на руках и укладывала спать у себя на коленях. Щенки и котята очень любят, когда с ними нянчатся и нежат их, но барашки, наевшись досыта, любят, чтоб их оставили спать, когда им того захочется, и ходить там, где им вздумается. Сильвена говорила Катерине, что она не дает Бишетте расти, потому что все носит ее на руках, но Катерина и не желала, чтоб Бишетта росла, напротив, она желала даже, чтоб она была еще меньше, для того чтоб ей можно было носить ее в кармане. Каждый день она уводила старых овец на луг на два часа утром и на три вечером. Два больших ягненка очень благоразумно переносили отсутствие своих матерей, они как будто понимали, что те отправились на луг, чтобы запастись молоком. Бишетта же была далеко не так терпелива, она казалась такой голодной, начинала так жалобно блеять, когда ее мать возвращалась и подходила к ней, что сердце Катерины сжималось от жалости и она готова была заплакать.
Ей запрещено было уводить ягнят на луг, потому что они были еще малы, а трава слишком свежа, но она так упрашивала, чтоб ей позволили взять с собой Бишетту, что Сильвена наконец сказала ей: «Делай как знаешь! Если она умрет от этого, то потеря будет невелика, и я даже буду очень рада избавиться от нее, потому что она тебя совсем свела с ума, ты только и думаешь о ней одной. Ты приводишь овец домой слишком рано и уводишь слишком поздно для того, чтобы не разлучить Бишетту с матерью. Возьми ее с собой, если ты не можешь обойтись без нее».
Катерина увела Бишетту в поле и все время держала ее под фартуком, чтоб ей не было холодно. Это продолжалось два дня, но на третий день ей надоело нянчиться со своей овечкой и она начала бегать и играть по-прежнему. Бишетта, правда, от этого нисколько не сделалась хуже, но перемены к лучшему в ней тоже не было заметно, и она осталась таким же маленьким недоноском, каким была прежде.
Однажды, когда Катерина была занята гораздо больше отыскиванием птичьих гнезд в кустах, чем своими овцами, она нашла гнездо черного дрозда с тремя уже оперившимися птенчиками. Они, по-видимому, нисколько не испугались ее, потому что, когда она показала им кончик своего пальца, подражая в то же время крику самки-дрозда, они открыли свои желтенькие носики, и Катерина увидела их розовые горлышки.
Катерина была так счастлива, что не переставала разговаривать и целовать своих птичек все время, как возвращалась домой с овцами, и только на следующий день заметила, что случилось большое несчастье: Бишетты не было в овчарне. Она была позабыта на поле, ей пришлось спать под открытым небом, и теперь, наверное, волки съели ее. Катерина проклинала своих дроздов, по милости которых она поступила с такой непростительной жестокостью. Вся ее прежняя любовь к Бишетте возвратилась с новой силой, и, горько плача, она побежала на луг, чтобы узнать, что с ней сделалось.
Это было в марте месяце, солнце еще не взошло, и над лужей, находившейся посреди луга, стоял густой белый пар. Катерина искала по всем сторонам, осматривала все кусты, все изгороди и наконец подошла к луже, думая, что, может быть, бедная Бишетта упала туда. Здесь она увидела что-то, что ее очень удивило, потому что она еще в первый раз была на лугу так рано. Туман, окутывавший воду, точно белой скатертью, при приближении солнца разорвался местами и тихо полз небольшими клубами, поднимавшимися кверху, некоторые из них как бы повисли на ветвях ивы и держались в таком положении, другие же, снесенные ветром, снова падали на песок и, казалось, дрожали от холода на сырой траве. Вдруг Катерине показалось, что она видит стадо белых баранов, но она искала не стадо баранов, а свою Бишетту, которой тут не было. Катерина опять заплакала и в отчаянии опустила голову на колени, закрывшись фартуком.
К счастью, дети плачут недолго. Когда она подняла голову, то увидела, что все небольшие белые клубы поднялись над деревьями и уходили к небу в виде хорошеньких розовых облаков, притягиваемых солнцем, которое как будто хотело всосать их в себя.
Катерина долго смотрела, как они дробились и исчезали, и когда она опустила глаза вниз, то увидела на берегу, далеко от себя, потому что лужа была большая, свою Бишетту, лежавшую так спокойно, как будто она спала или была мертвая. Она побежала к ней, нисколько не думая, что она, может быть, умерла, потому что детям никогда не приходит в голову то, что может сильно огорчить их. Она завернула Бишетту в свой фартук и понесла домой. Катерину удивляло только одно, что фартук ее был так легок, как будто бы в нем ничего не было. «Как бедная Бишетта замучилась и как она похудела в одну ночь! – думала она. – Мой фартук точно совсем пустой». Она обвязала его вокруг себя и не смела заглянуть в него, боясь простудить маленькое животное, которое ей хотелось поскорее согреть.
Когда она свернула с тропинки, по которой шла, то вдруг увидела маленького Петра, сына башмачника, бежавшего навстречу к ней и несшего на руках – отгадайте что? Бишетту, настоящую Бишетту, которая громко блеяла.
– Вот тебе твоя овечка, – сказал Катерине маленький Петр, – возьми ее. Вчера вечером она замешалась с моими овцами в то время, как ты возвращалась домой и показывала мне гнездо дрозда. Ты не хотела мне дать ни одного из твоих дроздят, как я ни упрашивал тебя, но я не такой, как ты. Когда я увидел в овчарне, что твоя Бишетта подошла к одной из моих овец, думая, что это ее мать, то я позволил ей сосать сколько ей хотелось и оставил ее ночевать в овчарне. Я поторопился отнести ее к тебе, потому что ты, наверное, очень горевала, думая, что она совсем пропала. Не правда ли?
Катерина так обрадовалась, что поцеловала маленького Петра и увела его к себе для того, чтобы дать ему двух дроздят, и он был так доволен этим, что прыгал, как козленок, уходя домой.
Когда она увидела, как Бишетта и ее мать обрадовались друг другу, то наконец подумала о своем фартуке и тут только вспомнила, что положила в него или хотела положить что-то, что она приняла за свою овечку. «Что бы это могло быть? Я и сама не знаю, – подумала она, – но не может быть, чтоб я положила туда то, чего совсем не было».
Ею овладел страх и в то же время любопытство. Она отправилась на крышу овчарни, которая была вся покрыта мхом и опускалась до самой земли и на которой росло множество маленьких цветочков и даже молодых зеленых колосьев, уже совсем созревших и занесенных сюда ветром. Крыша была тоненькая, но казалась такой хорошенькой, когда была освещена восходящим солнцем, кроме того, она была очень мягка, потому что была устлана старой соломой. Летом Катерина, забравшись на эту крышу, засыпала здесь и в этом занятии не раз забывала, что пора отправляться на луг. Войдя на самый верх, она осторожно развязала фартук. Что бы могло быть в этом фартуке?
II
То был синий коленкоровый фартук, переделанный из старого фартука Сильвены, и его никак нельзя было назвать ни нарядным, ни новым, но если бы в эту минуту Катерине предложили за него большие деньги, то она ни за что не согласилась бы продать его, так ей хотелось узнать, что в нем было. Наконец она его развязала, но ничего не нашла в нем. Она принялась трясти его, но из него ничего не выпало, только вокруг себя она увидела белый дым, через минуту над головой ее поднялось маленькое облачко в виде шара, белое как снег, но в то время, как оно поднималось кверху, оно приняло сначала золотисто-желтый цвет, потом бледно-розовый, наконец, когда оно поднялось над орешником и бузиной, росшими вокруг овчарни, и когда солнечный свет прямо упал на него, оно приняло настоящий розовый цвет, такой, какой бывает только у самых прекрасных роз.
Катерина нисколько не удивилась тому, что она принесла с собой облако. Она думала только о том, какое оно хорошенькое, и сожалела, что оно улетает так скоро. «Ах ты неблагодарное! – закричала она ему вслед. – Вот как ты меня благодаришь за то, что я отпустила тебя лететь к небу!»
В эту самую минуту она услыхала тоненький голосок, выходивший из облака и певший какие-то слова, но какие это были слова?
III
Катерина не поняла ни одного из этих слов, она продолжала смотреть на облако, которое постепенно увеличивалось по мере того, как поднималось кверху, но в то же время становилось все тоньше и раздроблялось на множество розовых облачков.
– Ну вот, – закричала ему Катерина, – как это глупо, что тебе самому хочется, чтоб солнце проглотило тебя, как оно проглотило уже все облака там, на лугу; я бы и до сих пор носила тебя в фартуке, ты нисколько не мешало мне, или высадила бы тебя в саду, в прохладе, под большой яблоней, или же, наконец, поместила бы тебя под краном, так как ночью ты любишь спать над водой. Мне никогда еще не приходилось ухаживать за облаком, но я привыкла бы к этому и постаралась бы, чтоб ты было цело, а теперь ветер разобьет тебя на мелкие кусочки, а солнце сейчас проглотит. Катерина начала прислушиваться к тому, что ответит ей облако. Теперь вместо одного тоненького голоска она услыхала множество еще более тоненьких голосков, певших, как малиновки, но только никак нельзя было понять, что они пели. Эти голоса становились все слабее по мере того, как удалялись; так что Катерина ничего уже не слышала больше; над собой она также ничего не видела, кроме ясного неба, на котором не было заметно ни одного облачка.
– Мама, – сказала она своей матери, когда та позвала ее завтракать, – мне хотелось бы спросить тебя…
– О чем, Катерина?
– Что говорят облака, когда они поют?
– Облака никогда не поют, глупенькая, они гремят, и из них льется дождь, когда в них заходит гром.
– Ах, боже мой! – вскричала Катерина. – Я и не знала этого… Только бы он не зашел в мое розовое облачко.
– В какое розовое облачко? – с удивлением спросила Сельвена.
– То, которое было в моем фартуке.
– Замолчи, – прикрикнула на нее Сельвена, – ты знаешь, что я терпеть не могу, когда болтают всякие пустяки, какие придут в голову! Это простительно двухлетним детям, ты же слишком велика, чтобы разыгрывать из себя дурочку.
Катерина не смела больше сказать ни слова и после завтрака отправилась в поле. Она взяла с собой своего дрозденка и забавлялась с ним часа два; но так как она встала очень рано, то через несколько времени заснула на лугу. Она не боялась теперь потерять Бишетту, которую оставила вместе с другими ягнятами в овчарне.
Она проснулась, лежа на спине, и увидела над собой голубое небо, а над самой головой, далеко-далеко в воздухе висело маленькое облачко, которое виднелось одно, решительно одно, в виде розового пятнышка на всем пространстве голубого неба.
– Какое оно хорошенькое, – подумала Катерина, все еще не совсем проснувшись, – но как оно далеко! Если оно опять запоет, то я уже не услышу его. Мне хотелось бы быть там, где оно, я увидела бы всю землю и могла бы ходить по всему небу, не боясь устать. Если бы оно не было такое неблагодарное, то оно взяло бы меня с собой туда, я могла бы лежать на нем, как на пуху, подошла бы к самому солнцу и узнала бы, из чего оно сделано.
Корольки в кустах пели в то время, как Катерина предавалась этим мыслям, и ей казалось, что они насмехались над ней и кричали: «Любопытная, фи, любопытная». Вдруг они замолчали и в испуге попрятались в листве. Огромный ястреб взвился в воздухе и начал кружиться под самым розовым облаком. «Ах, – подумала опять Катерина, – хоть они и насмехаются надо мной и называют меня любопытной, а я все-таки желала бы быть на спине у этой хищной птицы. Я могла бы тогда рассмотреть мое розовое облако и, может быть, даже долетела бы до него».
Тут она уже совсем проснулась и вспоминала, что не должно говорить пустяков, а для этого прежде всего не нужно думать о них. Она взяла свою прялку и принялась усердно прясть, стараясь ни о чем не думать, но, несмотря на это, она беспрестанно отрывалась и смотрела на небо. Ястреба уже не видно было, а розовое облачко все еще стояло на одном месте.
– Что это ты все смотришь на небо, Катерина? – спросил у нее один старик, проходивший в это время по тропинке через луг.
Это был отец Баталь, который срубил на соседнем лугу засохшее дерево и нес охапку сучьев домой. Ноша была довольно тяжела, и он прислонился к иве, чтобы отдохнуть немного.
– Я смотрю на облако в небе, – отвечала Катерина, – скажите, пожалуйста, – ведь вы такой ученый и так много путешествовали, – отчего это вон то облачко одно виднеется на небе и отчего оно не двигается с места?
– Ты хочешь знать это, малютка? – сказал старик. – В то время как я путешествовал по морю, я называл это шквалом и считал дурным знаком.
– Знаком чего, отец Баталь?
IV
– Знаком страшной бури, дитя мое. Когда на море увидят такое облако, то обыкновенно говорят, что будет работа, да горячая. Это просто изумительно, иногда это облачко величиной бывает не больше барана, которого можно унести под полой. Потом оно разрастается, чернеет, обкладывает все небо, и вот тут-то и начинается потеха! Гром, молния, ветер, – словом, морякам приходится бороться со всей дьявольской силой!
– Ах, боже мой! – в испуге вскричала Катерина. – Неужели и мое розовое облачко сделается таким же злым.
– В наших странах и в такое время года шквалы бывают редко, к тому же я думаю, что на земле они не могут быть очень опасны. Какое же, однако, смешное твое розовое облако!
– Почему смешное, отец Баталь?
– Почему? Вот тебе и на! – вскричал старый моряк. – Я нахожу, что у него ужасно смешной вид. Однако мне нужно поскорее кончать мою работу, пока не наступил вечер. Мне нужно еще отнести три охапки сучьев.
Он ушел, и Катерина попробовала приняться опять за пряжу; но она по-прежнему все посматривала наверх, и от этого работа ее мало подвигалась вперед, и веретено никак не вертелось. Ей казалось, что облачко росло и меняло цвет. Она не ошибалась в этом, облако действительно из розового сделалось голубым, потом приняло аспидный цвет, потом совсем почернело и мало-помалу так разрослось, что с одной стороны обложило все небо. Все омрачилось, и наконец загремел гром.
Катерина сначала очень была довольна тем, что облачко ее сделалось таким большим. «Слава Богу! – думала она. – Теперь я вижу, что оно не похоже на другие. Солнцу не удалось его проглотить, напротив того, теперь можно подумать, что оно само проглотит солнце. Кто бы поверил тому, что сегодня утром я несла в фартуке это самое облако!»
Она начала даже гордиться этим. Но вдруг из середины облака, превратившегося в страшную тучу, засверкала молния. Катерине сделалось страшно, и она поспешила домой со своими овцами.
– Я очень беспокоилась о тебе, – сказала ей мать, – какая ужасная погода. Я не помню, чтоб такая страшная гроза разразилась так скоро да еще в такое время года.
Гроза была действительно ужасная. Градом выбило окна в доме, ветер снес черепицу с крыши, гром сломил большую яблоню в саду. Катерина не отличалась большой храбростью, она все пряталась под кровать и наконец не вытерпела и сказала вслух: «Гадкое розовое облако, если бы я знала, какое ты злое, то ни за что не спрятала бы тебя в своем фартуке!»
Мать опять начала ее бранить, но девочка не могла удержаться более и твердила свое.
– Что мне делать? Моя маленькая Катерина совсем с ума сошла! – говорила Сельвина соседям.
– Полно, полно! – утешали они ее. – Это ничего, это гроза ее испугала, к утру это пройдет.
На другой день «это» действительно прошло. Солнце весело встало. Катерина не отстала от солнца и в одно время с ним взошла на крышу своей овчарни. Дом очень пострадал от грозы, но овчарня, построенная ниже и лучше защищенная, нисколько не была повреждена. Цветы на крыше, примятые дождем, желтый чистотел, заячья капуста и дикий чеснок расправляли свои лепестки и, повернувши свои маленькие головки к солнцу, как будто говорили ему: «Наконец-то ты вернулось к нам! Здравствуй, здравствуй, не уходи от нас больше, мы не знаем, как нам быть без тебя».
Катерине тоже хотелось поздороваться с солнцем, но она боялась, что оно сердится на нее за то, что она выпустила из фартука облако, которое так воевало с ним вчера вечером. Она не посмела спросить у своей матери, проходившей в это время по саду, о том, можно ли рассердить и умилостивить солнце. Сильвена терпеть не могла ее фантазий, и так как Катерина была послушная девочка, то она решилась не предаваться им больше.
Ей удалось это наконец. Все следующие дни она занималась со своим дрозденком до тех пор, пока он не издох, объевшись пирога с творогом. Катерина была очень огорчена этим и в утешение завела себе воробья, которого съела кошка. Новое огорчение. Наконец ей надоели звери и птицы и она захотела ходить в школу; в то же время она полюбила свою прялку и сделалась очень искусной пряхой. Год от году Катерина становилась умнее.
V
Когда ей исполнилось двенадцать лет, то мать сказала ей однажды:
– Не правда ли, Катерина, ты будешь рада попутешествовать немного и увидеть многие места?
– Разумеется, – отвечала Катерина, – мне давно уже хочется увидеть голубые страны.
– Что это ты рассказываешь, глупенькая? Голубых стран нигде нет.
– Право же, мама, я каждый день вижу их с крыши овчарни, вокруг нас все зелено, а там, вдали, видна большая голубая страна.
– А, теперь я понимаю, что ты хочешь, это тебе только так кажется издали. Но вот теперь твое желание исполнится. Твоя двоюродная бабушка Колетта, которая живет далеко от нас и которую ты никогда не видела, потому что она уже тридцать лет не была здесь, желает повидаться с нами. Она очень стара и совершенно одинока, потому что она никогда не была замужем. Она небогата, и ты ничего не должна у нее просить, напротив, мы должны делать для нее все, что она пожелает. Я боюсь, чтобы она не затосковала и не умерла оттого, что за ней некому ухаживать, поедем к ней, и если она захочет, чтоб мы привезли ее сюда, то я очень рада буду исполнить ее желание, потому что это мой долг.
Катерина вспомнила теперь, что ее родные упоминали иногда имя тетушки Колетты, но она не знала, о ком они говорят, и не расспрашивала их об этом. Мысль о том, что она увидит новые места, приводила ее в восторг. Несмотря на то что она сделалась теперь очень умной девочкой, но корольки были совершенно правы, называя ее любопытной, и в этом не было ничего дурного, потому что это значило, что она любила приобретать новые сведения.
В назначенный день Катерина с матерью сели в дилижанс и отправились. Они пробыли в дороге целый день и целую ночь и наконец, к своему удивлению, подъехали к горе. Вид горы совсем не понравился Сильвене, Катерина же, напротив, нашла его прелестным, но только побоялась сказать это матери.
Выйдя из дилижанса, они спросили, где живет госпожа Колетта. Им указали дорогу, которая была так крута, что по ней нужно было карабкаться, как на крышу Катерининой овчарни, в довершение всего им сказали, что другой дороги нет и что нужно идти непременно по этой.
– Какая странная дорога, – сказала Сильвена, – здесь, кажется, все навыворот. Право, нужно иметь такие же ноги, как у козы, для того чтобы ходить здесь. Вот твоя голубая страна, Катерина! Нравится ли тебе она?
– Право же, она голубая, – ответила Катерина. – Посмотри на верх горы, мама, разве ты не видишь, что она голубая?
– Это снег ты видишь там, глупенькая, а вблизи он белый.
– Снег летом?
– Да, потому что там так холодно, что снег не тает.
Катерина подумала, что ее мать ошиблась, но побоялась поспорить с ней. Ей очень хотелось узнать поскорее, правду ли сказала ей мать, и она карабкалась, как молоденькая коза, хотя у нее и не было четырех ног, которые были бы теперь очень кстати.
Когда они дошли наконец до деревни, Сильвена, очень усталая, и Катерина, тоже запыхавшаяся, им сказали, что тетушка Колетта не живет здесь летом, но что она принадлежит к здешнему приходу и что дом ее недалеко отсюда. Им показали домик с дощатой крышей, обложенный большими камнями.
– Она живет вон там, это недалеко отсюда, и вы будете там не более чем через час.
Сильвена пришла просто в отчаянье. Для того чтобы добраться до этого дома, а потом до деревни, им нужно было пройти столько же, сколько они уже прошли, а дорога была еще круче и страшнее.
Она боялась, что Катерина не в силах будет дойти до указанного домика, к тому же окружающая местность казалась ей такой некрасивой и дикой, что она начинала уже думать, не лучше ли будет спуститься вниз и вернуться домой, не повидавшись даже с тетушкой Колеттой, но Катерина уверяла, что она нисколько не устала и не боится идти дальше. Глядя на нее, и Сильвена ободрилась; позавтракав, они снова начали подниматься все выше и выше.
Они не могли выбрать лучше дороги, потому что дорога была только одна; проводник им тоже был не нужен, тем более что они не могли бы даже развлечься, разговаривая с ним, потому что жители этой местности почти совсем не знали по-французски, они говорили на таком смешанном наречии, что ни Катерина, ни мать ее не могли понять ни одного слова.
Как ни была опасна тропинка, по которой они взбирались, но наконец они благополучно дошли до домика с дощатой крышей. Вокруг него росли красивые сосны, из-за которых виднелся луг, расстилавшийся по отлогому склону с углублением в середине; нигде не видно было ни рвов, ни загородок, но луг был защищен большими утесами, покрытыми снегом, который, казалось, доходил до самого неба сначала в виде белых ступенек, державшихся на горном утесе, а далее в виде ледяных кристаллов прекрасного зеленовато-голубого цвета, и затем все это терялось в облаках.
«Наконец-то мы пришли в голубую страну, – с восторгом думала Катерина, – и если бы мы пошли еще немного повыше, то были бы в небе».
В эту-то минуту она и вспомнила о том, о чем давно уже позабыла: она подумала, что можно дойти до облаков, и вдруг вспомнила о своем розовом облачке как о давно забытом сне. Девочка пришла в такой восторг при виде ледяной горы, что сначала не обратила большого внимания на тетку Колетту, несмотря на то что ей очень хотелось ее видеть и дорогой она не раз задавала себе вопрос о том, какой она могла быть.
VI
Тетушка Колетта была высокая бледная женщина с седыми волосами и красивым лицом. Она, по-видимому, нисколько не удивилась приезду Сильвены.
– Я была почти уверена, что ты приедешь, – сказала она, целуясь с ней, – я видела обеих вас во сне. А теперь я взгляну на твою дочь, такая ли она, какой я видела ее во сне?
Катерина подошла, тетушка Колетта пристально посмотрела на нее своими большими светло-серыми глазами, которые, казалось, могли видеть то, что делается в самой глубине души, потом она ее поцеловала и прибавила: «Хорошо, очень хорошо! Ты не понапрасну родилась на свет».
Когда путешественницы отдохнули немного, тетушка Колетта показала им свои комнаты.
Дом, казавшийся издали маленьким, вблизи был довольно велик, он был весь деревянный, но выстроен так хорошо и из такого отличного соснового леса, что был очень крепок.
Благодаря огромным камням, которыми была обложена крыша, ветер не мог не только снести, но даже покачнуть ее. Внутри везде было очень чисто, и мебель так блестела, что на нее весело было смотреть. В шкафах было много посуды и разной домашней утвари, кровати были на деревянных ларях, на которых лежали тюфяки, набитые шерстью и волосом, они были застланы прекрасными белыми простынями и теплыми одеялами, потому что там никогда не было тепло. Печи топили там целое лето, и в дровах не было недостатка. Большая часть деревьев, окружавших луг, а также и самый луг, принадлежали тетушке Колетте. На лугу, который был очень велик, паслись ее коровы, несколько коз и небольшой осел, которого она держала для перевозки тяжестей. За скотом смотрел мальчик, а хозяйством занималась девочка, которая выполняла также разные поручения, потому что тетушка Колетта любила удобства и два раза в неделю посылала в деревню за говядиной и за хлебом; словом, она была богата, даже очень богата для крестьянки, и Сильвена, которая совсем не подозревала этого и которая приехала для того, чтобы помочь ей, если она была в нужде, с удивлением смотрела на все и даже чувствовала перед ней некоторую робость, как перед особой, стоящей гораздо выше нее по своему положению.
Катерина также казалась немного смущенной, но не потому, что бабушка была богаче ее, а потому что она сознавала, что та была выше ее по образованию. Но когда она увидела, какая она была добрая и ласковая, то успокоилась совершенно и даже почувствовала к ней такую дружбу, как будто знала ее всю жизнь.
С первого же дня Катерина без церемоний начала ее расспрашивать и узнала, что она была доверенным лицом одной пожилой дамы, за которой она ухаживала до самой ее смерти и которая оставила ей кое-какие деньги.
– Но она была небогата, моя добрая старушка, – прибавила тетушка Колетта, – и на ее деньги я не могла бы окружить себя всеми удобствами, которые вы видите здесь. Я завела все это благодаря моим трудам и умению вести дела.
– Вы купили все это на деньги, которые получили от распродажи вашего скота? – спросила Сильвена.
– Мой скот действительно доставляет мне выгоду, – отвечала Колетта, – но на какие деньги куплена земля, на которой он пасется? Не отгадаешь ли ты это, Катерина?
– Нет, тетушка, я этого никак не могу отгадать.
– Умеешь ли ты прясть, дитя мое?
– Я? Разумеется, тетушка, если бы в мои лета я не умела прясть, то была бы очень глупа.
– Умеешь ли ты прясть очень тонко?
– Д-да… И довольно тонко.
– Она у нас первая пряха, – с гордостью сказала Сильвена, – она умеет прясть все, что угодно.
– Сумеешь ли ты прясть паутину? – спросила тетушка Колетта.
Катерина подумала, что она шутит, и со смехом отвечала:
– Право же, я не знаю, я никогда не пробовала.
– Покажи-ка мне, как ты прядешь, – сказала Колетта, поставив перед ней прялку из черного дерева и положив ей на колени веретено в серебряной оправе.
– Какие хорошенькие вещицы! – сказала Катерина, любуясь изящной прялкой, которая была так пряма, как тростинка, и веретеном, которое было не тяжелее пера. – Но, тетушка, чтобы прясть, нужно навязать что-нибудь на прялку.
– Это всегда можно найти с помощью изобретательности, – ответила тетушка.
– Но я здесь ничего не вижу, что можно было бы прясть, – заметила Катерина. – Вы сейчас говорили о паутине, но ваш дом так чисто выметен, что нигде не видно паутины.
– А на дворе? Не видишь ли ты чего-нибудь, что можно было бы навязать на прялку.
– Нет, тетушка, потому что кору с деревьев нужно сначала истолочь, а шерсть с коз вычесать… Разве только достать вон те облака, которые я вижу на ледяной горе и которые похожи на огромные связи хлопка.
– А почем ты знаешь, может быть, облако можно прясть.
– О! Я этого никак не думала, тетушка, – сказала Катерина и вдруг сделалась задумчивой и рассеянной.
VII
– Разве ты не видишь, – сказала Сильвена, – что бабушка смеется над тобой?
– Знаете ли, как меня зовут здесь? – спросила Колетта.
– Нет, не знаем, – ответила Сильвена, – мы не понимаем здешнего наречия, и вы можете насмехаться над нами, сколько вам угодно.
– Я и не думаю насмехаться. Позовите Бенуа, моего маленького слугу, который накрывает на стол в беседке он знает по-французски и скажет вам, как меня зовут здесь.
Сильвена позвала Бенуа и с любопытством спросила его:
– Как зовут в здешней стране мою тетушку, госпожу Колетту?
– Неужто вы не знаете, что ее зовут здесь пряхой облаков? – ответил Бенуа.
Позвали маленькую горничную, которая, нисколько не задумавшись, ответила то же самое.
– Как это странно! – сказала Катерина своей матери. – Прясть облака! Однако же, тетушка, – прибавила она, – вы сказали то, о чем я и сама думала уже несколько раз, то есть что из облаков можно делать что-нибудь. Однажды, когда я была маленькая… – Она вдруг остановилась, увидевши, что мать сердито взглянула на нее, и как будто хотела сказать ей: не заводи эту старую песню.
Колетта начала расспрашивать, и Сильвена сказала ей:
– Не сердитесь на нее, тетушка, она еще так молода! И совсем не хотела посмеяться над вами, как вы сейчас смеялись над ней, она знает, что вы имеете на это право и что она не может позволить себе того же.
– Но, – возразила старушка, – я никак не могу понять из этого, что она хотела сказать.
– Милая тетушка, – сказала Катерина со слезами на глазах, – я никогда не позволю себе смеяться над вами, но мама думает, что я лгу, а я уверяю вас, что однажды, когда я была еще маленькая, то принесла домой в фартуке маленькое белое облачко.
– Очень может быть! – сказала тетушка, по-видимому, нисколько не рассердясь и не удивляясь. – Что же ты с ним сделала, малютка? Попробовала ли ты его прясть?
– Нет, тетушка, я его выпустила, и оно потом сделалось розовое и, улетая, все время пело.
– Поняла ли ты, что оно пело?
– Ни одного слова! Но, тетушка, я была еще так мала!
– После того как оно улетело, не было ли у вас бури?
– Вы отгадали, тетушка, ветер снес у нас крышу, а громом сломило нашу большую яблоню, которая была вся в цвету.
– Вот что значит доверять неблагодарным! – произнесла Колетта совершенно серьезно. – Нужно остерегаться всего, что изменчиво, а изменчивее облаков нет ничего в мире, но я думаю, что вы обе проголодались, а обед уже готов. Помогите мне заправить суп и потом пойдем обедать.
Обед был очень хорош, и Катерина кушала с большим аппетитом. Сыр и сливки были отличные, обед закончился десертом, так как у тетушки были в банке медовые пряники, которые она сама приготовляла и которые были необыкновенно вкусны. Сильвена и ее дочь никогда еще не имели такого роскошного обеда.
Когда наступил вечер, Колетта зажгла лампу и принесла небольшой ящик, который поставила на стол.
– Поди сюда, – сказала она Катерине. – Я хочу, чтоб ты знала, почему меня называют пряхой облаков. Пойди и ты, Сильвена, ты сейчас узнаешь, как я нажила мое маленькое состояние.
Что же было в этом ящике, ключ от которого тетушка Колетта держала в руках? Катерина просто сгорала от нетерпения узнать поскорее, что там было.
VIII
Там было что-то белое, мягкое и легкое, до такой степени похожее на облако, что Катерина вскрикнула от удивления, а Сильвена вообразила, что ее тетка была колдунья или фея, и от страха побледнела как полотно.
Однако же это было не облако, но огромный моток тонких ниток, таких тонких, таких тонких, что нужно было один волосок разнять на десять частей для того, чтобы вышла такая тонкая нить. Этот моток был так бел, что до него нельзя было дотронуться, и так легок, что, казалось, мог улететь, если на него дунуть.
– Ах, тетушка, – в восторге вскричала Катерина, – если это вы пряли, то вас можно назвать первой пряхой во всем свете, после этого все другие не прядут, а сучат веревки!
– Это моя пряжа, – ответила Колетта, – и каждый год я продаю несколько таких ящиков. Не заметили ли вы, когда приехали сюда, что здешние женщины делают самое тонкое кружево, которое продают очень дорого. Я не могу снабжать их всех пряжей, и здесь есть много прях, которые работают очень хорошо, но ни одна из них не может сравниться со мной, поэтому мне платят в десять раз дороже, нежели другим. Моя пряжа покупается нарасхват, потому что из нее можно делать такое кружево, какого уже не будет, когда я умру. А я уже стара, и будет очень жаль, если мой секрет пропадет даром, не правда ли, Катерина?
– Ах, тетушка, – вскричала Катерина, – если бы вы передали мне его! Мне не нужно денег, но мне так хотелось бы выучиться прясть, как вы. Откройте мне, пожалуйста, ваш секрет.
– Вот так, сейчас же! – сказала Колетта, смеясь. – Но ведь я уже сказала тебе, что нужно выучиться прясть облака.
Она спрятала свой ящик и, простившись с Сильвеной и Катериной, ушла к себе. Они легли спать в той комнате, в которой были и в которой стояла еще третья кровать для Рене, маленькой горничной.
Так как кровати двух девочек стояли недалеко одна от другой, то они болтали между собой до тех пор, пока не заснули. Сильвена так устала, что была не в состоянии прислушаться к тому, что они говорили. Катерина предлагала тысячу вопросов Рене, которая была почти одних лет с ней. Ее преследовала одна мысль, и она все спрашивала, знает ли Рене тетушкин секрет.
– Тут нет никакого секрета, – отвечала та, – тут нужно только большое терпение и особенное искусство прясть.
– Но для этого нужно поймать облако, привязать его к прялке, не дать ему разойтись по всем пальцам и выделать из него нитку…
– Это еще не велика важность, а главное, нужно уметь выделать облако.
– Как! Выделать облако?
– Ну да, чесать его!
– Чесать облако! Чем же?
Рене ничего не ответила, она уже спала.
Катерина тоже попробовала заснуть, но она была слишком взволнована, и сон никак не приходил. Свеча погасла, и в камине осталось только несколько угольков. Катерина видела, однако же, небольшой свет в верхней комнате. Она приподняла голову с подушки и увидела, что наверху лестницы, по которой ушла тетушка Колетта, из-под двери виднелась длинная полоса света. Она не могла больше выдержать и потихоньку, босиком дошла до лестницы. Она была деревянная, и Катерина боялась, что она заскрипит. Но она ступала так легко, что без малейшего шума добралась до последней ступеньки и заглянула через щель в комнату тетушки. Отгадайте, что она там увидела?
IX
Она увидела небольшую и чисто убранную комнату с маленькой лампой, висевшей у камина, и только. В этой комнате никого не было, и пристыженная Катерина ушла назад. Она сознавала, что поступила очень дурно, стараясь завладеть врасплох чужим секретом, которого она не заслуживала больше знать. Она легла опять в свою постель, упрекая себя за свое любопытство, и оттого ей всю ночь виделись дурные сны. Проснувшись, она дала себе слово не любопытничать больше и терпеливо ждать, когда тетушка пожелает открыть ей свой секрет. Рене взяла ее доить коров, после чего они обе увели их на луг, если только можно назвать лугом уступ горы, который, правда, был весь покрыт травой, но совсем не был расчищен; несмотря на это, вид луга был очень живописен: чистая холодная вода, сочившаяся с ледяной горы, текла извилинами вдоль утеса и падала вниз в траву в виде каскада. Катерине, видевшей каскад только в шлюзе мельницы, так понравилась падающая вода, что она не могла отвести от нее глаз и любовалась на блестящие алмазные капли, сверкавшие на солнце. Однако же она не решалась перейти через воду, прыгая с камня на камень, как это делала Рене, но вскоре она выучилась этому, и не больше как через два часа она находила уже большое удовольствие в этом занятии.
Ей хотелось попробовать взобраться подальше на ледяную гору. Рене показала ей, до которых пор можно дойти, не подвергая себя опасности попасть в трещину, и научила ее ходить так, чтобы ноги не скользили. К концу дня Катерина уже чувствовала себя как дома и даже знала несколько слов на смешанном горном наречии.
Так как все предметы были для нее новы, то они очень занимали ее, и она почувствовала такую дружбу к горам, что была очень огорчена, когда на следующий день Сильвена объявила ей, что пора уже ехать домой! Тетушка Колетта была такая ласковая, такая снисходительная! Катерина полюбила ее даже больше, чем горы.
– Есть только одно средство помочь твоему горю, Катерина, – сказала Сильвена, – если хочешь, то оставайся здесь. Тетушка желает, чтобы ты осталась у нее, она обещала мне выучить тебя прясть так же, как она, но для этого нужно время и, главное, терпение, а так как я знаю, что ты не очень терпелива и, кроме того, непостоянна, то я не согласилась тебя оставить. Но ты выучилась уже прясть не хуже меня, и если ты думаешь, что можешь выучиться прясть так же, как тетушка, то я не стану мешать тебе сделаться богатой и счастливой, как она. Ты сама должна решить это.
Первой мыслью Катерины было броситься на шею к матери и уверить ее, что она ни за что с ней не расстанется, но когда на другой день Сильвена сказала ей, что не следует упускать такого отличного случая научиться чему-нибудь, то она начала колебаться. Еще через день Сильвена сказала ей:
– Мы небогаты. У твоей старшей сестры уже трое детей, а у старшего брата пятеро, я уже немолода и могу умереть не сегодня завтра. Если ты сделаешься богатой, то можешь быть опорой для всего семейства. Останься здесь, тетушка Колетта полюбила тебя, твои недостатки не раздражают ее, и я уверена, что она будет даже баловать тебя. Через три месяца я приеду за тобой, и если ты пожелаешь, то увезу тебя домой. Если же тебе понравится здесь, то ты останешься опять и, кто знает, может быть, тетушка оставит тебе все, что у нее есть?
Катерина заплакала при мысли о разлуке с матерью.
– Останься со мной, – сказала она ей, – уверяю тебя, что я очень скоро выучусь отлично прясть.
Но Сильвена страдала уже тоской по родине.
– Если я останусь здесь, – сказала она, – то умру или с ума сойду от тоски, а ты, наверное, не желаешь этого. С другой стороны, как упустить такой отличный случай составить себе состояние.
Катерина, рыдая, легла спать, но в то же время обещала матери поступить так, как она ей посоветует.
На другой день Рене не разбудила ее, и она проспала до девяти часов утра. Проснувшись, она увидела возле себя тетушку Колетту, которая обняла ее и сказала:
– Моя маленькая Катерина, ты должна собрать все свое мужество и рассудительность, твоя мать уехала сегодня рано утром, она горячо поцеловала тебя в то время, как ты спала, и поручила мне сказать тебе, что она приедет через три месяца. Она не хотела тебя будить, потому что отъезд ее, наверное, очень огорчил бы тебя.
Катерина горько заплакала и просила тетушку не сердиться на нее за это.
– Я не вижу ничего дурного в том, что ты плачешь о своей матери, – сказала тетушка Колетта, – это так и должно быть, и если бы ее отъезд не огорчил тебя, то ты была бы дурной девочкой. Но для твоей же пользы я прошу тебя, дитя мое, успокойся немного, я обещаю тебе сделать все, что от меня зависит, для того, чтобы ты была со мной счастлива. Подумай о том, что твоей матери нелегко было расстаться с тобой, и ты очень утешишь ее, если охотно выполнишь ее желание.
Катерина подавила свои слезы, поцеловала тетушку и обещала ей, что будет прилежно работать.
– Сегодня тебе нужно развлечься и погулять, а с завтрашнего дня мы примемся за дело.
X
На следующий день Катерине дан был первый урок, но это было совсем не то, чего она ожидала. Ей не было открыто никакого секрета, тетушка дала ей прялку со льном и сказала:
– Постарайся прясть как можно тоньше.
На первый раз этого было совершенно достаточно, потому что в той стране, где жила Катерина, женщины пряли только из пеньки и из пряжи ткали довольно толстое полотно. Она выполнила свою задачу довольно удачно, но все-таки работа ее была еще очень далека от того, как ей хотелось бы сделать, что она боялась даже показать ее. Она думала, что ее будут бранить, но тетушка, напротив, похвалила ее и сказала, что для первого дня это очень хорошо и что завтра, наверное, выйдет еще лучше. Катерина попросила, чтоб ей позволили остаться дома, ей хотелось увидеть, как работает тетушка.
– Нет, – сказала та, – я не могу работать, когда на меня смотрят, к тому же я всегда работаю у себя, а тебе не следует целый день сидеть в запертой комнате. Ты будешь работать на дворе, где ты можешь также гулять и присматривать за моими коровами, если тебе это вздумается. Я не хочу принуждать тебя, потому что я вижу, что ты неленива и наверное будешь стараться работать.
Катерина не была ленивой, но была нетерпелива, и это ученье в одиночестве совсем не нравилось ей, а главное, в этом не было ничего похожего на тот великий секрет, узнать который, по ее мнению, было так же легко, как проглотить чашку вкусного молока. Правда и то, что она каждый день делала небольшие успехи, и с каждым днем пряжа на ее веретене становилась все тоньше, но она сама не замечала большой разницы, и к концу недели она уже соскучилась и одобрительные слова тетушки только раздражали ее. Рене, несмотря на всю свою доброту и услужливость, тоже сердила ее своим спокойствием; обязанность Рене состояла в том, чтобы смотреть за скотом и за молочной, и ничто другое не интересовало ее. Бенуа никогда не было дома, он почти жил в лесу, и когда бывал свободен, то тотчас же уходил на охоту и не любил никакого общества, кроме общества своей собаки. Катерина часто оставалась совершенно одна, она видела тетушку только за столом, вечером. Колетта рано уходила к себе работать. Рене, добравшись до подушки, уже храпела, Катерина бродила из стороны в сторону, погруженная в свои мечты, и по временам плакала. Она повторяла про себя, что, если тетушка будет продолжать учить ее так, как теперь, то она доживет до седых волос и все-таки не выучится прясть так хорошо, как она; при этом ей приходило в голову, как будет смеяться над ней мать, когда через три месяца увидит, что дела ее нисколько не подвинулись вперед.
Однажды Катерина ушла из дома очень рано. Она дала себе слово, что на этот раз будет работать так хорошо, что тетушка принуждена будет открыть ей свой секрет. Она нарочно села между утесами, для того чтобы не видеть, что делается вокруг, и ничем не развлекаться. Но можно ли не смотреть ни на что? Она невольно взглянула наверх и увидела над собой ледяную гору и даже самую вершину горы. До сих пор она ни разу еще не видала ее, потому что над ней постоянно стоял скрывавший ее густой туман. Небо было совершенно ясно, и она начала любоваться на белые снежные зубцы, выделявшиеся в голубом воздухе; вдруг ей захотелось отправиться туда, но она знала, что это очень опасно. Рене не раз говорила ей это, тетушка Колетта также запретила ей взбираться высоко на гору и сказала, что это делают только мальчики.
Катерина вздохнула и продолжала смотреть на прекрасные снежные зубцы, до которых ей хотелось дотронуться и которые, казалось, были так близко, хотя на самом деле они были очень далеко. В эту минуту она увидела в небе волокна маленьких золотистых облаков, собиравшихся к самому верхнему зубцу горы и обвивших его точно ожерелье из огромных жемчужин. «Как это красиво, – подумала Катерина, – и как бы мне хотелось уметь прясть так тонко, чтоб можно было нанизать на нитку эти воздушные жемчужины».
Продолжая смотреть наверх, она увидела на зубце горы что-то маленькое, блестящее, похожее на розовую точку, которая была освещена солнечными лучами и которая двигалась под самым ожерельем маленьких облаков. Что бы это было? Цветок, птица или звезда?
XI
«Если бы на мне были тетушкины серебряные очки, – думала Катерина, – то я, наверное, рассмотрела бы, что это такое, потому что тетушка говорила, что в этих очках она видит то, чего никто не видит».
Однако же ей пришлось удовлетвориться только своими глазами, и, продолжая смотреть на красную точку, она увидела, что та притянула к себе все маленькие золотистые облака, которыми ее так заволокло, что ничего уже не стало видно. Из маленьких облаков, собравшихся вместе, образовалось одно огромное облако, которое сияло и оборачивалось, как золотой шар над самой вершиной горы.
Через минуту шар начал подниматься еще выше и в то же время стал уменьшаться, наконец, он сделался совершенно розовым, и Катерина услышала, что он запел таким чистым и приятным голосом, которого она никогда еще не слыхала: «Здравствуй, Катерина, узнаешь ли ты меня?»
– Да, да, – вскричала Катерина – я несла тебя в фартуке! Ты мой старый маленький друг, мое розовое облачко, вот теперь ты говоришь со мной, и я понимаю каждое твое слово. Но какое ты жестокое, мое хорошенькое облачко, ты сломало мою большую цветущую яблоню. Впрочем, я прощаю тебе это, ты такое розовенькое, и я так люблю тебя!
Облако отвечало ей:
– Твою яблоню сломало не я, Катерина, а гром, это злой дух, который закрадывается в мое сердце и который делает меня жестоким. Но смотри, каким я становлюсь кротким и спокойным в ту минуту, когда ты с любовью смотришь на меня! Не придешь ли ты как-нибудь на вершину ледяной горы? Это совсем не так трудно, как тебе говорили, напротив, это очень легко, и тебе стоит только захотеть. К тому же и я буду там, и если ты упадешь, то упадешь прямо на меня, я поддержу тебя, чтобы тебе не было больно. Приходи завтра, Катерина, приходи на рассвете дня. Я буду ждать тебя всю ночь, и если ты не придешь, то это так меня огорчит, что у меня из глаз польются крупные слезы, и весь день будет идти дождь.
– Я приду! – вскричала Катерина. – Непременно приду!
Только что она успела сказать эти слова, как послышался страшный шум, похожий на пушечный выстрел, сопровождаемый треском картечи. Ей сделалось так страшно, что она бросилась бежать, думая, что гадкое облако опять принимается за прежнее и опять хочет отплатить ей за добро злом. Когда она в испуге бежала домой, ей встретился Бенуа, который спокойно шел из леса со своей собакой.
– Это ты выстрелил из ружья или это был гром? – спросила она у него.
– А, тебя напугал этот шум, – со смехом сказал он. – Это не ружейный выстрел и не гром, это лавина.
– Что это значит?
– Это значит то, что лед тает на солнце и с треском скатывается вниз, а вместе с ним обрушиваются камни, земля и иногда деревья, если они попадают ему на дороге, и даже люди, если они не успеют убежать вовремя, впрочем, это случается не часто, несчастные случаи бывают редки, но ты должна привыкнуть к этому. Теперь у нас стоит теплая погода, и лавины будут обрушиваться каждый день и даже каждый час.
– Я постараюсь привыкнуть к этому. Кстати, Бенуа, скажи мне, пожалуйста, можешь ли ты взойти на самый верхний зубец горы? Ты ведь мальчик и, наверное, ничего не боишься.
– Ну, нет, – сказал Бенуа, – на эти зубцы нельзя влезать; впрочем, я был недалеко от них, на том месте, где они начинаются. Но теперь не такое время, чтобы можно было забавляться этим, теперь слишком жарко, как раз попадешь в трещину.
– Не можешь ли ты мне сказать, что это за красная точка, которая виднеется иногда над верхним зубцом горы?
– Так ты видела эту точку, ну, у тебя хорошие глаза! Это знамя, которое путешественники водрузили месяц тому назад на самом верхнем утесе горы, для того чтобы дать знать людям, стоявшим внизу, что они добрались до этого места. Но сильный ветер заставил их поскорее вернуться назад, и они оставили там свое знамя, которое вихрем перебросило на вершину ледника и которое, наверное, останется там до тех пор, пока буря не отцепит его.
Катерина должна была удовлетвориться объяснением Бенуа. В эту минуту у нее в голове промелькнула мысль, которая снова пришла ей на ум, когда она увидела тетушку Колетту, проходившую мимо ледяной горы в пунцовом капюшоне, покрывавшем ей голову и плечи. Тетушка шла не так далеко, и Катерина могла узнать ее, и, несмотря на то что в этот день девочка не напряла и трех онов, она все-таки бросилась к ней навстречу, держа в руках свою прялку и пустое веретено.
XII
Очутившись в нескольких шагах от тетушки, она заметила свою рассеянность, но возвращаться назад было уже поздно. Она с нерешительным видом подошла к ней и спросила ее, не устала ли она от ходьбы по ледяной горе.
– В мои лета перестают чувствовать усталость, – ответила Колетта. – Впрочем, я возвращаюсь не с ледяной горы, дитя мое. Я шла безопасными тропинками, которые всегда можно отыскать, если захочешь.
– Ведь это вы, тетушка, были там наверху час тому назад? Я видела ваш пунцовый капюшон.
– Там наверху, Катерина? Где – там наверху?
– На знаю, – сказала Катерина, запинаясь. – Мне показалось, что я видела вас в небе под облаками.
– Почему ты думаешь, что я могу подняться так высоко? Разве ты считаешь меня феей.
– Боже мой, тетушка, если бы вы были феей, то в этом не было бы ничего удивительного. Говорят, что есть добрые и злые феи, вы, разумеется, были бы доброй феей, и люди, которые приходят сюда из деревни и которых я начинаю понимать, правду говорят, что вы работаете, как фея.
– Они говорят это мне самой, – ответила Колетта. – Но это только так говорится и из этого никак нельзя заключать, что я в самом деле фея. Я вижу, что у тебя мечтательная головка, в твои годы это совершенно естественно, и мне не хотелось бы видеть тебя такой же рассудительной, как я, это было бы слишком рано. Но все-таки тебе не мешало бы иметь немножко побольше здравого смысла, моя крошка. Я вижу, что ты не много напряла сегодня!
– Ах, тетушка, вы могли бы сказать, что я ничего не напряла!
– Не плачь, дитя мое, это придет со временем, нужно только иметь терпение…
– Боже мой! Вы всегда повторяете это! – с досадой вскричала Катерина. – Право, милая тетушка, вы уж чересчур терпеливы! Вы обращаетесь со мной как с ребенком, вы думаете, что я не могу выучиться скорее, а между тем, если бы вы только захотели!..
– Но в чем же дело? – сказала тетушка. – Ты делаешь мне упреки, как будто я знаю такой секрет, который может заменить настойчивость и старание. В таком случае, объявляю тебе, что я не знаю такого секрета и никогда не знала его. Ты недоверчиво качаешь головой, у тебя есть что-то на уме, чего я никак не могу отгадать. Дитя мое, открой мне свое сердце и дай мне заглянуть в него, как в книгу.
– Я открою вам все, – сказала Катерина, садясь возле тетушки на камень, обросший мхом. – У меня лежит на совести что-то, и я думаю, что от этого я и сделалась немного глупенькой!
Катерина покаялась тогда в своем любопытстве и рассказала, как она подсмотрела через щель в комнату тетушки.
– Я ничего не увидела и ничего не узнала, потому что вас там не было, но если бы вы не вышли в эту минуту, то я увидала бы, как вы работаете, и украла бы у вас ваш секрет.
– Ты ничего не украла бы, – сказала Колетта. – Повторяю тебе опять, что я не знаю никакого секрета. Если бы ты вздумала войти в мою комнату, то оттуда могла бы пройти и в мою рабочую, которая устроена наверху. В этой комнате я чешу лен и пряду свое облако; в жилых комнатах вредно чесать лен, потому что от него летят чуть заметные былинки, которые попадают в ноздри и в легкие, поэтому я и занимаюсь этим делом в самой верхней комнате, где воздух проходит совершенно свободно и уносит с собой эти былинки, которые подействовали бы вредно как на тебя, так и на других. Но ты мне сказала не все, Катерина, ты все толкуешь об облаках: скажи мне, какое понятие ты составила себе о них? Ты, кажется, смешиваешь облака, которые на небе, с тем тонким и белым веществом, которое я пряду из льна и которое в нашей стране, где так много искусных прях, называют облаком, чтобы дать понятие о чем-то необыкновенно легком.
Катерина была задета за живое тем, что так грубо ошибалась в значении слова и предавалась самым несбыточным фантазиям, тогда как дело было очень просто. Все это, однако же, нисколько не объясняло ей собственных ее видений, и, желая облегчить свое сердце, она заговорила о своем розовом облачке и рассказала все, как было.
Колетта слушала ее, не прерывая и не делая никаких насмешливых замечаний на ее счет. Вместо того чтобы бранить ее и приказывать молчать, как то делала Сильвена, она захотела узнать все ее мечты, которые роились в этой маленькой головке, и, выслушав все до конца, она задумалась и несколько времени сидела молча. Наконец тетушка сказала:
– Я вижу, что ты любишь все чудесное, а этого нужно остерегаться. Когда я была ребенком, то тоже мечтала о розовом облаке. Потом я сделалась молодой девушкой и встретилась с ним. На нем было платье, вышитое золотом, и белый султан…
– Что вы говорите, тетушка? На вашем облаке было платье и султан?..
– Это я только так говорю, дитя мое, это было блестящее, очень блестящее облако, но и только. Это было воплощенное непостоянство, словом, это была одна мечта. Оно тоже принесло с собой грозу и тоже говорило, что это не его вина, потому что в сердце у него были громовые стрелы. И в один прекрасный день, то есть в один несчастный день, я тоже чуть не была сломана, как твоя цветущая яблоня, но после этого я перестала уже верить облакам и перестала любоваться ими. Остерегайся мимолетных облаков, в особенности берегись розовых облаков! Они всегда сулят ясную погоду, а вместо того приносят с собой грозу. Но довольно об этом, – прибавила она, – возьми свою прялку и попробуй прясть или засни немного, после этого ты лучше будешь работать. Никогда не нужно отчаиваться. Мечты улетают, а труд остается.
Катерина попробовала было прясть, продолжая разговаривать с тетушкой, но глаза ее начали слипаться, и веретено выпало из рук.
XIII
Вдруг Катерину подбросило кверху будто от страшного землетрясения. Перед ней стояла тетушка Колетта, и в первый раз она увидела ее в таком гневе. Пунцовый капюшон тетушки Колетты был откинут на плечи, ее седые волосы развевались, и прекрасное бледное лицо было окружено сиянием.
– Ты не спишь, ленивица, – сказала она Катерине голосом, полным гнева, – я уже сказала тебе, что ты должна выбрать что-нибудь – и ты выбрала, ты все мечтаешь о пустяках! Ну, вставай же и иди за мной, я вижу, что должна открыть тебе мой секрет, ты сейчас узнаешь его…
Катерина встала и полусонная последовала за тетушкой Колеттой, но она едва поспевала идти за ней, потому что старая тетушка мчалась быстрее ветра и с изумительной скоростью взлетела на лестницу, сделанную из сапфира и изумруда. Катерина вошла в великолепный алмазный дворец, в котором были разостланы на полу горностаевые ковры, а по бокам стояли хрустальные колоннады. В одну минуту она очутилась на крыше волшебного дворца.
– Мы стоим теперь на вершине ледяной горы, – сказала тетушка с ужасным смехом, – ты должна отправиться со мной еще дальше на самый верхний зубец горы. Ухватись за мое платье и пойдем! Бояться тут нечего. Розовое облако тебя давно ждет, ведь ты дала ему слово, что придешь.
Катерина ухватилась за юбку тетушки, но ноги ее скользили, и она не могла идти. Тогда тетушка сказала ей:
– Возьми вот эту веревку и иди без боязни.
Она подала ей конец нитки, такой тоненькой, что ее почти не было видно. Катерина взяла нитку, и, несмотря на то что она тянула ее изо всех сил, нитка не обрывалась.
Когда они добрались до верхних игл ледника, то тетушка вырвала у нее прялку, воткнула ее в снег и страшным голосом сказала ей:
– Так как ты не можешь справиться с прялкой, то вот это будет для тебя более приличным занятием. – И она сунула ей в руки длинную и сучковатую, как ель, метлу. Катерина неустрашимо взяла метлу в руки и с удивлением заметила, что она была очень легка.
– Ну, – сказала тетушка, – теперь ты должна мести, – и она с силой толкнула ее в пространство.
XIV
Катерина почувствовала, что она стремглав летит вниз, но это ей только показалось, она держалась в воздухе на нитке, которую тетушка обвязала вокруг своей руки, и она могла ходить по облакам так же свободно, как по лугу.
– Ну, мети же! – закричала тетушка Колетта. – Пригони ко мне все облака, они мне нужны, все до одного.
Катерина обметала, обметала облака, но все-таки не так чисто и не так скоро, как того хотелось тетушке, которая все кричала:
– Скорей же и как можно чище! Дальше, дальше! Неужели я должна выслать к тебе телегу, запряженную волами, для того чтобы ты привезла ко мне все эти облака?
Катерина бегала по всему небу и собирала облака вместе, сметая их своей огромной метлой. В одну минуту она вымела дочиста все небо.
– Теперь гони их все сюда, – опять закричала Колетта, – толкай их метлой, толкай! Я должна сделать из них одно облако, чтобы его можно было ухватить в руки!
Катерина собирала облака и гнала их к тетушке Колетте, которая укладывала их в огромную копну, покрывшую весь зубец ледяной горы.
– Теперь поди сюда, – сказала тетушка, – и помоги мне, подожди только, пока я надену очки. – Она надела на свой орлиный нос огромные серебряные очки. – Что я вижу! – вскричала она. – Ты забыла захватить розовое облако! Неужто ты думаешь, что я помилую твоего любимца. Сейчас отправляйся за ним и смотри, чтобы оно не улетело.
Катерина долго гонялась за розовым облаком. Увлекаемое ветром, оно начало уже скрываться, Катерина закинула за него нитку, на которой она держалась в воздухе, и оно в одну минуту подлетело к ней и, приютившись у нее на фартуке, запело тихим и жалобным голосом: «Милый фартучек, ты уже спас меня однажды, спаси меня и теперь! Катерина, добрая моя Катерина, сжалься надо мной, не отдавай меня пряхе!»
Катерина вернулась к тетушке, она подобрала свой фартук и крепко завязала его в надежде, что тетушка не обратит на это внимания. Та была очень занята своим делом: она складывала свою копну и уравнивала ее, потом, вооружившись чесалками, принялась чесать облака, как лен. Она работала так скоро, что в одну минуту все уже было кончено, но в то время как Катерина наклонилась, чтобы поднять охапку этих блестящих хлопьев, фартук ее развязался, и розовое облако скатилось на копну.
– Ах ты, плутовка этакая! – закричала тетушка, схватывая облако. – Ты думала, что я его не замечу! Полезай в копну, розовое облако, полезай туда же, где и другие!
– Тетушка, тетушка! Сжальтесь над ним! – вскрикнула Катерина. – Сжальтесь над моим розовым облачком.
– Привяжи его к прялке, – ответила Колетта, – теперь оно совсем расчесано, и ты должна сейчас же начать его прясть, скорей, скорей! Я приказываю тебе это!
Катерина принялась прясть и закрыла глаза, чтобы не видеть предсмертной агонии бедного облака; через минуту она услышала тихие стоны и хотела уже бросить свою прялку и убежать, но руки ее окоченели, в глазах помутилось… Она проснулась и увидела себя лежащей на камне возле тетушки, которая тоже спала.
XV
Она встала и тихо толкнула тетушку Колетту, которая поцеловала ее и сказала:
– Сегодня мы обе проленились целый день и даже успели выспаться. Не видела ли ты чего-нибудь во сне?
– Ах да, тетушка! Я видела во сне, что выучилась прясть так же, как вы, но, увы! Я пряла мое розовое облако!
– Ну, дитя мое, я должна сказать тебе, что я давно уже покончила со своим. Мое розовое облако – это была моя прихоть, моя фантазия, моя несчастная звезда. Я привязала его к прялке, и труд славный, добрый труд научил меня выпрясть такую легкую нить жизни, что я не чувствовала, как несла ее. Ты должна делать, как я, ты не можешь запретить облакам проходить мимо тебя, но ты должна запастись мужеством. Ты должна научиться ловить их и выпрясть из них такую же нить, чтобы они не могли произвести грозу ни около тебя, ни в тебе самой.
Катерина не совсем поняла то, что говорила тетушка, но с тех пор она не видела больше розового облака. Когда через три месяца приехала ее мать, то она уже пряла в десять раз лучше, нежели прежде, а через несколько лет сделалась такой же искусной пряхой, как и тетушка Колетта, наследницей которой она стала.
Говорящий дуб
В одном лесу стоял некогда толстый старый дуб, которому было, по крайней мере, пятьсот лет. Много раз гроза сносила ему голову, но каждый раз вырастала новая, на этот раз она выросла густая и широко раскинула свои ветви.
Долго ходила об этом дубе дурная молва. Старики в соседней деревне сказывали, что во время их молодости этот дуб говорил и грозил тому, кто хотел отдохнуть под его тенью. Они рассказывали, как два путешественника, прибегнув под его защиту во время грозы, были поражены ею. Один из них тотчас умер, другой же был только оглушен и успел вовремя удалиться, так как услышал предупреждавший его голос: «Уходи скорей!»
За давностью вовсе не верили в эту историю, и, хотя дуб по-прежнему назывался говорящим, пастухи подходили к нему без большого страха. Однако после приключения с Эмми все снова стали думать, что дуб этот волшебный.
Эмми был маленький свинопас, несчастный сирота, он был несчастен не потому, что его плохо кормили, плохо одевали или что вообще ему плохо жилось, а потому, что он ненавидел тех животных, пасти которых вынудила его нищета. Он боялся их, и свиньи чувствовали это, так как вообще они смышленее, чем обыкновенно полагают. Утром он гнал их в лес, где были желуди, вечером приводил на ферму. Жалко было смотреть на него, в тряпье вместо одежды, с открытой головой, с развевающимися по ветру волосами, с маленьким худеньким лицом землистого цвета, на котором отражалось что-то грустное, испуганное и страдальческое, с понурой головой и косым взглядом, он гнал перед собой стадо этих хрюкающих и всегда угрожающих животных. Видя его бегущим со стадом по темной опушке леса при красноватом отблеске первых сумерек, можно было принять и его и стадо за блуждающие огоньки ландов, гонимые сильным порывом ветра.
Бедный Эмми мог бы быть милым, хорошеньким, чистеньким и счастливым мальчиком, если бы за ним наблюдали как за вами, мои милые читатели. Он не умел читать, он ничего не умел, он и говорил-то только тогда, когда надо было спросить что-нибудь, а так как он был робок, то и то, что ему было надо, не всегда спрашивал; тем хуже было для него, потому что его забывали.
Раз как-то вечером свиньи пришли в хлев одни, пастух не явился даже к ужину. Когда съели похлебку из репы, заметили, что Эмми нет, и жена фермера послала одного из мальчиков позвать его. Мальчик возвратился и сказал, что Эмми нет ни в хлеву, ни на чердаке, где он обыкновенно спал на соломе. Решили, что он пошел к своей тетке, которая жила в окрестностях, и все улеглись спать, не беспокоясь больше о нем.
На другой день поутру пошли к его тетке и очень удивились, когда узнали, что Эмми там не ночевал. Он не возвращался в деревню со вчерашнего дня. Справились в окрестностях: никто его не видел. Искали в лесу, но все напрасно. Подумали было, что кабаны и волки съели беднягу, однако не нашли ни его посоха с короткой рукояткой, какой обыкновенно носят пастухи при себе, ни одной тряпки из его бедной одежды и заключили из этого, что он бежал из деревни, чтобы жить бродяжничеством. Фермер говорил, что ему не очень жаль мальчика, потому что он ни на что не был годен, он не любил свиней и не умел их привязать к себе.
К стаду приставили нового свинопаса, но пропажа Эмми напугала всех деревенских мальчиков, в последний раз они видели его около говорящего дуба, и, вероятно, тут и случилась с ним какая-нибудь беда. Новый свинопас ни за что бы не повел туда стадо, а остальные дети остерегались ходить играть в ту сторону.
Но что же случилось с Эмми? Я вам расскажу сейчас.
Когда он в последний раз погнал стадо в лес, то заметил на некотором расстоянии от толстого дуба кустик конских бобов в цвету. Конский боб – красивое мотыльковое растение с розовыми листьями, оно вам хорошо известно, клубни его крупны, как орехи, они сладки, но несколько жестки. Бедные дети любят лакомиться ими, так как это лакомство ничего не стоит, свиньи же – большие охотницы до него, и только они одни оспаривают его у детей.
Эмми очень хорошо знал, что конские бобы были еще неспелы, так как осень только что начиналась, но он хотел заметить то место, где они росли, чтобы выкопать их клубни из земли, как только ствол завянет. За ним бежал молодой поросенок, который принялся рыть землю и все бы испортил, если бы Эмми от досады не ударил поросенка посохом в рыло, которое слегка ему рассек. Поросенок отчаянно захрюкал. Эти животные сильно стоят друг за друга, и отчаянный призыв одного из них приводит всех других в сильную ярость против общего врага, к тому же свиньи давно были злы на Эмми за то, что он никогда не ласкал их. Они столпились все вокруг и, громко хрюкая, готовы были броситься на него. Эмми пустился бежать, свиньи погнались за ним, они ведь бегают очень скоро. Однако Эмми, не тронутый, успел добежать до толстого дуба, на который он вскарабкался и в ветвях которого спрятался. Рассвирепевшие животные остановились под дубом, хрюкали, подкапывали дерево, желая свалить его. Но у говорящего дуба были огромные корни – не под силу свиньям. Неприятель отступил только после солнечного заката и возвратился на ферму, а маленький Эмми, уверенный, что свиньи непременно сожрут его, если он пойдет с ними, решил вовсе не возвращаться в деревню.
Он знал, что дуб этот считается волшебным, но он так настрадался от людей, что не слишком боялся волшебников. Он жил в нищете, и ему поминутно попадали колотушки. Тетка его поступила с ним жестоко: она заставила его пасти свиней, тогда как очень хорошо знала, какое он питал к ним отвращение. Это чувство было у него врожденным, а тетка ставила его в вину мальчику, и, когда он приходил к ней и умолял взять его с этого места, она встречала его с пучком розог. Он очень боялся тетку, и все его желания ограничивались тем, чтобы попасть на какую-нибудь другую ферму пасти овец, где бы хозяева не были так жадны и обращались с ним получше.
В первую минуту после ухода свиней он очень обрадовался, что избавился от их разъяренного, угрожающего хрюканья, и решил провести ночь на дереве. Во время осады было не до еды, и у него остался хлеб. Он съел половину, остальную спрятал на завтрак, затем поручил себя Богу.
Дети могут спать везде. Впрочем, Эмми не спал, он был слабого здоровья, часто страдал лихорадкой и скорее грезил, чем спал. Он устроился как только мог удобнее между двумя главными ветвями, покрытыми мхом, и ему очень хотелось спать, но ветер, вдруг зашелестевший в листве и раскачавший ветви, испугал его. Это навело его на мысль о волшебниках, и он вообразил, что слышит сердитый голос, который говорил ему несколько раз: «Уходи, уходи отсюда».
Эмми сначала задрожал от страха, ему сдавило горло. Но, по мере того как ветер стихал, голос дуба становился все мягче и, казалось, нашептывал ему на ухо ласковым материнским голосом: «Уходи, Эмми, уходи!» Эмми расхрабрился и отвечал:
– Дуб, красивый дуб, не гони меня прочь! Если я спущусь на землю, волки, рыскающие по ночам, съедят меня.
– Уходи, Эмми, уходи! – отвечал еще более мягкий голос.
– Добрый говорящий дуб! – возразил также Эмми с мольбой. – Не посылай меня к волкам. Ты был добр для меня, спас меня от свиней, так будь же добр до конца, не прогоняй меня! Я бедный несчастный мальчик, который не может, да и не хочет сделать тебе никакого зла. Позволь мне переночевать здесь, завтра утром, если ты прикажешь, я уйду.
Голос более не возражал, и луна слегка посеребрила листву. Эмми заключил из этого, что дуб позволил ему остаться. А может быть он видел все во сне. Он заснул и проспал до самого утра без всяких грез. На следующее утро он слез с дуба и стряхнул росу, покрывшую его жалкую одежду.
«Надо же, однако, возвратиться в деревню, – подумал он. – Я скажу тетке, что свиньи хотели съесть меня, что мне пришлось ночевать на дереве, и она позволит мне поискать другое место».
Он доел остальной хлеб, но, прежде чем пуститься в дорогу, принялся благодарить дуб за ночлег.
– Благодарю тебя и прощай, мой добрый дуб! – сказал он, целуя кору дуба. – Я уже больше никогда не буду бояться и еще приду поблагодарить тебя.
Он прошел пустошь и направился к хижине своей тетки, как вдруг за садовой стеной фермы услыхал следующий разговор:
– А ведь наш свинопас все еще не возвращался на ферму, – сказал хозяйский сын, – он пропал, и у тетки его никто не видал. Он бессердечный лентяй, я поколочу его своими деревянными башмаками за то, что мне придется вместо него гнать в поле свиней.
– Что же за беда, что ты погонишь свиней? – возразил его брат.
– Это просто срам в мои годы, – отвечал первый, – это хорошо только для десятилетнего мальчика, такого как Эмми, но когда уже исполнится двенадцать лет, так имеешь право пасти коров или, по крайней мере, телят.
Голос отца прервал разговор детей.
– Поскорей, – сказал он, – за работу! Что же касается этого несчастного свинопаса, то если волки не съели его, тем хуже для него: если я найду его живым, так задам ему славную трепку. Пусть-ка попробует пожаловаться тетке, она уже решила запереть его на ночь в хлев вместе со свиньями, чтобы отучить от гордости и брезгливости.
Эмми намотал это себе на ус. Он спрятался в хлебной скирде и провел так целый день. Вечером коза, возвращаясь в стойло, остановилась около скирды пощипать травки. Эмми подоил ее. Коза не противилась. Он выпил в два или три приема надоенное молоко и снова спрятался в скирде, где пролежал до самой ночи. Когда уже совсем стемнело и все улеглись спать, он осторожно пробрался на свой чердак и забрал оттуда свои вещи: несколько экю, которые дал ему фермер накануне за работу и которые тетка не успела еще отобрать у него, козью и овечью шкуры, которые он носил зимой, новый ножик, маленький глиняный горшок и немного рваного белья. Он положил все это в мешок, сошел во двор, добрался крадучись до решетки, перелез через нее и пошел маленькими шажками, чтобы не делать шума. Когда он проходил мимо хлева, сердитые свиньи, почуяв его, яростно захрюкали. Тут Эмми бросился бежать изо всех своих сил, потому что боялся, что фермер проснется и пустится по его следам. Эмми остановился только под говорящим дубом.
– Вот я опять пришел, мой добрый друг, – сказал он ему. – Позволь мне провести еще одну ночь на твоих ветвях. Скажи, желаешь ли ты этого?
Дуб не отвечал. Погода была тихая, ни один листок не шевелился. Эмми принял это молчание за знак согласия. Он ловко залез со своей ношей до того места, где было углубление в ветвях, в котором он проспал всю ночь накануне, и славно заснул.
Поутру он принялся разыскивать, нет ли где уютного местечка, чтобы спрятать деньги и багаж, он боялся, что его могут заметить и привести силой на ферму. Он поднялся повыше и увидел в толстом древесном стволе выжженную грозой яму, вокруг которой наросшая в течение многих лет кора образовала толстый валик. В глубине этой ямы был пепел и щепки от искрошенной грозой сердцевины дерева.
«Вот теплая и мягкая постель, – подумал мальчик, – на которой я могу спать, не опасаясь слететь на землю. Она велика, но для меня как раз впору. Надо, однако, посмотреть, не живет ли тут какой-нибудь злой зверь».
Он осмотрел внутренность ямы и нашел в ней отверстие, через которое мог проходить дождь. Эмми видел, что нетрудно его законопатить мхом. Тут же в проходе сова свила себе гнездо.
«Я не трону ее, – подумал Эмми, – а только отгорожусь от нее так, чтобы у каждого из нас был свой уголок».
Приготовив себе в яме постель для следующей ночи, он спрятал в нее свое имущество, а затем, усевшись на краю ее, свесил ноги и, упираясь ими о сучья, принялся раздумывать о том, что ведь, пожалуй, можно жить и на дереве, только было бы лучше, если бы это дерево стояло посреди леса, а не на опушке, где проходят пастухи и свинопасы со стадами. Он не мог знать, что после того, как он исчез, волшебный дуб стал всем внушать такой страх, что никто не осмеливался и приблизиться к нему.
Эмми вообще мало ел, но так как накануне поел чересчур плохо, то был очень голоден. Он не знал, вырыть ли ему еще неспелые клубни бобов, которые видел вчера, или отправиться в лес за каштанами.
Когда он собрался спуститься с дерева, то заметил, что ноги его упирались в сучок не старого дуба, а другого, росшего подле дерева, густая листва которого переплеталась с листвой дуба. Эмми влез на этот сучок и добрался до соседнего дерева, а с него так же легко и до следующего. Легкий, как белка, перепрыгивал он с одного дерева на другое и добрался таким образом до каштана, с которого набрал много плодов. Они были еще слишком мелки и незрелы, но он не обратил на это внимания, а спустился с дерева и побежал в глушь к печи, где угольщики выжигали прежде уголь. Место это было окружено молодыми деревьями, которые разрослись с тех пор, как угольщики покинули его. Тут лежало много мелких до половины обгоревших щепок. Эмми собрал их в кучу и принялся высекать огонь, ударяя камешком по тупой стороне ножа до тех пор, пока не показались искры и от них не загорелись сухие листья, после чего Эмми смог развести огонь. Он подумал, что хорошо бы набрать гнилого дерева, которого много было в лесу, для того чтобы заменить им трут.
Он зачерпнул из канавы воды и сварил каштаны в маленьком глиняном горшке с крышкой в дырочках. Каштаны обыкновенно варят в таких горшках, и у всякого пастуха в наших деревнях непременно есть такой горшок.
Эмми часто случалось самому готовить себе еду. Ферма была довольно далеко от того места, куда он гонял стадо, а потому он проводил весь день в лесу и только к вечеру пригонял стадо домой. На лужайке он набрал малины и дикой ежевики и полакомился ими.
«Вот, – подумал он, – какую славную кухню я нашел».
Он принялся очищать ручеек, протекавший вблизи, достал из него посохом водяную траву, выкопал яму и, проведя в нее воду из небольшого водопада, очистил ее камушками и песком. Эмми работал до солнечного заката. Затем поднял свой горшок и посох и, забравшись на ветви, в прочности которых убедился, возвратился тем же путем к своему дубу. Он притащил большую охапку папоротника и сухого мха и устроил себе постель в очищенном углублении дуба. Эмми слышал, как его соседка сова что-то ворчала над его головой. «Она или бросит это гнездо, или привыкнет ко мне, – подумал он. – Ведь добрый дуб столько же ее, сколько и мой».
Мальчик не скучал, так как привык жить один. Он даже чувствовал себя отчасти счастливым, что отделался от свиней. Он привык к волчьему вою и не боялся волков, он знал, что они живут в глубине леса и не придут к окрестностям дуба, где им нечем поживиться. Эмми изучил их привычки. Он знал, что в ясные дни они никогда не выходили из лесной чащи. В пасмурные же случалось иногда, что ему попадался какой-нибудь волк. Тогда Эмми, обернувшись, ударял ножом о железо своего посоха, как будто заряжал ружье, и волк убегал в ту же минуту. Что же касается до кабанов, то Эмми никогда их не видел, а только иногда слышал их рев, эти животные никогда не нападают сами на человека.
Когда каштаны созрели, Эмми набрал их в запас и спрятал в дупле другого дерева, стоявшего неподалеку от дуба, но крысы и полевые мыши принялись таскать их, так что пришлось закопать их в песок, чтобы они сохранились до весны. Впрочем, у Эмми не было недостатка в пище. Степь была совершенно пустынна, так что он мог бы ночью добраться до огородов и поживиться там картофелем и репой, но это означало бы воровать, а эта мысль внушала ему отвращение.
Он также набрал большой запас конских бобов, собирал на пастбищах волосы, выпавшие из лошадиных хвостов, и делал из них силки для жаворонков. Пастухи умеют извлекать из всего пользу, у них ничего не пропадает даром. Эмми набил себе подушку клочками шерсти, которые набрал с терновников, затем сделал прялку и выучился прясть самоучкой. Он отломил от сломанной решетки кусок проволоки и смастерил из нее вязальные спицы и силки для кроликов. Таким образом, он имел возможность вязать себе чулки и есть мясо.
Он сделался очень искусным охотником, хорошо изучил образ жизни и привычки зверей, словом, познакомился со всеми тайнами полей и лесов и ставил свои западни наверняка, так что у него всегда было изобилие пищи.
Даже в хлебе не было у него недостатка благодаря одной старой нищенке-дурочке, которая каждую неделю, возвращаясь домой, садилась отдыхать под дубом и снимала со спины котомку, полную хлеба. Эмми, подстерегавший всегда старуху, спускался с дерева, покрыв предварительно голову козьей шкурой, и выменивал у нее хлеб на дичь. Неизвестно, боялась ли она Эмми, но всегда смеялась при его появлении своим безумным смехом и охотно выменивала хлеб на дичь.
Таким образом прошла зима, которая была очень теплой, наступившее за ней лето было жаркое, и часто бывали грозы. Сначала Эмми очень боялся грозы, она часто поражала ближайшие к дубу деревья, но ни разу молния не попала на говорящий дуб. Эмми заметил, что это происходило оттого, что другие деревья были высокие с конусообразной вершиной, тогда как у говорящего дуба вершина была плоская, так как она была уже прежде выжжена молнией. Мало-помалу мальчик дошел до того, что беззаботно спал во время грозы, как и соседка его сова.
Эмми, несмотря на свое уединение, не имел времени скучать, он постоянно был озабочен мыслью о насущном пропитании и о сохранении своей свободы. Многие, может быть, сочли бы его ленивцем, но он сам очень хорошо сознавал, что ему надо было гораздо больше трудиться, живя в лесу, чем на ферме. Этот самостоятельный образ жизни был также полезен для него и в том отношении, что благодаря ему он приобрел смышленость, отвагу и предусмотрительность. Однако, когда эта исключительная жизнь устроилась по его желанию и стала требовать меньше времени и забот, – совесть начала задавать ему некоторые затруднительные вопросы. Мог ли он жить всегда так за счет леса, не служа никому и не принося пользы своим ближним?
Он питал какую-то дружбу к Катишь – старой дурочке, у которой выменивал хлеб на кроликов и жаворонков. Так как она была идиотка и почти ничего не говорила, а следовательно, и не рассказывала никому об их свиданиях, Эмми перестал ее опасаться и стал ей показываться с открытым лицом. Она всякий раз хохотала от радости, когда он спускался с дуба. Эмми удивлялся тому, что сам был рад не меньше дурочки, он чувствовал, что присутствие живого существа, как бы оно унижено не было, все-таки – благодеяние для того, кто осужден жить в одиночестве.
Однажды Катишь показалась ему менее тупоумной, чем обыкновенно, он попробовал заговорить с ней и спросил, где она живет. Она вдруг перестала смеяться и сказала ясно серьезным тоном:
– Хочешь идти со мной, малютка?
– Куда?
– Ко мне в дом. Если бы ты захотел заменить мне сына, я бы тебя сделала счастливым и богатым.
Эмми очень удивился, что старая Катишь говорит так разумно и ясно.
Любопытство подстрекнуло его, и ему захотелось пойти с ней, но порыв ветра зашелестил ветви над его головой, и он услыхал голос дуба, который говорил ему: «Не ходи туда».
– Прощайте! Желаю вам доброго пути, – сказал он старухе, – мое дерево не хочет, чтобы я его покинул.
– Твое дерево глупо, – возразила Катишь, – или, скорее, глуп ты сам, что веришь, будто деревья могут говорить.
– Вы не верите, что деревья говорят? – спросил Эмми. – Вы очень ошибаетесь.
– Все деревья говорят, когда ветер раскачивает их, но они не сознают того, что говорят.
Эмми не понравилось положительное объяснение такого чудесного явления, и он ответил Катишь:
– Вы сами говорите чепуху. Если другие деревья не понимают того, что говорят, так мой дуб, по крайней мере, знает, чего хочет и что говорит.
Старуха пожала плечами, подняла свою котомку и, снова захохотав своим глупым смехом, отправилась дальше.
Эмми задумался о том, действительно ли она дурочка или только ею представляется. Когда она ушла, он отправился украдкой за ней, перепрыгивая с дерева на дерево. Она шла тихо, согнувшись, с опущенной головой, с полуоткрытым ртом, со взглядом, устремленным вперед, но, несмотря на изнуренный вид, она шла ровным шагом, не ускоряя и не замедляя его, она прошла через лес в течение добрых трех часов и добралась до бедной деревушки, расположенной на холме, за которым раскидывался на необозримом пространстве другой лес. Эмми видел, как она вошла в жалкую хижину, стоявшую особняком от других лачуг.
Он не смел пуститься за опушку леса и повернул назад, убежденный в том, что если у Катишь был свой уголок, то он был беднее и хуже углубления в говорящем дубе.
Он возвратился домой вечером, измученный усталостью, но довольный тем, что добрался до своего жилища. Из этого путешествия он узнал, как обширен лес и что вблизи находится деревня, но эта деревня на вид была гораздо беднее той, в которой он родился. Вся эта местность представляла собой степь, на которой не было ни малейшего клочка обработанной земли, скот, который местами пасся около домов, был очень тощ. За деревней на горизонте чернел лес. Эмми не мог надеяться, что в такой деревне найдется для него какое-нибудь занятие или ремесло.
В конце недели Катишь пришла в обыкновенное время. Она возвращалась из деревни, и Эмми спросил, не знает ли она чего-нибудь про его тетку, – чтобы посмотреть, станет ли старуха отвечать ему так же толково, как в последний раз.
Она отвечала очень ясно:
– Большая Наннетта вышла замуж, и, если ты возвратишься к ней, она постарается извести тебя, чтобы от тебя избавиться.
– Понимаете ли вы, что говорите? – спросил Эмми. – Правда ли это?
– Я тебе говорю правду. Тебе остается или возвратиться к своему хозяину и жить снова со свиньями, или искать пропитания со мной: выбирай любое. Тебе нельзя будет постоянно жить в лесу. Он продан, и, вероятно, скоро срубят старые деревья. Твой дуб будет срублен, как и другие. Верь мне, мальчик, – нигде нельзя жить, не зарабатывая денег. Пойдем со мной, ты поможешь мне зарабатывать их много, а когда я умру, то оставлю тебе все деньги, которые у меня есть.
Эмми очень удивился, что дурочка так рассуждает, он взглянул на свой дуб, как бы спрашивая его совета, и стал прислушиваться.
– Оставь в покое этот старый чурбан, – сказала Катишь. – Будь умнее, пойдем со мной.
Так как дерево не произнесло ни слова, Эмми пошел со старухой. Дорогой она рассказала ему свою таинственную историю.
– Я родилась далеко отсюда, – начала она, – и была, как и ты, бедной сиротой. Я выросла в нищете и вынесла много побоев. Как и ты, стерегла я свиней и так же боялась их. Я так же, как и ты, бежала от них и, проходя через реку по старому сгнившему мосту, упала в воду, и меня вытащили полумертвой. Доктор возвратил мне жизнь, но я оглохла, не могла говорить и стала идиоткой. Доктор из человеколюбия оставил меня у себя; так как он был небогат, то по временам местный священник делал сборы в мою пользу, и дамы приносили мне платья, вина, сласти и все, в чем я нуждалась и не нуждалась. За мной заботливо ухаживали, и я стала поправляться. Я ела хорошее мясо, пила сладкое вино, зимой в моей комнате топился камин, словом, я жила, как принцесса, и доктор был доволен.
– Она уже слышит, что ей говорят, и находит слова для ответа, – говорил он. – Через два или три месяца она будет в состоянии честно зарабатывать свой хлеб.
И все эти прекрасные дамы спорили между собой из-за того, кто из них возьмет меня к себе. Лишь только я выздоровела, для меня нашлось место, но я не любила работать, и хозяева были недовольны мной. Мне хотелось быть горничной, но я не умела ни шить, ни причесывать, меня заставляли таскать воду из колодца, щипать дичь, а это мне надоело. Я ушла с этого места, думая, что на другом будет лучше. Но там было еще хуже, меня называли неряхой и ленивой. Старый доктор умер. Меня стали везде гнать, и после того, как я была всеобщей любимицей, мне пришлось уйти из этого города таким же образом, как и пришла в него, то есть выпрашивая подаяние, но тут я была еще несчастнее прежнего. Я уже испытала хорошую жизнь, а мне подавали так мало, что едва хватало на хлеб. Находили, что я очень молода и здорова для того, чтобы нищенствовать. Мне говорили: «Поди, работай, лентяйка, стыдно в твои годы шататься по улицам, когда ты можешь очищать от камней поля за шесть су в день».
Я притворилась, что хромаю, для того чтобы возбудить сострадание, но меня все-таки находили довольно сильной для работы. Тогда я вспомнила, что когда я была идиоткой, то все жалели меня. Я придала своей наружности тот вид идиотки, который был у меня во время болезни, я стала хихикать вместо того, чтобы говорить, и так хорошо разыгрывала свою роль, что деньги и булки снова посыпались в мою суму. Вот так-то я и скитаюсь целых сорок лет, и никогда еще никто не отказывал мне в подаянии. Те, которые не могут дать мне денег, дают сыру, плодов, хлеба столько, что я не в силах унести всего. Излишками я откармливаю цыплят, которых посылаю продавать на рынок, и эта торговля приносит мне большие барыши. У меня есть хороший дом в деревне, куда я веду тебя. Сторона эта бедная и жалкая, но здешние жители не бедствуют. Мы здесь нищие и притворяемся калеками, все мы поутру расходимся по разным местам просить милостыню, условившись заранее, кому куда идти. Таким образом, каждый обделывает свои делишки, как ему хочется, но никто не ведет их так хорошо, как я. Я лучше всех умею прикидываться, что не в состоянии работать.
– Никогда бы, – прервал ее Эмми, – не подумал я, что вы можете говорить так, как вы теперь говорите.
– Да, да, – отвечала, захихикав, Катишь, – ты хотел провести меня и запугать, когда спускался с дерева наряженный, как пугало, чтобы выманить у меня хлеба. Я притворялась, что боюсь, но я сразу узнала тебя и подумала: этому бедному мальчику придется-таки раз прийти в Урсин-ле-Буа, и он будет рад поесть моего супа.
Беседуя таким образом, Эмми и Катишь пришли в Урсин-ле-Буа, так называлось уже знакомое Эмми местечко, где жила притворявшаяся дурочка.
В этой печальной деревушке не было ни души. Домашний скот бродил без всякого присмотра по пустоши, в изобилии поросшей волчцом и принадлежавшей безраздельно жителям всей деревни. Улицы были возмутительно неопрятны, из домов несся гнилой душный запах, на кустах, где птицы оставили свои следы, было развешено для просушки рваное белье. На полусгнивших соломенных крышах росла крапива – словом, на всем лежал отпечаток действительной или притворной нищеты и запустения. Эмми, привыкший к свежей зелени и благоухающему воздуху леса, почувствовал невольное отвращение к этой грязной деревне. Он продолжал, однако, идти за старой Катишь, которая привела его в хижину из битой глины, похожую по наружности скорее на свиной хлев, чем на человеческое жилье. Внутренность ее, однако, была далеко не так неприглядна.
Стены были покрыты соломенными циновками, на кровати были матрацы и хорошие шерстяные одеяла. В хижине было множество всякой провизии: зернового хлеба, шпику, овощей, плодов, бочонки и даже запечатанные бутылки с вином. На заднем дворе был курятник полный кур, по двору расхаживали жирные утки, откормленные хлебом и отрубями.
– Видишь, – сказала Катишь Эмми, – я позажиточнее твоей тетки, она каждую неделю подает мне милостыню, а если бы я захотела, то могла бы лучше одеваться, чем она. Загляни-ка в мои шкафы, а я тем временем состряпаю тебе такой ужин, какого ты отроду не едал.
Пока Эмми рассматривал то, что было в шкафах, старуха развела огонь и, вытащив из своей котомки козью голову, сделала из нее и из остатков разных кушаний фрикассе, которое щедро приправила солью, прогорклым маслом и попорченными овощами, все это она добыла в свое последнее странствование. Нельзя сказать, чтобы эта необыкновенная стряпня особенно понравилась Эмми, он ел ее скорее с удивлением, чем с удовольствием; после еды старуха стала принуждать его выпить полбутылки красного вина. Эмми прежде никогда не случалось пить вина, и оно ему не понравилось; чтобы показать ему пример, Катишь выпила сама целую бутылку и стала чрезвычайно откровенна. Она начала хвастаться, что умеет воровать еще лучше, чем выпрашивать милостыню, и дошла даже до того, что показала ему кошель, который хранила под одним из камней очага, в нем было более чем на две тысячи франков золотых монет с различными изображениями, но так как Эмми не знал счет деньгам, то и не мог вполне оценить богатство мнимой нищей.
– Теперь, – сказала она, когда он все осмотрел, – я думаю, ты не захочешь оставить меня. Мне нужен мальчик, и если ты согласен служить мне, я тебя сделаю своим наследником.
– Благодарю, – отвечал Эмми, – но я не хочу нищенствовать.
– Ну так воруй для меня.
Слова эти рассердили Эмми, но старуха сулила свести его завтра в Мавер, где будет большая ярмарка, а так как ему хотелось познакомиться с местностью, где бы он мог честно зарабатывать хлеб, то он отвечал, скрыв свою досаду:
– Я не сумею воровать, я этому никогда не учился.
– Ты лжешь, – возразила Катишь, – ты очень ловко воруешь в серанском лесу дичь и плоды. Неужели ты думаешь, что они никому не принадлежат? Ведь ты знаешь, что тот, кто не работает, живет за счет других. Давно этот лес уже почти оставлен. Хозяин его был старый богач, бросивший все дела, он даже не заставлял стеречь свой лес, но теперь он умер, и все изменится; как ты не прячься в своей норе как крыса, тебя схватят и отведут в тюрьму.
– Зачем же вы хотите, чтобы я воровал для вас? – возразил Эмми.
– А затем, что тот, кто уже умеет воровать, никогда не попадется. Поразмысли-ка об этом, а пока ляжем спать, теперь уже поздно, а завтра нам надо встать со светом, чтобы отправиться на ярмарку. Я тебе сделаю постель на сундуке, славную постель с подушкой и одеялом. Ты будешь первый раз в жизни спать как принц.
Эмми не смел возражать. Когда старая Катишь не представлялась идиоткой, в ее взгляде и голосе было что-то страшное. Он лег, в первую минуту постель показалась ему великолепной, но затем оказалась очень неудобной. Мальчику было жарко на пуховой подушке и под шерстяным одеялом. От недостатка свежего воздуха и от тяжелого кухонного запаха, как и от выпитого вина, у него сделалась лихорадка. Он вскочил в испуге и хотел было выйти из хижины, чтобы провести ночь на открытом воздухе, но Катишь уже храпела, а дверь была загорожена. Эмми покорился своей участи и решил лечь на стол, горько сожалея о своей мягкой моховой постели в древесном дупле.
На следующее утро Катишь дала ему корзину с яйцами и три пары кур для продажи и строго наказала, чтобы он шел на некотором расстоянии от нее и не показывал вида, что знает ее.
– Если узнают, что я торгую, – сказала она ему, – то мне более уже не станут подавать милостыню.
Она назначила ему, за какую цену мог он продавать товар, и если он обманет ее в деньгах, то она сумеет отобрать у него утаенное.
– Если вы мне не доверяете, – отвечал оскорбленный Эмми, – так продавайте сами ваш товар, а меня отпустите.
– Не пытайся бежать, – сказала старуха, – я сумею отыскать тебя, где бы ты ни был, не возражай, а слушайся.
Он пошел на некотором расстоянии от нее, как она требовала. Вскоре он увидел, что вся дорога была заполнена нищими, одни были ужаснее других. То были жители Урсина, они шли все вместе лечиться к чудотворному источнику. Все они были калеки или покрыты отвратительными язвами. Каждый из них, выкупавшись в источнике, выходил из него здоровый и веселый. Чудо это понятно, так как немощи их были притворные, к концу недели исцелившиеся снова заболевали для того, чтобы в следующий праздник снова вылечиться.
Эмми продал яйца и кур, отдал старухе деньги, а сам, повернувшись к ней спиной, скрылся в толпе. Он на все таращил глаза, всем восхищался, всему удивлялся. Не успел он вдоволь насмотреться на комедиантов, одежда которых была покрыта блестками и которые показывали диковинные фокусы, как вдруг услышал вблизи престранный разговор. Эмми узнал голос Катишь, другой был сильный голос хозяина комедиантов. Их отделяло от Эмми только полотно балагана.
– Если вам удастся напоить его, – говорила Катишь, – то его можно ко всему принудить. Это простодушный малый, непригодный мне ни на что, который вот уже около года живет в лесу один в дупле старого дерева, он легок и ловок, как обезьяна, и не тяжелее козленка, и вы можете обучать его самым трудным фокусам.
– Вы говорите, он за большим не погонится? – спросил комедиант.
– Нет, он мало думает о деньгах. Вы будете его кормить, а ему и в голову не придет требовать от вас вознаграждения.
– А если он убежит?
– Вот еще! Побои выбьют из него охоту бежать.
– Приведи его, я хочу его видеть.
– А дадите мне двадцать франков?
– Дам, если найду, что он годен для меня.
Катишь вышла из балагана и очутилась лицом к лицу с Эмми, которому сделала знак, чтобы он шел за ней.
– Нет, я не пойду, – отвечал Эмми, – я слышал, что вы говорили. Я не так глуп, как вы думаете. Я не хочу идти с этими людьми для того, чтоб они меня били.
– А все-таки пойдешь, – ответила Катишь, крепко схватив его за руку, и потащила к балагану.
– Я не хочу, не хочу! – кричал мальчик, вырываясь, и свободной рукой схватился за блузу крестьянина, стоявшего возле и смотревшего на представление. Крестьянин обернулся и, обращаясь к Катишь, спросил, ее ли это мальчик.
– Нет, нет! – кричал Эмми. – Она мне не мать и вовсе не родная, а хочет продать меня за луидор этим комедиантам.
– А ты не хочешь этого?
– Нет, я не хочу! Вырвите меня из ее когтей! Посмотрите, вон уже у меня кровь на руке.
– Что это за женщина? И кто этот мальчик? – спросил жандарм Эрамбер, привлеченный криками Эмми и воплями Катишь.
– Эта старуха, – отвечал крестьянин, которого Эмми все еще держал за блузу, – хотела продать мальчика канатным плясунам, но ей помешали, дело обошлось без вас, господин жандарм.
– Мы, жандармы, никогда не лишние, друг мой. Я должен знать всю эту историю, – и, обращаясь к Эмми, сказал: – Расскажи, как было дело.
При виде жандарма Катишь выпустила Эмми и хотела бежать, но жандарм схватил ее за руку, она тотчас же приняла вид идиотки, захихикала и загримасничала. В ту минуту, как Эмми хотел отвечать, она бросила на него умоляющий взгляд, в котором отразился ужас. Эмми очень боялся жандармов и вообразил, что если он обвинит Катишь, то Эрамбер тут же ей и отрубит голову своей большой саблей. Ему стало жаль ее.
– Оставьте ее, господин жандарм, – сказал он, – она идиотка, она только попугала меня, но не хотела сделать мне ничего дурного.
– Ты знаешь ее? – спросил жандарм. – Ведь ее зовут Катишь. Она только представляется дурочкой. Говори правду.
Новый взгляд нищей придал Эмми мужества солгать еще раз, чтобы спасти ей жизнь.
– Я ее знаю, – проговорил он, – она невиновата.
– Я знаю, что она такое, – отвечал жандарм, отпуская Катишь. – Иди, старуха, своей дорогой, но не забывай, что я давно слежу за тобой.
Катишь убежала, и жандарм удалился.
Эмми, боявшийся жандарма еще больше старухи, не выпускал из рук блузы дедушки Венсена. Так звали крестьянина, который принял его под свою защиту, у него было доброе, кроткое и веселое лицо.
– Послушай, малый, – сказал старичок, – отпустишь ли ты меня наконец? Тебе теперь нечего бояться, чего же ты хочешь? Может быть, ты просишь милостыни? Хочешь су?
– Нет, благодарю вас, – отвечал Эмми, – я теперь всех боюсь и не знаю, как выбраться отсюда.
– Куда ты хочешь идти?
– Мне бы хотелось возвратиться в серанский лес, миновав Урсин-ле-Буа.
– Ты живешь в Серане? Мне очень легко провести тебя, потому что я иду в этот лес. Подожди меня здесь, под этим крестом, я только поужинаю в беседке и приду за тобой.
Эмми нашел, что деревенский крест стоит очень близко от балагана комедиантов, ему лучше хотелось бы идти с дедушкой Венсеном в беседку, тем более что ему прежде, чем пуститься в путь, надо было подкрепить силы.
– Если вам не стыдно, – сказал ему Эмми, – то позвольте мне съесть подле вас кусок хлеба с сыром. У меня есть деньги, вот возьмите мой кошелек и заплатите за нас обоих, мне бы хотелось, чтобы вы поужинали за мой счет.
– Ого, какой ты честный и щедрый малый! – вскричал, смеясь, дедушка Венсен, – но у меня пустой желудок, а в твоем кошельке не бог весть сколько. Пойдем вместе. Возьми твои деньги назад, мальчуган, у меня хватит заплатить за нас обоих.
Пока они ели, Эмми рассказал дедушке Венсену всю свою историю.
– Я вижу, – сказал старик, когда Эмми кончил свой рассказ, – что ты неглупый и добрый малый, потому что не соблазнился луидорами Катишь и не захотел, чтобы ее отвели в тюрьму. Забудь ее, но не оставляй леса, так как тебе хорошо там. От тебя зависит не быть в лесу одиноким. Я отправлюсь туда затем, чтобы приготовить помещение для двадцати рабочих, которые будут вырубать лес между Сераном и Ла-Планшем.
– Вы будете вырубать лес? – спросил опечаленный Эмми.
– Мы вырубим только часть леса, но не тронем твоего приюта в говорящем дубе, старые деревья не станем вырубать. Будь спокоен, тебя никто не потревожит, но ты мог бы работать вместе с нами. У тебя еще мало силы, чтоб управлять резаком или топором, но ты достаточно ловок для того, чтобы приготовлять связки хвороста, помогать рабочим, которым всегда нужен мальчик для разных поручений, и приносил бы им обед. Я взял на себя подряд вырубки леса. Рабочие получают плату поштучно, то есть за каждое срубленное дерево. Советую тебе положиться на меня относительно работы и платы. Старая Катишь была права, говоря тебе, что тот, кто не хочет работать, должен сделаться вором или нищим, а так как ты не хочешь быть ни тем ни другим, то возьмись за работу, которую я тебе предлагаю, благо представляется случай.
Эмми принял это предложение с радостью. Дедушка Венсен внушал ему полное доверие. Он отдал себя в его распоряжение, и они вместе отправились в лес.
Когда они добрались до него, была уже ночь. Дедушка Венсен хорошо распознавал дорогу, но затруднялся в темноте найти то место, откуда было назначено начать вырубку леса; Эмми видел впотьмах зорко, как кошка, и провел старика к этому месту кратчайшим путем. Они нашли здесь шалаш, приготовленный рабочими, которые пришли сюда еще накануне. Это был шалаш с остроконечной кровлей, сделанный из кольев, переплетенный ветвями и прикрытый сверху большими пластами мха. Венсен представил Эмми рабочим, они ласково обошлись с мальчиком. Он поел горячего супа и заснул крепким сном.
На следующее утро мальчик принялся за работу: надо было разводить огонь, стряпать, мыть горшки, ходить за водой, в остальное время помогать строить новые шалаши для других двадцати рабочих, которые должны были прийти. Дедушка Венсен, распоряжавшийся всеми работами, был удивлен сметливостью, ловкостью и проворством Эмми. Его нечего было учить как за что взяться, он сам мог поучить других, и все рабочие говорили про него, что он не ребенок, а какой-то колдун, которого послали им добрые лесные духи. Так как Эмми был послушен и скромен, то все полюбили его, и самые грубые из дровосеков отдавали ему приказания ласковым тоном.
Через пять дней Эмми спросил дедушку Венсена, не позволит ли он ему провести воскресенье, где ему вздумается.
– Ты можешь идти куда хочешь, – отвечал старик, – но я бы посоветовал тебе сходить в деревню и повидаться с теткой и с другими тамошними жителями. Если в самом деле тетка не захочет опять тебя взять к себе, то, по крайней мере, она будет довольна тем, что ты можешь сам зарабатывать себе хлеб без всяких хлопот с ее стороны; если же ты думаешь, что тебя поколотят на ферме за то, что ты оставил стадо, то я пойду с тобой и заступлюсь. Будь уверен, мой милый, что труд – лучший паспорт и что благодаря ему можно многое забыть и простить.
Эмми поблагодарил старика за добрый совет и исполнил его. Тетка думала, что его нет уже в живых, и очень испугалась, увидев его; Эмми умолчал о всех своих приключениях, но сказал ей, что работает у дровосеков и что никогда больше не будет ей в тягость. Дедушка Венсен подтвердил его слова и прибавил, что заботится о нем и любит его, как родного сына. Точно так же говорил он и на ферме, где их обоих хорошо приняли. Большая Наннетта разыграла из себя добренькую, при всех поцеловала Эмми и дала ему кое-какое старье из одежды и сыру. Словом, Эмми, примирившийся со всеми и оправданный, отправился обратно в лес со старым дровосеком.
Когда они прошли пустошь, он сказал дедушке Венсену:
– Вы не рассердитесь на меня, если я проведу ночь в дупле моего дуба? Я обещаю вам, что еще до солнечного восхода приду на работу.
– Делай что хочешь, – отвечал дровосек, – но что тебе за охота спать, как птица на насесте!
Эмми объяснил ему, что любит этот дуб, как человека, дровосек выслушал его, улыбаясь, такая привязанность к дереву отчасти удивила его, но он поверил Эмми. Ему захотелось видеть норку Эмми в дубе, и он проводил мальчика до него. Старик должен был влезть на дерево, чтобы видеть приют Эмми, он был еще силен и ловок и мог легко пролезть между ветвями.
– В дупле уютно, – сказал дедушка Венсен, спускаясь с дерева, – но придет время, когда тебе нельзя будет спать в нем, кора на дереве все нарастает и свертывается около отверстия, так что со временем совсем закроет его, а ты не будешь же вечно такой тоненький, как соломинка. Впрочем, если ты так любишь это дупло, то можно вырубить его пошире, хочешь, я вырублю?
– Нет, нет! – вскричал Эмми. – Я не хочу рубить мой дуб, ведь он умрет от этого.
– Не умрет, – возразил дедушка Венсен, – если вырубить больное место в дереве, то оно будет еще лучше расти.
– Нет, я подумаю, когда придет пора, – отвечал Эмми.
Он простился со стариком Венсеном, и они расстались.
Эмми очень обрадовался, что очутился опять в своем старом жилье. Ему казалось, что прошел уже целый год с тех пор, как он оставил его. Он вспомнил об ужасной ночи, проведенной у Катишь, и предался очень разумным размышлениям о различии склонностей по отношению образа жизни. Он раздумывал о нищих, населяющих Урсин-ле-Буа, которые считали себя богатыми, потому что в соломенных тюфяках были зашиты луидоры, они жили в смрадных лачугах и терпели позор и унижение, тогда как он прожил целый год один, не прибегая к нищенству, – среди роскошной листвы дуба, наслаждаясь запахом фиалок и других цветов, пением соловьев и малиновок, ни в чем не нуждаясь, не терпя ни от кого унижения, ни с кем не ссорясь, наслаждаясь здоровьем и не питая в сердце никакого дурного и ложного чувства. Все жители деревни Урсин, начиная с Катишь, говорили, что у них больше денег, чем нужно на постройку хорошеньких хижин, на обработку садиков и на разведение скота, но леность мешала им пользоваться тем, что они имели, и они коснели в бесчестной жизни. Они как будто гордились тем, что внушают отвращение и презрение и обкрадывают настоящих бедняков, которые страдают не жалуясь. Какое печальное и постыдное безумие, и как дедушка Венсен был прав, говоря, что труд красит жизнь!
Эмми, боявшийся проспать, проснулся еще за час до рассвета и посмотрел вокруг. Луна, вышедшая поздно с вечера, еще сияла на небе, птицы еще не просыпались, сова не возвращалась из своего ночного путешествия.
Тишина приятна, но в лесу редко бывает совершенно тихо, так как в нем вечно слышен шелест, скрип, падение листьев и разные другие звуки. Эмми наслаждался этой тишиной и как бы черпал в ней новые силы после оглушительной суматохи на ярмарках. Он припомнил звуки шарманки комедиантов, спор покупателей с продавцами, визг рысей и рев волынок, крики испуганных животных, хриплые песни гуляк, – одним словом, все, что удивляло его, забавляло или приводило в ужас. Какая огромная разница между этим гамом и таинственными, внушающими благоговение голосами леса! С рассвета поднялся легкий ветерок и слегка закачал верхушки деревьев. Вершина дуба как будто заговорила:
– Не горюй, будь спокоен и счастлив, маленький Эмми.
«Все деревья говорят», – сказала ему Катишь.
«Это правда, – подумал Эмми, – каждое дерево имеет свой особенный голос и поет или стонет на свой лад. Катишь говорит, будто деревья не понимают того, что говорят, это неправда, – старая колдунья лжет, потому что она недобрая. Она-то их не понимает, а что они радуются и жалуются – это верно».
В назначенный час Эмми был на месте рубки. Он проработал тут все лето и всю зиму. Всякую субботу проводил он ночь в дупле своего дуба, а по воскресеньям ходил ненадолго в серанскую деревню к знакомым и затем возвращался в свой приют. Он вырастал, но все-таки был худощав и легок по-прежнему. У него было живое, милое личико, которое всем нравилось, одежда его всегда отличалась опрятностью. Дедушка Венсен выучил его читать и писать. Все восхищались его умом, и тетка его, у которой не было детей, хотела взять его к себе.
Но Эмми любил только лес. Он видел и слышал в нем такие вещи, которые другие не слыхали и не видели. В длинные зимние ночи он особенно любил смотреть на сосны, хлопья снега, покрывавшие их черные ветви, имели мягкие, белые очертания; при легком ветерке ветви тихо качались, будто таинственно разговаривали между собой. Чаще всего они были так неподвижны, как будто спали, и Эмми смотрел тогда на них с уважением и страхом. Он боялся произнести слово, чтобы не разбудить этих прекрасных фей ночи и тишины, созданных его воображением. В полумраке тех ночей, когда на небе не было луны, но звезды блестели, как бриллианты, ему казалось, что он видит формы каких-то фантастических существ, складки их одежд и развевающиеся серебристые волосы. С наступлением оттепели эти фантастические картины стали изменяться, и Эмми слышал, как снег с легким шумом валился с ветвей и, касаясь земли, таял, точно куда-то улетал.
Когда ручеек был окован льдом, Эмми, чтобы достать воды, проламывал ледяную кору, но очень осторожно, чтобы не испортить кристального здания, которое образовал водопад. Он любил смотреть вдоль лесных дорог, где как гигантские жирандоли вздымались ветви деревьев, покрытые инеем и сталактитами, сверкающими на солнце радужными цветами. Бывали такие вечера, когда прозрачные, без листьев, деревья рисовались черными кружевами на красном фоне неба, озаренного лучами заходящего солнца, или на перламутровом фоне облаков, освещенных луной. Летом в листве раздавались чудные концерты птиц и разные другие звуки. Эмми преследовал грызунов и хорьков, лакомых до яиц и до птенцов. Он смастерил себе лук и стрелы и очень ловко убивал крыс и пресмыкающихся. Он щадил красивых, не наносящих никому вреда ужей, грациозно ползавших по мху, и белок, питающихся только ядрышками, которые они так искусно достают из сосновых шишек.
Он до такой степени покровительствовал многочисленным обитателям своего старого дуба, что они все знали его, и он свободно ходил между ними. Он воображал, что соловей поет, собственно, для него, желая выразить свою благодарность за то, что Эмми не допустил разорить его гнездо и похитить его малюток. Он не позволял муравьям селиться по соседству с дубом, но представлял свободу этим лесным труженикам в других местах, для того чтобы они истребляли грызущих насекомых, которые портили лес. Он сгонял с листвы гусениц, не щадил также и прожорливых жуков. Каждое воскресенье он занимался туалетом своего дуба, и, сказать по правде, никогда дуб не смотрелся таким бодрым, а его листва не была так роскошна и свежа. Эмми подбирал хорошие желуди и сеял их на соседней пустоши, когда же они пускали ростки, он не давал вереску и повилике заглушать их.
Он полюбил зайцев и не хотел истреблять их для своей пищи. Он видел со своего дерева, как они играли на богородской травке, ложились на бок, как усталые собаки, и при шуме падающего сухого листика с испугом вскакивали, с смешной грацией останавливались и прислушивались. В жаркие летние дни, когда он бродил по лесу и ему хотелось отдохнуть, он влезал на первое попавшееся дерево и устраивался на нем; вяхири убаюкивали его своим монотонным щебетаньем, но с наслаждением спал Эмми только в своем дубе.
Когда окончилась рубка леса, пришла пора расстаться с ним. Эмми пошел за дедушкой Венсеном на новую рубку в другое имение, находящееся в пяти лье оттуда, – в той стороне, где была деревня Урсин.
Со дня ярмарки Эмми не случалось быть в этом скверном месте, и с тех пор он не видел Катишь. Умерла ли она или попала в тюрьму? Никто ничего не знал о ней. Множество нищих исчезает, и никто не знает, куда они деваются, никто их не ищет и не сожалеет о них. Эмми был очень добр. Он не забыл того времени, когда жил в совершенном одиночестве и когда Катишь, которую он считал тогда жалкой идиоткой, приходила каждую неделю к его дубу и приносила ему хлеба, которого у него не было, и доставляла ему удовольствие слышать звуки человеческого голоса. Он сказал дедушке Венсену, что ему хотелось бы узнать, что стало с Катишь. Они оба пошли в деревню и справились о старухе.
В тот день в этой необыкновенной деревне был праздник. Жители ее в одном месте чокались, в другом пели под аккомпанемент горшков. Растрепанные женщины дрались около дверей, дети валялись в вонючей луже. Как только они увидели двух путешественников, то бросились со всех ног, как стая диких уток, их бегство предупредило жителей, что пришел кто-то посторонний. Все смолкло, и все двери затворились. Испуганные дети попрятались в кусты.
– Они не хотят, чтобы видели, как они веселятся, но ты знаешь, где живет Катишь, пойдем прямо к ней, – сказал Эмми старик Венсен.
Они постучались несколько раз в дверь ее хижины, но без успеха. Наконец разбитый голос закричал им, чтобы они вошли. Катишь сидела в большом кресле у огня, бледная, худая, страшная, с опущенными до колен исхудавшими руками. Она узнала Эмми и очень обрадовалась.
– Наконец-то я вижу тебя, – сказала она, – теперь я могу умереть спокойно.
Она сказала ему, что разбита параличом и что соседки приходят к ней поутру для того, чтобы вымыть ее, вечером – чтобы уложить спать, и в известные часы дня – чтобы накормить. «Я ни в чем не терплю недостатка, – прибавила она, – но у меня есть большая забота – мои любезные денежки, они спрятаны вот под этим камнем, на котором стоят мои ноги. Я назначаю эти деньги тебе, Эмми, за то, что у тебя доброе сердце, ты спас меня от тюрьмы в то время, когда я хотела продать тебя дурным людям; но, когда я умру, мои соседки обшарят все уголки и найдут мою казну. Мысль эта мешает мне спать и заботиться о себе как следует. Ты должен взять, Эмми, эти деньги и унести их подальше отсюда. Если я умру, оставь их у себя: я дарю их тебе, если же я выздоровлю, ты мне возвратишь их, ведь ты честный мальчик, я знаю тебя. Они все-таки будут принадлежать тебе, но я буду иметь удовольствие любоваться ими и пересчитывать их до последнего часа моей жизни».
Эмми сначала отказался. Деньги эти были краденые, – ему не хотелось принять такой подарок, но дедушка Венсен вступился в это дело и предложил Катишь взять на сохранение ее деньги с тем, чтобы возвратить их ей по первому ее требованию или в случае ее смерти положить их в банк на имя Эмми. Дедушка Венсен был известен во всем околотке как человек справедливый, наживший себе состояние честным трудом. Катишь, странствовавшая по всем окрестностям и знавшая все, что где делалось, была вполне уверена, что на него можно положиться. Она попросила его покрепче запереть двери, затем отодвинуть ее кресло, так как сама она была не в состоянии шевелиться, и приподнять камень в очаге. Под камнем было спрятано гораздо больше, чем в первый раз она показывала Эмми. В пяти кожаных кошельках находилось около пяти тысяч франков золотом. Катишь оставила себе только триста франков, чтобы заплатить соседкам за уход за ней и чтобы было на что похоронить ее.
Когда Эмми увидел деньги, лицо его выразило презрение. Катишь заметила это.
– Когда ты будешь постарше, – сказала она ему, – ты узнаешь, что нищета – страшное бедствие, если бы я не изведала ее с детства, то, может быть, не так бы провела свою жизнь.
– Если ты раскаиваешься в своей жизни, – сказал дедушка Венсен, – то Бог простит тебя.
– Да, я раскаиваюсь, – ответила Катишь, – с тех пор, как паралич разбил меня, я страдаю от скуки и одиночества. Соседки мои и я – мы обоюдно не нравимся друг другу. Теперь я вижу, что лучше было бы, если бы я жила иначе.
Эмми обещал зайти к ней и пошел с дедушкой Венсеном на новую работу. Он очень сожалел о своем серанском лесе, но сознавал святость принятых на себя обязанностей и усердно занялся делом. Спустя неделю он опять зашел проведать Катишь, но уже застал только ее похороны. Запряженный в тележку осел вез ее гроб. Эмми проводил ее до приходской церкви, находившейся в четырех лье, и присутствовал при ее погребении. Возвратясь в ее хижину, он увидел, что там происходит настоящий грабеж: соседи дрались из-за ее лохмотьев.
Совесть его успокоилась насчет того, что накопленные старухой деньги не достанутся этим людям.
Когда он пришел на место рубки леса, дедушка Венсен сказал ему:
– Ты еще слишком молод, чтобы распоряжаться этими деньгами, ты не сумеешь извлечь из них пользы или у тебя украдут их. Если ты выберешь меня своим опекуном, я их устрою как можно выгоднее и буду выдавать тебе проценты с них до твоего совершеннолетия.
– Делайте как знаете, – ответил Эмми, – я во всем полагаюсь на вас. Но так как старуха говорила, что эти деньги краденые, то не лучше ли возвратить их тому, кому они принадлежали.
– Но кому же возвратить их? – возразил дедушка Венсен. – Деньги эти накоплены по грошам, старуха выпрашивала милостыню, выдавая себя за нищую, а где удавалось, там не прочь была и стянуть, что попадется под руку. Неизвестно, кому принадлежат выклянченные и наворованные ею деньги и вещи, и никто и не думает требовать их. Деньги ни в чем не виноваты, виноват тот, кто промышляет дурным ремеслом. У Катишь не было ни роду ни племени, после нее не осталось и наследников, она отдала тебе свое имущество из благодарности – не за какой-либо дурной поступок, а за то, что ты простил ей зло, которое она хотела тебе сделать. По моему мнению, ты приобрел это наследство не худым путем, напротив, отдав тебе свое имущество, Катишь сделала единственное хорошее дело в своей жизни. Я не скрою от тебя, что при процентах, которые я буду тебе выдавать, ты можешь жить безбедно, не слишком утруждая себя работой, но если ты действительно честный малый, то станешь по-прежнему работать так же усердно, как будто у тебя ничего нет.
– Я послушаюсь вашего совета, – отвечал Эмми. – Я ничего лучшего не желаю, как только остаться с вами и жить по вашим наставлениям.
Эмми не пришлось раскаиваться в своем доверии и дружбе к дедушке Венсену. Старик обходился с ним всегда, как с родным сыном. Когда Эмми вырос, то женился на одной из внучек дровосека, и так как капитал его постоянно прирастал от процентов, которых он не брал, то он сделался богатым крестьянином. Жена его была хорошенькая, энергичная и добрая женщина, молодых супругов очень уважали во всей стране, и так как Эмми стал очень сведущ и смышлен в своем деле, то владелец серанского леса сделал его главным лесничим и выстроил ему очень красивый дом в самом лучшем месте старого леса, как раз подле говорящего дуба.
Предсказание дедушки Венсена сбылось. Эмми вырос, а на дубе столько раз нарастала кора, что дупло, в котором он спал, когда был маленький, почти совсем заросло.
Когда Эмми состарился и увидел, что вскоре отверстие совсем уже закроется, он нацарапал стальным острием на медной дощечке имя, время своего пребывания в дубе и главнейшие события своей жизни, а в конце написал следующие слова:
«Огонь небесный и горные ветры, пощадите моего друга – старый дуб. Пусть он увидит еще моих внучат и их потомков. А ты, старый дуб, разговаривавший некогда со мной, поговори также и с ними, скажи им несколько добрых слов для того, чтобы они так же тебя любили и уважали, как и я».
Эмми бросил эту медную дощечку в дупло, в котором так много жил и размышлял.
Отверстие совсем заросло. Эмми умер, а дерево все еще живет. Оно уже не говорит более, а если и говорит, то нет человека, который бы мог понимать его. Никто уже больше не боится его, но история Эмми стала известна, и благодаря доброму воспоминанию, оставленному им, все любят и благословляют старый дуб.
Что говорят цветы
Когда я была ребенком, моя милая Аврора, меня очень беспокоило то, что я не могла уловить разговора цветов. Мой профессор ботаники уверял меня, что они ничего не говорят, был ли он глух или не хотел сказать мне правды, но он настаивал на том, что цветы ничего не говорят. Я же была уверена совершенно в ином. Я слышала, как они застенчиво перешептывались, особенно когда на них падала вечерняя роса, но, к несчастью, они говорили слишком тихо для того, чтобы я могла разобрать их слова, и потом они были недоверчивы. Когда я проходила по саду подле цветников или по тропинке мимо сенокоса, то в воздухе слышалось по всему пространству какое-то «ш-ш-и», этот звук перебегал от одного цветка к другому и как будто хотел сказать: «Побережемся, замолчим! Подле нас находится дитя, которое нас слушает». Но я настаивала на своем: я старалась идти так тихо, что под моими шагами ни одна травка не шевелилась. Они успокаивались, а я подвигалась все ближе и ближе. Тогда для того, чтобы они меня не заметили, я нагнулась и пошла под тенью деревьев. Наконец мне удалось подслушать оживленный разговор. Нужно было сосредоточить все свое внимание, потому что это были такие нежные голоски, до такой степени приятные и тонкие, что малейший свежий ветерок, жужжание больших бабочек или полет мотыльков совершенно скрывали их.
Я не знаю, на каком языке они говорили. Это не был ни французский, ни латинский, которому меня тогда учили, но я как-то хорошо понимала его. Мне даже казалось, что я понимаю этот язык гораздо лучше, чем какой-нибудь другой, который мне до сих пор приходилось слышать. Раз вечером в одном прикрытом уголке я легла на песок, и мне удалось прослушать очень отчетливо весь происходивший вокруг меня разговор. По всему саду слышался какой-то гул, все цветы говорили разом, и не нужно было особенного любопытства, чтобы за один раз узнать не одну тайну. Я оставалась неподвижна – и вот какой разговор шел среди полевых красных маков.
– Милостивые государыни и государи! Пришло время покончить с этой глупостью. Все растения одинаково благородны, наша семья не уступает какой-нибудь другой – и потому пусть, кто хочет, признает первенство розы, что касается меня, то я повторяю вам, что мне все это страшно наскучило, и я не признаю более ни за кем права считаться лучше меня по своему происхождению и титулу.
На это маргаритки ответили все разом, что оратор, полевой красный мак, совершенно прав. Одна из маргариток, которая была больше и красивее других, попросила слова.
– Я никогда не понимала, – сказала она, – почему общество роз принимает на себя такой важный вид. Почему именно, спрашиваю я вас, роза лучше и красивее меня? Природа и искусство одинаково заботились, чтобы умножить наши лепестки и усилить яркость наших красок. Напротив, мы гораздо богаче, потому что у самой лучшей розы будет не более двухсот лепестков, у нас же их до пятисот. Что касается цвета, то у нас есть фиолетовый и чисто-голубой – именно такие, каких у розы нет.
– А я, – сказала с жаром большая Кавалерская шпора, – я принцесса Дельфиния, у меня на венчике лазурь небес, и мои многочисленные родственники имеют все розоватые оттенки. Мнимая царица цветов многому у нас может позавидовать, а что касается ее хваленого запаха…
– Прошу вас, не говорите мне об этом, – перебил ее полевой красный мак. – Хвастовство с запахом действует мне на нервы. Что такое запах? Объясните мне, пожалуйста. Вам, может, например, кажется, что роза пахнет скверно, а я благоухаю…
– Мы ничем не пахнем, – сказала маргаритка, – и этим, надеюсь, подаем пример хорошего тона и вкуса. Духи есть признак нескромности и тщеславия. Растение, которое себя уважает, не дает о себе знать запахом: для него достаточно его красоты.
– Я не разделяю вашего мнения! – воскликнул мак, от которого сильно пахло. – Духи есть признак здоровья и ума.
Слова толстого мака были покрыты хохотом. Гвоздика держалась за бока, а резеда даже упала в обморок. Но он вместо того, чтобы сердиться, начал критиковать форму и цвета розы, которая не могла защищаться, потому что все кусты ее были подрезаны, а на новых побегах были одни только маленькие бутончики, крепко затянутые в свои зеленые пеленки. Роскошно одетые Анютины глазки страшно нападали на махровые цветы, но так как они в цветнике составляли большинство, то начали сердиться. Ревность, которую возбуждала во всех роза, была так велика, что все решили осмеять ее и унизить. Анютины глазки имели наибольший успех – они сравнивали розу с большим кочаном капусты и предпочитали последнюю за ее величину и полезность. Глупости, которые мне пришлось выслушать, привели меня в отчаяние, и я, ворча, заговорила их языком:
– Замолчите! – закричала я, толкая ногой эти глупые цветы. – За все время вы не сказали ничего умного. Я думала среди вас услышать чудеса поэзии, о, как я жестоко обманута! Вы разочаровали меня вашим соперничеством, тщеславием и мелкой завистью.
Водворилось глубокое молчание, и я удалилась из цветника. «Посмотрим, – сказала я себе, – может быть, дикие растения имеют более возвышенные чувства, нежели эти воспитанные болтуны, которые, получив от нас красоту, заимствовали также и наши предрассудки, и нашу лживость». Я проскользнула в тенистую изгородь и направилась к лугу, мне хотелось узнать, была ли так же завистлива и горда таволга, которую называли царицей лугов. Но я остановилась подле большого шиповника, на котором все цветы говорили вместе.
«Постараюсь узнать, – подумала я, – чернит ли дикая роза розу-столиственницу и презирает ли розу махровую».
– Надо вам сказать, что когда я была ребенком, то тогда не было таких разнообразных пород роз, которые с тех пор развели ученые-садовники посредством прививки и пересаживания, но природа не была от этого беднее. Наши кустарники были полны различными породами роз в диком состоянии, то были: роза шиповник, которую считали хорошим средством против укушения бешеных собак, роза коричная, роза мускусная, рубигинозная, которая считалась одной из красивых роз, роза синеголовая, войлочная, альпийская и прочее и прочее. Кроме них у нас в садах были и другие прекрасные породы роз, которые теперь почти что затерялись; то были: полосатые – красные с белым, у которых было немного лепестков, но зато была ярко-желтая тычинка с запахом бергамота; роза эта очень выносливая и не боялась ни сухого лета, ни суровой зимы; малые и большие махровые розы, теперь редкие; а маленькая майская роза, самая ранняя и самая пахучая, теперь почти не бывает в продаже; Дамаскинская или Провансальская роза, которая была нам очень полезна и которую теперь мы можем найти только на юге Франции; наконец, роза-столиственница или, лучше сказать, роза о ста лепестках, родина которой неизвестна и которую обыкновенно относят к привитым. Эта-то роза-столиственница и была для меня, как и для многих других, идеалом розы, и я не была уверена, как был уверен мой профессор, что эта чудовищная роза была обязана своим происхождением искусству садовников. Я читала у моих поэтов, что роза и в древности была образцом красоты и благоухания. По всей вероятности, тогда не знали о существовании нашей чайной розы, которая нисколько не пахнет, и о тех прелестных разновидностях наших дней, которые настолько изменили розу, что она окончательно утратила свой настоящий тип. Тогда меня учили ботанике, но я понимала ее по-своему. У меня было тонкое обоняние, и я хотела, чтобы запах был отличительной принадлежностью цветка. Мой профессор, который нюхал табак, не хотел мне верить на слово. Он чувствовал только запах табака и, когда он нюхал другое какое-нибудь растение, то начинал нескончаемо чихать.
Итак, сидя у изгороди, я слышала очень внятно, что над моей головой говорили розы шиповника. С первых же их слов я поняла, что они говорили о происхождении розы.
– Останься здесь, кроткий зефир! Посмотри, как мы расцвели! Прелестные розы цветников спят еще, укутанные в свои зеленые бутоны. Посмотри, как мы свежи и веселы, и, если ты нас немного покачаешь, мы повсюду разольем такое же благоухание, как наша знаменитая царица.
Я слышала, как зефир ответил им:
– Замолчите вы, дети севера; я охотно поговорю с вами немного, но вы и не думайте равняться с царицей цветов.
– Милый зефир! Мы уважаем и любим ее, – ответили в один голос цветы шиповника, – и знаем, как ей завидуют другие цветы сада. Они ставят ее нисколько не выше нас и говорят, что она дочь шиповника и обязана своей красотой уходу садовника и прививке. Мы невежды и не умеем говорить. Ты, который ранее нас явился на землю, расскажи нам настоящую историю розы.
– Я вам ее расскажу, – отвечал зефир, – потому что это моя собственная история. Слушайте и никогда не забывайте.
И зефир рассказал следующее.
«Во время оно, когда земные существа, как и власти вселенной, говорили еще языком богов, – я родился первенцем от царя гроз. Мои черные крылья разом касались двух концов обширного горизонта, а мои громадные волосы смешивались с облаками. Мой вид был страшен и грозен; я имел власть соединять тучи и растягивать их, как непроницаемую вуаль, между небом и солнцем.
Долго царил я с моим отцом и братьями на бесплодной планете. Наша обязанность состояла в том, чтобы все приводить в беспорядок и все уничтожать. Мои братья и я, оторванные со всех сторон от этого несчастного маленького мира, служили постоянной помехой проявлению жизни на той бесформенной массе, которую теперь называют землей. Я был самый младший и самый жестокий из всех моих братьев. Когда царь, мой отец, утомлялся, он ложился на вершине туч и отдыхал на них от своих трудов – постоянного уничтожения. Но в груди земли, тогда еще бездейственной, копошился дух, всемогущее божество – дух жизни, который хотел жить и который, разбивая горы, наполняя моря и соединяя пылинки, в один прекрасный день начинал пробиваться всюду. Наши усилия удвоились, но не послужили ничему, кроме как к ускоренному выступлению массы существ, которые спасались от нас частью вследствие своей микроскопичности, а частью, несмотря на свою кажущуюся слабость, сопротивлялись нам; маленькие гибкие растения, тоненькие плавучие раковинки появлялись всюду: на коре еще не остывшей земли, в грязи, в воде и в разных обломках. Мы напрасно направляли волны своего гнева на эти еле заметные создания: жизнь безостановочно, в разных видах и формах нарождалась и проявлялась всюду.
Мы начали утомляться от этого, по-видимому, слабого, на самом же деле неотвратимого сопротивления. Мы уничтожали целые массы живых существ, но были среди них такие, которые могли нам противостоять не умирая. Мы изнемогали от гнева и, чтобы сколько-нибудь отдохнуть, удалялись на вершину туч – и там наш отец снабжал нас новыми силами. И пока он давал нам разные распоряжения, земля, освобождавшаяся на несколько минут от нашего на ней присутствия, покрывалась многочисленными растениями и мириадами животных всевозможных пород, ищущих себе убежища и пищу в громадных лесах или на уступах величественных гор, а также в обширных водах.
– Идите, – сказал нам наш отец, царь гроз, – вот земля принарядилась в свое свадебное платье и готовится повенчаться с солнцем, станьте посреди них, соберите громадные тучи, ревите – и постарайтесь, чтобы ваше дыхание уничтожило леса, сровняло с землей горы и разбросало море. Идите – и не возвращайтесь до тех пор, пока не останется хотя бы ни одного живого существа или растения на этой проклятой земле, где вопреки нам хочет развиться жизнь.
И мы, как духи смерти, бросились на оба полушария земли. Я, как орел, рассекая завесы облаков, разразился над древними странами крайнего востока – там, где глубокие ущелья с высоты азиатского нагорья спускаются к морю под раскаленным огненным небом и где среди влаги распускаются гигантские растения и живут страшные животные. Отдохнув от разрушения, я чувствовал в себе снова присутствие неизмеримой силы. Я гордился, что среди этих слабых, которые как будто посмеивались надо мной, я могу сеять беспорядок и смерть. Одним ударом крыла я, как косой, скашивал целую местность, дыханием уничтожал целые леса; внутри себя я чувствовал слепую радость и был опьянен той мыслью, что я сильнее всех сил природы.
Но вдруг я почувствовал доселе незнакомый мне запах и, пораженный совершенно новым для меня ощущением, остановился, чтобы дать себе отчет. Тогда я увидел в первый раз существо, которое появилось на земле в мое отсутствие – существо свежее, нежное и прекрасное: то была роза!
Я разразился над ней, чтобы ее уничтожить, но она легла на травку и сказала мне:
– Сжалься надо мной! Я так прекрасна и свежа! Вдохни мой аромат – тогда ты пощадишь меня.
Я понюхал ее – и какое-то внезапное опьянение подавило мой гнев. Я лег подле нее на землю и заснул. Когда я проснулся, роза встала, тихо покачиваясь от моего успокоенного дыхания.
– Будь моим другом! – сказала она мне. – Не оставляй меня более! Когда твои крылья сложены, я тебя люблю и нахожу даже прекрасным. Ты, должно быть, царь лесов. Твое успокоенное дыхание – точно прекрасное пение. Останься со мной или возьми меня с собой. Взвейся со мной как можно выше и покажи мне поближе солнце и облака.
Я положил розу на свою грудь и с ней вместе полетел. Но вскоре мне показалось, что она вянет, изнемогает, она более не говорила, но ее запах продолжал меня услаждать. Боясь потерять ее, я летел тихо, слегка касаясь вершин деревьев и избегая малейшего толчка. С большой осторожностью я поднялся до дворца темных облаков, где меня дожидался мой отец.
– Чего ты хочешь? – спросил он меня. – И зачем ты оставил и не уничтожил этот лес на берегах Инда, который я вижу отсюда? Вернись и истреби его как можно скорее!
– Слушаю, – ответил я и показал ему розу. – Я сейчас вернусь, только прошу тебя сохранить это сокровище.
– Сохранить! – воскликнул он, заревев от гнева. – Ты хочешь что-нибудь сохранить!
Одним дуновением он вырвал из моей руки розу, которая полетела в пространство, сея повсюду свои поблекшие лепестки.
Я было бросился, чтобы схватить хоть ее стебелек, но рассерженный и неумолимый, царь гроз схватил меня и, положив грудью на свое колено, с гневом вырвал у меня крылья, перья которых полетели вниз, чтобы соединиться с рассыпавшимися лепестками розы.
– Жалкое дитя! – сказал мне мой отец. – Ты узнал жалость, ты более не сын мне!.. Иди на землю и соединись с тем гибельным духом жизни, который так храбрится, посмотрим, что он из тебя сделает. Теперь ты – ничто!
И, бросив меня в пустоту, он забыл меня навеки.
Я докатился до одной долины и в изнеможении распростерся подле розы, которая была весела, красива и благоухала более чем когда-либо.
– Что за чудо? Я считал тебя умершей и оплакивал тебя! Или у тебя есть дар возрождаться после смерти?
– Да, – ответила роза, – как у всех живых существ. Взгляни на эти бутоны, которые меня окружают. Сегодня вечером я потеряю мой блеск и начну работать над моим возрождением, мои сестры будут очаровывать тебя своей красотой и так же, как я, будут благоухать для тебя. Оставайся с нами! Почему ты не хочешь сделаться нашим товарищем и другом?
Лишенный прежней силы, я чувствовал себя настолько униженным, что оросил моими слезами землю, с которой почувствовал себя навеки скованным. Дух жизни услышал мой плач и был им тронут. Он явился ко мне в образе светлого ангела и сказал:
– Ты знаешь сострадание и пожалел розу, теперь я хочу сжалиться над тобой. Твой отец, правда, всемогущ, но я еще могущественнее его: он может уничтожать, а я могу создавать.
Говоря таким образом, светлый образ дотронулся до меня, – и я превратился в прелестного ребенка, с личиком, похожим на розу. На моих плечах выросли крылышки бабочки, и я начал с наслаждением летать.
– Оставайся с цветами, под свежей тенью лесов, – сказал мне Дух жизни. – Теперь под этими куполами зелени ты найдешь себе защиту. Позднее, когда я покорю бешенство стихий, ты можешь летать по всей земле, на которой люди будут любить тебя и благословлять, а поэты – воспевать. Что же касается тебя, моя прелестная роза, которая своей красотой сумела первая укротить неистовство бурь, – то будь ты залогом будущего согласия ныне враждующих сил природы. Ты будешь также служить примером будущим поколениям людей, которые будут желать, чтобы все служило их нуждам. Но дары самые драгоценные, как грация, нежность и красота, может быть, не будут иметь для них такой важности, как богатство и сила. Научи их, любезная роза, что самая важная и самая законная сила та, которая очаровывает и примиряет. Я провозглашаю тебя царицей лугов, и этот данный мной тебе титул не посмеют у тебя отнять грядущие века. Задача царств, которые я учреждаю, водворение мира и блаженства на земле.
С этого дня я стал жить в мире с небом и был всегда любим людьми, животными и растениями. Мое божественное происхождение сохраняло за мной право выбора жить где я хочу. Но я друг земли и слуга жизни, которой я плачу дань моим дыханием, я не могу оставить эту землю, на которой меня удерживает моя вечная любовь. Да, мои малютки, я всегда буду верен розе и считаю себя вашим другом и братом».
– В таком случае, – воскликнули все разом розы шиповника, – сделай нам бал, и будем вместе веселиться и воспевать хвалу царице – восточной розе-столиственнице.
Зефир махнул своими прекрасными крылышками, и над моей головой начался неистовый танец, аккомпанируемый, вместо кастаньет и барабанов, шелестом веток и хлопаньем листьев. Некоторые из маленьких дурочек разорвали свои розовые бальные платьица и посыпали своими лепестками на мои волосы, но они не обращали на это внимания и продолжали танцевать и петь:
«Да здравствует красавица роза, она победила сына гроз! Да здравствует зефир, друг цветов!»
Когда я рассказала моему профессору о том, что я слышала, он решил, что я больна и что мне нужно дать лекарство. Хорошо, что моя бабушка заступилась за меня и сказала:
– Мне вас очень жаль, что вам не случалось слышать разговора цветов. Что касается меня, то я глубоко сожалею, что потеряла способность понимать этот разговор: эта способность принадлежит исключительно детям.
Берегитесь смешивать способности с болезнью.
Красный молоток
В предыдущей сказке моей, милые дети, я выдала вам тайну ветра и роз. Теперь я вам расскажу историю камня. Но я обману вас, если скажу, что камни говорят, как цветы. Если бы даже они говорили что-нибудь, когда по ним ударяют, то до нас долетал бы только один звук без слов. Все в природе имеет голос, хотя говорить могут только люди. Цветок, снабженный органами, принимает также участие в жизни вселенной.
Камни не живут, они не что иное, как часть громадного тела – планеты, и это-то громадное тело мы можем считать живым существом. Отдельные же части его скелета не могут быть признаны живыми существами, подобно тому, как нельзя сказать, чтобы суставы наших пальцев или части нашего черепа были целым человеком.
Тот камень, о котором я хочу рассказать вам, был чудесный камень; не воображайте, однако, что вы могли бы положить его к себе в карман, каждая из его сторон имела добрых полтора аршина в длину и ширину. Когда-то он был оторван от сердоликовой горы и сам был сердоликом; то не был один из таких заурядных булыжников кровавого цвета, которыми усеяны наши дороги, он отличался нежно-розовым цветом, был изборожден янтарными жилками и прозрачен как хрусталь. Его великолепная стекловидная масса была выработана действием подземных огней на земную кору, и, после того как он отделился от своей скалы, он спокойно и безмолвно в продолжение нескольких веков, которые я не берусь сосчитать, лежал в траве, сверкая на солнце.
Но вот однажды его заметила фея по прозванию Красавица Вод. Фея Красавица Вод очень любила спокойные прозрачные ручейки, потому что подле них росли ее любимые цветы и травы.
Фея была очень сердита на ручей, так как он перед этим, вздувшись от снега, таявшего в горах, затопил своими мутными и бурными волнами ковер цветов и трав, которыми она еще накануне так любовалась.
Сидя на большом камне и смотря на опустошения, произведенные потоками, она рассуждала так:
– Фея ледяных гор, мой злейший враг, скоро выгонит меня и из этого пространства, как она уже прогнала меня из мест, лежащих выше, которые теперь превратились в груду развалин.
Эти утесы, оторванные лавинами, эти бесплодные горные пустыни, где не распускаются более цветы, где птица не поет своих песен и где бессмысленно царят холод и смерть, грозят каждую минуту раздвинуть свои границы на мои цветущие луга и благоухающие рощи. Я не могу долее сопротивляться: здесь смерть хочет восторжествовать над жизнью, глухая и слепая судьба против меня. Если бы я еще могла знать намерения моего врага, я бы попробовала бороться, но его тайны знают только одни буйные потоки, многоголосый смутный говор которых мне непонятен.
Как только они достигают моих озер и извилистых моих скатов, они умолкают и без шума катятся вниз. Как заставить их рассказать о том, что они знают про те горные области, откуда они бегут и куда мне нет доступа?
Подумав еще немного, фея встала, поглядела вокруг себя и остановила свой взгляд на камне, к которому она прежде относилась с пренебрежением, как к предмету неодушевленному и бесполезному. Но тут ей пришла в голову мысль положить этот камень поперек наклонного русла потока. Она, однако, не взяла на себя труд толкнуть эту каменную глыбу, она просто дунула на нее, глыба тотчас же легла поперек течения ручья и собственной тяжестью так глубоко врезалась в песок, что сдвинуть ее было теперь очень трудно.
Тут фея стала вглядываться, прислушиваться.
Ручей, очевидно недовольный этим препятствием, сначала с силой ударился о него, думая расчистить себе дорогу, затем он устремился в обход и напирал на бока камня до тех пор, пока не прорыл себе с каждой стороны по канавке, после чего устремился в эти канавки, издавая глухой стон.
«Ну, в твоих речах мало еще толку, – подумала фея, – но постой, я тебя так стисну, что добьюсь от тебя ответа». И она при этом дала щелчок сердоликовой глыбе, которая распалась на четыре части.
Так силен палец феи.
Вода, встретив на пути своем вместо одного препятствия целых четыре, споткнулась с разбегу и затем, заметавшись во все стороны суетливыми ручейками, забормотала, как дурочка, такой скороговоркой, что ничего нельзя было понять. Тогда фея снова расколола камень и из четырех кусков сделала восемь, которые поуспокоили поток и заставили говорить более ровно и внятно. После этого фея стала понимать говор ручья, а так как ручьи вообще болтливы по природе, хранить тайн не умеют, то фея скоро узнала, что царица ледников решила овладеть ее жилищем и прогнать ее еще далее.
Тогда Красавица Вод забрала любимые растения в подол своего платья, сотканного из солнечных лучей, и удалилась, позабыв посреди потока бедные обломки большого камня, которые и остались лежать там до тех пор, пока упорные волны не унесут их или не сотрут в порошок.
Камень безропотен и большой философ по своей природе.
От того камня, похождения которого я начала вам рассказывать, уцелел лишь один из тех восьми кусков, на которые расколола его фея.
Этот кусок был величиной почти с вашу голову и почти такой же круглый, потому что вода, размывая остальные осколки, долго обшлифовывала его своими волнами. Не знаю, был ли он счастливее остальных своих товарищей, или вода обходилась с ним бережнее, но только он прибыл в наилучшем виде, гладко отполированным к порогу тростниковой хижины, где жили странные люди.
То были дикари, покрытые звериными шкурами, обросшие длинными волосами и бородою, потому ли, что у них не было ножниц, чтобы остричься, или же потому, что ходить в таком виде им казалось удобнее, в чем они, быть может, были правы.
Но если эти первобытные люди еще не изобрели ножниц, в чем я не совсем уверена, то это не мешало им быть весьма искусными ножовщиками. Тот человек, который жил в упомянутой хижине, был даже известен как хороший оружейник. Он не умел приспосабливать железо к своему делу, но зато грубые камни в его руках превращались в замысловатые инструменты и в грозное оружие для войны.
Из сказанного вы можете догадаться, что эти люди принадлежали к каменному периоду, который сливается в мраке времен с эпохой первых Кельтийских поселений.
Один из сыновей оружейника нашел на земле красивый камень, который является героем моего рассказа, и, подумав, что это один из тех ненужных осколков, которые в большом количестве были разбросаны вокруг мастерской его отца, начал с ним играть, катая его в разные стороны. Но отец, пораженный ярким цветом камня и его прозрачностью, отнял его у сына и созвал других своих детей, чтобы полюбоваться находкой. Во всей округе не было такой скалы, от которой бы мог быть оторван подобный камень. Оружейник отдал приказание своим домашним наблюдать за всеми каменьями, которые будут приноситься ручьем, но напрасно они наблюдали и выжидали, вода не принесла им другого такого камня, и этот единственный образец остался в мастерской главы семейства как редкостный, драгоценный экземпляр.
Несколько дней спустя пришел с горы синий человек и спросил у оружейника оружие, которое перед этим было ему заказано. Этот человек от природы имел белый цвет кожи, но лицо и туловище его были выкрашены соком растения, из которого предводители и воины добывали себе краску, известную до сих пор у индейцев под названием боевой краски. А потому он был с головы до ног окрашен в лазурно-голубой цвет, и семейство оружейника смотрело на него с восторгом и уважением.
Оружие, за которым голубой человек пришел к оружейнику, состояло из топора, массивнее и острее которого еще не видывали за все время каменного периода. Грозное это оружие было ему вручено в обмен на две медвежьи шкуры.
Расплатившись, голубой человек хотел уже удалиться, но тут оружейник показал ему свой сердоликовый камень и предложил выделать ему топор или молоток. Голубой человек пришел в восторг от красоты этого камня и попросил сделать ему молоток, который мог бы служить в то же время и ножом для сдиранья шкуры с животных, убитых на охоте.
Итак, из этого красивого камня было выделано превосходное оружие. Хотя в то время точильные камни и не были известны, терпение работников превозмогало все трудности, и оружие было отлично отполировано. К наивысшему удовольствию голубого человека, один из сыновей оружейника, ребенок крайне талантливый и искусный, начертил с помощью острого осколка на одной из сторон лезвия изображение лани. Другой работник, тоже очень искусный в деле оправки, вставил это лезвие в деревянную рукоятку, расколотую посередине и укрепленную по краям веревками из растительных волокон, мелко переплетенными и отличавшимися большой крепостью. Голубой человек заплатил за это сокровище двенадцать оленьих шкур и с торжеством унес покупку с собой, в свою громадную пещеру; надо вам сказать, что он был старейшина могучего племени, приобрел большие богатства охотой и часто одерживал победы на войне.
Вы, конечно, знаете, что такое пещера? Вам, верно, случалось видеть эти зияющие отверстия среди полей, в настоящее время обработанных, но тогда поросших лесами и покрытых болотами.
Многие из этих пещер затоплены водой, в тех же, которые находятся в более высокой местности, попадаются пепел, кости, осколки глиняной посуды и камней, уложенных в форме очага.
Должно полагать, что первобытные народы любили жить близко к воде, доказательством чего служат те поселения, выстроенные над озерами, которые впоследствии были находимы в таком множестве и о которых вы, вероятно, слышали.
Что же касается меня, то мне сдается, что в разных местностях, подобных нашим, где вода составляет такую редкость, дело происходило так: по соседству с источником рыли по возможности глубокий колодец и в случае надобности искусственно изменяли течение самого ручья и отводили его воды в эти глубокие резервуары, затем на сваях строили просторное жилище, возвышающееся, как островок в воронке. Крыша этого незаметного жилища приходилась наравне с землей, что являлось необходимой мерой предосторожности против набега диких зверей и вторжения неприятельских полчищ.
Голубой человек обитал в одной из этих больших пещер, которая была окружена многими другими менее просторными и глубокими; в этих последних поселилось несколько семейств, которые готовы были повиноваться его воле, с тем чтобы он оказывал им свое покровительство.
Голубой человек обошел все эти жилища, в которые он проникал, пробираясь по деревьям, перекинутым в виде мостов, он погрелся у каждого очага, благосклонно беседуя с хозяевами, и показывал при этом свой чудесный розовый молоток, давая всем понять, что он получен им в подарок от какого-то божества. Не знаю, поверили ли ему в этом действительно или же только делали вид, что верят, но на розовый молоток стали смотреть, как на непобедимый талисман, и когда неприятель сделал набег на владения этого племени, то все устремились в бой с восторженной уверенностью в своих силах. Уверенность порождает храбрость, а храбрость порождает силу.
Неприятель был повержен, красный молоток обагрился кровью побежденных.
Слава нового подвига присовокупилась к славе прежних подвигов голубого человека, и неприятель, пораженный ужасом, прозвал его Красным Молотком; прозвище это осталось за всеми его соплеменниками и потомками.
Молоток принес счастье своему обладателю, которому успех стал постоянно улыбаться как на войне, так и на охоте; он умер в глубокой старости, ни разу не испытав тех несчастных случайностей, которые неразлучны с боевой жизнью. Его похоронили по обычаю того времени под громадным курганом и вместе с ним положили в могилу и красный молоток, несмотря на то что родственникам его очень хотелось оставить этот молоток у себя. Волей-неволей они должны были покориться религиозному обычаю, охранявшему уважение к памяти усопших.
Итак, наш камень после кратковременного периода деятельности и славы был ввергнут во мрак небытия. Вскоре племени Красного Молотка представился повод пожалеть о погребенном талисмане, так как враждебные племена, долгое время удерживаемые в страхе мужеством великого вождя, теперь явились многочисленными полчищами, опустошили страну, угнали стада и разорили жилища. Это несчастье заставило одного из потомков Красного Молотка первым нарушить религиозный обычай и разрыть могилу своего предка. Для этого он отправился тайком к кургану и вырыл талисман, который тщательно спрятал у себя в пещере. Но так как он не мог никому признаться в этом святотатственном поступке, ему и нельзя было пользоваться этим превосходным оружием на полях битв и поддерживать посредством его мужество своих соплеменников. Молоток, очутившись в руке, лишенной энергии и мужества, так как новый его обладатель был человек более суеверный, чем храбрый, утратил свою силу, и побежденное племя, рассеянное неприятелем, вынуждено было искать себе новую родину и новые жилища. Завоеванные пещеры были заняты победителями, и прошло много веков, прежде чем знаменитый некогда молоток, спрятанный между двумя камнями, снова увидел свет божий. Он был уже настолько позабыт, что, когда однажды старуха, гоняясь у себя на кухне за крысой, случайно нашла его, ей потом никто не мог сказать, для какого употребления предназначался этот каменный молоток. В ту пору уже умели лить и выделывать вещи из бронзы, а так как народы этой эпохи не имели истории, то они и не помнили, какую услугу в прошлом оказывал им камень.
Как бы то ни было, молоток понравился старухе, и она, так как с одной стороны у него был нож, стала чистить им овощи для супа. Молоток-нож оказался очень удобным для этого употребления, невзирая на то, что время уничтожило его щегольскую рукоятку, скрепленную волокнами. Лезвие его еще было очень остро, и он сделался любимым ножом старухи. Но когда она умерла, дети вздумали играть им, и он до того иступился в их руках, что сделался ни на что не годен.
Когда настал железный век, это всеми презренное орудие было позабыто на краю иссохшего и наполовину засыпанного колодца. Люди понастроили себе новые жилища уже на поверхности земли и развели вокруг них разные плантации.
Топор и заступ вошли в употребление; люди стали говорить, мыслить и действовать совсем по-другому, чем в прошлом; знаменитый красный молоток снова стал простым камнем и погрузился в непробудный сон среди обступивших его трав.
Прошло еще несколько лет, как вдруг однажды крестьянин, гонявшийся за зайцем, который укрылся в высохшем колодце, порезал себе ногу об острый край красного молотка, так как перед этим он снял обувь, чтобы облегчить себе бег.
Крестьянин поднял молоток, думая понаделать из него кремней для ружья, снес его к себе в хижину и позабыл его в углу. Во время сбора винограда он употреблял его как затычку для своих чанов, а потом забросил его в огород, где кочаны капусты, горделиво разросшиеся на почве, которая долгое время оставалась невозделанной, прикрыли бедный молоток своей тенью и снова доставили ему возможность успокоиться от всех превратностей, которым подвергала его прихоть человека.
Еще сто лет спустя садовник наткнулся на него своим заступом, а так как то место, где некогда был огород крестьянина, теперь было занято парком, прилегавшим к богатому замку, то садовник снес молоток владельцу замка и объявил ему при этом:
– Ваше сиятельство, никак я нашел между грядками спаржи один из тех старинных молотков, до которых вы такой охотник.
Граф похвалил садовника за его антикварное чутье и пришел в восторг от находки. Красный молоток был одним из лучших образцов первобытного искусства, и, невзирая на все повреждения времени, он еще сохранял явственные следы человеческой работы. Все друзья дома и все любители древностей восторгались им. Было немало споров о том, к какой эпохе он принадлежит. По форме своей он походил на оружие самых первобытных времен, но резьба и полировка его напоминали изделия более позднего периода. Очевидно, он принадлежал к переходной эпохе, быть может, он был занесен в страну какими-нибудь выходцами из чужих краев, во всяком случае, геологи решили, что он не мог быть местного происхождения, так как во всей той местности не было и следов сердоликовых камней.
Геологи в спорах своих упустили из виду одно лишь обстоятельство, а именно, что вода служит проводником для всевозможных пород камней, а археологи так-таки и не приняли в соображение, что история промышленности не может быть подведена под точные, неизменные правила и что фантазия или изобретательность какого-нибудь единичного ремесленника, более даровитого, чем остальные, возьмет свое. Рисунок, начертанный на лезвии, сохранился еще довольно хорошо, и ученые внимательно рассматривали его; очевидно, художник хотел изобразить на нем какое-то животное, но был ли то конь, олень, пещерный медведь или мамонт – этого никто не мог решить.
После того как молоток был исследован и осмотрен со всех сторон, его уложили на бархатную подушку. Он занял почетное место в коллекции графа и сохранялся в ней в течение доброго десятка лет.
Но граф умер бездетным, а графиня пришла к тому мнению, что покойник тратил слишком много денег на свои коллекции и что гораздо благоразумнее было бы употребить эти деньги на покупку кружев и новых экипажей для ее сиятельства.
Она велела распродать весь этот старый хлам, желая поскорее очистить от него комнаты замка. Из всей коллекции она отобрала лишь несколько камней, украшенных резьбой, и несколько золотых медалей, пригодных для ее туалета. Так как сердолик, послуживший материалом для красного молотка, был замечательной красоты, то графиня поручила ювелиру выделать из него застежки для пояса. Но когда осколки красного молотка были приспособлены к этому новому употреблению, работа не понравилась графине, и она подарила застежки своей шестилетней племяннице, которая стала наряжать в них свою куклу.
Однако тяжкое и массивное это украшение скоро надоело девочке, и она вздумала состряпать из него суп, да, милые дети, ни больше ни меньше как суп для куклы. Вам лучше меня известно, что в кукольный суп входят всевозможные снадобья: и цветы, и зерна, и раковины, и белые или красные бобы, – все идет в дело, стоит только прокипятить это месиво в жестяной кастрюльке на воображаемом огне. Случилось так, что у племянницы графини не хватало моркови для ее супа, при этом ей бросился в глаза яркий цвет сердолика, и она истолкла его утюгом в мелкие кусочки, которыми и подкрасила суп; кукла по-настоящему должна была бы скушать предложенное ей угощение с большим аппетитом.
Если бы красный молоток был живым существом, то есть если бы он способен был думать, то какие бы только размышления не пришли ему в голову по поводу странной участи. Шутка ли: быть скалой, а затем превратиться в осколок, послужить в этом виде орудием в руках феи и заставить ручей выдать тайные замыслы духа, владычествующего среди горных снегов, слыть позднее талисманом воинственного племени, доставить славу целому народу, быть скипетром в руках голубого человека, отсюда снизойти до смиренной роли кухонного ножа и служить для чистки каких-то овощей в полудиком быту, снова достигнуть своего рода величия в руках любителя древностей, красоваться на бархатной подушке и возбуждать удивление ученых, и в конце концов превратиться в воображаемую морковь в руках маленькой девочки, не удостаиваясь даже при этом чести возбудить аппетит избалованной куклы!
Впрочем, красный молоток не совсем был уничтожен, от него остался кусок величиной с орех, лакей, выметая комнату, подобрал этот кусок и продал его за полфранка резчику камней, и резчик камней понаделал из этого последнего осколка три кольца, которые продал по одному франку за штуку. Сердоликовое колечко очень красивая вещица, только его легко сломать или потерять. Одно из упомянутых трех колец существует и до сего дня: оно было подарено одной бережливой маленькой девочке, которая носит его, не подозревая, что это – последний осколок знаменитого красного молотка, который сам был лишь обломком от скалы фей. Такова судьба всех неодушевленных предметов на земле, они существуют лишь постольку, поскольку мы придаем им цену, у них нет души, при помощи которой они могли бы возрождаться, они быстро обращаются в прах, но и в этом виде они еще служат на пользу всему живущему. Жизнь все умеет приспосабливать к своим целям, и то, что разрушается действием времени и руки человеческой, воскресает в новых формах и по милости той благодетельной феи, которая ничему не дает пропадать бесследно, которая все восстанавливает и разрушенную работу начинает вновь. Имя этой царицы фей вам хорошо известно, зовут ее – природа.
Грибуль
Как Грибуль, боясь промокнуть, бросился в воду
Когда-то давно, очень давно жили муж с женой и у них был сын. Сына звали Грибулем, мать Бригулью, а отца Бредулем. Но у Бредуля с Бригулью, кроме Грибуля, было еще шестеро детей: три мальчика и три девочки. Грибуль был младший, стало быть всего-навсего у них было семеро.
Бредуль был смотрителем царской охоты, а потому жил в довольстве. Его красивенький дом с хорошеньким садом стоял посреди леса в прекрасной прогалине, и в нескольких шагах от окон вился ручеек, протекавший через весь лес. Он мог ловить рыбу и стрелять дичь сколько душе угодно, ему даже было позволено рубить на дрова деревья и обрабатывать довольно большой кусок земли; сверх всего этого царь платил ему жалованье за то, что он смотрел за охотой и за птичьим двором. Но такому злому человеку, каким был Бредуль, всего этого казалось мало. Он был очень корыстолюбив и думал только о том, как бы нажиться, а потому выпрашивал у путешественников деньги, обкрадывал их и продавал царскую дичь. Если бедные приходили в лес за хворостом, то он ловил их и отсылал в тюрьму, а богатым, которые ему хорошо платили, позволял сколько хотят охотиться в царском лесу. Царь давно уже сам не охотился: он был очень стар.
Хотя Бригуль и не отличалась добротой, но все-таки была намного лучше мужа, она тоже очень любила деньги, и как бы дурно ее муж ни поступал, но если он приносил деньги, она никогда его не бранила. Зато, когда его плутовство не удавалось, она так сердилась, что даже готова была прибить его.
Шестеро старших детей Бредуля и Бригули с раннего детства привыкали к грабежу и жестокости и росли негодяями. Едва выучивались они ходить и говорить, как уже начинали воровать и обманывать. Родители за это их очень любили и находили чрезвычайно умными. Только с маленьким Грибулем как отец, так и мать обращались очень дурно, они называли его трусом и дураком и постоянно повторяли, что он никогда не сравнится с братьями и сестрами.
А Грибуль был очень маленький мальчик, всегда чистый и опрятный. Он никогда не рвал своего платья, не пачкал рук и не делал никому зла. Он был способен на всякие выдумки, за что слыл дома дураком, между тем как на самом деле он был только осторожен и рассудителен. Например, когда ему было очень жарко и хотелось пить, он удерживался сколько мог, потому что знал по опыту: чем больше пьешь, тем больше хочется. Как бы ему ни хотелось есть, но если в это время встречался бедный, который просил у него хлеба, то он сейчас же отдавал ему свой кусок, говоря про себя: «Я знаю, как мучительно голодать, и потому должен избавлять других от этого трудного состояния».
Чтобы не отмораживать рук и ног, Грибуль первый придумал натирать их снегом. Он давал свои самые любимые игрушки детям, которых вовсе не любил, и когда его спрашивали, зачем он так делает, то он обыкновенно отвечал: «Чтобы полюбить этих дурных детей». Он уже знал, что мы всегда привязываемся к тем, кому делаем добро.
Если днем ему хотелось спать, он начинал ходить или заниматься чем-нибудь, чтобы лучше уснуть ночью. Становилось ли ему вдруг страшно, он пел, чтобы испугать то, чего боялся сам. Как бы не хотелось ему играть, он всегда прежде заканчивал свое дело, потому что после работы всегда играется веселее. По своим летам он поступал очень умно и умел быть довольным; родители же принимали все за дурное, смеялись над ним и бранили его за его лучшие поступки. Мать часто била его, а отец всякий раз, когда он подходил к нему приласкаться, отталкивал его, говоря: «Поди прочь, дурак, из тебя никогда ничего путного не выйдет».
Братья и сестры, видя, что родители не любят Грибуля, начали также презирать его и старались сердить, чем только могли; хотя Грибуль и переносил все с большим терпением, тем не менее его чрезвычайно огорчало подобное обращение, и потому очень часто он совершенно один уходил в лес поплакать наедине и попросить небо научить его поступать так, чтобы родители полюбили его настолько, насколько он сам любил их.
В этом лесу Грибуль больше всего любил один дуб. Это было большое, очень старое дуплистое дерево, снизу доверху обвитое плющом и мелким свежим мхом. Место, где рос дуб, находилось довольно далеко от дома Бредуля и называлось Шмелевым перекрестком. Никто не помнил, почему ему дано такое название. Предполагали, что какой-то богатый господин по имени Шмель посадил дуб, а дальнейших сведений о нем никто не имел. Туда почти никто не ходил, потому что вокруг дерева стеной росли колючие кустарники и на земле лежало множество камней, так что добраться до него было очень трудно. Но около самого дуба росла необыкновенно мягкая трава, усеянная множеством разных полевых цветов, а источник серебристой лентой протекал между мхом и терялся в соседних скалах.
Однажды бедного Грибуля бранили и обижали больше обыкновенного, он пошел по привычке к старому дубу поплакать о своем горе. Вдруг он почувствовал, что его что-то укусило в руку, и, осматриваясь, увидел большого шмеля, который сидел не двигаясь и смотрел на него с презрением. Грибуль взял его за крылья, посадил на ладонь и сказал:
– Я тебе ничего не сделал, за что же ты меня кусаешь? Неужели и животные так же злы, как люди? Впрочем, это естественно: они животные, а люди должны были бы подавать им хороший пример. Лети и будь счастлив, я не убью тебя, хотя ты принял меня за врага, но, как видишь, ошибся, к тому же смерть твоя не вылечит меня от боли.
Шмель вместо ответа начал выгибать спину и водить лапками по крыльям и носу. Он поступил, как настоящий шмель, которому приятно и который позабыл, что сию же минуту нанес обиду.
– Раскаиваться тебе не в чем, а благодарить и подавно не за что, – прибавил Грибуль. – Мне только жаль, что у тебя такое дурное сердце; я должен признаться, что ты очень красив и такого большого шмеля я еще никогда не видел, одежда твоя черная с фиолетовым отливом, правда невеселая, но зато похожа на царскую мантию. Быть может, между шмелями ты значительное лицо, а потому и кусаешься так больно.
Грибуль говорил улыбаясь, хотя у самого от боли были слезы на глазах. Шмелю очень понравились такие слова, и он начал шевелить крыльями. Потом встал на ноги и как контрабас загудел глухим густым голосом, полетел и скоро скрылся из виду.
Грибуль знал целительное действие некоторых трав и, чтобы избавиться от боли, сорвал несколько листьев, вымыл руку в источнике, приложил их к больному месту, лег и заснул.
Вдруг он слышит во сне какую-то странную музыку, будто басы соборных певчих раздались из-под земли, они пели:
Зажужжим, зажужжим, Приближается царь!А источник, сбегающий со скал, говорил звонким голосом цветам, растущим на его берегах:
Задрожим, задрожим, Приближается враг!И ему казалось, будто толстые корни дуба извивались и ползли по траве, точно змеи. Барвинок и маргаритки закачались на стеблях, как от сильного ветра, большие черные муравьи, которые очень любят древесную кору, торопливо спускались по дубу, садились на задние лапы и с удивлением смотрели, что делается вокруг них; кузнечики выходили из нор и приставляли к отверстию свои носики. Вдруг листья и камыши так громко зашелестели, что Грибуль проснулся в испуге от всей этой сумятицы.
Но как же удивился Грибуль, когда увидел перед собой высокого толстого господина, одетого с ног до головы в черное по-старомодному сшитое платье. Этот господин смотрел на него во все глаза и сказал ему громким голосом, сильно картавя:
– Ты оказал мне услугу, я никогда этого не забуду. Теперь проси у меня чего хочешь, я для тебя все сделаю.
– Увы, милостивый государь, – отвечал Грибуль, дрожа от страха, – едва ли вы можете исполнить мою просьбу. Родители меня не любят, а я бы очень желал, чтобы они меня полюбили.
– Действительно, этого я не могу сделать, – сказал черный господин, – но все же я не хочу оставить тебя без награды. Что ты очень добр, это я знаю, и я желаю, чтобы ты был очень умен.
– Ах, милостивый государь, – вскричал Грибуль, – если для того, чтобы быть умным, нужно быть злым, то не давайте мне ума. Я желаю лучше остаться глупым, но добрым.
– А что ты сделаешь с твоей добротой среди злых? – сказал толстый господин, и глаза его засверкали, как два раскаленных угля.
– Я слишком глуп и не могу отвечать вам, – едва проговорил испуганный Грибуль, – но до сих пор я никому не делал зла и прошу вас, не внушайте мне желания вредить другим.
– Да ты, как я вижу, в самом деле дурак, – сказал черный господин. – Прощай, мне некогда терять с тобой время на доказательства, впрочем, мы еще увидимся, а когда тебе будет что нужно, обратись ко мне и помни, что я тебе все сделаю.
– Я вам очень благодарен, – отвечал Грибуль, и зубы у него стучали как в лихорадке. Господин отвернулся. От солнечных лучей его черное бархатное платье сначала показалось темно-синим, а потом перешло в превосходный фиолетовый цвет, борода ощетинилась и плащ надулся как шар, он глухо зарычал, страшнее львиного, тяжело поднялся с земли и скрылся в ветвях дуба.
Грибуль протер глаза и спросил себя, не во сне ли все это видел и слышал? Наконец он уверил себя, что это был действительно сон, и ему даже показалось, что он проснулся тогда только, когда улетел черный господин. Он боялся, что мать и отец будут его бранить и даже, чего доброго, бить за то, что его так долго не было, а потому он поднял палку и сумку и пошел домой.
Едва он вошел в комнату, как мать закричала:
– Наконец-то ты вернулся, кажется, давно бы пора! Вот дурак, а его ожидает такое счастье, о котором он, верно, никогда и не думал.
Сначала, как водится, она его долго бранила, потом потрудилась рассказать, что в лес приходил господин Шмель, остановился в их доме, съел большой горшок меду и заплатил золотую монету. Потом, пересмотрев друг за другом братьев и сестер Грибуля, спросил у Бригули: «Нет ли у вас еще детей, помоложе этих?» И, услыхав, что есть еще сын двенадцати лет по имени Грибуль, господин Шмель вскричал: «Какое превосходное имя, а ведь я давно ищу такого ребенка, пришлите его, пожалуйста, ко мне, и я сделаю его счастливым».
– Но кто же такой этот господин Шмель? – спросил удивленный Грибуль. – Я его совсем не знаю.
– Господин Шмель, – отвечала мать, – богатый господин. Он приехал сюда затем, чтобы купить очень много земли и богатый дворец невдалеке от нас. Никто его не знает, но все говорят, что он очень добр и сорит деньгами. Быть может, он даже и глуп, потому что полюбил тебя за имя, но во всяком случае пойди к нему скорей, он, верно, сделает тебе богатый подарок.
– Как же мне найти его? – спросил Грибуль.
– Гм, я не знаю, – отвечала Бригуль, – я до того была изумлена, что даже и не подумала спросить, но, по всей вероятности, он уже живет в замке, который так хотел купить. Замок этот на опушке леса; ты очень хорошо знаешь местность и будешь окончательно глуп, если не найдешь человека, которого все знают и о котором говорят, как о чуде. Иди скорей, и что бы он тебе ни дал, неси домой, если он даст тебе деньги, то смотри, не бери себе ни копейки, если же что-нибудь съестное, не обнюхивай, а неси мне и отцу, как получил. В противном случае ты будешь наказан.
– Зачем вы мне все это говорите, милая маменька? – отвечал Грибуль. – Вы знаете, я никогда от вас ничего не скрывал и скорее решусь умереть, чем обмануть вас.
– Правда, ты слишком глуп; ну иди же и не рассуждай больше.
Грибуль пошел по указанной матерью дороге. Он скоро почувствовал сильную усталость, день уже клонился к вечеру, а он с утра ничего не ел. Он сел отдохнуть под фиговое дерево, но в это время года плодов еще не было, а голод совершенно его ослабил. Вдруг он услышал над головой жужжание пчел, привстав на цыпочки, он увидел в дупле мед. Он поблагодарил небо за посланную помощь и достал осторожно меду, не ломая сот, поел и уже хотел идти дальше, как вдруг из дупла раздался пронзительный голос, и он услышал слова:
– Остановите злодея! Скорее бегите ко мне, дочери мои, служанки и невольницы, уничтожим вора, разграбившего наши сокровища.
Грибуль тотчас понял, о ком шла речь, и очень испугался.
– Виноват, госпожи пчелы, – сказал он, дрожа от страха. – Я почти умирал с голоду и не мог нанести вам убытку, если поел вашего превосходного меда; ваш мед так вкусен, желт и душист, что сначала счел его за золото, а когда попробовал, то убедился, что он гораздо лучше чистого золота.
– Он неглуп, – проговорил молоденький приятный голос, – и за его милый отзыв о нашем меде прошу вас, маменька, помиловать его и позволить продолжать путь.
После этих слов в дереве раздалось жужжание, как будто говорили все вдруг и о чем-то спорили, но никто не выходил. Грибуль убежал, и его никто не преследовал. Когда он отбежал подальше, ему захотелось обернуться, и он невольно остановился полюбоваться только что покинутым местом: так оно было великолепно. Лучи заходящего солнца падали на фиговое дерево и роскошно освещали его ветви, в этих полосах света, на которые даже трудно было смотреть из-за ослепительного блеска, вертелось, пело и танцевало множество полупрозрачных существ. Грибуль смотрел сколько мог, но оттого ли, что он сидел далеко, или оттого, что солнце светило в глаза, он не мог хорошенько разобрать того, что видел.
То казалось ему, что танцуют дамы и девицы в золоченых платьях с темными корсажами, то просто рой пчел толчется в полосах света.
Но ночь все приближалась, солнце село за кусты, а вместе с ним пропало и чудное видение. Грибуль опять пошел по дороге к замку.
Он шел долго, очень долго и постоянно утешал себя, что уже немного остается до опушки, пока не увидел, что заблудился. Сел еще раз отдохнуть, и ему захотелось спать, но он побоялся волков и, чтобы не задремать, решил идти дальше сколько хватит сил. Наконец и силы ему изменили, он уже был готов упасть от усталости, как вдруг между деревьями увидел огни. Это ободрило его, он пошел в ту сторону и через несколько минут очутился перед прекрасным освещенным домом. В комнатах играла музыка и расхаживали гости, а на кухне повара усердно готовили ужин. Грибулю было очень совестно, что он пришел так поздно, но все же решился постучать у подъезда:
– Если хозяина дома зовут Шмель, то нельзя ли его видеть?
– Если вы Грибуль, то мы получили приказание хорошо принять вас, – отвечал швейцар. – Наш господин только что купил этот замок и сегодня дает большой бал. Поговорить с ним вы можете завтра, если вас зовут Грибуль.
– Ну и хорошо, – отвечал Грибуль, – меня-то именно и зовут Грибуль.
– Когда так, то пожалуйте ужинать и отдохните.
Швейцар тотчас же провел его в прекрасную комнату. Она была так хорошо убрана, что Грибуль принял ее за комнату хозяина дома, а на самом деле она принадлежала только его главному лакею. Ему подали на ужин плоды и самые лучшие конфеты. Грибуль охотнее бы съел тарелку хорошего супа и кусок хлеба, но спросить не смел, а когда он кое-как утолил свой голод, то слуга сказал, что он может лечь спать, если хочет.
Грибуль воспользовался позволением, но шум и говор со всех сторон не дали ему заснуть. Каждую минуту отворялись двери, и большие контрабасы гудели, как гром. Двери затворялись, музыка смолкала, но тут начинали в кухне греметь кастрюлями, в буфете звенеть посудой, слуги перешептывались и переглядывались, точно затевали что-то недоброе, так что Грибуль то прислушивался к окружающему, то дремал и сам не мог разобрать, видит ли он все это во сне или наяву.
Вдруг ему показалось, что слуга, который все время так хорошо с ним обращался, вошел в комнату, подошел к постели и смотрит, спит ли он – что же, в его безобразной толстой голове нет глаз! Грибуль очень перепугался и хотел говорить, но вдруг раздалось тик-так, слуга задвигал руками и ногами и полез на потолок, спустился, опять поднялся, чрезвычайно искусно и скоро перекрещивал это пространство нитями, а тик-так, как звук маятника, все продолжалось. Сначала эта игра занимала Грибуля, но когда слуга начал опутывать его нитями, то он не на шутку испугался и хотел закричать, но вместо крика у него вылетел из груди тоненький слабый звук, похожий на писк комара. Он попробовал вытащить руки из-под одеяла, но что же он увидел? – вместо рук у него маленькие тоненькие лапы, до того маленькие, что он боялся сломать их, если пошевелит. Наконец он увидел, что сделался маленькой мошкой, а тот, кого он принял за слугу господина Шмеля, был некто иной, как мохнатый паук обыкновенной величины, который старался завлечь его в паутину и съесть. Тут Грибуль от страха проснулся: в комнате был слуга, уже не паук, а обычный человек, он прятал в свой шкаф накраденные во время бала бутылки с вином, серебряные столовые приборы, великолепные вазы и другие драгоценные вещи; вероятно, пропавшее хотел поставить на счет какому-нибудь бедняку, который не успел снискать такого расположения у господина, каким пользовался он как старший слуга. Сначала Грибуль не понимал, что он делает, но догадался, когда слуга обернулся к нему с испуганным и угрожающим видом и сказал ему сухим разбитым голосом, походившим на стук старых стенных часов:
– Что вы на меня смотрите и отчего вы не спите?
Грибуль далеко не был так прост, как его считали, он сделал вид, будто ничего не замечает, встал и попросил позволения идти на бал, прибавил, что из-за шума он все равно спать не может.
Слуга был очень рад от него отвязаться и потому с радостью сказал:
– Идите, идите, вы совершенно свободны.
Грибуль шел все прямо, поднимался на лестницы, спускался с них, проходил ряд комнат и видел много вещей, о назначении которых даже не имел понятия, но они его не занимали. В одной из этих комнат сидело множество мужчин в черных платьях и богато одетых дам. Они играли в карты, в кости и спорили между собой о разложенных на столах грудах золота.
В другом зале мужчины, одетые тоже в черное, и разряженные дамы танцевали под звуки музыки. Нетанцующие же, казалось, смотрели на этих и до того громко жужжали, что совершенно заглушали музыку. В следующей комнате ели стоя, с жадностью и далеко не так опрятно, как привык Грибуль.
Гости бродили по комнатам, толкались, умирали от жары, и все это движущееся общество казалось печальным или сердитым. Наконец начало светать и открыли окна. Грибулю, заснувшему на скамье, показалось, что в отворенные окна вылетали целые рои шмелей, трутней и ос, и когда он открыл глаза, то был один среди пыли. Люстры погасли, измученные слуги бросились, как попало, на столы и на диваны. Другие же подбирали остатки после бала. Грибуль окончил свой сон под деревьями, в прекрасном саду, наполненном превосходными цветами.
Проснувшись совершенно бодрый и свежий, он увидел перед собой толстого, высокого господина в черной бархатной одежде с фиолетовым отливом, так похожего на того, которого он видел во сне под дубом, на Шмелевом перекрестке, что он даже подумал, что это тот же самый, а потому не вытерпел и сказал ему:
– А! Здравствуйте, господин Шмель, как поживаете со вчерашнего утра?
– Грибуль, – отвечал богатый господин тем же громким и картавым голосом, который Грибуль уже слышал во сне, – я очень рад тебя видеть, но мы встречаемся в первый раз, и твой вопрос меня удивляет. Я знаю, что ты пришел в эту ночь, но я уже спал и не видел тебя.
Грибуль подумал, что сказал глупость, напоминая о своем сне, как о деле, о котором господин Шмель обязан вспомнить, старался поправиться и спросил, не болен ли он был вчера.
– Нет, я здоров как нельзя лучше, – отвечал Шмель, – отчего тебе показалось, что я болен?
– Потому что вы вчера давали бал, – отвечал Грибуль, теряясь все более и более, – и я думал, что вы сами присутствуете на нем.
– Нет, мне это очень бы надоело, – отвечал господин Шмель. – Я давал бал, чтобы знали, что я богат, но избавляю себя от труда присутствовать на нем. Но поговорим лучше о тебе, дорогой Грибуль, ты очень хорошо сделал, что пришел ко мне, я желаю тебе добра.
– Только потому, что меня зовут Грибулем? – спросил Грибуль.
Он не смел задавать умных вопросов, боясь опять промахнуться.
– Да, только потому, что тебя зовут Грибулем, – отвечал господин Шмель, – это тебя удивляет, но помни, мой друг, что в жизни должно уметь пользоваться случаем, а не разбирать, как и что случилось.
– Итак, какое же добро хотите вы мне сделать? – спросил Грибуль.
– А это совершенно от тебя зависит, – отвечал господин Шмель.
Грибуль был в большом затруднении от всего, что он видел, ему ничего не хотелось особенно иметь, к тому же все показалось ему слишком богатым и прекрасным, чтобы честность его могла искуситься. Подумав немного, он сказал:
– Если вы можете сделать, чтобы родители меня полюбили, то я всю жизнь буду вам благодарен.
– Скажи мне прежде, за что они тебя не любят? – спросил господин Шмель. – Мне кажется, ты очень миленький мальчик.
– Увы! Они говорят, что я глуп, – сказал Грибуль.
– В таком случае, тебе нужно дать ума, – ответил господин Шмель.
Грибуль, отказавшись во сне от ума, на этот раз не посмел сопротивляться.
– Но что же надо делать, чтобы быть умным? – спросил Грибуль.
– Надо заняться науками, мой друг. Я очень учен и могу учить тебя магии и волшебству.
– Как же буду я учиться таким наукам, которых названия даже не знаю, если я слишком глуп, чтобы выучиться чему бы то ни было?
– О, это вовсе не трудно, – отвечал господин Шмель, – я сам буду учить тебя, но ты должен жить со мной и быть моим сыном.
– Вы очень добры, – сказал Грибуль, – но у меня есть родители, которых я очень люблю, и я не хочу с ними расстаться. Хотя, кроме меня, у них есть еще дети, которых они любят больше, чем меня, но я могу им быть полезным, и мне кажется, что было бы очень дурно с моей стороны, если бы я не захотел быть их сыном.
– Это совершенно зависит от тебя, – сказал господин Шмель. – Я никого не принуждаю. Прощай, Грибуль, если ты не хочешь у меня оставаться, то мне некогда с тобой разговаривать. Когда переменишь мнение или пожелаешь что-нибудь другое, приходи ко мне, я всегда рад тебя видеть.
С этими словами господин Шмель ушел, и Грибуль остался один. Он пошел домой, и по мере того как приближался к дому, у него становилось веселее на сердце, он рассуждал так:
– Господин Шмель, сам того не зная, дал мне средство заставить родителей полюбить меня, потому что, когда они узнают, что он предлагал мне оставить их и быть сыном такого богатого человека, как он, а я отказался, имея родителей, данных Богом, то они увидят, что я вовсе не зол.
Едва завидел он мать издалека, которая с нетерпением ждала его в конце сада, побежал и хотел весело броситься в ее объятия, но она не допустила его.
– Что принес ты? Где подарок, который он тебе дал? – спросила мать.
Увидев, что у него ничего нет, она подумала, что он потерял, и хотела уже прибить его. Грибуль просил ее прежде выслушать, и, если он не исполнил своего долга, она может его наказать. Тогда он передал слово в слово свой разговор с господином Шмелем; но вместо благодарности и поцелуев мать взяла ивовую ветку и начала его сечь, крича вместе с ним. Бредуль пришел узнать, в чем дело.
– Посмотри, этот осел, этот скверный, злой мальчишка не захотел быть сыном и наследником человека, который богаче самого царя! – кричала рассерженная мать. – Он был даже до того глуп, что, когда уходил, не попросил у него мешка с деньгами, или хорошего места для нас в его доме, или хоть порядочного куска земли для увеличения нашего имущества.
Бредуль, в свою очередь, принялся бить Грибуля и бил его так больно, что мать, боясь, что он убьет его, отняла, сказав:
– Ну, довольно на этот раз.
Огорченный Грибуль спросил, что же делать ему, чтобы им нравиться, прибавив, что если уж непременно нужно, чтобы он жил с господином Шмелем, то он покоряется их воле. Хотя мать, еще несколько любившая его за его характер и желавшая видеть его богатым и хорошо одетым, сказала «да», отец, который не верил в его доброту и думал, что невозможно забыть все оскорбления, какими его постоянно осыпали, не согласился. Он думал, что будет гораздо выгоднее посылать его время от времени к господину Шмелю: тот, верно, будет давать деньги, а Грибуль, боясь наказания, всегда принесет их домой.
Через два или три дня его одели как могли хуже, надели на него изорванный жилет, толстые деревянные башмаки, грязный сюртук и послали так к господину Шмелю, чтоб он подумал, что родители не в состоянии одевать его лучше и сжалился бы над ними; в то же время ему велели спросить очень большую сумму денег.
Грибуль, любивший во всем опрятность и чистоту, был до того унижен, когда его заставили явиться в таком грязном рубище, что у него выступили слезы на глазах. Но господин Шмель принял его от этого не хуже, несмотря на ворчание и грубый голос, он казался добрым человеком и, видимо, очень любил Грибуля, хотят тот не мог объяснить себе за что.
– Я очень доволен, что ты подумал о себе, Грибуль, – сказал господин Шмель, – возьми, что тебе понравится.
Господин Шмель привел его в большой подвал, там лежали грудами золото, бриллианты, жемчуг и различные драгоценные камни, по ним ходили, как по песку; кроме того, там было еще вырыто семь глубоких ям, наполненных доверху разными сокровищами.
Грибуль, исполняя приказание родителей, брал только золото, он не знал, что бриллианты еще драгоценнее. Ему было велено принести как можно больше, и он набил золотом все карманы, но без малейшего удовольствия, как будто набирал камни. Он не понимал, к чему такое богатство.
Потом он поблагодарил господина Шмеля больше из вежливости, чем от удовольствия, и пошел домой, думая: «Теперь родители увидят, что я исполнил их волю, и, быть может, поцелуют меня».
Грибуль устал нести столько золота. А так как ему пришлось проходить невдалеке от Шмелева перекрестка, то он и свернул немного с дороги, чтоб отдохнуть под старым дубом. Он съел несколько желудей с этого дерева, которые всегда казались ему лучшими во всем лесу, действительно, они были сладки, как сахар, и мягки, как масло. Потом напился из ручья воды и прилег было вздремнуть; вдруг откуда-то взялись его три брата и три сестры, они бросились на него и начали его щипать, кусать, царапать и отнимать золото.
Грибуль, сколько мог, защищал свое богатство и уговаривал их так:
– Дайте мне только донести его до дому, чтоб отец и мать видели, что я исполнил их приказание, и тогда берите его, если хотите.
Но они не слушали его, а продолжали бить и грабить; вдруг в дупле раздался страшный шум, будто в нем шел концерт на десяти тысячах контрабасов, и вслед затем целые рои трутней, ос и шмелей всех родов бросились на братьев и сестер Грибуля, они стали их так больно жалить и гнать, что те прибежали домой страшно распухшие, одни почти слепые, а у других руки были не тоньше головы, все были чрезвычайно обезображены, немилосердно кричали. Грибуль же хотя и находился посреди роя, но не был ни разу укушен, он подобрал свое золото и принес его домой.
Пока мать мыла и перевязывала детей, отец, заботившийся только о деньгах, обыскивал Грибуля и расспрашивал его; на этот раз он похвалил его и упрекнул только в том, что он ленив и неженка и что мог бы принести вдвое больше.
Других детей уложили в постель, они действительно были очень больны, так что думали, что некоторые из них совершенно ослепнут.
На другой день, когда Бредуль хотел с женой пересчитать золото, они были очень удивлены, увидев, что оно тает в руках и протекает между пальцами на стол в виде желтой жидкости, которая была не что иное, как мед, да еще самого дурного качества, он был скорей горек, чем сладок.
– Ладно, – сказала Бригуль, сердито глядя на стол, – Шмель колдун, и перехитрить его трудно. Ссориться же с ним незачем, а лучше, вместо того чтобы просить у него денег, пошлем-ка сами ему подарок. Мне показалось, что он очень любит мед и, без сомнения, он сыграл с нами эту злую шутку для того, чтоб мы догадались прислать ему его.
– Теперь я понимаю, в чем дело, – отвечал Бредуль, – пошлем ему самого лучшего меду из наших ульев, надеюсь, что он хорошо нам за него заплатит.
На следующий день положили на осла большой бочонок превосходного меду и послали с ним Грибуля к господину Шмелю.
Едва Грибуль поравнялся с фиговым деревом, где еще недавно видел такие чудеса, как из дерева с шумом вылетели пчелы, бросились на осла, который, как следует ослу, перепугался, сбросил с себя бочонок и пустился в галоп, крича изо всех сил.
Тогда Грибуль, которого все это заставило призадуматься, увидел перед собой двух дам необыкновенной красоты в сопровождении такого множества дам и девиц, что пересчитать их не было возможности. Самая высокая из них была очень богато одета, казалось, она не шла, а будто плыла по воздуху. Подле нее грациозно выступала красивая княжна.
– Глупец! – сказала старшая (по ее царской мантии Грибуль узнал в ней царицу). – Ты дважды заслужил смерть, потому что ты освободил первого любимца царя шмелей, нашего смертельного врага, но княжна, моя дочь, которую ты видишь перед собой, испросила тебе помилование, она думает, что ты можешь оказать нам услугу. Посмотрим, можно ли на тебя положиться?
– Приказывайте, что угодно, госпожа царица, – отвечал Грибуль, – я никогда не имел намерения оскорбить вас, и к тому же вы так прекрасны, что я всегда с удовольствием готов вам служить.
– Дитя мое, – сказала царица смягченным голосом, потому что она любила всякую лесть, – слушай хорошенько, что я буду говорить тебе. Оставь ничтожный мед, который ты нес царю шмелей, а передай ему лучше эти слова, они ему больше понравятся. Скажи ему, что царица пчел устала от войны и что она знает, что в последнее время трутни и шмели до того многочисленны и сильны, что в битве сопротивляться им очень трудно. Промышленники готовы уделить часть собранных богатств победителям и заключить с ними мир. Я знаю, что царь шмелей считает себя до того сильным, что вздумает предложить нам унизительные условия, но я знаю также и то, что он давно уже добивался руки моей дочери и даже потерял надежду получить ее когда-либо. Скажи, что я согласна на замужество моей дочери с ним с тем только условием, чтобы он оставил в покое наши ульи и довольствовался значительной частью наших сокровищ, которые княжна получит в приданое.
После этих слов царица, дочь и весь двор скрылись, и Грибуль видел множество пчел, сидящих кучами по ветвям фигового дерева. Он пошел своей дорогой, рассказал господину Шмелю, что родители послали ему целый бочонок самого лучшего меду, но царица пчел отняла его, и передал все слова, которые она приказала сказать царю шмелей.
– Так как вы во всем очень сведущи, – прибавил Грибуль, – то не можете ли вы мне сказать, где живет такой царь, если только это не вы сами, я всегда это подозревал, хотя за это я вовсе не имею о вас дурного мнения.
– Все это бредни и выдумки, – ответил Шмель. – Хорошо, хорошо, Грибуль, ты исполнил возложенное поручение. Но поговорим лучше о тебе, мой друг, убедился ли ты теперь, что никогда не будешь прав перед своими родителями? Они слишком хитры, а ты уж очень прост. Не хочешь ли ты остаться у меня? И тогда тебе уже больше незачем их бояться, а со временем ты будешь таким умным человеком, что станешь управлять всей землей.
Грибуль вздохнул, но ничего не отвечал. Господин Шмель быстро повернулся и ушел прочь: он вообще не оставался долго на одном месте, имел постоянно озабоченный вид, хотя никогда никто не видел его за делом. Каждый раз, когда Шмель говорил Грибулю, что он хочет оставить его у себя и учить, Грибулю становилось страшно, хотя он сам не знал отчего. Он воротился к родителям и рассказал все, как случилось. Он очень боялся признаться, что царица пчел отняла у него мед и обратила в бегство осла, но, делать нечего, сказать все же было надо. Тогда он сказал в извинение, что имел дело не с простыми пчелами, а с самой царицей, ее двором и всем войском.
Он ожидал, что его сочтут за лгуна и выдумщика, но Бредуль, веривший в колдунов и даже когда-то сам пробовавший им сделаться, почесал за ухом и сказал жене:
– Тут очевидное колдовство, у Грибуля есть надежда сделаться богаче самого царя, потому что он может быть колдуном. Правда, он слишком прост для этого, но и то сказать, ведь от господина Шмеля зависит дать ему ум. Не будем же далее сопротивляться, пусть он делает, что хочет, иначе он разорит нас и погубит всех наших детей. Теперь я понимаю, что все осы и трутни, так больно ужалившие их, были не простые насекомые. Пошлем же к нему Грибуля, потому что, когда Грибуль будет не беднее самого царя, он из одного самолюбия возведет своих родных в высшие должности.
Тогда, обратясь к Грибулю, он сказал:
– Послушай, мальчуган, воротись сию же минуту к господину Шмелю и скажи ему, что твой отец тебя ему отдает, но смотри, берегись рассердить его чем-нибудь. Останься у него, я приказываю это, если же ты не послушаешься, то будь уверен, что умрешь у меня под палкой.
Бедный Грибуль, отвергнутый родителями, вышел из дому со слезами на глазах. В эту минуту матери стало грустно, и она вышла проводить его немного, потом она поцеловала его и простилась. Грибуль был так доволен этой лаской, что с удовольствием покорился своей участи, думая, что, быть может, теперь они полюбят его и станут ласкать, когда он придет повидаться с ними.
Господин Шмель принял Грибуля очень хорошо. Он велел одеть его в богатое платье, дал ему прекрасную комнату, посадил обедать с собой за один стол и приставил служить ему трех пажей. Потом он стал учить его магии.
Но Грибуль не делал больших успехов. Его заставляли писать цифры за цифрами, делать вычисления за вычислениями, а это его нисколько не занимало, тем более что он не знал, к чему все эти премудрости могут пригодиться. Его богатство также не делало его счастливым, он желал только быть всегда чистым и опрятно одетым.
Господина Шмеля он видел очень мало и то всегда занятого чем-то важным, он трепал его по щеке и говорил: учись цифрам, вычисляй с учителем, которого я к тебе приставил, а когда будешь все это знать, я сам буду твоим учителем и посвящу тебя во все тайны науки.
Грибуль очень желал полюбить господина Шмеля, который делал для него так много добра, но никак не мог в этом успеть. Господин Шмель был шутлив, но не забавен, шумлив, но не весел, и расточителен, но не благотворителен. Никто не знал, о чем он думает, если только он о чем-нибудь думал. Иногда он был груб, но по большей части равнодушен. У него была страсть, противная для Грибуля, – есть только мед, сиропы и разные сласти, что, впрочем, не мешало ему толстеть и жиреть. Ел он с жадностью и чрезвычайно неопрятно. Грибуль не любил его целовать, потому что борода его была всегда в сахаре. Но, несмотря на свои огромные расходы, господин Шмель день ото дня становился богаче.
Спустя некоторое время в их царство приехала прекрасная и богатая княжна с царицей, своей матерью, чтобы выйти замуж за господина Шмеля. Дело было скоро кончено. Праздники по этому случаю давались великолепные, пригласили и царя, который остался очень доволен, что присутствовал на свадьбе, а после свадьбы оказалось, что господин Шмель сделался вдвое богаче против прежнего.
Жена его была очень красива и очень умна, она всегда ласково обращалась с Грибулем, но, несмотря на это, Грибуль не мог любить ее так, как бы хотел. Он всегда ее боялся, потому что она напоминала ему княжну пчел, ему казалось, что он видел ее под фиговым деревом в тот день, когда целый рой пчел обратил в бегство осла, а когда она целовала его, то он как будто чувствовал, что она жалит его. Она, подобно мужу, ела только мед и сиропы, что было Грибулю так противно в господине Шмеле. К тому же она постоянно говорила об экономии; Грибуля учили считать, и она беспрестанно мучила его, говоря, что он должен учиться скорей применять это искусство к производительности.
Если разобрать все хорошенько, то после свадьбы дом господина Шмеля стал, правда, смирнее, но нисколько не веселее прежнего. Госпожа Шмель была скупа и заставляла работать всех без отдыха. Государство от этого улучшалось и обогащалось. В нем производились всевозможные работы, строили города, морские пристани, дворцы, театры; делали мебель, ткали великолепные материи, давали праздники, на которых все были одеты в золотую парчу, кружева и бриллианты. Все было до того хорошо и роскошно, что иностранцы приходили в изумление. Но бедным от этого не было лучше. Для того чтоб заработать копейку в этом государстве, нужно было быть или очень ученым, или очень сильным, или уж очень ловким, лишенных же большого ума, познаний и здоровья все презирали и забывали: им приходилось воровать, просить милостыню или умирать с голоду; заметно стало, что все сделались злыми, одни оттого, что были уж очень счастливы, другие – потому, что не довольно счастливы. Все спорили и ненавидели друг друга. Отцы упрекали детей, что тихо растут и не могут добывать денег, дети – родителей, что не скоро умирают и не оставляют им наследства. Мужья и жены не любили друг друга, потому что господин Шмель и жена его, примеру которых все следовали, женившись по расчету, терпеть не могли друг друга и постоянно упрекали друг друга в происхождении. Госпожа Шмель говорила своему мужу, что он низкого происхождения, а господин Шмель называл ее чучелом, набитым дворянством. Иногда дело доходило даже до грубостей. Он обвинял жену в скупости, а она называла его вором.
Грибуль не присутствовал при этих домашних ссорах и не понимал, отчего в таком богатом и прекрасном царстве так много недовольных и несчастных людей. Со своей стороны, он мог бы быть очень счастлив, потому что родители его, разбогатев, уже больше не мучили его, а господин Шмель, постоянно занятый своими делами, не противоречил ему ни в чем. Но у Грибуля было тяжело на сердце, хотя он и сам не знал почему. Ему скучно было жить всегда одному, у него не было товарищей его лет, прочие же дети, по наущению родителей, завидовали его богатству; тому, что бы он хотел знать, его не учили; господин Шмель осыпал его подарками и всякими удовольствиями, не разбирая, чего они стоили, но, казалось, заботился о нем не более, как о первом попавшемся на глаза. Господин Шмель вообще никогда не оказывал ни уважения, ни презрения, и раз, когда Грибуль вздумал предостеречь его и сказал, что старший слуга его обкрадывает, то он ответил: «Хорошо, хорошо! Он делает свое дело».
Наконец, когда Грибулю исполнилось пятнадцать лет, господин Шмель взял его под руку и сказал:
– Мой молодой друг, ты будешь моим наследником, ибо решено судьбой, что у меня не будет детей от последнего брака. Я это знал и потому не боялся обидеть тебя своей женитьбой, ты будешь очень богат, да что я говорю, ты уж и теперь богат, потому что все, что мое, – твое. Но после меня тебе будет много хлопот и забот и придется много выдержать битв, чтоб удержать за собой все имущество, потому что семейство моей жены меня ненавидит. Оно не объявляет мне войны только из боязни ко мне. Все пчелиное племя в заговоре против меня и ждет только удобного случая, чтоб напасть на мои владения и захватить все, что, по их мнению, им принадлежит. Пора, наконец, посвятить тебя в мои тайны, чтобы ловкость спасла тебя от насилия. Итак, идем со мной.
С этими словами господин Шмель сел с Грибулем в карету и приказал ехать к Шмелеву перекрестку. Когда они подъехали к дубу, господин Шмель отослал экипаж, потом он взял Грибуля за руку, велел ему сесть на корни дуба и спросил:
– Ел ли ты когда-нибудь эти желуди?
– Да, – отвечал Грибуль, – они очень хороши, остальные же во всем лесу горьки и годны разве только для свиней.
– В таком случае, ты дальше ушел, чем думаешь. А так как эти желуди тебе нравятся, то поешь их теперь.
Грибуль ел с удовольствием, потому что они напоминали ему его детство, но тотчас же почувствовал, что им овладевает сильный сон, и ему казалось, что он видит и слышит господина Шмеля только во сне.
Сначала ему показалось, что господин Шмель ударил по дубовой коре и дуб раскрылся, тогда Грибуль увидел внутри дерева превосходный пчелиный улей с восковыми сотами и золотым медом, каждая пчелка сидела в своей сочной, чистой ячейке. Но по всем комнаткам звучали нежные голоски:
Соберем, соберем; Сбережем, сбережем; Откажем, откажем; Ужалим, ужалим!Только громкий голос заставил их замолчать, закричав из глубины улья:
Молчите, молчите! Приближается враг!Тогда господин Шмель зажужжал, полез по дереву и начал стучать крыльями и лапами в ячейку царицы, которая загородилась чем могла и задвинула все засовы. Господин Шмель издал звук, подобный охотничьей трубе, на его зов явились тысячи, миллионы шмелей, трутней и ос, сначала в виде тучи на небе, а вскоре огромным войском, которое бросилось на улей.
Пчелы решились выйти на защиту, и Грибуль был очевидцем ужасной битвы, в которой каждый старался проколоть врага жалом или съесть его голову. Но драка сделалась еще ужаснее, когда с дерева спустилось новое войско. Новоприбывшие, не принимая участия в споре, кажется, заботились только о том, чтобы убивать кого попало, а потом уносить трупы и есть их. Это была целая республика толстых больших муравьев, столица которых находилась невдалеке от места битвы, в ней они прохлаждались на листьях и в то же время лизали вытекавший из улья мед, до которого муравьи такие же большие охотники, как и шмели. Всякий раз, когда раненое насекомое падало на спину и валялось в конвульсиях бешенства и предсмертных страданий, муравьев двадцать бросалось его кусать, щипать, рвать и потом, заставив его умереть медленной смертью, они сзывали своих товарищей, и те уносили мертвеца в муравейник. В этой суматохе мед, вытекавший из выломанных дверей ячеек, так облепил сражающихся и грабителей, что тут погибло большое число, одни из них задохнулись и утонули, другие же были ранены неприятелем, против которого не могли защищаться. Наконец, поле сражения осталось за трутнями, и тогда у них началась отвратительная оргия. Победители обжирались медом среди жертв, ступая по трупам матерей и детей, и все они до того гнусно напились, что многие умерли от расстройства желудка или валялись как попало, между мертвыми и умирающими.
Что касается господина Шмеля, которому на серебряном блюде поднесли ключи от улья, то он смеялся самым наглым образом и, взяв Грибуля за шиворот, сказал:
– Поди, трус, пользуйся своей частью, ведь для тебя была устроена вся эта резня. Иди же, пользуйся ей, ешь, бери, грабь и убивай.
И он бросил его на дно улья, которое превратилось в кровавое озеро. Грибуль забился, чтоб вылезть оттуда, и, катясь вдоль дуба, упал в столицу муравьев. В одну минуту на него бросилось несколько миллионов челюстей и так больно защипали его, что он вскрикнул и проснулся. Но, открыв глаза, он уже ничего не видел прежнего. Дуб заклеился, муравейник исчез, несколько пчел летало около кашки, да несколько трутней пило воду с прибрежных цветов, забрызганных ручьем, а господин Шмель, спокойный, как обыкновенно, насмешливо смотрел на Грибуля.
– Ну, почтеннейший соня, – сказал он, – так-то ты пользуешься первым уроком. Я объясняю законы природы, а ты изволишь спать.
– Извините меня, – отвечал Грибуль, все еще оцепеневший от ужаса. – Я сам не рад, что заснул, потому что видел страшный сон.
– Хорошо, хорошо, – возразил господин Шмель, – нужно привыкать ко всему. Но на чем, бишь, мы остановились?
– Право, ничего не помню, – отвечал Грибуль.
– Да, – сказал господин Шмель, – я объяснил тебе естественную историю трутней и пчел. Последние работают для своего употребления, говорю тебе, они очень искусны, очень деятельны, очень богаты и очень скупы. Первые же не так хорошо работают и не умеют делать мед, но зато умеют брать его. Муравьи также неглупы: они превосходно строят города, наполняют их трупами, которыми питаются зимой, нет народа, который бы грабил больше их и лучше соединялся между собой, чтобы вредить другим. Хочешь сберегать, подобно пчелам, или же грабить, как трутни? По-моему, вернее заставлять работать других, а самому только брать. Поверь, друг мой, сила и ловкость – единственные пути к постоянному счастью. Скупцы собирают медленно и мало пользуются своим имуществом, грабители же хотя и тратят, но всегда богаты, потому что, когда запас их выходит, они опять берут, а так как бережливые работники всегда найдутся, то и есть всегда средство обогатиться на их счет. Я сказал тебе, мой друг, последнее слово науки: выбирай, и, если хочешь быть шмелем, я тебя сделаю таким магом, как я сам.
– А что будет со мной, когда я сделаюсь магом? – спросил Грибуль.
– Тогда ты будешь уметь брать, – отвечал господин Шмель.
– Что же нужно сделать, чтоб быть магом?
– Клятвенно отказаться навсегда от сожаления и от глупой добродетели, которую называют честностью.
– Все ли маги дают это обещание? – спросил Грибуль.
– Есть и такие, которые поступают обратно: они берут себе за правило служить, покровительствовать и любить все, что дышит, но это дураки, они из тщеславия берут на себя название добрых духов и не имеют никакой власти над землей. Они живут в цветах, в скалах и в степях. Люди не слушают их и даже не знают их совсем; эти бедные духи живут воздухом и росой, и в голове у них так же пусто, как в желудке.
– Итак, господин Шмель, вам, видно, не удалось вложить мне ума, потому что я предпочитаю этих духов вашим и ни за что на свете не буду учиться грабить и убивать. Счастливо оставаться! Благодарю вас за все ваши добрые намерения, но позвольте мне вернуться к моим родителям.
– Глупец! Родители твои трутни, они даже забыли свое происхождение и живут теперь в привычках, свойственных их племени. Они били тебя за то, что ты не умел воровать, и знай, что теперь убьют, когда узнают, что ты не хотел учиться.
– В таком случае, я пойду в степи, где, как вы говорите, живут добрые духи.
– Ну, это тебе не удастся, мой друг, – сказал сердито господин Шмель, и глаза его заблестели, как два раскаленных угля. – У меня есть свои причины на то, чтоб ты не уходил от меня, а если вздумаешь сопротивляться, я закусаю тебя до смерти.
С этими словами господин Шмель распустил крылья и, приняв вид страшного насекомого, пустился со злостью преследовать Грибуля, бежавшего со всех ног. Сначала Грибулю удалось защищаться, отгоняя его шляпой, но потом, увидев, что насекомое все-таки закусает его, бедный мальчик решительно не знал, что делать, он бросился в ручей и быстро поплыл по течению, но Шмель и тут не оставил его: каждую минуту он старался укусить его в глаза и ослепить, так что он должен был опустить голову в воду, рискуя задохнуться. Тогда Грибуль, видя, что уже нет надежды на спасение, закричал:
– Добрые духи! Помогите мне! Не допустите этому злодею овладеть мной!
В ту же минуту из дикой лилии вылетела хорошенькая стрекоза с голубыми крылышками, приблизилась к Грибулю и сказала ему: «Следуй за мной, плыви и не бойся». Она полетела перед ним, и сейчас же пошел проливной дождь, страшно рассердивший господина Шмеля, который не умел летать под дождем, стрекоза же все летела вперед и смеялась над Шмелем. Ручей надулся и нес Грибуля, у которого уже не хватало сил плыть. Господин Шмель все еще пробовал преследовать свою жертву, но дождь, падавший крупными каплями, сшиб его в воду. Он, спасаясь, кое-как достиг вплавь береговой травы, где Грибуль и потерял его из вида. Между тем Грибуль, подвигаясь вперед под предводительством стрекозы, поравнялся с родительским домом. Он увидел своих братьев и сестер, которые смотрели в окно и, думая, что он тонет, громко смеялись. Грибуль хотел остановиться и поздороваться с ними, но стрекоза не позволила.
– Плыви за мной, – сказала она, – если ты меня оставишь, то пропадешь.
– Благодарю вас, госпожа стрекоза, – отвечал Грибуль, – я буду во всем вас слушаться.
И, отпустив дерево, за которое он было ухватился, поплыл так скоро, как тек сам ручей, который теперь, превратившись в поток, катил свои воды с быстротой стрелы. Когда он проплыл родительский дом и сад, то услышал, как братья и сестры смеялись над ним, крича что есть мочи: «Конец Грибулю: он хотел спастись от дождя и бросился в реку».
Как Грибуль, боясь быть сожженным, бросился в огонь
Когда Грибуль проплыл около 800 верст, то почувствовал усталость и проголодался, хотя был в дороге не более двух часов. Давно уже он оставил за собой ручей и плыл по открытому морю, сам того не замечая, он думал, что видит все это во сне, а потому и не понимает хорошенько, что происходит вокруг него. Голубенькая стрекоза исчезла, по всей вероятности, она оставила его там, где ручей впадал в реку, речка же снова впадала в реку, которая уже и донесла его до моря.
Когда Грибуль опомнился, то едва мог узнать себя: ничего в нем не было более человеческого: вместо рук и ног у него были тоненькие веточки с мокрыми зелеными листьями, вместо туловища – кусок дерева, покрытый мхом, вместо головы – большой испанский сахарный желудь, по крайней мере, он заключал так по сладкому вкусу во рту, которого у него уже не было. Он чрезвычайно удивился, увидев себя в этом положении, и никак не мог объяснить себе, каким образом путешествие превратило его в плывущую дубовую ветку. Большие рыбы, попадавшиеся ему навстречу тысячами, обнюхивали его и с отвращением отворачивали голову. Морские птицы бросались на него с намерением проглотить, но, рассмотрев поближе, находили, что такое кушанье им не по вкусу, и отлетали прочь. Наконец, прилетел большой орел, осторожно взял его клювом и поднялся в воздух.
Грибулю стало немного страшно на такой высоте, но вскоре он почувствовал, что воздух не только высушил его, но даже возвратил силу и доставил пищу, потому что голод его прошел, и если бы не некоторые беспокойства насчет того, что сделает с ним орел, то он был бы совершенно доволен. Но, продолжая думать и рассуждать в своем новом виде, он скоро решил так: я недалеко от земли, потому что меня вытащил из воды орел, который вовсе не морская птица, есть меня он также не будет, потому что орел питается мясом, а не желудями, верно, он хочет употребить меня для своего гнезда, и я скоро очутюсь на верхушке какого-нибудь дерева или на скале.
Предположения Грибуля сбылись. Он скоро увидел берег большого необитаемого острова, на котором были только деревья, травы и цветы, которые блестели от солнечных лучей и наполняли воздух своим благоуханием на пространстве 80 верст в окружности.
Орел положил его в свое гнездо и полетел отыскивать новые ветви. Когда Грибуль увидел, что остался один, ему захотелось уйти, но как это исполнить, когда у него нет ни рук ни ног?
– Когда я был на воде, то она, толкая, заставляла меня, по крайней мере, подвигаться вперед, – сказал он, – но что теперь будет со мной? Теперь я срезанная ветка, брошенная на произвол ветра, конечно, я скоро завяну, высохну, а потом и совсем умру.
И Грибуль заплакал, но потом, ободрившись, рассуждал так:
– Если волшебницы или добрые духи покровительствовали мне против нападений страшного Шмеля, то, по всей вероятности, они сделали со мной это превращение для того, чтобы спасти от его преследований.
И ему очень хотелось призвать их опять, а в особенности он желал видеть около себя голубенькую стрекозу, говорившую с ним на ручье, но, увы, он был нем, подобно пню, и не мог сделать ни малейшего движения.
Но вот вдруг поднялся сильный ветер, опрокинул орлиное гнездо и перенес Грибуля на середину острова.
Едва коснулся он земли, как увидел, что все травы и цветы зашевелились вокруг него, прекрасный белый нарцисс, стебель которого его задержал, нагнулся, поцеловал его в щеку и сказал:
– Наконец-то ты здесь, милый Грибуль, давно уже мы ждем тебя!
Маргаритка засмеялась и сказала:
– Теперь-то мы будем веселиться, и Грибуль, верно, не отстанет от нас.
А резвый овес закричал:
– Я надеюсь, что мы отпразднуем большим балом прибытие Грибуля.
– Потерпите, – возразил нарцисс, казавшийся рассудительнее других, – пока царица не поцелует Грибуля, вы ничего не можете ему сделать.
– Правда, – отвечали другие растения, – а пока заснем. Но примем предосторожность против ветра, который сегодня что-то очень развеселился, чтобы он не унес у нас Грибуля, перевьемся над ним.
Тогда нарцисс распустил над головой Грибуля один из своих больших листьев и сказал:
– Спи, Грибуль, вот тебе и зонтик.
Пять-шесть буквиц легли у ног его, несколько молодых ландышей сели на грудь, и около дюжины хорошеньких барвинок так искусно обвили его с обеих сторон своими стеблями, что никакой сильный ветер не мог унести его.
Грибуль, привлеченный запахом приветливых растений, свежестью травы и тенью, доставленной нарциссом, сладко заснул, ландыши нашептывали ему тысячу различных усыпляющих рассказов, бельцы напевали песенки, в которых не было ни рифмы, ни смысла, но от них снились приятные сны.
Наконец Грибуля разбудили громкие голоса. Вокруг него пели, танцевали, все были необыкновенно веселы, вьюнки раскачивались точно колокола, когда в них звонят; злаки щелкали точно кастаньетками, ландыши прыгали и кланялись, сам степенный нарцисс пел что было силы, а бельцы хохотали во все горло.
– Глупые дети, – сказал тогда материнским тоном приятный голосок, – не скажете ли вы мне сегодня какой-нибудь хорошей новости?
В ту же минуту тысячи голосов закричали вместе: «Грибуль! Грибуль! Грибуль!» И все растения отодвинулись от него разом, будто отдернули занавес, и удивленный Грибуль увидел доброе, ласковое лицо царицы.
Царицей лугов был тонкий, прекрасный цветок, чрезвычайно роскошный и душистый, который является весной и любит прохладные места.
– Встань же, мой милый Грибуль, и приди поцелуй твою крестную мать, – сказала она.
Грибуль тотчас же почувствовал, что у него появились руки, ноги, лицо и что он стал человеком, как должно. Он встал очень легко, и весь луг, увидев настоящего Грибуля, закричал от радости. Царица сбросила с себя свой очаровательный вид и явилась в настоящем виде, то есть волшебницей, теперь она была прекраснее дня, свежее мая и белее снега, на голове у нее была корона царицы лугов, сплетенная из цветов, которая, перемешавшись с ее прекрасными светлыми волосами, была красивее всех жемчужных корон на свете.
– Теперь встаньте и вы, дети мои, пусть Грибуль увидит и вас такими, как вы есть.
С минуту длилось замешательство, нарцисс первый заговорил:
– Дорогая царица, ты знаешь, что для того, чтобы явиться нам во всей красоте, мы должны прежде увидеть твою божественную улыбку, а сегодня ты до того занялась прибытием Грибуля, что забыла нас одарить ею.
Очень естественно, что при таком упреке царица улыбнулась. Грибуль, к которому эта улыбка также относилась, вдруг почувствовал такую необыкновенную радость, что даже думал, что умрет от нее. Весь луг также почувствовал ее действие. Казалось, будто солнечный луч, только гораздо светлее и приятнее того, который согревает людей, оживил и преобразил все эти живые существа. Все травы, цветы и кустарники, находящиеся на этом острове, обратились в сильфов, маленьких волшебниц и добрых духов; одни явились в виде детей, прекрасных, как сами амуры, прелестных девушек и веселых умных юношей; другие приняли вид прекрасных дам, почтенных стариков и людей открытой и твердой наружности. Одним словом, весь этот мир, состоящий из стариков и молодых, больших и маленьких, был прекрасен, и смотреть на него было приятно. Все были одеты в самые тонкие ткани, – одни в блестящие, другие в такие приятные для глаз, как цвета растений, которые они избрали для своего имени и для своего преобразования. Дети делали тысячу милых шалостей, пожилые смотрели на них с нежностью и поощряли веселиться. Молодые пели, танцевали и восхищали всех своей красотой и ловкостью. Все звали друг друга братьями и сестрами и так нежно любили один другого, как будто были детьми одной матери; матерью же их была царица лугов, вечно молодая и вечно прекрасная, которая повелевала своей улыбкой и управляла своей нежностью.
Царица взяла Грибуля за руку и провела среди многочисленного общества, собравшегося на лугу. Когда все его поласкали и понежили, она сказала:
– Теперь ты свободен, поди играй, веселись, сколько душе твоей угодно, праздник этот продолжится недолго, потому что у меня много дел. Он продолжится всего только сто лет, постарайся в это время выучиться нашей магии. Здесь делают все скоро и хорошо. После праздника я поговорю с тобой и скажу, что должен ты знать, чтоб быть настоящим магом.
– Хорошо, моя дорогая маменька, – сказал Грибуль, – я чувствую к вам такое доверие, что сделаю все, что вы ни пожелаете. Но кто же займется здесь моим воспитанием?
– Все, – отвечала царица, – все не менее меня учены. Я передала всем детям свои знания и мудрость.
– А разве вы уйдете от нас на эти сто лет? – спросил Грибуль. – Я умру тогда со скуки; я вас так люблю, как бы любил свою мать, если бы только она позволила мне любить себя.
– Нет, я останусь здесь и проведу это короткое время с тобой и другими моими детьми, – отвечала царица. – Я буду посреди вас, ты всегда будешь меня видеть и всегда, когда только захочешь, можешь подойти ко мне спросить, что тебе нужно, или просто поговорить; но посмотри, твои братья и сестры ждут тебя с нетерпением: они хотят веселиться с тобой. Не будь же нечувствителен, посмотри, как они теперь счастливы и веселы, но все это обратится в горечь и слезы, когда они узнают, что ты их не так любишь, как они тебя.
– Нет, нет! Я этого не хочу! – вскричал Грибуль и бросился в середину веселой толпы.
Грибуль не спрашивал себя, отчего все эти добрые, прекрасные и счастливые люди так полюбили его, его, бедного, чужого мальчика, пришедшего из царства злых. Он даже и не думал усомниться, истинно ли все это. Он почувствовал вдруг, как приятно быть любимым, и без дальнейших рассуждений сам старался всех полюбить. Праздник был прекрасен, и погода все время стояла превосходная. Иногда, правда, шел дождь, но дождь теплый, пропитанный самыми лучшими духами на свете, как духи розы, фиалки, резеды, туберозы и других цветов; одинаково приятное было чувство, когда падал такой дождь и после, когда он высыхал на волосах от солнечных лучей, которые, казалось, торопились его выпить. Иногда бывали и бури, поднимался ветер, гремел гром, зрелище было превосходное, и на него все смотрели, ничего не платя. Там было множество больших пещер, в них-то укрывались все, смотрели, как бушевали море и молния по всем направлениям, рассекая небо, и прислушивались к свисту ветра, который выл на разные голоса в соседних скалах и шумел деревьями. Никто ничего не боялся, даже маленькие сильфы и молодые кобольды. Они знали, что с ними не может случиться никакого несчастья. Когда от бурь ручьи надувались и превращались в потоки, молодые девушки и особенно дети радовались и шумели, когда им удавалось перескочить через них, если же случалось кому упасть в поток, то смех становился еще сильнее, потому что в этом царстве не только никто не умирал, но даже никто никогда не был болен. Иногда, впрочем, бывали и неприятные случаи. Шалуны сильфы падали с верхушки деревьев, а молодые девушки царапали руки о розовые кустарники или об акации. Юноши, упражняясь в силе, нечаянно скатывали со скал камни на почтенных старичков, которые, вовсе не думая об опасности, разговаривали в нескольких шагах.
Но стоило только увидеть им рану, велика она была или мала, из одной капли крови, сбегались все, каждый спешил пролить слезу на рану, и от первой слезы она тотчас же заживала. Но все же она причиняла всем минутную скорбь, потому что все разом чувствовали боль, перенесенную раненым. Тогда немедленно являлась царица, а так как рана уже зажила, то она улыбалась, ее улыбка утешала всех, и прежняя веселость возвращалась в ту же минуту.
В этом царстве все питались плодами, зернами и цветочным соком; их там так прекрасно приготовляли и так искусно смешивали, что трудно было сказать, которое из этих изысканных блюд было лучше. Все вместе стряпали, подносили и ели. Собеседников выбирать здесь было незачем: старые и молодые, веселые и серьезные были одинаково приятны. С одними смеялись до упаду, а ум и мудрость других уважали. Хотя с умными каждый становился степеннее, тем не менее никто не скучал, потому что они умели хорошо рассказывать и со всеми обращались дружески. Ночи были так же прекрасны, как и дни, каждый, где находился, там и засыпал, на мху, на траве, в пещерах, освещенных тысячью светящихся червяков. Кому не хотелось спать в прекрасную лунную ночь, тот гулял по лесу, по воде, по горам, и всегда было ему с кем поговорить, потому что повсюду встречались толпы, которые играли на каком-нибудь инструменте или прославляли красоту природы и счастье взаимной любви. И вот сто лет протекли так скоро, как будто прошел всего только один день, когда вечером сотого года царица подошла к Грибулю и взяла его за руку, он очень удивился, ему казалось, что кончается только первый день.
– Друг мой, – сказала она, – пойдем со мной, праздник кончается, и мне нужно поговорить с тобой.
И она поднялась с Грибулем на вершину самой высокой скалы на всем острове, показала ему, как прекрасно царство цветов, где при свете звезд еще пело и танцевало его счастливое и веселое население, матерью которого она была.
– Увы! – сказал Грибуль, и в продолжение ста лет ему в первый раз сделалось очень грустно. – Неужели я должен буду расстаться со всеми моими друзьями? Сделаться опять дубовой веткой? Неужели я должен воротиться в землю, где царствуют скупые пчелы и воры-шмели? Дорогая маменька, не оставляйте меня и не отсылайте меня от себя, здесь только я и могу жить, вдали же от вас я умру с горя.
– Я никогда тебя не оставлю, Грибуль, – сказала царица, – и если хочешь, можешь остаться с нами, но прежде выслушай, что я тебе скажу, и тогда делай как знаешь.
– Земля, в которой ты родился и которая теперь называется царством шмелей, потому что господин Шмель признан в ней царем, до твоего рождения была, как все земли, то есть в ней добро было смешано со злом, хорошие люди с дурными. Родители твои были не из лучших, дети во всем походили на них. Ты родился последний, к счастью случилось, что в минуту твоего рождения я проходила по лесу, где жил твой отец. Мать твоя лежала в постели, а отец, рассматривая тебя, нашел, что ты гораздо слабее других его детей. Он стоял у порога своего дома и говорил сердитым голосом: «Вот мальчишка, который мне будет дороже стоить, чем впоследствии принесет пользы».
В эту минуту я проходила по ручью в виде голубой стрекозы, – это превращение я принуждена принимать в тех местах, где боюсь встретиться с царем шмелей. Я поняла, что отец твой далеко не добрый человек, а потому не будет тебя любить. Этого несчастья я не могла отстранить, но мое постоянное побуждение делать добро везде, где я прохожу, навело меня на мысль принять тебя в число моих крестников и одарить тебя добротой и кротостью, в моих глазах это был лучший подарок, какой я могла тебе сделать.
Я поцеловала тебя, слегка дотронулась жезлом и продолжала путь, тогда у меня было поручение к царице волшебниц, и первой моей заботой было, когда я пришла к ней, попросить позволения сделать тебя счастливым. На это она тотчас же согласилась, но вскоре пришел царь шмелей, он сердился на нее и на меня, наговорил множество угроз, сказал, что земля, в которой ты родился, была ему обещана и что никто не имеет власти ни над одним из ее жителей, как бы мал он ни был.
Ты должен знать, что по нашим законам каждому племени высших духов, как добрых, так и злых, населяющих мир волшебниц и гениев, назначается жилищем большая или меньшая часть земли, но это право дается на несколько лет или веков, по истечении которых мы меняем место нашего жительства, чтобы известная часть земли не осталась вечно злой и несчастной. От этого происходит, что цветущие народы впадают в варварство, а варварские начинают процветать, смотря по тому, доброе или злое влияние царствует в ней.
Царица волшебниц справедлива, насколько это возможно, она имеет дело со множеством злых духов, с которыми добрые духи с основания мира принуждены вести постоянную войну; но в главной книге волшебств сказано, что злые духи и дети тьмы исправятся и что царица не должна ни истреблять их, ни лишать средств к исправлению. А потому она обязана слушать их обещание, иногда верить их раскаянию и позволять им начинать новые опыты. Но иногда они употребляют во зло ее доброту и терпение, тогда она наказывает их, заставляя жить годами, а иногда и по нескольку сот лет в виде каких-нибудь растений или зверей. Мы все можем превращаться, когда захотим, но если превращение было наказанием, то мы уже не можем изменить наложенный на нас вид до тех пор, пока царица сама не снимет наказания.
– Я совершенно уверен, что вы никогда не подвергались такому наказанию, – сказал Грибуль.
– Правда, – отвечала скромно царица лугов, – но возвратимся к твоей истории, для большей ясности прежде всего скажу тебе, что царь шмелей, царствовавший прежде на твоей родине около четырехсот лет, очень дурно поступал с жителями и страшно опустошил ее, за что и подвергся такому постыдному наказанию. Он сделался простым шмелем, настоящим грубым животным, осужденным ползать, опустошать и жужжать по старому дубу в лесу, который он сам посадил.
– Как, – спросил Грибуль, – разве гений может существовать в таком ничтожном виде и жить целые века жизнью животного?
– Это случается сплошь и рядом, – отвечала волшебница. – Они ничем не отличаются от обыкновенных животных, исключая чувство собственного ничтожества, стыда и печального бессмертия. Когда ты явился на свет, царь шмелей был в этом превращении уже триста восемьдесят восемь лет. Тебе триста восемьдесят восемь лет кажутся очень долгим сроком, но для бессмертных существ это ничего не значит, и наказание было еще не очень жестоко.
– Каким же образом царь шмелей, превратясь в простого глупого шмеля, мог находиться во дворце царицы волшебниц, когда вы пришли просить позволения сделать меня счастливым? – спросил Грибуль, отличавшийся всегда быстрым соображением.
– Дело вот в чем, – отвечала царила лугов, – каждые сто лет (это все равно, что каждый час в вашей жизни) царица волшебниц собирает совет и позволяет всем подчиненным, даже осужденным на земле на самые постыдные превращения, являться в суд просить какой-нибудь милости, дать отчет в каком-нибудь поручении или раскаяться. Но дурные гении горды, они редко чистосердечно покоряются. Царь шмелей приходил для того, чтобы показать свое презрение к царице. Он доказывал это явно, даже напомнил царице, что она сама сказала, что на четвертом столетии наказание с него снимется и что с этой минуты он снова получит власть над своей родиной. «Следовательно, – говорил он, – Грибуль принадлежит мне, а потому царица лугов (я опускаю все обидные слова, которые он мне наговорил) не имеет никакого права отнять его у меня для того, чтобы одарить и научить его, как ей вздумается».
Царица волшебниц, подумав несколько минут, произнесла следующий приговор: «Царица лугов, дочь моя, одарила этого человеческого ребенка кротостью и добротой, дара волшебниц никто не может уничтожить, если он дан с колыбели. Итак, Грибуль будет кроток и добр, но по справедливости он все же принадлежит тебе. Но я приму некоторые меры, и если ты рассудителен, то они удержат тебя от желания мучить и обижать его. Только его рукой ты будешь освобожден от наказания. В тот день, когда он скажет тебе: «Поди и будь счастлив», ты перестанешь быть простым шмелем, можешь оставить свой старый дуб и царствовать на этой земле. Но помни, ты должен сделать его очень счастливым, потому что, если он когда-нибудь захочет уйти от тебя, я позволю его крестной матери покровительствовать ему, и, если он даже потом придет наказать тебя за неблагодарность, ты не получишь от меня никакой помощи против него».
Этими словами царица окончила заседание, я воротилась на мой остров, а царь шмелей к своему старому дубу, где ровно через двенадцать лет ты, увлеченный добротой своего сердца, сказал роковые слова: «Поди и будь счастлив».
Злое насекомое, укусившее тебя, в ту же минуту снова сделалось царем шмелей и стало называться господином Шмелем, царица запретила ему браться за оружие, а потому он не мог насильно ни овладеть старым царем, ни сделаться могущественным.
Но ты сам видел, Грибуль, какие средства употребил этот злой гений. Он прилетел и подкупил своим богатством жителей твоей родины. Сам же увеличил свое имущество, женившись на княжне пчел, которую вернее можно назвать княжной собирателей сокровищ. Он очень многих обогатил, и государство, по-видимому, было в цветущем состоянии, но, не преследуя бедных, он так повел свои дела, что им оставалось умирать с голоду, потому что сумел сделать богачей себялюбивыми и жестокими. Бедные от постоянных раздражений и страданий становились с каждым днем невежественнее и злее, наконец дошли до того, что в этом несчастном царстве все стали ненавидеть друг друга, даже были случаи, что многие умирали там от скуки и горя; некоторым же жизнь до того надоела, что они решались на самоубийство, хотя, судя по их богатству, им, кажется, ничего более не оставалось желать.
– Итак, Грибуль, – продолжала царица, – вот уже прошло сто лет с тех пор, как ты оставил свою родину, предположение царицы волшебниц оправдалось. Твое доброе сердце не в состоянии было вынести естественного ужаса, который вселял в тебя царь шмелей. Он захотел удержать тебя силой, но я спасла тебя от его когтей; он царствует до сих пор и все еще жив, как бессмертное существо, хотя он состарился и постоянно говорит о своем близком конце, но это он делает только для успокоения своих подданных. Родителей твоих уже более нет на свете. Из всех твоих знакомых также нет никого в живых. Богатство и злоба в этом царстве увеличиваются с каждым днем, люди дошли до того, что режут друг друга. Они обкрадывают друг друга, один разоряет другого, все друг друга ненавидят, и каждый старается убить, кого может. Пчелы, трутни и муравьи занимаются такой же гнусной работой, они точно так же вредят друг другу и пожирают своих врагов. Все это произошло оттого, что дух грабежа и скупости вытеснил из сердца духа доброты и сострадания ту великую науку, которой из всех жителей, рожденных в этом несчастном царстве, владеешь ты один.
Грибуль стал оплакивать смерть своих родителей, и, быть может, он проплакал бы долго, но царица лугов, желая, чтобы он выслушал ее со вниманием, своей волшебной улыбкой совершенно успокоила его. И он почувствовал, что как будто проснулся от тяжелого сна, не видел больше прошедшего и думал только о будущем.
– Дорогая маменька, – сказал он, – вы говорите, что из всех моих соотечественников я один обладаю этой высокой наукой. Прежде мне всегда говорили, что я слишком глуп. Царь шмелей пробовал было учить меня. Я три года учился у него науке о цифрах и до сих пор не знаю, к чему она мне может пригодиться. Вы меня привели сюда и доставили мне сто лет такого счастья и удовольствия, о котором прежде я даже не имел понятия; здесь все только развлекали, ласкали меня и старались, чтобы я был доволен, и в самом деле, я был до того счастлив, доволен и весел, что даже и не подумал никогда ни о чем спросить, и я чувствую, что я теперь настолько же маг, насколько я и был в первый день, когда пришел сюда. Итак вы видите, что я или глуп, или уж очень ветренен, – право, мне даже самому за себя совестно, кажется, в продолжение ста лет я мог бы и даже должен был бы выучиться всему, что только может знать смертный, который живет среди волшебниц и духов.
– Ты напрасно обвиняешь себя, Грибуль, – сказала царица, – и ошибаешься, если думаешь, что ничему не научился. Спроси свое сердце, не владеет ли оно той превосходной тайной, о которой смертный имеет только предчувствие.
– Увы, дорогая маменька, – отвечал Грибуль, – я выучился здесь только одному – любить всем сердцем.
– Хорошо, – отвечала царица духов, – но не выучили ли тебя еще чему-нибудь мои дети?
– Они мне показали счастье быть любимым, счастье, о котором я всегда мечтал, но которым до прихода сюда ни разу не наслаждался.
– Это так, – сказала царица, – что же хочешь ты знать еще прекраснее и вернее этого? Ты знаешь то, о чем не знают умники твоей родины, то, что они уже совершенно позабыли и даже не подозревают, что оно существует. Грибуль, ты маг и добрый дух, ты обладаешь наукой и умом больше, чем все ученые в царстве шмелей.
– Итак, – сказал Грибуль, который начинал ясно понимать самого себя и сознался, что он не так глуп, как считал себя, – вы одарили меня той самой наукой, которая вылечит жителей моей родины от злобы и страданий.
– Без всякого сомнения, – отвечала царица, – но какое тебе до них дело, мой друг? Злых тебе бояться больше незачем, здесь ты защищен от злобы царя шмелей. Пока ты живешь на моем острове, ты бессмертен, тебя не посетит никакая печаль, и ты проведешь целые века в постоянных праздниках. Забудь же людскую злобу и оставь их страдать по-прежнему. Вернемся же теперь на бал и на концерт. Для тебя я охотно продолжу их еще на день в сто лет.
Прежде чем ответить, Грибуль спросил совета у своего сердца, и вот что пришло ему в голову: крестная маменька, по всей вероятности, говорит это только для того, чтобы испытать меня, если я приму ее предложение, она не будет более уважать меня, да и я сам потеряю к себе всякое уважение. И он бросился на шею своей крестной матери и сказал:
– Улыбнитесь же мне вашей прекрасной улыбкой, дорогая маменька, чтобы я не умер от печали, расставаясь с вами, потому что я должен оставить вас. Хотя в настоящее время у меня нет ни родины, ни родителей, ни друзей, но я чувствую, что как сын этой земли я ей обязан служить. Так как теперь я один обладаю самой лучшей тайной на свете, то и должен поделиться ею с бедными людьми, ненавидящими друг друга, которые вполне достойны сожаления. Хотя по вашей доброте я и буду здесь счастлив, как все ваши духи, но я все же простой смертный и потому хочу сообщить вашу науку другим смертным. Вы научили меня любить, и я чувствую, что люблю этих злых людей, хотя, быть может, они будут меня ненавидеть. Прошу вас, отпустите меня к ним.
Царица поцеловала Грибуля, но, несмотря на все желание, она не в силах была улыбнуться.
– Иди, сын мой, – сказала она, – сердце разрывается на части при расставании с тобой, но теперь я люблю тебя еще больше, потому что ты понял свою обязанность и моя наука принесла плоды твоей душе. Я не даю тебе ни талисмана, ни жезла для охранения от нападения злых шмелей, потому что в книге судеб сказано, что каждый смертный, посвящающий себя какому-либо делу, должен жертвовать всем и даже жизнью. Я только помогу тебе сделать людей несколько лучше, для этого позволю тебе нарвать столько цветов на моих лугах, сколько захочешь взять с собой, и всякий раз, когда ты дашь понюхать даже самый маленький из них смертному, он смягчится и будет сговорчивее; остальное же зависит от твоего ума. Что же касается царя шмелей и всей его родни, они давно бы уже испарились, если бы это зависело от цветов, потому что с сотворения мира они питаются самыми лучшими их соками, но это не имело никакого влияния на их жадность и зверский, жестокий характер. Остерегайся насколько возможно этих мучителей, я постараюсь помочь тебе, но я не скрываю от тебя, что это будет ужасная и очень опасная борьба, а выхода из нее я не знаю.
Грибуль, вздыхая и со слезами на глазах, пошел рвать себе большой букет цветов. Все жители счастливого острова исчезли. Праздник кончился, и только всякий раз, когда Грибуль нагибался за цветком, он слышал тоненький грустный голосок, который говорил:
– Бери, бери, милый Грибуль, бери мои листья, ветви и цветы, если они могут принести тебе какую-нибудь пользу, только вернись поскорее к нам.
У Грибуля было очень тяжело на сердце, ему хотелось бы перецеловать каждую травку, каждый цветочек и каждое дерево на всем острове, но наконец он пошел к берегу, крестная мать уже ожидала его. Она держала в руках розу, от которой оторвала один лепесток, бросила его в воду и сказала Грибулю:
– Вот твой корабль, поезжай, желаю тебе счастливого пути.
Она его нежно поцеловала, Грибуль прыгнул в розовый лепесток и менее чем через два часа был уже на своей родине.
Когда он подъезжал к берегу, сбежалась толпа матросов и смотрела с удивлением, как пристает к берегу мальчик на розовом лепестке; должно заметить, что Грибуль в проведенные им сто лет на острове цветов не состарился ни на один день, по-прежнему ему было только пятнадцать лет, а так как для своих лет он был очень мал и худ, то больше десяти и нельзя было дать. Матросы долго любовались Грибулем и его кораблем, они только и думали о том, как бы овладеть розовым лепестком, который в самом деле был удивительно хорош. Он был величиной с лодку и до того плотен, что ни одна капля воды не попадала внутрь его. «Вот новое изобретение, которое дорого можно продать, – говорили моряки. – Мальчик, не продашь ли твое изобретение?»
Так как эти моряки были очень богаты, то они предлагали Грибулю деньги, набивая цену и угрожая друг другу.
– Если моя лодка вам нравится, господа, то возьмите ее, – сказал Грибуль.
Едва успел он окончить эти слова, моряки яростно бросились к лодке, толкая кого попало, вырывая друг у друга клочья волос, дрались и бросались в воду. Но так как лодка была розовым лепестком с волшебного острова, то едва они до нее дотронулись, очарование пропало, и у них в руках остался обыкновенный лепесток; но его приятный запах успокоил их и, вместо того чтобы продолжать начатую драку, они решили сохранить чудную лодку и показывать ее, как редкость, всему обществу. Когда предложение было всеми принято, они пришли благодарить Грибуля за его щедрый подарок, и как они ни были еще грубы в обращении, но все охотно пригласили Грибуля пойти с ними пообедать и жить в одном из домов, который он сам выберет.
Грибуль принял предложение отобедать, но так как на нем было платье, в котором он сто лет тому назад оставил родину, то скоро сделался предметом любопытства целого города, который был морским портом. Все пришли к дверям харчевни, где он обедал с моряками. Весть о его прибытии в розовом лепестке быстро распространилась. Толпа волновалась и начала кричать, что нужно взять этого ребенка, посадить в клетку и показывать за деньги по всему царству.
Моряки, угощавшие Грибуля, пробовали разогнать толпу, но когда увидели, что с каждой минутой она возрастает, то посоветовали ему пройти через заднюю дверь и где-нибудь спрятаться.
– Тебе приходится иметь дело со злыми людьми, – говорили моряки. – Они способны убить тебя, когда начнут драться за то, кому из них владеть тобой.
– Я пойду к ним, – сказал Грибуль, вставая, – и постараюсь успокоить их.
– Не делай этого, – сказала старуха, подававшая обед, – ты поступишь, как покойник Грибуль, про которого мне рассказывала моя бабушка, что он утонул в реке, желая спастись от дождя.
Грибуль чуть-чуть не рассмеялся, но он встал из-за стола и, отворив дверь, пошел в середину толпы, держа букет перед собой, всякий раз, когда на него кто-нибудь нападал, он подносил ему к носу цветы. Когда он сделал этот опыт над толпой, то они окружили его и стали защищать против остальных. Так как цветы с волшебного острова никогда не вяли и не теряли запаха, хоть бы нюхало сто тысяч человек, то мало-помалу все население этого города успокоилось, никто уже не хотел более посадить Грибуля в клетку, напротив, каждый готов был сделать для него пир или, по крайней мере, хоть расспросить его о земле, в которой он был, о путешествиях, сколько ему лет и отчего ему вздумалось ехать по морю в розовом лепестке.
Грибуль рассказал всем, что он приехал с острова, куда всякий может отправиться, если только добр и имеет способность любить, он также говорил о счастье, которым все там наслаждаются, о красоте, спокойствии, свободе и доброте жителей, впрочем, был осторожен, чтобы не узнали в нем того самого Грибуля, имя которого уже вошло в пословицу, и старался, сколько мог, не повредить доброму имени царицы лугов в царстве шмелей.
Он сказал этим людям удивительную новость, что там научили его любить и быть любимым.
Сначала его слушали со смехом и считали сумасшедшим, потому что подданные царя Шмеля были большие насмешники и давно уже больше никому и ничему не верили, но все же рассказы Грибуля занимали их. Его простодушие, древний язык и платье чем были старше, тем новее казалось им искусство ясно и хорошо рассказывать множество басен, сказок и песен, которым в играх на острове цветов выучили его сильфы, – все нравилось им в нем. Дамы и умнейшие люди города наперерыв старались говорить с ним и тем больше ценили его наивность, потому что их язык сделался высокомерен и был разработан до тонкостей. Им было все равно, что Грибуль не слыл за особенно замечательный ум, за скороспелого ученого, изучившего древних писателей, или поэтом, который преобразует всю республику ученых. Невежды не шли даже так далеко, эти бедные люди слушали его без утомления, сами не понимая, зачем все эти повести и сказки, но, когда он пел или говорил, они чувствовали себя гораздо счастливее и лучше обыкновенного.
Грибуль прожил целую неделю в этом городе и пошел в другой. Благодаря цветам и умению приятно говорить он везде был хорошо принят и в скором времени приобрел такую известность, что все о нем говорили, богатые люди даже приезжали издалека посмотреть на него. Все удивлялись его доверчивому характеру и тому, что он так бодро идет навстречу всем опасностям, его прозвали Грибулем, хотя никто не знал, что это и есть его настоящее имя, все говорили, что он оправдывает пословицу, но каждый также замечал, что опасность будто избегала его по мере того, как он напрашивался на нее.
Наконец дошла и до царя шмелей весть о приезде Грибуля и о всех его чудесах, потому что Грибуль успел уже обойти полцарства и составил себе большую партию из людей, которые начали рассуждать, что счастье состоит не в богатстве, а в доброте характера. Многие богачи отдавали свои деньги неимущим и даже разорялись из-за них, говоря, что они так поступают для того, чтобы достигнуть истинного счастья. Невидавшие Грибуля смеялись над этой новой модой, но стоило только им увидеть его, и они сами начинали говорить и делать то же, что и Грибуль.
Эти толки обратили на себя внимание царя шмелей. Ему пришло в голову, что названный Грибуль, может быть, и есть тот самый, которого, несмотря на все усилия, ему не удалось удержать при своем дворе, он вспомнил также, что с исчезновением Грибуля, несмотря на все его богатство и могущество, он был очень несчастлив, потому что чувствовал, что с каждым днем он становился жаднее, злее, недоверчивее и что все его ненавидят еще более. Он вздумал снова призвать Грибуля к себе, приласкать его, а если нужно будет, то даже запереть в башню и беречь, как талисман против несчастий. Он послал к нему посольство с просьбой прийти жить при его дворе.
Грибуль принял предложение и отправился в Шмелеград, несмотря на все просьбы своих новых друзей, которые боялись злых умыслов царя. Грибуль хотел поделиться своей тайной со столицей царства и потому говорил: «Теперь бы я делал добро, а то что за беда, если со мной случится несчастье».
Царь принял Грибуля очень ласково, сделал вид, будто не узнает его и будто совершенно забыл прошедшее. Грибуль видел очень хорошо, что он нисколько не переменился и даже не думает исправиться. Сам же Грибуль только о том и думал, как бы поскорей понравиться жителям столицы и передать им свою науку. Когда царь заметил, что эта наука очень скоро изучается и до того всем нравится, что уже начинают видеть его собственные недостатки, не слушаться его и даже угрожать, что вместо него сделают царем Грибуля, то страшно рассердился, но сдержал гнев и, хитря до последней возможности, призвал Грибуля к себе в кабинет и сказал ему:
– Меня уверяют, милый Грибуль, что у тебя есть букет цветов, отвращающий все дурное, а так как у меня очень болит голова, то дай, пожалуйста, мне их понюхать, быть может, они и помогут мне.
В эту минуту Грибуль позабыл, что крестная мать говорила ему: «Ты ничего не можешь сделать ни с царем шмелей, ни с его семейством, сами цветы мои не имеют никакого влияния на этих злых духов». Бедный ребенок, напротив, думал, что такие редкие растения всегда способны смягчить злой нрав царя. Он снял с груди драгоценный букет, который был все так же свеж, как в ту минуту, когда он его нарвал, и который никакая человеческая сила не в состоянии была отнять, потому что каждый, кто нюхал его, был очарован. Но, когда он поднес его царю, царь тотчас же впустил свое ядовитое жало в середину самой красивой розы. Из середины розы вырвался пронзительный крик и вытекла крупная слеза. Грибуль от испуга и отчаяния уронил букет.
Царь шмелей схватил его, разорвал на части, растоптал ногами и захохотал.
– Что, дружок, – сказал он Грибулю, – видишь, как обращаюсь я с твоим талисманом, теперь увидим, кто из нас сильнее.
– Увы! – сказал Грибуль. – Вы знаете, что я никогда ни одного слова не говорил против вас, я нисколько не завидую вам, а если я и учил кротости и терпению, то ведь это не может вам повредить, вам остается только делать то же самое, то есть подавать хороший пример.
– Хорошо, хорошо, – сказал царь, – мне нравятся твои маленькие стишки и веселые песни, но так как я не хочу ничего терять, то ты пойдешь в безопасное место, где хорошо будут за тобой присматривать.
После этих слов он позвал свою стражу, а так как у Грибуля уже не было более цветов, то она взяла его, сковала и бросила в темную тюрьму, в которой было множество жаб, саламандр, ящериц, летучих мышей, пауков и всякого рода неприятных животных, но они не причиняли никакого вреда Грибулю, который в скором времени сделал их ручными и даже снискал дружбу пауков, напевая им хорошенькие песенки, до которых те оказались большими охотниками.
Но тем не менее участь бедного Грибуля не стала от этого счастливее, его морили голодом и жаждой и даже не давали соломы для постели. Он был закован в такие тяжелые цепи, что не мог двинуться с места, и хотя он ни разу не произнес ни одной жалобы, но тюремщики обижали его грубыми словами и били.
Между тем исчезновение Грибуля скоро заметили. Сначала царь уверял, что он послал его при посольстве к одному из своих соседей, но каким-то образом дознались, что он заключен в тюрьму. Тогда злые, которых было еще довольно много, говорили, что царь очень хорошо сделал и что с его стороны было бы очень умно, если бы он поступил точно так же со всеми, которые осмелились презирать богатство и хвалить доброту.
Люди же, умевшие сделаться добрыми, плакали о Грибуле и за то преследовались несколько времени угрозами и различными оскорблениями; но так как Грибуля, который удерживал их и проповедовал прощение, с ними не было, они восстали, началась ужасная война, которая в скором времени предала все царство огню и мечу.
Грибуль с сердцем, разрывающимся от печали, прислушивался из своей тюрьмы к крикам и жалобам, а тюремщики говорили ему:
– Полюбуйся на твою работу, ты воображаешь, что научил людей быть счастливыми, посмотри же, что случилось, – разве любят они друг друга, и каково идут все дела!
Еще немного, и Грибуль совершенно потерял бы присутствие духа и даже стал бы сомневаться в царице лугов, но он, сколько мог, воздерживался от отчаяния и говорил про себя: «Моя крестная мать придет на помощь этому бедному царству, и если я сделал ему зло, то она исправит его».
Грибуль вообще спал очень мало, но одну ночь, когда он совсем не мог заснуть и смотрел на лунный луч, проходивший сквозь трещину в стене, он увидел, что что-то шевелится в этой светлой полосе, и, всматриваясь, узнал свою дорогую крестную мать в виде голубой стрекозы.
– Грибуль, – сказала она, – настала минута, когда ты должен решиться на все, наконец получила я позволение от царицы волшебниц победить царя шмелей и навсегда выгнать его из этого царства, но условие так ужасно, что у меня не хватает сил его сказать.
– Говорите! Дорогая маменька, – вскричал Грибуль, – нет жертвы, на которую бы я не был способен для того, чтобы завоевать и спасти это несчастное царство.
– А если смерть? – сказала царица лугов таким печальным голосом, что летучие мыши, ящерицы и пауки проснулись в холодном поту.
– Даже если и смерть, – отвечал Грибуль, – пусть исполняется воля небесной силы! Только бы вы, любезная маменька, вспоминали обо мне с любовью, да еще на острове цветов пели бы иногда песни в память бедного Грибуля, и я буду совершенно счастлив.
– Итак, приготовься умереть, Грибуль, – сказала царица, – потому что завтра возгорится новая война, гораздо ужаснее теперешней. Завтра ты погибнешь в мучениях, около тебя не будет ни одного дружеского существа, и ты даже будешь лишен утешения видеть победу моего войска, потому что ты будешь одной из первых жертв. Чувствуешь ли ты в себе довольно бодрости?
– Да, маменька, – сказал Грибуль.
Волшебница поцеловала Грибуля и исчезла. Время до утра тянулось очень долго, бедный Грибуль, чтоб победить страх ожидающей его смерти, пел в своей тюрьме сладким и трогательным голосом песни, которым он выучился на острове цветов. Ящерицы, саламандры, пауки и крысы, служившие ему товарищами, были до того этим тронуты, что пришли, уселись вокруг него и в свою очередь запели на своем языке погребальную песнь, а сами проливали слезы и бились головой о стену.
– Друзья мои, – сказал Грибуль, – хотя я очень немного понимаю ваш язык, но вижу, что вы грустите по мне и жалеете меня. Это меня трогает, потому что я далеко не презирал вас за ваше безобразие и печальное положение, напротив, я уважаю вас столько же, сколько уважал бы, если бы вы были бабочками с великолепными крылышками или самыми лучшими птицами. Для меня было достаточно видеть ваше доброе сердце, чтобы составить о вас хорошее мнение. Прошу вас, когда меня уже более не будет, и если на мое место поступит какой-нибудь новый бедный узник, то будьте с ним так же дружны и ласковы, как вы были со мной.
– Милый Грибуль, – сказала совершенно по-человечески толстая крыса с белой бородой, – мы такие же люди, как и ты. Ты видишь в нас последних смертных, которые после твоего отъезда из этого царства, сто лет тому назад, сохранили любовь к добру и уважение к справедливости. Ужасный царь шмелей не в состоянии был погубить нас, а потому бросил в тюрьму и осудил нас на это безобразное превращение; но мы слышали слова волшебницы и видим, что час нашего освобождения настал. Мы этим обязаны твоей смерти, и вот почему вместо того, чтоб радоваться, мы плачем.
Начало светать, раздался погребальный звон колоколов, потом поднялась страшная суматоха: крики, смех, угрозы, песни и проклятия; вслед за этим раздались звуки труб, барабанов, флейт, ружейные выстрелы, пушечная пальба, будто растворился сам ад. Это началась сильная битва. Царица лугов предводительствовала бесчисленной армией птиц, приведенных ею с острова цветов; она появилась в воздухе сначала в виде большой черной тучи, и через несколько минут можно было разглядеть, что это – бесчисленное множество пернатых воинов с крыльями, которые спускались на царство пчел и трутней.
При виде этого подкрепления восставшие взялись за оружие, бывшие на стороне царя сделали то же и построились для битвы на большой равнине.
Царь шмелей, не имевший привычки смотреть наверх, а по-крысьему всегда вниз, сначала не беспокоился о возмущении. Он собрал свое войско, вооружил более сорока миллионов молодых шмелей; у царицы пчел, его жены, было столько же сестер, из них она составила полк очень опасных амазонок. Но кто-то поднял голову и, увидев войско царицы лугов в воздухе, донес царю, который тотчас же сделался очень мрачен и начал страшно жужжать.
– Опасность очень велика, – сказал он. – Пусть же эти презренные смертные дерутся между собой и делают, как знают, нам впору только защищать самих себя против угрожающего войска птиц.
Тогда царица пчел, его жена, сказала ему:
– Государь, в настоящую минуту вы совершенно потерялись, мы никогда не можем защищаться против птиц, они очень проворны и вооружены гораздо лучше нас. Мы раним только нескольких, а они пожрут нас сотнями. Но остается одно средство, – кончить мировой, для этого выведем из тюрьмы Грибуля, любимого крестника царицы лугов, поставим его на костер, наполненный трутом и серой, и скажем царице, что сейчас же подложим огонь, если она не удалится.
– На этот раз вы правы, – сказал царь.
Как сказано, так и сделано. Грибуля поставили на костер и окружили войском шмелей. Одного очень красноречивого рогача послали для переговоров к царице лугов, ему было велено объявить решение, что если она начнет битву, то бедного Грибуля сожгут живым.
Сердце царицы разрывалось, когда она увидела Грибуля на костре, и у ней не хватило духа принести его в жертву, она уже подала приказание к отступлению, но когда Грибуль увидел и понял, что происходит в сердце царицы и в ее войске, то вырвал горящий факел, воткнул его в середину костра и сам бросился в пламя, которое тотчас же его пожрало.
Приверженцы царя начали смеяться и говорили:
– Ну, этот Грибуль так же хитер, как и прежний: тот, боясь дождя, бросился в воду, а этот от страха быть сожженным бросился в огонь. Теперь вы видите, что этот проповедник высших блаженств дурак и сумасшедший.
Но недолго пришлось им смеяться: смерть Грибуля была сигналом к общей битве, обе стороны бросились одна на другую.
В это время полки шмелей и пчел сражались с птицами. Все приняли волшебный вид, люди с ужасом смотрели на сражение, о котором не имели прежде даже понятия.
Насекомые в человеческий рост с остервенением сражались с птицами, из которых самая маленькая была величиной со слона. Воюющие животные по временам вонзали свое острое жало в самые нежные места жаворонкам, ольманкам и голубям, но зато проворные птицы пожирали пчел тысячами, орлы каждым взмахом крыла убивали их сотнями, казуары подставляли свои непроницаемые шлемы их ядовитым стрелам, а птица-оруженосец со стальными бодцами на каждом крыле в минуту прокалывала до двадцати неприятелей. Спустя час после начала отчаянной схватки и ужасных воплей все войско шмелей и их союзников лежало на земле. Раненые птицы сидели на ветвях, где благодаря улыбке царицы лугов тотчас же вылечились. А победительница царица, приняв вид женщины необыкновенной красоты с черными большими крыльями из голубого газа, спустилась со своими придворными на костер Грибуля.
– Смертные, – сказала она жителям царства, – положите оружие и забудьте вашу ненависть. Обнимитесь, любите друг друга, прощайте друг другу и будьте счастливы. Это приказывает вам царица волшебниц, она поручила мне передать вам ее слова.
При этих словах царица лугов улыбнулась, и в ту же минуту мир был заключен.
– Не бойтесь более шмелей и пчел, управлявших вами, – сказала царица. – Их злые души предстанут на суд перед верховным советом волшебниц, который решит их участь. Что же касается их бренных останков, то вы сейчас увидите, что с ними будет.
Из земли тотчас же вышло бесчисленное войско черных чудовищных муравьев, они торопливо собирали трупы еще умирающих насекомых и уносили их в свои жилища с такой радостью и жадностью, что противно было на них смотреть.
Посмотрев некоторое время на это гнусное зрелище, толпа вернулась к костру Грибуля, от которого осталась только груда пепла, а на верхушке ее распустился прекрасный цветок, известный под именем незабудки. Царица лугов сорвала его и приколола себе на грудь. Потом она и все ее войско взяли пепел с костра Грибуля, поднялись в воздух и, улетая, рассыпали его по всему царству.
Сейчас же появились цветы, поля покрылись жатвой, деревья плодами, и явились тысячи богатств, которые во сто раз вознаградили потери, нанесенные войной. С тех пор на родине Грибуля все жили счастливо под покровительством царицы лугов, а в память Грибуля был воздвигнут храм. Каждый год в день его смерти со всего царства приходили жители с букетами незабудок и пели песни, которым он их выучил. В этот день государственным законом было приказано уничтожать все распри и прощать все ошибки и обиды. От этого плохо пришлось судьям и адвокатам, которых очень много развелось во время царя Шмеля. Но они принялись за другие занятия, потому что настало время, когда не было тяжб и все решалось миром.
Что касается Грибуля, то, сделавшись маленьким голубым цветочком, он ничего от этого не потерял. Крестная мать унесла его на свой остров, где до конца существования волшебниц, – а конец их существования никому не известен, – он был попеременно то сто лет миленьким голубым цветочком, спокойным и счастливым на берегу источника, на волшебном лугу, то другие сто лет – молодым прекрасным сильфом и пел, танцевал, смеялся, любил и веселился в честь своей крестной матери.
Собака и священный цветок
Часть первая
Собака
Когда-то в деревне у нас был сосед со смешной фамилией Собака. Сам он первый трунил над этим и нисколько не обижался, когда дети называли его Медором или Азором.
Это был очень добрый, очень кроткий человек, по виду несколько холодный, но пользовавшийся большим уважением за свой прямодушный и уживчивый характер. Кроме имени, ничего в нем не было странного. Поэтому нас очень удивило, как он однажды обошелся со своей собакой, которая напроказничала во время обеда. Вместо того чтобы выбранить или побить ее, он обратился к ней со странной речью, сказанной холодным тоном.
– Если ты будешь так вести себя, – говорил он, не сводя с нее глаз, – то пройдет немало времени, пока ты перестанешь быть собакой. Я тоже был собакой, и иногда мне случалось поддаться искушению и схватить кушанье, не для меня предназначенное, но я тогда не был взрослым, как ты, и притом никогда не разбивал тарелок.
Собака выслушала эту речь с почтительным вниманием; затем она грустно зевнула, что, по словам ее хозяина, означает у собак не скуку, а огорчение, и легла, опираясь мордой на передние лапы. Казалось, она была погружена в тяжелые размышления.
Мы сначала думали, что, упоминая о себе, сосед просто хотел нас позабавить.
Каково же было наше удивление, когда он вполне серьезно спросил нас, сохранили ли мы воспоминания о своих предшествующих существованиях.
– Нет! – ответили все в один голос.
Он окинул взором присутствовавших и, видя наше недоверчивое отношение, обратился к слуге, который в это время принес ему письмо и не слышал предыдущего разговора.
– Не помните ли вы, Сильвен, – спросил он, – чем вы были до того, как сделались человеком?
Сильвен отличался насмешливым и скептическим складом ума.
– С тех пор как я стал человеком, – ответил он, нисколько не смущаясь, – я всегда был кучером. Вероятно, прежде, чем сделаться кучером, я был лошадью.
– Хорошо сказано! – воскликнули многие.
Сильвен удалился под рукоплескания веселых гостей.
– У него много ума и здравого смысла, – заметил наш хозяин. – Возможно, что в следующем существовании он уж будет не кучером, а барином.
– И будет бить слуг, – подхватил кто-то, – как бил лошадей в свою бытность кучером.
– Держу какое угодно пари, – сказал наш хозяин, – что Сильвен никогда не бьет лошадей, так же как я никогда не бью собак. Если бы Сильвен был грубым и жестоким, то не сделался бы хорошим кучером и ему не суждено было бы стать хозяином. Если бы я бил свою собаку, то рисковал бы после смерти опять превратиться в собаку.
Эта теория всем понравилась, и гости стали просить хозяина, чтобы он развил ее подробнее.
– Извольте, – ответил он. – Это можно сделать в нескольких словах. Дух со своей жизнью подчинен особым законам так же, как и материя, в которой он воплощается. Говорят, будто бы дух и тело часто стремятся к противоположному. Я это отрицаю, или, по крайней мере, утверждаю, что такие противоположности, после некоторой борьбы, более или менее сходятся и побуждают животное, которое служит ареной их борьбы, податься взад или вперед по лестнице существования. Нет того, чтобы одно победило другое. Животная жизнь вовсе не так губительна, как думают. Умственная жизнь вовсе не так независима, как полагают. Существо представляет нечто цельное; у него потребности соответствуют стремлениям и наоборот. Существует закон, примиряющий контрасты в жизни отдельного существа; это закон общей жизни. Шаги назад подтверждают возможность движения вперед. Всякое существо помимо воли чувствует потребность в более почетном превращении. У лошади, собаки и других животных, прирученных человеком, эта потребность сильнее, чем у их товарищей, живущих на воле. Взгляните на собаку; у нее это проявляется резче, чем у других животных! Собака всегда старается отождествляться со мной; она любит мою кухню, мое кресло, моих друзей, мой экипаж. Она готова улечься на моей постели, если я ей это позволю. Она знает мой голос, понимает мои слова. В эту минуту она отлично знает, что я говорю о ней. Посмотрите, как она хлопает ушами.
– Она понимает всего два-три слова, – возразила я. – Когда вы говорите «собака», то она действительно вздрагивает, но общий смысл вашей речи остается для нее непроницаемой тайной.
– Напрасно вы так думаете. Она знает, что о ней говорят. Она помнит, что провинилась, и ежеминутно взглядом спрашивает меня, накажу ли я ее или прощу. Она развита, как ребенок, который еще не научился говорить.
– Все это вам подсказывает воображение!
– Нет, не воображение, а память.
– В самом деле! – стали восклицать кругом. – Вы утверждаете, что сохранили воспоминание о своих предыдущих существованиях, так расскажите же нам о них поскорее!
– Это была бы бесконечная история, – ответил господин Собака, – и притом очень смутная. Я не могу помнить всего, что произошло от начала мира до нынешнего дня. Смерть хороша именно тем, что она прерывает сношения между старым существованием и новым. Она расстилает густой туман, в котором я тонет, чтобы затем подвергнуться новому превращению; но как это совершается – мы не сознаем. Я, по-видимому, случайно сохранил некоторое воспоминание о прошлом, хотя недостаточно ясное, чтобы привести его в систему. Не могу сказать вам, прошел ли я последовательно через все ступени развития или иногда пропускал некоторые из них. Не знаю также, не повторялись ли некоторые фазы моего существования. Однако в уме моем ярко запечатлелись картины, пережитые где-то и когда-то, и при воспоминании о них я переживаю все то, что чувствовал в те минуты. Помню я, например, реку, в которой я был рыбой. Какой рыбой – не знаю. Быть может, форелью, так как помню, что мутная вода внушала мне отвращение, и я всегда старался выплывать по течению. Я до сих пор еще чувствую живительное влияние солнца, которое набрасывало золотую сетку или подвижные бриллиантовые арабески на быстрые прозрачные волны. Был – не знаю где, вещи в ту пору не имели для меня названий – прелестный ручей, в котором луна отражалась серебристым столбом. По целым часам боролся я с волной, которая меня отбрасывала. Днем на берегу в травке летали золотые и изумрудные мушки, которых я очень искусно ловил. Впрочем, эта охота служила мне не столько для удовлетворения аппетита, сколько для забавы. Иногда стрекозы с голубыми крылышками, порхая, задевали меня. Удивительные растения, казалось, хотели опутать меня своими зелеными волосами. Но страсть к движению и свободе всегда толкала меня в быстрое и независимое течение. Двигаться, плавать скоро, как можно скорее, без отдыха, ах, какой это был восторг! На днях я вспомнил об этом времени, купаясь в вашей речке, и теперь о нем уже не забуду.
– Еще, еще! – кричали дети, слушавшие с напряженным вниманием. – Были вы лягушкой, ящерицей, бабочкой?
– Ящерицей, не знаю, лягушкой вероятно, а вот бабочкой – наверное; это я отлично помню. Я был цветком, красивым белым цветком на берегу ручья, и всегда меня томила жажда. Я нагибался к воде, но не мог до нее достать; свежий ветер постоянно колыхал меня из стороны в сторону. Однако желание – безграничная сила. Однажды утром я отделился от своего стебелька и полетел, поддерживаемый легким ветром. У меня были крылья – я был свободным и живым существом. Ведь бабочки – это цветы, вспорхнувшие в один прекрасный день со своих мест по прихоти изобретательной природы.
– Очень хорошо, – заметила я, – и даже поэтично!
– Не мешайте, не мешайте! – закричали мне молодые люди. – Давайте лучше слушать.
Обратившись к хозяину, они спросили:
– Можете ли вы нам сказать, о чем вы думали, когда были камнем?
– Камень – неодушевленный предмет и потому не может думать, – ответил он. – Я не помню своего существования в виде минерала, но, вероятно, прошел через него, как и вы все. Впрочем, не надо думать, что неорганическая жизнь лишена всякого чувства. Растягиваясь на какой-нибудь скале, я всегда ощущаю что-то особенное, и это меня убеждает в том, что я когда-то имел дело с камнями. Все на свете подвергается превращению. Даже в самых грубых предметах заключается скрытая жизнь, которая глухими ударами взывает к свету и движению. У человека есть желание, у животного и растения – стремление, а минерал пока ждет. Чтобы избегнуть щекотливых вопросов, я опишу вам то из своих существований, которое лучше всего помню, и расскажу, как я жил, то есть поступал и думал, когда в последний раз был собакой. Не ждите от меня драматических событий или чудесных приключений. Я только дам вам маленькую характеристику.
В столовой зажжены были свечи. Прислуг отпустили. Водворилось глубокое молчание, и странный рассказчик начал следующим образом:
«Я был красивым чистокровным бульдогом. Не помню я ни матери, от которой меня взяли в очень раннем возрасте, ни жестокой операции, когда мне отрубили хвост и подрезали уши. Меня находили красивым в таком искалеченном виде, и я уже рано пристрастился к комплиментам. Насколько я себя помню, я всегда понимал смысл слов: красивая собака, хорошая собака. Нравилось мне также слово «белый». Когда дети, лаская меня, называли меня белым кроликом, я был в восторге. Я любил купаться. Часто, проходя мимо какой-нибудь лужи, я плескался в мутной воде, чтобы освежиться, и выходил оттуда совершенно грязным. Тогда меня называли желтым кроликом или черным кроликом, и это меня оскорбляло. Неудовольствие, которое я испытывал много раз, повело к тому, что я стал довольно ясно различать цвета.
Впервые моим нравственным воспитанием занялась старая дама, у которой на этот счет были особые воззрения. Она вовсе не гналась за тем, чтобы я был, что называется, дрессированным, и не требовала, чтобы я давал лапку или служил. Она говорила, что собака может выучиться разным штукам только тогда, когда ее бьют. Я отлично понимал это слово, потому что лакей без ведома хозяйки иногда бил меня. Я рано сообразил, что она мне покровительствует и что, прибегая к ней, я всегда найду ласку и поощрение. Я был молод и шаловлив. Мне нравилось таскать и грызть палки. Это была страсть, которую я сохранил в течение всей моей собачьей жизни. Она обусловливалась моей породой, силой моих челюстей и огромным размером моей пасти. Очевидно, природа создала меня хищником. Меня приучили не трогать кур и уток, но я чувствовал потребность что-нибудь теребить и расходовать избыток своих сил. Я тогда еще был в детском возрасте и очень опустошал садик, принадлежавший моей хозяйке. Я вырывал подпорки от растений, а с ними часто и сами растения. Садовник хотел хорошенько проучить меня, но хозяйка этого не позволяла. Она отводила меня в сторону и очень серьезно говорила со мной. Приподняв мою голову и глядя мне в глаза, она повторяла по нескольку раз: «Ты поступил дурно, в высшей степени дурно!» Затем она клала передо мной палку, которую не позволяла трогать. Когда я слушался, то она говорила: «Хорошо, очень хорошо. Ты хорошая собака!»
Этого было достаточно, чтобы пробудить во мне совестливость, которая путем воспитания вырабатывается у всякой более или менее одаренной собаки, когда ее не осыпают бранью и колотушками. Итак, я смолоду приобрел то чувство достоинства, без которого немыслимо истинное развитие ни у животных, ни у человека. Тот, кто повинуется из-под палки, никогда не научится управлять своими поступками.
Мне было полтора года, и я находился в расцвете молодости и красоты, когда хозяйка увезла меня в деревню, куда она со своей семьей переехала на постоянное жительство. Там был огромный парк, и я познал блаженство свободы. Когда я увидел сына старой дамы, то по их встрече и по тому, как он меня принял, догадался, что здесь он хозяин и я должен его слушаться. С первого же дня я стал бегать за ним с таким деловитым видом, что он почувствовал ко мне расположение, приласкал меня и положил спать в своем кабинете. Его жена не любила собак и охотно отделалась бы от меня, но я заслужил ее милость своей воздержанностью, скромностью и опрятностью. Меня могли оставить одного в комнате, где стояли самые вкусные блюда, и редко случалось, чтобы я что-нибудь лизнул. Помимо того, что я не был лакомкой и обжорой, я имел уважение к собственности. Со мной разговаривали, как с человеком. Мне было сказано: «Вот тебе тарелка, миска для воды, подушка и коврик». Я знал, что эти вещи мои, и попробовал бы кто-нибудь оспаривать их у меня! Зато и сам я никогда не покушался на чужое имущество.
У меня было еще одно качество, которое мои хозяева очень ценили. Я не ел всякой гадости, как это делают многие собаки, и никогда не кувыркался в грязи. Если мне случалось выкататься в угле или в земле и выпачкать свою белую шубку, то люди знали, что в этом нет ничего отталкивающего.
В заслугу мне ставилось еще одно качество: я никогда не лаял и не кусался. Лай – это угроза и оскорбление. Я отлично понимал, что должен был относиться вежливо к людям, которых мои хозяева радушно принимали у себя. Зато я не скупился на выражения радости, когда к нам приходил какой-нибудь старый знакомый. Мало того, я поджидал утром пробуждения любимых гостей, чтобы показать им дом и сад. Я любезно сопровождал их до тех пор, пока на смену мне не приходил кто-нибудь из хозяев. Во мне ценили это гостеприимство, которому меня никто не учил и до которого я дошел своим умом.
Когда в доме появились дети, то я чувствовал себя совершенно счастливым. После рождения первого ребенка всех немножко беспокоило, что я обнюхиваю его с любопытством. Я был еще порывистым и резким, и они боялись, чтобы я его не обижал и не ревновал. Тогда старая хозяйка взяла ребенка на руки и сказала: «Надо прочесть собачке наставление. Видишь, Фадэ, – обратилась она ко мне, – это маленькое существо – наше величайшее сокровище. Люби его, будь с ним ласков и заботься о нем. Ты понимаешь, Фадэ? Смотри же, люби нашего милого ребенка».
При этом она поцеловала его и прижала к сердцу.
Я понял и взглядом попросил позволения по-своему поцеловать это дорогое существо. Бабушка приблизила ко мне его ручонку и еще раз добавила: «Только осторожнее, Фадэ!»
Я лизнул ручонку. Ребенок мне очень понравился; я не удержался и лизнул еще его розовую щечку, но так осторожно, что он не испугался. Впоследствии я первый вызвал на его личике улыбку.
Через два года родился другой ребенок. Теперь у нас были две маленькие девочки. Старшая уже любила меня, и младшая тоже ко мне привязалась. Ей позволяли играть со мной на ковре. Родители побаивались моей необузданности, но бабушка оказывала мне доверие, которое я всеми силами старался оправдать. Только время от времени она мне напоминала: «Осторожно, Фадэ!»
Я вел себя безупречно. Никогда, даже в порыве буйного веселья, я не кусал девочкам ручонок и не разрывал им платьев, не лез лапами в лицо. А между тем в детстве они часто злоупотребляли моей добротой и даже мучили меня. Я видел, что они это делают по неразумению, и не сердился. Однажды они вздумали запрячь меня в свою тележку, чтобы покатать кукол. Я дал себя запрячь и возил тележку сколько им хотелось. Признаюсь, к этому меня отчасти побуждало тщеславие, потому что все прислуги восхищались моим послушанием.
«Это не собака, – говорили они, – а настоящая лошадь».
Весь день девочки называли меня белой лошадью, и, правду сказать, мне это очень льстило. Мое терпеливое и ласковое отношение к детям тем более ценилось, что я ни от кого другого не сносил обид. Как ни любил я своего хозяина, а однажды показал ему, что дорожу своим достоинством. Раз я поленился выйти и погрешил против чистоты. Он пригрозил мне хлыстом, но я возмутился и в предупреждение удара кинулся вперед, оскалив зубы. Мой хозяин был философом и не настаивал на наказании. Когда кто-то убеждал его, что он не должен был простить мне этого протеста, так как непокорную собаку необходимо хорошенько вздуть, он ответил: «Нет, я знаю Фадэ. Он в столкновениях смел и упрям и не уступил бы мне. Мне пришлось бы его убить, и тогда я сам был бы больше наказан». Итак, он меня простил, а я за это еще больше привязался к нему.
Я вел мирную и счастливую жизнь в этом благословенном доме. Все меня любили, прислуга обращалась со мной хорошо. Дети, уже подросшие, обожали меня и осыпали ласками. Хозяева говорили, что я никогда не поддавался низменным увлечениям. Я любил их общество и, когда стал старым, а вместе с тем и менее общительным, выражал свою дружбу тем, что мирно дремал у их ног или за дверью, если они забывали меня впустить. Я отличался необычайной скромностью и учтивостью, хотя был совершенно независим и не подчинен никакому надзору. Никогда я не царапался в дверь, никогда не надоедал кому-нибудь стонами. Когда у меня появились первые признаки ревматизма, меня стали лечить, как человека. Каждый вечер хозяин заворачивал меня в коврик. Если он запаздывал с этим, то я подходил поближе и пристально глядел на него, но никогда не дергал его за платье и не приставал к нему.
Единственное, в чем я могу упрекнуть себя за время своего собачьего существования, это в недружелюбном отношении к моим собратьям. Предчувствовал ли я, что скоро переменю род существования, или же боялся задержать свое повышение в чине и потому ненавидел собачьи недостатки и пороки – не знаю. Может быть, я опасался слишком особачиться в их обществе и относился к ним с горделивым презрением, так как они в умственном и нравственном отношении стояли ниже меня. Всю жизнь я не давал им спуску, и люди часто говорили, что я ужасно жесток со своими ближними. Однако в свое извинение я должен сказать, что никогда не обижал слабых и малолетних. Зато на больших и сильных псов я набрасывался с яростью. Я возвращался домой покусанный и израненный, но, едва оправившись, опять принимался за свои преследования. Так я обращался со всеми, кто мне не был представлен. Если какой-нибудь друг дома привозил свою собаку, то хозяева обращались ко мне с серьезной речью, в которой приглашали держать себя вежливо и соблюдать законы гостеприимства. Мне называли имя собаки и приближали ее морду к моей. Таким образом, меня успокаивали, взывая к чувству собственного достоинства. Этим навсегда устанавливался мир, и уж не только о ссорах, но даже о поддразнивании не было речи. Впрочем, я должен сказать, что, за исключением овчарки, собаки нашего пастуха, с которой я дружил и которая меня защищала от других собак, я никогда не сходился с представителями моего рода. Я всех их находил ниже себя, даже красивых охотничьих собак и маленьких ученых собачек, которые под влиянием наказаний приучились подавлять свои инстинкты. Со мной всегда обращались ласково. Если я иногда поддавался увлечениям там, где дело шло обо мне лично, зато людей я всегда слушался, потому что это согласовалось с моими убеждениями, и мне было бы стыдно поступить иначе.
Только один раз я выказал себя неблагодарным и сам был этим очень огорчен. В округе свирепствовала эпидемия, и вся семья с детьми поспешила уехать. Чтобы избежать моих слез, мне об этом заранее ничего не сказали. В одно прекрасное утро я оказался в доме один с лакеем, который заботился обо мне, но, занятый своими делами, не старался меня утешить, а может быть, и не знал, как за это взяться. Я пришел в отчаянье. Опустевший дом, да еще при сильных холодах, казался мне могилой. Я никогда не отличался большим аппетитом, а теперь окончательно его потерял и так похудел, что у меня можно было прощупать все ребра. Наконец через некоторое время возвратилась моя старая хозяйка, чтобы все подготовить к приезду семьи. Я не понял, почему она приехала одна, и вообразил, что ее сын и внучки уже никогда не вернутся. У меня даже не хватило духа приласкаться к ней. Она велела затопить камин в своей комнате и позвала меня погреться. Затем она стала давать распоряжения по дому, и я слышал, как она спросила про меня: «Вы, должно быть, его не кормили. Как он ужасно похудел! Принесите сюда хлеба и супу».
Я отказался есть. Лакей доложил ей, что я все время тоскую. Она принялась меня ласкать, но не могла утешить. Ей надо было сказать мне, что детки здоровы и возвратятся с отцом. Она не догадалась этого сделать и уехала, жалуясь на мою холодность, которой она не понимала. Однако она мне вновь возвратила свою милость через несколько дней, когда приехала вместе с семьей. Нежность, которую я проявлял к детям, ясно показала ей, что у меня любящее и чувствительное сердце.
На склоне дней луч солнца озарил мою жизнь. К нам в дом привезли маленькую собачку Лизетту. Сначала девочки поспорили из-за того, кому ею владеть, но потом старшая уступила ее младшей, говоря, что предпочитает старого испытанного друга, то есть меня. Лизетта была любезна со мной, и ее детская резвость оживила мою зиму. Она была нервна и своевольна, часто мучила меня и пребольно кусала мне уши. Я визжал, но не сердился; она была так мила в своих стремительных порывах, что обезоруживала меня. Она заставляла меня бегать и прыгать вместе с ней, и я вынужден был это делать. Еще больше, чем к Лизетте, я был привязан к старшей девочке, которая отдала мне предпочтение и которая теперь увещевала меня и делала мне наставления, как прежде ее бабушка.
Я совсем не помню последних лет своей жизни и своей смерти. Кажется, я тихо угас, окруженный заботами и попечениями. Вероятно, хозяева понимали, что я достоин был сделаться человеком. Они постоянно говорили, что мне не хватает лишь дара слова. Впрочем, я не знаю, перешагнул ли мой дух сразу эту пропасть. Не помню я ни формы, ни эпохи моего возрождения. Однако думаю, что собакой я больше не был, так как то существование, о котором я вам сейчас рассказывал, словно вчера происходило. Нравы, обычаи, мысли, даже костюмы, которые я вижу теперь, мало чем отличаются от того, что я видел в свою бытность собакой…»
Наш сосед говорил так серьезно, что мы поневоле слушали его внимательно и почтительно. Он нас удивил и заинтересовал. Когда он окончил, мы попросили его рассказать нам еще о каком-нибудь из его существований.
– На сегодня довольно, – ответил он. – Я постараюсь собраться с мыслями и когда-нибудь расскажу вам о другой фазе своей предыдущей жизни.
Часть вторая
Священный цветок
Через несколько дней после того, как сосед рассказал нам свою историю, мы познакомились у него с одним богатым англичанином, который много путешествовал по Азии и охотно делился своими интересными путевыми впечатлениями.
В то время как он описывал нам охоту на слонов в Лаосе, хозяин спросил его, убил ли он сам когда-нибудь хоть одного слона.
– О нет! – ответил сэр Вильям. – Я этого никогда не простил бы себе. Мне всегда казалось, что слон по уму и рассудительности приближается к человеку. Я не решился бы перебить душе путь к ее переселению.
– В самом деле? – заметил кто-то. – Вы долго жили в Индии и, вероятно, разделяете взгляды на переселение душ, которые наш почтенный хозяин недавно развивал перед нами. Впрочем, они скорее остроумны, чем научны.
– Наука всегда останется наукой, – возразил англичанин. – Я ее бесконечно уважаю, но думаю, что когда она берется решать так или иначе вопрос о душе, то выходит из своей области. Эта область состоит из осязательных фактов, на основании которых она выводит законы. Однако самое происхождение законов не поддается ее исследованию. Когда наука чего-нибудь не может осветить, мы вправе давать фактам, как вы выражаетесь, остроумное толкование. По-моему, это не что иное, как объяснение, основанное на логике и понимании мирового порядка и равновесия.
– Значит, вы буддист? – спросил собеседник сэра Вильяма.
– До известной степени, – ответил англичанин.
– Однако мы могли бы найти какую-нибудь тему, более занимательную для детей, которые нас слушают.
– Меня это очень интересует, – заметила одна маленькая девочка. – Можете ли вы мне сказать, чем я была до того, как сделалась девочкой?
– Ангелочком, – ответил сэр Вильям.
– Пожалуйста, без комплиментов! – воскликнула малютка. – Мне кажется, что я была птичкой. Я как будто всегда сожалею о том времени, когда я порхала по деревьям и делала все, что мне вздумается.
– Это сожаление является пережитком отдаленных воспоминаний. Каждый из нас питает пристрастие к какому-нибудь животному, и с ним вместе переживает впечатления, словно раньше сам их перечувствовал.
– Какое ваше любимое животное? – спросила я.
– Пока я был англичанином, я больше всего любил лошадей. С тех пор как я поселился в Индии, стал отдавать предпочтение слонам.
– Но ведь слон уродлив! – воскликнул один мальчик.
– Да, по нашим понятиям. Мы считаем за идеал четвероногого животного лошадь или оленя. Мы любим гармонию очертаний, потому что всегда все сравниваем с типом человека, который является совершеннейшим проявлением этой гармонии. Но когда покинешь умеренные страны и очутишься перед лицом тропической природы, вкус изменяется. Глаз привыкает к другим линиям; дух возносится к более грандиозному творчеству, и даже оборотная сторона медали нас не отталкивает. Индус, маленький, черный и невзрачный, не похож на царя вселенной. Зато англичанин, румяный и плечистый, в той стране кажется более представительным, чем у себя дома. Однако тот и другой совершенно теряются среди окружающей величественной природы. Художественное чувство требует более внушительных форм, и человек невольно проникается уважением к тем существам, которые могут гордо развиваться под жгучим солнцем, обесцвечивающим род людской. Там, где есть массивные скалы, чудовищные растения, страшные пустыни, власть человеческая теряет свое обаяние, и чудовище является нашему взору, как высшее проявление чудесного мира. Древние обитатели Индии понимали это. Их искусство заключалось в воспроизведении чудовищных форм. Изображение слона увенчивало их храмы. Боги их были чудовищами и колоссами. Не удивляйтесь, если я вам скажу, что вначале находил это искусство варварским, но потом настолько привык к нему, что стал им восхищаться и находить наше искусство холодным. В Индии вообще принято возвеличивать слона. Изображения его чрезвычайно разнообразны: по мысли художника он воплощает в себе то грозную силу, то благодетельную кротость божества. Древние путешественники утверждают, что самому слону поклонялись, как богу, но я этому не верю. Он служил и поныне служит только символом божества. Белый слон сиамских храмов до сих пор считается священным животным.
– Расскажите нам об этом слоне! – хором воскликнули дети. – Он вправду белый? Вы его видели?
– Я его видел, и во время празднеств, устроенных в его честь, со мной произошло нечто странное.
– Что такое? – допытывались дети.
– Не знаю даже, сказать ли вам. Я боюсь, что вы усомнитесь в моей правдивости и подумаете, что я сочинил свой рассказ из желания соперничать с поучительной историей нашего почтенного хозяина.
– Расскажите, расскажите! Мы не будем критиковать, мы будем слушать вас с полным вниманием.
– Хорошо, дети, – ответил англичанин. – Я расскажу вам, что со мной случилось. Я любовался величием священного слона, который шел размеренным шагом под звуки музыки и отбивал такт хоботом. Индусы, которые относятся к нему, как рабы к повелителю, держали над его головой красные с золотом опахала. В это время я сделал над собой особенное усилие, чтобы прочесть мысли, отражавшиеся в его спокойных глазах. Внезапно я почувствовал, что в моей памяти воскресает ряд прошлых существований, обыкновенно забываемых человеком.
– Как! Вы верите?..
– Я верю, что иные животные кажутся нам сосредоточенными и задумчивыми, потому что они вспоминают. Человек же забывает, потому что у него слишком много дел.
– Расскажите нам свои воспоминания, – перебил его хозяин. – Мне очень интересно слышать, что вы испытали то же ощущение, которое и я пережил несколько раз в жизни.
– Извольте, – ответил сэр Вильям. – Признаюсь, что ваша просьба меня сильно волнует. Если мое видение во время церемонии, сосредоточенной около священного слона, было сном, то, во всяком случае, настолько ясным и отчетливым, что я не забыл ни малейшей подробности. Я тоже был когда-то слоном, белым слоном, следовательно, священным. Я вспомнил свое существование с самого детства, которое я провел в лесах Малаккского полуострова.
Мои первые воспоминания относятся к стране, которая тогда еще была мало известна европейцам. Я жил на полуострове, имевшем триста шестьдесят миль в длину и в среднем около тридцати миль в ширину. Он, собственно, представляет собой цепь гор, выступающую в море и увенчанную лесами. Эти горы, с главной вершиной Офир, не очень высоки, но благодаря своему положению между двумя морями они производят величественное впечатление. Их крутые склоны большей частью недоступны человеку. Однако теперь прибрежные жители, невзирая на это, упорно охотятся на диких зверей, и оттуда по низкой цене вывозится слоновая кость и другие товары. Все-таки человек и ныне не везде там стал владыкой, а в те времена он и совсем им не был. Я рос счастливым и свободным среди гор, наслаждаясь ясным небом, ярким солнцем и морским ветерком. Как великолепно было Малайское море со множеством изумрудных островков и белых, как алебастр, утесов, выделявшихся на темной синеве волн! Какой горизонт открывался нашим взорам, когда с высоты гор мы видели перед собой безбрежное пространство! В дождливое время года мы наслаждались влажной теплотой под тенью гигантских деревьев. Окружающая природа вселяла в нас какое-то тихое блаженство. Мощные растения, слегка изнуренные знойным летом, казалось, разделяли наше чувство и черпали новые силы в источнике жизни. Красивые лианы разных пород обвивались вокруг деревьев и переплетались с цветущими гардениями. Мы спали в благоуханной тени бананов, бальзамника и мангового дерева. У нас было больше растений, чем требовалось для удовлетворения нашего здорового, но непритязательного аппетита. Мы презирали плотоядных хищников и не подпускали тигров к нашим пастбищам. Антилопы и обезьяны искали нашего покровительства. Чудные птицы стаями прилетали, чтобы выклевывать насекомых с нашей кожи. Гигантская птица нокариам, теперь, быть может, уже исчезнувшая, без страха приближалась к нам и разделяла с нами трапезу. Я со своей матерью жил в уединении. Мы не присоединялись к многочисленным стадам простых слонов, более мелких и отличавшихся от нас цветом. Принадлежали ли мы к другой расе? Не знаю. Белые слоны встречаются так редко, что индусы считают их воплощением божества. Когда умирает какой-нибудь белый слон, живущий при индусском храме, то его хоронят с царскими почестями, и иногда проходит много лет, пока найдут ему заместителя.
Быть может, наш большой рост пугал слонов. Но так или иначе, мы жили в одиночку. Места у нас никто не оспаривал, и мы кочевали по горам, как нам вздумается. Поросшие лесом вершины нам нравились больше, чем непроходимая чаща джунглей, где водятся огромные змеи и ядовитые насекомые. Когда мы искали сахарного тростника под колоссальными бамбуками, то иногда останавливались, чтобы кинуть взгляд на поселения у реки; но мать моя боялась, что наши белые платья привлекут внимание людей в область кокосовых и саговых пальм, которые росли гораздо выше джунглей и кивали своими величественными перистыми верхушками.
Мать души во мне не чаяла, всюду водила с собой и жила только для меня. Она учила меня поклоняться солнцу и каждое утро на коленях приветствовать его восход, поднимая кверху мой белый атласистый хобот. В эти минуты румяная заря покрывала розовым отблеском мою тонкую шерсть, и мать с восхищением смотрела на меня. Мысли у нас были возвышенные, и сердце проникалось нежностью. Счастливые, невозвратные дни! В одно прекрасное утро мы пошли напиться к одному из потоков, которые быстро сбегают с горы и потом, собираясь в реки, текут в море. Это было к концу сухого времени года. Источник, берущий начало на вершине Офира, так пересох, что в его русле не оставалось ни одной капли воды. Нам пришлось спуститься к подошве горы в джунгли, где поток образовал ряд маленьких озер, которые, как бриллианты, сверкали среди бледной зелени смоковниц. Вдруг мы услышали странный крик, и неизвестные мне создания – люди и лошади – бросились на нас. Эти медно-красные люди, похожие на обезьян, нисколько не испугали меня. Животные, на которых они сидели, подходили к нам со страхом. Мы не были в опасности: наши белые платья внушали уважение даже диким и жестоким малайцам. Без сомнения, они хотели овладеть нами, но не решались действовать оружием. Моя мать сначала гордо оттолкнула их. Она знала, что они не посмеют тронуть ее. Тогда они рассудили, что ввиду моего юного возраста меня легче взять, и попробовали накинуть мне на ноги аркан. Мать бросилась между ними и мной и стала отчаянно защищать меня. Охотники поняли, что не захватят меня, пока она будет жива, и стали метать в нее свои дротики. Я с ужасом видел, как ее белое платье покрылось кровью.
Мне хотелось вступиться за нее, но она не пускала меня, держала за собой и защищала своим телом. Она молча переносила нестерпимую боль, пока сердце, пронзенное стрелой, не перестало биться и она не свалилась с ног. Земля дрогнула под ее тяжестью. Убийцы связали меня; я не сопротивлялся. Я не понимал, что такое смерть. Остановившись перед трупом матери, я жалобно стонал, ласкал ее и умолял подняться, чтобы бежать со мной. Она была бездыханна, но слезы еще градом катились из ее потухших глаз. Мне набросили на голову плотную циновку. Я ничего не видел, а ноги мои были спутаны крепкими ремнями. Я горько плакал. Чувствуя, что моя мать подле меня, я не хотел уйти и лег. Меня увели – не знаю как и куда. Кажется, впрягли всех лошадей, чтобы стащить меня по песчаному откосу к большой яме, где меня оставили одного.
Не помню, сколько времени я там пробыл без пищи, томимый жаждой. Меня мучили мухи, пившие мою кровь. Я уже был силен и мог бы разрушить передними ногами эту западню и проложить себе тропинку, как мать учила меня делать на крутых обрывах. Однако долго я и не помышлял об этом. Не имея понятия о смерти, я ненавидел жизнь и не старался ее сохранить. Наконец я уступил инстинкту и стал кричать. Мне принесли сахарного тростника и воды. Я видел, как встревоженные лица склонялись над ямой, куда я был засажен. Кажется, люди радовались, что я ем и пью; но, подкрепив силы, я пришел в ярость и стал оглашать небо и землю своим ревом. Они удалились, и я мог беспрепятственно разрушить одну из стенок своей темницы. Я вообразил себя свободным, но оказалось, что я в парке из огромных бамбуков, так плотно перевитых между собой крепкими лианами, что я не мог пошатнуть ни одного из них. Несколько дней я упорно принимался за эту неблагодарную работу, но умелый и коварный труд человека представлял неодолимое препятствие. Мне приносили еду и мягко обращались со мной. Я ничего не хотел слушать, пытался бросаться на своих противников и бился головой об стенки своей темницы, но тщетно. Оставшись один, я ел. Могущественный закон жизни брал верх над моим отчаянием, а сон побеждал мои силы, и я засыпал на свежей траве, которую бросали в мою клетку.
Однажды маленький черный человек, одетый только в саронг, то есть белые панталоны, решительно вошел ко мне в темницу. Он принес корыто соленой рисовой муки, перемешанной с маслом, и на коленях подал его мне, произнося какие-то ласковые и, как мне показалось, почтительные слова. Я позволил упрашивать себя и, наконец, склоняясь на его просьбы, стал есть в его присутствии. В то время, как я лакомился вкусным кушаньем, он обмахивал меня пальмовым листом и пел что-то грустное; я слушал с удивлением. Немного погодя, он снова вернулся и стал играть на маленькой тростниковой дудочке грустную мелодию. Я понял, что внушаю ему сожаление, и позволил, чтобы он поцеловал меня в лоб и в уши. Через некоторое время я уж разрешал ему мыть меня, снимать с меня колючки и садиться между моими ногами. Наконец наступил день, когда я почувствовал, что он меня любит и что я его тоже люблю. С тех пор я был укрощен; прошлое изгладилось из моей памяти, и я согласился следовать за ним на берег, не помышляя уже о побеге.
Я прожил, кажется, два года наедине с ним. Он окружал меня такими нежными заботами, что заменял мне мать, и я не думал расставаться с ним. Между тем я ему не принадлежал. Племя, захватившее меня, должно было разделить в своей среде плату, которую дадут богатейшие индийские раджи, как только узнают о моем существовании. Приняты были все меры, чтобы продать меня как можно выгоднее. Племя отправило гонцов ко всем княжеским дворам Индии, чтобы уговориться насчет цены. В ожидании их возвращения меня поручили этому молодому человеку по имени Аор, который славился своим умением приручать слонов. Он не был охотником и не принимал участия в убийстве моей матери. Я смело мог любить его.
Вскоре я научился понимать человеческую речь, с которой он обращался ко мне. Я не различал отдельных слов, но по интонации угадывал его мысль так безошибочно, словно знал его язык. Впоследствии я стал понимать звук человеческой речи на любом языке. Еще лучше понимал я пение.
Я узнал от своего друга, что мне надо прятаться от взоров людей, так как тот, кто меня увидит, непременно захочет увести меня на продажу, а его убьет. Мы жили тогда в глуши Тенассерима. Днем мы скрывались в горах и выходили только ночью. Аор садился ко мне на шею и вел меня купаться. Он не боялся аллигаторов и крокодилов, от которых я его оберегал, закапывая в песок их головы, которые трещали под моими ногами. После купания мы бродили по лесу. Я выбирал себе сочные ветви, а для Аора срывал плоды, которые передавал ему хоботом. Я запасался также зеленью на весь день. Больше всего я любил свежую кору и умел легко отделять ее от ствола. Однако, чтобы набрать ее, требовалось много времени, и я довольствовался ветвями на те часы дня, когда не спал.
Я вел мирное существование и жил настоящим, не задумываясь о будущем. О самом себе я стал размышлять с того дня, как люди загнали в мой парк стадо диких слонов, на которых они охотились с факелами, барабанами и тарелками, чтобы завлечь их в эту ловушку. Туда заранее привели ручных слонов, которые должны были помочь охотникам в укрощении пленников. Они действительно помогли спутать пленникам ноги, но некоторые дикие самцы, и в особенности слоны-одиночки, так бушевали, что решено было и меня призвать на помощь охотникам.
Милого Аора заставили сесть мне на шею. Он повиновался, хотя очень неохотно. Во мне же пробудилось сознание справедливости, и я ужаснулся перед тем, чего от меня требовали. Дикие слоны были если не моими равными, то подобными мне, а ручные слоны, которые содействовали порабощению своих братьев, показались мне гораздо ниже их и меня. В порыве презрения и негодования я накинулся на этих людских приспешников и стал так энергично защищать пленников, что люди отказались от моих услуг. Меня выпроводили из парка, а милейший Аор стал осыпать меня похвалами и ласками. «Вы видите, – говорил он товарищам, – что это ангел и святой. Белого слона никогда не употребляют ни для тяжелых работ, ни для насилия. Он не создан ни для охоты, ни для войны, ни для перевозки грузов и людей. Сами цари не позволяют себе садиться на него, а вы хотите, чтобы он унизился до того, чтобы помогать вам в укрощении! Нет, вы не понимаете его величия и оскорбляете его достоинство! То, что вы пытались сделать, отдаст вас под власть злых духов».
Моему другу возражали, что он сам тоже меня укрощал.
– Совершенно верно, – ответил он, – но для этого я прибегал только к ласковым речам и звукам флейты. Если он позволяет мне садиться на него, то потому, что признает меня своим верным слугой. Я его преданный магаут (погонщик). Знайте, что в тот день, когда нас разлучат, один из нас умрет. Пожелайте, чтобы это был я, так как от благоденствия Священного цветка зависит богатство и слава вашего племени.
Он дал мне имя Священный цветок, и никто не возражал против этого. Речь моего магаута произвела на меня глубокое впечатление. Я чувствовал, что если бы не он, то меня унизили бы, но зато теперь я стал еще более гордым и независимым. Я решил (и сдержал слово) во всем руководиться только его советами, и сообща мы удаляли от себя всякого, кто не относился к нам с полным уважением. Люди предлагали дать мне в товарищи самых красивых и хорошо дрессированных слонов. Я положительно отказывался от этого и наедине с Аором никогда не скучал.
Мне было около пятнадцати лет, и я уже был значительно выше обыкновенных взрослых слонов, когда явились посланные с известием, что бирманский раджа дал наибольшую цену, и они меня продали. Послы действовали с осторожностью. Они не обращались ни к одному из сиамских властителей, которые могли потребовать меня даром ввиду того, что я родился в их владениях. Итак, я был продан царю Пагама. Ночью меня повели через Тенассерим к высоким горам, а перевалив через них, мы очутились на берегу прекрасной реки Ирравади.
Тяжело мне было покинуть родину и свой лес. Я никогда не согласился бы на это, если бы Аор при посредстве флейты не сказал мне, что на другом берегу меня ждет слава и счастье. Дорогой я не хотел ни на минуту разлучаться с ним. Я почти не позволял ему слезать с моей шеи. Чтобы избавить меня от мучительного беспокойства, он спал у меня между ногами. Я был ревнив и хотел, чтобы он кушал только ту пищу, которую я ему приносил; я выбирал для него лучшие плоды и подавал ему хоботом сосуд, который сам наполнял ключевой водой. Я обмахивал его большими листьями. Проходя через джунгли, я сбивал колючки, которые могли его поцарапать. Наконец я делал и даже лучше всех других то, что делают хорошо дрессированные слоны. Делал это я по доброй воле, а не по приказу, единственно ради моего друга.
На бирманской границе меня встретило посольство царя. Последовавшие потом церемонии меня встревожили. Я видел, как давали золото и подарки малайским охотникам, сопровождавшим меня, и как их отправили назад. Неужели меня разлучат с Аором? Я страшно волновался и вызывающе смотрел на высокопоставленных лиц, которые подходили ко мне с почтением. Аор, понимавший меня, объяснил им, чего я опасаюсь, и сказал, что без него я не соглашусь пойти с ними. Тогда один из послов, который до тех пор оставался в палатке, снял сандалии и, опустившись на колени, протянул мне письмо бирманского царя, написанное синей краской на вызолоченном пальмовом листе. Я не позволил ему читать и, вырвав у него письмо, передал своему магауту. Аор принадлежал к низшей касте и не имел права прикасаться к этому священному листу. Он просил меня отдать письмо послу его величества. Я немедленно повиновался, желая показать свое уважение и дружбу к Аору. Посол взял письмо, над которым раскрыли золотой зонтик, и стал читать:
«Всемогущий, возлюбленный, высокопочитаемый слон по имени Священный цветок, удостой прийти в столицу моего царства, где для тебя уж приготовлен дворец. Настоящим письмом я, царь Бирмании, жалую тебе поместье в твою полную собственность, приставляю к твоим услугам министров, даю тебе дом с двумястами людей, даю тебе свиту в пятьдесят слонов, столько же лошадей и быков, шесть золотых зонтиков и оркестр музыки. Одним словом, я окружу тебя всеми почестями, которые подобают священному слону, составляющему радость и славу народов».
Мне показали царскую печать, но так как я оставался равнодушным, то спросили моего погонщика, принимаю ли я предложение царя. Аор ответил, что я жду от них обещания никогда меня с ним не разлучать. Посол, посоветовавшись со своими товарищами, поклялся исполнить мое требование. Тогда я выразил большую радость и стал гладить царское письмо, золотой зонтик и даже лицо посла, который чувствовал себя счастливым, что угодил мне.
Хотя я был очень утомлен от продолжительного путешествия, но выразил желание поскорее идти вперед, чтобы увидеть свою новую резиденцию и познакомиться со своим товарищем и братом, бирманским царем. Мы торжественно шли по берегу реки Ирравади, которая отличалась удивительной красотой. Она текла то медленно, то быстро между скалами, покрытыми совершенно незнакомой мне растительностью, так как мы подвигались на север, и здесь уже было гораздо свежее, чем на моей родине. Все имело другой вид. О тишине и величии пустыни не было и помина. Это был мир роскоши и празднеств. По реке сновали многочисленные лодки с высокой кормой в форме полумесяца, на которой развевался шелковый флаг, усеянный золотыми блестками. Далее виднелись рыбацкие лодки, украшенные зеленью и цветами. На берегу богатые люди выходили из своих роскошных жилищ и, преклоняя колени, подавали мне благовония. Музыканты и жрецы сбегались со всех храмов и присоединяли свои голоса к сопровождавшему меня оркестру.
Мы шли с роздыхами, чтобы я неслишком утомлялся. Два-три раза в день делали привалы, чтобы меня купать. Река у берега не всегда была достаточно мелкой. Аор заставлял меня исследовать дно хоботом. Я любил купаться только на песчаном дне и в прозрачной воде. Отыскав брод, я бросался по течению, не спуская со своей шеи доверчивого Аора. Он так же, как я, любил купанье. В трудных и опасных местах он поддерживал мою силу и бодрость, играя на флейте песенку нашей родины. Моя свита и толпа, собравшаяся на берегу, выражали свое беспокойство и восхищение криками, падали ниц и простирали ко мне руки. Послов тревожила смелость Аора. Они рассуждали между собой, не следует ли запретить, чтобы я подвергал такому риску свою драгоценную жизнь. Однако Аор, не переставший играть на флейте над самой поверхностью воды, и мой хобот, поднятый, как шея гигантского лебедя, свидетельствовали о нашей безопасности. Когда мы мирно выходили на берег, все сбегались ко мне с коленопреклонениями и славословиями, а мой оркестр оглашал воздух шумной музыкой. Этот оркестр с первого же дня мне не понравился. Он состоял из различных труб, странных гонгов, бамбуковых кастаньетов и больших барабанов, которые везлись слонами. На одном слоне стояла круглая клетка богатой работы; в середине ее сидел человек, поджав ноги, и поочередно бил палочками по целому ряду звучных барабанов. В другой такой же точно клетке находились тарелки из различных металлов. Ее тоже вез слон, и музыкант, сидевший в ней, извлекал из тарелок громкие аккорды. Сначала этот гул инструментов неприятно поразил мой тонкий слух. Однако постепенно я привык к этому, и мне даже стал нравиться оркестр, который прославлял меня на весь мир. Однако я все-таки предпочитал нежную музыку. Мне нравилась бирманская арфа, кайман и гармоника со стальными клавишами, звучавшая, как ангельский голос, а больше всего певучая мелодия, которую Аор играл мне на своей дудочке.
Однажды, когда он играл посреди реки, нас окружила целая стая больших раззолоченных рыб, которые высовывали головы из воды, словно о чем-то нас умоляли. Аор бросил им горсточку риса, который всегда носил при себе в мешочке за поясом. Они выказали живейшую радость и поплыли за нами до самого берега. При восторженных восклицаниях толпы я осторожно поймал одну из рыбок и подал старшему послу. Он поцеловал ее и велел покрыть новым слоем позолоты, а затем почтительно опустил в воду. Я узнал, что это священные рыбы Ирравади, которые живут только в одном месте реки и подплывают на зов человека, так как люди никогда их не обижают.
Наконец мы прибыли в Пагам, город, протянувшийся на четыре-пять миль вдоль реки. Долина дворцов, храмов, пагод, вилл и садов так поразила меня, что я остановился, словно хотел спросить своего магаута, не сон ли это. Он не меньше моего был озадачен и, потрепав меня по лбу, сказал:
«Вот твое царство. Забудь леса и джунгли; теперь ты в мире золота и алмазов!»
Действительно, это был волшебный мир. Тысячи храмов и пагод сверху донизу сверкали серебром. Буддизм пощадил памятники прежней религии, и потому храмы отличались большим разнообразием. Это были массивные здания, одни приземистые, другие высокие, как остроконечные пики. На некоторых были огромные колоколообразные купола. Поверх часовни иногда виднелось огромное белоснежное яйцо в золотой оправе. Длинные крыши, одна над другой, были укреплены на резных столбах, вокруг которых извивались сверкающие драконы, и их чешуйки из разноцветного стекла казались драгоценными камнями. Другие крыши зеленого, синего, красного цвета, расположенные по этажам, постепенно уменьшаясь кверху, заканчивались золотым шпилем с хрустальной головкой, которая сверкала на солнце, как гигантский бриллиант. К некоторым из этих зданий вели лестницы в триста – четыреста ступеней с ослепительно-белыми террасами, которые, казалось, были выточены из цельного куска прекраснейшего мрамора. Целые горы как будто одеты были белым кораллом и перламутром. На крышах и выступах многих строений виднелись чудовищные деревянные фигуры, покрытые позолотой и эмалью; они как будто стремились броситься в пространство. В других местах были совершенно ажурные бамбуковые постройки изумительной работы. Здесь выражалась причудливая фантазия, расстилались безумные богатства. Мрачное величие больших черных монастырей в древнем стиле оттеняло блестящие современные постройки. Теперь от этого великолепия не осталось и следа; тогда же оно представляло волшебный сон, восточную сказку, проведенную в жизнь искусством человека.
У городских ворот нас встретил царь со всеми своими придворными. Он сошел с лошади, чтобы мне поклониться. Затем меня отвели в особое здание, чтобы надеть церемониальный костюм, который царь привез в большом кедровом сундуке с инкрустациями, на самом красивом и нарядном из своих слонов. Однако я совершенно затмил этого роскошного подчиненного, когда появился в своем парадном облачении. Раньше всего Аор меня вымыл и тщательно надушил. Затем меня покрыли длинными красными полосами, затканными золотом и шелком; они изящно драпировались на моем теле, не скрывая красоты моих форм и моей священной белизны. Голову мне покрыли тиарой из красного сукна, усыпанной крупными бриллиантами и удивительными рубинами; на лоб мне повязали девять ниток драгоценных камней, так как это священное украшение предохраняет от влияния злых духов. На переносице у меня блестел полумесяц из самоцветных камней и золотая пластинка, где обозначены были все мои титулы. К ушам моим были привязаны серебряные кисти чудной работы, а в мои ослепительно-белые клыки продеты были золотые кольца с изумрудами, сапфирами и бриллиантами. Два больших щита из массивного золота покрывали мои плечи; наконец, красная подушка была положена мне на шею, я с радостью увидел, что мой милый Аор облачился в белый шелковый саронг, вышитый серебром, одел тонкие золотые браслеты на руки и ноги и повязал голову тончайшей белой кашемировой шалью. Он тоже умылся и надушился. Аор был стройнее бирманцев; цвет лица у него был смуглее и глаза красивее. Он еще был молод, и когда я увидел, что для управления мной ему дали палочку, усыпанную жемчугами и рубинами, то почувствовал гордость и с любовью обнял своего друга. Ему хотели дать бамбуковую лесенку, по которой обыкновенно всходят на слонов и которую затем привязывают к седлу, чтобы иметь возможность таким же способом сойти вниз. Я отбросил эту эмблему рабства, лег и вытянул голову так, что мой друг мог сесть, не потревожив моего одеяния. Затем я встал, такой гордый и внушительный, что сам царь был поражен моей осанкой. Он заявил, что еще никогда такой благородный, красивый, священный слон не охранял благополучия его империи.
Наше шествие до моего дворца продолжалось больше трех часов. Земля была усеяна зеленью и цветами. Через каждые десять шагов стояли курильницы, распространявшие приятное благоухание. Царский оркестр играл одновременно с моим. Прелестные баядерки, танцуя, шли впереди. Из каждого переулка, примыкавшего к главной улице, выходили процессии представителей знати. Они подносили мне новые подарки и следовали за мной в две шеренги. Воздух, наполненный синеватым дымком курений, оглашался музыкой, которая покрыла бы собой раскаты грома. Все дома были украшены очень богатыми коврами и дорогими тканями. Многие здания были соединены легкими триумфальными арками из тростника, сделанными с удивительным изяществом. С высоты этих ажурных ворот невидимые руки бросали на меня благоухающий снег жасмина и померанцевых цветов.
Мы остановились на большой площади, обнесенной оградой. Там мне хотели показать игры и пляски. Мне понравилось все красивое и пышное, но бой животных произвел на меня ужасное впечатление. Когда я увидел, как два слона, предварительно доведенные до ярости, перевивались хоботами и кололи друг друга клыками, то покинул свое почетное место и бросился на арену, чтобы разнять противников. Аор не успел меня удержать, и со всех сторон раздались крики отчаяния. Люди боялись, как бы слоны не бросились на меня. Но когда я подошел к борцам, их ярость сразу улеглась и они убежали в смущении. Аор, быстро догнавший меня, заявил, что я не переношу вида крови и к тому же после своего огромного путешествия нуждаюсь в отдыхе. Люди были очень растроганы моим поведением. Местные мудрецы стали на мою сторону, утверждая, что Будда не терпит кровавых забав. Итак, я явился выразителем его воли, и на несколько лет эти жестокие развлечения были отменены.
Меня отвели в мой дворец, расположенный за городом, на берегу реки. По величине и богатству он не уступал дворцу самого царя. Помимо реки, в моем саду был большой бассейн проточной воды для моих постоянных омовений. Я чувствовал усталость. Выкупавшись, я удалился в комнату, которая должна была служить мне спальней. Меня оставили наедине с Аором после того, как я намекнул, что музыка меня утомила и я хочу побыть со своим другом.
В этой зале был внушительных размеров купол, поддерживаемый двойной колоннадой из розового мрамора. Все входы были задрапированы дорогими тканями, которые крупными складками спускались на мозаичный пол. Моя постель состояла из мелко истолченного душистого сандалового дерева. Для питья мне служил сосуд, в котором свободно могли бы купаться четыре человека. Вместо яслей у меня была золоченая этажерка, на которой лежали сочные фрукты. Посреди залы из огромной японской вазы бил фонтан. На краю нефритового бассейна виднелись серебряные и золотые птицы с разноцветной эмалью, которые, казалось, прилетели напиться. Над моей головой колыхались цветочные гирлянды. Огромное опахало, приводимое в движение невидимой рукой, давало постоянный приток свежего воздуха сверху.
Когда я проснулся, ко мне привели различных ручных животных: обезьянок, белок, аистов, голубей, оленей и маленьких хорошеньких ланей. Это веселое общество на минуту меня позабавило; но я предпочитал всем гостям прохладу и безупречную чистоту моего помещения и потому дал понять, что общество людей наиболее соответствует моему характеру.
Многие годы прожил я в роскоши вместе с моим дорогим Аором. Мы участвовали во всех церемониях и празднествах; нас посещали иностранные послы. Жители страны оказывали мне царские почести. Меня осыпали подарками, и мой дворец превратился в один из богатейших музеев Азии. Самые ученые жрецы приходили проведать меня и побеседовать со мной. Они находили, что я по разуму стою на высоте их лучших заветов, и старались прочесть мои мысли на моем широком, неизменно ясном челе. Все храмы были открыты передо мной. Я любил заходить под их высокие мрачные своды, где колоссальная позолоченная фигура Гаутамы сияла, как солнце, в глубине ниши, освещенной сверху. Мне казалось, что я вижу солнце моей пустыни, и я склонял перед статуей колени, показывая этим пример верующим, которых восхищало мое благочестие. Я умел даже подавать жертвоприношения почитаемому идолу и раскачивать перед ним золотую курильницу. Царь нежно любил меня и заботился, чтобы мой дворец содержался не хуже его собственного.
Однако нет прочного счастья на земле. Этот достойный повелитель затеял войну с соседним государством. Он был побежден и свергнут с престола. Новый царь отправил его в изгнание и не позволил ему взять меня с собой. Он сам оставил меня, как залог своего могущества и единения с Буддой; но он не питал ко мне ни дружбы, ни благоговения, и уже вскоре мне стали прислуживать небрежно. Аор этим огорчался и не раз жаловался. Слуги нового царя возненавидели его и решили разделаться с ним. Однажды вечером, когда мы оба спали, они бесшумно проникли во дворец и ранили его кинжалом. Услышав его крики, я проснулся и бросился на убийц, но они скрылись. Мой бедный Аор лежал в обмороке; саронг его был окровавлен. Я выбрал из серебряного бассейна всю воду и брызгал на него, но не мог привести его в чувство. Тогда я вспомнил, что в соседней комнате всегда дежурил врач. Я разбудил его и привел к Аору. Благодаря хорошему уходу друг мой остался жив, но после потери крови он долго чувствовал слабость, а я не хотел ни выходить, ни купаться без него. Горе удручало меня, и я отказывался от еды. Лежа около него, я проливал слезы и разговаривал с ним глазами и ушами, умоляя его выздороветь.
Убийц не стали искать. Уверяли, что это я нечаянно ранил Аора клыком, и поговаривали о том, чтобы спилить мне клыки. Аор негодовал и клялся, что ему нанесли рану стальным лезвием. Врач не решился подтвердить его показание. Он даже посоветовал моему другу молчать, чтобы не ускорить торжества врагов, которые поклялись его погубить.
Я был глубоко опечален, и жизнь, которую меня заставляли вести, казалась мне самым тяжким рабством. Счастье мое зависело от прихоти царя, который не хотел или не мог взять под свою защиту моего лучшего друга. Я возненавидел лицемерные почести, которые мне все еще воздавались для формы; я со злостью принимал торжественные визиты и выгонял баядерок и музыкантов, смущавших тревожный сон моего друга. Сам я старался спать как можно меньше.
Я предчувствовал новое несчастье и под влиянием постоянного возбуждения вдруг припомнил свои юные годы. Передо мной воскрес давно забытый образ смертельно раненной матери, которая защищала меня своим телом. Я опять видел знакомую пустыню, роскошные деревья, реку Тенассерим, гору Офир и безбрежное море, сверкающее на горизонте. Тоска по родине охватила меня, и я стал помышлять о побеге. Но я хотел бежать с Аором, а бедный Аор, лежа на боку, едва мог приподняться, чтобы поцеловать меня в лоб, когда я к нему наклонялся.
Однажды ночью я, сам больной и разбитый от усталости, крепко заснул на несколько часов. Когда я открыл глаза, постель Аора оказалась пустой, и я тщетно звал его. В отчаянии я кинулся в сад и стал искать его на берегу пруда. Однако чутье подсказывало мне, что Аор туда не приходил. Слуги теперь совсем не присматривали за мной, и я мог сам открыть ворота и выйти из загородки. Тогда я почувствовал, что мой друг близко, и поспешил к тамариндовому лесу на холм. Внезапно я услышал жалобный стон. Бросившись в чащу, я увидел Аора, привязанного к дереву и окруженного злодеями, которые готовились его убить. Я смял их и стал беспощадно топтать ногами. Затем я порвал веревки, которыми Аор был привязан, поднял его, помог ему сесть ко мне на шею и быстрым шагом убегающего слона углубился в лес.
В то время часть Индокитая, где мы находились, представляла резкие противоположности: наряду с богатейшими поселениями встречались безлюдные пустыни. Я вскоре добрался до диких Каренских гор. Когда измученный от усталости я прилег на берегу быстрой реки, мы были уже за тридцать миль от бирманского города. Аор сказал мне:
– Куда мы идем? Ах, я вижу по твоим глазам, что ты хочешь возвратиться в наши горы. Ты даже думаешь, что уже пришел, но ошибаешься. Мы далеко оттуда. По дороге нас непременно изловят, а если даже мы избегнем людей, то я, больной, умру. Как же ты без меня найдешь дорогу? Брось меня здесь, они ведь преследуют только меня, а сам возвращайся в Пагам, где тебя никто не тронет.
Я объяснил ему, что не хочу ни покидать его, ни возвращаться к бирманцам; если он умрет, и я тоже умру; а терпением и настойчивостью мы опять можем достигнуть счастья.
Он поддался убеждениям, и, хорошенько отдохнув, мы снова пустились в путь. Через несколько дней к нам стали возвращаться здоровье, надежда и сила. Чистый воздух, благоухание лесов, благотворная теплота скал помогали нам больше, чем роскошная обстановка и все лекарства врачей. Тем не менее Аор иногда страшился подвига, которого я от него требовал. Похитить священного слона значило, в случае неудачи, подвергнуть себя ужаснейшим пыткам. Он выражал мне свои опасения на тростниковой дудочке, которую он себе вырезал и на которой играл еще лучше прежнего. Я приучился размышлять, почти как человек, и, ловко обмазывая себя тиной, которая нашлась на берегу реки, объяснил ему, что надо сделать. Моя догадливость поразила его. Он отыскал некоторые растения, со свойствами которых был хорошо знаком. Из их сока он сделал краску, которая совершенно преобразила меня: за исключением роста, я стал похож на простого слона. Я объяснил Аору, что этого еще недостаточно и нужно отпилить мне клыки. Он не согласился, находя, что я и так неузнаваем.
Мы двинулись дальше. Несмотря на уединенность горной дороги, это было поистине чудом, что мы избегли многочисленных опасностей, представлявшихся на каждом шагу. Мы неминуемо погибли бы друг без друга, но соединение человеческого разума с большой животной силой отличается особенным могуществом.
Иногда нас преследовали разбойники, но мне удавалось обратить их в бегство. Я не боялся их копий и стрел, так как Аор сделал мне легкую кольчугу из деревянной чешуи. Благодаря настойчивости и осторожности мы благополучно добрались до реки Тенассерим. Нам нетрудно было держаться правильного пути. Помимо того что мы отлично помнили свое первое путешествие, устройство поверхности Малакки давало нам руководящую нить. На этом полуострове длинные горные хребты, прорезанные глубокими долинами и многоводными реками, почти не имеют отрогов и тянутся до самого моря. Мы редко сбивались с пути и сейчас же замечали свою ошибку. Надо сказать, что из нас двоих я всегда скорее находил настоящее направление.
Мы не без опасения приближались к нашему прежнему жилищу. Нам нужно было жить одним и на свободе. Все сложилось как нельзя лучше. Наше племя обогатилось, продав меня за большие деньги, и покинуло свою жалкую деревушку. После ужасной засухи все животные разбежались из лесу; не являлись поэтому и охотники. Мы могли устроиться совершенно независимо. У Аора ничего не было, но он не жалел об утраченной роскоши. Не имея ни друзей, ни семьи, он любил на свете только меня одного. Я за всю жизнь любил только свою мать и его. Мы очень сблизились и научились понимать друг друга. Моя пантомима сделалась такой обдуманной и выразительной, что он свободно читал мои мысли. Ему не нужно было даже разговаривать со мной: по звукам флейты я чувствовал, в веселом он или в грустном настроении. Судьба у нас была общая, и я вместе с ним переносился в прошлое или наслаждался настоящим.
Мы провели много лет в лесу после освобождения. Аор в Бирмании сделался ревностным буддистом и употреблял только растительную пищу. Наше существование было обеспечено, и мы больше не знали ни болезней, ни страданий.
Однако время шло, и Аор состарился. Я видел, как седели его волосы, как убывали его силы. Он объяснил мне, что это следствие преклонного возраста, и предупредил меня, что скоро умрет. Я старался продлить его жизнь, оберегая его от всякого утомления. Когда он очень ослабел, я приносил ему пищу и строил для него шалаш. Кровь его стала холодеть, и он отогревался, только прижимаясь ко мне. Однажды он попросил меня вырыть для него яму, так как чувствовал приближение смерти. Я это сделал. Он лег в яму на подстилку из травы, обвил руками мой хобот и попрощался со мной. Затем его руки опустились, тело стало неподвижным и вскоре окоченело.
Аор скончался. Я засыпал яму, как он мне приказал, и сам лег сверху. Понял ли я, что такое смерть? Кажется, понял, но все-таки не задавал себе вопроса! надолго ли мне суждено его пережить. Однако умереть я тоже не собирался. Я плакал и совершенно забыл о еде. Когда прошла ночь, я не подумал идти купаться или двинуться с места. Я был погружен в какое-то оцепенение. Следующая ночь застала меня совершенно безучастным, а восходящее солнце уже озарило мой труп.
Не знаю, перешла ли в меня благородная душа Аора? Возможно и это. Впоследствии во время других существований я узнал, что после моего исчезновения бирманскую империю постигли большие бедствия. Совет жрецов покинул столицу Пагам.
По их словам народ прогневал Будду тем, что мало заботился обо мне. Жители тоже разбежались. Богачи забрали свои сокровища и выстроили себе дворцы в другом месте. Бедняки на верблюдах увезли свои тростниковые хижины и последовали за своими господами. Сорок пять царей один за другим жили в Пагаме, который составлял их гордость и славу. А я, покинув этот город, осудил его на погибель, и он превратился в груду развалин.
– Ваша история мне очень понравилась, – сказала маленькая девочка, которая уже раньше разговаривала с сэром Вильямом. – Но если мы все были животными прежде, чем сделаться людьми, то я хотела бы знать, чем мы будем потом?
– Моя сестра права, – заметил взрослый молодой человек, который внимательно слушал рассказ сэра Вильяма. – Если честная собака или добродетельный слон в награду делаются людьми, то честный и добродетельный человек также должен получить награду в здешнем мире.
– Конечно, – ответил сэр Вильям. – Всякое живое существо стремится к усовершенствованию, а в особенности человек. Я глубоко убежден, что благодаря своему разуму он рано или поздно достигнет громадных успехов, и грядущие поколения будут неузнаваемы.
– Я не понимаю, – возразила девочка. – Неужели мы вправду сделаемся ангелами в белых одеждах и с крылышками?
– Вот именно, – сказал сэр Вильям. – Белая одежда есть символ чистоты, и мы все будем чисты душой. А крылья мы тоже приобретем: нам их даст наука. И тогда для нас не будет существовать ни пространства, ни времени.
Необыкновенный орга́н
Однажды вечером мы, по обыкновению, с восторгом слушали импровизацию знаменитого престарелого маэстро Анжелэна. Вдруг в рояле лопнула струна с дребезжанием, которому мы не придали никакого значения, но на возбужденные нервы артиста это произвело впечатление громового удара. Он быстро отодвинул свой стул, стал потирать руки, словно – невероятная вещь! – их хлестнула струна, и воскликнул:
– Проклятый титан!
Зная его скромность, никто из нас не подумал, что он себя сравнивает с титаном. Его волнение показалось нам странным, но он сказал, что вдаваться в объяснения было бы слишком долго.
– Со мной это иногда бывает, – говорил он, – когда я играю мотив, на который я сейчас импровизировал. Какой-нибудь неожиданный шум смутит меня, и мне кажется, что у меня руки вырастают. Вы не можете себе представить, как мучительно это ощущение. Оно напоминает мне трагический и в то же время счастливый момент моей жизни.
К нему так пристали с расспросами, что он, наконец, сдался и рассказал нам следующее:
* * *
«Я родился в Оверни, в очень бедной обстановке, и родителей своих не помню. Воспитывался я на благотворительный счет. Меня взял к себе господин Жанспре, или, как его для краткости называли, господин Жан, профессор музыки и органист Клермонского собора. Я пел у него в хоре. Кроме того, он вызвался обучать меня основам музыки и игре на клавесине.
Это был удивительно странный человек, способный на очень эксцентричные выходки и не лишенный таланта, хотя он сам был о нем преувеличенного мнения. Он хорошо играл, имел частные уроки, а изредка давал уроки и мне. Впрочем, я скорее был его слугой, чем учеником, и чаще раздувал ему меха органа, чем прикасался к клавишам. Тем не менее я любил музыку и не переставал бредить ею. Во всех других отношениях я был полнейшим идиотом, как вы сами увидите.
Мы иногда ездили в деревню, то чтобы навестить друзей органиста, то чтобы чинить у обывателей старые спинеты и клавесины; роялей в ту пору, то есть в начале девятнадцатого века, в провинции еще было очень мало. Господин Жан не брезговал маленькими доходами от настройки. Однажды он мне сказал:
– Мальчик, ты завтра встанешь чуть свет, дашь Биби овса, оседлаешь ее, привяжешь мой чемоданчик и пойдешь со мной. Надень свои новые башмаки и зеленый костюм. Мы проведем два дня у моего брата-священника в Шантурге.
Биби была маленькая, худая, но сильная лошадка, на которой господин Жан ездил верхом, сажая и меня сзади. Я знал брата господина Жана, священника, веселого и жизнерадостного человека, который иногда приезжал к нему в гости. Но о Шантурге я имел такое же смутное понятие, как о какой-нибудь пустыне Нового Света.
Господин Жан требовал, чтобы его приказания исполнялись в точности.
В три часа утра я уже встал, в четыре мы выехали в горы. В полдень мы сделали привал и позавтракали в черном и холодном трактирчике, стоявшем на границе вереска и лавы. В три часа мы снова пустились в путь через эту безлюдную местность.
Дорога была настолько скучна, что я несколько раз засыпал. Я приучился спать за спиной маэстро так, чтобы он этого не замечал. Биби везла не только взрослого мужчину и ребенка, но также на крупе высокий узкий чемоданчик с инструментами господина Жана и переменой платья. Я обыкновенно прислонялся к этому чемодану, чтобы маэстро не чувствовал тяжести моего оцепеневшего тела и покачивания моей головы. На тень, отбрасываемую нашими фигурами, он мог смотреть сколько угодно; я это, в свою очередь, изучил и раз навсегда выбрал себе такую позу, которая ему ничего не могла выдать. Впрочем, иногда он кое-что подозревал и бил меня по ногам своим хлыстом с серебряным набалдашником, приговаривая:
– Эй, мальчик, в горах нельзя спать!
Кажется, в тот день он сам задремал, пока мы ехали по равнине и были еще далеко от пропастей. Я проснулся и с ужасом взглянул на окружающую местность. Это все еще была равнина, поросшая вереском и карликовыми кустами. Справа высились темные горы с черневшими на их склонах соснами. У моих ног в маленьком круглом озере, представлявшем когда-то кратер вулкана, отражалось серое, мрачное небо. Вода серо-голубого цвета с бледными металлическими отблесками была похожа на расплавленный свинец. Однако плоские берега этого круглого озера скрывали горизонт, из чего можно было заключить, что мы находились на значительной высоте. Я не понимал, в чем дело, и с боязливым изумлением смотрел, как тучи ползли над нашими головами. Мне даже казалось, что небо грозит задавить нас.
Господин Жан не обратил внимания на мое грустное настроение.
– Пусть Биби пощиплет травку, – сказал он. – Я не уверен, что мы едем по настоящей дороге. Погоди, я посмотрю.
Он скрылся в кустах. Биби принялась щипать тонкую траву и дикую гвоздику, которая пестрела среди многочисленных других цветов этого дикого пастбища. Я старался согреться, переступая с ноги на ногу. Воздух был ледяной, несмотря на то что дело происходило летом. Мне казалось, что поиски господина Жана длятся целую вечность. Эта пустыня, вероятно, служила пристанищем для волков, и Биби, несмотря на свою худобу, могла казаться им лакомым блюдом. В ту пору я был еще худее, чем Биби, но тем не менее опасался и за себя. Местность мне не понравилась, и то, что мой учитель считал увеселительной поездкой, я находил экспедицией, полной опасных приключений. Было ли это дурное предчувствие?..
Наконец он вернулся и сказал, что мы не сбились с пути. Мы поехали дальше. Биби трусила рысцой и, по-видимому, нисколько не боялась вступить в горы.
В настоящее время эта дикая местность частью уже возделана и прорезана прекрасными дорогами, но в ту пору, когда я ее видел в первый раз, нелегко было двигаться по отвесным узким тропинкам, проложенным как попало, лишь бы покороче. Дороги были вымощены лишь случайными горными обвалами, а там, где они проходили по уступам, травка скрывала колею крестьянских телег и следы неподкованных лошадей.
Спустившись к изрытым берегам зимнего потока, который пересыхал летом, мы стали опять подниматься в гору. Обогнув массивную скалу, обращенную к северу, мы вышли на чистый и ясный воздух. Заходящее солнце ярко озаряло пейзаж изумительной красоты. Дорога, обсаженная густым розовым шиповником, шла по краю обрыва, над которым высились две огромные базальтовые скалы. Вершины их, изрытые действием вулканических сил, похожи были на развалины какой-нибудь крепости.
Я уже раньше видел базальтовые отложения во время своих прогулок в окрестностях Клермона, но таких больших и правильных мне еще не приходилось встречать. На одной скале эти отложения были расположены спиралью и казались грандиозной и в то же время изящной работой гигантов.
С того места, где мы находились, можно было думать, что обе эти скалы стоят рядом. В действительности же они были разделены рвом, на дне которого протекала река. За ними тянулись горы, покрытые изумрудными лугами вперемежку с лесами и со скалистыми выступами. На склонах издали виднелись фермы и стада коров. Еще дальше, за глубокими долинами, утопающими в солнечном сиянии, поднимались голубоватые зубцы высоких остроконечных Домских гор. Та горная цепь, к которой мы подошли, имела другие очертания, более неприступные, но в то же время и более мягкие. Буковые леса, прорезанные журчащими ручейками, овраги, поросшие ползучими растениями, прохладные гроты с бархатистым мхом, узкие ущелья – все это было гораздо поэтичнее и таинственнее, чем холодные, обнаженные вулканы позднейшей эпохи.
Мне впоследствии пришлось еще посетить этот перевал на границе пустыни, и я понял, почему внезапно открывающаяся взору картина произвела на меня в первый раз такое сильное впечатление. Мне никто до тех пор не объяснял, что значит красота природы. Я это почувствовал бессознательно, когда слез, чтобы лошади было легче идти на гору. Остановившись неподвижно, я совершенно забыл, что мне нужно следовать за всадником.
– Ну, что ты стоишь, болван? – крикнул мне господин Жан.
Я догнал его и спросил, что это за чудное место, где мы находимся.
– Сам ты чудной, – ответил он. – Это одно из самых необыкновенных и страшных мест, какие тебе когда-нибудь придется видеть. Насколько мне известно, оно не имеет названия. А эти две вершины – скала Санадуар и скала Тюильер. Ну, садись и будь осторожен.
Мы объехали вокруг одной скалы, и перед нами открылась разделяющая их головокружительная пропасть. Это меня ничуть не испугало. Я привык лазить по горам и не боялся пространства. Господин Жан не был горцем и поселился в Оверни уже в зрелом возрасте, поэтому он оказался менее подготовленным, чем я.
В тот день я в первый раз понял величие окружавшей меня природы, среди которой я вырос, не примечая ее. После некоторого молчания я спросил своего учителя, указывая на скалу Санадуар:
– Кто все это сделал?
– Бог, – ответил он. – Разве ты не знаешь?
– Знаю. Но почему же он сделал такие изломанные места, как будто хотел их разрушить после того, как они были окончены?
Вопрос этот смутил господин Жана, который не имел понятия о геологии и, как большинство его современников, сомневался в вулканическом происхождении Оверни. Тем не менее ему стыдно было сознаться в своем невежестве, так как он желал слыть за человека образованного. Он постарался свернуть все на мифологию и с жаром ответил:
– Ты здесь видишь сооружения, по которым титаны пытались взобраться на небо.
– Титаны? Кто они такие? – спросил я, увидев, что он стал разговорчивее.
– Это были страшные великаны. Они хотели низвергнуть Юпитера и нагромождали горы на горы, скалы на скалы, чтобы добраться до него. Но он рассеял их, а от великой битвы остались разрушенные горы и глубокие пропасти.
– Разве они все умерли?
– Кто? Титаны?
– Да. Остался кто-нибудь из них в живых?
Господина Жана рассмешил мой наивный вопрос, и, чтобы позабавиться, он ответил:
– Конечно, кое-кто остался.
– А они очень злые?
– Очень.
– Мы их увидим в горах?
– Может быть.
– Нас они не обидят?
– Не знаю. Но если ты встретишь титана, то поспеши снять шапку и низко ему поклониться.
– За этим дело не станет, – весело ответил я.
Маэстро думал, что я понял его шутку, и замолчал. Я же чувствовал себя не в своей тарелке; и так как дело клонилось к вечеру, все оглядывал скалу и в особенности одно большое дерево подозрительного вида, пока наконец, приблизившись, я не убедился, что под ним нет человеческой фигуры.
Если вы меня спросите, где расположен Шантургский приход, то я не смогу вам ответить. Больше я там никогда не был и тщетно искал его на картах и планах. Мне хотелось доехать поскорее, страх разбирал меня все сильнее и сильнее, и потому мне казалось, что это очень далеко от скалы Санадуар.
В действительности же Шантург находился совсем близко, так как мы добрались туда еще до наступления ночи. Мы сделали большой крюк, потому что ехали вдоль извилистого потока. По всей вероятности, мы обогнули те горы, которые я видел со скалы Санадуар, и опять были обращены лицом на юг, так как на несколько сот метров ниже нас рос чахлый виноград.
Я отлично помню церковь, церковный дом и еще три домика, из которых состояла вся деревня. Она находилась на вершине пологого холма, который защищен был от ветра более высокими горами.
Проезжая дорога была очень широка и постепенно спускалась со склона холма. Приход состоял из отдельных домиков, расположенных на больших расстояниях; в нем насчитывалось около трехсот человек, которые по воскресеньям приезжали с семьями в длинных узких телегах на волах.
Кроме воскресенья, местность всегда казалась пустынной. Те дома, которые можно было бы разглядеть, тонули в густой зелени на берегу обрыва, а пастушеские хижины на высоте скрыты были выступами скал.
Несмотря на свою уединенную скромную жизнь, шантургский священник был упитанным и цветущим, как соборный дьякон. Характера он был веселого и приветливого. Прихожане любили его за то, что он был добрым и снисходительным и говорил им проповеди на местном наречии.
Он обожал своего брата Жана и, по своей доброте, принял меня, словно родного племянника. Ужин прошел очень приятно, следующий день тоже. Местность, открывавшаяся с одной стороны на долины, не представляла ничего печального. С другой стороны ее окружали буковые и сосновые леса, но они были полны цветов и диких плодов, прорезаны прохладными лужайками и ничем не напоминали мрачной скалы Санадуар. Призраки титанов, испортившие мне первое впечатление от этого красивого уголка, совсем изгладились из моей памяти.
Мне предоставили полную свободу. Я познакомился с дровосеками и пастухами, которые научили меня своим песням. Священник старался угостить брата на славу, но господин Жан ел очень мало и почти ничего не пил. К столу подали вдоволь вина, черного, как чернила, терпкого на вкус, но, безусловно, неподдельного. По словам хозяина, оно не могло никому повредить.
На следующий день я вместе с пономарем ловил форелей в маленьком бассейне, который образовался от слияния двух потоков. Мне очень приятно было слушать естественную мелодию, которая получалась от падения воды на выдолбленный камень. Но пономарь не слышал этой мелодии и говорил, что мне все мерещится.
Наконец на третий день мы должны были распроститься. Господин Жан хотел выехать пораньше, потому что дорога предстояла дальняя, и мы сели завтракать с тем, чтобы отбыть эту повинность как можно скорее. Однако хозяин настаивал на том, чтобы угостить нас основательно.
– Зачем вам торопиться? – говорил он. – Вам надо только засветло перевалить через горы. От скалы Санадуар дорога начинает спускаться, и чем дальше, тем становится лучше. Кроме того, теперь полнолуние и на небе ни облачка. Постой, постой, Жан, еще стаканчик этого вина, этого доброго вина, «певучего органа».
– По названию нашей местности Шантург или, вернее, Шанторг значит «певучий орган». Это ясно как день.
– Разве в ваших виноградниках есть органы? – спросил я со своей обычной глупостью.
– Конечно, – ответил священник. – Они тянутся больше, чем на четверть мили.
– С трубами?
– С трубами такими же прямыми, как в твоем соборном органе.
– А кто же на них играет?
– Виноградари своими кирками.
– Кто же сделал эти органы?
– Титаны! – ответил господин Жан прежним насмешливым тоном.
– Хорошо сказано! – заметил священник, всегда восторгавшийся умом брата. – Действительно, можно подумать, что это работа титанов.
Я не знал, что органами называют также базальтовые отложения, когда они имеют правильную форму. Я понял объяснение буквально и радовался тому, что не ходил на виноградник. Все страхи опять ко мне вернулись.
Завтрак длился бесконечно и превратился в обед, почти что в ужин. Господин Жан был в восторге от названия «певучий орган» и не переставал твердить:
– Хорошее винцо! Хорошее название! Это для меня придумано, так как я органист, и отлично придумано. Пой, винцо! Пой в моем стакане! Пой в моей голове! Я чувствую в тебе фуги и мотетты, которые польются под моими пальцами, как ты льешься из бутылки. За твое здоровье, брат! Да здравствуют Шантургские большие органы! Да здравствует мой маленький соборный орган, который, однако, и у меня дает такие могучие звуки, как под рукой титана. Ба! Я тоже титан! Гений возвеличивает человека. Когда я играю «Слава в вышних», то всегда возношусь к небу.
Добрый священник совершенно искренне считал своего брата великим человеком и не упрекал его за приступ болезненного тщеславия. Он от души угощал его, и солнце уже склонялось к западу, когда меня послали седлать Биби. Не ручаюсь за то, что я в состоянии был это сделать. Гостеприимный хозяин часто подливал мне вина в стакан, а я считал долгом вежливости его осушать. К счастью, пономарь помог мне. После долгих и нежных объятий братья со слезами расстались у подножия холма. Я, шатаясь, влез на круп Биби.
– Да ты никак пьян? – воскликнул господин Жан, щекоча мне уши своим ужасным хлыстом.
Однако он меня не ударил. Рука у него была какая-то бессильная и ноги тяжелые, так что он с трудом держался в стременах, из которых одно было почему-то короче другого. Я не помню, как прошло время до наступления ночи. Кажется, я громко храпел, но господин Жан этого не замечал. Биби держалась так рассудительно, что я не беспокоился. Она всегда запоминала дорогу, по которой ей случалось проехать хоть раз.
Я проснулся, почувствовав, что она остановилась, и, по-видимому, сразу протрезвился, так как быстро понял, что случилось. Господин Жан или вовсе не спал, или проснулся не вовремя и направил лошадь не туда, куда следовало. Послушная Биби повиновалась, но теперь она не чувствовала почвы под ногами и невольно откинулась назад, чтобы не полететь в пропасть вместе с нами.
Спешившись, я увидел справа над собой скалу Санадуар, озаренную голубоватым светом луны. Ее сестра, скала Тюильер, возвышалась слева по другую сторону разделявшей их пропасти. Вместо того чтобы ехать по верхней дороге, мы спускались по откосу.
– Вставайте, вставайте! – крикнул я учителю музыки. – Здесь нельзя проехать. Это тропинка для коз.
– Ну, вот еще, трусишка, – ответил он неестественно громким голосом. – Разве Биби не коза?
– Нет, нет! Биби – лошадь. Что вам снится? Она не хочет и не может идти дальше.
Сделав большое усилие, я отстранил Биби от края пропасти, но она немного привстала на дыбы, и учитель вынужден был поспешно соскочить.
Он рассердился, хотя вовсе не ушибся и, забывая о том, где мы находились, стал искать хлыст, чтобы задать мне потасовку. Я не потерял присутствия духа, сам поднял хлыст и, нисколько не жалея серебряного набалдашника, кинул его в пропасть.
К счастью для меня, господин Жан не заметил этого. Мысли у него все время путались.
– А! Биби не хочет идти, – говорил он. – Биби не может идти! Биби не коза! Ну, а я газель.
С этими словами он побежал вприпрыжку по направлению к пропасти.
Несмотря на то что в минуты гнева он внушал мне отвращение, я пришел в ужас и бросился вслед за ним. Однако вскоре я успокоился. Ни о какой газели не могло быть и речи. Как не похож был на это грациозное животное наш маэстро, у которого косичка с черной ленточкой смешно билась по плечам! В своем длиннополом сером сюртуке, нанковых панталонах и мягких сапогах он скорее напоминал ночную птицу.
Я увидел, что он поднялся выше меня. Он свернул с отвесной тропинки; у него хватило сознания не спускаться ниже. Теперь он, размахивая руками, карабкался на скалу Санадуар. Здесь склон, хотя и крутой, не представлял опасности.
Я взял Биби за повод и помог ей повернуться, что оказалось делом нелегким. Потом я пошел с ней по тропинке, чтобы вывести ее на большую дорогу. Я надеялся встретить господина Жана, который поднимался в том же направлении. Однако я его нигде не нашел. Тогда, предоставив Биби самой себе, я спустился по прямой линии к скале Санадуар. Луна ярко светила. Все видно было, как днем. Мне вскоре удалось найти господина Жана, который сидел на выступе, свесив ноги, и тяжело переводил дух.
– Ага, это ты, несчастный! – сказал он. – Что ты сделал с моей лошадью?
– Вот она, ждет вас, – ответил я.
– Как? Ты ее спас? Очень хорошо, мой мальчик. Но как же ты сам уцелел? После того как мы жестоко упали?
– Да мы вовсе не падали.
– Не падали? Дурак, он даже этого не заметил! Что значит вино! О вино, вино! Вино певучего органа, музыкальное вино! Я выпью еще стаканчик! Налей мне. За твое здоровье, брат! За здоровье титанов! За здоровье самого черта!
Я был верующим. Слова учителя привели меня в содрогание.
– Не говорите этого! – воскликнул я. – Опомнитесь! Посмотрите, где вы!
– Где я? – повторил он, глядя расширенными глазами, в которых сверкали искорки безумия. – Где я? Как ты говоришь? На дне потока? Отчего же я не вижу ни одной рыбы?
– Вы стоите у подножия скалы Санадуар, которая обрушивается со всех сторон. Камни так и сыплются. Видите, вся земля ими усеяна. Уйдем отсюда. Это нехорошее место.
– Скала Санадуар! – сказал учитель, делая движение, чтобы снять с головы шляпу, которую он держал под мышкой. – Ты музыкальная скала, и я тебя приветствую. На тебе – лучший из природных органов. Твои извилистые трубы должны давать удивительные звуки, но только рука титана может их извлечь! Но разве я сам не титан? Разумеется, я титан, и пусть другой великан посмеет оспаривать у меня право играть здесь! Пусть только покажется! Да! Хлыст! Мальчик, где мой хлыст?
– Что случилось? – в ужасе воскликнул я. – Зачем вам хлыст? Что вы видите?
– Я вижу, я его вижу, разбойника, чудовище! А ты не видишь?
– Нет! Где же?
– Да там, наверху, на самом последнем выступе скалы Санадуар, как ты ее называешь.
Я ничего не отвечал и ничего не видел, кроме большого желтоватого камня, подернутого засохшим мхом. Но галлюцинация заразительна, и я заразился тем более, что боялся увидеть то, о чем он говорил.
– Да, да, – ответил я после нескольких минут томительного молчания. – Я его вижу, он не двигается, он спит. Уйдем! Подождите! Нет, нет! Давайте замолчим и не будем двигаться. Я вижу, он теперь шевелится.
– Но я хочу, чтобы он меня увидел. А главное, чтоб он меня услышал! – воскликнул учитель, поспешно срываясь с места. – Сколько бы он ни сидел за своим органом, а я утверждаю, что он в музыке ничего не смыслит. Погоди, варвар, я тебе сыграю прелюдию по-своему… Иди сюда, мальчик! Скорее к мехам! Да торопись же!
– К каким мехам? Я их не вижу…
– Ты ничего не видишь! Вот там, говорят тебе!
Он указывал мне на ствол деревца, которое росло на скале, немного пониже базальтовых отложений. Говорят, что эти колонки часто трескаются и легко обваливаются, если потревожить рыхлый слой, на котором они держатся.
Склоны скалы Санадуар покрыты были травкой и растениями, которые было бы неразумно трогать. Однако эта осязательная опасность не смущала меня, зато я очень боялся разбудить и прогневать мнимого титана. Я отказался повиноваться. Учитель рассердился и, схватив меня за шиворот с нечеловеческой силой, посадил около выступа в форме дощечки, который он называл клавиатурой.
– Садись и играй мою прелюдию. Ты ее знаешь, А я буду раздувать мех, если у тебя на это не хватает смелости!
Он вскарабкался по склону утеса до дерева, которое принялся раскачивать сверху вниз, словно ручку меха, и крикнул мне:
– Начинай, да смотри, не ошибайся. Allegro, черт возьми! Allegro risoluto! A ты, орган, пой! Пой, орган!
До тех пор я думал, что под влиянием вина он просто развеселился и шутит со мной, и надеялся как-нибудь его увести. Но когда он с уверенностью стал раздувать воображаемый мех, я тоже потерял голову. Страх сменился у меня каким-то безотчетным любопытством, как иногда бывает во сне; я протянул руки к мнимой клавиатуре и стал двигать пальцами.
Тогда со мной совершилось что-то необыкновенное. Мои руки вдруг стали расти, удлиняться и, наконец, приняли колоссальные размеры. Это быстрое превращение причинило мне ужасную боль, которой я никогда не забуду. Когда у меня сделались руки титана, то воображаемые звуки органа приобрели особенную силу. Господин Жан, по-видимому, тоже их слышал, так как он кричал мне:
– Это не прелюдия. Что же это такое? Я сам не знаю, но, должно быть, какое-нибудь из моих сочинений. Во всяком случае восхитительное!
– Нет, это не ваше сочинение, а мое! – воскликнул я.
Наши голоса покрывали гул фантастического инструмента.
Я продолжал импровизировать на странный мотив, возникший в моем мозгу. Учитель по-прежнему яростно раскачивал мех, а я с увлечением играл. Орган гремел, но титан не шевелился. Я опьянел от гордости и радости. Мне казалось, что я сижу за органом в Клермонском соборе, и огромная толпа, затаив дыхание, слушает меня. Вдруг сухой звук, как от разбитого стекла, сразу остановил меня. Внизу раздавался ужасный и далеко не музыкальный шум. Мне казалось, что скала Санадуар шатается. Клавиатура отодвигалась, и почва разверзалась у меня под ногами. Я упал навзничь и покатился вместе с целым градом камней. Базальтовые отложения обрушивались. Господин Жан, обхватив деревце, которое он выдернул с корнем, исчез в груде обломков. Мы были на краю гибели.
Не спрашивайте, что я делал и думал в течение следующих двух-трех часов. Я был ранен в голову, и кровь заливала мне глаза. Мне казалось, что у меня ноги и бедра перебиты. Однако, по-видимому, серьезных повреждений не было. Я прополз немного на четвереньках, а затем, незаметно для самого себя, встал и пошел. Помню только, что мне хотелось одного: найти господина Жана. Однако я не мог его позвать и даже, если б он мне закричал, я не мог его услышать. В ту минуту я был глух и нем.
Он сам разыскал меня и увез. Я очнулся лишь около маленького озера Сервьер, где мы останавливались за три дня перед этим. Я лежал на песчаном берегу. Господин Жан обмывал мои раны, да и свои тоже, так как и ему порядком досталось. Биби с обычным равнодушием щипала травку неподалеку от нас.
Холод разогнал последние следы рокового влияния шантургского вина.
– Ну что, бедный мальчик, – спросил учитель, прикладывая мне ко лбу платок, намоченный в холодной воде, – как ты себя чувствуешь? Можешь ли ты теперь говорить?
– Мне уже хорошо, – ответил я. – А вы, значит, не умерли?
– Как видишь. Я тоже ушибся, но это ничего. Мы еще дешево отделались.
Собравшись со своими смутными воспоминаниями, я принялся напевать.
– Что ты там поешь? – с удивлением спросил господин Жан. – Странная у тебя болезнь. Только что ты не мог ни слова произнести, а теперь пищишь, как щегленок. Что это за мелодия?
– Не знаю.
– Нет, знаешь, потому что ты ее пел, когда скала обрушилась на нас.
– Как пел? Я в ту минуту играл на органе, на большом органе титана.
– Вот те и раз! Да ты с ума спятил? Неужели ты принял всерьез мою шутку?
– Это вы сами не помните, – отвечал я. – Вы вовсе не шутили и изо всех сил работали мехом.
Господин Жан действительно был настолько отуманен винными парами, что не отдавал себе отчета в подробностях нашего приключения. Крушение большого выступа скалы Санадуар, опасность и раны протрезвили его. Он помнил только, что я пел незнакомый ему мотив, который пять раз был повторен знаменитым санадуарским эхом. Господин Жан утверждал, что звуки моего голоса вызвали обвал, а я доказывал, что он сам его причинил, так как упорно раскачивал деревце, которое принимал за рукоятку меха. Хотя он уверял, что все это мне приснилось, но не мог объяснить, каким образом, вместо того чтоб ехать верхом по дороге, мы очутились на половине обрыва и баловались под скалой Санадуар.
Когда мы перевязали свои раны и напились холодной воды, то опять пустились в путь. Однако мы так утомились и ослабели, что вынуждены были остановиться в маленькой харчевне на границе пустыря.
На следующий день мы чувствовали себя до того разбитыми, что не могли подняться с постели. К вечеру в испуге примчался шантургский священник, так как на месте обвала у скалы Санадуар найдена была шляпа учителя и следы крови. Но, к моей великой радости, хлыст был унесен потоком.
Добрый священник окружил нас заботами и даже хотел увезти к себе, но органист не мог пропустить воскресной службы, и через день мы возвратились в Клермон.
У господина Жана еще сильно кружилась голова, когда он сел за свой совершенно безобидный орган. Память два-три раза изменяла ему, и он вынужден был импровизировать, что, по его собственному признанию, плохо удалось, хотя он утверждал, что на свежую голову сочиняет образцовые произведения.
Во время возношения Даров его опять одолела такая слабость, что он велел мне сесть на его место. До тех пор я играл только при нем и не знал, может ли из меня когда-нибудь выйти настоящий музыкант. Господин Жан за каждым уроком называл меня ослом. В первую минуту я волновался не меньше, чем перед органом титана, но потом я справился и стал играть мотив, который поразил учителя в момент катастрофы и с тех пор не выходил у меня из головы.
Я имел успех, который решил всю мою будущность. После службы сам викарий, большой знаток и любитель церковной музыки, потребовал к себе господина Жана.
– У вас есть талант, – сказал он, – но вам не хватает рассудительности. Я уже раньше указывал, что вы берете для импровизации интересные мотивы, но не соответствующие минуте: нежные, игривые, когда они должны быть суровыми и мрачными, угрожающие и злобные, когда они должны быть смиренными и покаянными. Сегодня во время возношения вы сыграли нам настоящую боевую песнь. Это было очень красиво, не отрицаю, но совсем не к месту.
Я стоял за спиной господина Жана, когда викарий разговаривал с ним, и сердце у меня билось, как птица. Органист извинился, сказал, что ему нездоровилось и что его заменил мальчик из хора.
– Это ты, дружок? – спросил викарий при виде моего взволнованного лица.
– Он самый, – ответил учитель. – Настоящий осел!
– Ваш осел очень хорошо играл, – со смехом сказал викарий. – Но скажи мне, мальчик, откуда ты взял этот мотив? Он меня поразил, но я не знаю, откуда он.
– Из моей головы, – ответил я с уверенностью.
– Он у меня явился в горах.
– И еще другие мотивы у тебя не являлись?
– Нет, это случилось в первый раз в моей жизни. – Однако…
– Не обращайте внимания, – перебил органист. – Он сам не знает, что говорит. Просто припомнил чье-нибудь сочинение.
– Возможно, но чье?
– Вероятно, мое. Сколько мыслей бросаешь на ветер, когда сочиняешь! А первый встречный соберет крохи.
– Ну, знаете, этих крох вам не следовало бы бросать, – не без лукавства заметил викарий. – Им цена немалая.
Обращаясь ко мне, он добавил:
– Приди ко мне завтра после ранней обедни. Я тебя проэкзаменую.
Я пришел, как мне было велено. Викарий имел время навести необходимые справки. Моего мотива он нигде не нашел. У него был хороший рояль, и он заставил меня импровизировать. Сначала я конфузился и ничего не мог сыграть. Но потом мысли мои прояснились, и викарий остался мной так доволен, что послал за господином Жаном и попросил, чтобы тот обратил на меня особое внимание. Он тонко намекнул, что будет платить за мои уроки. Господин Жан освободил меня от работ на кухне и в конюшне, стал лучше обращаться со мной и в несколько лет научил меня всему, что сам знал. Мой покровитель убедился, что я могу пойти дальше и что «осел» прилежнее и способнее своего наставника. Он послал меня в Париж, и вскоре, несмотря на свой юный возраст, я уже в состояний был давать уроки и выступать в концертах.
Однако я не собирался рассказывать вам историю всей моей жизни; это было бы слишком долго. Вы теперь знаете то, чем интересовались, а именно: как сильный испуг после опьянения пробудил во мне дарование, которое чуть не было задавлено грубым и небрежным учителем. Тем не менее я свято чту его память. Если бы не его нелепое тщеславие, которое подвергло риску мою жизнь и мои душевные способности, все то, что таилось во мне, не выплыло бы наружу. Безумное приключение в горах пошло мне на пользу, но оно оставило во мне какую-то болезненную нервность. Иногда, импровизируя, я как будто слышу обвал над своей головой и чувствую, как у меня руки страшно вырастают. Это длится только минуту, но все-таки мне не удалось окончательно излечиться, и, как видите, не помогло даже время».
* * *
– Чем же вы объясняете мнимое расширение рук и те страдания, которые вы чувствовали незадолго до обвала? – спросил доктор, когда маэстро окончил свой рассказ.
– Я думаю, что на воображаемой клавиатуре росла крапива или терновник, – ответил маэстро. – Видите, друзья мои, эта история полна символов. Будущность открылась передо мной во всей полноте, иллюзии, треск… и тернии.
Сноски
1
Сказка о королеве Квакуше помещена дальше.
(обратно)2
По-французски dix-huit – восемнадцать звучит очень похоже с птичьим чириканьем.
(обратно)





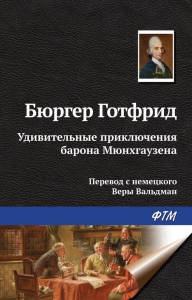







Комментарии к книге «Бабушкины сказки: собрание сочинений», Жорж Санд
Всего 0 комментариев