Финн-Оле Хайнрих, Раун Флигенринг Удивительные приключения запредельно невероятной, исключительно неповторимой, потрясающей, ни на кого не похожей Маулины Шмитт Часть 1. Мое разрушенное королевство
Любое использование текста и иллюстраций разрешено только с согласия издательства.
© Carl Hanser Verlag München 2013
© Комарова В.В., перевод на русский язык, 2017
© Издание на русском языке, ООО «Издательский дом «Самокат», 2016
Глава 1 Когда-то, давным-давно
Когда-то, давным-давно, у нас ещё было всё.
Квартира на пятом этаже, а выше только тёмный таинственный чердак, где пылинки танцуют в лучах света весь день, а может, и всю ночь, уже в темноте, где сражаются друг с другом голуби и мыши, привидения и чудовища, выясняя, кто здесь главный, кто хозяин чердачных сокровищ. Если сон долго не приходил, я лежала и слушала их шажки, шуршанье и воркованье, топот и ропот, фрррр! и трррр! бум! и крак! А потом наступала тишина. Тишина танцующих пылинок.
У нас было четыре комнаты, моя – самая большая, ведь я самая маленькая и места мне, чтоб расти, надо побольше, ясное дело.
У нас был прожорливый пол, между старых досок – голодные щели, в них исчезали булавки, крошки, ногти, изюминки и тыщи маленьких камешков. Пол всё это переваривал и снова выплёвывал комками и нитками пыли.
У нас были растения в горшках, 84 штуки, и балкон с клубникой, и картины на стенах, а ещё те, что прятались под каждым столом – тайные, секретные шедевры юной художницы (ЭТО Я!), которая однажды проснётся знаменитой.
У нас были самые длинные в мире завтраки по выходным, и уютная мятая одежда, и раскрытые книги, и смятые газеты на батареях и подоконниках, в шкафах и ящиках комодов, на полу, и, конечно, на всех столах, и в туалете тоже.
Потому что мама читала всё время, не только сидя и стоя, как нормальные люди, но и на ходу, а иногда – даже на велосипеде. А на работе – так почти без перерыва. Хорошо, что работала она не на стройке или на ферме, а в чудесной книжной лавочке…
У нас был деревянный потолок и отметки на дверном косяке, чтобы было видно, как я расту.
У нас были наскальные рисунки на обоях, их нарисовала одна маленькая девочка (Я!), которая с рождения знала, что станет художником, но не сразу поняла, что от родителей свои творения лучше прятать подальше.
У нас были засаленные выключатели, и мелкие мушки во фруктах, и настольный футбол, и скучные толстые соседи, которым дозволялось иногда почесать мне пяточки пальцами-колбасками, но потом – будьте добры, катитесь к себе, да поживее.
У нас у всех троих были кудряшки, у меня так даже рыжие, но потом мама всю эту красоту состригла, сначала мне – потому что каждый раз, когда меня расчёсывали, я визжала, как кошка, которой прищемили хвост, потом себе – чтобы мне не скучно было одной без кудряшек, а потом и Тому Человеку – чтоб не оставался один с кудряшками.
У нас были тысячи имен для меня, и самым-самым оказалось «Маулина» – потому что рифмуется с «Паулина» (так меня зовут) и потому что я, когда была совсем маленькой, не плакала, а мяукала, только по-своему: мау! мау! А когда подросла, мяуканье превратилось в мяв – не простой, а в Мяв с большой буквы, поднятый до уровня искусства, до всеохватного мировоззрения, но об этом – потом.
У нас была скульптура из жёваных жвачек на холодильнике, рядом с кофеваркой, и коврик из щетины дикого кабана перед входной дверью, и тайник для козявок за кроватью, и танцующие отблески мерцающих свечей на окнах – старые рамы закрывались неплотно, и через щели частенько убаюкивающе посвистывал ветер.
У нас были лампочки, светившие жёлтым светом, а по утрам – невероятные, сногсшибательные выступления знаменитой гимнастки (ЭТО Я!) на большом сине-белом диване у кухонного стола. На этом диване у нас жила зебра, старая чёрно-белая зебра, старше всех нас вместе взятых, она лежала на сине-белом подлокотнике, спокойно и внимательно глядя оттуда на наш тяжёлый липкий деревянный стол. Зебра ничего особо не делала и не говорила, но она была непременной частью нашей пёстрой жизни и занимала в ней раз и навсегда определённое место – в самой середине.
У нас были ссоры с криками и хлопаньем дверьми, с запредельно громкими детскими концертами, со слезами и яростью – уже тогда.
У нас были резиновые сапоги, и грязь, и две черепахи – Ленни и Рой. Ладно, черепахи есть и сейчас – они ведь звери очень выносливые и тормозные, их абсолютно ничем не выведешь из себя, поэтому они могут стать старыми, как вода, ну или почти.
У нас был двор, а в нём – садовник (ЭТО Я!), и начальник (Я!), и директор цирка (Я!), и иногда ко мне туда приходили гости: соседи из нашего дома, и родители, и, конечно, мои друзья, которые жили вместе со мной на этой улице, в этом королевстве, в Мауляндии, – Юлиус, Барт, Луиза, Мона и Пит.
У нас была клумба, и ореховое дерево, и груша, и непролазная живая изгородь из маулиновых и смауродиновых кустов, и пещера – маущера, точнее сказать.
Сначала она была просто ямкой, потом превратилась в яму, потом к ней добавился подземный ход. И суперподземный маукопатель (Я!) его подпер и укрепил, и днями напролет надрывался, углубляясь всё дальше и дальше, пока в конце подземного хода не получилась норка, где кое-кто (Я!) мог уютно свернуться калачиком, словно котёнок. А над землёй, в саду, у нас был старый пластмассовый складной стол и старые пластмассовые складные стулья, у нас были головастики и личинки комаров в бочке с дождевой водой и бездомный кот, который иногда захаживал к нам, каждый раз с новым шрамом.
И всё это, всё-всё-всё, было моим – от крыши до выстеленного соломой пола маущеры. Она в особенности была моей, ведь это я её придумала и сама вырыла, сначала руками, потом по очереди ложкой и старой консервной банкой, потом малюсенькой лопаткой. Всё это было моё! (Не считая зебры, она принадлежит Тому Человеку. Он получил её от своего отца, когда был совсем крошечным, размером с кабачок. Но кроме зебры – ВСЁ МОЁ!)
Всё это было у нас в этой квартире, в этом доме, на этой улице, в этом королевстве, моём королевстве под названием Мауляндия, где я – принцесса и одновременно президент-маузидент.
Когда-то, давным-давно, у нас были каникулы в Дании и Польше, по пятницам – блины с вонючим сыром и маулиновым вареньем и много-много смеха, так что даже живот болел. Когда-то, давным-давно, у нас был полный морозильник фруктов, два ласточкиных гнезда над кухонным окном и споры о том, не завести ли нам куриную семейку. Всё это было, было, было – когда-то, тыщу лет назад.
Глава 2 Что было, то прошло
Дед говорит: жизнь – она как блинчик.
Раньше на стирку уходил целый день, а теперь всю работу за тебя делает рычащий механизм, и когда он принимается за отжим на 1600 оборотах, дед всякий раз вздрагивает и хрюкает.
На смену туалету-домику во дворе пришел фарфоровый трон, по которому журчит чистая вода, разом уносящая все твои делишки (куда, кстати?).
Вместо колки дров и тасканья угля теперь батареи, вместо боли – таблетки, вместо сморщенных от воды пальцев – посудомоечная машина, вместо скуки – телевизор, вместо голода – выпирающее брюшко, вместо выпавших зубов – протез, бабушка стала цветком, а сам дед – весёлым старым пнём. Но и про это – потом.
Квартира с четырьмя комнатами, мрачным чердаком, садом и бесценными наскальными рисунками на обоях на улице, полной друзей, превратилась в крошечный домик на другом конце города, пластиковый от и до. Если всё, что у нас было, сравнить с блинчиком – от него только и осталось, что масляный след на пустой тарелке и тень вкуса на языке. А теперь – что у нас есть?
Малюсенький домик, квадратный и затхлый, втиснутый между другими точно такими же на Улице Затхлых Домиков.
Они стоят рядами, желтоватые, будто старушечьи чулки, совершенно одинаковые, словно за всеми этими пластиковыми дверьми живёт один и тот же человек. Если б не номера – их ни за что бы не отличить друг от дружки. Везде занавесочки, строгие заборчики и живые изгороди, как по линеечке.
Пузатые грузчики в синих штанах таскают коричневые картонные коробки в нашу новую квартиру. Эти дядьки – как надзиратели, а я – заключённая, попавшая из свободного царства Мауляндии в застенок, темницу для пенсионеров, старых перечниц и сонных мух, мера наказания – максимальная. Синие дядьки делают свою работу, я смотрю на них – и мне хочется орать! Орать и бушевать!
Коробки набиты книгами и газетными вырезками, жёлтыми лампочками и фотографиями из поездок в Данию и Польшу. Дядьки потеют, перетаскивая восемьдесят четыре цветочных горшка в двухкомнатную квартиру на первом этаже, я тихонько считаю: семьдесят два, семьдесят три, семьдесят четыре… скоро горшки закончатся. Потом дядьки пьют пиво и курят, шутят с мамой, она стоит рядом как ни в чём не бывало и, кажется, считает, что это нормально – уехать из царства Принцессы Мауляндской и переселиться в убогую дыру на другом конце города. Как будто так и надо! Когда два синих дядьки, пыхтя, вытаскивают из фургона стол, я кричу им, чтоб не смели его переворачивать (там ведь секретные шедевры!). Дядьки кивают, но сами ни бум-бум, по глазам вижу.
Мой дед – Сырный Генерал, я потом расскажу, почему его так зовут, история эта непростая, как и сам дедушка. На нём всегда надето что-то вроде формы – это полнейший цирк и умора. Хорошо, что я к ней давно уже привыкла и просто не замечаю, иначе всякий раз помирала бы со смеха, глядя на деда. Вот представьте: если кинуть в большой чан солдата, директора цирка, охотника, вонючий харцский сыр и старикана, обросшего бородой, всё хорошенько перемешать, вылить в форму и оставить сохнуть – в результате как раз и получится дедов костюм. Ну, примерно.
Я не знаю никого, кто был бы устроен, как Сырный Генерал – и снаружи, и изнутри.
При мыслях о Генерале настроение чаще всего сильно улучшается. Ну а сейчас мне очень даже несладко, и хочется это исправить, так что самое время подумать о нём. Дед и я – вроде двух магнитов, мы или отталкиваемся, или притягиваемся, смотря по тому, какими полюсами повернуты друг к дружке в этот день. Мы с ним совсем разные, но на очень похожий манер.
Дед говорит:
– Ты такая же, как я, или лучше сказать – я был таким же, как ты, пока не стал старым пнём и до меня наконец не дошло, что не стоит переживать из-за всего на свете, ведь можно просто надо всем посмеяться. Тогда и жить гораздо веселее.
– Не-е-е-е, – говорю я, – что за ерунда – надо всем смеяться! От этого ничего не изменится.
– А что, – говорит он, – если на дождь орать и вопить, солнышко скорее выглянет?
– Нет, – отвечаю я, – на погоду ругаться – толку ноль. Чаще всего.
– Вот видишь, – говорит дед. – А когда прямо из-под носа уходит автобус, и ты рвёшь и мечешь, он ведь от этого обратно не вернётся! Лучше посмеяться и порадоваться, что у тебя есть ещё целых десять минут ничегонеделанья под солнышком.
– Или под дождём, – говорю я.
– Или под дождём, – смеётся Сырный Генерал и так шлёпает меня по спине, что я аж кашляю.
Смеяться под дождём – в любом случае лучше, чем злиться на него.
Единственный плюс нашей новой квартиры – то, что она гораздо ближе к дедовой.
Глава 3 Анекдот для черепах
Улица закатана в асфальт, куда ни глянь – одни машины да живые изгороди, прямые и высокие, как зелёные стены. Только иногда по тротуару просеменит какая-нибудь старая перечница с бело-фиолетовыми волосами. Детей тут, кажется, вообще ни одного нет.
Наш сад – просто анекдот, только не смешной, а как раз наоборот, от него рычать хочется. Если лечь посередине и раскинуть руки-ноги – разом достанешь до всех четырёх углов.
Я кладу Ленни и Роя себе на живот, гляжу в небо и думаю: всё это – просто анекдот для черепах, а они ведь и смеяться-то не умеют. Посмеяться можно разве что над самими черепахами, когда они запутываются в салате или опрокидываются на спину и лежат так, дёргая лапами – оооочеееень меееедлеееенноооо, как в замедленной съёмке.
Человек, который укладывал меня спать, делал отличные блинчики, ругался, что книги навалены по всем углам, и вечно задевал за ножку кровати; человек, чьё имя я больше не произношу, называвший меня Малышкой, Котёнком и Маули, который по выходным сидел перед телевизором, а я ерошила ему волосы, и затылок у него пах молоком, – Тот Человек так и живёт в квартире с бело-синим диваном и засаленными выключателями, как будто такая огромная квартира предназначена для одного-единственного жильца, как будто она его, как будто это он – король Мауляндии, а не я собственной персоной (то есть её принцесса).
В том-то и есть самая-пресамая подлость – что всё досталось ему, а мы очутились непонятно где, в каком-то Пластикбурге, на какой-то дурацкой улице, где все соседи до того старые, что даже пошевелить пальцами-колбасками не могут, не говоря уж о том, чтобы быстренько катиться восвояси. Это против всякой логики, ведь нас двое, а он один. Как ни крути, а справедливость просто вопиет: он должен собирать свои вещички и отправляться куда подальше – он, а не мы с мамой. Этого я не понимаю во-о-обще!
Может, устроить Великий Мяв? Но тогда мама улыбнётся своей мамской улыбкой, и сделает какао, и скажет, чтобы я успокоилась, и погладит меня по голове, и будет говорить, что к новой квартире я привыкну и всё в порядке, – но ведь ничего! не! в порядке! Хоть вёдрами какао вари, а всё равно – это несправедливо и подло, подло, подло!
Я лежу в «саду», гляжу в небо и чувствую приближение взрыва: широко раскрывается пасть, под коленками тянет, в пятках щекотится, в затылке стучит, в животе что-то бродит, – сомнений нет, внутри собирается ярость и на подходе Истошный Мяв.
Слышу смех грузчиков, чувствую черепашьи лапы на груди, вижу изнутри свои закрытые веки, кроваво-красные на солнце. Дыши глубже, говорю я себе, держи всё под контролем. Ты ведь просто девочка, и солнце светит. Я твержу себе: «Какао, какао, какао». Ведь если Мяв вырвется сейчас на свободу, может что угодно случиться: может, новая квартира обрушится, синих дядек вышвырнет на улицу, с кустов облетят листья, деревья от крика согнутся до земли, у машин включится сигнализация и треснут стёкла, и маме потом придётся идти к соседям и объяснять, что её маленькая Паулина – на самом деле Маулина, принцесса Мау, у неё бывают приступы Мява, Ужасного Мява, Дикого Мява, Истошного и Неистового, да, такое бывает, но страшного в этом ничего нет и вызывать полицию совершенно ни к чему.
В НАШЕЙ квартире, на НАШЕЙ улице это знал каждый, а здесь приходится всё начинать сначала.
Глава 4 Сердце кита
Герр фон Мюкенбург ободряюще кладёт мне руку на плечо, и я говорю:
– Паулина.
– Паулина Клара Лилит, – говорю я. И чуточку тише рычу вдогонку:
– Паулина Клара Лилит Шмитт.
Два балбеса в первом ряду ухмыляются, как будто это смешно – иметь такое имя. А это совсем не смешно.
– А где тут имя, где фамилия? – спрашивает весельчак из первого ряда.
Герр фон Мюкенбург отвечает:
– Шмитт – это, несомненно, фамилия.
Да, Шмитт, думаю я. Не Шмитт-Лилит или Лилит-Шмитт. Лилит – это имя, такое же, как Клара или Паулина. Имён у меня целых три, спасибо большое. И вишенкой ко всему этому великолепию – Шмитт. Просто Шмитт. В фамилии ничего изменить невозможно. Даже родителям это не под силу. Она уж какая есть. Но суть вот в чём: если к самой обычной, рядовой фамилии добавить три необычных имени, она всё равно красивей не станет. И пусть мама и Тот Человек, чьё имя я больше не произношу, дали бы мне хоть пять имен, вроде Гретель или Филиппина, Роза, Скарлетт, Рюбецаль – фамилия-то останется Шмитт. Просто Шмитт. Такая до тошноты обычная фамилия; в этом городе Шмиттов, наверное, четыре тысячи восемьсот шестьдесят семь человек. Ну, примерно. Родителям явно хотелось создать совершенно особенный экземпляр рода Шмитт, раз они наградили меня аж тремя именами вместо одного.
Когда я над этим задумываюсь, то снова чувствую щекотку в пятках и под коленками, в них шевелится лёгкая ярость: я, значит, насовсем прикована к этим именам, придётся вечно таскать их за собой, а у меня уже сейчас спина болит!
Вот и получается, что на перемене все давно уже убежали во двор, а я торчу в классе и вывожу свои метровой длины имена на листочке с контрольной, – все три имени плюс Шмитт. «Дорогая Паулина Клара Лилит» – кто напишет такое в письме? Как всё это поместится в строчку «кому» на конверте? Может, мне весь почтовый ящик своими именами обклеить? А у входной двери вместо таблички постер повесить?
Кто будет вырезать столько букв на дереве, если влюбится в меня? Кто будет рисовать вокруг них сердце? И что это будет за сердце? Сердце слона или синего кита? И вечно этот вопрос: а тебя вообще-то как зовут?
– Так как тебя зовут-то? – тут же квакает один из придурков на первой парте.
Чтобы не взорваться, я закрываю глаза, делаю глубокий вдох, потом выдох и усердно представляю себе какао.
Только не здесь! В школе – больше никакого Мява! Я поклялась себе в этом, после того как однажды со школьного спортивного праздника меня забрала скорая, потому что накативший приступ грозил оглушительным взрывом. Потом ещё несколько недель все только об этом и говорили, а завидев меня, надували щёки и издавали звуки, как будто что-то лопнуло.
– Паулинакларалилитшмитт, – рычу я. – Я же сказала.
– Да, но как нам к тебе обращаться? – спрашивает герр фон Мюкенбург, дружелюбно улыбаясь и поглядывая на меня поверх очков.
– Паулина, – бурчу я.
Так меня всегда называет мама. Ну, или почти всегда. Иногда она говорит «Паули» или «Маули-котаули», но это специмена для спецситуаций. А Клара и Лилит – для воскресных дней. Просто украшения, ненужные погремушки, пользы от них никакой, один вред. Мне что, заняться больше нечем, кроме как вечно тратить время на писанину, втискивая их на листочек?
– Ну что ж, Паулина, садись, пожалуйста. Вот сюда, рядом с Яннисом, – герр фон Мюкенбург показывает на свободное место у окна. Я нервно переминаюсь с ноги на ногу, потом бреду к окну, бросаю рюкзак на пол и сажусь на стул. А Яннис подмигивает правым глазом и прищелкивает левым уголком рта. Ну вылитый монстр в пещере ужасов на ярмарке. Эх, укусить бы его за руку! Но я просто достаю из рюкзака самую большую книгу, ставлю её перед собой и кладу голову на стол – прячусь за ней. Спокойно, Паулина, спокойно, Маулина.
На перемене я стою на школьном дворе. По-моему, он ещё противнее, чем в моей старой школе. Оглядываюсь – вокруг сплошные жабы и гномы, мне на них плевать с высокой колокольни. Ещё и пялятся, будто на мне усы выросли или цветочки на голове. Наверно, сюда уже тыщу лет никто новенький не приходил, отсюда все только сматываются, это я очень понимаю.
Чего я не понимаю, так это почему всё всегда решают родители. Я целую вечность и ещё три дня ругалась с мамой, чтобы она мне разрешила ездить на велике в старую школу.
Ну да, пришлось бы выезжать в полшестого утра, чтобы не опоздать к первому уроку, и, конечно, обратный путь был бы ничуть не короче, но эй, это же моё решение!
По крайней мере, не сидела бы тут, среди всех этих жаб, гномов и пиявок. Поездка на велике бодрит, к тому же мне нравится смотреть, как красиво и равномерно ходят вверх-вниз коленки, когда крутишь педали.
Маме, между прочим, теперь тоже дольше добираться до работы, она выходит из дома на полчаса раньше, чтобы успеть к открытию книжного, и возвращается на полчаса позже.
Но толку ноль, мама считает, что это бред, не надо кочевряжиться, надо посмотреть на сложившуюся ситуацию здраво, принять её как есть и завести себе друзей – вот что теперь нужно.
Насчет заведения новых друзей, чтоб было ясно раз и навсегда: этого не будет! Никогда и ни за что! Ни с кем я дружить не желаю. Уж лучше после школы делать башню из Ленни и Роя, а потом из Роя и Ленни, и наблюдать, как они втягивают и вытягивают головы, чем с кем-нибудь тут брататься и разводить всякие дружбы. Взять хотя бы монстра-Рубена – он отвратительный, жуёт жвачку с открытым ртом, мажет чёлку гелем и ходит индюком: конечно, он же бегает быстрее всех в классе, есть чем гордиться! Всезнайка-зазнайка, говорит по-испански, играет на ударных. Тьфу на него, не интересует он меня нисколечко, жук навозный.
Лучше каждый день по три часа на велике ездить, лишь бы не слышать, как этот идиот языком щёлкает. Но мама просто пошла и перевела меня в эту мерзкую, вонючую школу. «Всё, это не обсуждается», – сказала она и поставила на плиту здоровущую бадью с какао.
Как чувствовала: потребуется примерно ванна какао, чтобы утопить в ней приступ Мява. К счастью, до того, как я стану взрослой и смогу наконец всё решать сама, осталось всего-то каких-то семь с половиной лет.
– Паулина, – чирикает герр фон Мюкенбург, когда мы снова вернулись в класс.
У него круглые очки, галстук-бабочка (думает, небось, что это прикольно) и пёстрый клетчатый пиджак. Росту в нём не меньше метра девяноста, а вид – как у директора детского цирка. И при этом он ведёт у нас целых четыре предмета: математику, немецкий, религию и историю.
– Паулина, – щебечет он, – не хочешь рассказать нам, почему ты перешла в нашу школу?
(Нет, не хочу!)
– Я сама её выбрала, – щебечу в ответ, – ходила по городу и искала себе новую школу, увидела эту и сразу подумала: вот она! Как тут хорошо, подумала я. Здание такое симпатичное, и люди наверняка замечательные. Мой внутренний голос меня спросил: хочешь учиться в этой чудесной школе?
Тут голова у меня сама собой падает вперёд, стукается лбом о гладкий холодный стол, и изо рта неудержимо, чуть ли не басом, вырывается:
Как будто рыгнул старый разбойник.
Герр фон Мюкенбург ошалело смотрит на меня и переспрашивает:
– Что, прости?
Впереди за первым столом сидит высокий неуклюжий мальчишка с прыщиками на шее, он оборачивается и прыскает, будто чем-то подавился. Зубы у него жёлтые, как солнце, он кивает мне и снова отворачивается.
Глава 5 У чёрта на рогах
Наша новая квартира плоская, как почтовая марка, и размером не сильно больше. Да уж. Пол какой-то пластиковый, и вообще всё – окна, дверные и оконные ручки, подоконники – пластик на пластике и пластиком погоняет. На стенах понатыканы какие-то палки-хваталки – около ванны, в туалете, над кроватью. К оконным ручкам приделаны рычаги, длинные и тонкие, как аистиные ноги.
Если вдруг лень встать со стула в кухне и подойти к окну, такой штукой можно его и открыть, и закрыть. Как пультом управления.
Что это вообще за мир? Пора начинать расследование. Агент Шмитт должна разобраться. Кто строит такие квартиры? Кто хочет в них жить? Кому нравится в Пластикбурге?
Всё это можно выяснить без проблем, но зачем? Мне что, делать больше нечего? Это неинтересно. Пластик мне совершенно неинтересен. Мы всё равно тут долго не задержимся, ясное дело.
В моей комнате стоят девять картонных коробок, а я ни одну так и не распаковала. И не собираюсь. Обустраиваться на этом месте, ещё чего! Я отвоюю себе Мауляндию – хоть с Человеком, который теперь живёт там один, хоть без! Я не готова жить среди пластика, не готова писать на конвертах адрес: «У чёрта на рогах».
Не позволю со мной так обращаться! Мы вернемся в Мауляндию, хоть трава не расти! Вперёд, на штурм, и с Диким Мявом!
Глава 6 Сырный генерал
Я сижу на кухне у Генерала на своём любимом стуле. Ножки у него металлические, а сиденье из поролона, обтянутого скрипучей кожей. Когда садишься – прямо утопаешь, секунды на полторы.
Генерал обводит кухню боевым взором и спрашивает:
– Всё готово?
Я киваю.
– У тебя сейчас наверняка всё хорошо, – говорит он, – ты ведь в том возрасте, когда мир прекрасен, забот-хлопот никаких, не жизнь, а малина-маулина! Сплошное веселье, смейся-хохочи до упаду. Главное, – наклоняется он ко мне и широко раскрывает глаза, – главное, не забывай раз в неделю хорошенько заправиться эклерами. Мягкое тесто, нежный крем, да с чашечкой коффэ – это настоящее лекарство, доложу я тебе, от него люди счастливей делаются. Ты вот как думаешь, отчего это я дожил до двухсот пятидесяти семи лет?
Генерал подмигивает. Недавно деду исполнилось семьдесят, и вообще-то ему нельзя ни кофе, ни эклеров, не знаю точно почему, но нам на это исключительно наплевать, нам по барабану, так он каждый раз меня уверяет. Минуты две мы дуэтом барабаним по столу, чем громче – тем лучше, пока ладони не заболят. Потом Генерал выдает ещё маленькое барабанное соло на коленке, кофемашина булькает, а я распаковываю коробочку с эклерами.
– Ну… может, кому и веселье… – говорю я, – а у меня с этим сейчас как-то не особо.
– Да ладно, – говорит Генерал, – налегай лучше на эклеры!
– Твой сын, – начинаю я.
– Твой отец, – поправляет Генерал.
– Твой сын, – повторяю я, – живёт теперь в Мауляндии.
– Так он всегда там жил.
– Да, но теперь он живёт там один.
– Ты больше не живёшь в Мауляндии? Как так? Ты же Принцесса Мауляндская!
– Вот именно. Теперь мы с мамой живём на другом конце города в какой-то затхлой будке, да ещё нужно ходить в другую школу, а там одни только жабы, честное слово. И пиявки.
– Та-а-ак, – Генерал хмурится и смотрит в пол. Теребит правый ус (усы у него такие длинные, что видны даже со спины).
– Но, ммм… – говорит Генерал, – а твои мама и папа…
– Твой сын, – поправляю я.
– Они поссорились?
– Ох, дед, ну да. Они разошлись, мы больше не семья, я тебе уже раза три рассказывала.
– Ну да, ну да… – бормочет Генерал, и, вооружившись золотой вилочкой, отколупывает от эклера маленький кусочек.
Вилочку дед получил в награду от русского царя, когда в 1962 году спас один русский городок от дикого медведя.
– Знаешь, что хорошо? – говорит он. – Хорошо, что Мауляндия всегда тут, рядом, там же, где и ты. Наверное, ты единственная принцесса, которая может носить своё королевство с собой, как улитка домик.
Он отхлёбывает кофе с молоком и удовлетворённо хмыкает, я делаю маленький глоточек молока с кофе и хмыкаю в ответ. То есть надеюсь, что это звучит как хмыканье.
Сырный Генерал очень высокий, но стоящим во весь рост я его почти не видела, разве что на фотографиях. Там он возвышается над всеми на одну или две головы, взгляд такой серьёзный, а под носом – усищи, неправдоподобно длинные, торчат в стороны совершенно самостоятельно – они выросли, когда он был ещё мальчиком.
Вполне возможно, что он может шевелить ими по отдельности. Я думаю даже, что это не просто усы, а вибриссы – как у кошек и мышей.
Подозреваю, что маскировать вибриссы под усы Генералу нужно, чтобы никто не вздумал их исследовать и проводить всякие опыты. Если это и правда вибриссы, тогда понятно, отчего Генерал такой чудной и не похожий на других, – невозможно оставаться обыкновенным человеком, когда постоянно чувствуешь всякие странные штуки, ну, то есть всякие такие вибриссовые штуки.
Генерал любит поговорить – долго и много. Стоит хоть чуть-чуть дать слабину, как дедовы рассказы становятся всё подробней, длинней и запутанней, ведь он ужас сколько всего пережил, по крайней мере, по его словам. Я прихожу в гости к деду раз в неделю, такое у нас Эклерное Соглашение. И хотя потом голова у меня вся гудит и чуть не лопается, визиты к Генералу – как тарелка горячей похлёбки, в которой чего только не намешано.
Все его истории я знаю наизусть. Начинает он обычно с того, как в детстве шпионил за хомяками, а потом грабил их норы. Хомяки ведь суперзапасливы, они тоннами тащат к себе всё, что попадется, – семечки, орехи, горох и всякое такое. А Генерал и его родители были бедные, поэтому он грабил хомяков и менял у крестьян отобранные припасы на куриц. А потом потихоньку перешёл от ограбления грызунов к разведению кур. Они у Генерала великолепно себя чувствовали и замечательно размножались.
Я прямо вижу перед собой эту картину: дождь, ветер, вокруг слякоть и грязь, Генерал шагает по полям, в руке посох, за ним со всех ног несётся стая кур. Генералу примерно столько же лет, как мне сейчас. Он в зелёных холщовых штанах, умопомрачительной шляпе и с усами. Куры, понятное дело, завалили Генерала яйцами. И тогда он вместе со своим братом открыл блинную лавочку, они придумали собственный рецепт и стали печь такие вкусные блинчики с сыром, каких никто в округе сделать не мог.
Вокруг лавочки один расторопный предприниматель построил огромную фабрику, и тысячи рабочих стали есть блины, которые пекли дед с братом.
Их отец, мой прадед, был солдатом. Вот его-то форму братья и надевали на работу. Других приличных вещей у них не водилось, семья была бедная. Так что блинчиками они торговали в военной форме. Она висела на них мешком, хотя оба в свои тринадцать были уже высоченными мальчишками и даже с усами. Их прозвали Блинным Батальоном.
Брат Генерала подавал покупателям блины и брал у них деньги, за что получил прозвище Министр Финансов. А Генерал, склонившись над сковородками, так ловко запекал в блинном тесте сыр, что заслужил почётное звание Генерала-от-сыра.
В перерывах и вечером он, чтобы расслабиться, доставал свой маультроммель и играл любимые мелодии.
Я разделываю эклер на маленькой разноцветной тарелочке ровно на тридцать шесть кусочков (только так можно прочувствовать его настоящий вкус) и медленно, один за другим, отправляю их в рот. Торопиться мне некуда. После каждого кусочка я киваю и делаю глоточек тёплого молока. Улыбаюсь и смотрю на взволнованного Генерала. Он стучит пальцами по шатучему трёхногому столику, шаркает ногами по гладкому кухонному полу и говорит:
– Однажды я просто взял и отправился в путь. Мне хотелось знать больше. Я слыхал про австрийские палачинкены, и мне захотелось непременно выяснить, как их делают и вкуснее ли они наших блинов. А когда услыхал про бретонские гречневые блинчики-галеты – так на четвереньках готов был ползти во Францию, лишь бы разузнать самый лучший блинный рецепт. Я ж Генерал-от-сыра! Спецпосланник по блинам! Я собирался покорить блинный мир! – выкрикивает Генерал, приподнимаясь со стула. Он пучит глаза, размахивает длинным тощим пальцем над моим порубленным эклером, а усы возбуждённо покачиваются, как трамплин в бассейне после прыжка в воду.
– Блины! – оглушительно кричит Генерал. – Блины-блинчики, оладьи-оладушки, крепы-омлеты, панкейки-палачинкены, с начинкой и без!
Дедов голос звенит, будто он приказы эскадрону отдает:
– Кайзершмаррн, тортильи, латки – я перепробовал их все!
Потом он вдруг плюхается обратно на стул, ухмыляется и бодро продолжает:
– В общем, я отправился путешествовать и всё разузнал, деточка, обо всех блинах мира, какие только есть!
В этом путешествии Генерал и познакомился с моей бабушкой. Некоторое время он работал в маленькой блинной в одном городке недалеко от Парижа. Вообще-то Генерал собирался двинуться оттуда в Испанию, хотел выяснить, не родственница ли блинам тамошняя тортилья. Но остался – из-за бабушки. Она приходила каждый день. Он продавал блины. Она их покупала. И они оба радовались встрече, но говорили всегда только о блинах: каких и сколько она хочет купить. И больше ничего – разве что смущённо учились смотреть друг другу в глаза. Блинов бабушка покупала всё больше и больше, и Генерал даже начал опасаться, как бы симпатичная девушка сама не стала похожа на круглый блинчик. Так продолжалось довольно долго, и вот однажды бабушка услышала, как на заднем дворе блинной Генерал играет на маультроммеле. С этого, как утверждает Генерал, и началась по-настоящему их история…
– Но тебе же можно иногда туда заглядывать? – спрашивает Генерал и смотрит на меня. – В твоё королевство то есть.
– Да, – отвечаю я и качаю головой, – ещё можно. Но я теперь не хочу. Что ж получится, я – гость в собственной стране? Это мой дом, и я хочу там жить!
Ведь это совсем не так просто – носить с собой целое королевство, хоть я и его принцесса. Мауляндия в карман не помещается. Даже в сотню картонных коробок – и то нет.
Глава 7 В дверь стучится Пауль
Дни в Мауляндии чаще всего начинались с утренней гимнастики, я занималась ею на кухне, на бело-синем диване возле орехового стола. Не то чтобы произвольная олимпийская программа, а так – потягушечки, попрыгушечки, велосипеды ногами и пропеллеры руками. Стихийное продолжение снов, плавно переходящее в затейливый завтрак. Совершенно необходимая по утрам вещь – встряхнуться самой и расшевелить мир вокруг! Иногда от этих дёрганий и кривляний я первая прыскала со смеху, а иногда меня опережали мама и Тот Человек.
Надо сказать, что с утра у Того Человека – он просыпался раньше всех – всегда было превосходное настроение. Когда я выползала на кухню, он уже восседал за столом с газетой в руках, с наслаждением откусывал от булочки и тайком посматривал из-за газеты, как я, словно зомби, шаркаю ногами.
– Доброе утро, Паулиночка! – щебетал он.
В ответ я рычала что-то невнятное и плюхалась на диван. И вперёд: перекатываясь по сине-белой обивке, потихоньку разгоняла сонную кровь, потом подтягивала ноги на диван и подпрыгивала на корточках, потом валилась на спину и болтала в воздухе ногами или вскакивала и устраивала бег на месте. Тот Человек смеялся, хлопал в ладоши и делал мне бутерброд с мёдом, бананом и миндальным муссом. Да, это у него здорово получалось.
А что теперь? Теперь пусть сам прыгает на старом диване и смеётся над собой! Тут в Пластикбурге никто не прыгает и не смеётся, на кухне стоят только пластмассовый стол и два складных пластмассовых стула. И бутерброды я делаю себе сама.
Коробки в своей комнате я распаковывать не стала. И не стала дружить с этими жабами и пиявками из нового класса. Они меня не интересуют. Некоторые на вид вполне ничего, другие скучноваты, одни заговаривают со мной, другие просто пялятся, одни что-то спрашивают, другие рассказывают о себе, некоторые тайно покуривают, другие ходят на верховую езду, одни пьют колу, другие – молоко, у одних есть фирменные шмотки и мобильники, у других нет. Но мне все они неинтересны, знать ничего о них не хочу. Не нужны мне новые друзья, ведь, если захочется, можно просто сесть на велик и через полтора часа рядом со мной будут мои настоящие друзья, делов-то.
Я хожу в эту школу, сижу в этом классе, что-то пишу в тетради, слушаю учителей, но на самом деле – парю надо всем этим, меня тут ничего особо не трогает. Я знаю: вот-вот подует ветер и унесёт меня, я тут ненадолго, скоро снова буду там, где моё место – моё и мамы.
И вдруг в нашу пластмассовую дверь звонят. Мама как раз отпила кофе и от неожиданности поперхнулась. Я перестала жевать. Мы смотрим друг на дружку.
– Кто это? – спрашивает мама. Я пожимаю плечами.
Мама со стуком ставит чашку на блюдце (они не пластмассовые, мы привезли их с собой из Мауляндии), встаёт, как-то странно путается в собственных ногах, спотыкается и почти падает.
– Вот чёрт! – ругается она, кое-как умудряется сохранить равновесие и вылетает из кухни. Я смотрю ей вслед и слышу: открывается дверь, чей-то юный голос тихо и неуверенно что-то бурчит, потом радостный ответ мамы. Что они там говорят, не разобрать, и на секунду у меня мелькает надежда: а вдруг это Тот Человек с грудой бутербродов? Но тут я слышу, как мама зовёт:
– Паулина, это к тебе…
Перед дверью – долговязый нескладёха. Тот, с первого ряда, у которого прыщики на шее и солнечно-жёлтые зубы.
– Привет, – говорит он и при этом старательно смотрит в пол. – Я Пауль.
– Это что, шутка? – говорю я.
– Что?
– Что тебя Пауль зовут.
– Почему?
– Потому что я Паулина.
– Знаю, – говорит нескладёха, пожимает плечами и чешет в затылке.
Потом бурчит, обращаясь к коврику перед дверью:
– Да не, вряд ли шутка, мои родители же не знали, что мы встретимся.
– Что правда, то правда, – говорит мама с усмешкой.
– Может, ты лучше… – говорю я и глазами посылаю ей выразительный намёк на Истошный Мяв.
– Ах да, кофе-то мой остынет, – спохватывается мама, улыбается и исчезает.
Пауль то и дело поднимает взгляд на меня, на четверть секунды, не больше.
– Э-э-э-э… – мямлит он, – м-м-м-м, хм-м-м-м, ну-у-у, в общем…
– Валяй, выкладывай, – говорю я, – неохота целый день ждать.
– Ну, в общем… – говорит Пауль, – я на соседней улице живу…И как бы это… Я подумал… Ты же здесь новенькая… И я подумал… Подумал, я бы мог за тобой заходить… ну, чтобы это… идти в школу… вместе. Ну, вдруг…
– Пф-ф-ф… – выдыхаю я и приглядываюсь к дылде повнимательнее. Он стоит передо мной, как аист на снегу. Я пожимаю плечами: – Окей, секунду.
– Окей, ладно! – говорит Пауль.
Я поворачиваюсь и иду за рюкзаком и недоеденным бутербродом.
– До вечера, – говорю маме, и мама говорит:
– Да-да, до вечера.
Чувствую, что ей хочется ещё что-то сказать или спросить, и поэтому торопливо выхожу на улицу – к Паулю и к свежему утреннему воздуху.
Мы идем рядом, не говоря ни слова, и мне это даже нравится – ведь Пауль мог бы без остановки верещать, просто потому, что позвонил в нашу дверь, и раз мы почти не знакомы, он мог бы решить, что теперь нужно непрерывно болтать обо всём на свете, чтобы познакомиться. Мы просто шагаем рядом, как он сказал – вместе идём в школу, и это очень даже окей.
Вдруг я – неожиданно для самой себя – открываю рот:
– Ты не очень-то разговорчивый, да?
Пауль бросает на меня быстрый неуверенный взгляд, потом ещё один и отвечает, чуть улыбнувшись (улыбка у него каждый раз как солнышко):
– Не, не особо.
Глава 8 Рецепты на все случаи жизни
Мама приоткрывает дверь, просовывает голову в щель и спрашивает, с чего это я заделалась такой домоседкой.
– Потому что у нас теперь нет сада, – отвечаю я.
– Но улица-то есть, – говорит она. – Тебе разве не хочется разузнать, как тут и что?
– Времени нет. Я план сражения разрабатываю.
– Какого ещё сражения?
– Сражения, которое вернёт нам Мауляндию.
– Ах, Паулина, – говорит мама и гладит меня по голове, – я же тебе объясняла. Мы теперь живём здесь.
– Думаешь, до меня не дошло? – огрызаюсь я.
– Ах, Паулиночка, – качает головой мама, – попробуй посмотреть на всё с другой стороны.
– У меня уже есть одна улица, новой мне не надо, и друзья у меня есть, и школа, и класс, и моё королевство, оно тоже уже есть, всей этой тутошней ерунды мне не нужно. Тут одни сонные мухи живут, совы, жабы и старые бабуськи.
– Знаешь, – говорит мама, – а я кое-каких детей тут уже видела. Вот Пауля, например. Как он тебе? – и подмигивает. – Зря ты запираешься в четырёх стенах и впадаешь в мауланхолию. Выйди хоть разок на улицу, Маули-котаули, если нужно – устрой Истошный Мяв. Легче станет.
Я встаю, смотрю маме прямо в глаза, топаю ногой по идиотскому пластиковому полу.
– Мама, Тот Человек поступает несправедливо. Так делать нельзя. А за несправедливость полагается мстить. Я сделаю всё, чтобы мы вернулись в Мауляндию. Чтобы жили вместе, как раньше – когда у нас было всё, что нужно, вот просто всё-всё-всё. Разве нам чего-нибудь не хватало? Всё было суперски, и здоровски, и замечательно, лучше не бывает. Ни у кого нет права просто так взять и выкинуть нас оттуда, серьёзно, мам.
Мама садится ко мне на кровать и вздыхает:
– Иди ко мне, Паули.
– Вот этого не надо, – говорю я. – Никаких переговоров. Я как раз составляю план, как сделать так, чтобы уже к концу этой недели мы снова жили все вместе. И чтобы всё снова стало хорошо. Как всегда было. Как положено.
– Паулина, ничего не выйдет.
– Да-а-а? Это почему же? Ты ведь ничего не знаешь про мой план.
– Иди сюда, – повторяет мама и раскидывает руки.
Уф-ф. Мама обнимает меня, я чувствую её тепло, вдыхаю её запах, ни с чем не сравнимый мамин запах, слышу её легкое дыхание – и мне хочется сладко заснуть и горько разреветься одновременно.
– Паулина, я знаю, тебе очень трудно это понять. За это-то я тебя и люблю, понимаешь? За то, что у тебя своя голова на плечах.
Такую дочку я всегда хотела – такую, как ты. Дочку, которая ничего просто так на веру не принимает и борется с любой несправедливостью. Но иногда в жизни бывает так, что с чем-то нужно просто смириться, что-то принять. И сейчас у нас как раз такая ситуация. С ней ты ничего не можешь поделать. Потому что она возникла не из-за тебя. И папа, и я – мы оба тебя очень любим и всегда будем любить. Мы расстались, потому что перестали друг друга понимать, потому что… нашей любви уже не хватает, чтобы быть одной семьёй.
– Ладно, хватит, – обрываю я, – это неправда!
– Нет, Паулина, это правда.
– У Того Человека – ты лучше вообще не говори мне про него, пока он не пустит нас обратно в Мауляндию, – нет у него никакого права вот так просто, с бухты-барахты, взять и решить, что всё кончено. Он не может просто так взять, и решить, что нашей семьи больше нет, и переселить нас в эту пластмассовую будку.
– Паулина, это решил не па… не Тот Человек. Это я так решила.
– Ничего ты не решила! С чего это? Ты же умная, мам! Ты себе не враг!
Мама улыбается и гладит меня по голове.
– Да вот же, Маули, может быть, всё-таки… всё-таки я не такая уж умная. Просто в голове у меня сейчас всё смешалось, я даже и не знаю толком, что делать. Но что-то делать было нужно… Вот поэтому мы здесь. Мы вдвоём, ты и я.
– Но я вовсе не хочу быть здесь!
– Паулина, у тебя есть выбор, ты можешь вернуться к па…
– АААААААРРРРРРРГГГГГГГГГРРРРРРР!
– К Тому Человеку.
– Ещё чего! Никуда я не вернусь без тебя! А уж к нему – ни за какие коврижки. Раз он себе воображает, что весь мир у его ног, что он один может за всех решать и всё разрушать.
– Маулина, послушай ещё раз: это я так решила, я решила, что мы сюда переедем, я нашла эту квартиру. Твоему па… Тому Человеку оттого, что мы переехали, очень грустно, так же грустно, как нам с тобой. Он не виноват. Понимаешь?
Мотаю головой:
– Не.
– Не?
– Нет. Я не верю.
– Но это так.
– Всё равно я отвоюю Мауляндию. Для нас для всех. Раз вы оба чокнулись, придётся взять дело в свои руки.
– Остынь, Паулина, – мама глубоко вздыхает. – Может, тебя водой холодной окатить?
– Ты что, мам! Мне вовсе не жарко, – я фыркаю от смеха и наматываю на шею свой красный шарф.
Но мама даже не улыбается. Ясно, она хочет защитить Того Человека. Мама, она такая – всегда пытается всех вокруг защищать, все ошибки берёт на себя, и чужие тоже. Понимает всех и каждого, умеет влезть в чужую шкуру, чувствует, почему люди поступают именно так, а не иначе, и поэтому никогда на них по-настоящему не сердится. Когда на меня временами нападает Мяв, она тоже не сердится, потому что знает: я с этим ничего поделать не могу. И у мамы всегда наготове рецепт, как справиться с трудностями. Только сейчас, похоже, у неё подходящего рецепта нет – иначе разве мы торчали бы в этой будке, где жизнь совсем не мила? Мама, конечно, делает вид, что всё окей и супер. Даже сейчас она понимает Того Человека. Но всему есть предел! Нельзя же вечно со всем смиряться и всех понимать! Иногда надо действовать, иногда надо скрутить жизнь в трубочку, засунуть в точилку и сказать: «Эй, мироздание! Полегче на поворотах!»
– Значит, это ты так решила, да?
– Да.
– Мам, вот честно: может, тебе к врачу сходить, пусть он тебя посмотрит, потому что всё это как-то ужасно странно!
Шутка! Я улыбаюсь и подмигиваю, чтоб у мамы не оставалось сомнений, но она не улыбается в ответ. В последнее время она вообще мало улыбается, и это тоже своего рода знак.
Знак того, что ей совсем не весело, хоть она и делает вид, что всё отлично, – насвистывая, распаковывает коробки, готовит вкусную еду, вешает картины на стены, раскладывает везде свои книжки. В общем, отчаянно пытается сделать из этого пластикового стойла новую Мауляндию. Настоящая мамина радость – как свежее масло, но сейчас это совершенно точно маргарин: и вкус, и запах – всё ненастоящее. И если бы она так решила, потому что для нас это хорошо и правильно и по-другому никак нельзя, то была бы сейчас счастливой и весёлой. Или хотя бы не такой грустной. Я ж не дура! Мама, как обычно, просто старается всё сгладить, всё смягчить, но со мной это не пройдет!
Вдруг я замечаю: у мамы вздрагивает нижняя губа, она отводит взгляд, глядит в пол, а из-под ресниц вдруг вытекают крупные слёзы. Мама не устраивает Мява, мама просто плачет. Что-то я уже совсем ничего не понимаю!
– Как-то странно… – всхлипывает она, и я обнимаю её, прижимаю к себе изо всех сил. Мама прижимает меня к себе, тоже довольно крепко, и у меня выступают слёзы, я залезаю к ней на колени, цепляюсь за неё, как детёныш обезьянки, и говорю:
– Не волнуйся, мам, я всё улажу.
Глава 9 Птичий дождь
Коленки ходят туда-сюда, туда-сюда, как в танце, ехать довольно далеко – полтора часа, если поторопиться. А я не люблю спешить, когда катаюсь на велике. Но времени сейчас у меня мало, к ужину надо снова быть дома.
С Тем Человеком говорить не буду, потому что я с ним больше не разговариваю. Я поклялась. Когда мы упаковывали коробки, я встала перед ним и сказала:
– Слушай внимательно и запомни мой голос. Очень может быть, что ты его больше никогда не услышишь. У тебя вот прямо сейчас есть последний шанс всё спасти, а если ты этого не сделаешь – я тебе больше ни слова не скажу.
Он стоял, смотрел на меня влажными глазами и только головой покачал. Ничего не ответил, даже «нет» не сказал. Ну, тогда я повернулась и подхватила свои последние вещи. Никогда, никогда больше не скажу Тому Человеку ни единого слова, совершенно точно, ведь Маулина свои обещания всегда держит. Я еду не к Тому Человеку, а в Мауляндию: кто-то ведь должен заботиться о маущере, поливать маулиновые кусты и вообще присматривать за порядком – у принцесс (и маузидентов) тоже есть свои обязанности.
Мауляндия – настоящий рай. Солнышко светит, жуки жужжат, бутоны и почки разворачиваются, трава тянется вверх, кошки лениво потягиваются, мурчат и ловят жуков на лету, а я стою перед домом и смотрю наверх, на пятый этаж. Свет слепит глаза, я чихаю, и от этого – только от этого – на них наворачиваются слёзы. В Мауляндии чувствуешь себя как на каникулах, тут всё тёплое, мягкое и чудесное, одно только портит картину – то, что здешняя принцесса живёт в изгнании.
В саду стоят белый стол и стулья, на столе – одна-единственная пустая кофейная чашка, никто, конечно, ничего не поливал. Над нашим кухонным окном проносятся ласточки. Когда ласточки-родители подлетают к гнезду, оттуда раздаётся многоголосое попискивание, разинутые клювики требуют корма – вполне себе Мяв, но тихий, деликатный. Подбегаю к груше и вижу: маущера в полном порядке (недаром она спроектирована и построена профессионалом). Быстро залезаю внутрь, вдыхаю запах прохладной земли и сена, сворачиваюсь клубочком. Вот я и дома…
Когда я просыпаюсь и вылезаю наружу, день уже медленно клонится к вечеру, на небе обрывки серых облаков и красноватая пелена вокруг солнца. Мама наверняка уже готовит ужин. Но я встаю перед дверью дома и дышу. Вдох – выдох. Вдох – выдох. Велосипеда Того Человека не видно, наверно, его вообще нету дома. Звоню в звонок – в ответ тишина. Если он всё-таки откроет, я останусь здесь, внизу, а если спустится, я только посмотрю на него, а если что-нибудь скажет, я не стану отвечать, а если обнимет меня, я не буду обнимать его в ответ, буду стоять столбом, не шевельнусь, не шелохнусь.
Но никто не открывает, слышно только дребезжание старого звонка у нас в прихожей, оно разносится по всем четырём комнатам, отражается от старых окон и снова спускается ко мне, к двери подъезда, почти превратившись в давно забытое воспоминание. Снова жму на кнопку, вызваниваю коротенькую мелодию. Я – дирижёр, квартира – оркестр, а Мауляндия – публика.
Вдруг на четвёртом этаже распахивается окно, из него высовывается толстый сосед и орёт:
– Нет никого! Непонятно, что ли?
А то нет.
Я сажусь на скамейку в конце улицы. Надо мной почти сразу зажигается фонарь, хотя ещё рано, даже не начало смеркаться. С ветки над головой срывается ворона, потом ещё одна, и ещё. Как быстро, гладко и мягко пронзают они воздух, чёрные, решительные, большие и тяжёлые – словно пушечные ядра.
У Того Человека больше нет имени. Его теперь нельзя произносить, так же как имена самых ужасных злодеев в сказках. От него вянут цветы и спотыкаются ноги. Его страшно выговорить, не то оплавятся подошвы ботинок, треснут стёкла в очках, звери закричат пробирающим до костей криком и разбегутся кто куда. Произнесёшь это имя – лето превратится в зиму, губы потрескаются, и начнётся понос. Вот такое имя, думаю я.
Вороны расселись на верхушках деревьев вокруг детской площадки, и каркают, и каркают.
Карканье, мне кажется, это почти как Мяв, только на птичий лад. Я встаю, захожу на площадку, задираю голову и смотрю на чёрных птиц. Их много, тридцать или даже пятьдесят, и становится всё больше, они совещаются, а может, жалуются друг дружке неизвестно на что, кто знает.
Я просто стою, закрываю глаза, и на меня льётся дождь сильных птичьих голосов, это почти как гроза, звуки падают вниз, хлещут по площадке и по мне, я немножко развожу руки в стороны и наслаждаюсь. Вороньи голоса струятся по мне и гладят, как летний ливень, и от этих поглаживаний настроение чуточку улучшается.
Глава 10 Тайна на три минуты
За мной зашёл Пауль. Он стоит перед дверью, а за ним – прохладное утро, и даже его жёлто-солнечная улыбка не может эту прохладу прогнать. Ещё слишком рано, какао у меня не допито.
– Я пока не готова, – говорю.
Пауль чешет в затылке, волосы у него чёрные и короткие – как отзвук ночи ранним утром.
– Окей, – говорит он.
– Подождёшь? – спрашиваю я.
– Окей, – говорит Пауль.
– Заходи, Пауль, – зовёт мама. – Хочешь какао?
– Окей, – говорит Пауль. И делает шаг вверх по короткому пандусу, ведущему к нашей двери. Я шиплю:
– Ты не хочешь!
– Как это? – спрашивает Пауль.
– Так это, – говорю я. – Не хочешь, и всё. Туда никто заходить не хочет, даже на чуть-чуть, это не квартира, а кошмар какой-то. Кошмартира, в общем.
– Ничего, – говорит Пауль. – Мне хочется посмотреть, как там у вас, я же внутри никогда не был, только с улицы видел.
Пауль со счастливым видом сидит на кухне и вертит головой во все стороны, как взволнованная птичка. Мама ставит перед ним чашку с дымящимся какао и спрашивает:
– Хочешь перекусить чего-нибудь?
Пауль отпивает из чашки и улыбается – зубы жёлтые, верхняя губа коричневая. Мотает головой.
– Никогда такого не пил, – говорит он.
Мама смущённо хмыкает.
– Какао? – спрашиваю.
– Это какао? – удивляется Пауль.
– Это какао, – говорю я. – А вот всё, что ты раньше пил, – не какао.
Пауль кивает:
– Оке-е-ей…
– Знаешь что, Пауль, – говорю я, уже по дороге в школу, – мне тут как-то неуютно, я ведь родом из одного королевства, там я была принцесса, а теперь мы попали в эту пластиковую кошмартиру, и мне это совсем не нравится. Меня изгнали. Похитили, как зверя из его любимых джунглей – похитили и сдали в зоопарк. И потом, тут явно что-то не так. Что-то не сходится, и я должна выяснить что!
Пауль кивает, над верхней губой – коричневые усы от какао. Может, он их нарочно оставил. Раньше я тоже так делала, для надёжности. Если днём случится какая-нибудь пакость, можно быстро провести языком по верхней губе, и сразу вспомнишь о тёплой утренней чашке.
– Я начинаю расследование, – говорю я, – не потому, что всё это меня так уж интересует, на самом деле ни чуточки не интересует, но пока мы здесь, я буду расследовать и разбираться. Знаешь, я ведь сыщик, агент, детектив.
Пауль неопределённо мычит и облизывает губы.
– Какао было отличное, – говорит он. – Я, наверно, никогда ещё такого не пил, оно такое пряное.
– Да, – говорю я, – моя мама делает лучшее в мире какао. Думаю, это оттого, что ей каждый день приходится варить его бочками.
– Ага… – говорит Пауль. – А вообще-то что за расследование?
– Знаешь, Пауль, в Мауляндии – так называется мое королевство – у нас был клуб, и мы расследовали настоящие преступления.
– Правда?
– Ну да. Прошлым летом, например, мы поймали убийцу.
– Убийцу?
– Ты что, газет не читаешь?
– А ты читаешь?
– Да это такое громкое дело было! Про нас в газете написали и фотографию поместили.
– Расскажи.
– Долгая история.
– Ну ладно, тогда не надо.
– В общем, та-а-а-ак, – говорю я и вдруг не узнаю собственного голоса, в нём прорезаются Генеральские нотки, он делается ниже, мягче, раскатистей, как лавина, которая после вечного ожидания внезапно срывается с горы и несётся вниз.
– Вот как дело было, – говорю я. – На четвёртый день летних каникул в Мауляндии, ещё до восхода солнца и птичьего гомона, меня что-то разбудило, какое-то странное, тоскливое ощущение. Я сразу поняла: что-то случилось. Села на белой-пребелой кровати и стала вслушиваться и вглядываться в серость начинающегося дня, как антенна, улавливающая невидимые вибрации. В воздухе висело нечто странное, понимаешь? Оно звало меня и притягивало, как будто нуждалось в моей помощи. И вдруг – я это точно помню – я оказалась посреди мауляндского сада, в ночной рубашке, босые ноги – в мокрой от росы траве. Взглянула на небо, уже светившееся красным, его медленно затягивала тонкая пелена облаков. За ней копилась жара, она собирала силы, чтобы позже, днём, навалиться на Мауляндию. Тогда и началась та самая история – агента Шмитт и её коллег Луизы, Пита, Барта, Юлиуса и Моны. Я тебе её расскажу, когда мы выясним, что это за чудной дом, где мы с мамой теперь живём. Кому понадобилось строить такие дома? Надо разобраться, к чему все эти ручки и рычаги, надо разобраться, кто жил там до нас, чтобы понять, к чему вообще всё это. Тут что-то не так, я это чу-у-у-у-увствую…
– Окей, – говорит Пауль.
– Можем расследовать вместе, – говорю я, – если хочешь. Будешь моим агентом-помощником.
Пауль солнечно-жёлто и радостно улыбается, глаза сверкают.
– Да, да! А… ты не шутишь?
– Нет, конечно, – говорю я. – Я много чему могу тебя научить. Где лучше всего устроить тайник, как зашифровать послание, как его передать, тайнопись и всё такое. Вот ты знаешь трюк с волоском?
– Трюк с волоском? Нет!
– Окей, – говорю я. – Это вообще-то детсадовский уровень, всё просто, как дважды два. Но с чего-то надо ведь начинать…
– Окей, – говорит Пауль, но потом взгляд у него темнеет. Мы идём рядом молча, до школы осталось совсем чуть-чуть.
– Знаешь… – начинает Пауль. А потом замолкает.
– Что?
– Тут такое дело…
– Какое?
– Кажется, я знаю отгадку.
– Как это?
– Ну, я знаю, кто жил в этом доме до вас. Я ведь тут мимо каждый день хожу, не меньше двух раз, в школу и обратно.
– И?
– Ну, там жила одна тётенька.
– Пауль!
– Да?
– Можно чуточку побыстрее? Мне нужно знать!
– Ну да. В общем, одна женщина. В инвалидном кресле. Потому и квартира на первом этаже. Потому и лестницы нет, а вместо неё этот пандус. Чтоб ей было легче заехать внутрь. И ещё я думаю…
Пауль размышляет. Когда он размышляет, когда думает по-настоящему сосредоточенно, он чешет в затылке и смотрит в небо.
– Точно я не знаю, – снова подает голос Пауль, – я же внутри квартиры никогда не был и ничего не видел, но думаю, все эти ручки и рычаги – их специально для неё сделали, чтоб ей легче было. Она же не могла ходить, даже встать сама не могла. Понимаешь?
Я смотрю на Пауля. Ну как же я сама не додумалась? Иногда я тупая просто до невозможности. Сначала я молчу, а потом говорю:
– Да.
Через полминуты спрашиваю:
– А что потом с этой женщиной случилось?
Пауль пожимает плечами.
– Потом она куда-то исчезла. Не знаю точно. Может, переехала. В этом районе ведь часто переезжают.
– Может, её в больницу увезли, – говорю я.
– Или она умерла, – говорит Пауль.
– Не говори так.
Пауль пожимает плечами.
– Окей.
А потом спрашивает:
– Ты разве медсестёр не замечала?
– Медсестёр?
– Ну да. И медбратьев. У вас ведь там живёт много больных людей и инвалидов, к ним часто приходят медсёстры.
– К нам никогда не приходят.
– Это понятно. Но на вашей улице так почти ко всем.
– Правда?
Женщина-инвалид… Вот же я дура. Ещё и орала, и Мяв устраивала. А это квартира для инвалида! Конечно, ей нужны были пандус и все эти ручки! Я ругалась и насмехалась над бедной больной женщиной. Идиотка, просто идиотка. Теперь понятно, почему в Пластикбурге всё такое пластиковое! Ничего, что на вид это просто кошмар, зато очень практично. Так и должно быть в квартире для человека, прикованного к инвалидному креслу, который живёт один. Ужасно хочется укусить себя за руку, но нет – мы уже поворачиваем к школьному двору.
– А мне всё равно можно в твой клуб? – спрашивает Пауль.
Я пожимаю плечами.
– Ясное дело.
– Окей, – говорит Пауль.
– Окей, – откликаюсь я.
Глава 12 Аттракционы для черепах
Выходные. Бело-синего дивана у нас теперь нет, и наши завтраки больше не длятся целую вечность. Они просто долгие. Блины у мамы неплохие, но не такие суперские, как у Того Человека. По части какао она чемпионка, а вот по блинам занимает твёрдое второе место.
Сегодня у мамы какое-то дело, она не хочет про него рассказывать, говорит, это надолго, но завтра она будет вся моя, весь день. А сегодня мне придётся самой о себе позаботиться. Можно поехать к друзьям в Мауляндию, или к деду, или и туда и туда, да и черепахам тоже пора уделить немножко внимания.
Мама уходит, я убираю со стола и размышляю, чем заняться. Ленни и Рою скучно в карликовом садике, так что пойду-ка я к Паулю. Агента-помощника пора обучать, проведу сегодня первый урок. А если у Пауля сад побольше (ну вдруг), черепахи смогут там порезвиться – на свой черепаший лад. Черепашьи развлечения – это как пенсионеры в бинго играют, да ещё в суперзамедленной съёмке, но главное тут, знаете ли, что им весело.
Беру Ленни в левую руку, Роя – в правую и отправляюсь в путь. Ну и видок, наверно! Можно подумать, что очень голодная девочка несёт в каждой руке по громадному гамбургеру, каменному и с четырьмя ножками.
Дойдя до дома, где живёт Пауль, я останавливаюсь от неожиданности. Вокруг порядочная толпа детей и подростков, из открытого окна гремит музыка, кто-то играет в пинг-понг, кто-то курит – очень похоже на загородный школьный лагерь.
Оглядываюсь, но Пауля нигде не видно. Вдруг кто-то кричит:
– Ух ты, глянь, черепахи!
Оборачиваюсь – передо мной стоят трое мальчишек и ухмыляются.
– К нам переезжать собрались? – кивает на Ленни и Роя толстяк в середине.
У того, что слева, длинные волосы и пробивается бородка.
– Ты новенькая или как? – интересуется он.
Не очень понятно, о чём это он.
– Я ищу Пауля, – говорю я.
– Пауля? – переспрашивает толстяк. – Он дежурит. Иди на звук пылесоса – не ошибёшься.
– Эй, – встревает длинноволосый, – а они настоящие? – и показывает на Ленни и Роя.
– Не-е-е-е, я их вырезала из черепахового дерева и побрызгала живой водой. Теперь им жить в образе черепах двести пятьдесят лет, а потом они распадутся, и получится зубной порошок или концентрат черепахового супа.
Вот что это было, и откуда оно взялось? Сама не знаю. То есть понятно откуда: из меня самой, изо рта, который как-то связан с мозгом, но заранее я совершенно точно ничего не обдумывала. Сказала и сама удивилась. Длинноволосый, кажется, тоже. Вид у него сделался ошарашенный. Немножко поразмыслив, он спрашивает дружелюбно и с интересом:
– А они ядовитые?
– По-моему, нет. Но есть их я бы не стала…
Все трое смеются. Я подхожу к входной двери.
Рядом с ней табличка:
и ещё одна:
Слышу шум пылесоса. Оглядываюсь, потом вхожу в здание. Вместе с Ленни и Роем, конечно. Пол тут, кто бы сомневался, тоже какой-то пластиковый и при каждом шаге издает чавкающий звук. Если честно, мне даже нравится, когда полы жадные до еды, с хорошим аппетитом.
Из-за приоткрытой двери с надписью «Комната отдыха» доносится шум пылесоса. Стучу, никто не отвечает. Тогда я осторожно открываю дверь и вижу, как Пауль, наклонившись над коричневым полом, сосредоточенно водит хоботом пылесоса перед носками ботинок.
– Привет, Пауль, – говорю я, но Пауль не слышит.
Тогда я немножко притопываю ногами, машу руками и черепахами, и он наконец замечает меня, выключает пылесос и улыбается от уха до уха.
– Паулина!
А я говорю:
– Ага.
– Это черепахи? – спрашивает Пауль.
А я отвечаю:
– Ага.
Пауль размышляет секунду и спрашивает:
– Они ядовитые?
– Да что вы все, с ума посходили? Разве черепахи ядовитыми бывают? Они просто тормозные немножко, но совершенно безобидные.
– Окей, – говорит Пауль, – я не знал, я ж черепах никогда не видел. В смысле, настоящих. Можно потрогать?
– Конечно.
Я протягиваю ему Ленни и Роя.
– Ленни и Рой, это Пауль, – говорю я. – Можете высунуть головы, с Паулем всё окей.
– Оке-е-ей, – улыбается Пауль. – Вот бы мне так – уметь втягивать голову.
Очень осторожно Пауль протягивает черепахам указательный палец. Палец немножко дрожит, Паулю всё-таки страшно: вдруг они его укусят. И отравят.
– Хочешь, возьми их в руки.
– Окей, – говорит Пауль, и я кладу Ленни ему на раскрытую ладонь.
– Ух ты! – Пауль усаживается на коричневый диван. Он смотрит то на Ленни, то на меня и улыбается во весь рот. – Твёрдая какая, – говорит он.
– Так черепаха же, – говорю я. – Не что-нибудь.
– Я животных люблю, – сообщает Пауль.
– Я тоже, – говорю я.
– Окей, – говорит Пауль, осторожно нажимает Ленни на панцирь, постукивает по нему, гладит лапки, ощупывает живот.
– А говорить они умеют?
– Не-е, – смеюсь я, – черепахи не разговаривают.
– Даже по-черепашьи?
– Не-е, я думаю, они вообще не говорят. Иногда только, если очень-очень чего-нибудь испугаются и быстро втягивают голову – тогда аж свистит. Но больше я никогда ничего от них не слышала.
– Окей, – говорит Пауль. – Я думал, вдруг они умеют немножко булькать, знаешь, тихонечко так, «буль… буль…». Или «пум… пум… пум». Им бы пошло, мне кажется…
Пауль задумчиво чешет в затылке и снова спрашивает:
– А они друзья?
– Ну да, наверно. Было бы глупо друг друга не переваривать. Они же всё время вместе.
– Я сейчас закончу, – говорит Пауль. – Может, гулять пойдём? У меня есть собака, можем её проведать.
– У тебя есть собака?
– Да! – Пауль энергично кивает и сияет жёлтой улыбкой.
– Тогда пошли.
Пауль несёт Ленни, я несу Роя. Мы идём через поле за многоэтажными домами, светит солнце. Пауль поднимает Ленни повыше, как самолёт, носится с ним туда-сюда, рычит самолётным мотором, а я немного беспокоюсь: вдруг у Ленни голова закружится?
– Вау, – говорит Пауль, тяжело дыша, – для черепахи это, наверно, просто турбоскорость! Если её просто на руках нести, уже получается раз в пять быстрее нормального черепашьего шага, а если бежать – то ещё втрое быстрее, всего, значит, в восемь раз! Или в пятнадцать? Не знаю… Но абсолютно точно – это нереально быстро.
– Ага. Нереально быстро, – вторю я.
– Вау, это прям как на аттракционах, как на американских горках! Черепашьи аттракционы!
Он волчком вертится вокруг своей оси, в растопыренных руках по черепахе:
– А тепе-е-е-ерь карусе-е-е-ель!
– Пауль!
– А?
– Что это за дом, где ты живёшь?
– Подростковое общежитие.
– То есть?
– Ну, общежитие… для подростков.
– А почему ты там живёшь?
Пауль пожимает плечами:
– Ну, так. – И заглядывает Ленни в глаза.
– Ясно, – говорю я. – А где… твоя собака живёт?
Пауль быстро взглядывает на меня, хитро улыбаясь:
– В собачьем общежитии. Это такое общежитие для собак.
– Вот так вот? – прищуриваюсь я.
– Вот так вот, – кивает Пауль.
– А знаешь, почему я сегодня к тебе пришла?
– Наверно, хотела своими ядовитыми черепахами похвастаться?
– Не-е-е, сегодня у нас занятие, основы агентского дела. Хочу показать тебе парочку хитростей и приёмчиков.
– Окей! – кивает Пауль.
Там и сям на лугу лежат или стоят группки телят. Они глядят на нас большими глазами, медленно пережёвывая траву. Наверно, размышляют, чего это мы тут делаем.
Пауль бросается бежать. Сначала я просто смотрю на него, а потом несусь вслед, к деревьям на другом конце луга. Ленни с Паулем, Рой со мной. Пауль часто оглядывается на меня, он впереди метров на пятьдесят. Настоящий дылда, у него даже руки длиннее моих ног. Он мчится к маленькой роще, тормозит, смеётся, тяжело дышит. Потом лезет на толстую старую иву, что-то кричит её верхушке, я не понимаю ни слова, но одно ясно: он хочет, чтобы я лезла за ним. Ива стоит на самом краю луга, склонившись над маленьким прудиком. Залезать на неё очень удобно, она сама подставляет под ноги ветки, словно руки. Пауль тут уже бывал, и не раз, между двух ветвей он укрепил доску, на ней мы отлично умещаемся вдвоём.
– Рассказывай дальше ту историю, – просит Пауль.
– ИСТОРИЮ… – шепчет какой-то тихий голос внутри меня. Я делаю широкий жест, глубоко вздыхаю, взгляд сам собой уходит куда-то далеко-далеко, на секунду наступает тишина, как в кино, когда гаснет свет. Пауль смотрит на меня.
– Я накинула только халат, чтоб не тратить время, – говорю я, – и солнце ещё не вышло из-за облаков, как наша команда была уже на ногах, я вызвонила всех из тёплых постелей. Мы стояли на улице, и никто ничего не понимал. Я очень хорошо это помню: вот они трут заспанные глаза, никто и не подозревает, что за день нас ждёт и что за дело.
Пауль спрашивает:
– А когда же сама история начнётся?
– Да она уже в разгаре, – фыркаю я.
Пауль нетерпеливо ёрзает, поглаживает лапки Ленни, будто осторожно нажимает на клавиши пианино.
– …Я им рассказала, что ко мне пришло озарение, чувство, что сегодня что-то не так. Никто не произнёс ни слова, на мауляндской улице кроме нас никого не было. Только тишина, как живая, подошла и встала рядом. «На карту поставлено всё! – крикнула я своей команде. – Надо выяснить, что случилось. Кто-то в опасности! Нужна наша помощь».
– Тишина, как живая? – переспрашивает Пауль.
Широким жестом отметаю все вопросы, рассказываю дальше:
– Пит, ещё в полусне, что-то пробормотал про пропавшую кошку своих соседей. Юлиус сказал, что у его бабушки пару дней назад тоже исчезла кошка и больше не появлялась. В голове у меня закрутились шарики и ролики, стали сопоставляться факты. В секунду я приняла решение: надо найти Шрамма.
– Шрамма? – переспрашивает Пауль.
– Это бродячий кот, весь в шрамах, он время от времени приходит в Мауляндию и отдыхает в нашем саду, а потом снова уходит и возвращается с новыми шрамами.
– А эта история, – спрашивает Пауль, – она вообще-то про кого? Про людей или про кошек?
– Она про жизнь и смерть! Мы разделились и начали поиски кота со шрамами.
Его фотографии у нас не было, поэтому мы нарисовали картинки, развесили объявления, обошли соседей, расспросили прохожих. И вот что выяснилось: за последние пять недель пропало шесть кошек – и это только на улицах рядом с Мауляндией…
Пауль кивает и смотрит на меня, он ждёт. Когда я про всё это вспоминаю, сердце начинает изображать белку в колесе.
– Пауль, – говорю я, – некогда нам так долго болтать. Я хочу познакомиться с твоей собакой, и ещё надо научить тебя тайному языку.
– Тайному языку?
– Ну, если хочешь стать моим помощником, тебе надо знать наш язык.
– У вас свой собственный язык есть?
– А то. Мы его придумали вместе с Сырным Генералом, он в таких вещах разбирается, – говорю я и достаю из рюкзака блокнот.
– С Сырным Генералом?
Вид у Пауля как у Генерала Ни-Бум-Бум.
– Ладно, неважно, – машу я рукой, открываю блокнот и объясняю Паулю алфавит для тайных сообщений.
– Это надо выучить наизусть.
Пауль кивает. Он держит листок прямо перед носом.
– Не прямо сейчас, – уточняю я, – но в ближайшее время.
– Окей, – говорит Пауль, переводит взгляд от листка на меня, потом опять на блокнот и снова на меня.
– Это всё ты придумала?
Я киваю.
– Какая ты умная!
– Так это несложно. Сложно расшифровать, когда не знаешь кода. Поэтому спрячь этот листок как можно лучше! И для верности ещё волосок положи. Код никому не должен попасть в руки. Ясно?
– Ясно, – отвечает Пауль, не отрывая глаз от алфавита. Я достаю из рюкзака книгу и протягиваю её Паулю.
– Держи, я принесла тебе тайник. Клади туда все важные, секретные вещи: ключи, фотографии, отчёты, рисунки, отпечатки пальцев и всякое такое, ясно?
– В книгу?
– В книгу. Да ты открой.
– Это мне? – спрашивает Пауль. Я киваю.
– Паулина, – говорит Пауль, – ты все-все детективные хитрости знаешь?
– Точно не все, – говорю я.
– Но много?
– Это да, много.
– А сколько?
– Ну-у-у… – задумчиво тяну я, – штук сто. Или двести.
– А языков ты сколько знаешь?
– Это не настоящие языки, это просто…
– Ну, сколько?
Я пожимаю плечами:
– Не знаю. Может, пять. Ну, и немецкий.
– И ты меня всему научишь?
– Думаю, да. Только не сегодня.
Рядом со мной тут же снова восходит солнце. Я киваю:
– Нам пора. Пошли к твоей собаке.
Мы спрыгиваем с дерева и несёмся через поле – так быстро, что черепахи, если б могли, точно закричали бы: «э-ге-ге-ге-ге-е-е-ей!».
Глава 13 Ричи (не) рычит
– Иногда такое просто чуешь, – говорю я и постукиваю по кончику носа, – вот как я учуяла. И покой потеряла, понимаешь? Мы начали с наблюдений за местностью и два дня выслеживали кошек. Нашли на улице только трёх бродячих. Тогда мы разделились и стали следить за каждой по отдельности.
– Вы целый день бегали за кошками?
– А что, по-твоему, мы должны были делать?
Пауль пожимает плечами и нажимает кнопку звонка.
В ответ – шквал собачьего лая, он как вторая стена перед нами.
– Пауль, – хитро улыбаясь, спрашиваю я, – только честно: сколько у тебя собак?
– Штук сто, наверно, – хитро улыбается он в ответ. – Или двести. И один пёс говорит на моём языке. Это Ричи.
Мы с фрау Пинкипанк стоим перед большим собачьим вольером. На фрау Пинкипанк платье с цветочками, яркими-преяркими, если долго на них смотреть – глазам больно. Из-под платья высовываются ноги в чулках цвета ливерной колбасы. Пахнет потом, шерстью и кормом. Над верхней губой у фрау Пинкипанк – чёрные усики. Она улыбается нам и говорит:
– Нет, ты глянь, ты глянь только, Пауль! Это ж как Ричи тебе радуется!
И правда, маленький лохматый пёс чуть с ума не сходит от радости. Он крутится волчком, словно хочет поймать собственный хвост. Пауль тоже нетерпеливо переминается с ноги на ногу, барабанит пальцами по бедру.
– Ну что ж… – говорит фрау Пинкипанк с улыбкой, поворачивает ключ в замке и медленно открывает дверь вольера.
– Отпусти его немножко побегать, – говорю я, когда мы снова выходим в поле.
– Нельзя, – отвечает Пауль.
– Почему?
Пауль пожимает плечами.
– Так Пинкипанк говорит. Он может убежать.
Я киваю. И спрашиваю:
– А как вы познакомились?
– Ричи по правде моя собака, мне его папа подарил, когда мне восемь исполнилось. Только в общежитии собак держать нельзя. Но я могу его навещать, когда захочу.
– А Ричи, он вообще-то рычать умеет? – спрашиваю я.
– Не-е-е, – говорит Пауль, – он даже не лает, ну то есть – совсем-совсем редко.
– Прям как ты, – говорю я.
– Ага, как я. Мы вроде как оба не очень-то разговорчивые.
– Но рычать – это здорово, это как Мяв, только на собачьем языке, понимаешь? И звучит красиво: Ричи рычит!
– В этом что-то есть, – говорит Пауль. – Надо попробовать его научить.
Ричи не рычит. Или рычит совсем тихо, как Ленни и Рой.
Эх, было бы суперски всё-таки переубедить его – рычащий Ричи Клубу Детективов очень пригодился бы. Это же то, что надо: собака, которая умеет брать след, вынюхивать преступника и рычать! Мы бы тут же его к делу приспособили, и Тому Человеку не поздоровилось бы! Мяв принцессы Маули, прыжки и ужимки принца Паули и в придачу рычание Ричи – всё, туши свет, это вам не хухры-мухры, мало не покажется!
Мы сидим на скамейке, едим мороженое, Ричи обнюхивает черепах, Ленни и Рой втягивают и вытягивают головы, и я вспоминаю про утренние отжимания и рассказываю Паулю, что каждое утро встаю на двадцать минут раньше и делаю зарядку. Детективу надо быть в форме. Наш учитель биологии в Мауляндии рассказывал про мускулы, что их сила закладывается как раз в нашем возрасте и остаётся потом на всю жизнь.
– И ещё, – говорю я, глядя Паулю прямо в серые глаза, – это помогает сконцентрироваться на самом главном. Все мои озарения приходили ко мне именно во время тренировок.
– Озарения? – переспрашивает Пауль. В серой радужке у него рыже-коричневые чёрточки. Я киваю и рассказываю, как вдруг почувствовала, где можно найти Шрамма, и обнаружила его в точности там, где предполагала: в своей пещере. Я тут же снова созвала всех наших и предложила такой план: вынести Шрамма на улицу, незаметно проследить, куда он пойдёт, и таким образом выйти на след кошачьего убийцы.
– А-а-а-а, – вырывается у Пауля.
– Что «а-а-а»? – спрашиваю я.
– Так, значит, дело в кошках. Убийца убивал кошек.
– Убийство – всегда убийство, – говорю я.
– Ну-у-у… – качает головой Пауль. – Вот ты муху когда-нибудь убивала? Колбасу ела?
– Колбасу из кошек точно не ела, – говорю я и встаю, выпрямляясь в полный рост.
– На посту осталась одна я, всем остальным пора было обедать, а я осталась. Я же главный детектив, да и вообще, когда вцепишься в новое дело, распробуешь его, есть совсем и не хочется. Так вот, как раз тогда к Шрамму приблизился какой-то дядька с носом, похожим на переспелый мандарин, наклонился над ним и что-то прошептал. Со Шраммом иметь дело нелегко, он ведь практически дикий, инстинкты у него будь здоров, и не успел Мандарин хоть что-нибудь предпринять, как кот уже нырнул в кусты. Мандариновый Нос так и остался сидеть на корточках, криво ухмыляясь. А мне эта ухмылка была – как удар под дых!
– Как это?
– Ах, Пауль… Отбросив сомнения, я решила проследить за Мандарином.
Передала по рации свои координаты другим агентам и попросила подкрепление как можно скорее. Не прошло и трёх минут, как все собрались на борту. Все, кроме Пита.
– И это всё было в этом… королевстве?
– Да, в Мауляндии!
– А почему же вы оттуда уехали?
– Да, – говорю я, – тут такое дело…
Глава 14 Один человек, ни единого слова
Едем на автобусе в Мауляндию: Пауль, я и наш маленький зоопарк. Я показываю Паулю свою улицу, сад, пещеру, дом, друзей – всё королевство.
Ричи исследует пещеру, Ленни и Рой ненадолго возвращаются в старую жизнь, с космической скоростью носятся по заросшему газону, пытаются забраться по стволу груши, хватают комаров в воздухе, прыгают в кронах деревьев, как обезьянки, что-то насвистывают. ЛАДНО, ЭТО ВСЁ ВРАКИ. Но всё равно – вид у черепах вроде как довольный. Ричи задирает ногу у цветочного горшка наших толстых соседей и помечает его. Мы с Ричи подружимся, я чувствую.
Знакомлю Пауля со своими друзьями и коллегами: Юлиусом, Бартом, Луизой, Моной и Питом. После каждого имени Пауль говорит «окей». Даже после своего собственного. На каждого из пятерых он смотрит не дольше полусекунды, а потом сразу утыкается взглядом в носки ботинок, как будто за ними глаз да глаз нужен.
Как хорошо снова быть здесь, нам столько всего надо обсудить! Мы прыгаем на батуте в саду у Барта, а у морских свинок Пита, оказывается, опять родились малыши.
– А помните, – говорю я, приземляюсь на пятую точку, снова взмываю вверх, на мгновение (всего только мгновение!) зависаю в воздухе, потом снова вниз и опускаюсь на ноги, – как мы убийцу преследовали?
– Да-а-а! – вопит Барт. – Конечно, помню, я за ним в магазин вошёл, как будто мне тоже надо чего-то купить, а у меня даже денег с собой не было!
– И увидел, как он покупает кошачий корм, этот гад проклятый! – добавляет Мона.
– Ага, а потом, – говорит Юлиус, – Барт вышел, кивнул, и нам всё стало ясно.
Пит мрачен. Он сердито пинает камешки и жалуется:
– Все участвовали, один я нет.
Пит терпеть не может в чём-то не участвовать. А такое случается нередко – во всяком случае, так ему кажется.
Я спрыгиваю с батута (Луиза тут же занимает моё место) и подхожу к Паулю.
– У тебя же была какая-то важная игра, – говорит Барт и легонько пихает Пита.
– Прям важней не бывает! Ты хоть вид спорта помнишь?
Барт мотает головой и пожимает плечами. Я тоже уже не помню, Пит у нас чем только не занимается.
– Вот видишь! – кричит Пит. – Прям такая суперважная, что меня не было, когда мы наш самый главный случай расследовали!
– Мы проследовали за объектом до его места жительства, – говорю я.
– Знаешь «Китайскую стену»? Сразу за круговой развязкой? – спрашивает Юлиус.
Пауль качает головой.
– Ну, неважно, – говорит Юлиус. – Это такой дом, ужасно длинный, подъездов сто, не меньше.
– И Мандариновый Нос вошёл в подъезд с номером 73Б.
– Я успел подставить ногу, чтоб дверь не закрылась, – продолжает Барт, – а потом мы с Луизой побежали по лестнице, следя за лифтом. Он остановился на пятом.
– Мы побежали дальше, – добавляет Луиза, – чтоб Мандарин ничего не заподозрил, а потом снова вниз и как раз успели заметить, в какую квартиру он вошёл.
– Прочитали табличку у двери и узнали, как его зовут, – ухмыляется Барт.
– Когда стемнело, мы разделились, – продолжаю рассказ я. – Мы с Моной пошли домой, чтобы сказать родителям, где мы. Наврали всем, что мы у Моны, смотрим фильм.
Мона кивает:
– Я чуть подальше живу, и у меня есть проектор, мне папа подарил, так что иногда мы устраиваем киновечера…
– А маме Моны сказали, что у нас репетиция.
– Ну, мы не то чтобы музыкальная группа, но Паулинин папа… – говорит Мона.
Я кашляю. Мона замолкает и смотрит на меня.
– Ю…
Я кашляю.
Мона смотрит на меня.
– Тот Человек, – говорю я.
– Тот Человек?
Я киваю.
– Тот… Человек, – неуверенно повторяет Мона, – иногда с нами что-нибудь играет. Ю… ну, тот Человек – музыкант, он играет в оркестре на виолончели. И в одной группе на гитаре, а ещё сочиняет музыку на компьютере. Иногда он собирает нас, самый маленький и криворукий в мире оркестр, чтобы сыграть то, что он написал. Он нам показывает, как барабанить, хлопать, петь и…
– Объект наблюдения, – прерываю я Мону, – вскоре после наступления сумерек покинул своё место жительства и двинулся в направлении Мауляндии с синим пакетом в руках. У греческого ресторана объект в первый раз остановился, огляделся и выложил что-то из пакета на край террасы, между цветочных горшков…
– Кошачий корм, – говорит Пит так взволнованно, будто видел всё собственными глазами, хотя он-то в операции не участвовал. – Открытые баночки! А в них подмешан яд!
– Я хотел застать его на месте преступления, – качает головой Барт.
– Мы его сфотографировали, но в темноте получилось не особо чётко, – признаётся Юлиус. – Потом немножко подождали и забрали банки с кормом.
– Три штуки, – уточняю я. – И положили их в пакеты. Чтобы не испортить вещественные доказательства. Потом пошли в полицию, отдали им банки и доложили результаты наших наблюдений.
– А дальше? – спрашивает Пауль.
– Дальше, – говорю я, – полицейский осмотрел банки.
Барт смеётся:
– Ага, он довольно долго на них пялился. А потом сказал: «Порча имущества».
– Чего? – переспрашивает Пауль.
– Убивать кошек – это порча имущества.
– Не-е-е, – мотает головой Пауль.
– Да, – говорит Барт. – И можно подать заявление о порче.
– Даже нужно, – уточняет Юлиус. – Если никто заявления не подал, значит, никто не жалуется, что его «имущество» попортили. Тогда, значит, ничего и не случилось.
– И что, можно вот так просто убивать кошек? – возмущённо спрашивает Пауль.
Барт пожимает плечами:
– Если никто не жалуется…
– Да даже если пожалуется! – фыркает Пит. – Упаковку яиц стянуть – и то шуму больше будет.
– В общем, мы хотели сами написать заявление, – говорит Мона, – но полицейский сказал, что посылать кошачий корм в лабораторию на исследование слишком дорого.
– Мы, конечно, не отступили, – говорит Луиза. – И заставили его послать двух других полицейских к кошачьему убийце. Они позвонили ему в дверь, хотели с ним просто поговорить. А он сразу на них набросился, одному даже нос сломал.
Барт качает головой:
– За это его в результате и наказали, а вовсе не за кошек.
– Но всё-таки его задержали, – говорю я. – Это самое главное.
– А через пару дней, – бурчит Пит, – пришла журналистка из газеты, чтобы написать про нас статью. И мне тоже можно было сфотографироваться вместе со всеми, хотя пока детективы мир спасали, я был на гимнастике…
– Из-за этой статьи Мандариновый Нос получил на свою голову кучу проблем, потому что его соседи обо всём узнали и не давали ему проходу, пока он не переехал, – глаза Моны сверкают. – И всё благодаря тем уликам, которые мы собрали!
Пауль кивает:
– Окей.
Он наверняка переполнен впечатлениями, на него вдруг разом свалилось столько друзей! Но держится он бодро. И хорошо, что мы много говорим, так Паулю не нужно самому ничего особо рассказывать, и вообще, то, что он здесь, с нами, вовсе не странно, а очень правильно. Он просто смотрит, и улыбается, и кивает, но поглядывать на носки своих ботинок тоже не забывает.
– Зубы у него такие жёлтые! – шепчет Пит мне в ухо. Я пожимаю плечами.
– Он отличный, – шепчу в ответ. – Единственный разумный человек там, в Пластикбурге. Хороший парень.
– Влюбилась? – спрашивает Пит.
Делать мне больше нечего? Мне такое нужно как рыбе зонтик, честно!
– Не-е, не влюбилась. Пауль мне друг, – говорю я. – Вот как ты.
Мы стоим на улице, швыряем камешки в жестянку. Видят ли они Того Человека, спрашиваю я. Пит и Юлиус кивают, другие мотают головой, но как-то неуверенно, и подтягивают плечи к ушам.
– Угу, – мычит Барт, – бывает. Он же тут постоянно на велике ездит. Всегда со мной здоровается, но говорить с ним я ни о чём не говорил.
Издали доносятся удары колокола на церковной колокольне. Уже шесть, всем пора домой ужинать. Луиза говорит, можно пойти к ней, это будет совершенно нормально, но мне и Паулю есть не хочется, и потом – надо оставаться поблизости от дома, ведь когда-нибудь Тот Человек должен вернуться. Хочу, чтобы Пауль его увидел, а Тот Человек пусть увидит меня. Просто увидит, больше ничего. И только издали. До сих пор я не разговаривала с ним по телефону, не прочла ни одного его письма и запретила ему приходить к нам в гости. Но теперь пора! Он должен меня увидеть, должен увидеть, что у меня всё хорошо, что я в порядке, и пусть у него от этого разорвётся сердце. Пусть тоскует по мне, пусть придёт к нам с мамой и скажет:
Мы садимся на скамейку под вороньим деревом (правда, у ворон сегодня слёт где-то в другом месте) и играем в карты. В маули-маули, мою любимую игру. Объясняю Паулю правила:
– Если у тебя восьмёрка – пропускаешь ход, если семёрка – берёшь две новые карты, кто первый от всех карт избавился – тот и выиграл.
– Кажется, я эту игру откуда-то уже знаю, – говорит Пауль. – Она случайно не мау-мау называется?
Мы хихикаем. И тут на нашу улицу поворачивают два велосипедиста. Одного узнаю – Тот Человек. Другого – нет, это какая-то неизвестная мне дама, она смеётся во весь рот. Короткие волосы, большие глаза, и худая, вроде меня. Это что вообще такое? Я вскакиваю и бросаюсь прочь. Пауль хватает наш зоопарк и бежит вдогонку. Метров через двести я останавливаюсь. Оборачиваюсь и смотрю на них, как заворожённая. Просто невероятно! Тот Человек – и какая-то женщина. Я её никогда раньше не видела. Он что-то говорит, наверное, шутит (я знаю, когда он шутит, он похож на неуклюжего танцора, неловко двигает большими руками и смешно подёргивает плечами, но это ужасно мило), они дружно смеются и пристёгивают велосипеды. Дама кладёт руку на плечо Тому Человеку, и они исчезают в подъезде дома, исчезают в Мауляндии. А что там?
Там они, как я понимаю, сядут на наш сине-белый диван, будут есть с наших тарелок, шагать своими мерзкими ногами по моему старому голодному деревянному полу, трогать мои засаленные выключатели и смотреть на мир через мои окна.
Рот открывается сам собой. Раздаётся Мяв. Такой звук бывает, когда большие корабли отправляются в кругосветное плавание. Или когда поезд волочит сто пустых вагонов по старым рельсам. Или когда взрывают многоэтажный дом. Или когда случается всё это разом. Секунд через двадцать дверь подъезда снова открывается, Тот Человек выходит, оглядывается по сторонам и видит меня. Делает шаг ко мне, потом другой, идёт всё быстрее и быстрее.
Пауль положил руку мне на плечо, он совершенно сбит с толку. Он ещё не очень знаком с Маулиной. И с теми звуками, которые из неё рвутся. Но я тоже плохо понимаю, что происходит. И не знаю, что мне теперь делать. Вспоминаю своё Главное Правило: ни слова Тому Человеку! Поэтому кричу дальше. Я буду кричать, пока мне – ну пожалуйста, пожалуйста! – не придёт что-нибудь в голову.
Я кричу, и мне хочется, чтобы Тот Человек что-нибудь сделал, это его долг, но я-то с ним вместе ничего делать не буду, не буду – просто чтобы показать: я больше не на его стороне.
Пусть он наконец поймёт это и зарыдает, пусть сердце его увянет, как цветок в печи, пусть посмотрит на меня и на всё то, что он поломал и разрушил. Пусть упадёт на колени и молит о прощении, пусть сделает так, чтобы всё было опять хорошо. И пусть не смеётся и не ездит на велосипеде с другими женщинами, не пожимает для них плечами, не даёт им держать себя за руку. И пусть не обнимает меня! Но именно это он сейчас и делает. А я не унимаюсь, ни чуточки, я кричу дальше.
Потом всё-таки замолкаю. Но только потому, что больше не могу издать ни звука. Я выкричалась полностью. Во рту пустота, а в глазах что-то есть. Кажется, слёзы.
– Паулина. Моя Паулина, – говорит Тот Человек. – Я так по тебе скучал, котёнок Маули, – говорит он.
Я молчу. Тот Человек обнимает меня тёплыми руками, гладит, прижимает к себе, ерошит мне волосы. Я стою неподвижно, как столб, и смотрю в даль, в бесконечную даль. Перед глазами всё плывет. Я не знаю, что делать.
– Маули, котёнок, – говорит Тот Человек. – Ты здесь. Наконец-то ты здесь.
А мне хочется оказаться далеко-далеко отсюда. Это запредельно неправильно – быть здесь и чтобы Тот Человек меня обнимал. Ведь он получил меня сейчас забесплатно, с доставкой на дом, нисколько не напрягаясь. Я, как дура, стою у него под дверью, а он ездит на велике с какой-то женщиной и смеётся, и шутит, и, наверное, печёт для неё лучшие в мире блинчики с вонючим сыром и маулиновым вареньем. И тут я – прям вишенка на торте, пожалуйста, обнимай и щебечи, как сильно по мне скучаешь. Ложь, обман и врррраньё!
Я не отвечаю. Ничего не отвечаю. Вокруг тишина, слышно только дыхание Того Человека, жужжанье насекомых да чириканье птиц. Я молчу.
И тут посреди тишины раздаётся голос Пауля:
– Здрасти.
Тот Человек поднимает глаза, Пауль полсекунды глядит ему в лицо, а потом переводит взгляд на самую интересную в мире вещь – носы своих ботинок.
Ричи громко дышит, Ленни и Рой втянули в панцири всё, что можно втянуть. Пауль так и держит их в руках, словно каменные гамбургеры. Он говорит:
– Я – Пауль.
– Здравствуй, Пауль, – говорит Тот Человек, убирает с моего плеча одну тёплую руку и протягивает её Паулю.
Тот секунду колеблется, потом правой рукой суёт Ленни подмышку.
Хочу крикнуть «Не надо!» – но уже поздно. Да и не могу я ничего из себя выдавить. Ни слова не могу произнести. Любое слово будет неверным, оно задрожит в воздухе, как дрожу я, вся насквозь. Удивительно, почему на меня не нападает Мяв, почему не душит ярость, а только всё кружится? Почему руки-ноги не наливаются силой, не превращаются в когтистые лапы, почему я не могу пошевелиться, почему плачу, вместо того чтобы плеваться огнём и пускать дым из ушей?
– Ты, значит, Паулинин друг? – спрашивает Тот Человек.
Носы ботинок Пауля трутся один о другой. На полсекунды он поднимает взгляд на меня и говорит заикаясь:
– Я д… д… думаю… наверно… да?
– Это замечательно, – говорит Человек, он всё ещё держит руку Пауля в своей и пожимает её, как в замедленной съёмке. – А меня зовут…
ору я. Резко поворачиваюсь, вырываюсь из объятий Того Человека и бегу. Бегу, мчусь, несусь сама не знаю куда, просто бегу, бегу, бегу, ничего не вижу, ничего не понимаю, слышу только стук своих ботинок по булыжникам и стук в груди, и ещё как где-то далеко позади что-то кричит Тот Человек.
Потом замечаю, что рядом со мной мчится Ричи, язык на плечо. Значит, Пауль тоже рядом, мне не пришлось слышать душераздирающее имя Того Человека, мы почти в безопасности. Краешком глаза вижу, как взлетают руки Пауля – вверх-вниз, вверх-вниз… Господи, думаю я, Ленни и Рой, вы сегодня попали в настоящий черепаший луна-парк!
Моя мама – самая тёплая в мире, от неё исходит жар, по которому я могу узнать её среди миллионов, он совершенно особенный, у него свой собственный запах. Я лежу рядом с мамой на кровати, она гладит меня по голове.
– Что ж такое случилось, Паули? – спрашивает она.
Но я всё ещё не могу говорить. Могу только лежать рядом с ней и дрожать.
Горло болит, кричала-то я о-го-го как.
На улице уже ночь, а мы сидим при свете, на него слетаются бабочки, комары, мошки, они бьются в окно, хотят к нам, в Пластикбург. Какие же насекомые всё-таки глупые, думаю я. Вообще не чувствуют стиля. Как только где-нибудь зажигается свет, они тут как тут: эй, свет, вот и мы, нам всё равно, что тут всё из пластика и вообще ни красоты, ни уюта. Странные существа. Я бы лучше в темноте сидела.
Потом – незнаюсколькопрошловремени – открываю рот и шепчу:
– У Пауля есть собака. Ричи зовут.
Мама смеётся.
– Это же замечательно, – говорит она. – Ричи – отличное имя.
Я киваю и медленно, по-черепашьи, поворачиваюсь к маме.
– Мам, – шепчу я. – Тот Человек. Мы там были. Мы его видели.
На мамином лице остаётся только тень улыбки, она смотрит на меня, гладит по щеке и ждёт.
– Он ехал на велосипеде.
– Ты с ним говорила? – спрашивает мама.
Я негодующе вскидываю голову, с жаром шепчу:
– Нет! – И тут же снова падаю на подушку. – Он всё поломал, мам, – шепчу я. – И так уже всё поломал. А сегодня он ещё хуже…
Мама лежит рядом и ждёт. Просто ждёт, ни о чём не спрашивая. Я знаю, ей не всё равно, но она пытается сделать вид, что это так, ведь это было её решение. Или, по крайней мере, ей хочется, чтобы я в это верила.
– Он ехал на велосипеде… с какой-то женщиной. И делал так, знаешь… руками и плечами… И взял её с собой в Мауляндию. Это всё из-за неё! Представь, мам, может, она ходила босиком по нашему полу и садилась на гимнастический диван! Может, отмечала на двери свой рост! Понимаешь?
Мама долго смотрит на меня, прижимает к себе, обнимает, я слышу стук её сердца.
– И вы не поговорили? – спрашивает она. – Так и не поговорили?
– Мама, – отвечаю я, – я лежу тут, с тобой, в Пластикбурге. Так что догадайся сама.
– Не будь так жестока к нему, – говорит она.
Что?! Ушам своим не верю.
– Если я не буду с ним жестока, тогда кто? Ты всегда такая милая, мам, но толку от этого ноль. С ним все ужасно милые, а он – разрушитель и идиот, Человек без имени. Он сто раз мог всё поправить, но даже не попытался! И только потому, что я твоя дочь, я даю ему ещё один шанс – самый-самый последний.
Глава 16 Сногсшибательная тайна
Сегодня просто идеальный день: и воскресенье, и солнышко светит. Мы сидим в садике и всё время на что-нибудь натыкаемся, за что-нибудь цепляемся: ногами за стол, руками за живую изгородь, вилками и ложками за тарелки. Потому что в Пластикбурге всё крошечное, как в кукольном доме. В садике умещаемся только мы вдвоём и стол со стульями, с точностью до миллиметра. Ну и между чашками и блюдцами остаётся ещё место для жужжащих шмелей. Я успокоилась, снова вернулась в себя. И голос опять на месте. А Тот Человек – ну его! Пусть печёт блинчики, кому хочет.
Оглядываюсь вокруг, потом смотрю на маму и говорю:
– Знаешь, а в Пластикбурге вовсе не так уж плохо. Главное – что мы с тобой вместе.
Мама улыбается мне, нижняя губа у неё подрагивает. Вообще-то с такими заявлениями надо поосторожней: они и самую сильную женщину могут выбить из колеи. А в последнее время мама очень ранимая и грустная – ничего удивительного, я понимаю, мне тоже очень грустно. Она не хочет этого показывать, изображает сильную женщину, ну и ладно, не буду её смущать. И я продолжаю:
– Я тут провела небольшое расследование, и знаешь, что мне удалось выяснить? – На пару секунд замолкаю, но паузу не затягиваю. – Я узнала, почему тут в Пластикбурге всё так устроено. Оказывается, это была квартира для больной женщины. Тут жила женщина, которая сидела в инвалидном кресле, и ей нужен был пандус вместо лестницы, чтобы заехать в дом, а внутри – длинные ручки, для окон и всего. И знаешь, теперь меня всё это больше не раздражает. Тут ведь всё со смыслом, а не для того, чтобы меня позлить или потому что у кого-то вкуса не хватило… Только я вот чего не понимаю, мам, – почему именно мы здесь поселились? Наверняка есть много людей, которым нужно именно такое жильё, а его заняли мы. Надеюсь, мы этот дом ни у кого не отняли.
– Ах, Паули… – говорит мама, вздыхает и отпивает глоток кофе. Она подтягивает коленки к груди и ставит кружку сверху. – Ты всё правильно поняла. Ты права, в такой квартире должен жить тот, кому нужны все эти приспособления. Но…
Мама делает паузу, глядит в небо, высоко в небо, потом снова опускает взгляд и смотрит на меня, в глазах у нее снова слёзы. Но она старательно натягивает на губы улыбку:
– Ох, у меня в горле вот такущий комок…
Долго смотрит в кружку, а когда наконец начинает говорить, голос у неё дрожит так, как дрожал бы мой, если бы я вчера осмелилась заговорить с Тем Человеком.
– Но… – говорит она, – мы ничьё место не занимаем. Мы переехали из Мауляндии, потому что мне стало очень трудно ходить по лестнице.
Я смеюсь.
– Да ты что, мам, ты же совсем ещё молодая!
– Я знаю.
– И спортивная!
– Да. Спортивная, – говорит она. И замолкает.
– Я не понимаю.
– Паулина, я болею. И вчера весь день провела в больнице. Я больна. Вот поэтому мы и переехали в Пластикбург.
– У тебя такая тяжёлая болезнь, что ты по лестнице теперь ходить не можешь?
Я не понимаю. Или не хочу понимать. Впиваюсь взглядом в мамино лицо.
– Такая тяжёлая, Паули, что скоро, наверное, мне придётся сидеть в инвалидном кресле. И пользоваться всем, что есть в Пластикбурге. Вот об этом я и хотела сегодня с тобой поговорить.
Глава 17 Раньше всех будильников в мире
Ухожу на кухню, закрываю за собой дверь, отгораживаюсь от мира.
Накрываю кухонный стол из Мауляндии пледом из Мауляндии, под стол кладу красный круглый коврик из Мауляндии, на него – все вещи из Мауляндии, какие могу найти, всё забираю с собой в эту эрзац-пещеру. Настольная лампа из Мауляндии светит точно так же, как в моём королевстве. Мауляндскими восковыми мелками на обратной стороне стола продолжаю рисовать карту Мауляндии, совершенно секретную.
Во всём совершенно точно виноват Тот Человек, это он всё поломал. Вот и маму наверняка тоже.
Я просыпаюсь очень рано, задолго до мамы и всех будильников в мире. Встаю, одеваюсь. Завтракаю одна. Стоя, очень тихо съедаю немного кукурузных хлопьев с молоком. И выхожу из дома в утро, которое на самом деле ещё ночь.
Я бегу. Вокруг темно, прохладно и тихо. Слышны только мои шаги и больше ничего. Минута проходит за минутой – и ничего, только тук-тук-тук моих кроссовок.
Потом просыпаются птицы. Не поодиночке, то тут, то там, а разом, всей стайкой, как будто это само дерево проснулось и начало петь. Некоторые чирикают тихо и неуверенно, другие – во всё горло. И так – дерево за деревом, пока утро не становится одной-единственной звонкой песней. Солнце встаёт, и я думаю о том, что птицы наверняка верят: это они разбудили его своим чириканьем. Свет появляется потому, что они поют во весь голос. Наверно, они считают, что это и есть их главная в жизни задача.
На школьном дворе – ни души. Бегу к спортплощадке, бросаю рюкзак, залезаю на футбольные ворота. Усаживаюсь, дышу, думаю. Хочется заорать – но я не ору. Я напряженно размышляю: а какая теперь у меня главная задача?
Вчера мама мне кое-что прочла и дала брошюрку, где написано про её болезнь.
Мы ходили гулять, потом лежали и плакали, потом не знали, что нам делать, и стали слушать аудиоспектакли, расстелив в гостиной пледы на полу, да так на них и заснули. Проснулись почти одновременно, я чуть-чуть раньше. Я лежала и смотрела на неё, как она возвращается из сна: вот сжала губы, вот открыла глаза. Мама улыбнулась мне и призналась, что давно уже знает о своей болезни. Первый раз она почувствовала, что что-то не так, два года назад, когда я уезжала на каникулы. Тогда она вдруг перестала ощущать ноги и несколько дней провела в больнице. Потом ей стало лучше. С тех пор такие приступы повторялись дважды, но она про это никому ничего не говорила, даже Тому Человеку, потому что сама не хотела верить в болезнь и говорить про неё. Тут мама усмехнулась и сказала, что, наверно, надеялась: если не обращать внимания, болезнь сама собой возьмёт и исчезнет. Но нет, не исчезла, и она сильна. Её очередное возвращение – только вопрос времени. Это такая болезнь, сказала мама, которая наступает волнами, и раз от раза всё сильнее.
– Как прилив и отлив, такая уж это болезнь, – говорит мама. – И не нужно попусту волноваться, возмущаться или прятать голову в песок, это ничему не поможет. Да и лекарства тоже не очень-то помогают. Ничего не помогает, – качает она головой. И глубоко вздыхает. – Ничего нельзя сделать, – мама пожимает плечами. – Ну то есть совсем. Совсем-совсем-совсем-ничего-ничего. Одно только можно: принять это. И смириться.
– Почему ты мне ничего не сказала? – спрашиваю я. – Как же так, ты всё знала, а мне ничего не сказала? Это несправедливо.
Мама говорит, что она сама совершенно растерялась. Сначала ей надо было самой во всём разобраться, спокойно всё осмыслить, собраться с силами, чтобы мне рассказать. Ведь это же огромная перемена для нас обеих, вся наша жизнь перевернётся с ног на голову, навсегда. И её жизнь, и моя. Она сама не знала, как с этим быть, что делать и что говорить. И решила: уж лучше не говорить ничего, чем сказать что-то не то. Но если бы она мне сказала обо всём сразу, я бы сейчас не чувствовала себя такой маленькой, глупой и беспомощной, мы могли бы вместе сходить с ума, маме не пришлось бы притворяться сильной. И с самого начала было бы ясно: без переезда в Пластикбург не обойтись. Тогда я не вела бы себя как полная идиотка, не тратила бы столько драгоценного времени на нытьё и Мяв, а занялась бы делом вместо того, чтобы строить в саду башни из черепах.
Мама говорит:
– Я не хотела, чтобы на меня смотрели как на больную. Понимаешь? Пока ничего ещё не заметно, я хотела… просто хотела жить нормально, пока можно. Чтоб никто не смотрел с жалостью. Моё последнее нормальное время в жизни, понимаешь? Последний раз. И чтоб никто у меня этого не отнимал, никто.
– А я, значит, отняла бы, да?
– Я не то хотела сказать. Ты начала бы спрашивать, начала бы вести себя по-другому, даже если бы пыталась делать всё, как обычно. Когда знаешь про такое, не обращать внимания уже невозможно. И всё перестало бы быть как всегда.
– Не обращать внимания невозможно.
– Невозможно.
– Так и тебе тоже невозможно. Так что всё уже стало ненормальным. Ты делала вид, что всё нормально, но в тебе, внутри тебя всё было уже не так.
– Нет. То есть, немножко, иногда – да. Но вообще-то нет. Я научилась не думать об этом, забывать, отвлекаться. А потом оно стало накатывать снова и снова, и в конце концов я сломалась. Проплакала всю ночь и решила: ухожу. А твой папа и не знал, почему я плачу.
– Не знал, значит. Я тоже не знала. Почему ты ничего не сказала? Я же твоя дочь!
– Вот сейчас говорю.
– Ага, сейчас – через два года! Да за два года можно звездой стать и двоих детей родить!
– А Тот Человек? – спрашиваю я. – Когда он узнал?
– Он, – говорит мама, – тоже всего пару недель как знает.
Челюсть у меня отваливается.
– Так значит, я самая-самая последняя, кому ты сказала? Даже с Тем Человеком ты раньше поговорила! И вообще – ты с ним разговариваешь?!
Я стою перед раздевалкой в спортзале и жду. Чувствую себя черепахой, голова втянута внутрь, я закована в панцирь из ярости, залакированный мыслями о болезни, отполированный плохим настроением, плюс ещё рюкзак с несделанной домашкой. Вокруг вопят и скачут мальчишки, пахнет мокрыми кроссовками и потом. Бастиан, Карл и Вим играют в игру «кто громче захохочет другому в ухо». Если б не панцирь, спросила бы, не двинуть ли им по башке, чтоб мозги на место встали.
Я отрезана от мира, в голове крутятся вопросы. Как всё будет дальше? Что вообще будет? Как мы будем жить? Что за жизнь это будет? Мама в инвалидном кресле. Чему мне надо научиться, что я могу сделать, кто будет нам помогать? Тот Человек? Вряд ли. Я покажу им всем! И в первую очередь – этой болезни! Спорим? Мауляндия ещё далеко не потеряна. Вот наловчусь – и буду буксировать маму на пятый этаж, легко.
Всё это – вопрос тренировки, думаю я, и вдруг кто-то вырывает у меня из рук мешок с формой для физры. Меня разворачивает, и я со всего размаха плюхаюсь на пол, на пятую точку. Яннис Динстер, идиот из идиотов, ржёт, хлопая себя по коленкам.
Он бросает мешок Лучиано, Лучиано – дальше Кубичеку, а тот – Анне-Лене. Она мешок ловит, но перебросить дальше не решается.
– Сюда кидай! – кричит ей Яннис.
Поднимаюсь с пола, выпрямляюсь, медленно подхожу к Яннису, он всё ещё ржёт, а я думаю: «Сейчас, дружочек, ты смеяться перестанешь».
Мешок снова в воздухе.
Я могла бы сожрать вас, червяки, щенки, гномы, сожрать и не подавиться, вы же даже не догадываетесь, с кем имеете дело. Стою прямо перед Яннисом. Медленно втягиваю воздух: вдох – выдох. Вдох – выдох. Можно было бы устроить Истошный Мяв прямо сейчас, в эту секунду. Чувствую, как на затылке встают дыбом волоски, зубы сжимаются… Разнести бы всю эту школу по камешкам, но я поклялась – никогда, никогда больше не устраивать Мяв в школе. Может, то, что происходит сейчас, – это испытание, проверка, смогу ли я в самое первое утро после страшной новости сохранить спокойствие, не реагировать на придурков вроде Янниса. Силы мне нужны для другого – для мамы, для Того Человека, для осуществления плана. Поэтому я ещё раз делаю глубокий вдох, выдох и рычу, очень спокойно:
– Мешок.
– Ага-а-а-а, сейчас! – кривляется Яннис. – Он так классно летает! Ты лови давай!
Сжимаю правую руку в кулак, замахиваюсь – и тут слышу голос Пауля.
– Отдай ей мешок, – говорит он. И смотрит вовсе не на носы ботинок, а прямо в лицо Кубичеку.
Позади Пауля стоят Толстяк, Длинноволосый и ещё один парень. Все минимум года на три старше нас. Кубичек, похоже, сейчас в штаны наделает. Он быстро сует мне в руки мешок и бурчит:
– Сорри.
Жабы и гномы по имени Яннис, Кубичек и Лучиано топчутся в коридоре, никчёмные, как шапки-ушанки летом. Яннис пялится на свои руки, вертит ими, словно впервые видит. Пауль прищёлкивает языком, пристально смотрит на мальчишек – и кивает на дверь в спортзал. Все трое отчаливают.
– С этими слабаками я бы и сама справилась, – сообщаю я Паулю.
И ухмыляюсь. Пауль ухмыляется в ответ.
– Окей.
И переводит взгляд на ботинки.
– Паулина, можно с тобой поговорить?
Тут подходит училка физры и отпирает раздевалки.
– Момент, – отвечаю я.
Переодеваюсь в дурацкие шорты, короткие и широкие. С тоской вспоминаю гимнастику на бело-синем диване. А на уроке у нас спортивные снаряды.
Сначала разминка, играем в «беги-замри»: по свистку носимся по залу, по свистку замираем. Мы с Паулем оказываемся рядом у брусьев, он застыл в неудобной позе: одна нога над полом, руки высоко подняты.
Я киваю ему и шепчу, не шевеля губами:
– Так что?
– Я хотел спросить, – говорит Пауль почти беззвучно, стараясь поменьше двигать ртом, – может, ты… в субботу… придёшь… на мой день рожденья?
Снова свисток. Мы бежим. Опять свисток. Расходимся на снаряды. В очереди Пауль оказывается за мной.
– Пф-ф-ф, – выдыхаю я. – Сейчас мне как-то не до праздников…
– Окей, – говорит Пауль, и я тут же понимаю: если больше ничего сейчас не скажу – прощай, солнышко на его лице. Так что добавляю:
– Но на твой день рожденья, Пауль, на твой день рожденья я с удовольствием приду!
Солнышко взошло, да ещё как!
– Значит, договорились? – спрашивает Пауль.
– Договорились, – киваю я. – Когда к тебе приходить?
– Я за тобой зайду. И мы вместе туда пойдём.
– Туда?
– Угу, туда, – кивает Пауль. И хитро улыбается.
– Оке-е-ей, – говорю я.
Глава 18 Просто жить дальше
Покупаю эклеры и отправляюсь к деду.
Генерал на кухне. Кофемашина тихонько бульбулькает, мы барабаним по столу до боли в ладонях, потом устаём и просто сидим друг против друга. Кофемашина постукивает в ритме нашего барабанного боя, начинает хрипеть и плеваться, коричневый напиток переливается через край. На маленьком холодильнике стоит Генералов кассетный магнитофон.
– Включай, – говорит дед, и я нажимаю на пуск.
Сажусь на свой любимый стул напротив Генерала, мы едим эклеры и молчим. Я не знаю, с чего начать. Столько всего надо сказать и спросить. Дед громко смеётся и наливает себе кофе. Я наливаю себе молоко, мы обмениваемся ухмылками, Генерал добавляет мне в чашку чуток кофе, а я ему – молока.
Потом дед закрывает глаза и вслушивается в музыку. Локти он поставил на стол, голову положил на руки, нахмурился, кивает в такт, губы изображают все инструменты оркестра разом. Видно, как на руках у Генерала встают дыбом длинные пепельно-седые волоски.
– Ах, – вырывается у него, и я знаю: в этот момент деда охватывают вспоминания о ней.
– Я помню, – говорит он, – всё помню… Её шутки. Её глаза. Маленькое ловкое тело, губы, и запах солодки, и аромат аниса.
Это он про мою бабушку, я её не знаю, она – мама Того Человека, но он тоже её никогда не знал.
– Я скучаю, – говорит Генерал, – скучаю по её быстрому сердечку.
Тогда, давным-давно, во Франции, она услышала, как он играет на маультроммеле во дворе за блинной, тихонько обошла дом и встала рядом, а потом начала подпевать, притопывать и прихлопывать. Потом они потанцевали, совсем недолго, и это стало началом их невероятной истории. Её кульминация на данный момент – это, собственно, я. Так утверждает Генерал, он пишет мне это в письмах и на открытках ко дню рождения.
– Дед, – говорю я.
Генерал выныривает из недолгих грёз и смотрит на меня.
– Что ты сказала? – переспрашивает он.
– Пока почти ничего. Но надо многое обсудить… Вот ты вообще-то ещё шеф?
– Шеф? Да никогда я не был шефом!
Генерал мотает головой, борода с малюсеньким опозданием мотается вслед за ней.
– Точно?
– Точно. Я к такому не приспособлен. Шефом быть? Ни-ни-ни!
– Но ты ведь мог бы кое-что сказать своему сыну?
– Ясное дело, ты ж меня знаешь, у меня всегда есть что сказать.
– Нет, я имею в виду – ты ведь можешь ему приказать? Ты же его отец и к тому же Генерал.
– И приказать могу, ясное дело. Только он меня не послушает. Даже когда маленьким паршивцем был, вроде тебя, – и то ничего не слушал.
– Жаль… – говорю я.
– Тебя что-то тревожит, Паулина?
– Даже не знаю, с чего начать.
– Ну, я в таких случаях всегда начинаю где-то с середины. Потом рассказываю почти до конца, перепрыгиваю к началу, а когда никто уже не соображает, что к чему, – вот тут как раз самое место грандиозному финалу. Может, так попробуешь?
Я улыбаюсь Генералу и говорю:
– Меня пригласили на день рожденья.
– Отличное начало, с самой середины, прям дух захватывает, – рычит Генерал.
– Ну да, и я не знаю, что подарить.
– Ха, так это проще простого! Ты – Маулина, Принцесса Мауляндская, тебе полагается дарить всякие мауштуки, – говорит Генерал.
Он отодвигается от стола, разворачивается на стуле, наклоняется, будто чайник, из которого осторожно наливают заварку, – и медленно поднимает левую штанину.
На середине икры у него затянуто что-то вроде ремешка, за который засунуты маультроммели – очень-очень маленькие, очень маленькие, просто маленькие и побольше. Пальцы Генерала перебирают их, как в танце, потом выхватывают один – крошечный, серебристый. И прежде чем штанина опускается обратно, Генерал уже склоняется над столом, поближе ко мне, и между нашими носами посверкивает мауштучка.
– Вот этот, – басит Генерал, довольно усмехаясь. – Возьми его. Исландский, китовая кость, подарок твоего прапрадедушки.
Засовываю маультроммель в карман. Пункт первый выполнен.
– Мама заболела, – говорю я.
– Да, – говорит Генерал.
– Что?! – вскрикиваю я. – Ты знаешь?
– Я подозревал.
– Как это?
– Я замечал, что она как-то странно двигается. И папа твой про это говорил.
– Тот Человек, – поправляю я.
– Тот Человек?
– Твой сын.
– А, ну да.
– А мама тебе про это говорила? – спрашиваю я.
Генерал прячется за чашкой.
– Это правда серьёзная болезнь, – говорю я. – Такая серьёзная, что скоро маме нужно будет инвалидное кресло. И от этой болезни она когда-нибудь… ну ты понимаешь…
– Умрёт, – говорит Генерал. И я киваю.
Считаю вдохи-выдохи, которые делает Генерал. В голове такое ощущение, будто в ней кто-то на флейте играет, причём неумело.
– У троих человек из десяти, – вдруг заявляет Генерал и поднимает указательный палец над головой, – у троих из десяти хоть раз в жизни были глисты, а они даже не подозревали об этом. Пятерым из десяти время от времени снятся жуткие овощи, так что они плачут от страха. Двое из ста надевают в душ надувные нарукавники. А один из одного – умирает. Так уж устроена жизнь.
Он прищуривается, глядя на меня, и достаёт из нагрудного кармана стёклышко, похожее на половинку от очков, это называется монокль. По словам деда, он достался ему в 1963 году…
Дед глядит на меня через монокль.
– Тебе страшно, – говорит он.
Я сижу не шевелясь.
В магнитофоне шуршит пустая плёнка, потом раздаётся щёлк! – и кассета закончилась.
– Ты боишься. За маму. За себя. За весь мир. Так ведь, правда?
– Ну да, – говорю я и помешиваю своё молоко с капелькой кофе. Потом начинаю болтать ногами под столом, туда-сюда, туда-сюда, ступни шаркают по полу. Вот бы случилось чудо, вот бы разом нарушились все правила, а все проблемы просто исчезли. Но у меня предчувствие – ничего такого не произойдёт. От этого грустно, по-настоящему, очень-очень грустно. От того, что я ничего не могу сделать, от того, что я слишком слаба, чтобы отвоевать обратно Того Человека и Мауляндию, чтобы прогнать болезнь.
Сырный генерал обнимает меня и говорит:
– Вот ведь какая штука… Жизнь – она ведь никогда не останавливается, всегда продолжается, хоть как-то, но продолжается. И хочешь не хочешь, а приходится принимать то, что она преподносит. И хорошее, и не очень. Это и есть главная премудрость, Паули: принять то, что есть, найти выход – и жить дальше. Не обижаться и не считать, что всё происходит исключительно для того, чтобы тебя помучить.
– А зачем тогда вообще всё происходит? – спрашиваю я.
Дед пожимает плечами и усмехается.
– Да я и сам не понимаю. Просто… живу дальше.
– Как шмель, – вдруг говорю я.
Генерал на секунду задумывается и опять усмехается.
– Ну да, как эти мохнатые вертолётики. Жужжать себе вот так с цветка на цветок, тянуть хоботком нектар – ха, вот это жизнь, только представь себе! Тёплая и сладкая, да ещё и летать умеешь.
Шмели наверняка самые счастливые существа на нашей планете. И притом глупее их тоже не найти. Соображать они ничего не соображают и всегда в хорошем настроении, просто так, без причины. Во рту – мёд, в ушах – гул, как от мотоцикла, а мир вокруг – полон цветов. Ты видела когда-нибудь шмеля в плохом настроении? Чтоб он злился или беспокоился? Вот то-то! Потому что шмель знает: после этого цветка его ждёт другой, следующий. Очень даже просто. И обязательно найдётся что-нибудь хорошее, и, скорей всего, это будет большой красивый горшок с вареньем.
Я задумываюсь. Шмели мне нравятся, они толстенькие, кругленькие и шумные. Они умеют жалить, но почти никогда этого не делают. Если шмеля разозлить по-настоящему, он переворачивается на спинку и недовольно гудит, всё громче и громче, это такой шмелиный мяв. И высовывает жало. Вот так шмели сердятся.
Интересно, а может ли шмель заблудиться? И часто ли с ним такое случается? Я думаю – часто! Шмели устроены по-своему, залететь не туда – это у них почти запланировано. И наверняка бывает, что шмеля заносит в открытое окно, и он вдруг оказывается в доме, а вовсе не на улице или в саду среди цветов, кустов, птиц и коллег-шмелей. А выхода не находит. Тогда шмель часами летит на окно, одно и то же окно, без устали, немножко туповато и в то же время не напрягаясь. Он просто ждёт, когда же найдётся решение, – может, окно откроется или дунет сквозняк, и его вынесет наружу.
Шмель знает одно: надо лететь в этом направлении, а если возникло препятствие, налетай на него, пока не пройдёшь насквозь или вдруг ещё как-то окажешься с другой стороны.
Вот такой вот жужжащий копуша в огромном мире. Шмель знает: выход найдётся! Где-нибудь да найдётся…
Глава 19 Вперёд, в атаку, и с Диким Мявом!
Коленки танцуют велотанец. День в разгаре.
Звоню в дверь Пита, объясняю ему свой план. Он должен позвонить Тому Человеку и сказать, что всё плохо, надо срочно ехать домой. Потому что, судя по всему, к нему в квартиру залезли грабители или ещё кто-то, в общем, дело дрянь, пусть приезжает поскорее и сам посмотрит.
Конечно, никто в квартиру не залезал, просто нужно, чтобы Тот Человек приехал, чтобы увидел то, что я хочу ему показать: меня и мой ор, мой легендарный приступ, точнее, взрыв Мява. А позвонить ему сама – или ещё как-то выманить сюда – я не могу, я ведь с ним не разговариваю.
Он не дождётся от меня ни единого слова, только ярость, только Мяв, только этого он заслуживает, потому что нельзя просто взять и уйти, когда становится трудно. Нельзя отворачиваться и бросать тех, кому тяжело, нельзя обзаводиться новой женщиной, смеяться с ней и кататься на велике. ТАК НЕЛЬЗЯ!
Сижу в кустах в конце нашей улицы и жду. Наконец появляется Тот Человек на велосипеде, он поворачивает к дому. Тогда и я вступаю в своё королевство, встаю посреди улицы, низкое солнце светит мне в спину, тень получается угрожающе длинная, чёрный-пречёрный предвестник Истошного Мява.
Чувствую, как покалывает в пальцах ног, будто они превращаются в кошачьи лапы, как отрастают когти, как раскаляются коленки, першит в горле и чешется язык. В голове – громы и молнии, среди них ерошится ярость, одежда становится тесной, а по спине скачет тысяча диких волков. Мне хочется рвать и метать, орать и рычать, кусаться, на всех бросаться, колотить-молотить, всех и вся колошматить и бить, с места сорваться, куда глаза глядят мчаться, бежать-бежать-бежать, а потом упасть и с земли не вставать.
Королевский сад дрожит, увидев мои лапы, я сбрасываю и переворачиваю всё, что попадается под руку, и тут, и там, то вазу, то стул, кажется, я уже не в себе и не очень-то понимаю, что происходит. Бью чем попало по чему попало, колочу по дверям, пинаю калитку так, что оконные стекла дребезжат, – вот тут-то всё и начинается по-настоящему. Когда Маулина готова устроить Мяв, она встаёт посреди сада, руки-ноги надуваются, вены как садовые шланги, кровь в них пульсирует, словно у тяжеловеса, поднимающего двухсоткилограммовую штангу, на спине вылезает и становится дыбом длинная тёмная щетина, под ней перекатываются горы мускулов, на плечах и ногах тоже – в Маулине просыпается медвежья сила. Она играючи вырывает из земли деревья (или хотя бы пучки травы – но большие, ОЧЕНЬ большие!), руками-лапами роет и роет землю, превращая свою норку под грушей в дальнем углу сада в Пещеру Ярости.
Ярость растёт и растёт, становится как небоскрёб, как цунами, как взрыв, как землетрясение, как извержение вулкана, как вселенская катастрофа.
Это не девочка, говорят про неё люди, это конец света, только посмотрите, как она кипит и клокочет, стоя по грудь в земле. Слёзы льются, стены шатаются, птицы разлетаются, тучи закрывают небо, скоро грянет гроза. Она должна выйти наружу, вылиться вся без остатка – эта дикая, истошная, необузданная ярость.
После Великого Мява в сад осторожно прокрадывается Тот Человек, он хочет взглянуть на величайшую в мире Мявунью, которой нет равных ни на одном из семи континентов. Наконец он отваживается посмотреть на неё. Паулина лежит в норке под грушей. Она спит. Она очень устала. Руки у неё грязные-прегрязные.
Тот Человек хочет взять девочку на руки, отнести её в дом, но тут она просыпается и шипит, как змея. У неё нет больше сил, но сдаваться она не собирается и впивается зубами ему в руку. Тот Человек отходит к калитке. Девочка слышит, как он говорит по телефону, и снова проваливается в сон.
Потом девочкин нос чует мамин запах, и Мяв бесследно испаряется. Она на заднем сиденье машины, едет в Пластикбург, там её ждут мягкие подушки и тёплое одеяло. Мама чем-то гремит на кухне. Пахнет горячим молоком, корицей и шоколадом.
Глава 20 Боль как жвачка
Мы сидим по-турецки на маминой кровати и едим хлеб с мёдом.
Я говорю:
– Вот не понимаю, почему ты не рассказала мне уже давно, с самого начала.
– Я не могла, Паули. Я сама вначале не хотела верить. Не могла никому рассказать, даже выговорить невозможно было, понимаешь? Вся жизнь оказалась под вопросом, всё, что я есть, кто я есть. Вроде все мои силы со мной, я могу делать, что хочу, я сильная, я – это же я, а потом… Потом вдруг приходит врач и говорит: очень может быть, что в самом скором времени ты больше не сможешь ходить. И тебе понадобится всевозможная помощь. И со зрением тоже возникнут проблемы. Вот это всё.
– Но с Тем Человеком ты всё-таки поговорила.
– Да.
– Это несправедливо.
– Паули, я решила от него уйти и должна была объяснить, почему я это делаю.
– Вот это я ВООБЩЕ не понимаю!
– Я тоже до сих пор не совсем понимаю. Но по-другому было нельзя. Я не хотела быть слабой, больной. Не хотела, чтобы наша любовь постепенно разрушалась. Просто не хотела этого, а хотела ясности, определённости, чтобы уж отрезать раз и навсегда, а не так… Вот представь: ему придётся за мной ухаживать, а мне придётся эту помощь принимать, не противиться ей. Кто знает, как это получится, смогу ли я нормально с этим жить или мне это будет в тягость… Я не смогу давать ему то, что он хочет получать от жизни, не смогу радовать и буду только мешать. А я не хочу мешать, не хочу разрушать его жизнь. Он же не смог бы уйти сам, ведь я болею, а больных нельзя просто так взять и бросить. Я не хотела всего этого. Не хотела видеть, как всё, что у нас было, всё, что мы есть, наша Мауляндия – и вообще всё – летит в тартарары и рушится. Поэтому пришлось так поступить.
– Нет, ты правда чокнулась. Чушь редкостная.
– Паулина, послушай. Я знаю, ты на моей стороне, ты тут, со мной. Но было бы лучше, если бы ты когда-нибудь переехала к па… к Тому Человеку.
– Нет.
– Ладно. Но ты про это всё-таки не забывай. Тот Человек есть, ничего ужасного он не сделал, и тебе не за что его наказывать. Он тебе не чужой, ты ему не чужая, а со мной…
– Нет. Нет, нет, нет. НЕТ! И всё равно: ты должна была мне сразу всё сказать!
– Да, наверное, ты права. Я только… я думала, это будет немножко чересчур – взять и вывалить на тебя всё сразу. Расставание, переезд… ещё и это.
– А кто говорил, вот только что говорил, что лучше взять и отрезать разом? И что именно этого ты не хотела – чтобы боль тянулась как жвачка, да?
– Ах, Паули, иди ко мне, – говорит она, чуть-чуть улыбается и обнимает меня, и руками, и ногами, а я думаю: долго ли она ещё сможет так делать?
– Сегодня пятница, наплевать на всё, чистить зубы не будем, – говорит мама.
Уже ночь, пора спать и видеть странные, непонятные сны. Подушки мокрые, мы гладим друг друга. Нос уткнут в мамину грудь. Волосы щекочутся. Мы перебираем друг другу кудряшки в темноте. Делаем из одеяла пещеру, тихонько смеёмся, храпим, просыпаемся, моргаем, вглядываемся во тьму.
Ночь. Темнота. Бесконечно много мамы. Много-много мамы и много-много меня. Мы перемешались руками и ногами в её постели, под её одеялом, гладим друг другу спину, нюхаем затылок. Мы – дома (хоть и в Пластикбурге).
Её ноги, уже час я держу их на руках, пристально рассматриваю, массирую, разговариваю с ними, глажу, пощипываю и тихонько царапаю. И – не понимаю. Роняю на них слёзы, ругаюсь, рассказываю им о прежних временах и о том, что будет завтра, обо всех наших походах и планах, шутках, веселье и усталости. А они – молчат в ответ.
– Ещё что-нибудь хочешь поделать? – спрашиваю я маму.
Но она качает головой.
– Спать. Я устала, та-а-ак устала…
– Тогда спи, – говорю я. – А я займусь твоими ногами, вдруг во мне всё-таки есть волшебные силы, тогда ты завтра проснешься – и всё снова будет хорошо.
Я чувствую, как она уплывает в сон, ощущаю слабое подёргивание мускулов, слышу, как она причмокивает, уже во сне, пытаюсь представить, что за образы возникают сейчас у неё в голове. Держу её руки, чую её дыхание, вижу движения глаз за веками, хотя через пластиковые окна проникает только лунный свет. Наполовину разматываю с шеи шарф и оборачиваю им мамины ноги. Не знаю точно, зачем. Наверно, чтобы её согреть. Чтобы ей стало ещё теплее. Или чтобы вылечить её – а вдруг в шарфе есть тайные целительные силы?
Я её дочка, она моя мама, и я шепчу клятву, которую ей не надо слышать: что я всегда буду рядом. И мы вместе начнём жить этой новой жизнью.
– Мы справимся, мама, – говорю я и дотрагиваюсь кончиком пальца до её носа. Она мотает во сне головой, отгоняя мой палец, словно муху, и поворачивается на бок, укрываясь моими руками, как одеялом, увлекая меня за собой.
Глава 21 Кому праздник, кому – Мяв
Сижу дома, жду, когда за мной зайдет Пауль.
Дни рожденья – это бэ-э-э. Сказать, как я ненавижу дни рожденья? Все эти звонки с поздравлениями, на которые хочешь не хочешь, а надо отвечать, и раннее вставание, потому что всю ночь не можешь толком заснуть от волнения, и мамины слёзы из-за подгоревшего пирога. Ненавижу часами благодарить за подарки и делать вид, что радуешься срезанным цветам, хотя уже живот болит от пирогов и тортов.
На моём дне рожденья мы бы ели маулиновое варенье и мауроженое, маурошковый маульмелад, играли бы в маульбинтон, на маультроммелях и в маули-маули. И всё, ничего больше. День рожденья – это ведь просто день. Ну, может ещё послушали бы кошачий маульцерт. Но на этом уж точно всё – и конец деньрожденному безобразию!
Иду на кухню и начинаю печь для Пауля торт-маулавейник. Это довольно сложно, но на такое безумие я согласна.
Рассказывать дальше, как я ненавижу дни рожденья?
Я ненавижу малышовые игры, сосиски на гриле, освобождение от домашних заданий и расползающиеся куски торта с эм-энд-эмсом внутри. Ненавижу, когда каждый учитель переспрашивает и поздравляет. Ненавижу бесконечно повторяющееся перечисление подарков. Ненавижу, когда меня приглашают на праздник, и ненавижу, когда других приглашают, а меня – нет.
Ненавижу бег в мешках, жмурки, эстафеты, викторины и испорченный телефон.
Ненавижу воздушные шарики и клоунов. Ненавижу задувать свечки, закрывать глаза и загадывать желания перед всеми гостями. Ненавижу конфетти, серпантин и соломинки для лимонада. Ненавижу венские сосиски и картофельный салат. Ненавижу, что кто-нибудь непременно начинает рыдать – чаще всего сам именинник, просто потому, что он устал до предела. Ненавижу деньрожденные песенки (все), дурацкие шапки-колпачки, флажки и поздравления. Ненавижу подарочную бумагу, бантики и ленточки. Ненавижу, когда бодрые родители всё-всё распланировали, даже веселье и игры, и указывают, когда пора пить и есть, а когда смеяться.
Ну вот, кажется, всё. Надо было выпустить пар.
Что я подарю Паулю?
Корзинку со всякими мауштуками и маунструментами. Там будет исландский маультроммель, пакетик сушёной маурошки, маулиновые карамельки и всякая всячина для маугента-детектива: удостоверение, лупа, набор для обнаружения отпечатков пальцев, накладные усы, лента для огораживания места преступления, перчатки, фонарик. Ну да, и торт-маулавейник.
Глава 22 Тра-та-та от всей души
– Тра-та-та от всей души, – говорю я, открыв дверь и увидев Пауля.
– Спасибо, – отвечает Пауль. – Не фанатка дней рождений, да?
– Вроде того, – говорю я. – Да вообще ничего не фанатка. Я сейчас не самый счастливый человек на свете.
– Окей, – кивает Пауль. – Тогда идём, я тебя заражу хорошим настроением, оно у меня сегодня, как у колибри под кофеином.
– Чего? – округляю я глаза, а Пауль пожимает плечами.
– Я и сам толком не знаю. Так мой папа всегда говорит.
Я киваю и начинаю натягивать куртку, но тут мама зовёт:
– Эй, друзья дорогие, зайдите-ка, пожалуйста, в дом. Тут в холодильнике кое-что лежит!
– Точно, торт! Чуть не забыла.
– Можно? – спрашивает мама. Пауль ничего толком не отвечает, и она просто берёт и обнимает его, целует в щёку. – Поздравляю, милый Пауль. Будь счастлив, – ласково мурлычет мама, как будто у неё самой всё отлично.
– Оке-е-ей, – говорит Пауль, – спасибо.
Глаза и носы ботинок у него, как всегда, будто связаны тоненькой леской.
– Садитесь, – говорит мама, мечет тарелки и приборы на пластиковый стол и достаёт из холодильника торт.
– Чтобы не было недоразумений, скажу сразу: торт делала не я, а Паулина. Я-то печь совсем не умею, нисколечко.
(Это правда.)
Пауль пробует кусочек, и глаза у него широко распахиваются.
В первый раз вижу у него такие огромные глаза.
– Прям прилечь хочется, – объявляет Пауль, облизываясь. Мы с мамой неуверенно переглядываемся. Что это значит? Ну так и ложись, хочу сказать я, но Пауль объясняет, что так всегда говорит его папа, когда ему что-нибудь ну очень-очень нравится.
Тогда понятно. Пауль смотрит на свои мужские кварцевые часы:
– Но на прилечь нет времени, нам пора, Паулина.
Мы шагаем по большой улице, мимо офисных аквариумов, мимо супермаркетов и заправок, мимо закрытого мебельного магазина и пиццерий с доставкой на дом. Всё-таки хорошо, что с Паулем не нужно непрерывно болтать. Наверняка можно обо всём ему рассказать, только это необязательно. Просто идти и молчать – это совершенно нормально.
– А мы вообще-то куда направляемся? – интересуюсь я.
– В Макдоналдс, – говорит Пауль.
– Куда-куда? – переспрашиваю.
– Мы там будем праздновать.
– Ты… серьёзно?
– Классно, правда? Это я так захотел.
Отмечать день рожденья в Макдоналдсе?!
На лице у Пауля – солнечно-жёлтое счастье. Пф-ф-ф, ну ладно, думаю я. Хуже обычного дня рожденья точно не будет.
– Заказывай всё, что хочешь, – говорит мужчина по имени Мигель, папа Пауля. – И ты, конечно, тоже, юная леди.
И подмигивает мне.
Пауль заказывает. На всех. Все – это он сам, я, Мигель, ещё один человек по имени Йоахим, немолодой и довольно толстый, с седоватой бородой, и ещё двое мужчин, которые не представились, сели за другой стол и всё время внимательно за нами наблюдают. Пауля они поздравили и теперь просто сидят, иногда тихонько переговариваются и играют во что-то на мобильниках.
Йоахим на вид вполне симпатичный, но я не понимаю, что он делает на этом… хм-м, празднике. Картошка фри, бургеры, молочные коктейли, кола, фанта, наггетсы и мороженое. Кетчуп, майонез, охапка соломинок.
– Чтоб полный стол был, у меня сегодня день рожденья, – говорит Пауль.
Девушка за кассой придвигает нам подносы.
– А, это ты наш именинник! – говорит она. – Сюрприз подойдет буквально через минуту.
Пауль подпрыгивает на каждом шагу, таким я его никогда ещё не видела. Вот точно колибри под кофеином, жёлтая улыбка от уха до уха, лицо красное и довольное. Каждые две минуты Пауль меняется бургером со своим папой, они жуют, чавкают и хвалят этот нектар, эту еду богов, это замечательнейшее изобретение человечества.
Они улыбаются друг другу, а потом Мигель обнимает Пауля, очень крепко и долго, и говорит:
– У меня есть для тебя подарок, отличный подарок, только я его сегодня не смог принести, сынок, он пока ещё у меня. В следующий раз принесу, окей?
– Окей, – говорит Пауль, – конечно.
А Йоахим говорит, что знает, что это за подарок, и Пауль непременно ему обрадуется.
Совершенно непонятно, кто такой этот Йоахим. Может, дядя Пауля или ещё какой родственник? Но ни на именинника, ни на Мигеля он совершенно не похож. И вообще, зачем Мигель притащил их с собой, Йоахима и этих двух других типов, которые только сидят, скучают и тычут толстыми пальцами в экраны телефонов?
Почему друзей пригласил не Пауль, а его отец? Это же день рожденья Пауля, а не Мигеля.
Странно мы смотримся в этом заведении – четыре дядьки и два ребёнка. Мигель вроде бы с нами, а вроде и не совсем. Каждые три минуты он отвлекается от происходящего и на немножко погружается в себя, и тогда мы остаёмся в компании трёх мужчин перед столом, заваленным едой в картонных коробочках, которая на вкус в основном как кетчуп. Всё это странно, но в то же время – даже интересно. Я внимательно слежу за происходящим, к тому же меня радует Пауль, он просто весь светится от счастья.
Хороший день, думаю я.
А потом оно всё-таки происходит: появляется клоун. Это прыщавый десятиклассник, я видела его на школьном дворе. На нём идиотский костюм Роналда Макдоналда, в руках – маленький торт.
Только не петь, думаю я про себя, пожалуйста, только не петь.
К счастью, клоун просто говорит:
И уходит. Уф, пронесло!
– Хотите поиграть? – спрашивает Йоахим, переводя взгляд с Пауля на меня и обратно.
Я не могу удержаться и громко фыркаю.
– Не-е-е, – отвечает Пауль, – и так нормально. – И загружает в рот очередную порцию картошки.
– Как живётся, сынок? – спрашивает Мигель.
Лет ему, наверное, столько же, сколько маме, но вид усталый, глаза красные, кожа бледная. На стуле он сидит немножко наискосок, а когда улыбается, в уголках рта собираются симпатичные морщинки.
– Хорошо, очень даже хорошо, – говорит Пауль. – У Ричи тоже всё хорошо. У Паулины есть черепахи, и мы видимся почти каждый день.
– Ну, это здорово, – говорит Мигель и улыбается мне.
Йоахим нарезает торт и пододвигает каждому кусочек.
– А у тебя как? – спрашивает Пауль.
– Тоже всё нормально, – отвечает Мигель, улыбается и смотрит на Йоахима. – Ну то есть как… По-разному бывает. Но сейчас всё хорошо.
Он откусывает от торта, поднимает брови и говорит:
– Суперский торт! Разве что кетчупа чуток не хватает. – Обмакивает кусок торта в кетчуп и откусывает: – М-м-м-м-м!
Мы хором смеёмся, даже скучные дядьки за соседним столом, а я думаю: это самый странный день рожденья, на котором я была. А что, если вся моя жизнь теперь будет такой – торт с кетчупом, учителя с бабочкой, мама в слезах и с безответными ногами, я с суровой дисциплиной и жёстким планом тренировок (по затыканию пасти, вставанию на горло собственной песне, приглаживанию шерсти на хребте и хвоста трубой), дни и ночи в Пластикбурге, маузидент без Мауляндии, разговоры, которые начинаются с «окей», им заканчиваются и состоят в основном из него же, но всё равно выражают всё, что надо сказать, дни рождения в Макдоналдсе, собака, не умеющая рычать, и сложнейший казус для маугента – дело Человека-без-имени и его велоподружки. Вдруг теперь вся жизнь станет такой – другой и странной? Сложной, трудной, новой – и больше никогда не будет нормальной?
Через час с хвостиком Йоахим глядит на часы и говорит:
– Ну что ж… Нам как будто пора.
Он смотрит на Мигеля, потом на Пауля, подмигивает, кивает и встаёт.
– Окей, – говорит Мигель.
– Окей, – говорит Пауль.
– Ну вот, – говорит Мигель.
– Да, вот, – говорит Пауль.
– Празднуй дальше, мой большой мальчик, – говорит Мигель.
– Ясное дело, – говорит Пауль и чуточку улыбается. Они обнимаются.
– Ты у меня молодец, – говорит Мигель.
– И ты у меня тоже, пап, – говорит Пауль.
Йоахим подает мне руку и кивает.
– До свидания, Паула.
Ну да, почти попал, думаю я. И отвечаю:
– До свидания, Йоханнес.
– Пока, Мигель, – говорю я, – спасибо большое за классные бургеры и за всё остальное. Рада была познакомиться.
– Я тоже рад, юная леди. Приглядывай за моим парнем, ладно?
– Само собой. Он мне нужен, мы же теперь вместе.
– Да ну?! – говорит Мигель и смотрит на Пауля большими глазами.
– Не в том смысле, – говорю я. – Мы коллеги…
Поворачиваюсь к Паулю:
– Подожду тебя на улице.
– Окей, – говорит Пауль.
Сижу на печальной, пустой детской площадке, кормлю голубей остатками картошки. Потом приходит Пауль и садится рядом. Он вытирает глаза.
– Всё в порядке? – спрашиваю я.
– Да, – говорит Пауль. – Да. Я просто скучаю по нему немножко. Сейчас пройдёт.
– Понятно, – говорю я и даю ему пару кусочков картошки – для голубей.
Пауль совсем не нытик, и Мява он не устраивает. Думаю, у него очень даже есть причины, и немало, чтобы злиться и орать, но он старается принять их, отнестись к ним по-дружески. Пауль из той же породы, что и Генерал, надо их познакомить. Они друг другу подойдут. Генерал любит поговорить, а Пауль – слушатель какого поискать. Оба любят и ценят торты-пироги, им нипочём ушедший автобус, дождь и всякое такое, от чего некоторым тут же хочется устроить Мяв.
– День рожденья был классный, честное слово, – говорит Пауль. – Так здорово, что ты пришла. И спасибо за торт и подарки. По-моему, никто ещё не пёк торт специально для меня.
– Да ерунда, – говорю я и думаю: это именно то, что я хотела сказать.
Я гляжу на Пауля: он сидит рядом, просто сидит, грызёт картошку, думает о чём-то, а где-то глубоко внутри – счастливый.
– Кстати, вот что: ты теперь член нашей команды, официально. Я уже поговорила с остальными.
– Правда?
– Ну да. Хочешь?
– А то!
– Добро пожаловать, – говорю я, а Пауль обнимает меня.
Ну и Пауль! Ух ты!
– Спасибо, – говорит он.
Пожимаю плечами, гляжу на двух голубей, дерущихся из-за кусочка картошки. Потом спрашиваю:
– А Йоахим, он вообще-то кто? И те два дядьки?
– Те двое – охранники. А Йоахим – папин куратор.
– Охранники? Куратор?
– Ну да, когда мы видимся, они должны быть рядом. Йоахим вполне нормальный, не то что те, которые раньше были. Отец с ним ладит.
– А зачем твоему папе охранники? Он что, звезда, что ли?
Пауль усмехается.
– Не-е, не звезда, но без них нам нельзя встречаться.
– Почему это?
– Ну, вот так вот.
Слышу дыхание Пауля. Он дышит тяжело, как будто на турнике подтягивается. У меня по спине бегут мурашки, и я говорю:
– Окей.
Между нашими кроссовками – муравьиная дорожка, она тихонько подрагивает, то тут, то там проползает заблудившийся жук, который ни сном ни духом о том, что вокруг происходит. Откидываюсь на спину, вытягиваюсь, делаюсь совсем плоской, щурюсь на ослепительно яркое солнце. Сухая трава под головой, в носу щекотка, небо высокое и почти белое, хрип и кряканье громкоговорителя в «МакАвто». Левой рукой ищу руку Пауля. Нащупываю его запястье.
Вот так вот.
Глава 23 Письмо с угрозами
ВСЁ, ЧТО БЫЛО ДОРОГО, СОЖЖЕНО И РАСТОПТАНО.
ВАША ЖЕНА ТЯЖЕЛО БОЛЬНА. ЕЙ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ.
ВАША ДОЧЬ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ.
ЕЁ ЗЛОСТЬ И ЯРОСТЬ ВЫШЕ ЭВЕРЕСТА, ЕЁ ГНЕВ МОЖЕТ РАЗДАВИТЬ ВАС, КАК МУРАВЬЯ… ПРОСТО, ЧТОБЫ ВЫ ЗНАЛИ, КАКОВО ЕЙ.
ВЫ ДОЛЖНЫ НАЧАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ.
НЕ НАДО ПОВОДИТЬ ПЛЕЧАМИ ПЕРЕД ДРУГИМИ ЖЕНЩИНАМИ, НАДО ЗАБОТИТЬСЯ О ТЕХ, ЗА КОГО ВЫ В ОТВЕТЕ.
МАУЛЯНДИЯ – НЕ ВАША СОБСТВЕННОСТЬ.
ВЕДИТЕ СЕБЯ БЛАГОРАЗУМНО. ТОГДА, ВОЗМОЖНО, МЫ ПОДУМАЕМ ОБ ОТМЕНЕ ВАШЕГО НАКАЗАНИЯ.
ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, С КЕМ ИМЕЕТЕ ДЕЛО, – РАДУЙТЕСЬ.
А ТО НАВСЕГДА ЗАБЫЛИ БЫ ПРО СОН. И ПРО СМЕХ.
На этом удивительные приключения запредельно невероятной, исключительно неповторимой, потрясающей, ни на кого не похожей Маулины Шмитт, конечно же, не заканчиваются.
Во второй части Маулина вместе с мамой отправляется в их последнее совместное путешествие, а Сырный Генерал помогает организовать ни на что не похожее предприятие. Маулина похищает зебру, чтобы образумить папу, и внимательно следит за тем, что происходит в её обожаемой Мауляндии. И вот однажды она просто отказывается верить своим глазам…
Финн-Оле Хайнрих / Раун Флигенринг
Удивительные приключения запредельно невероятной, исключительно неповторимой, потрясающей, ни на кого не похожей Маулины Шмитт.
Часть 2. В ожидании чуда
В третьей и последней части чего только нет: и великие тайны, и засекреченные рецепты потрясающих супов. Речь пойдёт о звёздах, о бесконечности, о жизни и смерти. Болезнь Клары больше не поддаётся лечению. Маулине приходится осваивать волшебство, ведь всё остальное уже не помогает. Но как и где можно этому научиться?
Финн-Оле Хайнрих / Раун Флигенринг
Удивительные приключения запредельно невероятной, исключительно неповторимой, потрясающей, ни на кого не похожей Маулины Шмитт.
Часть 3. Конец вселенной
Спасибо
Яну Оберлендеру, который уже десять лет первым читает все мои тексты, играет со словами, как Кинг-Конг в пинг-понг, и заставляет меня по-новому посмотреть на каждое из них.
Сигридюр Тоуре Флигенринг, которая, как никто другой, умеет отличать смешное от смехотворного.
Алине Маульфред Пойт – за огромное терпение во время наших обсуждений Маулины и Мауляндии.
Беате Хаас-Хайнрих – за то, что она для меня – как пещера, в которую всегда можно спрятаться.
Йетте Хайнрих, товарищу по пещере, – за умную голову. И не менее умное сердце.
Даниелю Бескосу, Штефани Эрике, Карле Фельгентреф, Андреа Херцог, Петеру Райхенбаху, Паулине Зельбиг и Натали Торнай.
А также: Гёте-институту в Копенгагене, Рейкьявику, объявленному ЮНЕСКО городом литературы, литературному бюро Люнебурга и министерству по делам науки и культуры Нижней Саксонии за невероятную поддержку и потрясающую помощь в урегулировании финансовых вопросов между Германией, Исландией и Мауляндией.
Об авторах
Финн-Оле Хайнрих родился в 1982 году. Ходил в школу в маленьком городке Куксхафен на берегу Северного моря, а сейчас живёт вместе со своими близкими и любимыми людьми в городе Гамбурге.
В университете Финн изучал, как делают фильмы, а по профессии он – придумщик историй. Он много ездит по Германии, показывает людям свои фильмы и читает отрывки из своих книг.
Раун Флигенринг родилась в 1987 году в Норвегии, в городе Осло, а выросла в Исландии. Там все зовут друг дружку только по именам. Даже в телефонной книге номер ищут не по фамилии, а по имени. Поэтому важно произносить «Раун» правильно, с раскатистым Р-Р-Р.
Раун рисует для детей и взрослых, для книг и журналов, делает открытки и постеры, разрисовывает целые стены и даже интернет.










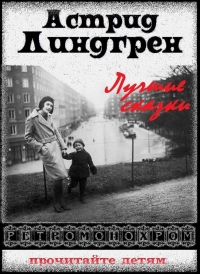



Комментарии к книге «Удивительные приключения запредельно невероятной, исключительно неповторимой, потрясающей, ни на кого не похожей Маулины Шмитт. Часть 1. Мое разрушенное королевство», Финн-Оле Хайнрих
Всего 0 комментариев