Войцех Жукровский Похищение в Тютюрлистане
Трое друзей
Посмотрите, из-за холма показались три фигуры. Что это за странные путники? Медленно перебирая ногами, они бредут по глубоким колеям песчаной дороги. По-видимому, они сильно устали. Их одежда и лица покрыты пылью.
Впереди идёт капрал Мартин Пыпец — петух, получивший отставку после недавней войны.
Мартин Пыпец служил трубачом. Каждое утро он играл на рожке побудку. На мундире капрала несколько выцветших ленточек — это награды за подвиги. Но что поделаешь, старость — не радость. Ему заплатили скромное жалованье, и он очутился за воротами казармы.
Конечно, если бы вновь началась война, для него нашли бы работу… Но теперь тихо, а тому, кто полюбил кочевую жизнь, трудно возвращаться к повседневным делам на птичьем дворе: сгонять кур к кормушке, считать яйца; три раза петь на рассвете, — торопить крестьянина выйти в поле.
Эх, не для него эта работа! Петух путешествует в поисках приключений. Его полинялый мундир заштопан во многих местах, зато боевой рожок на перевязи сверкает, как июльская луна, а хвост, в котором три поломанных пера, воинственно колышется в воздухе. Петух тяжело ступает, стуча подкованными сапогами. Шпоры царапают песок, затупленный клюв устремлён к славным подвигам. Известное дело — старый, поседевший в боях ветеран.
Мелким шажком идёт за ним следом грациозная лиса Хитраска. Прежде она была воспитательницей детей у владетельного индюка. Лиса знает иностранные языки: она говорит по-утиному, по-куриному, а как замечательно поёт!
Но ей не повезло: повидимому, она неправильно воспитывала молодых индюшат. Короче говоря, выгнали с позором.
Хитраска не любит вспоминать о прошлом. Теперь она мечтает о том, чтобы стать где-нибудь кухаркой: следить, как тушится жаркое, как поднимается тесто.
Поглядев на лисицу, не скажешь, что путь был труден: опрятный мех аккуратно приглажен, на голове — шапочка, в лапках — дорожная сумка и зонтик. На конце хвоста, словно мотылёк на шалфее, качается пунцовый бант. Вылизанная мордочка слегка припудрена, а может быть, это кажется, может быть, это игра лучей заходящего солнца.
Сзади всех плетётся кот — Мышибрат Мяучура, славный малый. Последние два года он служил на мельнице. Но несколько месяцев тому назад, после неприятного разговора с хозяином — кот и сейчас еще хромает, — Мышибрат окончательно убедился, что его услугами недовольны.
Мяучура глядит на длинную пустую дорогу, тяжело вздыхает, — пыль напоминает ему муку, сыплющуюся из-под жерновов, шорох деревьев — шум воды, падающей на буковое колесо… Но не вернёшь того, что было. Кота погубило доброе сердце.
Порой он останавливается, обтирая пучком травы запылённые сапоги, тихо мяукает, а потом, насвистывая, догоняет товарищей…
Куда они идут?
Они сами не знают.
А откуда идут?
Издалека.
Посмотрите. Тени зверей вытянулись, став длинными и тонкими, они опережают хозяев, чуя близкий ночлег; они уже слились с тенью леса. Петух поправил каску и стряхнул пыль с гребня. Багровое солнце скрывается за горизонтом. Надвигается ночь.
Ночлег под сосновой веткой
— Переночуем здесь, — сказал петух, указывая крылом на опушку леса. Заходящее солнце струило тёплый оранжевый свет. Ветер сгонял на запад расшалившиеся малютки-облака, где мама-туча расстилала перины. Облака сопротивлялись изо всех сил, капризничали, а некоторые начали даже плакать.
— Уже роса падает, — сказала Хитраска, вытягивая лапку, на которую облако уронило большую тёплую слезу.
— Надо бы поискать укромное местечко, — мяукнул Мышибрат.
— Я же вам сказал, мы переночуем на опушке, — буркнул петух, прибавляя шагу.
Землю окутывали тихие ласковые сумерки.
Когда звери остановились, Хитраска схватила чайник и побежала за водой. Стало совсем темно. На небе высыпало множество звёзд; они отражались в зеркале пруда. Лиса зачерпнула воды, несколько звёзд попало в чайник, и потом заваренный чай имел чудесный золотистый оттенок.
Меж тем Мяучура ломал сухие ветки, а капрал Пыпец вынул из узелка огниво и, сев на корточки, принялся разжигать костёр. Железо звякнуло о кремень, брызнули искры, огонь затрещал, зашелестел в сухих иглах. Язычок пламени двоился и троился и, наконец, начал лизать толстые сучья. Мяучура принёс хворосту и бросал и бросал ветки одну за другой, — огонь должен был гореть всю ночь.
Друзья устроились у костра. Шипел чайник, подвешенный на проволоке. Хитраска выщипывала мех для подстилки. Петух, достав ножик, нарезал хлеб.
— Друзья, — начал он, — мы должны быть довольны тем, что имеем… А пищи у нас немного… Могу вам дать по кусочку груши.
— Я уже забыла, как пахнут масло и сыр, — вытянула острую мордочку Хитраска, и влажный от грусти нос лисы начал светиться, словно на него села искра.
— А я забыл, как пахнет копчёная колбаса, — мяукнул Мышибрат.
— Копчёная в можжевеловом дыму.
— Ну, дым-то у нас есть…
— Дело только за колбасой.
— Друзья, — строго начал капрал Пыпец, — не будем унывать, ведь у нас есть горячий чай, в плавают звёзды, словно липовый цвет, и свежий хлеб, выпеченный на капустных листьях, и костёр, у которого мы греем лапы, и лес, который скоро убаюкает нас.
— Да, это не так уж плохо, — поддакнул Мышибрат, дуя на горячий чай.
— Это хорошо, — протянула Хитраска. Она отгребла хвостом шишки и растянулась около огня. Плутовка так держала хлеб, что красноватый отблеск пламени стекал по куску, словно малиновый мармелад. Чёрствую корку лиса ела медленно, с довольным выражением на морде, и Мяучура, глядя на неё, завистливо облизнулся.
Когда друзья немного отдохнули, капрал Пыпец сунул крыло за голенище и достал оттуда кисет из бычьего пузыря, потом вынул курительную трубку и стал набивать махоркой. Мяучура услужливо подал ему уголёк. Петух несколько раз затянулся и выпустил дым из клюва.
А вокруг вздымался молчаливый лес, высокие стволы сосен походили на шоколадные колонны. Порой, разбуженная светом костра, кричала какая-то птица и засыпала вновь, спрятав голову под крыло.
— Расскажи нам, за что ты получил эти ордена, храбрый капрал.
— Расскажи нам что-нибудь о походах, — просил Мяучура.
— Эх, верно, это были великие дела!
— Расскажи нам, не заставляй себя просить.
Петух гордо тряхнул гребнем и, попыхивая трубкой, начал: «Хм, о бы… Я расскажу вам о последнем походе на Блабону».
Загадочные сигналы
— это происходило сравнительно недавно, поэтому вы должны еще кое-что помнить… Я служил тогда трубачом в гвардии короля Толстопуза VII, да продлится его царствие, полк стоял в нашей столице Тулебе.
Это было прекрасное время. Что ни день — смотры и парады, что ни неделя — на площади в зелёном павильоне играет военный оркестр. Сначала и я там играл, но мой рожок слишком выделялся. Он опережал другие инструменты, его громкие звуки легко врезались в мясистые уши горожан, и жители долго потом не могли заснуть. Они скакали ночью на одной ноге, трясли головами, словно в ухе у них была докучливая капелька воды. Хватило бы одного звука моего рожка, чтобы пробудить их к великим подвигам. Но они предпочитали дремать за прилавками, где разноцветной рекой стекали с полок дорогие шелка. Предпочитали по вечерам прогуливаться около рынка, а в воскресенье слушать ласковые, как весеннее небо, вальсы.
С тех пор как мне пришлось уйти из оркестра, я с удвоенным усердием играл по утрам побудку. При первом звуке стаи голубей, хлопая крыльями, срывались с крыш. Однажды сама королева, светлейшая Клепония, велела мне предстать перед своим румяным ликом. Королева молвила: «Ваш рожок, отважный капрал, слышен на семь вёрст вокруг. Стёкла дрожат, плоды падают с деревьев, а люди невероятно быстро просыпаются. Мой повар так стремительно соскочил с постели, что сны не успели разбежаться, — старик очутился среди них и теперь не может отличить сна от яви».
— Я не щажу своих сил, ваше величество.
Королева только покачала головой. Она достала из шёлковой сумочки, вышитой бисером, комочек ваты. Разделила его на три части. Два куска ваты положила себе в уши, а третий затолкала глубоко в сверкающее горло моей трубы.
Еще никогда я не был так горд.
— Тссс… тише!.. — вдруг сказала Хитраска.
Все смолкли. Издалека послышался конский топот. Он раздавался громче. Какой-то всадник с факелом в руке промчался галопом по дороге и исчез за поворотом.
— Что это? — спросил Мяучура.
— У меня дурное предчувствие…
— Может быть, объявили войну, — у петуха загорелись глаза. Тихо зашептали разбуженные деревья. Мышибрат бросил несколько веток в костёр. Высоко к звёздам взметнулся огонь.
Когда все снова сели в кружок, Хитраска сказала петуху: «Но ведь ты должен нам рассказать о походе».
— К этому я и веду речь. — Капралу стало стыдно, что он время хвастался своей игрой на рожке. — А что касается похода, то дело было так.
В нашу столицу приехал в гости к королю Толстопузу властитель соседнего государства, Блаблации, — король Цинамон. Я вижу его, как сейчас: высокий смуглый мужчина в маленькой изящной короне, корона закреплена резинкой под подбородком, так как стоило только монарху наклониться над столом, — королевский убор обязательно падал в тарелку, погружался в соус, и расстроенные лакеи с трудом вылавливали его оттуда серебряными ложками.
О, я помню этот торжественный въезд! Впереди бежало множество скороходов с золотыми колокольчиками. Скороходы разгоняли толпу. Горожане со знамёнами и значками цехов в руках тесными рядами стояли вдоль улиц. Члены городского магистрата разостлали длинную малиновую дорожку в зелёную крапинку. Животы отцов города были перепоясаны золотыми цепями, словно они боялись лопнуть от гордости и самодовольства. Скороходы бежали бесконечной вереницей; мелькали красные и жёлтые штанины.
— Место для светлейшего короля Цинамона — властителя Блаблации!
Городская стража скрестила алебарды и, грозно шевеля усами, оттеснила зевак; стройными шеренгами проходили трубачи. Я даже помню торжественный гимн… — Тут петух откашлялся, полузакрыл глаза и запел:
«Бла-бла, бла-бла! Прекрасна земля. Прекрасны поля и ручьи, Деревья, цветы, соловьи. Прекрасней, чем прочие страны, Край наш заблабованный! Пусть вечно живёт Цинамон! Виват! Бла-бла, блабон!»
— Как это величественно! — вздохнула Хитраска. — Жаль, что нас там не было. Но скажи мне, что значит «блабовать»?
— Видишь ли, у них такой язык. Впрочем, его нетрудно понять. Вместо «мама» они говорят «блама», а вместо «папа» — «блапа». По этому сразу догадаешься, что ты в Блаблации.
— Ну, а дальше?
— Ха, дальше! Дальше ехала золотая карета, запряжённая шестью белыми, как снег, рысаками. Их хвосты были завиты в локоны и перевязаны атласными лентами. Когда король вышел из кареты, раздались крики. У горожан от волнения затряслись животы и зазвенели золотые цепи. Сверху, из замка, грянул сто двадцать один залп. Пушки были заряжены цветами. И на рыдающую от восторга толпу ливнем падали розы. По малиновой в зелёную крапинку дорожке навстречу дорогому гостю король Толстопуз, окружённый свитой. Потом началось пиршество; оно продолжалось семь дней и семь ночей. А на восьмой день случилось то самое несчастье, которое вызвало войну. Не знаю только, могу ли я вам об этом рассказывать, ведь это государственная тайна!
Роковая игра
— Расскажи, милый Пыпец, — просили звери, — расскажи. Доверить нам тайну — равно что бросить камень в колодец…
— Обо всём этом я случайно узнал от королевского ключника. Его мучило любопытство, и он подглядывал в замочную скважину.
Дело было так:
— Король Цинамон, может быть, мы махнём партию в шашки?
— Можно, король Толстопуз, можно, только говорю заранее, что я мастер по части шашек.
— Вот `здорово, а я как раз хотел тебя предупредить, что во всем королевстве нет равного мне игрока.
— То же самое и у меня в Блаблации. Я звал к себе самых лучших игроков из дворян и из простого народа, и каждого из них я моментально побеждал. И знаешь, их ходы я всегда, предвидел. Я говорил: «Теперь ты пойдешь вот сюда… Теперь сюда…» И действительно, они ходили так, как я предсказывал.
Тут петух задумался.
— Мне кажется, — начал он снова, — дело в том, что противники королей были ослеплены оказанной им честью. Никто из них не осмеливался выиграть.
— Подать шашки, — хлопнул в пухлые ладоши король Толстопуз.
Их величества расположились за доской. Расставили шашки. Чёрные были сделаны из шоколада, а белые — из миндаля в сахаре. Каждый из игроков съедал выигранные шашки. Расположившиеся вдоль стен придворные, затаив дыхание и вытянув шеи, следили за игрой. Над головами королей, на золотом обруче, раскачивался попугай Ара.
— Будет игррра, будет игррра, — крикнул он хриплым голосом.
И игра началась. Осторожно игроки делали первые ходы.
— Шашка-пешка, — крикнул король Цинамон и схрупал кусок миндаля в сахаре.
— А теперь мой ход, — проворчал король Толстопуз и снял с доски шоколадный кружок. Игра оживилась. Через час на шахматной доске было довольно пусто. Противники долго думали, старательно измышляя западни. Король Цинамон почёсывал скипетром темя, а король Толстопуз время снимал корону и вытирал клетчатым носовым платком, — она ежеминутно становилась скользкой от пота. У одного оставалось две миндалины, у другого — две шоколадки.
— Отдохнём немного, — попросил король Толстопуз, положив руку на толстый живот, — у меня слишком сильно бьётся сердце при мысли о скорой победе.
— Что ж, отдохнём. Мой выигрыш близок, — шепнул Цинамон.
И оба поднялись. Король Цинамон сделал, разводя руками, несколько приседаний у открытого окна, а король Толстопуз тяжело упал в кресло. Нагретая корона соскользнула на пол. Весь двор бросился поднимать Корону передавали из рук в руки, дуя на пальцы, и целовали, извиняясь за неловкость. Однако это длилось недолго, потому что короли предвкушали близкий триумф. Но, усевшись на места, оба разом подняли головы и посмотрели друг другу в глаза. «Что это значит?» — воскликнули они гневно. На доске не хватало шашки из миндаля в сахаре.
В глазах у обоих мелькнуло подозрение, особенно злобное у короля Цинамона, который смотрел на живот короля Толстопуза так, словно он уже разглядел в недостающую шашку.
— Король Цинамон, у меня пропала шашка!
— Ты был близок к проигрышу и сам съел — Клянусь короной… — простонал Толстопуз VII.
— Так, значит, я выиграл, и не будем вспоминать об этой глупости.
— Это не глупость, это гнусное преступление! — Толстопуз VII оглядел суровым взором побледневшие лица придворных: — Ха, кто из вас смел, бездельники?
Наступила глубокая тишина. Только слышно было, как с тихим шуршаньем вставали волосы на головах онемевших от ужаса дворян. У одного камергера началась икота, он прижимал руки к животу, в котором — хип! хип! — что-то скакало, словно надоедливая лягушка.
— Видишь, Цинамон, лучше признайся сам, ведь никто из них не подходил к доске…
— Что!? Я знаю этих негодяев! Они могли съесть глазами.
— В таком случае убирайтесь вон! — крикнул разгневанный Толстопуз. Голос его прозвучал так, будто он чихнул в пустую бочку. Перепуганные придворные постарались незаметно исчезнуть.
— Слушай, король Цинамон, это нужно выяснить, ведь тут задета моя честь.
— А моя не задета?
— В таком случае повернёмся спиной к доске и сосчитаем до трёх. И прошу тебя… Пусть миндалина найдётся.
— Я тоже тебе советую поискать в карманах.
Они повернулись друг к другу спинами.
Как раз в этот момент ключник заглянул в замочную скважину.
— Раз, два, три!
— Ох! — крикнули оба короля, с ужасом поглядев друг на друга. На доске не хватало одной миндальной шашки.
— Украл один из нас, — многозначительно произнёс король Цинамон.
— Только не я, — прохрипел, снимая корону, красный, как свёкла, Толстопуз.
— Так это, значит, я! — прошипел Цинамон и устремил на противника взгляд острый, как вилка, нацеленная на жаркое.
— Сам признаёшься?
— Ха, хорошенькое дельце!
Трудно порой приходится и королям.
— Ты оскорбил меня, — крикнул Цинамон, — только кровь смоет эту обиду!
— Я могу пустить тебе кровь, — простонал, плюхаясь в кресло, Толстопуз и тотчас вскочил, — в его тело вонзились зубья брошенной на сиденье короны.
— Я вышибу у тебя из головы эту мысль, — крикнул Цинамон и щёлкнул Толстопуза скипетром по темени.
— А я тебя… — поперхнулся Толстопуз и ударил пухлой ладонью по щеке Цинамона.
— Так его, так его! — закричал обрадованный попугай и захлопал крыльями.
Тут в комнату вбежал ключник и, упав на колени, завопил громким голосом: «Ваше величество, я видел вора!»
— Это он!
— Это он! — короли показали друг на друга.
— Нет, ваше величество, это попугай!
Ара, услышав обвинение, ринулся ввысь, к подсвечнику, и начал клювом дёргать за фитили. Свечи погасли. Комната окуталась мраком. Под самым потолком метался попугай: — «Каррра! каррра!»
— Слишком поздно, король Цинамон.
— Слишком поздно, король Толстопуз.
— Молчи о том, что здесь произошло, или я прикажу сделать из тебя паштет! — крикнул Толстопуз ключнику.
— Я буду нем, как могильный камень, как рыбка. Я буду молчать, ваше величество.
Тогда в зловещей тишине были произнесены слова, которые возвестили страшное время для двух народов.
— Так, значит, война.
— Война.
Той же ночью король Цинамон тайно уехал из Тулебы, а на стенах города, на рассвете, были расклеены афиши:
— Ооох, — пискнули чьи-то испуганные голоса.
Треснула перегоревшая веткам и сноп искр взметнулся над тлеющим костром.
— Тихо! — шепнула, наклоняясь, Хитраска. — Тихо малыши!
— С кем ты разговариваешь? — спросил удивлённый Пыпец.
— Не обращай на меня внимания, это я так, под впечатлением, — лиса погладила лапкой по меху.
— Рассказывай, рассказывай дальше, — просил Мышибрат.
Война началась
Петух выколотил пепел из трубки, сухой травинкой прочистил чубук и снова набил трубку табаком.
— После того, как была объявлена мобилизация, на улицах появились демонстранты. Они несли огромные плакаты с надписями: «Не отдадим Тютюрлистан!», «Все под алебарды!», «Берегитесь шпионов!». Все жители уже знали о двух сороках, которые хотели выведать, долго ли после захода солнца ворота города остаются открытыми.
Величие момента было написано на лицах членов городского магистрата, шествующих за приказаниями во дворец. Толпы кричали «ура», играли оркестры, женщины бросались солдатам на шею, целовали всех гвардейцев, которых издалека легко можно было распознать по блеску панцырей и звону шпор. Каждый, кто с воинственным видом что-нибудь острое в руках, становился почти героем; его забрасывали цветами, и он ходил по улицам, осыпая угрозами врага. Аплодисментами приветствовали даже щупленького старичка, который, изрядно хлебнув вина, ходил с банкой маринованных рыжиков. Тогда же избили бляшечника, известного мастера по чеканке значков и блях, потому что одно только «бля» казалось всем очень подозрительным.
До поздней ночи город шумел, как растревоженный улей: скакали гонцы, хлопали двери арсенала, на городских стенах сверкали факелы усиленной охраны. Мы готовились к войне.
На следующий день на рассвете армия должна была выступить в поход, но в десять часов утра длинные очереди стояли перед мастерскими, и портные, набрав полный рот булавок, перешивали мундиры, в которые не влезали пузатые тела горожан. В Западных воротах уже происходило торжественное прощание. Все желали нам победы над врагом.
Армия двинулась в поход, ослепляя пестротой нарядов и ошеломляя воинственностью духа. Правда, оружия было маловато, так как издавна не велось войн, ружья заржавели, сабли затупились, а в шлемах хозяйственная жена одного из маршалов позволяла наседкам высиживать цыплят. Но зато в обозе ехали сотни повозок, гружённых бочками с вином и с мёдом, издалека доносились крепкие запахи копчёных колбас и грудинки, розовые гирлянды сосисок приветливо болтались на ветру, в воздухе носились тонкие ароматы тортов и пирожных, припудренных ванильным сахаром. Утомлённые аппетитными запахами, мы вскоре вынуждены были сделать небольшой привал. На зелёных лугах, неподалёку от городских стен, мы разбили палатки, — и началось пиршество. То и дело из города подбегали отстающие и присоединялись к нам. При виде обильных яств, под которыми прогибались столы, они расстёгивали пуговицы и отпускали пояса.
Наконец, под вечер наша армия, разгрузив наполовину тяжёлые обозы, двинулась в сторону границы. Мальчишки неохотно возвращались в город. Сыновьям было жаль расставаться с воинственными отцами, прощаться с ними накануне сражений. Сорванцы обещали друг другу догнать утром медленно движущуюся армию, чтобы быть свидетелями предстоящих событий. На городских стенах, словно чайки, развевались платки; множество карих и голубых глаз источало слезы при виде войск, удалявшихся по пыльной дороге на Запад. Извиваясь пёстрой лентой, армия исчезала за высоким лесом.
Налетел ночной ветер, он старался осушить платочки, но — увы — огорчённые дамы так щедро проливали слёзы, что вода во рвах быстро поднялась, благодаря чему значительно увеличилась обороноспособность города.
— Ооох, — грустно пискнул кто-то.
Хитраска шевельнула лапкой, словно смахнула что-то в подол.
— Что это? — спросил, шевеля усами, Мышибрат.
— Так, ничего, тебе показалось, — буркнула Хитраска. — Ты заметил что-нибудь, петух?
Но капрал Пыпец, устремив свой взор в прошлое, слышал уже лязг оружия начинающейся битвы.
— Я помню события так ясно, словно происходило на прошлой неделе. Под вечер — это была среда — наши войска столкнулись с неприятельским разъездом. Мы приближались к Блаблации. У границы, на пригорке, окружённый грядами подсолнухов стоял трактир «Под копчёной селёдкой». Издалека был хорошо виден столб дыма, уходящий в синее небо. Несколько человек из числа самых проголодавшихся, с позволения короля, поскакало что было мочи к трактиру. Слезая с лошадей, они увидели вражеских солдат, удирающих в заросли подсолнухов. Начатый торт и открытые бутылки лимонада свидетельствовали о том, что противник преспокойно пировал под самым нашим носом.
Доблестные рыцари покончили сперва с оставленной едой, а потом с громкими криками ринулись в погоню. Пленных они, правда, не привели, но с тех пор мы удвоили бдительность.
Когда войско расположилось лагерем, я трубил каждый час, и многочисленные караулы отвечали мне в темноте; «Эээээй! Не спим!»
Армию изнурила долгая дорога; и понятно, — громкое храпение наших солдат заглушило стук пушечных колёс и обозов приближающегося вражеского войска. Под покровом темноты блабланцы расположились против нашего лагеря на расстоянии полёта камня.
— Эх! Совсем по-иному происходила бы битва, не будь позорной измены.
— Измена! — воскликнули звери.
— Да, измена, — вздохнул петух и с презрением плюнул.
Позорная измена козла
— Был в нашем лагере некий козёл, торговец. Поговаривали, что он внук известного ростовщика, но может быть, — это и неправда. Верно лишь то, что козёл был невероятно жаден и готов из-за денег пойти на всё. Грязный, бледный и худой, ходил он по лагерю, — жутко было смотреть. Он отказывал себе в пище, лишь бы сэкономить лишний грош. Козёл продавал подтяжки, подвязки, шнурки, краску для усов, почтовые открытки: на одних были изображены целующиеся голубки, а на других — великий тютюрлистанец, попирающий ногой груду поверженных блабланцев. Одним словом, на его лотке было всё, что необходимо воину на поле брани. Козёл пощипывал седую бородку и, щуря хитрые глазки, нахваливал свой товар. Везде-то он умел втереться: даже нашему предводителю, самому графу Майонезу, он подарил небьющееся зеркало. Оно, правда, сразу лопнуло, потому что граф был огромного роста и не мог в него вместиться.
Эх, Майонез, какой это был солдат! Суровый и прямой. Он был так высок, что никогда не вскакивал на лошадь: каждый раз оруженосцы подводили коня под его расставленные ноги. Стременами он едва не касался земли, а когда хотел скакать галопом, вынужден был поджимать ноги под себя. Теперь уже нет такого вождя! За ним все пошли бы в огонь и в воду.
Капрал горестно задумался и в молчании стал выпускать изо рта клубы дыма. Наконец Мыщибрат, который был посмелее, тронул его лапкой: «Ты начал говорить про измену»…
— Так вот, — продолжал петух, — я и говорю…
В полночь из глубокой темноты вынырнули двое в масках. Под чёрными плащами, которыми они прикрыли фонари, тихо позвякивало оружие. За повозками раздалось условное блеяние, и к ним подкрался изменник-козёл. Потом все скрылись в кустах можжевельника.
Двое в масках были посланцами короля Цинамона.
— Слушай, козлишка, — говорили они, — измена изменой, но мы и без тебя знаем те тайны, которые ты можешь выдать. Самое главное, чтобы завтра исчез вождь. Убери любимца ваших солдат — графа Майонеза… Только он может нам повредить… Мы должны избавиться от него любой ценой!
— Сколько дадите? — прошипел козёл.
— Ну, — предусмотрительно ответил посланец, — половину того, что ты хочешь.
— Мало, — простонал предатель, — это очень мало.
— Хватит.
— Добавьте немного, милостивые господа, и клянусь вам своими рогами, что завтрашняя битва начнётся без графа.
Снова блеснул фонарь. Послышался звон монет, и люди в капюшонах исчезли. Козёл не спеша возвращался в лагерь. Его впалую грудь оттопыривал большой мешок с деньгами. Время от времени он любовно гладил его копытом.
* * *
— Рогатый сновал в темноте от палатки к палатке. Он пробегал там, где стояли ружья, валялись грудами палаши, щетинились воткнутые в дёрн алебарды. Предатель нагибался, выливал что-то из бутылки, звякал лезвиями мечей и снова полз между спящими в сторону королевского шатра.
Как раз в этот момент граф Майонез закончил военный совет, офицеры уже ушли, и король Толстопуз милостиво сказал: «Спи рядом со мной, граф, что-то мне не по себе…»
— Стыдитесь, ваше величество, вы никогда не были в большей безопасности, чем здесь, среди преданных вам солдат!
— Да, я знаю это, дорогой граф, но вдвоём как-то веселее.
Оба улеглись. Король расположился на ложе, устланном пышными перинами, а граф, суровый и прямой, как меч, растянулся на голой земле, едва прикрытой несколькими коврами и медвежьей шкурой. Полководец не раздевался, он снял лишь тяжёлые сапоги, а поскольку шатёр был маловат, его длинные ноги с узкими и плоскими ступнями — признак аристократизма — высовывались из шатра наружу, на свежий воздух.
Сильно утомившись за день, оба через минуту уже спали и видели во сне богиню Викторию, мчащуюся на колеснице и размахивающую лавровым венком.
Именно этого и ждал коварный козёл. Он осмотрелся вокруг; было тихо. Лишь где-то далеко перекликались часовые.
Козёл посветил фонарём и наклонился, — вождь беспокойно дрыгнул ногой: длинная борода предателя случайно коснулась ступни графа Майонеза.
— Хе, хе, хе, — засмеялся козёл, — посмотрим, как ты завтра будешь удирать из лагеря; завтра все будут смеяться над тобой, — скалил бородач жёлтые зубы.
Изменник достал из-за пазухи бутылку и облил ноги вождя жидкостью, алевшей в свете фонаря, словно свежая кровь.
— Хе, хе, хе, утром все узнают, что этот непреклонный вождь, такой требовательный к солдатам, предаётся в тайне изысканным наслаждениям и мочит ноги в малиновом соку, хе, хе, хе…
Может быть, козёл рассмеялся слишком громко, может быть, звякнула бутылка, только в тот момент, когда он хотел бежать, чья-то тяжёлая ручища опустилась на его шею.
— Чего тебе здесь надо? — спросил часовой.
— Ничего… Я только так…
— Эй, ко мне! — крикнул часовой. — В свете фонаря солдат увидел ноги вождя, облитые красной жидкостью, — на помощь! Измена!
И тут воин остолбенел, потому что козёл, желая скрыть следы своего преступления, стал быстро слизывать малиновый сок.
Раздался оглушительный хохот графа Майонеза: его подошвы нестерпимо щекотал шершавый язык изменника.
— Что тебе приснилось, граф, — спросил проснувшийся монарх, — над чем ты смеёшься?
Граф хихикал и, давясь от смеха, пытался поджать под себя ноги, но козёл не выпускал их из копыт и быстро слизывал сок.
— Смеётся тот, кто смеётся последний, — с важностью сказал король, потому что он верил: пословица — это народная мудрость.
— Го-го-го, — рычал граф.
— Не говори «гоп», пока не перескочешь, — начал король Толстопуз, но, слыша усиливающийся хохот, засмеялся сам.
— Ну, будет, будет, милый граф, — просил он, отирая слезу.
— Хи-хи-хи, — пищал вождь.
— Перестань хоть на минутку, — умолял обеспокоенный король.
— Ха-ха-ха, — громыхал Майонез.
Тогда король Толстопуз схватил большую подушку, бросил на голову вождю и отважно уселся сверху.
— Мой лучший военачальник помешался, — простонал он.
В эту минуту стража увела связанного козла. Сбежались офицеры. Не чувствуя больше щекотки и ослабев от приступа смеха, граф лежал совсем тихо. В сердца адъютантов закралось подозрение, с беспокойством они смотрели на вождя.
Лагерный врач доктор Сенес дал ему снотворного.
— Представьте себе, если бы такое случилось с ним на поле битвы, — тогда катастрофа!
— Ах, это было бы ужасно! — сетовали приближённые.
Заснувшего графа уложили на повозку и закрыли множеством одеял.
— Когда он пропотеет, пройдёт, — бурчал себе под нос доктор Сенес. — Если ему не станет легче, дам слабительного.
— Господа! Это должно остаться в тайне!
— Нет, — возразил врач, — если кто-нибудь принимает слабительное, то этого не скроешь.
— Я имею в виду предательство козла.
— А! Ну, конечно… Но как мы объясним отсутствие вождя?
— Чепуха! Скажем, что он сбежал.
— Нельзя! Это вызовет панику.
— Скажем правду, скажем, что болен.
— Не годится, все захотят отложить сражение.
— Тогда скажем, что его похитили блабланцы.
— Блестящая мысль! Завтра мы начнём битву! Я напишу воззвание к войскам: «Тютюрлистанцы! У нас похитили вождя, этот позор можно смыть только кровью, кровью побеждённого врага!..» Впрочем, уже истекают последние часы отдыха… Идите вздремнуть, господа. Завтра нам предстоит тяжёлый день.
После этих слов король отправился в шатёр; на душе у него стало так тоскливо и одиноко, что он решил написать письмо королеве Клепонии. На каждой запятой король потягивал носом, а на каждой точке на бумагу скатывалась большая и горькая слеза.
— Что же стало с козлом?!
— После битвы этого негодяя приговорили к отсечению рогов и продали, как самую обычную козу, одному бедному гончару. Дети пасут теперь козла около городской стены, привязав его за верёвку. Вспоминая об измене, они бьют эту тварь палкой по спине, а козёл блеет: «Не бееей! Не мууучай!»
Величайшая битва в истории Тютюрлистана
В костёр подбросили веток. Алое пламя взметнулось вверх. Удобно подвернув хвост и подперев лапкой мордочку, Мышибрат улёгся поближе к теплу, а петух рассказывал о величайшей битве в истории Тютюрлистана и при этом так размахивал крыльями, что огромные тени метались по стволам сосен.
— Когда утром рассеялся туман, мы увидели сверкающие панцыри блаблацкой пехоты. Разноцветные знамёна развевались по ветру. В центре на чёрном, как ночь, скакуне гарцевал король Цинамон. Он скипетром указывал на наш лагерь. Одна за другой затрубили трубы. Наши пехотинцы строились четырёхугольниками, на флангах ржали лошади, горожане-кавалеристы с большими усилиями, подставив табуретки, забирались в золочёные сёдла. Многие воины бежали, застёгивая пояса, многие упаковывали на повозки перины, подушки и столовое серебро.
Король Толстопуз, как был в туфлях с зелёными помпонами и пёстрых подштанниках, так и выбежал из шатра. Его величество спешил вскарабкаться на коня.
— Солдаты, — крикнул он, — я написал к вам воззвание, но сейчас не время, прочитаю его после битвы! Вперёд, на врага!
И король поскакал галопом, но тотчас же был схвачен верными придворными; они силой стянули монарха с коня и надели на него доспехи.
— Урра! — закричали солдаты. — Да здравствует наш король! — Ударили барабаны, и пехота двинулась в атаку.
От могучего шага наших колонн гудела земля. Бабахнули две мортиры.
Взлетела огромная стая перепуганных ворон и закрыла чёрными крыльями солнце.
— Да здравствует король! — кричали солдаты. Проходя мимо его величества, они подбрасывали в воздух шляпы с перьями и простреливали их на лету, — этим они хотели доказать свою меткость.
— Государь, кавалерия пошла в атаку, — закричал, подбегая, адъютант барон Пармезан и тут же упал: шпага запуталась у него в ногах. К пострадавшему тотчас подскочили санитары, мокрым платочком смочили большую шишку на лбу барона. Бой обещал быть кровавым, первый раненый был налицо.
На флангах мелькали наши кавалеристы. Тютюрлистанские скакуны мчались навстречу блаблацким гнедым. Издалека были слышны яростные крики всадников, прильнувших к конским гривам. Пехота остановилась и дала последний залп. Патронташи были пусты. Солдаты набивали стволы землёй, пуговицами, огрызками яблок. Многие из них, те, что имели чувствительные сердца и не могли смотреть на падающих врагов, прежде чем спустить курок, предусмотрительно зажмуривали глаза.
А кавалерия приближалась. Крики слились в нечеловеческий вой, от которого мурашки пробегали по коже. Это орали всадники, не в силах удержать мчащихся лошадей.
— Прочь! С дороги! Убегай, или тебя сомнут!
По побледневшим лицам было видно, что противники боятся столкнуться друг с другом. К счастью, умные лошади разминулись и направились к сочным лугам, расположенным неподалёку. Там скакуны остановились столь внезапно, что кавалеристы стремительно полетели носом в траву. Рыцари бросили коней и, спешившись, ринулись в гущу сражения.
— Вперёд, — крикнул ротный, — вперёд, за Бла!.. — и не докончил, — выстреленное с близкого расстояния гнилое яблоко угодило ему прямо в нос. Среди пыли, грохота и суматохи столкнулись обе армии, грудью наступая друг на друга. В воздухе носились снаряды. Побеги кукурузы, помидоры, гнилая свёкла и комья земли барабанили по шлемам. Какой-то монах со связкой сушёных грибов в руке призывал к стойкости колеблющуюся пехоту.
А за нашими спинами, на холме, из трубы постоялого двора «Под копчёной селёдкой» мирный дымок поднимался в небо, и хозяин, господин Завтрак, готовя обед, ежеминутно выбегал на порог, — сквозь заросли подсолнуха он следил за ходом битвы. Ему было равно, кто победит. Так или иначе победители придут к нему пировать. Он даёт сражающимся два часа сроку. И не кончись бой до часу дня, Завтрак очень бы огорчился, потому что высохшее жаркое и подгоревшие соусы утратили бы свой вкус.
Как раз в это время спешившаяся кавалерия напала на врага. Запыхавшиеся воины останавливались на мгновение, отирали орошённые потом лица и хватались за сабли.
И тут послышались крики: «Измена! Измена, господа, измена!»
Несмотря на все усилия рыцарей, мечи не обнажались. Бойцам пришлось, не доставая оружия, бить врагов ножнами по головам. А если кому-нибудь удавалось вытащить саблю, то ею невозможно было сражаться, так как клейкое и тяжёлое остриё прилипало к воздуху, липло к бородам и усам возмущённого врага. Это предатель-козёл налил мёду во все ножны, сделав тютюрлистанскую армию почти безоружной.
Нет ничего удивительного, что наша кавалерия, сражаясь за каждую пядь земли, избивая противника кулаками, бросая приклеившееся к волосам оружие, медленно отступала.
— Победа! Победа! — орали блабланцы и напирали сильнее. Какой-то толстяк, прижатый со всех сторон к дереву, снял с ноги высокий сапог и бил им подбегающих драгун.
Заслышав громкие крики, Завтрак подгонял слуг: «Быстрей накрывайте на столы, их уже добивают!» Он не знал, кто кого добивает, но хотел поскорее окончить приготовления.
Поражение нависло над армией. Но вдруг раздались радостные вопли: «Папа, не поддавайся!! Смотри, как он упарился! Заходи сзади!!!» Это подбежали сыновья героических горожан, чтобы посмотреть на сражение. Издалека они услыхали звон оружия, треск выстрелов и могучее кряхтение бойцов. Последние семь вёрст мальчишки мчались рысью, высунув языки. Сорванцы остановились на холме и, глядя на поле битвы, переступали от восторга с ноги на ногу. Иногда они засовывали пальцы в рот и свистели так пронзительно, что у всех мороз пробегал по коже.
Юные тютюрлистанцы не могли оставаться без дела. Один из мальчишек достал из кармана рогатку и подбил каштаном глаз какому-то блабланцу.
Остаток нашей конницы был оттеснён к изгороди постоялого двора, и тут тютюрлистанцы начали вырывать с корнем подсолнухи и бить длинными стеблями по головам наступавших солдат, во все стороны полетели листья и кострика. Получив столь решительный отпор, враги стали отступать. Жестоко избиваемые, они часто падали: так ловко подставляли блабланцам ножку пронырливые мальчишки, пробегая за их спинами. Увидев, как редеет войско, противник в панике побежал, бросая мечи и теряя шлемы.
Мальчишки ударяли палками по панцырям и производили неимоверный шум. Потом они построились гуськом и отправились торжественным маршем на батарею, где главный пушкарь Пукло зажигал пушечные фитили от своей курительной трубки.
Когда Завтрак открыл двери трактира и с поклоном пригласил; «Господа, прошу к столу», — он увидел только поломанные подсолнухи и пожилого блабланца: бедняга не мог убежать, — его огромная шпора запуталась в бороде, и он сидел на корточках, тихо постанывая.
Завтрак позвал слуг; они быстро обошли поле битвы и собрали богатую добычу: несколько шлемов, которые можно было использовать вместо горшков, две рапиры, годные на вертелы и на кочерги. В кустах были найдены три пары брюк, брошенных там при паническом бегстве. Брюки, понятно, пришлось нести кончиками пальцев и на большом расстоянии от себя.
* * *
— В центре героически сражалась наша пехота. На правом фланге около полковника Перната находился я. — Тут петух гордо поднял клюв. — Враг так густо осыпал нас пулями, что я каждую минуту вытряхивал их из своего рожка. Полковник Пернат выскочил вперёд и, сверкнув моноклем, крикнул, очевидно, желая нас раззадорить: «Что, боитесь короля Цинамона?!» — «Нет», — гаркнула обиженная гвардия. «Тогда, вперёд!» — И мы бросились в атаку.
Тем временем мальчишки вертелись около пушек. Сын старого портного Узла, маленький веснущатый Узелок и его приятель, рыжий Прыг, пытались заглянуть в жерло, но когда один из них, встав на цыпочки, радостно пищал: «Я вижу ядро! Я вижу ядро!», — другой, завидуя приятелю, толкал его плечом, и оба падали на землю. Пушка подскакивала, зарево било в небо, и свистящее ядро пролетало над их головами.
— Прочь отсюда, сопляки! — рявкнул главный пушкарь Пукло. — Что вам здесь надо? Хотите собственными головами набить жерла?
С поля битвы прибежал королевский адъютант барон Пармезан. Его парик почернел от порохового дыма. Со слезами на глазах он умолял: «Огня, огня, господа, больше огня!»
А тут, как назло, кончились ядра!
— Эй вы, юнцы-малыши, — гаркнул Пукло, — толкайте в ствол, что попадёт под руку!
Мальчишки подскочили от радости, а рыжий Прыг сунул два пальца в рот и так пронзительно свистнул, что все упали ничком, думая, что подлетает вражеское ядро.
Узелок подмигнул приятелю, и оба побежали к полевой кухне, схватили там огромный котёл и высыпали в ствол семь тысяч галушек с маком.
Главный пушкарь Пукло зажёг фитиль. Грянул выстрел. Над полем битвы разостлалась чёрная маковая туча, в которой зловеще шумел галушечный град.
Вскоре туча осыпалась на убегающую пехоту. Воины скользили, падали, фыркали и плевались, доставая из носа и ушей липкое тесто. «Это не достойно рыцарей! — кричали они. — Безобразие! Мы не можем сражаться в таких условиях!» По лежащим бежали новые шеренги и тоже падали; росли копошащиеся груды врагов, на которые тютюрлистанцы налетали с удвоенным азартом.
Солнце висело над самым полем битвы, и жара становилась невыносимой.
Неожиданно король Толстопуз с раскрасневшимся лицом, прикрытым тяжёлым забралом, встал посреди поля и крикнул: «Остановитесь!»
Тогда все начали шикать: «Тссс,… Тссс…» Битва постепенно затихла, и дышать стало легче.
Король Цинамон пробился сквозь гущу сражающихся и, став против короля Толстопуза, тоже поднял руку и тоже крикнул: «Остановитесь!» Все замерли на месте; наступила глубокая тишина. Палки и мечи висели над головами; лежащие старались принять более удобную позу и тихо стонали.
— Не шевелитесь! — крикнул Цинамон. — Двигаться нельзя! Положение каждого будет зафиксировано комиссией!
Толстопуз VII соскочил с коня, сделал глубокое приседание и с трудом выпрямился, — так сильно мешали королю его рыцарские доспехи. Их величества медленно подошли друг к другу.
— Неплохо идёт, — просопел Толстопуз.
— Великолепно, — гаркнул Цинамон.
— Прошу извинить меня, король Цинамон, — начал в замешательстве Толстопуз VII, — но в этом шуме совсем теряешь голову, я уже целый час мучаюсь и не могу припомнить: из-за чего мы деремся?
— Как из-за чего? — шепнул изумлённый Цинамон. — Из-за миндальной шашки.
— Из-за такой глупости? — удивился Толстопуз.
— Как из-за глупости?! Я ведь съездил тебе скипетром по голове!
— Ага, вспомнил! Только не говори об этом громко, иначе они не захотят сражаться за нас, — и он указал рукой на солдат, не отрывавших взгляда от лиц монархов. — Так, так, так, припоминаю… — Лицо короля побагровело, — такое оскорбление… — Он затопал ногами. — Теперь я снова разгневан — мы можем биться! — И Толстопуз так стремительно опустил забрало, что прищемил свой лоснящийся подбородок.
Сражение продолжалось. Дрались яростно. В самом центре побоища пузатый портной Узел мужественно бился с толстобрюхим шлифовальщиком Амилькаром Оселком. Не в состоянии достать противника руками — мечи были уже сломаны, — они наскакивали один на другого и ударялись животами, рокочущими, словно военные барабаны…
И всё-таки перевес был на стороне блабланцев.
Я дрался, как лев. Я охрип от беспрерывной игры на рожке. Но при виде отчаяния, написанного на добром лице короля Толстопуза, я не удержался и затрубил вновь, чтобы поднять утомлённое войско в атаку.
Я заиграл наш бессмертный гимн:
«Майонез непобедим, Мы везде пойдём за ним. Пыл солдатский не угас — Провиант хорош у нас».Но это было уже последнее усилие…
Я не знал тогда, что голос моей трубы пробудил усыплённого лекарствами вождя. Полководец, заслышав гул близкой битвы, сбросил с себя одеяла и соскочил с повозки.
— Коня! Дайте мне коня! — кричал Майонез, застёгивая пояс.
Но лагерь был пуст. Все слуги убежали смотреть на сражение, а заодно и досадить чем можно врагу.
* * *
— В тылу, за постоялым двором, сидели на корточках оба юнца. Они стащили миску блинов с абрикосовым вареньем, и теперь, облизываясь, изобретали новую каверзу.
— Слушай, Узелок, я всё-таки выпущу их, — шептал Прыг, прижимая к себе кожаный мешочек.
— Я чувствую, что нам не избежать ремня, — меланхолически вздохнул Узелок, но глаза его беспокойно светились.
— Я и в самом деле не выдержу, у меня уже затекает рука. — Прыг сжал сильнее мешочек, который двигался и шумел так, словно в работала, жужжа шестерёнками, какая-то сложная машина.
— Ну, пошли!
Быстро перебирая ногами и весело гикая, они снова побежали в гущу сражения.
На остывшей пушке стоял полковник Пернат и в подзорную трубу рассматривал поле битвы.
— Это действительно редкостные стёкла, — бурчал он себе под нос, — они здорово приближают: — у меня перед глазами одна только лошадиная морда. — Бедняга не знал, что блаблацкие драгуны в этот момент напали на батарею.
Вдруг на голову сражающимся упал таинственный мешок. Бросив его, Прыг и Узелок тотчас же удрали. А из мешка начали, жужжа, выскакивать золотые искры. И как только они садились на кончик носа или на толстый затылок, солдат удирал, размахивая руками.
Это осы, рои тютюрлистанских ос!
«… Жужжанье к небесам взлетает громовое, И армия бежит, покинув поле боя».Так описывает это событие блаблацкий поэт.
Укушенный под хвост конь короля Цинамона встал на дыбы, повернул назад и, не слушаясь всадника, весь в мыле, умчался прочь.
— Король уходит! — заорал кто-то.
— Король уже убежал, — кричат все и бегут за ним следом.
Так осиное гнездо, снятое с крыши постоялого двора «Под копчёной селёдкой», сыграло решающую роль в нашей победе.
И как раз в этот момент подлетел, сидя с поджатыми ногами на пойманном скакуне, граф Майонез. Мой рожок придал ему силы.
— За мной! — крикнул он. — На Блабону!
И мы начали преследовать врага.
Осада Блабоны
Через три дня и три ночи у нас взбунтовались кони. Покинув всадников, они вернулись в родные конюшни. Продолжая путь пешком, мы шли форсированным маршем на вражескую столицу. Нам удалось настигнуть только одиннадцать инвалидов. На восьмой день укреплённые ворота Блабоны захлопнулись перед самым нашим носом, тяжёлые створы прищемили прямую, как клин, бороду графа Майонеза, — она первой стремилась проникнуть в осаждённый город. Не дожидаясь цирюльников и брадобреев, спешивших сбрить бороду по всем правилам искусства, граф героически отрубил ее мечом и, лишившись истинно мужского украшения, стал еще более грозен и суров.
— Да, друзья мои, я и мой рожок привели нашу армию к победе, — хвастался Пыпец, закрывая от удовольствия глаза. — И король помнил об этом. Он снял со своей груди самый большой орден и приколол его мне, — тут петух расправил выцветшую ленточку на груди.
— Оооох! — запищали восторженные голоса.
— Кто это там опять? — удивился Мышибрат. Вытянув из огня пылающую ветку, он помахал ею в темноте. Ему показалось, что маленькие чёрные точки скачут у него в глазах, а может быть, это был сон, который сыпал голубоватый мак.
— Тебе время что-нибудь мерещится, — зевнула Хитраска.
— Тише! Слышите? — насторожённо шепнул петух.
Звери замолкли.
Издалека послышался конский топот, и по дороге вновь проскакал всадник, разрезая факелом темноту. Длинным хвостом за ним летели искры и, мерцая, гасли.
— Говорю я вам: что-то случилось…
— Да, похоже на то, что случилось что-то важное!..
Мышибрат в задумчивости выпустил когти и стал точить их о камушек.
— Эх, если бы теперь были такие войны! — вздохнул он.
— Никто не может сказать, что ожидает нас в будущем.
— А как вам удалось взять этот город? — спросил, наконец, Мяучура, рассматривая блестящий коготок.
— Блабону? Пустяки! И этой победой потомки обязаны мне, — гордо ответил петух. — Вы только представьте себе… Мы не были подготовлены к осаде крепости. Солдаты тяжело дышали, они утомились и проголодались. Пушки и обозы остались далеко позади. А тут стены и заборы из кольев вышиной в три человеческих роста. За забором город, и такой город, что клюв невольно расплывается в улыбке, — весь он застроен маленькими домиками, покрашен розовой и жёлтой краской; улицы вьются, точно ленты, а над домами сверкают позолоченные крыши замка и купола церквей.
Хотелось бы склевать это как пирожное, а тут стена; по стене, издеваясь над нами, прогуливаются блабланцы.
Мы ринулись на штурм, но голыми руками стен не разрушишь. Нашего славного короля Толстопуза, который собственной персоной штурмовал ворота, эти негодяи облили расплавленным свинцом. К счастью, панцирь спас его величество, иначе он поджарился бы, словно на сковородке. Однако короля так основательно запаяло, что в течение двух недель мы кормили его одними макаронами, — никакая другая пища не могла пролезть через узкие щели забрала. Нам удалось вскрыть панцырь государя лишь тогда, когда гонцы из Тулебы привезли на перекладных большой консервный ключ.
Толстопуз выглядел очень плохо, страшно похудел, но первые его слова были: «Я уничтожу этот курятник!»
Город не мог выдержать долгой осады. Вскоре у осаждённых кончились снаряды. Но что могло быть хуже для нашей армии, чем обстрел яйцами, сваренными вкрутую?
Однажды в полдень враги пробили бедро самому Майонезу, метко выстрелив в королевский шатёр двенадцатифунтовой колбасой.
Издалека до нас доходили отголоски непрекращающегося пиршества, и мы, охваченные гневом, штурмовали и штурмовали город. Жители Блабоны выбегали на городские стены, даже не отерев губ, выпачканных в соусах, а с бород у них стекали капли вина и мёда.
Наши солдаты грызли ремни, сосали колбасную кожуру, которую блабланцы высокомерно бросали нам со стен города.
Однажды и меня по ошибке чуть не посадили в котёл.
Это было тяжкое время.
И вот тогда-то в наш лагерь пришли двое озорных мальчишек, рыжий Прыг и вихрастый Узелок. Их хотели тотчас же отправить домой, но они так трогательно просили разрешения остаться и были так забавны при этом, что мы не решились их прогнать.
Оба сорванца вертелись под стенами крепости, дразня и передразнивая толстобрюхих блабланцев.
Рядом с воротами столицы росли два высоченных тополя. Прыг и Узелок влезали на деревья и с вершины осматривали город.
И вот они сделали себе из длинной проволоки качели. Сильно раскачивая их, мальчишки долетали до самых бастионов, а порой шалунам удавалось плюнуть на часового. Разбойники облюбовали себе высокого алебардника; метким выстрелом из рогатки они выбили ему два передних зуба.
По вечерам я учил их играть на трубе, — это обоим доставляло несказанное удовольствие. Впрочем, учение шло так успешно, что нам вскоре приказали уходить в соседний лес. Ну и, представьте себе, до чего додумались эти бездельники…
Я повёл их к вождю.
— Рискованное дело, — проворчал Майонез и хотел почесать бородку, но так как не было, граф покрутил пальцами волосы, торчавшие из носа.
Подумав, он, наконец, сказал: «Ну, если вам удастся этот манёвр… именем короля обещаю вам всё, чего бы вы ни пожелали…»
У мальчишек сверкнули глаза, как будто кто-то насыпал туда искр.
— Я хочу самокат!
— А я мопсика, маленького мопсика и калапутьку!
— А что такое калапутька? — удивился вождь.
— Я и сам не знаю, — признался Прыг, — но мне это очень нужно!
Ночь была тёмной. Штурмовой отряд разулся, чтобы не шуметь, и подкрался на цыпочках к городской стене. Порой, кто-нибудь из очень нервных оглушительно чихал, ступая на влажную землю.
Мальчишки начали с того, что раскачали качели и — гоп! — взлетели на стену. Потом с каждым новым взмахом на качели прыгал тютюрлистанский солдат и приземлялся за валом.
Над лесом взошла луна. Заинтересовавшись движущимися тенями, она стала опускаться на город и при этом злорадно улыбалась. Луна выдала бы весь замысел, если бы Узелок не заслонил высоко пустив в небо большого змея. Окрестные леса, холмы и рощи серебрились от блеска любопытного светила, а на город пала чёрная тень.
Извиваясь, как уж, Прыг полз вдоль балюстрады. Неожиданно из-за сторожевой башенки выскочил высокий блабланец и крикнул: «Я тебе блам, благодяй!»
И он рассек бы мальчишку алебардой на две части, если бы не один из наших гвардейцев, который в этот момент спрыгнул с качелей и, размахивая ногами, приземлился на шее алебардника.
— Блавол, — завопил стражник, перепуганный летающим привидением. Он шарахнулся в сторону и вместе с солдатом полетел в зелёные воды рва. Прыг изогнулся, как кошка, схватил алебарду и побежал вдоль стены. Увидев за поворотом дремлющего блабланца, мальчишка, недолго думая, ударил его остриём в живот.
Толстяк застонал. Медленно поднял голову. Из пробитого живота брызнула тоненькая струйка. Раненый пошарил вокруг себя, достал кубок и, опасаясь, что из его жил вытечет вся кровь, подставил кубок под зияющуо рану. Когда же кубок наполнился до краев, он поднёс его к губам и начал пить.
Прыг побледнел.
Подбежавшие солдаты замерли на месте от ужаса: они были потрясены такой кровожадностью. А толстяк вновь подставил кубок и закрыл синие веки: у него началась икота. Рука дрожала, алая жидкость стекала вниз, образовывая лужу.
Тут я кинулся на блабланца и дал ему затрещину. Потом вырвал кубок и глотнул из него. Этот пьянчуга, желая повеселиться на посту, засунул себе под кафтан мех с красным вином. Мы расстегнули ему пояс, и каждый немного подкрепился. Потом я положил пустой мех блабланцу на лоб. Солдата даже не нужно было связывать; он так упился, что спал, как убитый.
Добежав по городской стене до ворот, мы перерубили цепи — подъёмный мост с грохотом опустился. Далеко, около рынка, началось движение, послышались тревожные крики, из тёмных улочек до нас донёсся топот подбегающей стражи.
Я остановился и заиграл атаку.
Наша пехота грозным потоком вливалась в город.
А за стеной…
Население отчаянно защищалось. Горожане в длинных ночных рубашках, теряя туфли, бежали по улицам. Матроны в ватных капотах запаковывали детей в сундуки, вместе с мехами, искрящимися от нафталина.
Ожидали ужасного погрома.
Там и сям раздавались крики: «Граждане, на баррикады! К оружию!»
Баррикады выглядели довольно странно. Улицы были загорожены столами, накрытыми для пиршества. На скатертях лежали штабеля больших, с мельничное колесо, кругов сыра, стояли торты; словно янтарная, лоснилась от аппетитного жирка подрумяненная птица; ласкали взор фруктовые желе, банки с вареньями.
Добежав до столов, солдаты остановились как вкопанные. Блабланцев не было видно. Кругом, насколько хватало `глаза, громоздились пончики, ноги вязли в грудах конфет… Изголодавшиеся солдаты набросились на еду. По всему городу раздался хруст и зловещее чавканье, весёлое бульканье мёда и вин.
Огромные бочки возвышались пирамидами, преграждая захватчикам путь. Чем дальше, тем медленнее мы продвигаюсь вперёд, солдаты расстегнули пояса, многие побросали оружие, чтобы обеими руками хватать лакомые куски. Вот что писал об этом летописец: «Словно голодные волки, набросились они на сии яства, тучнея с каждою минутою, и казалось, то скоро они с треском лопнут, испустив дух…»
Напрасно призывал граф Майонез: «Вперёд, во дворец! У нас будет время окончить пир, ведь мы уже утолили голод!»
Напрасно кричал я: «Братья, это ловушка!»
Пробежав несколько шагов, солдаты вновь чуяли аромат ванили, запихивали в рот апельсины, пережёвывали грозди винограда. Доставая из голенищ конфеты, они грызли их и тут же небрежно выплёвывали, чтобы схватить золотые круги душистого ананаса. Воины лезли вверх, где стояли бочонки с надписью «Блалина». На блабацком это значит — «Малина». Густой и сладкий сок наполнял шлемы. Облизывая усы, захмелевшие гвардейцы врывались в опустевшие дома, где манили ко сну устланные перинами и подушками ложа, еще не остывшие после недавнего бегства хозяев. Суровые ветераны швыряли в угол сапоги и падали на кровать, утопая в мягком пуху. «Никто не заметит, что одного не хватает», — думал каждый из их, мирно засыпая.
Армия таяла на глазах. Лишь самые жадные еще пробирались вперёд. Когда мы дошли до последнего поворота, осталось всего несколько человек.
Перед нами открывался вид на рынок, где столпились полуголые, перепуганные горожане. Нас отделяла от них только хрупкая баррикада из лёгкого, будто крылья бабочек, хвороста, который был скреплён кусочками нуги.
— За мной! — крикнул граф Майонез. Я бросился вперёд и начал бить клювом. Сладкими облаками взвилась в воздух сахарная пыль. Липкая нуга облепила всю шпагу графа, и он с отвращением отшвырнул оружие прочь. Крошки ароматного теста забились в мой клюв. Я время перегибался вперёд, — так отягощал меня мой переполненный желудок, угрожая лопнуть каждую минуту.
Ударив изо всех сил плечом, я пробил брешь. Блабона принадлежала нам!
Однако на рынок нас вбежало только трое, — рухнувшая гора хвороста погребла под собой графа Майонеза. Было слышно, как мечется разъярённый вождь и как с треском ломается сухой хворост.
Мой долг был бежать за королём, и я не мог поспешить на помощь полководцу.
Навстречу нам вышел король Цинамон. Но на его лице не было и тени огорчения.
— Победа! Победа! — закричал я.
— Да, король Цинамон, — сказал Толстопуз, — город уже взят.
— Да, — приветливо усмехнулся король Цинамон, — город взят, но куда делась ваша армия?
— Это была не рыцарская борьба, это была подлая ловушка.
— А кто первый, нарушив международное соглашение, сделал эту пакость с осами?
И тогда, схватив рожок, я вытряхнул из него конфеты и изюм и заиграл сигнал тревоги!
Еще не придя в себя после сна, объевшиеся гвардейцы высыпали на улицы. Многие из них, заслышав металлический голос моего рожка, медленно шли на четвереньках, многие ползли.
Но это неопровержимое доказательство солдатской верности и трогательной любви к монарху волновало до слёз.
Вскоре нас окружил вооружённый отряд. Король Цинамон, видя эту неопомнившуюся после сна и сотрясаемую икотой армию, готовую к отчаянной схватке, к решающему бою, подошёл к королю Толстопузу и протянул ему руку.
— Ты взял Блабону, а я победил твою армию. Наша честь спасена! Помиримся…
Они пожали друг другу руки и поцеловали друг друга в плечо, точно так, как голуби на карнизах потирают свою головку о крыло.
Да, а потом наступило всеобщее братание. Крича от радости, толпа бросилась на нас и понесла нас на руках. Лопнув сапфировыми звёздами, в небо взлетели бесчисленные ракеты.
Что это была за ночь!..
Лишь на третий день удалось вытащить нашу армию из гостеприимных блаблацких альковов. На площади состоялся парад. Оба короля, восседая на помосте, обтянутом малиновым сукном, раздавали воинам награды.
Тогда я получил два ордена — блаблацкий и тютюрлистанский, а мой рожок — золотую цепь.
— А что стало с графом Майонезом? Он не задохнулся?
— Ну, что ты!.. Он вылез из-под хвороста здоровёхонек, только слегка припудрен сахаром. Граф получил великолепный пергаментный свиток с печатями и новым гербом «Облизанная ступня».
Под непрестанные крики ликования прошли, по-братски обнявшись, солдаты обеих армий. Дождь цветов падал с балконов. Даже старые ветераны не помнили более волнующей минуты.
Чего только нам не обещали!.. Каждый окончивший службу солдат должен был получить грядку, на которой он имел право сажать редиску; по субботам нам было разрешено бесплатно кататься на лодке в городском парке. А под новый год нам должны были выдавать по пять блинов с розовым вареньем, собственноручно испечённых королевой Клепонией.
Увы, время уносит всё!..
Даже Узелок должен был стать помощником королевского портного и носить подушечку с иглами, а рыжий Прыг, выучи он таблицу умножения, стал бы правой рукой казначея.
Потом переменилось… Забыли о нас… Забыли…
Впрочем, может быть, во мне говорит обида… С тех пор прошло немного времени, а мой гребень уже седеет. Старость не за горами, а я еще ничего не добился в жизни.
Петух грустно задумался. Костёр догорал.
Ночной гонец
Звери пристально смотрели на угасающий огонь. Неожиданно послышался тихий плач. Петух наклонил голову, чтобы лучше слышать. Мышибрат насторожил уши.
— Кто-то плачет, — шепнул он.
Казалось, это всхлипывают огорчённые дети. Слышались многочисленные голоса. Из чьих-то глаз капали обильные слёзы. Мышибрат наклонился; маленький зверёк, величиной с маковое зерно, подпрыгнул вверх и, отскочив от его носа, пропал в темноте. Справа и слева от кота скакали чёрные точки.
Хитраска беспокойно шевельнулась.
— Идите сюда, глупышки, — шепнула она.
Плач стал утихать, словно обиженные дети спрятали голову во что-то мягкое и пушистое. Лисица закрыла мордочку лапой и негромко зевнула, притворяясь, что засыпает.
— Признайся, Хитраска, кого ты от нас прячешь.
— Что я могу поделать, если они такие впечатлительные… Сейчас же в слёзы…
— А кто?
— Ну, мои блохи, — шепнула лиса, краснея.
Капрал Пыпец удивлённо тряхнул крыльями, а Мышибрат почесал шею.
— То-то я чувствую, что меня кто-то кусает.
— Не болтай глупостей, они не кусаются. Я кормлю их крошками. Они так привязались ко мне… Эти блошки иногда только щекочут мне кожу, когда, зарываясь в мех, играют в прятки. Но они никогда не кусаются.
— Откуда же у тебя, Хитраска, блохи? — удивился петух.
— О, это длинная история…
У меня стало тяжело на сердце, когда я узнала об их отчаянном положении. Я взяла малюток на воспитание от одного пуделя. Бедную собаку хозяева выгнали под старость из дому. Он продавал тряпки, собирал разбитые стёкла и кости на помойках… Вы знаете, что я без детей жить не могу. Меня утешает, что я их воспитываю и обучаю хорошим манерам…
— Блоха всегда останется блохой, — сказал с сомнением петух.
Мышибрат недоверчиво покрутил головой. Его блестящие зрачки стали узкими, как месяц в новолуние.
— Слышите!? — мяукнул он. Выгнув дугой спину, кот гневно фыркнул. Петух вскочил на ноги, схватил трубу и узелок, а Хитраска прыгнула в сторону и пропала в темноте. Слышно было, как она шопотом успокаивала перепуганных блох.
Под тяжёлыми шагами ломались ветки. Какой-то великан напрямик через лес. Наконец, у костра с храпом остановился огромный взмыленный конь. Всадник поднял высоко над головой факел.
— Эй, люди! — крикнул он хриплым голосом.
Петух выступил вперёд. При свете факела его рожок сверкнул, как жерло начищенной пушки.
С минуту они смотрели друг на друга. Неожиданно всадник опустил голову, застонал в отчаянии и, забывая, что он в Тютюрлистане, воскликнул:
— Бларолевна блахищена!!!
Факел выпал у него из рук и, шипя, погас на влажной траве. Гонец повернул коня, вонзил ему в бока острые шпоры и пропал в темноте. Вновь послышался треск ломаемых сучьев и шелест падающих листьев.
— Это на блабацком, — шепнул побледневший петух, — похищена королевна, — вы понимаете, ко-ро-лев-на…
Наступила тишина. Звери стояли, подавленные ужасной вестью. Теперь они поняли, почему гонцы мчались на все четыре стороны света, разрезая ночной мрак ярким факелом.
Друзья уселись около костра, широко открытыми глазами вглядываясь в темноту. Разбуженные деревья что-то шептали.
Мы должны отдохнуть, — время ложиться спать; кто знает, что ожидает нас завтра!..
Петух поднёс трубу к клюву и заиграл вечерний сигнал:
«В звёздах небосклон, Близок тихий сон, Плащ твой расстели, Саблю отстегни. Лишь блеснёт восход, Мы уйдём в поход».Серебряные звуки долго звенели под сводами леса, прежде чем улетели в звёздное небо. Устроившись поудобнее, друзья легли спать. Мышибрат то закрывал, то вновь открывал глаза и смотрел на танцующие языки пламени. Веки его становились тяжелее. Наконец он успокоился и заснул, мурлыкая свою обычную кошачью песню.
Петух нежно погладил свой узелок, сунул его под крыло и тотчас захрапел. Ему, верно, снились новые битвы.
Звёзды мигали своими серебряными ресницами. Сытый огонь медленно догрызал остатки хвороста: костёр гас. По вершинам вековых деревьев пробежал вздох:
«Лишь блеснёт восход, Мы уйдём в поход».Но друзья уже ничего не слышали. Утомлённые долгой дорогой, они крепко спали.
Похищение
Наступило розовое утро. Солнце расчёсывало золотые кудри. В лазурном небе плыли крошечные облака, — их отпустили на прогулку папа-ветер и мама-погода. Жаворонки купались в вышине. Деревья потягивались, раскинув ветви, клёны любовались своей листвой, ели отряхивали колючий зелёный наряд.
С полотенцем на шее лиса возвращалась с пруда. Мышибрат стоял на коленях и раздувал потухший костёр. Петух бережно завернул что-то хрупкое в мох и положил в дорожный мешок.
— Доброе утро, друзья! — крикнула издалека Хитраска.
— Доброе утро! Как ты хорошо сегодня выглядишь! Известное дело, молодость… — вздохнул петух, завязывая мешок. — Нет ничего лучше молодости.
— Ты просто хочешь сказать приятное. Что мне в этой молодости, когда нет работы, когда есть нечего!
— Не горит, да и только, — жаловался, задыхаясь от кашля, Мышибрат.
Костёр, правда, уже дымился, но у огня еще не было аппетита, он спал.
— Вот смотри, как нужно делать, — крикнул капрал Пыпец; он шпорой отгреб золу, наклонился и стал дуть. Голый огонь, вынутый из-под пепла, который окутывал его, словно тёплое одеяло, заиграл и закружился. От едкого дыма у петуха защекотало в носу, он широко открыл клюв и оглушительно чихнул. Взметнулась целая туча пепла.
— Будь здоров, — вежливо сказала Хитраска.
— Ну, если это твой способ раздувать огонь… — насмешливо начал Мышибрат.
Но раскрасневшийся петух со слезящимися глазами бросал уже ветки в костёр, и язычки пламени — о чудо! — начали с удовольствием пожирать их.
За завтраком петух тяжело вздохнул: «Трудно поверить… Мне кажется, то, что мы слышали… Это был сон».
Внезапно послышались шаги. На поляне показались человек и лошадь. Человек разнуздал лошадь, и она стала щипать свежую траву. Потом он подошёл к костру и отвесил учтивый поклон. Страусовое перо его шляпы скользнуло по земле.
Друзья пригласили пришельца отдохнуть у костра и разделить с ними их скромный завтрак.
Это был один из многочисленных гонцов, разосланных на все четыре стороны света. На вид ему можно было дать лет двадцать; у него было серое от пыли, печальное и утомлённое лицо.
Даже любопытная Хитраска ни о не стала расспрашивать рыцаря, опасаясь, что это только увеличит его горе. Но он, заметив сочувственные взгляды зверей, заметив волнение Мышибрата, который хотел ему уступить свой кусок хлеба, начал говорить сам.
— По вашим лицам я вижу, что вы уже знаете обо всём… Сердце разрывается на части, но я должен рассказать вам о похищении. Каждый может принять участие в поисках.
Похищена королевна Виолинка, дочь короля Цинамона, самая красивая девушка в стране… похитили во время путешествия в Тулебу. Она находилась под присмотром учителя пения Доремии Бемоля и госпожи Корцинелли. Карета переехала уже границу Блаблации. Похитили здесь, на вашей земле, в Тютюрлистане.
Вы знаете: ваши дороги плоховаты; у кареты лопнула ось. Королевна воспользовалась остановкой и решила нарвать полевых цветов. За ней следили Корцинелли и маэстро Бемоль. Околдовали их или что-нибудь… не знаю… но они ничего не слыхали, ничего не видали… а королевна пропала, словно песчинка в море. Карета давно готова, а Виолинки нет… Кричат: «Виола! Виолинка!» Лакеи так орут, что эхо грохочет. Никто не отвечает.
Невдалеке нашли шарф и разорванную шапочку. Были видны также следы огромных кованых сапожищ. Значит, похитили не дикие звери, а разбойники.
В тот же вечер жители окрестных деревень были обо всём уведомлены, на дорогах поспешили расставить караулы — и напрасно. До сих пор мы не напали на след похитителя. От Корцинелли ничего не добьёшься, она обкладывает лоб ломтиками лимона, у мигрень, она постоянно теряет сознание, из глаз брызжут слёзы, как вода из пожарного шланга, а маэстро Бемоль таращит свои чёрные глазищи и тоже ничего не знает, ничего не помнит! И это были провожатые! Чтоб им утонуть в компоте!
— Если она похищена в Тютюрлистане, то это грозит нам дипломатическими осложнениями, — сказал петух.
— Я вижу, что вы разбираетесь в политике, — посмотрел на него с уважением гонец. — Да, король Цинамон в гневе, у королевы Цикуты истерика… Все считают, что война неизбежна. Может быть, через несколько недель, может быть, через несколько дней… А скольких жертв нам стоил последний поход!
— Я только капрал, — скромно начал петух, — но должен признать, господин офицер, что настают тяжёлые времена.
— Порой в груди капрала бьётся более мужественное сердце, чем у иного вождя. Впрочем, каждый солдат носит в ранце маршальский жезл…
— Хе, хе, — жалобно вздохнул петух, — но нет его в этом узелке.
— Я вижу выцветшие ленточки на вашем мундире, орденов зря не дают. Если начнётся война, все будут нужны, а особенно те, что уже покрыли себя славой.
Гонец быстро поднялся и взнуздал коня.
— Желаю вам всего хорошего, желаю вам найти работу и кусок хлеба, а может быть, вы нападёте и на след похитителя…
С ловкостью придворного он поцеловал лапку Хитраски, обнял петуха и Мышибрата.
Затем вскочил в седло и помчался галопом. Въехав на отдалённый холм, рыцарь обернулся и помахал друзьям шляпой.
— Слышали? — начала Хитраска, укладывая оставшиеся припасы.
— В путь, в путь, друзья!
— Может быть, я отыщу королевну, и она полюбит меня, — мечтал Мышибрат. Он сорвал пук травы, украдкой плюнул на и почистил сапоги.
Звери выбрались из тени деревьев и направились вдоль опушки леса.
Пахло нагретой смолой, иглами и солнцем.
Около полудня они вышли на перекрёсток; там виднелась доска с недавно приклеенным объявлением.
— Я немного близорук, — нахмурил брови петух.
— А меня слепит солнце, — выкручивался Мышибрат.
Хитраска подняла мордочку и прочитала вслух:
— Подписи разобрать нельзя. Ясно видна только большая печать с гербом Тютюрлистана.
— Ну, теперь мы легко узнаем, — ударил в лапы Мышибрат.
— Я уже видел раньше, на параде в Блабоне; никакое переодевание не сделает неузнаваемой для меня, — уверял петух.
— Но где искать В какую сторону идти?
— Прямо по ветру, — потянула острым носом Хитраска.
Встреча с Нагнётком
Над путниками шумели старые развесистые деревья, их кроны сплетались в зелёные арки, пахло терпким соком нагретых листьев. Древние великаны опирались друг на друга руками, просеивали сквозь ветви солнечный свет и, наклоняя кудрявые головы, вздыхали о чём-то и что-то невнятно бормотали.
А дальше простирались луга; их пересекали блестящие ленты помелевших от зноя ручьёв. Над лугами порхало множество мотыльков, бабочки собирали с цветов сладкий сок, размахивали белыми и жёлтыми крылышками, к великому удивлению голубых наивных незабудок. Дальше, вплоть до самых стен белых нарядных хат, виднелись засеянные ячменём и пшеницей поля; их нежно колыхал ветер. Скрипели колодезные журавли, лениво лаяли собаки, призывая друг друга не дремать. Весь солнечный мир, овеянный тёплым дыханием подвижного воздуха, был таким изменчивым и прекрасным, что путники остановились, очарованные светлой картиной, такой прозрачной, что, казалось, можно было замутить одним неосторожным вздохом.
И снова они шли берёзовыми рощами, полянами, усеянными еще не расцветшим вереском, где большие серебряные и зелёные жуки неохотно раздвигали блестящие металлические спинки и, взмахнув гофрированными крылышками, улетали с гневным жужжанием, пробуждённые от пьяной дрёмы на аппетитной землянике.
— Известно ли вам, что наши запасы уже на исходе? — начала Хитраска. — И мы ничего здесь не достанем, в этом пустынном месте, — она указала лапкой на окружающие их леса.
— Не важно, теперь мы на расстоянии дневного перехода от границы Блаблации, — махнул крылом петух.
— Так, значит, где-то здесь была похищена королевна Виолинка, — сказал, внимательно осматривая окрестность, Мышибрат.
— Очевидно.
Наступили сумерки. Порой слышался голос древесной жабы, словно кто-то ударял в маленький барабан.
— Ночевать будем опять в лесу?
— Ты так стосковался по перине, Мышибрат?
— Что там перина! Я предпочитаю спать на мешках с мукой, спать под тихое журчание воды, — мяукнул кот, и голос его задрожал от нахлынувших воспоминаний.
Вдруг издалека до них донеслись крики, приглушённые шумом укладывающихся спать листьев. Капрал прибавил шагу.
— Лентяи, вы будет скакать, как я велю! — услышали друзья злобный окрик. Потом раздалось щёлканье кнута, и тот же голос зарычал: «Пойте, пойте, или вам придётся худо. Громче, заморыши, дьяволята, пиявки!»
Зазвенела гитара, и зазвучала тихая песня:
«Вся жизнь наша, братья, Пройдёт на канате, Хозяина слово, Хозяина-папы… Он хочет, чтоб прыгал Я снова и снова, Иначе…»— Иначе отведаешь кнута, — свист бича послышался так близко, что звери вздрогнули. Потом раздался раскат злобного хохота.
— Громче, вы, дряни! Кожу я вам уже почесал, а теперь и рёбра пересчитаю, если не будете петь хорошенько!
Петух раздвинул ветки орешника.
На поляне стоял большой фургон, окрашенный в жёлтый цвет.
Посередине — надпись большими буквами: «Цирк Мердано», а ниже на расклеенных старых афишах можно прочесть: «Самые свирепые блохи в дрессировке маэстро Нагнётка».
Внутри фургона раздавался топот, колымага скрипела и раскачивалась.
Из кухни, где дымила железная печурка, высунулась молодая красивая цыганка и закричала: «Папа, не ори на них так, — у меня горшки на плите скачут!»
— Кляпон! Кляпон! Иди скорей сюда! — поманила она рукой.
Босой, полуголый мальчишка перебежал полянку и вскочил в фургон. Цыганка стояла, перебирая коралловые бусы, и глядела на закат.
При виде красотки у петуха разгорелись глаза. Он пригладил гребень и переступил с ноги на ногу.
Отворилась дверь, и из фургона медленно спустился на поляну высоченный цыган. Его клетчатая рубаха была сплошь в заплатах. Космы чёрных волос спадали на загорелый лоб. В левом ухе сверкал рубин, похожий на каплю свежей крови.
Вслед за цыганом по траве волочился небрежно заткнутый за пояс бич с семью хвостами.
Заметив хозяина, сивые исхудалые клячи, до этого жадно щипавшие скудную траву, прижали уши и попытались убежать, тяжело двигая спутанными ногами.
При виде их цыган так зловеще рассмеялся, что затряслись листья на молодой берёзе, а сорока, ожидавшая, когда вынесут помои из кухни, улетела, тяжело волоча свой длинный хвост сквозь застывший от зноя воздух.
— Гей, Друмля, готов ли ужин?
— Готов, папа, ты можешь наесться до отвала.
Цыган снял пояс, повесил его на ручку двери, достал из-за голенища нож, поплевал на лезвие и стал водить им по натянутому ремню.
— Бежим, — шепнула Хитраска.
— Это, наверное, убийца, — пискнул Мышибрат.
— Успокойтесь, тихо, — сказал петух, — ведь они нас не видят. Пробирайтесь на дорогу и ждите меня за поворотом, я хочу осмотреть фургон; кто знает, что там скрывается!..
— Только не подвергай свою жизнь опасности…
— Будь осторожен, — попросил Мышибрат.
— Я знаю, что это за птицы, и не с такими еще имел дело…
Мяучура и Хитраска исчезли среди листьев. Они направились к дороге, видневшейся в просветы между деревьями.
Кот и лиса слышали за спиной скрип накренившегося фургона и скрежет стального лезвия.
«Герой — этот Пыпец…» — подумали оба, выйдя на тёплый песок дороги.
На волосок от смерти
А петух, поправив перевязь, на которой висел рожок, смело вышел на поляну.
Старый цыган влез уже в фургон и кормил проголодавшихся блох; слышно было, как они чмокали и грызлись, вырывая друг у друга куски скудной пищи.
Капрал Пыпец подошел к дверям кухни и осторожно постучал.
Было тихо; слышалось лишь бульканье воды в кастрюлях, и вкусный запах полз из-под побрякивающих крышек.
Петух с тревогой оглянулся. Сзади него стоял большой котёл с тяжёлой крышкой. На поляне паслись сивые клячи, и их расплывчатые тени неуклюже лежали на траве, дальше вековые дубы возносили свои могучие тенистые кроны. Оттуда веял приятный холодок, располагающий к отдыху и дремоте.
Неожиданно петух ощутил страх; ему показалось, что над ним висит ястреб, а может быть, он почувствовал чей-то предательский взгляд, устремлённый на него из щелей между досками.
Он побежал.
— Подожди, милый странник, — закричала Друмля, появившись в дверях, — эй, генерал, генерал!..
Услышав певучий голос цыганки, который манил и ласкал, Пыпец доверчиво повернул назад.
Весь страх показался ему внезапным наважденьем. Над лесом пылало заходящее солнце, на небе не было ни облачка, ветви приветливо махали ему, а красивая цыганка, сбегая с лестницы, кричала: «Паагадаю… Пааагадаю… Цыганка правду скажет: что было, что случится, что с тобою приключится, дай, дай же мне крыло…»
— Ты много воевал, — был храбр, имел врагов, но всех победил… Ждёт тебя большая любовь… Дорога к милой ни далёкая, ни близкая. Цыганка всю правду скажет…
Не был бы капрал Пыпец старым солдатом, если б сердце у него не забилось сильнее при виде красивой девушки. Именно для того, чтобы поговорить с ней и погадать, он отослал друзей. Не одной красотке во время своей службы он вскружил голову, хо-хо… Петух гордо надулся, погладил цыганку крылом, фамильярно потрепал по плечу и, видя вблизи алые губки, склонил клюв для поцелуя.
— Может быть, ты и есть моя суженая, — прошептал он.
Друмля быстро отвернула голову, серебряные монеты звякнули в черных волосах, зубы блеснули в улыбке: «Смотри, какой скорый, петух ты мой важный, воин отважный, не на ту напал».
И, снова изогнув крутую бровь, она внимательно посмотрела на растопыренные перья.
— Прежде чем счастье найдёшь, встретишься с великой опасностью, — продолжала она. — Кто знает, может быть, и погибнешь. Не в бою тебя ждёт смерть. Погибнешь ты от руки предателя.
Она посмотрела на него горящими глазами и вцепилась обеими руками в крыло.
— Близка опасность, ближе она… ближе.
Это крался вдоль фургона цыган Нагнёток с ножом в зубах.
А капрал Пыпец, словно заворожённый, слушал сладкий голос цыганки.
— Если даже погибнешь, принесёшь пользу людям, и после смерти они станут хвалить тебя, — говорила она, думая о том, как он, ощипанный и выпотрошенный, будет вариться в кастрюле.
Вдруг крышка котла, стоящего позади цыганки, приоткрылась, в щели показалось искажённое от ужаса лицо, и послышался свистящий шопот: «Беги!»
Словно очнувшись от дурмана, петух шарахнулся в сторону, вырвал крыло и высоко подскочил вверх.
Цыган Нагнёток кинулся за ним, но успел выдернуть только самое длинное перо из петушиного хвоста. Стуча подкованными сапожищами, злодей погнался за Пыпецом с ножом в руке.
— Ничего, ничего, мы поймаем кукурекающего дурня, — запела Друмля и звонко рассмеялась, будто перстень упал в хрустальную вазу.
Петух бежал через лес. За ним гнался цыган. За цыганом с криком бежала Друмля, а сзади увязались кровожадные блохи.
— Он убегает, — шепнул Мышибрат, заслышав треск ломающихся веток.
То справа, то слева раздавались крики и мелькали сквозь листву фигуры петуха и Нагнётка. Петух старался сбить цыгана с пути. Наконец он выскочил на дорогу и, взметнув шпорами пыль, крикнул пронзительным голосом: «Братья, бежим!»
Друзья углубились в лес.
Таинственный котёл
Когда звери остановились, задыхаясь от быстрого бега, они услышали лишь, как шумят деревья на закате. Друзья прижали лапки к громко бьющимся сердцам и прислушались, — нет ли погони. Но в лесу было тихо.
— Я почувствовал нож на горле, — воскликнул петух, — я спасся чудом от смерти.
— Мы так боялись за тебя! — мяукнул Мышибрат, вытягивая с удовольствием хвост.
— А я едва успела крикнуть своим блошкам: «Держитесь за мех», — так здорово мы мчались.
— Твои блохи — это кроткие создания в сравнении с кровожадными блохами цыгана.
— Мы ничего не потеряли?
— Узелок капрала у меня, — сказал кот.
— Значит, в порядке.
— Уйдём поскорее из этих опасных мест.
Медленным шагом звери вошли в темнеющие анфилады дремучего леса. Солнце уже село. Мохнатые ночные бабочки летали над цветами, от которых аромат, особенно пряный в этот вечер. Где-то далеко-далеко слышалась песня, ей вторили задумавшиеся деревья:
«Я была с тобой везде: И в походе и в труде, У цыгана я теперь, Тяжко, грустно мне, поверь…»Мелодия рассыпалась в печальном вздохе.
— Боже мой, — застонал петух, — мой рожок!
Напрасно утешали его друзья, что он купит себе в лавке новый рожок. Второго такого не будет — помятого, верного и… утраченного.
Капрал не мог сделать ни шагу; он стоял, склонив голову, и вслушивался в далёкие жалобы, а голос рожка прерывался и хрип, словно он был полон слёз.
И петух повернул назад; не обращая внимания на уговоры друзей, отталкивая их лапы, он воскликнул: «Идите дальше одни, я возвращаюсь».
— Ты с ума сошёл, я тебя одного не пушу, — волновалась Хитраска.
— Я пойду с тобой, — мяукнул Мышибрат и стал точить когти о ствол.
Было уже совсем темно; светляки, возвращавшиеся из гостей, зажгли фонарики. В темноте петух видел плохо; поэтому Мяучура впереди, отгибая ветки, — его зелёные глаза светились среди ночи.
Песчаная дорога, на которую вышли звери, еще не остыла и грела им лапки.
Над лесом показался месяц, и летучие мыши попрятались в черные дупла деревьев. Влажные ветви висели, точно окаменевшие сосульки.
— Смотрите, смотрите, — шепнула Хитраска.
— Мой рожок!
— Тиии-хо… Тиии-хо!
На поляне, в траве, у чугунного котла лежал рожок; крышка котла была прижата большим камнем. Дуновение ветерка, едва колыхавшее траву, будило в трубе тихий вздох. Она тосковала по хозяину.
Посреди поляны высился фургон, сквозь его оконные стёкла поблёскивало красное пламя свечи. Цыган, видимо, не спал.
Петух хотел тотчас же схватить рожок, но лиса удержала его лапкой, а кот пучками травы обмотал петушиные шпоры, чтобы они не звенели.
В эту минуту фургон заскрипел и накренился; замигало пламя свечи.
— Не буду больше ждать, — и звери услышали, как громко зевнул злодей Нагнёток. — А ты могла бы покрепче держать петуха.
— Я держала его изо всех сил, — засмеялась Друмля, — но он так рванулся… наверное, до сих пор убегает…
— На всякий случай я привяжу конец верёвки к ноге, они сами меня разбудят.
— Вот видишь, — шепнула Хитраска.
Рожок шевельнулся и пополз по траве. Верёвка натянулась в темноте.
Послышались голоса ссорящихся блох: они укладывались спать. Неожиданно раздался громовой удар, через секунду последовал второй. Это цыган снял сапоги и швырнул ими в стену, чтобы прекратить блошиную возню. Потом жалобно зашипел огонь свечи, задушенный послюнявленными пальцами, погрузилось во мрак. Фургон прогнулся, и послышался равномерный шум, словно кто-то сыпал по лестнице картошку, — это храпел цыган; тоненько вздыхала Друмля, всхлипывая во сне; за что-то просил прощения маленький Кляпон. И только блохи, почуяв чужих, не спали: они сопели за решётками, — бесчисленные, беспокойные и кровожадные насекомые.
Мяучура осторожно подполз к рожку, отвязал верёвку и подал рожок петуху. Тот так крепко поцеловал его, что клюв звякнул о металл. Капрал поспешно спрятал рожок на груди.
— Пошли, пошли, — торопила друзей Хитраска.
Месяц лил серебряные потоки. Медленно переступали спутанные клячи. Потрескивали доски в старом цирковом фургоне. Неожиданно послышался приглушённый плач.
— Это твои блохи?
— Ну, что ты! — обиделась Хитраска. — Они давно спят.
Мяучура подошёл к котлу и попробовал сдвинуть камень.
— Оставь! Кто знает, что там внутри…
— Там был тот добрый дух, который предостерёг меня, — шепнул петух.
На их голоса вылезла из-под папоротников измученная продолжительной засухой жаба. Она посмотрела на зверей вытаращенными глазами. Толстая шея старухи колыхалась, жаба тяжело сопела, — у была одышка.
— Не знаете ли вы, где тут есть вода? — спросила она хриплым голосом, но звери не услышали Петух сдвинул крылом камень, и друзья наклонились над котлом. Хитраска попятилась, а Мышибрат, готовясь к прыжку, выпустил когти.
Из-под крышки показалось лицо девочки; она сидела по шею в жидкости; жидкость блестела в лунном свете, как ртуть. На плечи малютки спадали кудри.
— Как тебя зовут? — спросили удивлённые звери.
— Спасите меня, — заплакала девочка, — я королевна Виолинка.
— Королевна? Правду ли она говорит? Что ты тут делаешь? — Друзья помогли ей вылезти из котла. Девочка была голой. Лиса укрыла мягкими листками мать-и-мачехи и набросила на тело рубашку, которая сушилась на дышле фургона.
— Я уже третий день сижу в этом настое из ореховых листьев. Меня похитил цыган; он хочет, чтобы я потемнела. Я должна прибирать в клетках у этих страшных блох…
— Королевна, настоящая королевна. — Мяучура обнюхивал с головы до ног; его хвост победоносно торчал вверх.
— Королевна, — прохрипел взволнованный петух и поднёс рожок к клюву, чтобы сыграть туш.
— Ты с ума сошёл! — дернула его за крыло Хитраска. Она схватила за руку Виолинку, и все побежали к дороге. Сзади всех мчался капрал, рожок колотил его по спине, подгоняя дальше и дальше.
На большой поляне остались лишь спутанные лошади — их огромные тени медленно передвигались взад и вперёд — да старая жаба, которая с глубоким вздохом облегчения плюхнулась в чёрный котёл, — она была измучена дневным зноем.
— Ах, купанье, чудесное купанье! — шептала жаба, закрывая от удовольствия глаза, набухшая шея слегка подрагивала, и по тёмной поверхности настоя расходились маленькие круги.
Утро на границе
Рассветает. Солнце еще не взошло, но небо уже посветлело на востоке, с лугов поднимается туман, никнут влажные травы, и капли росы стекают с листьев.
— Посмотрите, и это королевна, — шепнула недоверчиво Хитраска.
Все наклонились. Утомлённая ночными скитаниями, девочка спала.
На грязном личике были видны следы слёз.
— Она некрасива, — удивился капрал, — она совсем по-другому выглядела в Блабоне.
Рыжие волосы малютки были взлохмачены, кожа загорела, а на носу сидело множество веснушек. Она выглядела так, будто чихнула в чернильницу.
— Ни веера, ни туфелек с бриллиантовыми пряжками, — огорчился Мышибрат. Потом, однако, он собрал все свои силы, зажмурил глаза и прошептал: «Если это королевна, то для меня она достаточно прекрасна».
— Тут виноваты чары цыгана, ведь бедняжка жаловалась нам… Ее купали три ночи в разных настоях и отварах. Она должна была сидеть в этом гадком супе, где варились сушёные грибы, аир и белена, от которых кожа темнеет; комариное сало, от которого худеют, и крылья божьих коровок, чтобы на перешли веснушки. Не говорите ей ничего об этом, не давайте зеркала… Бедняжка огорчилась бы. Нужно позаботиться о ней, девочка и так уже настрадалась, — сказала Хитраска.
Тяжёлая капля, сверкнув, как бриллиант, упала на шею спящей малютки.
Виолинка вздрогнула, протёрла глаза и в недоумении посмотрела на зверей.
— Ах, это вы, — зевнула она, лениво потягиваясь, и тотчас заныла: — Я замёрзла, я хочу есть.
Петух взглянул на лисицу, лисица — на Мышибрата, — у них не было ни крошки. Все запасы кончились. Кто мог предполагать, что они так долго будут бродить по этим пустынным местам!
— Посмотри, — подмигнула им Хитраска, — посмотри, Виолинка, — какой прекрасный день настаёт! Птицы купаются в небе, полощут лазурью горло, а капельки росы сверкают на паутинках, как твои бриллиантовые пряжки.
— Не морочьте мне голову, дайте поесть!
Тогда петух достал рожок, приложил его к клюву и заиграл:
«Солнца калач медовый На небе летнем повис, Как пчёлка, луч багровый Жужжа спускается вниз. Курятся трав ароматы, Стрекозы глядятся в пруд И точкою крылатой Над гладью вод снуют. Ветер былинки гонит, Гладит лицо, пролетев, Теплы его ладони, В них музыки напев. Облаков комок серебристый Спустился в согретый лес, Хорошо на прокатиться, На мягком его крыле! Синее небо над нами, В сердце веселье опять, Хочется петь со скворцами, Будто кузнечик, трещать!»Это была самая прекрасная песня из всех сыгранных капралом песен. Деревья молчали, заслушавшись, а потом начали повторять с поляны она переходила дальше и дальше, пока не запел весь лес, словно это был его старый, давно известный и горячо любимый гимн, который лишь теперь смог прозвучать.
Но королевна кричала пронзительнее: «Я хочу есть!» К ней подбежал Мышибрат и, преклонив колено, воскликнул: «Улыбнись, прекрасная, мы не нарочно морим тебя голодом… У нас у самих ничего нет. Разве тебе было бы лучше у цыгана?»
— В это время цыган кормит блох, он и мне дал бы завтрак!
— Посмотри, какой красивый букет я тебе принёс, — кот показал из-за спины несколько синих колокольчиков.
Виолинка схватила цветы, небрежно понюхала, а потом стала щипать и мять их своими маленькими ручонками.
— Что мне в этой траве, — я ведь не могу съесть!..
Неожиданно из одного цветка вылетела пчела и с гневным жужжанием укусила королевну прямо в нос.
Виолинка пронзительно взвизгнула. Петух и Хитраска подскочили к королевне, они махали лапками, отгоняли пчелу, которая кружила над ней и жужжала: «Что з-з-за каприз-з-зный карапуз-з-з!»
Нос у Виолинки вздулся, она расплакалась.
Петух посоветовал королевне приложить к укушенному месту рожок, — ведь холодный металл успокаивает боль. Кол прыгал и кувыркался, пытаясь рассмешить девочку. Когда королевна в конце концов успокоилась, она встала и презрительно отстранила зверей.
— С меня хватит вашего общества! Вы делаете мне назло, глупые зверюшки!
И она пошла по лесу одна.
Огорчённые звери поспешили за ней следом.
— Убирайтесь! Я не хочу вас видеть, — обернулась Виолинка, топая от злости ногами.
Лес начал редеть.
Перед ними открылся холм; полукругом его огибала дорога, похожая на белый ручей.
На вершине, среди зарослей подсолнуха, стоял постоялый двор «Под копчёной селёдкой». Чёрный столб дыма упирался прямо в небо.
Человек в белом поварском колпаке вышел из дверей и, сверкнув тазом, высыпал крошки для воробьев. Потом, прикрыв глаза рукой, он долго смотрел в сторону границы.
— Откуда я знаю это место? — нахмурил брови петух. — Ах, — ударил он себя по лбу, — ведь это же постоялый двор Завтрака! Вот он и сам машет нам рукой.
Королевна уже взбежала наверх.
— Завтрак, — закричала она, хлопая в ладоши. — Завтрак, — давай завтрак!
Следом за ней поспешили верные друзья.
Чёрное купание
Ранним утром в верёвке запуталась лошадь. Это разбудило цыгана.
— Попались, — заорал он.
Все выбежали на поляну. Кругом было пусто. И только старая кляча, стоя неподалёку от фургона, пыталась высвободить ноги. Цыган схватил нож и обежал поляну. Нигде ни следа.
— Его украли ночью, — размахивал он концом верёвки, — похитили у нас рожок…
Нагнёток вцепился лошади в гриву.
— Ты была с ними заодно, — вопил он, потрясая кулаками.
— Я их и в глаза не видала, — простонала кляча. Несчастная говорила правду, — она была слепа на оба глаза. — Если я вру, протянуть мне копыта, — клялась она, бия себя в грудь.
— Папа, папа, — пискнул Кляпон, — с котла сброшен камень.
Цыган схватил крышку. В котле, погрузившись по самый нос в воду, дремала старая жаба.
Цыган Нагнёток и Друмля застыли в изумлении.
— Кажется, ты ошибся, папа, нужно было меньше трав, чтобы изменить её… И состарить. И сделать уродливой, — засмеялась Друмля. — Что осталось от нашей красотки, — она потрепала жабу по набухшему зобу. — Подумайте, и она смела называть себя королевной…
— Не морочьте мне голову, тут что-то неладно. Кляпон, живо за Чёрной Книгой Магов. — Цыган схватил связку сухих трав: тимьяна, куриной слепоты, живокости и повилики, растёр, их в ладонях и бросил в воду. Потом он начал читать из цыганской библии заклятья:
«Малядивы, Лякадивы, Хвостик лысый, Хвостик сивый, Никобрары, Дьявол Старый, Чёрный Дьякон, Дядя Кракон, Харат! Марат! Третий круг, Рахатлукум-Хабакук!»Крышка трижды подскочила, из котла повалил фиолетовый пар.
— Помолодела, помолодела, — радостно вопил Кляпон.
— Друмля, подними крышку.
Тёмная жидкость покрылась ржавыми пятнами. Котёл, был пуст.
— Хо! — удивился цыган. — Что ж это за чары?
— Ну и чары! Ну и чары! — радостно верещал цыганёнок, прыгая на одной ножке.
— Тихо ты, бездельник! — прикрикнул на него Нагнёток. Он наклонил котёл и медленно стал сливать воду, процеживая сквозь растопыренные пальцы.
И вот, на дне, в самой гуще осадка, он увидел бойко плавающего головастика.
— Папа, это была настоящая жаба! — воскликнула Друмля.
— Запрягай коней! Негодяи! Они украли у нас! гвардейцев приведут на мою шею! — Нагнёток погрозил зверям кулаком. Он схватил за ухо сына и швырнул мальшку вглубь фургона.
— Сто ррразбойников рррбарррбаррра! — выругался он. О, это «ррр» переливалось у него в горле, словно отдалённый гром в ненастный вечер.
Ломая молодые берёзки, лошади вытянули фургон на дорогу.
Блохи, чуя свежий след, рвались с цепей.
Хлопая бичом и вздымая тучи пыли, за беглецами мчалась погоня.
Плоды поисков
А наши друзья садились завтракать. Капрал Пыпец повязал вокруг шеи салфетку. Хитраска пригладила лапкой растрёпанные кудряшки Виолинки. Мышибрат предостерёг: «Осторожно, горячо!» От молока, налитого в стаканы, пар.
— Не хочу молока, — раскапризничалась, махая ножами, королевна.
— Прекрасное молочко, — облизал усы Мышибрат.
— Не хочу! Не хочу! Не хочу! — Виолинка соскочила со стула. — Завтрак, — закричала она, — я хочу шоколада с пенкой!
— Тебе не нравится то, что я подал? — удивился хозяин.
— Только не «тебе»! — Королевна вскарабкалась на стул и, гордо выпрямившись, спросила; — А вы знаете вообще, кто я такая?
— Ну, маленькая девочка, которая не очень…
— Я королевна Виолинка!
— Да, это правда, — подтвердили звери. — Мы нашли в лесу около Кошмарки.
И тогда Завтрак, галантно взмахнув салфеткой, преклонил колено и благоговейно поцеловал кончики пальцев, которые королевна соизволила ему протянуть. Вскочив, он воскликнул: «Чего ни пожелаете, я принесу. Приказывайте, ваше величество!»
И начался пир.
— Кто за это заплатит? — спросил обеспокоенный петух.
— О ты волнуешься, скряга? — толкнула его локтем Виолинка. — Первый же гонец моего отца, который появится здесь, бросит трактирщику кошелёк с золотом.
— Ну, что ж, если так, тогда… — И друзья начали уплетать кушанья, которые подавали им в самом необычном порядке, подчиняясь капризам королевны.
Шоколад с пенкой, песочные пирожные с желе из золотистого крыжовника, сосиски в серебряной кастрюле, под зеркальной крышкой, затуманенной ароматным паром, пироги с черешней со взбитыми сливками, жареного карпа, над которым мурлыкал от наслаждения Мышибрат, вытягивая тоненькие косточки, содовая вода с соком, коловшая, словно иголками, в носу, ну, и фрукты — большие груши; их куски исчезали во рту, тая и стекая струйками сладкого сока.
Вся прислуга, обступив пирующих, следила за ними восхищённым и удивлённым взором.
Неожиданно за окнами послышался стук колёс и цоканье копыт. Дверь с треском распахнулась. Какой-то рыцарь, бросив шляпу с пером на оленьи рога, висевшие над камином, крикнул:
— Эй, хозяин, вина! Да покрепче… — Он вытер пот со лба и, вздохнув, опрокинул в рот огромный кубок.
Одна из служанок, подбежав к хозяину, шепнула ему что-то на ухо. Навострив уши, Мышибрат расслышал: «Из Блаблации. Королевна..»
Завтрак, потирая пухлые ладони, подошёл к гостю.
— Доблестный рыцарь, — начал он, — тебе уже не нужно ходить по дорогам в поисках королевны. — Рыцарь с удивлением поднял брови. — Потому что мы имеем честь принимать у себя! — Прежде чем гость успел вытереть усы после вина, хозяин подскочил и услужливо подсунул ему второй кубок. — Я позволю себе представить счётец за завтрак. Доблестный рыцарь, вероятно, заплатит за королевну и друзей. Это, конечно, пустяки, для этого еще есть время, но я только так, для порядка.
— Что? что? что? — поперхнулся гонец.
— Слушай, — крикнула Виолинка, — заплати этому скупердяю и дай по золотой монете этим зверюшкам, — она с презрением указала на друзей.
Рыцарь широко открыл рот, его живот заколыхался, в горле заскрипело, губы вытянулись, и он разразился громким смехом.
— Эта «красавица» — Виолинка! — раскатывался, отражаясь от потолка, его издевательский хохот. — Это страшилище! — рыцарь веселился от души и гудел так, будто кто-то ворочал бочку с пивом.
Капрал побагровел.
— Что это, нас обвиняют во лжи? — Он протянул крыло за графином, чтобы стукнуть придворного по лбу.
— Это настоящая королевна! — воскликнула Хитраска.
— Перестаньте, или я лопну, — давился от смеха рыцарь, — сжальтесь!
— Замолчи, ты, дурак! — топнула ногой королевна.
Не переставая смеяться, рыцарь снял со стены засиженное мухами зеркало, согласно придворному обычаю преклонил колено и подставил зеркало Виолинке.
— Ой! — крикнула она, заслонив лицо руками. Это потемневшее веснущатое лицо, распухший, словно тыква, нос, порванное платьице и рыжие, торчащие во все стороны волосы, — это она, прекрасная королевна!
Неправда, это злой сон. Она зажмурилась и вновь открыла глаза, но видение не пропадало; королевна уже начала узнавать в изуродованной и искажённой гневом физиономии своё собственное лицо.
— Гадкое стекло! — закричала королевна и швырнула зеркало на пол, да так, что оно с треском разбилось, но каждый осколок издевался над ней и говорил, как она некрасива. — Подожди ты, ты… — грозила она гонцу, — я пожалуюсь папе!
— Кто оплатит этот счёт? — размахивал листком бумаги Завтрак. — Платите за зеркало, — платите, или я прикажу вас избить!
— Ты позволил обобрать себя банде дармоедов. Обманули тебя, опустошили кастрюли, вылизали тарелки, — насмехался рыцарь. — А где, прекрасная королевна, твоё белое личико, золотые волосы и голубое платьице?
— Я королевна, настоящая королевна, — рыдала Виолинка.
Вдруг девчонка подскочила к гонцу и укусила его в бессильной злобе за палец.
— Ты, сморчок, — крикнул рыцарь, — получай за своё враньё! — И, прежде чем подбежали на помощь друзья, он влепил Виолинке несколько затрещин.
— Там внизу находятся двадцать семь найденных королевен! Вы слышите этот визг?
Выбежавшие из трактира гости увидели дилижанс; он весь трещал, и колыхался. Ломая с треском веера, швыряя туфельки направо и налево, вырывая друг у друга пряди волос из искусно сделанных причёсок, дрались двадцать семь королевен-самозванок.
— Эй, успокойтесь, сто рольмопсов! — крикнул рыцарь. — На старости лет сделали меня нянькой. — Он разогнал девчонок ударами шляпы.
Поправляя помятые банты, они чинно расселись на обитых бархатом креслицах и завистливо смотрели друг на друга; прежде чем дилижанс двинулся в путь, каждая успела показать разрыдавшейся Виолинке большой красный язык.
— Денег! Я выжму из вас последний грош, — грозил трактирщик, вцепившись изо всех сил в петушиный хвост.
* * *
В это время цыган доехал до поворота. Здесь он остановил лошадей и начал читать по складам объявление о похищении королевны.
— У нас в руках было сокровище, — вздохнула Друмля, — девчонка не врала.
На деревянной руке указателя дорог сидела с корзиной под крылом ворона и, наклонив голову, внимательно смотрела на проезжающих.
— Эй, тётка, — крикнул Нагнёток, — ты не видала петуха, кота и лисицу?
— Их только что обыскивала прислуга в трактире «Под копчёной селёдкой». Отобрали у них всё, дали по шее и прогнали прочь, — закаркала старая сплетница. — Они, верно, тащатся по этой дороге!
— Спасибо, тётка, — засмеялся цыган, — теперь они у нас в руках!
Свистнул бич, и клячи кряхтя потащили фургон вверх и крутому склону.
— Мы их поймаем, свяжем и выдадим королю, — это они будут похитителями детей! Понимаешь, они пойдут на виселицу, а я получу награду!
Цыган сунул в рукав нож и тряхнул ветхими вожжами.
— Но, вио! хэтта! мои рысачки!
Друмля серебристо рассмеялась, услышав этот коварный план. «Я горжусь тобой, папа», — шепнула она. Цыганка схватила гитару и, ударив по струнам, запела:
«Принесли мне вести эти Птицы самых разных стран: Нет разбойника на свете Злей, чем папа мой — цыган!»— Только в Тютюрлистане! Только в Тютюрлистане! — закричали какие-то птицы, скрытые от глаз в ветвях придорожного кустарника.
Родословная Мышибрата
— Теперь нам уже никто не поверит, — вздохнула Хитраска.
— Раз мне не поверили, так уж не поверят, — сетовал Мышибрат.
— Друзья! Есть один выход: нужно отвести Виолинку к самому королю, — любящее сердце отца наверняка узнает.
— А я не пойду, — крикнула королевна, — я никому не покажусь в таком виде! Вы — самая подходящая для меня компания! — Она с отчаянием подумала о злорадных перешёптываниях и слезливых поцелуях придворных дам, которые расчувствуются над ней и тут же, прикрыв лицо веером, многозначительно посмотрят друг на друга и ехидно улыбнутся.
Нет! Нет, она была слишком горда, чтобы возвращаться обезображенной чарами. Девочка не понимала, что красота тела преходяща, что она исчезает со временем, а вечными и несокрушимыми являются ясность души и доброта сердца, которые даже позднюю старость делают прекрасной.
День был напоён светом; с каждой минутой усиливалась жара. На полинялом, ушедшем ввысь небе кружил чёрной точкой ястреб-разведчик. Неподвижные деревья стонали от зноя, песок обжигал ноги.
До Тулебы оставалось целых два дня пути, а у друзей не было никаких запасов; жадный Завтрак отобрал у петуха последние три дуката, отложенные на чёрный день. Их обобрали до нитки, перерыли все вещи, а у Хитраски сорвали даже бант с хвоста.
Путников ожидала тяжёлая дорога, потому что они должны были выпрашивать пищу и ночлег, но не все двери открыты, не везде выносят кусок хлеба. Часто у них перед носом хозяйка захлопывала калитку и со злостью говорила: «У меня для вас ничего нет, бродяги… — а потом лицемерно добавляла: — Идите дальше, идите, пусть вам поможет бог!»
Друзьям приходилось туго, но они были мужественны. Хотя мальчишки свистели им вдогонку, кривлялись, передразнивали воинственный шаг петуха, кидали в путников комья земли, хотя собаки рвались с цепей и рычали: «Бррродяги, бррродяги! — или оскорбительно лаяли: — Хам! хам! хам!»
Наши знакомые медленно шли по деревне в полосатой тени плетней, брели вдоль запылённых садов, засаженных мальвой и ноготками, покорно стояли у заборов и порой находили ласковый приём, приветливую улыбку. В одном месте им давали ломоть хлеба, в другом — кусочек сыру, в третьем не пожалели для них кринки молока.
— Я не пойду дальше, — бормочет сухими губами королевна, — я больше не могу…
Солнечные искры жгут. Птицы замолкли. Воздух трепещет и дрожит над тёмной полосой чащ Столесья. Тени стали совсем маленькими, охотнее всего они укрылись бы под ступнёй, но песок раскалён, как сковородка, и тени бегут сбоку, напрасно ища убежища.
— Собери все силы, — уговаривает петух, — это для тебя же нужно.
С каким удовольствием путники улеглись бы под сенью придорожных деревьев, в высокой траве, и смотрели бы в небо, куда улетают взгляды и летят так высоко, так далеко, что уже забывают вернуться в маленький зрачок!
Но в Блабоне тоскует в ожидании король Цинамон и рыдает по ночам королева Цикута.
Напрасно привозят новых фальшивых королевен. Каждую минуту вскакивает король, введённый в заблуждение голубым платьицем, веером и золотыми туфельками с брильянтовыми пряжками; протягивает руки королевне и лепечет сквозь слезы: «Дочурка!»
Королевны-самозванки вместо того, чтобы подбежать к родителям, повиснуть у них на шее и закричать: «Мама! Папочка!» — приседают согласно придворному этикету и, ослеплённые роскошью, шепчут: «Ваше величество!»
И король приказывает прогнать их. Он стоит у окна, ласточки снуют под крышей, мелькают в лазури, звенят, слетаясь на стены древней крепости, где каждая щёлочка скрывает в себе лакомый кусочек. Смотрит король на солнечный парк, на сады, полные цветов, и беспокойно дёргает резинку от короны, стучит скипетром в каменную стену и в забывчивости отирает портьерой набегающую слезу. За окном, подгоняемые писком птенцов, носятся и носятся ласточки.
А далеко по песчаной дороге бредёт маленькая королевна и слушает рассказ Мышибрата, позабыв о зное и усталости. Вы можете не верить. Но послушайте, о говорил Мышибрат.
— Нас родилось трое. Прежде чем я открыл глаза, я услыхал, как плещутся о покрытые тиной брёвна воды Белкотки. Моя мать старалась нас спрятать, но старый мельник Сито выследил наше убежище, и я почувствовал, как его мозолистая рука шарит в сене. Я глубоко зарылся в сено и не слышал криков брата и сестры, потому что вода хлынула на колесо, закрежетали жернова, затарахтели сита, вся мельница так затряслась, что из щелей начала бить мучная пыль. Поздно ночью мама пошла на берег, она бродила в камышах и звала детей. Хотя она мне ничего не сказала, я догадался об этом: весь мех был мокрым от росы. Белкотка не вернула своих жертв, она тихо лизала буковые желоба и плескалась о свои плотины. Мать крепко обняла меня. Мой брат и сестра трагически погибли, так и не увидев света.
— Ах, бедняжки! — тяжело вздыхает лиса, а петух прибавляет шагу.
— Быстрей, не отставайте! — подгоняет он друзей, пыаясь за воркотнёй скрыть своё волнение.
— Когда я вернусь в Блабону, я попрошу папу, чтобы он открыл приют для всех беспризорных котят, — говорит Виолинка.
Смотрите, посреди дороги лежит на спине божья коровка. Она шевелит лапками, она зовёт на помощь.
Виолинка наклоняется и, отерев с насекомого пыль, кладёт жучка на ладонь.
— Я думала, что это кусочек коралла, — шепчет королевна…
На спинке у божьей коровки три пятнышка. Она бежит по руке Виолинки, кружит на одном месте, забирается на безымянный палец и раздвигает спинку, словно женщина, которая поднимает юбку, когда хочет перескочить через лужу.
«Ты лети, жучок, на небо, Принеси кусочек хлеба», —говорит вместо Виолинки Мышибрат.
Божья коровка взлетает, делает круг над Хитраской и садится к ней на ухо. Хитраска трясёт головой и вдруг слышит шопот: «Без вашей помощи я бы погибла от зноя, благодарю вас от всей души, вы увидите, что я еще пригожусь вам, не будь я Точкой».
Она взлетает выше. Друзья следят за ней, запрокинув головы, до тех пор, пока божья коровка не растворяется в выцветшей голубизне.
— Я уже не вижу — говорит петух: — солнце слепит мне глаза.
Друзья идут дальше.
— От этого горя моя мама уже не оправилась, — продолжает Мышибрат. — Она часто вскакивала по ночам, ей слышался плач ребёнка… Она садилась на помост и рыдала, глядя на луну.
Белкотка напоминала серебряное зеркало, порой только сомы подплывали к шлюзу, притрагивались усами к доскам, стояли с минуту в задумчивости и пропадали в яме под колесом.
Однажды ночью мать крепко меня поцеловала и, перекрестив, ушла в иной мир искать погибших малюток.
Мой отец, известный на всю окрестность Мышелап Мяучура, любил ходить в корчму, стоявшую на перекрёстке. Папа возвращался оттуда поздно ночью, а иногда и на рассвете. Он нетвёрдым шагом, зачастую его ухо было разодрано в пьяной драке. Растроганный моей заброшенностью и одиночеством, он снимал с гвоздя гитару и пел на крыше серенаду. Чаще всего это было ранней весной. Я как сейчас вижу его, — обычно он стоял, выгнув хвост, на фоне тёмнокрасной луны; гитара звенела, и отец пел с вдохновенным выражением на морде, шевеля серебрящимися в лунном свете усами. Восхищённые сомы аплодировали, ударяя в плавники. Тихо капала вода, стекая с остановившегося колеса, очарование разрушал мельник Сито, который выбегал в полушубке, наброшенном на ночную рубашку, и, шлёпая босыми ногами по помосту, бросал в отца старой гирей или поленом и при этом отвратительно ругался. Он размахивал руками, как ветряк, и его тень, падая на воду, доставала вершины чёрных ольх и пугала рыб и лягушек. В конце концов, не в силах прекратить песни, он пускал мельницу и заглушал наши жалобные сереады шумом и грохотом воды.
Однажды ночью мой отец, околдованный месяцем, вскочил на его диск, двигавшийся над нашей крышей. Уносимый на серебряном круге, он играл на гитаре свои лучшие песни. Увы, бедняга не догадался, что месяц перед рассветом уносится высь. Охваченный страхом, я видел, как он умчался в серебряной гондоле, помахивая мне лапкой. Отцу уже не суждено было вернуться.
Несколько ночей каскады его серенад звенели над уснувшей мельницей. Напрасно звал его назад перепуганный Сито. Напрасно приставлял лестницу. Месяц уже не снижался. Я видел, как отец, под действием лунных излучений, худел и уменьшался по мере того, как убывала луна. В последней четверти он был так тонок, что я едва различал его на узком, как лезвие, серпе, который расплывался в моих глазах, наполненных слезами. Прежде чем отец ушел в потусторонний мир, он сбросил с неба гитару. И она, серебрясь в лунном свете, шумя пучком лент, пролетела звёздное небо, словно огненная комета. Мне показалось, что гитара с плеском погрузилась в воды Белкотки. Астрономы считали это важным предзнаменованием и предсказывали много слёз и бедствий… Действительно, через три месяца началась война с Блаблацией.
Я остался один. Даже гитары я не нашел, только порой, в тихую ночь, до меня долетало из-под мельничного колеса что-то похожее на голос. Может быть, какой-нибудь сом, проплывая над ней, задевал усами струны.
— Неслыханно! — воскликнула Хитраска.
— Ну и что? Что дальше? — нетерпеливо допытывалась королевна. Путники и не заметили, как прошли порядочный кусок дороги.
— Несмотря на то, что моим отцом был славный Мышелап Мяучура, а о прадеде говорится в легендах и сказках… вы наверняка слышали о «Коте в сапогах» — это был он… Несмотря на это, старик Сито презрительно говаривал мне: «С тех пор, как живу на свете, не видал таких взбалмошных котов!»
Для него была непонятна красота весенней ночи, кваканье жабьих хоров над Белкоткой и мелодичный шум воды, падающей на буковое колесо.
В такие ночи мельник обходил с фонарём в руке загромождённую мешками кладовую. Его причудливая тень двигалась по стене. Потом скряга совал руку в дымоход и долго считал талеры, спрятанные в заштопанном чулке покойницы-жены. Зато днём он почти всегда дремал, убаюканный шумом мельницы. Иногда старик открывал один глаз, но, видя меня с мешком на спине или с ведром в лапе, засыпал снова. Я должен был лопатой отгребать отруби, насыпать зерно в воронки, а главное, следить, чтобы мыши не наделали вреда. (Мой отец беспощадно расправлялся с ними, за что получил почётное прозвище Мышелапа.) Это было неприятное занятие; подумайте, после того, как я съедал за ужином миску яичницы с колбасой и выпивал молока, нужно было согласно кошачьей традиции проглотить мышь, вспотевшую от страха, измученную и бледную. Но в течение долгого времени я исполнял эти обязанности.
Летом мышиные семьи покидали мельницу и выезжали на дачу, привольно отдыхая в окрестных полях, засеянных пшеницей, где жила их зажиточная родня. Зато осенью, когда на дворе была непогода, они сотнями возвращались, нередко приводя с собой обедневших родственников. Мыши скреблись на чердаке, крались в тени амбаров и воровали из мешков золотистые зёрна.
В их глазах я был кровавым погромщиком и палачом. Когда снежный пух засыпал пороги, я не раз слышал, как, потирая озябшие лапки, они нетерпеливо топтались в норах, ожидая, что я уйду спать. Матери, поблёскивая чёрными глазками, напевали детям:
«… Постарайся не попасть Мяучуре злому в пасть, Мой сыночек!»А я, грозно шевеля усами, освещал фонариком углы.
* * *
Это было в начале января. Лютый мороз сковал землю, а быстрые ветры кружили снежные иглы и ломали сосульки, свисающие с мельничного колеса. Порой из мышиных нор до меня долетали весёлые голоса и рождественские песни.
На душе у меня было очень грустно.
Я отправился на чердак. Здесь сквозь щели пробивались лучи месяца, в их свете серебрился на стенах иней. Фонарь вспыхнул синим пламенем и погас. Я улёгся на мешках. Мне хотелось быть подальше от хозяина, который ломал голову над засаленной конторской книгой, подсчитывая огрызком карандаша прошлогодние барыши. Я думал о своей маме, о похищенном луной отце и лежал, прикрыв лапками слезящиеся от мороза глаза.
Вдруг я заметил, — между мешками, словно по широкой улице, под радостные крики движется шествие мышей. Точно подброшенный пружиной, я вскочил и загородил им дорогу.
Мыши окаменели. Они не смели бежать, впрочем, я мог каждую из них пригвоздить к полу лапой. Впереди стояла старшая мышь, на ней была серая шубка. За спиной, съёжившись от страха, притаился какой-то франт в светлых перчатках и котелке. Дальше — небольшая толпа празднично одетых гостей.
Стоило мне только моргнуть глазом, — и все побледнели. Из рук франта выпала бамбуковая палочка, но он не посмел нагнуться за ней. Сверху я видел, как озорной мышонок, шагавший позади всех, воспользовался испугом своей бабки и принялся связывать гостям хвосты.
Неожиданно мышь в шубке выступила вперёд.
— Благородный господин Мяучура, — проговорила она дрожащим голоском. И тут я увидел, что она прижимает к груди маленький свёрток, закутанный в кружева, — наш бесценный тиран!
Я расправил усы. Этот жест перепугал мышей. Чуть слышно пискнув, зверюшки бросились было врассыпную, но тотчас замерли на месте: их не пустили связанные хвосты. Шалун от радости перекувырнулся через голову, а бабка, схватив мышонка за ухо, дала ему такую затрещину, что над ним поднялось облако пыли.
Я был не в состоянии сохранить серьёзность и рассмеялся. Впрочем, я не мог бы обидеть кого-нибудь в эту ночь.
— Ну, говори, малышка, — мяукнул я тихо.
Видя, что я милостив, все легко вздохнули. Франт приподнял котелок и украдкой вытер вспотевший лоб.
— Мы все шли к тебе, суровый Мяучура, просить твоего великодушного соизволения быть крёстным отцом моего первенца. — Мышь так близко подошла ко мне, что я ясно ощутил запах надушенного меха. Она подала мне завёрнутого в пелёнки мышиного младенца.
Что было делать? У меня мягкое сердце, и я согласился.
Когда с новорождённым на руках под радостные крики я пировал на мышином празднике, — на небе мои благородные предки, наверное, рвали на себе усы и проклинали меня. Ведь еще никогда с тех пор, как стоит мир, не было такого братания между кошкой и мышами.
— Ну, а в Ноевом ковчеге? — спросила Хитраска.
— Даже и там коты были на носу, а мыши на корме, и, если бы не морская болезнь, кто знает… С тех пор, сколько я ни ловил мышей на воровстве зерна, всегда оказывалось, что это дядя или тётка моего крестника, и я должен был, извинившись, отпустить вора.
Мой малыш вырос порядочным разбойником, и мать часто приводила его ко мне, чтобы я поиграл с ним. Она была этим очень горда, впрочем, она и сама происходила из благородного рода, в ее жилах текла королевская кровь.
— Не может быть! У мыши? — обиделась королевна.
— А как же, где-то в далёкой стране, кажется, в Польске, мыши съели некоего короля Попеля, да в его собственном замке!
— Ну и дела, — удивилась Хитраска.
— А что же смотрела полиция?! — возмутился капрал Пыпец.
— Пока я играл с мышонком, его родственники шныряли углам, — они ссыпали зерно и муку в кожаные мешки. Дело дошло до того, что мыши заставили меня стоять на страже и предупреждать их о приходе мельника. Мало того, — они уговаривали меня самого таскать из кладовой солонину, якобы для моего крестника, который был болезненным ребёнком и родители старались кормить мышонка получше.
Однажды я не выдержал и задремал. Подумайте, днём у меня была работа, а ночью приходилось заботиться об этих пройдохах-мышах; они так осмелели, что шныряли во время ужина по столу, и часто, доставая из кармана ключи, я находил там спящего мышонка.
В ту памятную ночь я крепко уснул и не слышал шума, разбудившего моего хозяина. Сито в удивлении стал протирать глаза, — по самой середине комнаты передвигался огромный мешок пшеницы.
Старику показалось, что он спит, но нет, мешок двигался прямёхонько к порогу, и при этом старик отчетливо услышал писк стаи мышей. Они тащили мешок на своих спинах. Тут мельник вскочил — с грохотом перевернулась лавка; стало серым, повсюду задвигались стаи мышей, они десятками выскакивали из кринок. Ошеломлённый хозяин стоял, растопырив руки, три волоса на его голове поднялись дыбом, желая посмотреть на это исполненное ужаса зрелище.
Потом Сито кинулся на меня. Прежде чем я очнулся, он уже тащил меня за хвост.
— Позор кошачьего племени, выродок, — визжал он, — ты не кот, ты мышиный брат!
Он ударил меня ниже спины и швырнул в снег. Я долго ждал, когда остынет гнев хозяина.
Мне было видно, как двигался по кладовой огонёк. Слышались душераздирающие вопли, — это мельник подсчитывал убытки.
Я не уверен, расстались ли мы навсегда, но так как я до сих пор хромаю, то думаю, что он был мною недоволен.
Работы я нигде не нашёл, но и не голодал, потому что за мной шла слава мышиного опекуна — и всегда какие-нибудь, дальние родственники моего крестника приносили мне несколько кусков сала, героически украденных из мышеловок. «Для нашего дорогого Мышибрата», — говорили они, печалясь над моей недолей и поблёскивая при этом влажными от слёз глазами.
— Ты славный кот, — потрепал его по плечу петух.
Неожиданно над их головами повисла, словно ягодка рябины, возвратившаяся Точка.
— Смотрите, наша божья коровка!
— Тише… Замолчите…
— Торопитесь! Торопитесь! — кричали куропатки в полёгшей от зноя пшенице.
— Смотрите, какой-то фургон едет, — мяукнул Мышибрат.
Было так тихо, что звери слышали, как сыплется песок с медленно вращающихся колёс, как скрипят ремни и храпят кони.
Взметнувшаяся пыль, будто хвост дракона, двигалась тёмной полосой за колымагой.
— Бежим, — крикнули друзья, — это цыган Нагнёток!
Свернув с дороги, раздвигая колосья, звери помчались ближней межой, под защиту дремучих чащ Столесья.
— Вот они, совсем рядом! — послышался радостный голос цыгана.
— Не бойтесь, я помогу вам, — шепнула Точка на ухо Хитраске.
Братство отравителей
Высвободив штанину из острых шипов ежевики, цыган вырвался, наконец, из чащи цепких кустарников и, сунув нож за пояс, вышел на поляну.
— Эй, Друмля!
Издалека он услышал голоса дочери и сына. Еле переводя дух, они вернулись с пустыми руками.
— Мы не найдём их, папа, в этих дебрях, — сказала цыганка, вытаскивая из волос запутавшиеся листья.
— Если б здесь были мои блохи, — в раздумье почесал шею Нагнёток; и вдруг, дёрнув себя за бороду, он прошептал:
— Какая мысль! Станьте на одной ноге!
— Зачем? Какой от этого прок?
— Становись, не разговаривай. Я знаю, что делаю! — Он с трудом закинул ногу за пояс и стоял так, скорчившись и бормоча заклятья в травы и папоротники:
«К вам пришёл я в тёмный дол, На одной ноге пришёл. Жду при солнце и луне, Отравители — ко мне! Ну, а тот, Что на зов мой не придёт, Пусть состарится скорей, Умирая от червей — О! О! О! О!»Услышав эти заклятья, деревья задрожали; дольше всех колыхался плющ на старом дубе, словно у него была одышка. Сквозь листья блеснул круглый глаз петуха, и потянула острым носом Хитраска.
— Мы погибли, — простонал Мышибрат, отпрянув вглубь дупла, где, съёжившись, сидела перепуганная Виолинка.
На полянку со всех сторон высыпали мухоморы и быстро построились в шеренги.
Мухомор — странный гриб. Он стоит себе в красной шляпке, заломленной на затылок или надвинутой на глаза, в белом чулке, такой скромный и невинный. Но всегда вокруг него странная тишина и пустота. Не пролетит бабочка, не прожужжит муха. Он стоит и копит в себе смертоносный яд. Вы заметили, — у молодых мухоморов шляпка сплошь красная, а у старых множество точек, похожих на кусочки белого пластыря. Но вы не знаете, верно, о том, что это особые знаки. За каждую умерщвлённую муху — одна точка. Стоит ей только лизнуть сока, напоминающего по цвету молоко, как она тотчас умирает от яда.
Больше всего мухоморы ненавидят людей, потому что человек, отыскав съедобный гриб, похвалит его, соскоблит с ножки землю, положит в корзинку, а мухомору даст палкой по башке, собьёт с него шляпку, раскрошит, растопчет. Поэтому мухоморы вступают в особые братства, где обсуждают новые способы применения ядов.
Они действуют так: идёт по лесу какой-нибудь старичок или полуслепая бабка, срывает мухомор, варит его дома вместе со съедобными грибами, а потом, отравившись, засыпает вечным сном.
— Чего ты хочешь от нас? — кричали мухоморы, нетерпеливо подпрыгивая на месте. — Зачем ты нас вызвал?
— Я хочу, чтобы вы нашли, где спрятались лиса, петух и кот. С ними маленький человеческий ребёнок; тех троих вы можете отравить, но не смейте прикасаться к девочке! Я хочу взять живьём! Если вы не найдёте мне их, я превращу вас в поганок.
— Ох, не делай этого, господин! Мы добудем беглецов из-под земли, эти трое будут извиваться со вспухшими животами. Когда они заснут, мы смочим ядом их губы! Завтра же мы приведём к тебе девочку.
— Хорошо, я буду ждать до рассвета, только начинайте поиски сейчас и ищите получше, или… — Он вырвал из-за пояса бич и взмахнул им над мухоморьим войском.
Мухоморы разбежались, только мелькнули в траве их красные шапочки.
Да, грибы могут двигаться! Лишь когда на них смотрит человек, они застывают в неподвижности. Но вспотевшие ножки, сдвинутые набекрень шляпки говорят о том, что еще несколько секунд тому назад они бойко пробирались сквозь лесную чащу. Порой мы застаём врасплох целые семьи, которые сошлись на полянку с детьми, со щербатыми дедами… Мы радуемся, — сколько высыпало грибов! Это обычно бывает после тёплых ливней, потому что во время дождя грибы сидят у знакомых, в домиках под корневищами, и болтают, расположившись на мягком мху, а потом возвращаются домой в полной уверенности, что никто из людей не пройдёт сквозь заросли, где нависшие, смоченные дождём ветки преграждают им дорогу.
Начальник мухоморов достал из подмышки карту и подал цыгану. Она была сделана из листа лопуха. Лист весь высох и выкрошился, осталась только тоненькая сеточка — крохотные жилки, обозначавшие путаные тропинки в чащах Столесья.
— Мы загоним беглецов в болото Утопленника, — там ты нападёшь на них. Это место я обозначу красной булавкой. — Мухомор вытащил из белоснежной манжеты булавку и приколол к карте. — Сам видишь, отсюда недалеко, ты без труда их найдёшь!
Не сняв шляпы, он кивнул цыгану головой и деловым шагом направился к кустам. Издалека доносились крики и топот; это красной линией двигалась по лесу мухоморья облава.
Цыган почесал оцарапанную ногу и стал разглядывать карту. Друмля и Кляпон с любопытством смотрели на отца.
* * *
Капрал Пыпец нетерпеливо шевельнулся в дупле. Сверху посыпалась труха; у него защекотало в клюве. Петух чихнул так громко, что в дупле загудело. Цыган беспокойно оглянулся.
— Старый дуб, наверное, выпил слишком много соков, и теперь его мучает икота, — засмеялась Друмля.
Звери замерли. Сердца у них громко забились, и только королевна прошипела: «Жаль, что тебе не свернули шею, петушиное отродье!»
Одна Хитраска с трепетом следила за божьей коровкой, которая, сделав круг над головой цыгана, села теперь на карту. Быстро выдернув красную булавку, она замерла, на месте.
— Подождите меня в фургоне, — приказал цыган, — да приготовьте верёвки. Друмля, ты получишь от меня лисий мех.
Нагнёток раз посмотрел на карту и двинулся самой близкой тропинкой. Он на голоса мухоморов, а те сновали по кустам и спешили в сторону болота.
Смерть точки
Петух расправил крылья, а лисица вытрясла труху из меха.
— Что теперь делать?
— Нужно ждать до вечера, может быть, нам удастся добраться до дороги, когда стемнеет… Недалеко отсюда деревня Скупицы. Там нас спрячут.
— Только бы нас никто не выдал!
— Точка обещала нам помочь!
— Эх, что может сделать этот жучок?
Весело покрикивая и с шумом раздвигая ветки, кто-то вновь приближался к дубу.
— Прячьтесь, влезайте в дупло, — подгонял друзей петух. Звери притаились, скрытые за листьями плюща. Цыганёнок Кляпон, посвистывая, перебежал поляну.
— И чего тут крутится этот бездельник? — вздохнула Хитраска.
— Тихо, не шевелитесь. Нужно терпеливо ждать! — Сидя на корточках, звери следили за лучами солнца, которые опускались ниже и ниже, скользя по стволам деревьев. Внутренность дупла была усеяна множеством золотых бликов…
А цыган крался по извилистым тропинкам. Время от времени он раскрывал карту и смотрел, где находится красная точка.
Вскоре он убедился, что ему нужно повернуть направо. Взглянув через минуту, он вновь обнаружил, что ошибся. Нагнёток вышел на боковую тропинку и побежал, тяжело ступая подкованными сапожищами по сухим листьям.
Это божья коровка, передвигаясь по карте, заставляла его кружить вслепую. Уже смеркалось, когда запыхавшийся цыган последний раз развернул карту. Тоненький листок был запачкан во многих местах.
— Сто дьяволов, — выругался Нагнёток, — что это, чорт меня кружит, что ли?
Он поднёс карту к налитым кровью глазам. Слипшиеся от пота космы волос свисали у него со лба. Цыган почти водил носом по карте и даже не заметил, как придавил им самоотверженного жучка.
Смертельно раненная Точка скатилась с карты с тихим вздохом:
— Это для вас, друзья… — Она мягко падала с листа на лист, исчезая в подымающихся с земли голубоватых сумерках, пока какая-то сердобольная ветка не уложила на мягкий мох. Точка лежала не дыша, скрестив на груди лапки, согласно погребальному обычаю насекомых. С цветов, с деревьев, с далёкого неба начали падать большие слёзы надвигающейся ночи, ночи, которая была прекраснее сна. Над лесом гулял месяц; размахивая фонариком, он сзывал к себе рои улетаюших звёзд. Лёгкий ветерок принёс какое-то незнакомое благоухание.
Цыган несколько раз протёр глаза, но сумерки сгущались. Листья стряхивали капельки росы.
— Эй, кто тут? — гаркнул цыган.
Ему ответило молчание. Даже эхо не хотело повторять слова этого изверга. Тишина давила, словно мельничный жёрнов.
Перепуганный цыган помчался по лесу. Какие-то деревья преграждали ему путь; дважды он стукнулся головой о ствол. Цыган спотыкался, тёрн беспощадно колол его тело шипами, ежевика с остервенением хватала его за ноги. Наконец Нагнёток в ярости разорвал карту и начал вслепую, отбиваться кулаками.
Если вы когда-нибудь увидите тонкие, прозрачные сеточки листьев, вы можете быть уверены, — это остатки разорванной Нагнётком карты.
Цыган бежал дальше и дальше. Неожиданно он споткнулся о корень дуба и, перевернувшись через голову, увяз по пояс в трясине. Издалека до него доносились крики суетившихся мухоморов. К своему ужасу, Нагнёток очутился в болоте Утопленника.
Он ухватился за куст ежевики, но колючие ветки, были плохой опорой. Цыган чувствовал, как чмокающая и чавкающая топь засасывает его. Невдалеке взлетели перепуганные утки. Рядом загорелся, булькнув, блуждающий огонёк и погас, осветив покрытую плесенью воду и сверкнув алым отблеском на рубине цыганской серьги.
А в это время четверо беглецов, воспользовавшись темнотой, пробрались к опушке леса.
Петух первый раздвинул ветки. Высоко в небе мерцали звёзды. Ночь была тиха и тепла, как вздох ребёнка. Друзья перескочили через ров и, немного осмелев, направились в сторону деревни. Слева и справа от дороги стояли спящие деревья. Вдруг звери услышали в вышине шорох крыльев и смех.
— Не бойтесь, это сова, — шепнула Хитраска.
— А почему она смеётся, как Друмля? — спросила Виолинка.
— Ты просто хочешь спать, и тебе мерещится всякий вздор, — успокаивали друзья.
Но девочка не ошиблась, — это была Друмля. Обеспокоенная отсутствием отца, красивая цыганка превратилась в сову, чтобы осмотреть лесную чащу. Когда она пролетала над верхушками деревьев, птицы сидели, притаившись в гнёздах, и со страхом смотрели на силуэт, чернеющий на фоне месяца. Пролетая над болотом, Друмля услышала неистовую ругань застрявшего в болоте Нагнётка.
— Подожди, папа, я тебе сейчас помогу, — закричала она, садясь на нижнюю ветку дуба.
О том, что это сова не обыкновенная, можно было догадаться только по кораллам, сверкавшим на гладких перьях. Но вот цыганка сделала крылом какие-то знаки и прошептала заклятья, которые ей должны были вернуть человеческий облик. Под крылом у была спрятана связка верёвок, — этими верёвками она собиралась скрутить пойманных мухоморами беглецов. Конец верёвки Друмля бросила отцу, — тот еще яростно барахтался в топкой грязи болота…
Меж тем наши друзья спасались бегством. Каждый шаг удалял их от опасности.
Деревья поредели. Начались поля. Отягчённые росой колосья неподвижно висели в воздухе. Вскоре показались низенькие хаты. Нигде не было видно ни огонька, потому что в Скупицах экономили всё, даже воду из колодца черпали с оглядкой, даже рот открывали неохотно. Были и такие, что смотрели одним глазом, чтобы другого надольше хватило.
Наши друзья увидели стог сена. Они выкопали под ним, глубокую яму, сделали себе удобную нору и после всех волнений дня уснули крепким сном.
Они даже не услышали, как на рассвете, когда белёсый туман окутывал землю, к стогу подъехал цирковой фургон. Лошади цыгана щипали сено прямо над их головами. Потом заскрипели колёса, и Нагнёток бросился в погоню, воображая, что звери давно опередили его.
Только брюки, запачканные брюки цыгана, развевающиеся над крышей фургона, говорили о ночных приключениях их владельца.
Скупицы
Когда солнце начало пригревать, стог сена зашевелился и оттуда вылез капрал Пыпец. Он одёрнул мундир, пригладил седеющий гребень и быстрым шагом направился на деревенскую площадь. Вслед за ним должны были двинуться в путь Хитраска и Мышибрат. Они уговорились, что встретятся на пригорке за деревней, где растёт дикая груша. Там же, под грушей, они поделят всё, что им удастся достать, и, расстелив на траве скатерть, устроят пир.
Но, чем дальше заходил петух в тесные улочки, тем темнее становилось вокруг, меньше лучей солнца, больше грязи. В садах, огороженных покосившимися заборами, ничего не росло; они выглядели так, словно была уже поздняя осень. Солнце редко заглядывало сюда, потому что при каждом его появлении из хат выбегали мальчишки и, прыгая на одной ноге, хватали горстями солнечные лучи, вязали их в пучки и засовывали в мешок. Юные скряги запасались топливом на зиму. Глупцы не знали, что лучи исчезнут, что в морозный вечер они вытряхнут из мешка только спутанные шнурки, ремни и тряпки.
Зимой озябшие толстосумы клали на стол пригоршни золота и серебра и грелись в их тусклом свете. Бедняки, складывая ладони, ударяли ими о колено, обманывая мёрзнущее ухо звуком, похожим на звон монет в кошельке.
Петух был изумлён. Тут отец хвалит сына за то, что он сломал чужой забор на дрова, там бабка обвязывает внучке грудь шнурком, чтобы девочка меньше дышала. Дым из трубы стелется по ветхим крышам, на обломанных деревьях зияют кровоточащие раны, ветки тянутся в серое небо. Кажется, что тополя встали на цыпочки, — они рады забраться повыше, да только корни их не пускают.
Капрал Пыпец остановился на рыночной площади, около ржавого колодца, с сожалением посмотрел на вялых, медленно бредущих людишек.
«Разбужу-ка я их своим рожком», — подумал он и заиграл весёлый марш.
Собралась серая толпа, и тотчас вокруг потемнело, — жители были разбужены, но попрежнему грустны. Впереди всех стоял в заплатанном армяке сельский староста Скопидом Грошик. В другом месте огородное пугало постыдилось бы надеть на себя одежду, которую в Скупицах считали весьма изысканной. Староста невероятно исхудал, так как рот у него был закрыт на замок, чтобы реже его одолевало искушение поесть. Ключ от замка хранился у самого быстроногого мальчишки в деревне. Когда ссохшийся желудок требовал пищи, Грошик бросался в погоню за мальчишкой, а потом в изнеможении садился, задыхаясь и обливаясь потом, — и голод у него проходил. Зато он научился есть глазами, он своим волчьим взглядом мог укусить барахтающегося в луже поросёнка так, что тот с оглушительным визгом стремглав убегал прочь.
Петух играл. Выбежавшая толпа напирала на него, он уже не слышал марша, он только видел, как жители руками хватали мелодию, засовывая себе в уши, и, заткнув оба уха пальцами, уходили к себе домой.
Дети подпрыгивали вверх, чтобы поймать на лету самые высокие ноты.
— Друзья мои, так нельзя, — сказал петух, опуская рожок.
И тут он почувствовал, что его начали ощипывать со всех сторон. Он ясно ощутил, как алчный глаз старосты Грошика стал пожирать его жилистые икры. Тогда петух снял с головы шляпу и протянул толпе.
— Помогите, чем можете, бывшему участнику войны с Блаблацией! Помогите, чем можете, голодному инвалиду!
Если бы капрал нацелился в скупцов из пушки, он не мог бы их испугать сильнее. Мысль, что кто-нибудь из них может добровольно отдать заработанный в поте лица грош, хотя бы один грош, наполнила их ужасом. С тех пор, как Скупицы называются Скупицами, там еще никто никому не подавал милостыни.
Все сорвались с места и побежали в хаты. Площадь опустела.
Капрал слышал, как жители баррикадировали шкафами двери, тащили сундуки и закрывали на засов ворота, чтобы никто не вошёл к ним с просьбой о помощи.
Петух стряхнул грязь со шпор и, понурив голову, направился к месту встречи. В животе у него бурчало, слёзы капали из глаз, крылом он нежно прижимал к себе узелок.
— Может быть, повезёт Хитраске, — вздохнул Пыпец, усевшись под грушей.
Меж тем Хитраска ходила от дома к дому. Порой какая-нибудь хозяйка выглядывала одним глазом из дверей и движением руки прогоняла прочь. Иная процеживала сквозь стиснутые зубы несколько слов, но так экономно, что их смысла нельзя было разобрать и только какие-то шепелявые звуки долетали до уха лисицы. В довершение всего, жена старосты Грошика прикрикнула на неё:
— Видали богачку! Одета в мех да просит милостыню; ни у кого из нас нет такого меха! Как тебе не стыдно? Неужели я должна вырвать хлеб из своего рта и отдать его тебе?
— Но я ведь родилась в меху!
— Меня это не касается, ты богачка, вот и всё. — Из полуоткрытых дверей она погрозила лисице кочергой, а староста, приложил к замку палец, предостерегая жену, чтобы та экономила слова.
Мышибрату, который, покорно повесив хвост, робко просил милостыню и несмело протягивал шляпу, жители велели переловить всех мышей в деревне, — может быть, тогда они дадут ему грошик. Но все здешние мыши давно уже умерли с голоду, и только их исхудалые тени тихо шелестели в опустевших кладовых.
Печально повесив усы, Мышибрат вернулся к друзьям, а следом за ним прибежала Виолинка.
— Что же мы будем есть?
— По правде говоря, у нас ничего нет, — почесал в затылке капрал Пыпец.
Деревня заволоклась туманом и дымом, словно она боялась, что звери съедят глазами. Было тихо. Птицы здесь не жили, и только ветер доносил кряхтение скряг, копошащихся в грязных улочках.
Небо хмурилось. Было душно, как перед грозой.
Любезные пчеловоды
Хитраска сухими крошками кормила проголодавшихся блох.
— Ну, теперь я разрешаю вам немножко пошалить, — сказала лиса, отряхивая лапки.
— Если б только я была блохой… — всхлипнула королевна. Мышибрат, зажав в лапке камень, обходил дерево в поисках груши. Но оно наполовину засохло, ветви были обломаны, и только наверху, у самой вершины, золотилось несколько маленьких кислых плодов.
— До следующей деревни еще идти и идти!
— У меня нет сил двинуться с места!
— Подождите здесь, полежите под деревом, а я пойду, — может быть, что-нибудь и высмотрю. — Петух снял с плеча рожок и положил его рядом с узелком, с которым он расставался неохотно. Хитраске даже показалось, что Пыпец украдкой погладил его крылом.
— Посмотрите за моими пожитками, а я пошёл… — Петух с грустью поглядел на свои дырявые сапоги и заржавевшие шпоры. — Недолго они мне прослужат…
— Когда мы доберемся до Тулебы, я тебе куплю новые сапоги, — небрежно махнула рукой королевна.
Пока друзья не потеряли петуха из виду, он шёл, весело посвистывая, но стоило Пыпецу скрыться за деревьями, как он, охая, стал стаскивать сапоги, чтобы идти дальше босиком. У него ужасно болела натёртая пятка. Осмотревшись, петух увидел, — дорога снова уходит в лес. Он потерял надежду, что ему удастся найти какую-нибудь пищу для друзей.
«Хоть ягод наберу для них», — подумал он. Увы, время ягод уже прошло. Только кое-где виднелась земляника, набухшая и ставшая приторно сладкой от зноя.
Раздвигая ветки, петух отважно зашагал вглубь леса.
Следом за ним в поисках грибов отправилась Хитраска. «Хоть бы какую-нибудь дичь найти», — улыбнулась она узкими губами, высматривая среди моха жёлтые шляпки грибов.
Лисице вспомнились холодные цыплята, которых она вынимала из шелестящего пергамента. Бульканье спрятанных в сене бутылок со смородиновой наливкой. Как прекрасны были маёвки с детьми богатого индюка! Берёзовые ветви украшали карету. Доносился весёлый говор гостей, звякали бокалы в выстланной салфетками корзине…
Вдруг выстрел бабахнул так близко, что замечтавшаяся лисица, вскрикнув от ужаса, выскочила из меха и помчалась в лес, прижимая лапы к бьющемуся сердцу.
Из лесной чащи высунулся огромный нос, удивительно напоминающий своим цветом пион, и поэтому над ним постоянно кружились бабочки. Именно они помешали прицелиться и тем самым спасли Хитраску. Хозяин носа снял широкополую шляпу, украшенную фазаньим пером.
— Кто ж это тут шатался? — проворчал он, видя рассыпанные грибы, косынку и лисью шкуру. — Кажется, мы кого-то спугнули, — усмехнулся охотник, с довольным видом перебрасывая мех через плечо.
Он заткнул дымящийся пистолет за пояс и, наморщив лоб, глубоко задумался.
Петух услышал выстрел и стал пробираться через заросли в ту сторону, где поднималась к небу струйка порохового дыма.
* * *
— Боже мой, я высохну от голода! — простонала королевна. — Что ж это, неужели всю жизнь у меня будет в животе дырка? Когда ж я, наконец, от избавлюсь?
— Я расскажу тебе сказку о своём прадедушке, «Коте в сапогах».
— Отстань ты со своей сказкой! — фыркнула Виолинка. Девочка увидела, как поблёскивает вверху скрытая среди листвы маленькая груша. До чего же она была аппетитна!
— Может быть, ты сорвёшь для меня эту грушу?
Мышибрат послушно снял сапоги и босиком стал карабкаться по стволу. Когда он добрался до ветвей, дело пошло быстрее. Запрокинув голову, королевна следила за котом.
— Ну, пошевеливайся, быстрее!
Когда груша упала, Виолинка с жадностью набросилась на неё, но от кислого сока у девочки свело рот. Королевна плевалась и топала ногами.
— Ах, какое свинство!..
Вдруг ей бросился в глаза дорожный мешок капрала Пыпеца.
— Может быть, тут есть что-нибудь съестное, — воскликнула она, силясь развязать узел.
— Не трогай там ничего, — крикнул сверху Мышибрат, — подожди, пока я слезу.
— А может быть, там что-нибудь есть, — верещала любопытная девчонка.
И, прежде чем кот слез с дерева, она уже начала рыться в сокровищах петуха. Медали, катушки с нитками, пуговицы от мундира, помада, — ею капрал подкрашивал седеющий гребень… Виолинка уже растрепала пучок моха и с победоносным видом вытащила оттуда куриное яйцо.
— А это что? — крикнула она, поднимая яйцо над головой.
И вот королевна начала распоряжаться пристыжённым Мышибратом. Он должен был разжечь костёр и в золе испечь яйцо.
— Я чувствовала, что он объедается за нашей спиной. Когда ему кажется, что мы спим, он всегда возится со своим узелком; подумать только, что за скверный капралишко, нет того, чтобы с нами поделиться!..
— Это невозможно, я его знаю.
— Не спорь, я его лучше знаю, — отвечала королевна, старательно зарывая яйцо в золу. — Вот, весь он тут, гордец и эгоист!
— Но я никогда этому не поверю, — защищал приятеля Мышибрат.
— Ну и не верь! Как ты любишь, — вкрутую или всмятку?
— Всмятку, — стыдливо прошептал кот.
Язычок пламени поедал охапку сухих трав и веток и цедил горьковатый дым в облачное небо.
— Не оборачивайтесь, — услышали они за своей спиной умоляющий голос, потом раздались какие-то шорохи и тихий плач.
— Кто там? — вздрогнула Виолинка.
— Это ты, Хитраска? — удивился ощетинившийся Мышибрат.
— Меня ограбили, — простонала лисица. Она была почти голой, тело прикрывало только несколько лопухов. Розовый, безволосый, тонкий, как у ящерицы, хвост Хитраска прятала за спину.
— Фу, какая она противная..
— В меня выстрелили, когда я собирала грибы..
— Не плачь, Хитраска, мы купим тебе мех у первого встречного барана.
— Разве бывают лисы в бараньей шкуре? — содрогнулась Хитраска.
Но она знала, что это только утешение: хотя бараны и легко расстаются со своими шкурами, у друзей не было ни гроша. Им не на что было купить даже еды.
А яйцо?..
Оно лежало в тёплой золе и пеклось, несмотря на то, что огонь уже погасал.
— Хоть бы петух был здесь, — простонала лисица, заламывая в отчаянии лапы, — как же я покажусь на глаза людям?
— Говорят о петухе, а он лёгок на помине, — приветствовал друзей Пыпец, показавшись из-за деревьев. Вслед за ним появился бородач с пионовым носом; слетевшиеся бабочки кружились над ним белым роем.
— Это он, — закричала Хитраска и ринулась в сторону заросшей лопухами канавы.
— Стой, Хитраска, Хитруня, — кричал ей петух, размахивая рыжим мехом.
Королевна стояла, разинув рот. Никто не знал, как это произошло: что-то мелькнуло, и уже Хитраска сидела в своей косматой шкуре. А грозный охотник схватил лапку лисы и погрузил несколько раз в пушистые волны своей бороды, откуда слышалось громкое чмоканье.
— Целую ручки высокочтимой Хитраске и покорнейше прошу простить меня, — говорил он, вытирая со лба пот.
Меж тем из леса выехала карета, к крыше было привязано несколько чемоданов.
Лошадей под уздцы плешивый блондин, шея его была повязана дамским чулком, а у пояса висели два пистолета.
Дверцы открылись, и из кареты выскочил маленький человечек. Его усы, закинутые за плечи, гордо поднялись, они торчали влево и вправо на девять локтей, и он шевелил ими, как сверчок, который собирается затрещать.
— Это мои друзья: Юлий Пробка и Макарий Гуляйнога.
— Кто же вы, господа?
— Любезные пчеловоды!
— Значит, у вас есть мёд, — облизнулась королевна.
— И какой, — похлопал Пробка по набитому золотом кошельку. — Посмотрите, вот наша пасека и прилежные пчёлки, — ехидно засмеялся он, показывая на лежавшие в долине лачуги скупцов.
А дело было так…
Все трое жили раньше в Скупицах. Юлий Пробка был там учителем, но дети скупцов в школу не ходили; на такие глупость, как поэтика, никто не хотел тратить ни времени, ни денег. Нужно вам сказать, что Юлий Пробка напечатал даже несколько стихотворений в столичных газетах. Опубликовав, своё очередное творение, он выходил из деревни на перекрёсток и мечтал о лавровом венке.
Но, несмотря на временные успехи, Пробка постоянно голодал и был тощ, как щепка. Если бы не словари и не издание по королевскому указу труда графа Майонеза «Как я избежал ошибок Ганнибала в войне с Блаблацией», которыми поэт нагружал свои карманы, его легко мог бы унести слабый ветерок.
В Скупицах он сблизился с другим артистом, виртуозом бритьенных дел — парикмахером Франтишеком Хилым. Но поскольку в Скупицах никто не был столь расточителен, чтобы бриться и делать прическу, а излишек волос жители выдирали друг у друга в непрестанных спорах и драках, то и ему угрожала в скором времени голодная смерть.
Последний из друзей, Илларий Уголёк, жил точно так же, как и три поколения его предков, надеждой, что в Скупицах надумают что-нибудь построить. На этом последнем из Угольков и надежде и роду суждено было угаснуть.
Пробка, Уголёк и Хилый сошлись однажды вечером и решили, очистив сапоги от грязи, незамедлительно пойти по свету.
Так они и сделали.
После восьмидневных скитаний они встретили возвращающиеся из Тулебы фургоны бродячего театра. Хозяин труппы так любил ужасы, что посоветовал им — он утверждал, что этого требует справедливость — стать разбойниками (разумеется, после того, как они немного подкормятся и окрепнут) и насильственным образом присваивать себе принадлежащую им часть общественного дохода. Он подарил им множество реквизита из своего театра — шляпы, пистолеты, алебарды и верёвки.
Так был образован «Союз Любезных Пчеловодов». Франтишек Хилый принял имя сурового Гуляйноги. Уголёк отпустил огромные усы; навощённые, они торчали в стороны, точно две рапиры. Маленькие птички, думая, что это ветки, садились на усы атамана и нарушали грозное впечатление невинным щебетанием.
— В тот момент, когда я встретился с ними, они готовились к сбору мёда, — воскликнул петух.
— О, у нас традиция, мы делаем это два раза в год, — объяснил Пробка.
— И вам это удаётся?
— Всегда… Это делается так: сзади к карете мы привязываем дырявый мешок с медяками и едем галопом через Скупицы; следом за нами бегут скряги, ссорясь из-за каждого гроша. Так мчатся они за каретой день или два, а в это время мы опустошаем хаты и вытаскиваем из укрытий спрятанное золото.
— Но как же это можно?
— Во-первых, мы делаем это с воспитательной целью, чтобы излечить скряг от скверного порока — от скупости; во-вторых, половину добычи мы всегда отдаем беднякам, которым сами они и не подумают помочь. Впрочем, вы учёная лисица, — обратился он к Хитраске, — вы знаете, что в каждом королевстве найдутся среди финансистов такие чародеи, которые сумеют несколькими заклятиями заставить раскошелиться зажиточных граждан.
— Господа, уже второй час, нам пора в путь…
— А вот мы как раз бедные, — пролепетал Мышибрат.
— Я помогу вам; подождите, пока мы кончим собирать мёд, — вы получите свою долю. Или, может быть, вы спешите?
— Нет, нет, мы не хотим денег, дайте нам чего-нибудь перекусить, — кукурекнул петух, вытягивая клюв в сторону увесистого чемодана.
Юлий Пробка ловко вскочил на крышу кареты, расстегнул ремни, достал буханку хлеба, три локтя колбасы, полпирога с черносливом и оплетённую тростником бутыль, в которой весело булькало вино.
— Выпьем на дорогу, — воскликнул он, наполняя огромные кубки.
— А кому в путь… — вздохнул Гуляйнога.
— Тот должен чем-нибудь подкрепиться, — закончила Хитраска, ловко нарезая колбасу.
Все ели с аппетитом, выпили по нескольку кубков. Пустую бутыль Уголёк забросил в кусты.
* * *
Карета, громыхая, въехала в тёмный проулок между лачугами.
Звякали падающие медяки, багровые в лучах заходящего солнца. Два разбойника крались вдоль плетней, ожидая, когда деревня опустеет, и только слегка развеселённый вином Пробка, развалившись на козлах, щёлкал бичом и пел во горло:
«За пригорком у ракиты Скрягу грабили бандиты. Ху! Ха! Если крепок чей-то лоб, Мы дубинкой по лбу — хлоп! Ху! Ха!»Скупцы выбежали из хат.
По знаку старосты Грошика они сбились в кучу и схватили друг друга за руки.
— На этот раз вам не удастся! Мы помним, как вы нас обобрали! Мы не дураки, — кричали они издалека.
Карета удалялась, падающие медяки позвякивали тише. Вдруг какой-то юркий мальчишка выскользнул из-за кордона и начал собирать деньги в шапку; этого скупцы не перенесли.
Цепь сплетённых рук лопнула. Забыв о прошлых опустошениях, скряги бежали по дороге и, нагибаясь, вырывали друг у друга из-под носа сыпавшиеся гроши. Через минуту деревня опустела. Все жители мчались за удаляющейся каретой.
— Удалось, — шепнул Мышибрат, дивясь пчеловодам.
— Так и надо скрягам, — топнула ногой королевна.
Тайна петуха
Небо потемнело; несмотря на слабый ветерок, было душно.
— Ну, и нам пора в путь.
Стоя на коленях, Хитраска упаковывала запасы. Она томно подняла глаза, в которых отражались еще хлеб и колбасы, посмотрела на петуха и сказала:
— Что бы мы стали делать без тебя, капрал? Ты наш опекун, наш лучший товарищ…
— Ты избавил нас от голода, — мяукнул Мышибрат, нежно обнимая друга.
— Э, не преувеличивайте… — скромно потупившись, ответил капрал.
— Скажи, — как ты сумел отобрать у них мою шкуру?.
— Что касается меха, то он его отдал с охотой.
— С охотой?
— Понимаешь, — и тут петух почесал голову и спину, — ну, понимаешь — блохи!
— Что?
— Блохи защищали твой мех.
Зардевшаяся Хитраска прошептала: «Мои милые, мои верные блошки…»
Ей ответили радостные и признательные писки.
— А я утверждаю, что это не петух, а свинья, — крикнула королевна.
Смущённый петух осмотрел свой гребень и хвост и не заметил никакой перемены: он был тем же старым петухом-ветераном.
— Виолинка! Как ты можешь!
— Только свинья может скрывать от нас еду, когда мы голодаем; а ночью втихомолку обжираться…
— Клянусь, я делился с вами всем, что имел!
— А мы нашли у тебя куриное яйцо!
Тут петух побледнел. Никогда еще звери не видели его в таком отчаянье и смятенье.
— Что вы сделали с этим яйцом?!!
Обшарив весь узелок, Пыпец кружился на месте, схватившись за голову.
— Оно там, — крикнула Виолинка, — теперь, наверно, уже испеклось вкрутую.
— Боже мой, — простонал петух; он рухнул на колени, разгреб пепел и, достав нагретое яйцо, дул на него, чтобы остудить.
— Вы видите, ему жаль для нас глупого яйца, — пискнула королевна.
— В этом яйце мой сын, — застонал петух, и слёзы закапали с его клюва.
Все умолкли, потрясённые признанием. В глубокой тишине послышалось тихое постукивание, словно кто-то обходил стены тюрьмы и, стуча в них пальцем, искал тайный выход.
— Что ты сделала, гадкая девчонка! — обрушилась лиса на Виолинку.
— Подумаешь, страшная история! У нас в замке сотни таких яиц…
— Тихо! Замолчите все, — взмолился петух, прикладывая яйцо к уху. Он стоял с минуту, внимательно прислушиваясь. Сомнений не было.
— Свершилось, — воскликнул он.
Яйцо переходило из рук в руки. Звери взволнованно вслушивались в движения малютки; уже видна была крохотная дырочка, в которую он выставил клювик. Повидимому, тепло костра помогло цыплёнку вылупиться.
— Мой сыночек! Мой дорогой… — петух покрывал яйцо поцелуями. — Ты жив… Ты жив…
— Но что мы будем делать с ним, когда он вылупится, — в дороге с малышом столько хлопот.
— Можно его выпотрошить и съесть, — сухо выговорила королевна.
Петух окаменел, прижав яйцо к груди.
— Ты, неблагодарная пигалица! — крикнула лиса. — Ты не стоишь нашей заботы и внимания.
— Боже! Ты слышишь и не гремишь, — заломил лапки Мышибрат. И вдруг раздался грохот. Молния зелёной стрелой разорвала сизые тучи. Дикая груша затрепетала, несколько мелких плодов упало на землю. Тяжёлые брызги косого дождя забарабанили по листьям.
Друзья побежали. Их догоняла высокая стена гудящего ливня. Гремел гром.
Прибытие в Тулебу
Снова настали хорошие дни. Знойная пора августа несёт с собой звон отбиваемых кос, сухой шорох срезанных колосьев. Среди лугов, где лениво сочатся голубые ручейки, аисты учат аистят охотиться на перепуганных жаб. Леса источают душный запах. Порой промелькнувшая белка задевает рыжим, как пламя, хвостом верхушки ёлок. Обвитые золотыми нитками смолы шишки уже утратили свой розовый цвет и отвердели; с шуршанием ударяясь о ветви, они падают в мох. Поляны усеяны крохотными фиолетовыми колокольчиками, а на вырубках уже начинает синеть вереск.
По вечерам, когда падает роса, усталые крестьяне возвращаются домой. Мокрые от пота рубашки овевает тёплое дыхание близящейся ночи. Крестьяне садятся на завалинке и слушают, как мирно скрипят журавли, плещется вода в желобах, как хрипит и переступает с ноги на ногу испуганный жеребенок. Иногда какая-нибудь звездочка заглядится в своё отражение и мелькнёт зелёной молнией, падая в пруд.
Но напрасно будешь искать на земле радость, над всем нависла угроза близкой войны: королевну до сих пор не нашли. Люди обсуждают новости, беспокойно вглядываются в сгущающиеся сумерки. Им кажется, что они слышат рокот барабанов и стук пушечных колес. Но это шелестят соломой о придорожный кустарник возвратившиеся с поля последние косматые возы с золотыми снопами, пахнущими хлебом и сытостью.
И тогда все спокойно вздыхают и тихо улыбаются, а ночные бабочки, привлечённые белизной рубашек, порхают вокруг, касаясь крыльями задумчивых лиц. Как раз в такое время трое друзей приближались к стенам Тулебы.
Хотя Виолинка не попросила извинения у петуха, он великодушно простил.
«Молодая, неразумная, она даже не понимает, что обидела меня», — думал он, прижимая к груди яйцо.
На дороге становилось оживлённее, чувствовалась близость города. Друзья повеселели. Мышибрат насвистывал песенку и щурил от удовольствия глаза при мысли о взбитых пуховиках, в которые он плюхнется вечером в каком-нибудь трактире. И только королевна была сердита на весь мир. Виолинка дала себе слово: пока с лица не сойдут чары цыгана, она не явится на королевский двор. Навстречу путникам шли крестьяне с пустыми корзинами и крестьянки с бидонами за спиной.
За скрытой в кустарнике часовенкой друзья услышали пронзительный свист и радостные крики. Паровоз, тащивший за собой девять вагончиков, состязался в скорости с запряжённым шестерней дилижансом. Высунувшись из окон, пассажиры покрикивали на машиниста, который бросал поленья в открытую топку. Длинная труба, похожая на катушку из-под ниток, обтянутую проволокой, дымила и шипела. Какой-то старичок пытался сэкономить пар и дудел в свёрнутую трубочкой газету, подражая паровозному гудку. Три мальчика, желая облегчить ход поезда, бежали вдоль полотна. Долговязый франт, выскочив из первого вагона, нарвал полевых цветов и вскочил на буфер, рядом с кондуктором, держащим высоко над головой красный флажок. Он карабкался теперь по крышам, чтобы вручить букет невесте. Встревоженная мать утихомиривала двух малышей; они высунулись из окна и размахивали вышитыми подтяжками задремавшего отца.
А внизу мчался дилижанс. Почтмейстер то щёлкал бичом, то, приложив к губам рожок, издавал весёлые звуки. Несколько усатых дворян, презирая станционную толчею, сажу и копоть, обещали ему, если он выиграет это состязание, большую бочку вина. Они небрежно кивали в сторону обезумевшего машиниста и курили, благовонные трубки, набитые мятовым листом. В облаках пыли и грохоте колёс дилижанс и поезд скатились с холма, устремляясь к воротам столицы.
— Пойдёмте, посмотрим, кто победит, — крикнула Виолинка.
Друзья побежали. С вершины холма им открылся вид на город, сверкнули золотистым пламенем купола церквей. По длинной тополевой аллее, пересечённой голубоватыми тенями стволов, уносился вдаль дилижанс.
Дома сверкали глазированным кирпичом, стаи голубей кружились в лазури. Издалека, с людных рынков, доносились говор и крики. Часы хрипло пробили шесть. Над зелёными верхушками садов, над гребнями крутых красных крыш, предвещая хорошую погоду, поднимались в небо тонкие струйки дыма. До зверей донёсся аромат готовящегося на плите ужина.
Взгляд петуха помутился от слёз. Там у каждого есть свой дом, стол, на котором книги шелестят пергаментными страницами, тихая жена, которая движением руки разглаживает на лбу морщины забот, и альков, где, устав от дневных дел, можно уснуть, нежно обнимая друг друга, вдыхая запах цветущей в горшках резеды. А за приоткрытым окном, в соседнем саду, поёт поздняя птица, месяц освещает фонариком шкафы, зеркала и буфеты. Алебардники покрикивают:
«Эй, гасите всюду свечи: Тёмна ночка недалече!..»И горожане засыпают, вслушиваясь в хрипение часов, и не знают, то ли покосами так пахнет родина, то ли это аромат волос любимой жены.
Петух вытянул оба крыла, словно хотел обнять милый сердцу город. За его покой он столько раз сражался и даже сегодня готов за него погибнуть, он, бездомный ветеран, скиталец…
Затуманенному слезой взору казалось, что город улетает в голубоватую мглу, — город далёкий и прекрасный, как самый дивный сон.
Петух наклонился, точно хотел удержать это видение, но тут яйцо выскользнуло у него из-под перьев и, постукивая скорлупой, начало скатываться по откосу.
Когда Пыпецу, наконец, удалось поймать яйцо и он в отчаянье взглянул на него, то оказалось, что скорлупа уже лопнула, — цыплёнок высунул свою маленькую головку, украшенную гребешком, и бойко оглядывался вокруг.
— Что мы с ним будем делать? — простонал петух, хотя его сердце билось от радости. — Где я найду ему няньку? Не мог ты выбрать другой минуты, чтобы родиться?
— Какой хорошенький петушок! — воскликнули, обступив его друзья. — Вылитый папа!
Они были уже недалеко от городских ворот. На придорожном камне сидел старичок и, попыхивая трубкой, паял кастрюлю. Махорочный дым то поднимал крышку трубки, расползаясь в надвигающемся вечере, то исчезал в глубине чубука. Старичок напевал:
«Сущий клад — даю вам слово — встретить слесаря такого, дырку в дне и дырку сбоку зачиню в мгновенье ока!»Вдруг петуху пришла в голову спасительная мысль.
— Мастер, — крикнул он, — обтяни проволокой эти скорлупки, — ты избавишь меня от больших хлопот: мой малыш хочет до времени вылупиться на свет.
Старичок поправил очки: «Всю жизнь чиню и паяю, но еще никогда не делал такой работы!»
Он сунул руку в ящик, достал тонюсенькую проволочку и обтянул треснувшую было скорлупу крепкой сеткой.
— Папочка, пусти меня хоть на минутку, ножки размять, — пищал цыплёнок, но петух ласково объяснил сыну:
— Не время мне теперь жену искать, — мы накануне войны, а связаться с первой встречной наседкой, благодарю покорно, я уже учёный! Ничего не поделаешь, сынок, придётся подождать, пока папа разбогатеет и построит приличный курятник.
Яйцо было починено, и друзья отправились дальше.
На стенах города по обеим сторонам ворот виднелись огромные афиши:
На афише был изображен улыбающийся цыган, который взвил бич над дюжиной блох, обнаживших острые зубы. В сгустившихся сумерках руки его, обтянутые белыми перчатками, высовывались из афиши, и друзьям казалось, что он вот-вот выскочит и расправится с ними.
Мышибрат всматривался в Нагнётка, ощетинив шерсть:
— Чувствую, что он принесёт нам несчастье…
— Уйми ты это глупое предчувствие, — дружески похлопала его по плечу Хитраска, — здесь в городе нам нечего бояться.
В темноте из аркады выбежал какой-то толстяк и, растолкав животом зевак, попытался обнять петуха.
— Кого я вижу? — гаркнул он, сердечно поцеловавшись с Пыпецом. — Где ты пропадал столько времени?
Пушкарь Пукло! — ударил изо всех сил приятеля по плечу капрал. — Здравствуй, старина!
— Ты что-то неважно выглядишь, — Пукло сочувственно посмотрел на петуха, — может быть, слишком много этого… (Тут он поднёс руку ко рту, словно опрокидывал кубок.)
— Да где там… Зато ты цветёшь, — шутливо щёлкнул Пыпец пушкаря по огромному животу.
— Ну, и что же, — рассмеялся Пукло, — выросло у меня пузо, теперь есть на что ордена вешать. Я содержу в Тулебе постоялый двор, частенько за кружкой пива с дружками я вспоминаю старые времена, и только тебя не хватает в нашей компании. Да, да, — болтал он, взяв капрала под крыло. — Пойдём ко мне, жена будет рада…
— Я не один, — буркнул Пыпец, указывая на лису, прижимавшую к себе сонную королевну, и на Мышибрата. — Я не хотел бы наделать тебе хлопот…
— Пустяки, пожалуйста, не стесняйтесь, слава богу, у меня хватит места на всех… Найдём что поесть и выпить. Пошли, все пошли, — подталкивал он друзей.
Едва они миновали ворота, как на городской стене запели трубы. Какой-то человечек влезал на лесенку и зажигал перед домами фонари. В вечерних сумерках с грохотом закрывались ворота города.
Тулеба ложилась спать.
Рынок аппетитного чихания
Уже наступило утро, когда королевна в одной рубашке подбежала к окну. Зубчатые тени домов вырисовывались на другой стороне улицы. Погожее осеннее небо пестрело стаями танцующих голубей.
— Ты проснулась, малютка, — сказала Хитраска, закручивая перед зеркалом локоны. — Быстро одевайся, мы пойдём в замок…
Виолинка посмотрела на своё отражение в зеркале. Рядом с изящной мордочкой лисицы она увидела своё веснущатое, опухшее после сна личико. «Я не хочу, не пойду! — завизжала королевна, замахав руками. — Разве вы не понимаете, что мне стыдно?»
Прежде чем Хитраска опомнилась, Виолинка нырнула под одеяло и зарылась в подушки.
— Капрал, на помощь! — крикнула Хитраска, пытаясь вытащить девочку из-под одеяла.
— Добрый день, друзья мои, — приветствовал их, звеня сверкающими шпорами, капрал Пыпец. — Что вы тут делаете? — Он уставился на шевелящееся одеяло. Вчера петух до поздней ночи сидел за кружкой пива, болтая со старым другом.
— Я не пойду, слышите, я не хочу! — визжала, брыкаясь, королевна.
Мышибрат открыл окна. Холодный свежий воздух наполнил комнату. Складывая крылья, голуби садились на подоконник и с любопытством заглядывали внутрь. В окнах напротив уже выставили на просушку пухлые полосатые матрацы и пышные подушки.
Озябшая королевна позволила себя одеть. Она съела завтрак и вместе со зверями отправилась в город.
— Даю тебе слово, — сказал капрал Пыпец, — что ты в таком виде не вернёшься в замок, ты должна снова стать красивой.
— И доброй, как раньше, — мяукнул Мышибрат.
На улицах было людно. Толпы горожан сновали взад и вперёд. В пёстрой суматохе мелькали жёлтые и красные бархатные куртки. Шуршало накрахмаленное кружево воротников, звякали на груди золотые цепочки. Матроны, скромно потупив глаза, шли в окружении служанок — румяных смешливых девушек. Проходя мимо них, петух воинственно вскидывал голову и крутил ус.
По неровной, выложенной каменными буханками мостовой громыхали телеги, запряжённые ленивыми волами. Иногда какой-нибудь автомобиль с пронзительными гудками проезжал по улице и внезапно останавливался на ближайшем перекрёстке; тогда из него выскакивал шофёр и, поправив очки, огромной рукояткой заводил пружину. Порой, звеня подвешенными на палке бубенцами, кричали скороходы: «Место светлейшему советнику Иллариону Руптуре!» В застланном бархатном паланкине дремал на подушках дородный советник, а скорчившийся у его ног секретарь читал ему вполголоса Chronique scandaleuse Скандальная хроника (фран.) — перечень беспутств золотой молодежи — из газеты «Голос Тулебы».
Издалека, сверкая солнцем своих доспехов, приближались королевские гвардейцы. Хитраска остановилась и, осмотрев себя в стёкла витрины, поправила локоны и бант на грациозно поднятом хвосте. А петух отсалютовал им шпагой. Гвардейцы ответили ему небрежным кивком, презрительно оглядев его выгоревший и заштопанный мундир. Какое было дело этим придворным франтам до нашего славного ветерана?
На перекрёстках полицейские в красных мундирах с тупыми и сосредоточенными лицами регулировали уличное движение, размахивая белыми палочками. Сидя в стенной нише, слепой от старости дрозд насвистывал на флейте какую-то наивную песенку, и падающие монеты звякали о медную тарелку.
— Мы проведём тебя по Птичьей улице на рынок Аппетитного Чихания, а там ты решишь сама, что делать.
— Что это за название? — удивился Мышибрат.
— Подожди, — увидишь.
Друзья шли переулком Брадобреев, где сверкали бритвы, где цирюльники, запахнув белые халаты, кружились около посетителей, с трудом узнающих своё собственное лицо под пухом кудрявой пены.
— Глядите! — прошептала Хитраска.
Из приоткрытых дверей вышел цыган Нагнёток, только что побритый, благоухающий, со шляпой и с перчатками в руке. Блестящие от брильянтина чёрные волосы отражали осеннее небо. Он что-то весело напевал, и, как спелая вишня в его ухе покачивалась рубиновая серьга.
— Спокойно!
— Не бойтесь, — в этой толпе он нам ничего не сделает.
Друзья забежали под арку ворот и подождали, пока цыган не исчезнет в ближайшем переулке. Пройдя крытую галерею, они вышлу на рынок Аппетитного Чихания. Осеннее солнце освещало площадь, которая переливалась золотым, сапфировым и алым цветом: на земле высились груды овощей, золотые шары дынь были сложены в пирамиды. Над подёрнутыми лёгким паром корзинами со сладкими грушами, румяными яблоками и сливами кружились осы. Еще издалека слышался говор и громкие зазывания торговцев. За рынком виднелись многочисленные вывески ресторанов, булочных и кондитерских. Из гостеприимно распахнутых дверей неслись запахи мускатного ореха, имбиря, гвоздики и тот неуловимый аромат жжёного сахара и варенья, который исходит от свежевыпеченных пирожных. В лазури носились голуби; у колодца, украшенного медными тритонами, скрипело ведро. Восточный купец кричал гортанным голосом, развёртывая пёстрые, словно радуга, шёлковые шали.
— Как тут хорошо, — прошептала королевна. От ароматного золотистого тумана, идущего от фруктов, овощей и пирожных, у защекотало в носу, и она громко чихнула.
— На здоровье! На здоровье! — Горожане вежливо приподнимали шляпы. Знайте рынок Аппетитного Чихания!
Вот и петух достал клетчатый платок и долго вытирал им клюв. Восхищение друзей наполняло радостью купцов, которые, зажмурив глаза, упоённо улыбались и вдыхали мясистыми носами любимые запахи.
— Пошли в кондитерскую, — нам нужно посоветоваться.
Друзья с трудом протиснулись через толпу торговок. Какая-то индейка с озабоченным лицом успокаивала мужа, — его возмущала краснота спелых помидоров.
— Смотри! Ты видишь тех двоих — там, — подтолкнул Мышибрата петух: — на скамеечке, около колодца?
Лица трудно было разобрать, потому что оба погрузили головы в арбуз, выедая его розовое нутро.
— Тех, что едят арбуз?
— Ну да! Это Прыг и Узелок.
На другом конце площади раздался крик.
— Кто украл у меня самый красивый, самый спелый арбуз? — вопил в отчаянье какой-то торговец. Угрожающе размахивая связкой чеснока, он приближался к примостившимся у колодца озорникам.
— Ведь он лежал совсем сбоку, — буркнул Прыг. Из внутренности арбуза показалась облепленная семечками голова, — зачем столько крику? Я даже спрашивал, — чей арбуз, и никто мне не ответил.
— Нужно было громче спрашивать, — подступал к ним с яростными криками торговец: — Разбойники! Тунеядцы! Бездельники! Дармоеды! Толпа обступила их.
— Нужно его утихомирить! — шепнул Прыг. — Мне хочется вздремнуть, а такой крик вредно действует на сытый желудок.
Ловкое движение — и арбузная корка была насажена торговцу на голову. Голос утих. Тяжело пыхтя, несчастный пытался освободиться. Это выглядело так забавно, что горожане чуть не лопнули от смеха. Наконец, багровый от бешенства торговец стащил с головы арбузную корку, но сорванцов давно и след простыл. Они шныряли уже на другом конце рынка.
— Вот ловкачи, — давился ох смеха кот.
— Пойдёмте в кондитерскую, — тащила петуха за крыло Виолинка.
— Нехорошо смеяться над чужой бедой, Мышибрат, — Хитраска строго посмотрела на кота через лорнет.
— Да ведь ничего страшного с торговцем не случилось, — сконфуженно оправдывался кот.
— Вы знаете, что это за колодец, друзья? — начал петух. — Это необыкновенный, это замечательный колодец, — он называется колодцем Исполненных Желаний. Кто выпьет из него глоток воды (он указал крылом на медный ковш, висевший на длинной цепочке) и, повернувшись на пятке, сделает, с закрытыми глазами, семь шагов назад, у того любое желание исполнится в течение семи лет. Однако ветреные люди забывают, чего они желали даже час назад, и поэтому, когда судьба им угождает, они чувствуют себя обиженными и оскорблёнными.
— Посмотрим, много ли в этом правды, — буркнул Мышибрат и, выпив единым духом ковш, прошептал: «Я хочу, чтобы весь город обо мне говорил, чтобы я стал самым славным котом Тулебы!»
Он повернулся на пятке и, отсчитывая шаги, назад с закрытыми глазами. Перед ним услужливо расступались. Всем был известен этот прекрасный обычай. Увы, на седьмом шагу он споткнулся и плюхнулся в ушат, полный мокрых трав и водорослей.
Широко открыв глаза, кот подскочил вверх, словно его подбросило пружиной. Все вокруг захохотали. Напрасно Мышибрат тряс в отчаянии хвостом; клешни не разжимались, они впились ему в хвост, — в сырой траве кишели принесённые на продажу раки.
— Чего эти остолопы так смеются? — фыркнул кот, потирая больное место.
— Ты только что сам смеялся, — напомнила ему Хитраска.
— Но зато твоё желание непременно исполнится, — с важностью сказал петух.
— Я даже думаю, что раньше, чем ты предполагаешь, ты станешь самым славным котом в столице. Теперь нам пора держать совет, поэтому сядем за столик в этой уютной кофеенке.
— Иного выхода нет, — начал петух, когда они съели гору пирожных, и последние пузырьки газа, серебрясь, улетели из стаканов с недопитым лимонадом, — мы должны купить какое — нибудь лекарство или мазь, чтобы уничтожить чары, но для этого нужны деньги. Мой приятель Пукло, наш великодушный хозяин, даёт нам есть и пить, но его жена прячет кошелёк под подушку и неохотно расстаётся с деньгами. Что же, я могу только продать эти дорогие мне вещи, — тут он с нежностью посмотрел на свои ордена и медали.
— Ты не должен с ними расставаться, сохрани их лучше для сына, — шепнула Хитраска.
— Это необходимо для блага королевны. А для ребёнка будет достаточно, если он получит от меня в наследство славное имя и крыло, не запятнанное чёрным делом.
— А они в самом деле из золота? — благоговейно спросил Мышибрат и притронулся мягкой лапкой к орденам.
— Слушайте… Я был у лучших аптекарей и докторов, все они в один голос объявили, что могут начать длительное и дорогое лечение, но за результат не ручаются. И лишь один знахарь, известный мне еще со времен похода на Блабону, признался откровенно, что вся медицинская наука здесь бессильна и только сам цыган может разрушить чары.
— Но ведь он не сделает этого!
— Да, но Нагнёток продаёт разные снадобья: лекарства от бессонницы, приворотное зелье для влюблённых, а ходит молва, что и яды… У него много всяких приспособлений готовить отвары и настои… Нужен какой-нибудь проныра, который сумел бы с ним сторговаться и добыть секрет волшебства. — Он посмотрел на озабоченные лица друзей. — Никто из вас не годится, — цыган тотчас догадается…
— Скажи, Пыпец, может быть, кто-нибудь из твоих друзей?..
— Нельзя открывать им тайну, они так простодушны, что сразу же выболтают.
— Сперва нужно достать денег, а потом, может быть, нам придёт в голову какая-нибудь мысль.
Друзья допили лимонад.
Когда наша компания выходила из двери, Мышибрат вернулся к столу; украдкой высыпал крошки с блюдечка в широко открытую пасть и, тщательно пригладив усы, поспешил вслед за друзьями. Было тепло. В парке уже пожелтели деревья, издалека они напоминали золотые и медные паруса. По газонам бегали дети, собирая пучки разноцветных листьев. Какие-то дамы в развевающихся мантильях проехали в экипаже. Шуршали шины, мягко стучали копыта в тенистых и влажных аллеях парка.
Петух направился к ювелиру. В тёмном переулке он спустился вниз по вытоптанным ступеням лестницы. Лестница вела в подвал, напоминающий нору. В полумраке ювелир Барсук, который никогда не снимал своей тёплой шубы, поднёс медали к лампе и, вставив в глаз лупу, долго и внимательно рассматривал их.
— Золото, — шепнул обеспокоенный петух.
— Хм… Немного золота тут есть. — Шаркающей походкой Барсук направился вглубь магазина и, подозрительно оглянувшись, открыл кассу.
— Спасибо вам, — пожал ему лапку петух. Барсук важно поклонился и стал чинить часы, прислушиваясь к их больному тиканью.
«Старый холостяк потому такой и нелюдим, посватать бы его за нашу Хитраску, она бы его мигом расшевелила», — подумал петух, взбегая по крутой лестнице.
— Сколько тебе дали?
— Двенадцать дукатов.
Мышибрат свистнул. Теперь друзья держали путь к окраине города, к городскому валу.
Трава стала бурой; словно золотые монетки, осыпались листья берёз; неподалёку несколько мальчишек пускали змеев.
Друзья уселись на каменной скамье. У их ног лежал город, пропитанный лучами солнца, сонный и прекрасный. Капрал положил крыло на колено и стал считать по перьям: Прыг и Узелок не подходят, — оба большие сорванцы; маэстро Пилюля не сторгуется, — его тотчас обманут; пушкарь Пукло — благородная душа, но очень откровенен и любитель выпить. Больше некого послать к цыгану…
— А яяяя… А яяяя… — послышался голос из-под откоса, и чья-то бледная хитрая физиономия показалась снизу; ноги этого субъекта были спутаны, и по траве тащилась длинная верёвка.
— Козёл! — крикнул петух.
— Да, это яяя, — промычал, смиренно став в сторонке, козёл.
Капрал Пыпец всматривался в него и что-то обдумывал.
— Слушай, ты ведь уже давно был превращен в обычную жалкую козу, — но раскаялся ли ты в своих поступках? Можешь ли ты вновь обрести уважение и загладить свою вину, можно ли тебе доверять?
— О да, дорогие мои, ведь я столько выстрадал!
— Тогда ты пойдёшь на старый рынок, где стоит фургон цыгана Нагнётка, и купишь у него зелье, которое вернёт красоту этой девочке. Вот тебе дукаты. Но горе тебе, если ты обманешь.
— Если ты изменишь, — мяукнул Мышибрат, — мы повесим тебя на первом попавшемся суку.
— Обещаю вам, что не подведу, благодетели мои, — блеял грустно козёл. — Поклясться мне нечем, рогов уже нет.
— Знаем мы эти клятвы…
— Даю слово, что, исполню, — стонал козёл, сжимая в копыте дукаты. — Позвольте вам ножки поцеловать, — козёл склонялся ниже и ниже.
— Заруби себе на носу, мой милый: та верёвка, от которой мы тебя освободим, будет висеть на дереве и ждать тебя с нетерпением!
— О милосердные души, о золотые мои, сделаю для вас, клянусь прабабушкой Мекулой, — прошептал он, и из его узеньких глаз потекли слёзы.
— Режь, — махнул крылом петух.
И Мышибрат разрезал путы. Козёл весело сорвался с места.
— В два счёта сделаю, еще этой ночью вы получите лекарства. Честное купеческое слово.
Он сбежал со склона, пощипывая там и сям верхушки терпкого осота.
— Может быть, не стоило ему сразу давать столько денег?
— У меня не было выбора, необходимо было рискнуть, — сказал петух, вытирая вспотевший лоб. — Может быть, и у него еще осталась и честь и совесть.
Внизу протрубил рожок, послышались голоса и топот. Мальчишки сматывали верёвки. Опьянённые полётом в небесных просторах, змеи неохотно возвращались из лазури, некоторые из них садились на деревья и, обмотав ветви своими шуршащими бумажными хвостами, казалось, хотели переночевать в прохладной выси.
С крепостного вала виден был рынок, похожий на муравейник.
— Что там происходит?
Хитраска посмотрела на солнце.
— Скоро начнётся представление; разве вы не читали афиши?
— Ты права, верно, — согласились звери. — А может быть, стоит хоть одним глазком взглянуть, что будет показывать этот громила?
— Лучше держаться от него подальше, — предостерегла друзей Хитраска.
— В такой толпе, в присутствии всей гвардии, цыган нам совсем не опасен, будь мы под самым его носом…
— Ну, тогда живо, торопитесь, скоро начнётся представление, — пискнула Хитраска.
Блошиный цирк
Уже в самом начале улицы, где за порядком смотрело несколько полицейских, шумели возбуждённые толпы горожан. Стрельчатые окна уходящих в небо узких домов были открыты настежь, и в них торчало множество голов.
Часть площади была огорожена канатом. Вдоль него, потирая руки, ходил цыган Нагнёток. В отдалении стоял фургон; там Друмля одевала блох в парадные платьица. Кляпон восседал на козлах, он пронзительно трубил и ударял в медные тарелки. Наверху, между двумя шестами, была натянута тонкая, как волос, бечёвка; она едва виднелась на фоне ветвей и неба.
В переднем ряду стояло несколько мягких кресел, в них сидели отцы города и сам бургомистр, он любовно поглаживал чёрную, как смоль, бороду.
Прежде чем цыган начал представление, бургомистр встал на кресло и, подняв обе руки вверх, воскликнул:
— Благородные сограждане! Помните о похищенной королевне, развлекайтесь без улыбки, ибо страшно подумать, что будет, если и впредь не будет…
На площади воцарилась тишина, и только сердца притаившихся в толпе друзей забились сильнее.
— Каждого, кто принесёт о ней какое-нибудь известие, король щедро наградит; добровольцев, желающих принять участие в поисках, он вооружит, даст им золото и коней; но неизвестно, где она скрыта, поэтому и во время забавы не закрывайте глаза, может быть, она пройдёт недалеко, может быть, приведут сюда украдкой. Присутствующий здесь маэстро Нагнёток дал показания, они много света на дело не проливают, но же я надеюсь, что похитители найдутся. Будьте бдительны! Будьте настороже!
Поклонившись, бургомистр сложил свои пухлые руки под траурно-чёрной бородой и, глядя на небо, уселся в кресло.
Наступила удручающая тишина. Но вот Нагнёток дал знак Кляпону, тот заиграл на трубе, ударил в тарелки, а Друмля выкатила маленькие клетки с нарядно одетыми блохами.
Цыган прошёлся по помосту и поднял решётки. Потягиваясь и зевая, из клеток стали выскакивать огромные блошищи. Сверкая острыми зубами, они бросали по сторонам алчные взгляды.
Толпа зароптала, многие отпрянули, потому что блохи смотрели на горожан так, словно выбирали, кто из них поаппетитней. Цыган поднял руку, успокаивая зрителей. Потом он щёлкнул бичом. Блохи подскочили несколько раз на месте.
И вот, подгоняемые взмахами свистящего хлыста, они бегут уже по две и по три в такт музыке.
Цыган поклонился. Все зааплодировали. Было за что его хвалить. Только железной дрессировкой и незаурядным мужеством можно было принудить к послушанию этих кровожадных тварей.
— А твои-то невинные ягнята, — шепнул петух на ухо Хитраске.
— Я дрожу при одной мысли, что они могли вырасти такими же, — ответила лиса.
Прыгая через зажжённые обручи, кувыркаясь и образовывая в воздухе пирамиды, блохи в разноцветных трико скользят легко и изящно.
Но это только так кажется, потому что две самые дерзкие из них уже крадутся в сторону, скаля на зрителей зубастую пасть. По толпе проходит дрожь, перепуганные ребятишки плача прижимаются к матерям. Но маэстро следит за всем внимательным взором. Он уже достал пистолет и выстрелил над головами хищников. Рассеялась горящая пакля; с опалёнными мордами, злобно урча, блохи вернулись в танцующий круг.
Прокатилась буря аплодисментов.
Нагнёток с изяществом поклонился. Согнав своих воспитанниц в кучу и следя за ними одним глазом, он с видом победителя улыбнулся публике и воскликнул:
— Милостивые господа! Теперь вы увидите номер, секрет которого переходит в нашей семье из поколения в поколение. Это великое искусство, шедевр дрессировки — блошиное пение, — достойное королевского уха.
Удивлённые зрители радостно закричали и захлопали в ладоши. Потом все смолкли. Налегая на верёвки и сопя, зеваки нетерпеливо вытянули шеи.
Поднялся усеянный вишнёвыми цветочками занавес, и выехала запряжённая шестернёй карета. Перед зрителями гарцуют в упряжке самые рослые, самые тупые и злые блохи, они украшены сверкающими золотом чепраками. Порой, громко рыча и брызгая пеной, блохи кусают друг друга в шею и мотают головами, потряхивая пучками страусовых перьев. Среди полной тишины, замутнённой лишь дыханием очарованной толпы, маленькая карета, постукивая, трижды делает круг, и блохи, переступая с ноги на ногу, останавливаются.
Тогда укротитель снимает лосиную перчатку, небрежно бросает на песок и засучивает левый рукав. Он бесстрашно протягивает блохам ладонь, хотя они приседают и ворчат. «Ну! Живо!» — кричит Нагиёток. Неожиданно вся упряжка берёт с места галопом и въезжает на обнажённую руку. Побледневшие лица зрителей застывают в неподвижности, потому что цыган, достав серебряную булавку, проколол в шести местах руку и кормит этих тварей в поощрение свежей кровью. Мороз подирает по коже от блошиного чавканья и причмокивания.
Потом настает минута тишины, и под абрикосовым небом безоблачного вечера кто-то начинает аплодировать. Словно проснувшись, все хлопают, и в вихре аплодисментов открываются дверцы кареты, и из выбегает в розовой юбочке, с гитарой подмышкой любимица цыгана, славная цирковая звезда — Блошинелли!
Она кланяется. Почти никем не замечаемая карета уезжает; блохи внизу становятся полукругом и урчат в ритм вальса. Вспорхнув словно бабочка, Блошинелли становится на туго натянутый шнур, уже совсем не видимый на фоне зеленеющего вечера. Балансируя гитарой, она приближается к середине и подаёт знак.
Снизу раздаются недружные голоса поющих блох, но вскоре уже можно различить знакомый мотив. Вверху, качаясь на тонкой, как волос, бечёвке, Блошинелли ударяет по струнам, и тихий голосок звенит:
«Жил-был король когда-то, При нем блоха жила: Страшась утраты, Блоху он обожал. Варил еду для блошки, С нее сгонял он мух; Болел живот у крошки, Касторку пил за двух!»Вздох восхищения пролетел по рынку.
— Боже мой, такая маленькая и такая умница, — сопит какая-то толстая дама.
За креслами членов магистрата Прыг многозначительно подталкивает Узелка: «Здорово?»
— Шикарно, почеши-ка мне спину, меня кто-то кусает!
— Радуйся, братец; может, это блоха? Мы откроем собственный цирк.
— Э, если б у нас была Блошинелли, тогда был бы расчёт, был бы расчёт, — бурчит Узелок, почёсывая спину о ручку кресла.
— Братец, а ведь это мысль! — стукнул Прыг приятеля по темени и внимательно посмотрел на затаившую дыхание толпу.
— Сейчас я стряхну, а ты подымай суматоху и лови в шапку. А там ноги в руки!
Прыг ловко протиснулся сквозь толпу зевак и опёрся о бамбуковый шест, отчего бечёвка чуть-чуть провисла, а потом внезапно отскочил, как будто от восторга. Упругое дерево отклонилось, бечёвка, как пружина, подбросила вверх поющую Блошинелли.
Все следили за ней, задрав головы, приветствуя это незаурядное искусство рёвом восхищения.
Восторженное дыхание толпы уносило блоху выше и выше, пока, наконец, она не стала планировать вниз, отчаянно размахивая гитарой.
Плясунья была еще видна на фоне темнеющего неба.
— Прыгай в мои объятия, — кричал в отчаянье цыган, но, видя, что относит ветерок, он, как разъярённый бык, ринулся в толпу.
Узелок визжал, словно поросёнок, которого режут; дети начали пищать и плакать.
Воспользовавшись всеобщим замешательством, блохи грызлись друг с другом и, наконец, освободившись от упряжки, разорвав пёстрые костюмы, поскакали в толпу, на середину площади, где уже стлался холодный вечерний туман.
Кровожадные насекомые набросились на самых толстых горожан; те попытались убежать, толпа заколыхалась, карманные воришки, призывая на помощь полицию, вытаскивали кошельки у перепуганных богачей.
Нагнётку показалось, что Блошинелли приземлилась на чёрной, как смоль, бороде бургомистра.
Цыган подскочил к почтенному горожанину, придавил его грудь коленом и, разделив густую бороду на две пряди, заглянул внутрь. Бургомистр только застонал, но цыган полз уже на четвереньках, высматривая любимицу на камнях, среди толстых икр трясущихся от страха горожан. То здесь, то там высовывалось его налитое кровью лицо и слышались отборные ругательства и вопли. Он был разорён. Друмля плача звала Блошинелли.
Зеваки в панике удирали. Кругом слышался треск закрываемых ворот, крики и стоны.
Перепуганный Мышибрат мчался вдоль стены; вдруг перед ним вырос разъярённый Нагнёток.
— Ах, наконец-то я поймал тебя, мошенник, — заорал он, схватив кота за горло.
К Мышибрату на помощь рванулся петух, но спасти друга было уже невозможно, — их разделил поток бегущих людей.
— Позаботься о Виолинке, — крикнула в ухо капралу Хитраска. Петух схватил девочку в крылья и вместе с бегущей толпой исчез в ближайшем переулке. Он уже не видел, как отбивался от полицейских Мышибрат, как под злобные крики его тащили в тюрьму.
— Это один из банды похитителей, — обвинял его Нагнёток. — Отвечай сейчас же, — где королевна?
— На виселицу его! — кричали вокруг. — Смерть похитителям детей!
Полицейские крепко держали арестованного, привычным движением вывернув ему лапки.
На площади было уже пусто. В густых сумерках рычали только вырвавшиеся на волю, жаждущие крови и одичавшие блохи.
Козёл поддаётся искушению
В эту ночь никто не высунул на улицу носа. И только усиленная стража кружила по переулкам; ей удалось даже выловить несколько насосавшихся крови блох, которые спали в стенных нишах. Остальные хищники спрятались в подвалы, угрожая безопасности города. Какой-то задремавшей в церкви старушке, уже через неделю после этих событий, они до кости обглодали колено.
Разошлась весть, что арестованный похититель не признаёт своей вины и не желает выдать сообщников. Вероятно, для того, чтобы сломить его упорство, решили применить пытку.
Обезумевший от горя петух метался по комнате. Напрасно ломал он в отчаянии крылья. Он был бессилен. Да и чем помог бы он товарищу?
За одну ночь у капрала совсем поседел гребень.
— Пока не вынесли приговор, ты должна пойти в замок! — крикнул он, тормоша спящую королевну. — Ты должна его спасти!
— Я не сделаю ни шагу, пока опять не похорошею, — брыкалась в постели Виолинка, с плачем зарываясь в подушки.
— Оставь в покое, — сказала Хитраска, — придёт козёл, и ты сам отведёшь Виолинку к королю. Достаточно будет одного взгляда отца, и король будет на твоей стороне! Ведь я тоже волнуюсь за Мышибрата!
— Ты права, — прошептал петух. Он встал у открытого окна, прислушиваясь к шагам, но козёл не возвращался. По забрызганной молочным светом месяца мостовой гулко стучали шаги вооружённой стражи.
Меж тем козёл крался по пустынным улицам. Часы задумчиво отбивали время. Освещенные луной каменные львы потягивались и зевали, — они были утомлены своей дневной неподвижностью. Звери широко открывали выщербленные пасти, в которые дети безнаказанно совали днём руки, приговаривая: «Укуси меня, лев!»
Козёл, дрожа, прижимался к стенам.
Словно хороводы теней, скользили вдоль домов сны; они навевали беднякам мечту о богатых яствах, дразнили богачей и скряг призраком разорения, картиной бед, которые должна была принести близкая война. Солдатам снились бивуаки, гривастые кони и яркие костры, такие яркие, что городские стражники привставали с места, видя багровый отблеск пожара в спальнях и альковах. Козёл перебегал с угла на угол среди холодной глубокой тишины. Он был похож на лёгкий лист бумаги, уносимый ветром. С лицом бледнее белого месяца, он прижимал копыто к трусливо бьющемуся сердцу, а может быть, он просто ощупывал скрытый на груди мешочек с дукатами.
Когда козёл подкрался к фургону, прогнувшемуся под тенью городской башни, до него отчётливо донеслись причитания Друмли и возня оставшихся блох, которые рвались на волю. Козёл тихо толкнул дверь и, отогнув тяжёлый полог, вошёл в полумрак комнаты. На него пахнуло запахом диких зверей, ветром, связками сухих трав, которые сушились в пучках под потолком. Хотя шаги его заглушал толстый слой рассыпанных по полу опилок, блохи тотчас почуяли чужого и перестали лязгать зубами о решётку; хищники пристально всматривались в позднего гостя, поблёскивая в жёлтом свете коптилки налитыми кровью глазами.
— Кто там? — крикнула из глубины Друмля.
— Это я, — ответил дрожа козёл. Над своей головой он увидел чучело жабы и несколько привязанных за ногу, умерших от жажды мухоморов. Это напомнило предателю его собственный позор; собрав все силы, козёл сделал шаг вперёд.
— Чего ты хочешь? — спросила, вынырнув из темноты, Друмля.
Сверкнули, словно искры, вплетённые в чёрные, как смоль, волосы серебряные монеты.
— Цыганочка, красавица моя, — улыбнулся козёл, облизывая шершавым языком бледные губы, — нужна мне мазь, лекарство сильное и едкое.
Друмля внимательно посмотрела на него, пытаясь отгадать, от какой хвори нужны ему зелья.
— Разные есть тут снадобья, — начала она, — чтоб веснушки сгонять, чтоб волосы выросли опять, от старости дряхлой, от немощи чахлой и от червей в животе.
Почесал козёл лоб копытом, потёр лысое место, где у него прежде росли великолепные рога, и вздохнул: «Нужно мне лекарство, возвращающее белизну коже бродяги; она сильно потемнела от ветров, а может быть, и от чар.»
— Ну, это дорогое лекарство, — сказала цыганка. Она зажгла свечу и, встав на цыпочки, стала искать по полкам. Фитиль трещал, свеча истекала слезами, предчувствуя свою близкую смерть.
Цыганка поставила перед козлом ряд небольших скляночек, закупоренных бычьим пузырём и перевязанных ниткой; на концах ниток висели сургучные печати.
— Это для большой любви, это чтоб рога приросли, состав для золочения бороды, мазь для возвращения красоты, — указывала она по очереди. — А вот это за горсть дукатов вернёт лицу цвет алебастра.
Хитро блеснули глазки козла. «Горсть горсти рознь, — подумал он беспокойно, — я в копыте больше двух дукатов не удержу».
Однако цыганка в миг развеяла его заблуждения, подставив сложенные ладони.
У мошенника ёкнуло сердце, когда он начал сыпать золото.
— Раз, два, — считал козёл. Вдруг из дрожащего копыта выскользнул дукат и, позвякивая, закатился куда-то под клетки.
Друмля, схватив свечу, прислушивалась к дразнящему звону монеты.
— Куда занесло? — спросила цыганка, но надувшиеся блохи молчали. Самые пугливые из них начали громко храпеть и вздыхать, притворяясь, что крепко спят.
— Мои дукаты, — простонал козёл.
— Там был только один…
— Чтоб мне не позолотить бороды, два по крайней мере!
— Один!
— Два, — говорю я!
Цыганка встала на колени и заглянула в угол. Этим воспользовался козёл, он засунул за пазуху два стоящие с краю пузырька — «для рощения рогов» и «золочения бороды», третий, предназначенный для королевны, он взял в копыто и сказал, небрежно взвешивая его: «Вот вам два золотых, добрая женщина», — и, швырнув деньги на прилавок, обманщик выскочил из фургона.
Украденные пузырьки жгли его сквозь кафтан. Козёл мечтал о том, как утром его будет приветствовать весь город. Он намеревался намазаться толстым слоем мази, чтобы к утру у него выросли рога и золочёная борода. Все тогда станут кричать: «Да здравствует спаситель королевны! Да здравствует наш козёл Бобковита!» Он мчался по улицам, останавливался под каждым фонарём, вынимал пузырьки, пересчитывал их, стучал по ним копытом, нюхал, лизал шершавым языком сургуч.
— Эти два для меня, а тот для девочки, — шептал козёл, пробегая рысцой по переулкам. Но от подсчётов у него уже помутилось в голове.
И вдруг он вспотел при мысли, что может ошибиться.
— Эти два для меня, а тот для девочки, — почти кричал безрогий, добежав до полуоткрытых дверей трактира, откуда доносились говор и песни распивающих вино старых вояк, добродушных мещан и беспутных зубоскалов.
Мышибрат на пытке
В это время в старинной башне ратуши началось следствие. Низкие покрытые плесенью каменные своды лизал огонь лучины. В углах пищали летучие мыши. Перед судьями, позвякивая тяжелыми цепями, стоял дрожащий Мышибрат. Судьи сидели на скамье в остроконечных капюшонах с прорезями для глаз; их груди украшали черепа из посеребрённой жести — в знак того, что они выносят приговор суровый и окончательный. На столе стояла клепсидра, где со звоном переливались капли воды, напоминая о том, что время истекает, — кончается час благосклонности и на рассвете будет уже поздно каяться и делать признания…
В глубине зала, в нише за почерневшей решёткой, укрылись оба короля. У доброго короля Толстопуза начался от страха озноб; он тяжело дышал и ежеминутно хватался за рукав короля Цинамона. А тот, сломленный горем и неизвестностью, замер, прислонившись к решётке в ожидании показаний.
Трижды глухо ударил молоток о топор палача. Судьи стали. Два тюремщика подтолкнули Мышибрата к скамье. Из коридорчика показался человек гигантского роста, подпоясанный алым фартуком, чтобы на не было видно крови осуждённого. Он положил тяжёлую ручищу на плечо Мышибрата и ехидно засмеялся.
«Конец мне», — подумал в отчаянии кот, угадав, кто скрывается под чёрной маской палача.
С давних времён никого в Тютюрлистане не казнили. Сварливых торговок водили в намордниках по улицам, а за мелкие провинности людей привязывали к позорному столбу и секли по обнажённым и порозовевшим от стыда ягодицам. Но теперь нужен был палач, который бы не колеблясь применил пытку: у виновного надо было вырвать признание. На это цыган охотно согласился.
Натягивая рукавицы, он скрежетал зубами и мял свою чёрную бороду.
В сыром воздухе подземелья трещала сосновая лучина, и две восковые свечи бросали неверные отблески на капюшоны склонённых над бумагами судей.
— Мышибрат Мяучура, рождённый от матери Серошерстки и отца Крысолапа в местности Большая Мельня, обвиняется в похищении королевны Блаблации — Виолинки. Соучастниками его в этом позорном деле были: петух Мартин Пыпец и лиса Хитраска. Похищение было совершено с целью получения выкупа. Все показания дал под присягой хозяин цирка Мердано.
— Признаётся ли обвиняемый во всём этом?
— Нет! — крикнул охваченный ужасом кот, — это неправда!
— Обвиняемый осмеливается утверждать, что он невиновен?
— Да! Светлейшие судьи!
— Кто же является похитителем, знает ли его обвиняемый?
— Да.
— И может назвать его?
— Да! — смело ответил Мышибрат.
В тишине слышно было громкое сопение палача, жующего в бешенстве кончик бороды. Укрытый за решёткой король Цинамон так стиснул руки, что затрещали пальцы.
— Ну, а кто же это? — спросил насмешливо судья.
Мышибрат подумал. Потом он медленно повернулся и, вытянув лапку, указал на побледневшего палача: «Это он, цыган Нагнёток!»
Воцарилось исполненное ужаса молчание, и только с шипением взлетали и гасли искры.
Палач пожал плечами и нетерпеливо обернул прядь бороды вокруг указательного пальца. Вздох облегчения вырвался из уст судей.
— Поскольку обвиняемый упорно отрицает вину и пытается направить следствие по ложному пути, суд считает необходимым для выяснения правды применить специальные меры.
— Пытать его! Пытать! — заорал палач и дал знак помощникам, чтобы они подтащили осуждённого.
Мучители вмиг разложили кота на узком столе, привязали к скобам передние и задние лапки.
Пищали летучие мыши, ударяясь о своды, с которых капали фиолетовые капли… Лекарь в длинном напудренном парике щупал пульс у обвиняемого.
Дёрнув Мышибрата за усы, палач разжал его стиснутые челюсти и впихнул несчастному в пасть кожаную воронку со следами зубов, — грызли в бессильной ярости те, кого прежде подвергали этой пытке. Напрасно Мышибрат пробовал выплюнуть воронку, она доставала ему до самого горла. Глаза Мяучуры вылезли из орбит; со страхом он следил за суетящимися неподалёку помощниками палача. Его беспокойно бьющееся сердце было полно решимости сохранить верность друзьям, не выдать их убежища. Они погибли бы, их тотчас выдали бы цыгану, которому удалось обмануть даже судей. За благородное дело, за освобождение королевны кот готов был идти на смерть. От ужаса шерсть у Мышибрата стала дыбом. Однако его не покидала уверенность, что петух и Хитраска доведут дело до конца. Истина восторжествует, цыгана покарают, жаль, что его, кота Мышибрата, уже не будет. Только горсточка белых костей сохранится под замшелыми плитами подземелья. Коту стало очень горько, по его усам ручьями потекли слёзы.
Лекарь достал большие часы, тряхнул ими несколько раз и, убедившись, что их ход верен, дал знак — пытка началась. Помощники подали палачу жбан с молоком. Неожиданно Мышибрату показалось, что его душат. Он захлёбывался, пена появилась на краешках губ, несколько капелек брызнуло из носа. Он вынужден был глотать.
«Ну, этим трудно меня сломить», — улыбнулся кот про себя. Но жбаны быстро сменяли друг друга. Прохладная жидкость лилась потоком в горло. Дико вращая глазами, цыган с удовольствием следил за искажённым от боли лицом несчастного. Живот кота вздулся, точно шар; теперь Мышибрат стал ощущать каждый нерв в своём желудке, казалось, еще один глоток — и он лопнет, и ненавистное молоко брызнет из него фонтаном. А в воронке булькало и булькало.
«Прощайте, друзья, прощай солнышко», — подумал кот, слабея. Лекарь почувствовал неровный пульс и велел прекратить пытку.
Воронку вынули из пасти. В глаза плеснули водой.
— Ты будешь говорить правду? — спросил судья.
Мышибрат кивнул головой.
— Кто похитил королевну Виолинку?
— Цы… ган На… гнё… ток… — прошептал Мяучура.
По пергаменту заскрипели перья протоколистов.
— Да ведь это закоренелый преступник, — шептали судьи. — Ничего не поделаешь, попробуем колесо, нужно сломить это упорство…
И началась пытка на колесе.
Из угла выволокли ржавую машину, которая уже несколько веков не была в употреблении. Нагнёток ловко привязал хвост кота к канату, лапки приковал скобами к стене. Конец каната был переброшен через деревянное утыканное гвоздями колесо. Цыган начал крутить рукоятку. Лязгнули механизмы, завертелись шестерёнки, и зловеще запищало не смазанное с давних времён колесо: «Чирп, чирп, чирп!»
Мышибрат стонал, он почти повис в воздухе. Большое колесо, медленно вращалось, натягивая канат. Лапки кота страшно болели, пот каплями выступил у него на лбу. Он ощущал в натянутом хвосте каждую косточку, казалось, еще одна секунда — и хвост будет вырван из места своего постоянного пребывания. Стоявший рядом помощник палача, сочувственно потягивая носом, смачивал Мышибрату мордочку, влажной тряпкой.
— Хвост, — стонал Мышибрат, — вы вырвете мне хвост!
Судьи молчали, слышен был только хруст хрящей и скрежет машины.
— Я не могу на это смотреть, — шепнул король Толстопуз, — может быть, мы прекратим пытку…
— Если не можешь смотреть, — закрой глаза, — прошипел король Цинамон, — должны же они, наконец, добыть из него правду!
— Ваше превосходительство, — обратился вдруг палач к судье, — могу ли я задать этому негодяю один вопрос?
Судья утвердительно кивнул. И тогда Нагнёток с издёвкой в голосе сладко заговорил:
— Мы уже знаем, Мышибрат, что ты не виновен, но скажи, — может быть, капрал Пыпец принял участие в похищении королевны, может быть, он нарушил закон и тем самым смял и изорвал в клочки привилегии вольных граждан?
Истерзанный Мышибрат молчал. И тут Нагнёток ударил кулаком по натянутому, как струна, хвосту.
— Мяууу, — заорал по-кошачьи несчастный.
— Он признался, — крикнул победоносно палач. — Говорит, что смял! А если у петуха клюв в пуху, то и этот пройдоха виноват и Хитраска, потому что это неразлучная тройка друзей.
— Смертная казнь, смертная казнь, — забормотали судьи, ставя крестики на пергаменте.
Верёвки ослабили, и Мышибрат бессильно опустился на влажные плиты.
— Именем короля Толстопуза суд приговаривает к смертной казни похитителя детей — Мышибрата Мяучуру, а также заочно лису Хитраску и петуха Мартина Пыпеца. Всякий, кто настигнет преступников, может их безнаказанно убить. Приговор над вышеупомянутым Мяучурой должен быть приведён в исполнение на рассвете!
Хлопая пюпитрами, судьи покидали зловещее подземелье. Тюремщики оставили посреди зала полумёртвого Мышибрата. Король Толстопуз утешал отчаявшегося короля Цинамона: «Потерпи, мой дорогой, может быть, завтра он проболтается, и мы нападём на след…»
Король Цинамон молчал, но крепко сжатые губы и нахмуренная бровь свидетельствовали о том, что в его душе назревает грозное решение.
В подземелье с шипением догорала лучина, и переливались последние капли, звеня о стекло клепсидры.
Ночь ожидания
Дольше Пыпец уже не мог выдержать одиночества. Сидеть в ожидании у открытого окна ему становилось невмоготу. Капралу казалось, что он скорее что-нибудь узнает, если сядет поближе к входной двери. И петух сбежал по винтовой лестнице вниз, в главный зал.
Седой дым поднимался из трубок, окутывая лампы. В уютных нишах, под расписными сводами, попивая золотой и рубиновое вино, болтали друг с другом рыцари, приезжие купцы и горожане. Капрала Пыпеца тотчас пригласили в компанию. Сквозь толстые стенки стакана искрилось алое вино. Петуха охватила дрожь при мысли, что такой же цвет имеет кровь его лучшего друга и товарища, которую завтра, быть может, прольёт палач. В ожидании козла, он не спускал глаз с двери. Но вот друзья по старым походам начали чокаться с ним, они весело покрякивали, хлопали его по плечу. Что было делать? Капрал порядком выпил и, верно, в иное время забыл бы про все заботы. Но теперь беспокойство за попавшего в беду друга не позволяло ему отдаться бурной беззаботности медвяного хмеля.
В тщетном ожидании городских новостей, он прислушивался к разговору двух пьяниц. Оба они были из числа тех мошенников и бахвалов, которые, взяв у короля вооружение и деньги на дорогу, выезжали за заставы и в ближайшей кормче пропивали и дукаты и коней. Потом они пешком возвращались в замок, рассказывали о своих приключениях и клялись: «Мы уже напали на след похитителей». Обманщики показывали синяки и шишки, полученные от того, что где-то, задремав от крепкого вина, они свалились с лавки. Пройдохи плаксиво жаловались, что на них напали, ограбили и что в драке они едва не поплатились жизнью, защищая королевну! Но, получив новое снаряжение и набив дукатами мошну, изобретательные прохвосты мгновенно исчезали, и даже лучшие полицейские собаки, несмотря на тонкий нюх, не могли найти их следов, затерявшихся среди ароматов подогретого вина, солёного миндаля и подрумяненных на вертеле шашлыков. Потом гуляки появлялись в сумеречный предрассветный час и, поддерживая друг друга, брели пьяной толпой по улице. Старинная песня, превозносящая вино выше всех прелестей жизни, будила крепко спящих горожан. Прежде чем сбегались стражники, они уже продали в таинственных погребках, и лишь откуда-то из-под земли, из-за обитых железом дверок долетал на улицу мелодичный звон бокалов и бульканье вин, льющихся из жбанов…
Петух дрожал от возмущения; если бы у него были деньги и снаряжение, то цыган давно бы уже сидел за решёткой. А тут его самый близкий друг, благороднейший из котов, может поплатиться жизнью… Непроизвольным движением петух осушил кубок, и в голове у него тотчас прояснилось. Он старался расслышать шаги на опустевшей улице, но лишь холодный ветер свистел в щелях.
Везде было темно и тихо.
Не обманул ли козёл?
Теперь у капрала не осталось ни гроша денег. Он уже не видел никакого спасения. Небо засеребрилось на востоке, ночь близилась к концу.
Петух невольно прислушивался к тому, что говорил, бойко размахивая руками, толстый рыцарь; глаза рассказчика напоминали поджаренные на сковородке яйца.
— Я встретил его за этой рощей. Сердце у меня ушло в пятки, я подумал, что сама смерть едет ко мне: на тощем полысевшем скакуне худой, как жердь, наездник в чёрных доспехах; за ним следом, ударяя голой пяткой в ослиный бок, толстый оруженосец.
— Эй, куда вы? — кричит грозно рыцарь.
— По королевскому приказу, — отвечаю я, подмигивая, потому что я уже догадался, — он тоже ищет похитителя. — Я напал на след, он ведёт к соседней корчме!
И тогда он мне:
— Я знаю, где скрыта королевна, стережёт великан, — и тут он обратил ко мне своё грустное лицо, которое напоминало скорее лицо аскета, нежели рыцаря, и промолвил: «Следуй за мной!»
— Я узнаю его, друзья, это безусловно он! Сам дон Кихот, храбрый безумец, знают его от Гвадалквивира до Кошмарки! — воскликнул один из собутыльников, осушая кубок и потирая нос, похожий на раздавленный помидор.
— Слушай дальше, — успокаивал его яйцеглазый. — Мы протащились вместе часть пути. Почти на вершине холма, вместо того, чтобы повернуть к трактиру, он, поправив шлем, который был похож на тазик цирульника, говорит: «Ты видишь его, видишь чудовище? Этого старца, вон там, с седой бородой?» Я клянусь ему, что не вижу, а он уже даёт шпоры коню и, лязгая доспехами, мчится галопом. Я протираю глаза. Или я спятил или он… Потому что там, внизу, мельница, вода падает на колесо и вздымает белую пену. Мельник выбежал на крыльцо, приветливо машет рукой. А тому хоть бы хны, — мчится что есть духу! Да так и ахнул с конём в воду!
Я не мог сказать ни слова, а толстый оруженосец…
— Санчо Панса, — подсказывает приятель.
— Да, да, именно так звали оруженосца. Рыдая, стоит на берегу. Я спрашиваю мельника: «Что это за река?» Он говорит: «Белкотка». — «Что за мельница?» — «Моя, — говорит, — Блажея Сита!»
— Бррр… Ты такие мрачные истории рассказываешь, — ворчит собутыльник, и его помидорный нос становится фиолетовым. — С этакой тоски мы все перепьёмся.
Дрожащей рукой он наполняет чашу, вино льётся мимо, стекает со стола в широкое голенище сапога.
— Ну, и он утонул?
— Да где там! Когда мы его уже оплакали, он всплыл среди водяной пыли, весь облепленный водорослями. «Великан удрал от меня, — кричит он, — я его уже за бороду держал, но негодяй обернулся сомом. Зато я похитил его сокровище, смотрите, что я добыл!» — Тут он потряс найденной на дне гитарой, внутри которой перекатывалась горсть улиток. Рыцарь тронул пальцем струны и с восхищением прислушался. Голос у этой гитары походил на мяуканье кота, которому наступили на хвост.
У Петуха перед глазами встаёт искажённая болью мордочка брошенного в тюрьму товарища: «Горе тебе, Мышибрат, — шепчет он дрожащим голосом, — нет для нас на свете справедливости».
Пыпец больше не в силах слушать болтовню пьяной компании, он открывает дверь и выглядывает на улицу. Перед ним, словно бледный призрак, стоит в лунном свете козёл.
— Принёс?
— Принёс!
— Давай! Наконец-то! Как я тебе благодарен, что ты пришёл! — радуется капрал, пряча под крыло спасительный пузырёк. Если это лекарство подействует, то на рассвете выпустят Мышибрата. Петух мчится вверх по лестнице через пять ступенек и вбегает в комнату. Козёл трусит по улице, довольный, что ему не пришлось дать отчёта в оставшихся серебрениках.
Хитраска уже натирает сонную Виолинку. На рассвете они побегут в замок. Все сияют от радости при мысли о счастливом короле и об освобождении Мышибрата, при мысли о мире между двумя поссорившимися народами, о награде, о наказании цыгана. Виолинка, гримасничая, засыпает, она тщательно укутана в одеяло. Лисица не может угомонить громко бьющегося сердца. В мехе, накинутом на ночную рубашку, Хитраска стоит с капралом у окна. Небо начинает серебриться; звёзды бледнеют. Близок желанный день.
Новое предательство козла
Пробежав несколько домов в тихом переулке, козёл нетерпеливо открывает пузырьки и мажет себе мохнатый лоб и бороду. Он тоже хочет удивить новый день великолепными рогами и достойной уважения золотистой бородой. Часы бьют четыре раза, и живущие в барометрах святые выходят из своих будок, они вытягивают ладони, чтобы узнать, не идёт ли дождь, но на улице холодно и ясно.
— Эй, откуда ты взялся? — раздаётся неожиданно над ухом козла окрик проходившего мимо патруля.
Сладкие мечтания прерваны.
— Я, я… — начал, заикаясь, козёл и выронил пузырёк.
— Разумеется, ты… Что там было? — Стражник тронул ногой осколки, — признавайся… — Вдруг, ударив себя по лбу, солдат завопил, словно его осенило: — Отвечай сейчас же, где капрал Пыпец и Хитраска?
— Я только что их видел здесь, в соседней гостинице, — ответил поспешно козёл, соображая: «Патруль и так уже обо всём знает, только бы меня не били».
— Ну, тогда они в наших руках! Значит, цыганка верно отгадала, — он сделал знак, чтобы алебардники арестовали козла. И его, скованного цепями, повели в ратушу.
В эту самую минуту петух крался на цыпочках по спальне пушкаря Пукло, прислушиваясь к громовому храпу хозяина. Пыпец снял со стены огромный мушкет, проверил курки и подсыпал пороху.
— Что ты делаешь, сумасшедший? — дышала ему в ухо Хитраска.
— Если не на что будет больше надеяться, я застрелю каждого, кто поднимет руку на Мышибрата, — ответил петух прерывающимся голосом. — Уже объявлен приговор. Я займу заранее удобное место, и, как только появится палач, я в него — трах! — и дело с концом.
Прежде чем лиса сумела его удержать, он выбежал через кухню на двор и крадучись пошёл через спящие сады мимо задних дворов.
— Боже мой, он с ума сошёл, он с ума сошёл, — шептала побледневшая Хитраска. Видя, что Виолинка крепко спит, она набросила на голову какой-то платок и побежала вслед за петухом, чтобы удержать его от отчаянного шага. В это время дверь шумно распахнулась и с возгласом: «Руки вверх!» — в трактир вошел отряд алебардников. Все в испуге вскочили. Лишь несколько полупьяных гуляк, услышав топот и крики и увидев над собой лес дрожащих рук, подняли кубки, фальшиво напевая: «Многая лета, многая лета…» Но при виде нацеленных в живот пистолетов они угомонились и затихли.
— Господа, соблюдайте спокойствие, — крикнул начальник отряда, — мы пришли не за тем, чтобы прервать ваше веселье; дело в том, что среди вас есть несколько опасных преступников. Мы должны схватить их!
Гуляки отрезвели и немного успокоились, когда узнали, что не их жёны прислали этот патруль, но зато они с возрастающим недоверием стали приглядываться друг к другу.
— Преступники? Под моей кровлей? — изумился пушкарь Пукло, спускаясь с лестницы в ночном колпаке. В руке он держал свечу, и воск капал с на подол длинной бумазейной рубахи.
Стража обыскивала комнаты. Петуха и Хитраску не нашли. Когда стражники ворвались в их номер, то увидели на кровати спящего человека: его лицо было прикрыто платочком.
— Это она, Виолинка, — прошептал офицер, поднимая девочку с постели. Но тут платок спал, и из-за него показалось заспанное лицо, покрытое буйной золотистой бородой.
— Ах, простите, сударь, — пролепетал начальник стражи, — произошла ошибка.
Разгневанные солдаты ушли с пустыми руками. Один из них съездил по шее связанному козлу.
— Где только какое-нибудь грязное дельце, там ты обязательно приложишь копыто!
— Не бееей, не муучай, тебе же будет лучше, — застонал козёл. И вдруг повеселел, — ему показалось, что у него начинают отрастать рога. Козёл еще не понял, в дело, и потому притворялся огорчённым, а сам внимательно, следил за алебардниками.
— Смотрите, ребята, он седеет!
И верно, рыжеватая бородка козла становилась серебряной.
— Я ошибся, — простонал козёл, теперь ему стало ясно: он перепутал пузырьки. — Жадность меня сгубила! — Кричал он, вырывая клочья седых волос.
При виде отчаянья козла и его трагической седины, стражники смягчились.
— На всякий случай мы запрем тебя, прохвост, — говорили они, подталкивая арестованного.
— пропало! — скулил Бобковита.
В утренней тишине по всему городу разносилось перестукивание молотков — это помощники палача сколачивали на рынке виселицу.
Под виселицей
Когда ранние лучи солнца пробились сквозь перистые облака, петух прикрыл крылом глаза и стал вглядываться в дымящуюся голубоватым паром чёрную пасть рынка. Над головой капрала носились ласточки. Мушкет он предусмотрительно прислонил к печной трубе.
На площади было полно зевак; рынок выглядел так, будто его замостили головами. Кое-где, словно трава среди камней, развевались страусовые перья городских модниц. Порой поднимался шум, толпа волновалась и вновь затихала. Осуждённого еще не привезли. Около ратуши стояла простая двухколёсная повозка, запряжённая чёрной лошадью.
Внезапно с пронзительным скрипом открылись ворота ратуши. Оттуда выскочили алебардники и, растолкав толпу, освободили проход. И вот петух увидел Мышибрата, бледного и похудевшего, но с гордо поднятой головой. Мяучура твёрдым шагом взошёл на ступени повозки. Вдруг Мышибрат покачнулся (у него были сзади связаны лапки) и тогда тюремщик грубо подтолкнул кота и захлопнул дверцы. Под пронзительные крики повозка двинулась с места. Она объехала вокруг площади. Густая толпа с трудом расступалась перед бегущими алебардниками и тотчас смыкалась за повозкой. Все напирали, стараясь разглядеть преступника. Горожане грозили кулаками и орали: «К ответу похитителя детей! Смерть извергу!»
Хитраска закричала: «Пощадите невинного! Он..» Но толпа не желала слушать о помиловании, она бушевала: «Смерть ему, на виселицу!»
Петух схватил мушкет и прицелился в палача. Нагнёток в красном кафтане с ехидной улыбкой смазывал петлю пером, смоченным в прованском масле, чтобы покрепче затянулась верёвка. Повозка остановилась, и кот взошёл на помост, обитый чёрным крепом, траурную материю украшала изящная вышивка шёлком — две скрещенные кости.
Наступила глубокая тишина. Был слышен шорох крыльев голубиных стай, парящих в потоках утреннего солнца. Осуждённый поднял голову, посмотрел на синеющее небо, и две чистые слезы скатились по его щекам. Вся его молодая, по-кошачьи статная фигура выражала мужество и презрение к смерти. Он обвёл взглядом людную площадь, толпы горожан, отряды алебардников и группу судейских чиновников. Вдруг он увидел полные слёз глаза Хитраски. Тогда он повернул голову и кивнул в сторону цирка, точно хотел сказать: «Не беда, что я умру! Помните, там наш враг и его нужно одолеть!»
Мышибрат спокойно встал на скамеечку. На шею ему набросили петлю.
Капрал Пыпец, взяв на мушку палача, выстрелил. Глухо стукнули курки. Огня не было. От обильно пролитых слёз порох и курки отсырели. Как еще можно было спасти друга?
Петух выпустил из крыльев оружие; грохоча по черепице, мушкет скатился по крыше и застрял у водостока.
Палач выдернул скамеечку, — тело Мышибрата вытянулось, повиснув в воздухе.
Хитраска застонала и закрыла глаза. Через несколько мгновений она уже видела, как цыган небрежным жестом отряхивал рукавицы, будто хотел сказать: вот и готово! Над головой палача висела та же что и вчера, афиша и новое объявление: «Цирк Мердано. Покупаю блох за самую высокую цену!» И это было перечёркнуто ломаной тенью виселицы.
Вдруг поднялась суматоха. Все вокруг толкались, напирая на цепь алебардников.
— Сорвался! — кричала толпа. — Верёвка лопнула!
Подскочил палач и поднял шатающегося Мышибрата. Затянув новую петлю, цыган ловким движением набросил коту на шею и опять выдернул скамейку. Но снова, прежде чем смерть заволокла мглой глаза осуждённого, верёвка лопнула!
— Это верный знак! — раздались голоса. — Он невиновен!
— Отпустить его, — закричали все. — Милосердия!
— Пробуем до трёх раз! — буркнул цыган, и уже готовился повесить Мышибрата в третий раз, но толпа, сбив с ног алебардников, пёстрой и шумной волной затопила помост. Напрасно метался цыган, — его сдерживали сотни рук. Пожилые дамы, красные от гнева, с визгом дубасили его зонтиками.
— Раз мы говорим, что он не виноват, так чего же ты, цыганское отродье, рвёшься его повесить, — вопил какой-то разъярённый сапожник и изо всех сил лупил палача по физиономии.
Мышибрат тяжело дышал, склонившись на плечо Хитраски. Вдруг он почувствовал, как его нежно обнимают чьи-то лапки и на его щёки посыпался град быстрых детских поцелуев.
— Крестный отец, крёстный отец, — услышал он радостный голосок. — Ты меня не узнаёшь! Это я, молодой Мышак! Ведь должны же мы были тебя спасти. Достаточно ты натерпелся из-за своего доброго сердца. Сегодня ночью мы перегрызли все шнуры, пояса, подтяжки — всё, на могли бы тебя повесить! — хвастался малыш, поблескивая чёрными глазками.
— О, мой дорогой мышонок, — воскликнул растроганный Мышибрат и, отирая слёзы, прижал ребёнка к бьющемуся сердцу.
Но времени для нежностей не оставалось. Воспользовавшись суматохой, царившей на площади, где горожане с треском ломали виселицу, Мышибрат и Хитраска помчались к воротам города.
А тулебцы неистово напирали, ликующий петух швырял черепицей, пытаясь попасть в торчавшую над толпой голову цыгана.
Меж тем растроганные горожане проводили Мышибрата до маленьких боковых ворот. Они подарили ему на дорогу узелок с провизией, из которой торчало горлышко завёрнутой в салфетку бутылки со сливовой настойкой, и велели как можно скорее уходить из города.
Самоотверженность Хитраски
— Что же нам делать, друзья? — спросил петух, когда прошёл первый порыв радости. — Нужно как-то выручать, — он указал на королевну. Лицо девочки было обвязано платком, словно у болели зубы, но и из-под платка ветер выдувал завитки буйно разросшейся бороды.
— Я уйду к любезным пчеловодам, — заявила Виолинка и грозно посмотрела на зверей.
— Славно ты выглядишь, — тяжело вздохнул Мышибрат.
— Как молодой разбойник, — покачала головой Хитраска.
— Беда беду родит. — начал петух.
— … бедой погоняет, — угрюмо закончила лиса. — Я не уверена, — знаете ли вы всю правду? Сегодня на рассвете король Цинамон, покинул столицу, обещая вернуться со всей армией, чтобы предать огню и мечу эту коварную страну.
— Значит, начнётся война?
— Да, мои друзья, это так!
— Слушайте, — сказал петух, — речь идёт уже не о королевне, — тут нужно спасать родину. Я не вижу иного выхода. Мы должны обо всём известить короля и задержать армию на границе.
— Но ведь он не узнает малютки…
— Отдадим такой, как есть… — петух поднял ободранное крыло и почесал свой седеющий гребень.
— На какие средства ты поедешь к королю? Ни провизии, ни лошадей, ни денег.
— Целых четыре рта прокормить нужно…
— Только не рта, а ротика, — обиделась Виолинка.
— А мы? — тихо запищали блохи Хитраски.
— Не шумите, детки, не вмешивайтесь в разговоры взрослых. Для вас никто не пожалеет горсти крошек. Вы любите меня хоть немножко?
— Всех вас мы страшно любим и никогда вас не покинем! Ох, можете на нас рассчитывать!
Стали сгущаться сумерки, а у друзей еще не было никакого плана. Напрасно Мышибрат морщил лоб, а петух почёсывал гребень.
«Мчит дорогой колымага; Глаз остёр, надёжна шпага, Порох сух, взведён курок. Эй, давайте кошелёк!» —напевала, маршируя по кругу, Виолинка и прицеливалась, палкой в проезжающие кареты.
Еще час, и ворота закроют. Друзья останутся в темноте за стенами, около виноградников, никому не нужные и отвергнутые.
— Я совсем забыла, — воскликнула Хитраска, — ведь у меня в городе есть приятельница. Подождите одну минутку, — слышится уже издалека, — я скоро вернусь!
Ждут. Разве можно уйти без неё?
Мышибрат выстругивает перочинным ножом красивый меч для Виолинки. Петух, обхватив голову крыльями, припоминает пройденные пути. Можно сократить дорогу, есть одна опасная тропа, она ведёт прямо к границе через болота Утопленника.
На городских стенах начинают трубить. Заходящее солнце брызжет из медных труб пучками рыжих игл. Надвигается ночь. Что таится в ней под покровом темноты? Кто угрожает? Какие новые приключения ждут друзей?
Из-за кустов показывается Хитраска, она запыхалась, чепец сбился набок, на лице следы слёз. Прежде чем друзья успевают спросить, в дело, — она уже торопливо говорит, показывая на сумочку: «Я принесла вам денег!»
— Гип, гип! Урра! — кричит королевна.
— Где ты их достала? — удивляется Пыпец. Но лиса не отвечает, она только показывает на тарахтящую по дороге крестьянскую телегу и говорит: «Давайте сядем! Нас подвезут немного!»
Деревенский парень посадил друзей на охапку соломы, и телега с грохотом покатилась под гору вдоль густой аллеи, пересечённой длинными голубыми тенями. Словно факелы, горели в лучах заходящего солнца вершины тополей.
— Ну и времена настали, — вздыхает крестьянин. — Вы слышали о том, которого сегодня вешали? Звали его Котуляк; говорят, он делал первосортную колбасу из детей. Палач ему набросил петлю на шею, а тот палача бух! Сорвался с верёвки, повалил виселицу, город весь взбаламутил да и убежал. Страшно вот этак-то ночью ехать… Но, малютки! — понукал он лошадок.
— Ты прославился, Мышибрат, — толкнул его в бок петух, — исполнилось твоё желание, весь город о тебе говорит! Видишь, я не врал тебе насчёт этого колодца.
— Отстань от меня. Очень мне нужна эта слава! Если бы я знал, что это за дьявольский колодец, то я бы площадь обходил за целую версту, — ворчит Мышибрат, потирая шрам на шее.
Уже совсем стемнело, когда друзья въехали в деревню.
Собаки лают, пахнет дымом и свежевыпеченным хлебом. Хозяйка приглашает в хату. На чистом льняном полотенце она ставит перед друзьями миску с молоком. Петух рассказывает о страшном похитителе и подмигивает Мышибрату, который недовольно морщится. Поужинав, друзья отправляются спать на сеновал. Кот подходит к лисице и шепчет: «Хитрасонька, вот тебе горсть крошек, мы-то наелись, а о твоих блошках совсем забыли».
— Не вспоминай о них, — шепчет, вздыхая и всхлипывая, Хитраска.
— Что же ты с ними сделала? — взволнованно спрашивает петух.
— У уже нет блох, — восклицает Виолинка, заглянув в мех лисицы.
— Я продала их, — признаётся со слезами на глазах Хитраска, — ох, как тяжело у меня на сердце!.. Но я это сделала для вас, надо же на что-то жить!
— Кому ты их продала?
— Цыгану, в цирк, ему не хватало блох, он вывесил объявление… Впрочем, крошки были на согласны.
— Как ты могла! Как ты могла? — кричит Мышибрат.
— Такие хорошенькие, такие миленькие блошки, — плачет Виолинка.
Хитраска садится на солому и, оперев голову о стропило, начинает рыдать.
— Не упрекайте меня, — шепчет она, — ведь я это сделала для вас…
И петух понимает — это самоотвержение.
— Не плачь! Придёт время, и мы их освободим, не огорчайся, ты наш верный друг, — говорит он, гладя кудри и целуя влажную от слёз лапку.
Последнее странствие
Три дня пути сильно утомили друзей. После представления на рынке цыган тоже уехал из города, пустившись в погоню за зверями. Об этом им сказал один знакомый почтовый голубь, который летал к границе на разведку.
Капрал Пыпец время подгонял друзей: «Родина в опасности, — мы не должны щадить своих сил!»
Однажды в полночь, когда звери на минутку вздремнули, — теперь они продолжали свой путь и ночью, — мимо, осветив неподвижные лопухи, промелькнули жёлтые огни фонарей. Скрежеща, скрипя и колыхаясь, вдоль канавы проехал цирковой фургон. Тогда друзья удалились от дороги и пошли тропинками через молчаливые старые боры. Потом они вновь вышли на раскалённую ленту дороги. Тёплая пушистая пыль пудрила их утомлённые лица.
Иногда путники встречали нищих, бедных стариков и старушек, которые охотно вели их в свои лачуги, где на плите варился скромный ужин.
Кот давно уже не брился, а у петуха торчали колени из рваных и поношенных штанов. Мех лисицы был помят, к нему пристала солома и сосновые иглы — следы последнего ночлега. Элегантные башмачки Хитраска несла, перекинув их через плечо.
И только королевна не унывала; она выросла, и ее розовое личико румянилось сквозь золотистый пух кудрявой бородки.
Девочке нравилось бродяжничать. Она любила слушать рассказы товарищей у костра, опустошать кладовые белок и, шагая по обрызганной солнцем тропинке, будить задумавшиеся деревья радостными криками. Она пробовала научить эхо петь разбойничьи песенки, но эхо ничего не понимало; бессмысленно гикая, оно повторяло лишь последние слова.
Иногда кто-нибудь подвозил друзей или давал им провизии на дорогу. Иногда петух зарабатывал несколько грошей игрой на рожке.
Однажды днём они натолкнулись на грозных разбойников. Это были старые знакомые: Юлий Пробка — бывший поэт, который повесил лиру на гвоздь, променяв на более выгодное занятие — потрошение богачей; Гуляйнога, который радостно приветствовал зверей, салютуя из пистолета; и сам атаман Уголёк, который накормил друзей сытным обедом и поклялся обезвредить цыгана.
— Мы подкараулим злодея, — обещал он. — Чтобы не пропустить его, я выставлю свой ус поперёк дороги. Даже задремав, я очнусь, потому что лошадь заденет мой ус дышлом.
И друзья отправились дальше. Гуляйнога лежал под деревом, обмахивая свой пунцовый носище шляпой, и отгонял стаю бабочек. Словно паук в паутине, затаился в кустах Уголёк, выставив ус на дорогу.
Жертва Мышибрата
Когда было далеко за полдень, петух распорядился сделать привал. С утра друзья ничего не ели; они шли сквозь чащу едва заметной тропинкой, ведущей скорее к жилищу кабана или оленя, чем к хатам той деревушки, где они намеревались остановиться на ночлег. Мышибрат, опустив лапу в котомку, нашёл там лишь горсть крошек.
— Этого, пожалуй, только для блох хватит, — сказал он и тотчас раскаялся в своих словах, потому что при каждом напоминании о своих питомицах Хитраска разражалась рыданиями.
— Вы думаете, что я буду питаться одной ежевикой? — крикнула Виолинка, утирая перепачканное соком личико.
— Нам попросту не везёт, — ворчал петух, всматриваясь в гущу леса. Деревни нет как нет…
Друзья двинулись в путь, их тени вытянулись далеко вперёд, предвкушая близкий ночлег и ужин.
— У меня нет уже ни гроша, — шепнула Хитраска, когда они взбирались по песчаной дороге на пригорок.
— Хуже всего то, что нечего продать; мы пропадём, если нам не помогут добрые люди.
«Если в лес с зарёй уйду я, Ноги до колен сотру я», —начала сопя Виолинка; ей ужасно нравились стихи Пробки.
«Вот так мука, вот так страх — возвращаться на руках!» —закончила Хитраска.
Все рассмеялись. Махая узкими крыльями и вереща, над головами друзей кружились ласточки.
— Смотрите, ласточки!
— Что же тут особенного?
— Раз есть ласточки, должны быть и дома.
Прибавив шагу и миновав огромные, сонно вздыхающие поля клевера, друзья остановились на холме. Перед путниками сверкала речушка, над ней шелестели раскидистые вербы. Дорога вела через мост и была перегорожена шлагбаумом, который кто-то украсил затейливыми лиловыми полосками. Чуть дальше виднелись зелёные домики городишка. Разрезая предвечернюю тишину, словно серебряная наковальня, звонил церковный колокол.
Звери перешли мост. Королевна не утерпела и бросила два камня в сонную воду.
Вскоре друзья разыскали трактир. Приоткрыв дверь, они услышали весёлое бульканье супа в кастрюлях. Мышибрат потянул носом.
— Здесь и заночуем. Поужинаем, а утром — ищи ветра в поле, — шепнул коту Пыпец. Но, прежде чем друзья положили котомку на скамью, к ним подбежал хозяин и, подозрительно оглядев их залатанную одежду и запылённые лица, грозно крикнул: «Хотя это харчевня третьего класса, но и она для вас слишком хороша!»
— Дайте нам минутку отдохнуть и чего-нибудь перекусить, — просила Хитраска.
— Денежки на стол или вон со двора! — закричал трактирщик, массивным животом подталкивая друзей к двери. — Коли вам нечем платить, так марш в трактир «Под ста клопами», но я заранее вас предупреждаю, что их там гораздо больше.
— Что теперь делать? — огорчённо спросил капрал Пыпец.
— Я голодна и хочу спать, — грустно и тихо жаловалась Виолинка.
Как раз в это время мимо проходил какой-то старичок. Его синие очки были подняты высоко на лоб, в широко открытых глазах отражалось ясное бледнеющее небо.
— Могу ли я быть вам чем-нибудь полезен? — спросил он.
Это был местный настройщик роялей и приходский органист Тимпан Звенящий. Он начал рыться в карманах и достал по очереди: табакерку, в которой ползала гусеница, два грязных клетчатых носовых платка, кусочек пилёного сахара, который старичок быстро спрятал, потому что это предназначалось для канарейки, как он тотчас же объяснил; три связки ключей, камертон, сломанную стамеску и перышко для смазывания оливковым маслом органных труб. По мере того, как росла эта куча, Тимпан Звенящий худел, и его можно было бы принять за сбежавшую с партитуры ноту, если бы не седые волосы, спадавшие на хрустящий резиновый воротничок.
— Надежды, пожалуй, нет, а я хотел с вами поделиться…
Но тут он нашёл дыру в кармане; исследовав направление и удостоверившись, что дыра соединяется с брюками, Тимпан снял ботинок, потом штопаный носок и с триумфом достал потёртый медяк.
— Это всё, — грустно объявил старичок. Медяк он вручил петуху, а самый чистый из платков — Хитраске. — У меня больше ничего нет, — печально насупился органист и, заложив руки за спину, собрался уйти.
— Дорогой господин Тимпан, — удерживал его Мышибрат.
— Дорогой маэстро Звенящий, — ухватился за полы его сюртука петух, — может быть, за какую-нибудь работу… Дров наколоть, воды принести?..
Тимпан замечтался, подняв глаза к небу. Но вдруг очки соскочили у него со лба и уселись на носу, вернув старичка к земным делам.
— Вероятно, вы могли бы что-нибудь продать… Есть тут один старьёвщик, вон там, — показал он, — где стучат огромные ножницы на ветру. Видите эту портновскую вывеску?
Органист сунул в карман платок и ключи. Он коснулся пальцем гусеницы в табакерке. Та покачала брюшком.
— Грози, мне, грози, — улыбнулся старик, закрывая крышечку. — Дальше действуйте сами, — бросил он друзьям, засмотревшись на драку воробьев, которые собрались в лозах дикого винограда, пышно разросшегося на глухой стене дома.
— Пойдём, попробуем что-нибудь продать.
И друзья побрели к портновской мастерской, где на вечернем ветру щёлкали ножницы, словно клюв хищной птицы.
Двери бесшумно отворились, на улицу высунулся мужчина с чёрной остренькой бородкой. На была старая жилетка; на шее — клеёнчатый сантиметр. Мужчина криво улыбнулся друзьям одной половиной рта, потому что в другую половину у него было засунуто несколько булавок. Потёртый сантиметр соскользнул с тонкой шеи и, обвивая руку, затрепетал в струе ветра.
— Меня зовут Лаокоон Фуляр, я — не обыкновенный портной. Не обыкновенный, — подчеркнул он, а сантиметр тем временем зашевелился, начал ползать по земле, измеряя утомлённые тени друзей.
— Может быть, вы купите куртку? — предложил петух, подталкивая Мышибрата, чтобы тот заслонил заходящее солнце, которое просвечивало сквозь продранные рукава. — Совсем новая вещь… — нахваливал он, бойко размахивая курткой.
— Это не для меня, — покачал головой портной, — но я купил бы кое-что у него, — и тут он указал на Мышибрата.
— Одежду, сапоги? — спросил удивлённый кот, глядя, как сантиметр ползает по тени около его ног и снимает точную мерку.
— Я купил бы тень, — криво улыбнувшись, процедил сквозь зубы портной. — Я хорошо заплачу!
— А зачем вам моя тень?
— Ведь я уже говорил, что я не обыкновенный портной. О, если кто-нибудь разбогатеет и пополнеет… Вы подумайте только! Идёт такой богач с брюхом, а тень у него еще со старых времён, худая да тощая, — просто срам. И тогда у таких, как вы, я покупаю тени, штопаю их, крою, перемётываю. Вы и без теней обойдётесь, а люди зажиточные, известные должны иметь достойные себя тени. И они имеют их благодаря моему волшебному портновскому искусству.
— Не продавай, — пискнула Виолинка, и тень прижалась к самым ногам девочки.
— Возьми мою, — предложил петух, — прямую солдатскую тень.
— У тебя слишком стара, а у лисички изношена по бокам; годится только твоя, славный кот! Ну, соглашаешься? Даю дукат золотом!
Мышибрат задрожал. Он почувствовал на себе вопросительные, тревожные взгляды друзей.
— Нет, Мышибрат, — шепнула Хитраска, — она была с тобой с самого рождения, всюду верно следовала за тобой, не отдавай Пусть лучше голод и ночлег в канаве…
— Сегодня выдержите, а завтра? — засмеялся портной. — Затягивая пояс потуже, не прибавишь сил. Вам предстоит долгий путь. Посмотрите, как вы измучены и слабы.
— Ничего нам не надо, не верь ему! Мы еще и не то выдержим, думай только о себе, Мышибрат, — пробовали улыбнуться Хитраска и Пыпец, но это были жалкие попытки. Мышибрат посмотрел на худую мордочку лисицы, на впалую грудь петуха, и сердце у него защемило.
— Бери! — крикнул он, отворачивая голову.
Лаокоон Фуляр встал на колени, разгладил тень ладонью и пришпилил несколькими булавками, потом свистнул. Сантиметр пополз вверх, оплетая бедро портного, и со вздохом облегчения исчез в кармане. Налетел порыв ветра, ножницы сами соскочили на землю и, алчно скрежеща, начали резать тень у ног Мышибрата. После чего они звонко звякнули и, сверкнув лезвиями, повисли над вывеской.
— Это хорошо, что ты решился сейчас, — в это время дня тень длиннее всего: она растёт перед закатом, выходя навстречу ночным теням. — Портной сунул дукат Мышибрату в лапку и пропал в тёмной внутренности мастерской, держа в руке свёрток более тонкий, чем рулон чёрного шёлка.
— Я самое несчастное из существ, — сетовал бедный кот, — у меня нет даже собственной тени… Впрочем, это чепуха, зато у вас будет хороший ужин и отдых.
— Дорогой друг, верный товарищ, заслужили ли мы такую жертву! — шептали взволнованные звери, обнимая и целуя Мышибрата.
Ярко светило заходящее солнце, когда друзья поднялись на ступеньки трактира. Виолинка внимательно посмотрела на Мышибрата: «Смотрите, — крикнула она, хлопая в ладоши, — смотрите и удивляйтесь!» И действительно, рядом с их длинными вытянутыми тенями на побелённую стену падала куцая и кривая тень Мышибрата, похожая на тень мыши.
Когда друзья ложились в эту ночь на перины и петух, шлёпая ночными туфлями, напевал колыбельную песню сыну, заточённому в яйце, никому из них в голову не пришло, что это была последняя ночь, которую они проведут вместе. Друзья говорили о многом и радовались тому, что Блаблация уже близко.
Чтобы скорее попасть туда, оставалось пройти через Скупицы, через пущи Столесья, а там и граница.
Хитрость цыгана
Рано утром окрылённые надеждой друзья двинулись в путь. На оставшиеся деньги они накупили запасов, которых им должно было хватить до постоялого двора Завтрака. Там они намеревались отдохнуть и подождать, пока появится король Цинамон с войском. Но в Скупицах их обступила толпа сорванцов.
«Кто бы видел? Кто бы слышал? Кот-котища С тенью мыши!» —дразнили они Мышибрата и бежали следом визгливой надоедливой стаей.
— Брысь! Камнем его! Сломайте ему ходули!
Засвистели камни.
Виолинка огрела ближайшего мальчишку палкой по уху, да так, что тот присел. Но остальных это не устрашило. Когда петух грозно прикрикнул на них, — поднялась суматоха, из хат сбежались крестьяне.
— Я узнаю их, — вопил Грошик, сняв с губ замок, — это приятсли тех негодяев, которые каждый год обворовывают нас!
— На дерево их! — заревела толпа.
Увидев верёвочную петлю, Мышибрат стал улепётывать, звери поспешили за ним.
Скряги упорно гнались за друзьями, размахивая палками. Только попав в лес, звери могли замедлить бег и отереть пот с мордочек.
— Я бы расправился с этим сбродом, если б не боялся за Виолинку, — сопел Мышибрат.
— За меня не беспокойся, я бы им устроила такую баню, что они помнили бы меня до самой смерти, — грозила королевна.
— Тихо, тихо, — умолял петух, прижимая крыло к тяжело бьющемуся сердцу.
— Боже мой, — крикнула Хитраска, — они оборвали у меня котомку! Пропали наши запасы…
— Хорош сюрприз, — простонал петух.
— А у этого сюрпризы в голове, тёмная птица, — обрушилась на петуха Виолинка.
— Я говорю «хорош сюрприз» в другом значении, — проворчал Пыпец, — в смысле «неприятность» — вот и всё…
— Тогда говори яснее!
— Не злись!
— Тихо! — крикнул капрал, прислушиваясь; ему показалось, что к ним приближается повторяемое деревьями громыхание какой-то повозки. В этих лесах трудно было надеяться на приятную встречу.
— В довершение ко всему, кажется, цыган, — а? — покрутила носом Хитраска.
— Были цветочки, а теперь — ягодки, — мяукнул Мышибрат.
— А у этого ягодки на уме! Я и без того есть хочу, как собака!
— Скажи, — обратился кот к капралу, — что она ко мне прицепилась?
— Постыдитесь, перестаньте ссориться!
— Хитраска! Виолинку за руку и скорей на опушку. Я пойду впереди, а Мышибрат — в арьергарде! Слышите, как забеспокоились птицы, — будьте начеку!
— Боже мой! Такая утрата, что мы будем теперь есть?
— Чего ты ноешь? Какая там утрата! Виолинку мы не потеряли, у меня целы рожок и яйцо. И Мышибрат с нами.
— Действительно, друзья, когда я в вашей компании, мне ничего не нужно больше, чтобы чувствовать себя счастливым. Хоть мы иногда и ссоримся, но я бы душу за вас отдал, — мурлыкнул кот, ступая по мягкому мху.
Сделав несколько шагов, друзья увидели на придорожном камне маленького мальчика в красном беретике; он горько плакал.
— Что с тобой случилось, малыш? — спросила Виолинка, привстав на цыпочки и расправив внушительным жестом бородку.
— Страшное несчастье, — зарыдал мальчуган, — страшное несчастье!
— А кто ты такой?
— Я Красная Шапочка, и час тому назад волк проглотил мою бабушку. Спит этот волк неподалёку отсюда, и, если у вас есть перочинный нож, мы распорем ему брюхо, бабушка выйдет оттуда — и будет в порядке. Пойдёмте скорее!
— Пыпец, Мышибрат, нужно спасти бабушку!
— Я кое-что слышал об этой истории. Хотя никогда не думал, что мы столкнёмся с этим делом вплотную. Но послушайте! Ведь Красная Шапочка была маленькой девочкой!
— Девочкой? — удивился малыш. — А мне папа говорил, что это был мальчик.
— А где твой папа? Ты можешь его позвать? Он, наверное, не побоится этого волка?
— Мой папа ничего не боится!
— Не может быть, — притворно удивилась Хитраска.
— Он расправляется с самыми страшными зверями… Эх, если бы вы видели его блох! — начал горячиться мальчонка.
— А может быть, мы всё-таки его знаем? — расспрашивала Хитраска.
— Откуда же? — прошептал мальчик, опустив глаза и покраснев.
— Слушай-ка, твой папа — такой маленький человечек, с головой, гладкой как яйцо?
— Ну что вы? Косая сажень в плечах, борода и усы по пояс!
— Бежим, братья, это цыган Нагнёток!
— Держи их, Кляпон, каналья, лоботряс, бездельник, — заорал цыган, выбегая из орешника, — он лежал там, укрывшись под зонтиком папоротника.
Но наши друзья уже ринулись в лес и скрылись в зарослях. Тяжело дыша, они бежали едва заметными тропами, по которым лесные звери ходят на водопой к реке Кошмарке, через болото Утопленника.
Издалека к ним донёсся громкий плач Кляпона.
— Ты что же это, родной сын, даже врать не умеешь?! Разве вырастет из тебя порядочный мошенник? — тряс Нагнёток мальчишку, схватив его за горло.
Сняв с пояса ремень, он стал лупцевать сына. И долго потом сороки, летающие над верхушками деревьев, злорадно стрекотали:
«Наш Нагнёток бил мальчишку, бил мальчишку, чик! А мальчишка плакал громко, плакал громко, хнык!»На берегах Кошмарки
Над лесом нависла душная гнетущая тишина полудня. Нагретая хвоя источала дурманящий запах; рябины на полянах примеряли коралловые бусы, а лесные орехи были полны мягкой и терпкой ваты.
— Мне уже надоело слоняться по этим дебрям, — расплакалась Виолинка. — Если бы вы знали, как мне хочется пить!
— Мне кажется, где-то шумит вода, — шепнула Хитраска, прислушиваясь.
— Это не вода, это лес…
— Пройдём немного и увидим, — подбадривал друзей петух.
Сам он шёл, тяжело волоча ноги. За дни скитаний капрал сильно постарел и похудел, как щепка. Он часто отдыхал и, наклонив голову, круглым глазом всматривался в пустое небо, посыпанное серебряным пеплом.
Мяучура, высунув розовый язык, тяжело дышал.
— У меня отваливаются ноги, — ныла королевна, — понесите меня, хоть немного. Разве у вас не найдётся сил для меня, для Виолинки?
— У этого ребёнка каменное сердце, — шумели деревья, видя, как трое друзей, сплетя лапки и крылья, шатаясь от усталости, несли тяжёлую ношу по извилистым тропинкам.
Так друзья дошли до того места, где среди дикой чаши, поросшей конским щавелём, осокой, аиром и седой мятой, струит свои зелёные воды таинственная река Кошмарка.
Звери положили королевну под деревом. Ослабевший петух прислонил голову к стволу и стоял так, прикрыв глаза. Виолинка легла на спину и принялась срывать травинки; она жадно жевала их и тут же выплёвывала. Вдруг королевна начала бить пятками по земле:
— Я хочу есть! — запищала девчонка. — Из-за вас я умру с голоду…
— Не пожалел бы для тебя собственной крови, — шепнул петух.
— Она и вправду голодна, — мяукнул Мышибрат.
— Успокойся, детка, — гладила спутанные волосы Хитраска. Но Виолинка с силой отстранила зверей и крикнула: «Вместо того, чтобы стонать надо мной, ищите чего-нибудь для меня, бегайте, вынюхивайте… Ну, чего вы ждёте!?»
По щекам Хитраски скатились две слезы и упали на ручку королевны. И — о чудо! — там, куда капнула слеза, кожа побелела и выступило светлое пятнышко.
— Я хорошею, глядите! — крикнула королевна. — Ах, если бы я могла, я бы тебя била, била… А потом выкупалась в твоих слезах и освободилась, наконец, от чар цыгана.
— О ужас! — прошептал Мышибрат, закрыв лапками уши. — Я не в силах тебя слушать.
Из-за деревьев показалась странная фигура. Это был худой и высокий старик в соломенной шляпе. Длинный сюртук табачного цвета и узенькие брючки делали его похожим на старый пень. Изо всех его карманов торчали стебли растений; множество трав высовывалось из высокой зелёной банки, которую он прицепил к поясу.
— Как ваше здоровье, путники? — приветливо спросил пришелец.
— Добрый день, — ответили оторопевшие звери.
— Не бойтесь меня; я изучаю загадки вечной природы, открываю тайны растений. Пойдёмте, здесь неподалёку моя мастерская.
И тут друзья увидели домик из толстых брёвен, прилепившийся к скале, словно ласточкино гнездо. Из расщелины, хихикая, струился ручеёк. Шелестели сребролистые тополя. А вдали журчала и манила в болота подёрнутая мглой таинственная река Кошмарка.
Около домика на узких грядах, подступая к самому порогу, росли хвощи, шалфей, ромашки. Казалось, что они сбежались со всего леса, чтобы как можно скорее открыть свои секреты.
Прежде чем ботаник дотронулся до ручки, дверь сама открылась и изнутри пахнуло ароматом лугов. Это были уже не запахи, а голоса тимьяна, мяты. В благоуханном цветочном разговоре слышались тихие вздохи лесных фиалок, красного корня и аира. Всем казалось, что они вошли в тот мир, который был знаком им с детства, но лишь сегодня он стал им понятен и заговорил с ними ласковым языком.
— Добрые растения сами рассказывают мне, какие лекарства можно из них готовить. Хуже с ядовитыми травами, — хозяин показал на огромные серые листы бумаги; на них в беспамятстве распластались прикованные серебряными ленточками растения. Они выдавали тайну своих ядов лишь с последним одурманивающим вздохом. — Не подходите к ним! Они всегда стремятся навредить человеку; но если уметь с ними обращаться, то и они приносят пользу.
В углу комнаты, на большой плите, стояли бесчисленные реторты и стеклянные бутыли, над плитой висел большой кожаный колпак. В колбах поблёскивали разноцветные жидкости. Пучки сушеных трав висели под потолком. На полке лежали похожие на стиснутые кулаки цветочные луковицы.
— Садитесь, — старичок подвинул гостям табуретки, разломил калач и в чашу с родниковой водой налил несколько капель из зелёной бутылочки. — Пейте смело, это вас подбодрит!
Друзья попробовали. Напиток освежил их, словно берёзовый сок в марте. Видя, как жадно друзья едят и с каким любопытством осматриваются, биолог начал рассказывать: «Не одну ночь я провёл над опытами, прежде чем собрал эту коллекцию, — он показал рукой на бутылки и баночки. — Меня называют Белокнижником, потому что легче поверить в чары, чем в разум, который открывает тайны природы. Смотрите, что я умею!»
Он взял в руки колбу с надписью «Розарий»; в ней, на самом донышке, виднелась горсть чёрного порошка.
Учёный подул из меха на покрытые пеплом угли, подбросил несколько смолистых щепок и поставил банку на огонь.
Изумлённые звери следили за тем, как порошок начал кипеть, расширяться, и вдруг за стеклом густо расцвели розы, их чашечки напирали друг на друга, раскрывая атласные лепестка, и сладкое благоухание просочилось через пробку в комнату.
Но вот учёный снял с огня колбу, лепестки стали вянуть, морщиться, чернеть, пока, наконец, на дне колбы не осталась горсть звенящего порошка.
— Маэстро, — воскликнул петух, — избавь от чар королевну!
Старичок посмотрел из-под нахмуренных бровей на Виолинку.
— Стоит ли ей помогать, — подумайте; у каждого из вас есть свои заботы, вы так несчастны, а в зельях скрыта сила, которая может многое изменить!
«Ох, — подумала Хитраска о своей грустной доле, — мне уже надоело учить чужих детей, этих несносных сорванцов; я так бы хотела стать хозяйкой постоялого двора! Весь день я проводила бы в сверкающей медной посудой кухне и в кладовой, уставленной банками и мешками. Нет, — пробудилась она от мечтаний, — для себя я ничего не хочу, только бы излечить от чар эту малютку».
Учёный-ботаник улыбнулся мыслям.
— А ты чего бы хотел?
Петух провёл крылом по седеющему гребню.
— Я тоже прошу за Виолинку, — сказал он, прижимая девочку к груди.
— И я, — мяукнул Мышибрат, но, когда учёный посмотрел ему в глаза, он начал быстро сметать крошки и изо всех сил сжал губы, боясь, что расплачется и знаменитый ботаник прочтёт в его глазах весь позор проданной тени.
— Ну, а теперь посмотрим, что вам принесёт будущее, какая вас ожидает судьба…
Взяв плоскую серебряную чашу, ботаник налил в родниковой воды. Потом закрыл окна. В комнате стало темно, лишь несколько лучей пробивалось в щели между брёвнами да янтарные от смолы ветви искрились, точно золотистые зрачки волшебницы.
Четыре курительные свечи источали тонкие дымки, образуя в воздухе туманный занавес.
— Подойдите поближе!
Звери наклонились над водой; учёный ореховой веткой разгонял дым. Две мордочки, клюв и личико девочки, тесно прижатые друг к другу, отразились, как в зеркале.
Кругом стояла тишина, порой вздыхали только какие-то травы и верещали ласточки над крышей.
Сначала ничего не было видно, кроме голубоватого тумана и серебристого поблёскивания воды, но, чем шире друзья открывали глаза, тем быстрее росло и увеличивалось пространство, пока, наконец, чаша не стала окном, через которое они выглядывали, полные желания узнать будущее.
С левой стороны виднелись ворота, сплетённые из молодых зелёных побегов.
Из-за этих ворот показались дети.
Это были розовые малютки, совсем крохотные. На ходу они постепенно одевались в платьица и бежали, толкая перед собой разноцветные обручи, гоняясь за мячами; жеребята на длинных негнущихся ногах; ежи, похожие на клубки; лисенята; едва оперившиеся, желтоклювые птенцы неслись, окружённые облаком стрекоз и мотыльков. Внизу колыхалась волна трав, нехоженых, цветущих, зелёных. Вся стайка так быстро мчалась, что с трудом можно было разобраться в этой весенней суматохе. Но продолжалось лишь мгновение. Девочки становились девушками, у мальчиков отрастали усы и бороды, они старели, толстели, горбились и с жестом облегчения пропадали за другими воротами, сплетёнными из мака и жёлтых листьев.
— Вы видите меня? — воскликнул капрал Пыпец. И все различили бойкого петушка, гарцующего на деревянной лошадке. Неожиданно конь преобразился; он был уже настоящим скакуном, а петух — ветераном Блаблацкой войны. Прежде чем он исчез в маковых воротах, друзьям показалось, что он блеснул неподвижным крылом, подобно статуе, которую отливают из бронзы.
— Слава ждёт тебя, капрал, — прошептал учёный.
— Хитраска, — пискнула Виолинка. Лисица с розовым бантом на хвосте бежала, покачивая ранцем с книжками. Ни чего не было слышно, но по весёлой мордочке все догадались, — плутовка что-то весело напевает. Вдруг ноги стали заплетаться в длинной юбке, — она подрастала. Нос вытянулся и заострился. Уверенным шагом дошла Хитраска до противоположных ворот, изящно переступила порог и исчезла.
— Мышибрат, Мышибрат, — шепнул петух. В толпе статных юношей промелькнул кот.
Цветы увядали, и наливались соком плоды. Кот, раскинувшись в богатой бричке и закрутив седой ус, въехал в маковые ворота.
— Обоим вам улыбнётся судьба, жить будете в достатке, без забот, — объяснял учёный.
— А это я, это я! — заверещала Виолинка. В толпе детей появилась золотокудрая девочка. — Смотрите, какая я хорошенькая! — восхищалась собой королевна.
Она хотела показать на себя пальцем и коснулась зеркала воды. Пошли круги — и видение пропало.
Над головами сгустился дым.
— Ну, — крякнул мудрый отшельник, — конец забавам! А знаете ли вы, как называется это зеркало?.. Воображение!
Друзья стояли с широко открытыми глазами. Чаша была обычной серебряной миской, а вода — водой. На столе догорали курительные свечи. У всех кружились головы.
— Что это было? — спросила Виолинка.
— Ворота слева — ворота рождения, ворота справа, где все исчезали, — ворота смерти, или ворота макового сна.
— А в середине мы видели всю нашу жизнь! — воскликнул петух.
— Жизнь, — улыбнулся учёный, — жизнь, которую создаёт наша воля и терпеливый труд… Однако пора вам помочь.
Из нескольких пузырьков он слил в один стакан какие-то настои. Жидкость запенилась. Ботаник подал стакан королевне.
— Выпей это, — сказал он, — не бойся.
— А я от этого похорошею? — начала препираться Виолинка. — И моя кожа побелеет?
— Не разговаривай, пей! Сначала нужно подумать об отравленном сердце, а потом можно позаботиться и о красоте.
Виолинка выпила.
Неожиданно с груди сошла тяжесть, она вспомнила свои прежние капризы, те минуты, когда она была несносной и неблагодарной. Потом девочка подумала о терпении и доброте своих спутников. Пробуждённое сердце заболело. Из-под густых ресниц на смуглые щёки брызнули слёзы. Яд чернокнижника улетучивался. Девочка почувствовала, что в ней наступает перемена. Виолинка вновь стала доброй.
— Спасибо тебе, — прошептала она, прижимаясь влажным от слёз личиком к жилистой руке учёного.
— А теперь мы покончим с этим маскарадом. — Он провёл лезвием аирового меча по бороде, словно сбривая И — о новое чудо! — золотистые завитки опали, но, прежде чем они коснулись земли, влетевшие в открытую дверь ласточки схватили их в клювы. Они уносили этот пух, чтобы выстлать им гнёзда. Королевна стояла, открыв рот от изумления, слёзы, внезапно высохли.
— А когда я похорошею, — спросила она, — папа узнает меня?
— Это уже от тебя зависит. Я пробудил твоё омертвевшее от чар сердце; оно тебе подскажет остальное.
— Ты наш спаситель; я не знаю, как тебя и благодарить, — начал петух, но ботаник только махнул рукой, прервав его речь.
— Не меня благодарите, а эти мудрые растения, поведавшие мне свои тайны.
Несколько ласточек, посвистывая, ворвались через открытые двери и уселись на стропилах под потолком.
— Мышибрат, — вдруг заговорил мудрец, — мы сейчас прогоним твои заботы, — я вижу, они не дают тебе покоя. Смотри, — и он снял висевшую на стене скалку. Потом учёный опустился на пол и схватил лоскуток тени, это смехотворное подобие мыши, начал растягивать и разминать Натёртая косматыми листьями коровяка, тень вытягивалась и росла. Она уже была такой, как прежде, но ботаник не прекращал своей работы.
Петух, наклонив голову, в изумлении следил за ним. Виолинка взвизгивала от восхищения. Отшельник поймал несколько солнечных лучей и вплёл в эту новую огромную тень золотую ленту. Вздыбив шерсть, Мышибрат смотрел, как с каждым движением его тела по стене передвигается полосатая тень тигра.
— Ну, что? Теперь ты доволен? — улыбнулся ему ботаник, выпустив из кулака остаток пойманных лучей.
— Ты самый великий в мире учёный, — мяукнул Мышибрат и подпрыгнул от радости. Его полосатая тень бесшумно изгибалась по стене, пугая щебечущих ласточек.
— Я покажу вам кратчайшую дорогу до границы. Вам пора в путь.
— Мы не проберёмся через чащу, — прошептала Виолинка: — ежевика так царапается!..
— Не бойтесь… Смотрите, вот здесь проходит тропинка, — и ботаник указал на открывшийся вдруг между стенами бора просвет. Под сводами деревьев было темно и сыро, но далеко-далеко друзья увидели белую ленту дороги и плывущие в солнечном небе облака.
— О, да ведь тут легко пройти! — крикнула Хитраска.
— Спасибо тебе за исцеление, спасибо за доброту и ласку, — звери крепко жали ему руки.
— Идите спокойно.
Хотя некоторое время учёный неподвижно стоял, глядя им вслед, его фигура расплывалась и исчезала, тая среди деревьев. В последний раз блеснул берёстой седой волос и сверкнули голубизной глаза, словно смеющийся в зелени родник. Когда друзья прошли еще немного, они увидели, что лес закрывается за ними, точно книга. Просвет смыкался, в гуще ветвей пел птичий хор, травы струили пьянящий запах.
Друзей охватила необыкновенная радость. Вместе с лучами дневного солнца их сердца наполнили покой и вера в быстрый конец тяжёлых странствий. При взгляде на Виолинку, такую же некрасивую, как и прежде, но же изменившуюся и полную какой-то внутренней прелести, глаза взволнованного петуха подёрнулись влагой, он схватил рожок и начал играть старые военные песни. Изумлённые деревья зашумели, а птицы только посвистывали от удивления. Петуху подпевали его друзья, и среди их весёлых голосов особенно выделялся дискант Хитраски:
«Ехали драгуны на Блаблацию…» —или старинная песня разлуки:
«Милая, рожок поёт, Бутерброд не лезет в рот? Ах, прощай! К сёдлам пригнаны колбасы, Ротный в гневе, — дай припасы, Едем в дальний край! Возвращусь я знаменитым, С орденами, с аппетитом, — Лавром увенчай!»Вы знаете это время… Небо становится мягче и ласковее, в безветренную полуденную пору плывут в лазури, тихо шелестя, сбитые из сухой пены сентябрьские облака. Внизу тучные деревья колышут листвой. Минуло уже время бутонов, цветов, жадного роста веток. Соки загустели и текут лениво. Лес пахнет увядающими травами и влажной листвой. Земля созрела для жатвы и отдыха.
Петух останавливается. Лес кончился. Дорога, петляя, сбегает вниз. Там, в долине, пастушьи дымы косыми струями поднимаются в небо, синие окна озёр просвечивают среди рощ — там уже граница.
Где-то в этой дали, прислушиваясь к стуку повозок, фырканью скакунов, стоит постоялый двор «Под копчёной селёдкой». Набежавшие со всех сторон подсолнухи протягивают к солнцу свои золотые чаши. Хозяин постоялого двора Завтрак, выйдя из дверей, поглядывает на печную трубу: по первым искрам, вылетающим из дымохода, он навораживает себе множество гостей. И это далеко, далеко…
А тут, вблизи, вправо через журчащий по камням ручей, извилистая дорожка ведёт по берёзовому мостику на высокий холм. На самой его вершине, за усеянной бойницами стеной, среди деревьев, поблёскивают тусклые купола монастыря братьев Горемык.
Чары исчезли
Монастырский привратник приникает глазом к замочной скважине и смотрит на дорогу, не видно ль там пилигримов. Заходящее солнце сыплет золотую пыль в его слезящиеся глаза. Но вот брат Кампанулий дёргает за верёвку. Маленький колокольчик начинает петь. По всему монастырю раздаётся стук деревянных сандалий. Отец Живокость покидает свою аптечку с сушёными травами, а отец Чернилий вытирает гусиное перо и посыпает песком исписанную страницу хроники. Дневная работа окончена. А колокольный звон плывёт по небу, витает среди птиц и белок, развесивших свои пушистые хвосты на вершинах монастырских кедров.
Старый капрал распорядился сделать привал. Друзья видят, как из долины к ним приближается кто-то в чёрной рубашке, темноволосый и курчавый. На спине он несёт шарманку, на шарманке сидит попугай. Хитраска приподнимается на локтях и говорит: «Смотрите, какой-то шарманщик!» Нашим друзьям знакома буйная итальянская шевелюра и цветастый галстук. В подёрнутых поволокой глазах артиста отражается очарование тихого вечера. Приятная улыбка раздвигает его толстые губы, и он изящно кланяется.
— Где ты бывал, Чёрный Баран? — спрашивает его капрал.
— Здесь играл, там играл, господин мой милостивый, — отвечает баран, устанавливая шарманку на палке.
Как это всем известно, бараны — самые музыкальные животные, даже в своем теле они скрывают неистощимые запасы гармонии — это знаменитые бараньи кишки.
Баранелло начал крутить ручку. Поплыл ласковый, как струйка дыма, старинный блаблацкий вальс. Под звуки этого вальса шумели кринолины наших прабабушек, мелькали, словно крылья бабочек, веера.
По навощённому паркету, обрызганному огнями хрустальных люстр, в помноженных зеркалами залах кружились напудренные парики, улыбались коралловые уста, украшенные лукавой чёрной мушкой. А вальс развевался, словно выцветшая лента.
Баранелло крутил ручку, закрыв от удовольствия глаза; звери слушали, будто заворожённые.
«Быть может, я в последний раз Плыву под вальс в весёлый час; Наслала ночь, и день погас, Быть может, ночь разделит нас — двоих друзей!»Троих друзей, — поправляет Мышибрат, обводя нежным взглядом отдыхающих спутников.
Сбоку, привязанные красными тесёмками, болтались около шарманки соломенные туфли. И петух, поглядев на опалённые ноги Виолинки, тяжело вздохнул: «Босая, босая, точно нищенка; как я такой королю отдам?» — сокрушался он, потирая крылом наморщенный лоб.
— Дай нам эти туфли, Чёрный Баран, — попросил Пыпец, подойдя к шарманщику.
— Если хочешь, я продам их за серебро, господин мой милостивый.
Петух обшарил карманы, потом посмотрел на Мышибрата, но тот отрицательно покачал головой.
— У меня нет денег, Чёрный Баран.
— Дай рожок, дай рожок, щедрый капрал.
— Ты с ума сошёл, Пыпец! — крикнула Хитраска. — Это не имеет ни малейшего смысла! — Но Пыпец снял уже с плеча перевязь и небрежным жестом протянул барану свой старый рожок.
— Довольно ты мне послужил. Иди теперь в эти славные копыта; Баранелло — истинно акустическая душа, не тревожься, он тебя будет беречь.
Музыкант вынул палку, закинул шарманку за спину. Когда он, пробуя звук, поднёс рожок к губам, все услышали жалобный стон прощания.
— Это свинство! Не смей забирать рожок! — крикнул кот. — Такой обмен — это подлость, мошенничество!
— Прощайте! Прощайте, господа милостивые! — поклонился Баранелло, быстро удаляясь.
— Это самая высокая цена, которую когда-либо заплатили за обыкновенные туфли.
— Какой ты добрый, Пыпец, — поцеловала его Виолинка. — У меня еще никогда не было таких хорошеньких туфелек.
— Ничего не поделаешь, — кряхтя говорит петух и скромно потирает крылья. — Впрочем, я сделал бы то же самое для каждой босой девочки.
Пыпец уселся на камень и стал набивать трубку табачными крошками, которые он выклёвывал из кармана.
Счастливые друзья сидели и отдыхали. Мышибрат, достав дратву, пришивал отстающую подмётку; Виолинка побежала к ручью. Укрывшись в зарослях, она сбросила платьице и начала плескаться в воде. Девочка долго мылась, а потом стала стирать своё выцветшее платье. Вода около мостика текла тихо, и множество незабудок отражалось в ней сапфировыми пятнышками. Даже не заметив этого, Виолинка зачерпнула их отражение, и вся ткань окрасилась в яркоголубой цвет. Девочка развесила платье на ветвях кустарника, а сама по пояс села в воду и принялась расчёсывать спутанные волосы зелёных водорослей, густо разросшихся у подводных камней. Каждую минуту раздавался весёлый смех Виолинки: стайки маленьких серебряных рыбок щекотали ей пятки.
Багровое зарево заката сверкало из-за деревьев; птицы возвращались в гнёзда. Было тепло, как летом. Королевна набросила платьице, всунула босые ноги в соломенные туфли и, охваченная внезапной нежностью, помчалась через луг к своим задремавшим друзьям. Она увидела изнурённые мордочки зверей, их озабоченные глаза. Как бы ей хотелось отблагодарить их, доказать им свою любовь и привязанность!
— Смотрите, — вскочил изумлённый Мышибрат: — королевна, — прошептал он, — настоящая королевна!
И действительно, ручей смыл с Виолинки дорожную пыль и чары цыгана, посветлевшие волосы спадали на плечи золотистыми кудрями. Платьице было голубым, как небо, а соломенные туфли стали золотыми туфлями, — на них поблёскивали капли росы, как настоящие бриллиантовые пряжки.
— Какой ты стала красивой! — шепнула Хитраска.
— И какой у тебя величественный вид! — склонился перед ней петух.
Девочка нежно обнимала зверей, целовала и в клюв и в мордочку, гладила и изо всех сил прижимала к себе.
Лишь теперь взволнованные друзья почувствовали, что она по-настоящему их любит.
— Для вас я совсем не королевна, я просто ваш друг, с которым вместе вы прошли этот тяжёлый путь! — воскликнула девочка.
Слишком поздно
Багровое солнце опускалось ниже, в долине клубился туман.
— Нам пора в путь, — сказал Пыпец.
Взявшись за руки, друзья зашагали по дороге.
— В моей жизни не было такого счастливого дня, — вздохнул петух. — Теперь я за вас спокоен…
— И я тоже, мои деточки, — рявкнул, вылезая из леса, цыган Нагнёток. — Ну, добрый вечер! Что ж это, паралич вас хватил, что ли?
Звери стояли окаменев. Огромная фигура цыгана с развевающимися космами и взлохмаченной бородой, обрызганная кровавым солнцем, надвигаясь из сумерок, неумолимо приближалась к друзьям. Полчаса тому назад он встретил на дороге Баранелло. Нагнёток сразу заметил в копытах шарманщика ненавистный рожок. И, перекупив его, он рысью побежал через лес, уверенный, что скоро настигнет беглецов.
— Отдавайте мне малютку и улепётывайте отсюда! — гаркнул Нагнёток на зверей.
— Бежим! — крикнула Хитраска.
Словно проснувшись, друзья повернули назад и помчались по крутой тропинке в сторону монастыря. Вслед за ними сопя ринулся цыган. Но, прежде чем звери добежали до первого поворота, петух понял, что им не спастись. Необходимо было встретить врага лицом к лицу.
— Возьми это, — крикнул Пыпец Хитраске, подавая ей свой узелок, потом он шепнул: — мчитесь к калитке… Я вас догоню!
— Я останусь с тобой, — дышал ему в ухо Мышибрат.
— Нет, ты должен быть с ними до конца.
— Капрал, — умолял кот, — позволь и мне…
— Нет! Теперь моя очередь!
Петух собрал все силы и крикнул: «Стой!» — загородив дорогу цыгану.
— Прочь! — заревел Нагнёток, но, видя решимость капрала, убавил шагу. Оба стояли на склоне холма у поворота тропинки. Сверху слышны были крики убегающих, камешки, постукивая, скатывались вниз.
Петух выпрямился, нахохлился и прицелился в темноту своим затупленным клювом; он опустил крылья и принял гордую воинственную позу. Увидев это, Нагнёток вытянул вперёд обе руки и, скрежеща зубами, стал медленно приближаться.
Они стояли так на расстоянии одного шага друг против друга, словно бронзовые изваяния, в неверном свете восходящего месяца.
Старое сердце петуха стучало: «Ты вышел на последний бой; помни об этом, будь мужествен».
Над Пыпецом наклонился громадный, как дуб, цыган.
Неожиданно внизу зацокали копыта и раздались крики: «Держись, старина! По зубам его! Мы тебе сейчас поможем!»
Высекая шпорами искры и поблёскивая дулами пистолетов, в гору карабкались какие-то люди.
Петух повернул голову, чтобы лучше рассмотреть всадников. Этой неосторожностью воспользовался Нагнёток, он выдернул из-за голенища длинный нож и, заорав: «Ах ты, куриное отродье!» — дважды ударил петуха ножом в грудь.
— Не закрывайте калитки, сейчас капрал прибежит, — долетел до него еще сверху голос Хитраски. Пыпец запрокинул голову и увидел высоко над собой у полуотворённой монастырской калитки мерцающий фонарик. Его друзья были в безопасности. Горячая кровь текла из пробитого сердца, дрожь пробежала по телу — и он весь вытянулся. Приоткрыв клюв, петух умер без стона.
Цыган вытер нож о траву. Повёл вокруг чёрными глазами. И тут он снова услышал снизу топот и крики; тогда злодей перешагнул через преграждавшие ему путь останки и помчался к монастырской калитке.
В этот момент из-за поворота вынырнули три фигуры.
— Высеки огня! Посвети сюда!
Посыпались искры. Кроваво сверкнул факел. Пришельцы склонились над капралом.
— Он убил его! — воскликнул кто-то. — Один раз этому бандиту удалось обмануть нас, но теперь мы его поймаем!
— Поздно! Братья-разбойники, слишком поздно! — ответил другой голос.
Это были Гуляйнога, Уголёк и Пробка. Час тому назад цыган прокрался мимо них и, в довершение всего, отрезал пол-уса задремавшему атаману. Когда пчеловоды заметили следы, они бросились в погоню, стараясь сдержать слово.
И вот они опоздали всего на одну минуту.
Взяв скамью, на которой отдыхают бредущие к монастырю пилигримы, и положив на тело, они образовали траурное шествие, освещенное багровым пламенем факела.
Когда пчеловоды постучали в дубовые ворота, привратник осторожно выглянул и тотчас в ужасе отпрянул. Засовы отодвинул Мышибрат. Братья-разбойники вошли во двор.
Месяц был уже за башней. Он заливал мощёный двор волной серебряного света. Среди ветвей монастырских кедров с грустным криком летали совы.
— Не говорите ей ничего, — прошептал кот, указывая на комнату, где находилась Хитраска. — О бедный друг! — рыдал Мяучура, целуя безжизненное крыло петуха.
Тело внесли в угловую келью. Зажгли свечи, и Мышибрат дрожащей лапкой закрыл мёртвому глаза.
Рождение Эпикурика
В узком решётчатом окне тускло мерцал месяц. В полумраке комнаты искрились, отекая слезами, восковые свечи. Тени монахов двигались по стенам, шелестели страницы молитвенников.
— Я не могу ничего есть, — шепнула Хитраска, отставляя дымящуюся миску с тминным супом.
— Что, вам не нравится? — огорчился повар, брат Мускат, стоявший в дверях с учтиво сложенными на толстом брюшке пухлыми руками.
— Нет, великолепно, но у меня нет сил, чтобы есть. Я вся дрожу, — шепнула лиса. — Почему он не возвращается?
Я чувствую, что с ним случилось что-то нехорошее…
Подгоняемая предчувствием, слыша печальный шорох молитв, Хитраска вскочила со скамейки и, прижимая к сердцу узелок петуха, вбежала в угловую келью.
С минуту она стояла, ничего не понимая. И вдруг с душераздирающим стоном Хитраска подняла вверх лапки и рухнула без чувств на пол. Узелок выпал из рук и покатился по каменному полу.
Подбежали разбойники и подняли лису, а Уголёк, окунув руку в кропильницу, брызнул на водой.
Постепенно Хитраска пришла в себя; боль исказила мордочку; из глаз ручьями хлынули слёзы.
Неожиданно из упавшего узелка, из вороха тряпок, разбрасывая скорлупки и отгибая проволоку, выкарабкался задорный петушок. Он был невелик, но оперён почти как взрослый, красный гребень драчливо свешивался на левый глаз. Было похоже на то, что он уже никогда не вырастет: цыплёнок слишком долго пробыл в яичной скорлупе.
— Я Киркорек, — представился петушок. Потом, к удивлению всех, он подошёл к мёртвому телу отца и, поцеловав его в похолодевшее крыло, что-то долго шептал и обещал со слезами на глазах.
Хитраска нежно обняла малютку и прижала к груди.
— Бедный ребёнок, сиротка! — Но петушок резко отстранил лисицу и промолвил пискливым, но уже ломающимся голосом: «Тяжело, ничего не поделаешь, умер отец, но нужно за него отомстить!»
— Да ведь ты совсем маленький, — зарыдала Хитраска.
— Не такой уж маленький, — вызывающе нахохлился петушок.
— Ты наш друг, лучший товарищ, — обнимали его разбойники. — Завтра мы поймаем преступника, и справедливость восторжествует.
Они увели малыша в соседнюю комнату и там строили планы погони и мести. А когда добрый настоятель послал к ним брата Муската с мисками тминного супа, они попросили у него только горсть солёных бобов, и приор был приятно удивлен их покаянной суровостью. Потом, как пристало бесстрашным головорезам, пчеловоды пили вино из оплетённых тростником бутылок и заедали его солёными бобами, которые, как известно, делают напиток вкуснее и усиливают жажду.
И тут Киркорек начал со слезами на глазах припоминать подвиги отца: «Эх, — говорил он, — когда мы были под стенами Блабоны…»
— Не ври, — возмутился трезвеющий Гуляйнога.
— Чтоб у меня не вырос хвост, — божился петушок, — разве мало носил меня отец в походном ранце по полям славы… Разве мало выслушал я рассказов у ночных костров?
— А ведь он говорит правду! — воскликнул Пробка и ударил себя по лбу. — Братья, — воскликнул он, — в ожил наш друг!
— Выше чашу! — радостно крикнули разбойники.
Вдруг в темноте, за оградой, послышались ужасающие вопли. От них дрожь пробегала по телу и волосы вставали дыбом.
Пир демонов
Слышался стук сандалий и шорох ряс — по коридорам бежали монахи. Взводя курки пистолетов, пчеловоды выскочили из кельи. Но в темноте за монастырской оградой видны были только очертания деревьев, среди которых метались какие-то зловещие тени и дрожал освещенный месяцем плющ, словно могучие звери точили когти о камни монастырских стен.
А дело было так. Когда притаившийся за деревьями цыган увидел, что привратник, звякая ключами, запирает калитку за пчеловодами, он поднялся с земли, ударил рожком о ствол ракиты и прохрипел: «С одним я расправился, а тут троих черти принесли…»
Нагнёток крадучись стал пробираться вдоль стен, высматривая выступы и углубления, на которые он мог бы опереться ногой.
Так он, задрав голову, с вожделением поглядывая на свисающие из-за бойниц ветки. Над ним бесшумно кружились совы, щёлкая искривлёнными клювами.
Вдруг цыган заметил, что из-под горы к нему приближаются странные фигуры. Они напоминали людей, но у них не было ни носа, ни рук, — они скорее походили на видения кошмарного сна или на грозные призраки. Это были семь Страшных Пороков. Не имея доступа на освящённую землю монастыря, они подкарауливали закоренелых грешников около стены, осаждая и штурмуя ворота обители.
— Прочь! — крикнул им цыган, угрожая ножом.
Чудовища захохотали, и этот хохот был так ужасен, что чёрная душа цыгана задрожала в испуге и побледнела. Шествие возглавлял карлик с синим и опухшим лицом; он схватил Нагнётка за ноги и повалил его на землю. Сбитого с ног цыгана свысока измерило Высокомерие. Краснобородый Гнев разгневал его. Подскочило Убийство и ловко убило злодея, а Нечистость вымазала его с головы до ног. Потом подбежало Обжорство и стало объедать еще тёплый труп. Когда остался начисто вылизанный скелетик, притащилась Лень и принялась стонать, что для ничего уже не оставили. Потом она схватила рожок и попробовала сыграть, но рожок в руках демона отчаянно завыл. Чудовища, жалобно скуля, стали вырывать его друг у друга.
Именно эти грозные звуки и всполошили пчеловодов, они затрубили тревогу, и демоны исчезли в чёрных борах на берегах Кошмарки.
Монахи отправились спать. Но вдруг из глубины ночи засверкали багровые огни, эти огни стали расти и шириться. Кровавое зарево залило небо; разбуженные птицы, думая, что наступил рассвет, отряхнули мокрые от росы крылья и весело защебетали. Огненные гривы плавали по небосводу, брызгая ввысь искрами. Земля гудела. Все застыли в изумлении. Может быть, пришли какие-нибудь новые беды?
— Отец, — крикнул Гуляйнога, — я сяду на коня, чтобы узнать поскорее!
— Не делай этого, — ответил монах, — тропа извилиста, ночью всякая нечисть подкарауливает сбившегося с дороги путника, лучше поезжай на рассвете.
— Что это за пламя?.. — волновались все.
Зарево отбрасывало неверные отблески на встревоженные лица.
— Это горит в стороне трактир «Под копчёной селёдкой».
— Я понял, — крикнул, ударив себя по лбу, Эпикурик, — и как я раньше не догадался…
— Говори, Киркорек, говори скорей! — все обступили петушка.
— Это армия короля Цинамона, она перешла границу и жжёт костры на привале.
Точно в подтверждение этих слов, издалека донёсся мрачный рокот военного барабана и хриплые голоса труб, призывавшие быть начеку.
Счастливое окончание
Ярко горело восходящее солнце; крупные зёрна росы по блёскивали в седых травах. Тёмной полосой на поляне обозначился след, где проскакали разбойники. Киркорек, наблюдая за ними с зубчатой стены, увидел, как разбойники вынырнули на дорогу. Внизу гудел лес от их бешеного галопа. Любезные пчеловоды мчались, припав к конским гривам; развевались перья на шляпах, сверкали стволы пистолетов. Всадники то пропадали за поворотом, то вновь появлялись; мелькая среди тенистых деревьев, они уносились вдаль, становясь меньше и меньше.
Над лесом редеет туман, и прямёхонько в небо поднимается столб дыма из трактира Завтрака. Даже отсюда, из монастыря, видны стройные шеренги войск: чёрные толпы пехотинцев и подвижные эскадроны знаменитой блаблацкой кавалерии. Волнение душит юного петуха при мысли о смерти отца, о его героической, полной самоотвержения жизни и о спасении королевны. «Да, — думает он гордо, — если бы не отец, вся эта армия вторглась бы, разрушая и сжигая родной Тютюрлистан». Петушок, прикрыв крылом глаза от солнца, видит, как трое разбойников, которые кажутся отсюда меньше муравьев, выезжают на широкую пограничную дорогу.
«Ох, если бы и в моей жизни было столько же походов, столько же приключений, — мечтает Киркорек, — то ты, отец, наверняка не постыдился бы за меня!»
Вдруг он заметил, что под стеной, у самого склона, что-то блестит среди травы, как раз там, где вчера неистовствовала нечистая сила. Петушок ловко соскочил со стены, пролез через-кусты и… конечно, это был рожок.
Прижав находку к груди, Киркорек помчался во двор.
Он остановился в приоткрытых дверях часовенки.
Свечи догорали. Только двое монахов находились у гроба. Охваченный внезапной надеждой, Киркорек приложил рожок, к клюву и заиграл простую и жалобную мелодию:
«Петух недавно умер, Он злым врагом сражён; Когда б ему сыграли, Воскрес бы тотчас он».Дрожь пробежала по телу Пыпеца, веки заморгали, но душа слишком далеко улетела в иной мир, она не могла уже вернуться на зов. Большая слеза медленно скатилась по клюву и, сверкнув, упала в темноту. Удручённый Киркорек стал на колени.
За стенами гудело. Не обращая внимания на отчаянные приглашения Завтрака, рыцари сели на коней. Как только король Цинамон узнал, что Виолинка ждёт его в монастыре, целая и невредимая, он всадил смертоносный меч в землю и в окружении пчеловодов помчался к дочери. И как раз в этот момент он соскакивал с коня.
— Дочурка! — воскликнул король, протягивая руки.
— Папочка! — взвизгнула Виолинка, побежала ему на встречу и, словно голубая бабочка, затрепетала, повиснув на его шее. Они долго обнимались и целовали друг друга. Тютюрлистан был спасён.
* * *
В этом месте и отец Чернилий вытирает перо, потому что слёзы радости застилают глаза и мешают ему писать.
Повсюду суматоха, возгласы и крики — и я не могу собрать мыслей.
Что бы вы хотели узнать?
Хитраска стала хозяйкой постоялого двора. Она живёт сейчас в Тулебе и с клеёнчатой сумкой, шелестя накрахмаленными юбками, спешит каждое утро за покупками на рынок.
Мышибрат унаследовал мельницу после старика Сито, но дела у него идут плохо, ведь вам хорошо известна его дружба с мышиным родом.
Прыг и Узелок дают представления в цирке «Мердано». Колдунью Друмлю солдаты не поймали: обернувшись совой, она, рыдая, улетела в лес.
А что касается трёх милых разбойников, то я сам был свидетелем следующего разговора. Юлий Пробка сказал, что он возвращается в столицу, так как ему недостаёт восторженной публики. Он заявил, что друзья его слишком необразованны, чтобы оценить всю несказанную прелесть его поэзии.
И тогда обиженный Гуляйнога крикнул:
— Позволь, мой Юлий, я тебе процитирую поэта:
«Ступай же в город, о глупец, А я — я в лес пойду…»— Во-первых, не «глупец», а «купец»! — обиделся в свою очередь Пробка. — А кроме того, мы все поедем в столицу. Мы заслужили под старость немного отдыха…
Чтобы познакомить вас с неизвестным, но великолепным талантом, я процитирую вам первые строки поэмы Пробки.
Поэма воспевает приключения петуха и его друзей, причём не последнюю роль играют и три разбойника:
«Муза, воспой петуха, — завоеватель Блабоны В дальних скитался краях, долгим путём изнурённый. Недругом злобным гоним, с верными он друзьями, По лесу, по полю шёл, переступая ногами…»Обращаю ваше внимание на необыкновенную меткость этого наблюдения.
Что вы хотите знать, кто вас интересует? Может быть, козёл Бобковита? Мне стыдно признаться, но он один ни в не изменился. Он основал тайную аптеку и торгует запрещёнными снадобьями.
Это, пожалуй, всё…
— А петух? А капрал Пыпец?
Сказочное небо
Когда я припоминаю этот осенний золотой день, полные гордого молчания деревья, которые склонились, словно боевые знамёна, слёзы туманят мой взор.
Петух лежал в гробу, весь усыпанный живыми цветами. Блестело оружие почётного караула. Несмотря на то, что толпы людей проходили через часовню, там царила тишина. Искали средства, чтобы спасти героя, никто не верил в его смерть.
Поскольку врачи обоих королевств, прибывшие в войсковых обозах, заявили, что они не смогут вернуть ему жизнь, созвали мудрецов, знахарей и астрологов, определяющих судьбы по бегу планет. Они поглядели в небо через большие телескопы, посмотрели на солнце через закопчённые стёклышки, поморгали глазами, в которых кружились остренькие звёздочки. Потом, наморщив лбы, они долго шелестели пергаментными страницами. И, наконец, пришли к странному решению.
Какое небо ближе всего к земле?
Разумеется, сказочное, то, которое лежит между облаком и сном. Именно туда прокрадываются дети, туда приходят поэты, дорогу на это небо так просто найти, что я, зажмурив глаза, мог бы вам тотчас нарисовать.
Если душа капрала находится на этом небе и, согласно закону летучести, не может вернуться на землю, то что же остаётся, кроме как послать к ней тело героя? Ох, душа, наверное, придёт в восхищение от того, что она вновь сможет оживить его и затрепетать в этих доблестных перьях.
Не очень-то было это понятно опечаленным монархам.
Но тотчас портные выкроили длинные, страшно длинные языки из розового шёлка и, сидя на траве, принялись сшивать части огромного апельсина. Потом зажгли костёр.
— Мало огня! огня! — кричали почерневшие от дыма кочегары. В костёр кидали ветви, хворост, швыряли тяжёлые буковые поленья. Когда братья Горемыки бросили в огонь свои сандалии, вверх стал подниматься тёплый и ароматный сандаловый дым. Он постепенно наполнил шар и огромным чудищем заколыхался в нём. Апельсиновый диск повис над деревьями, точно осенний месяц, когда он готов скрыться за горизонтом, с тем, чтобы покатиться по орошённым росой травам другой стороны света.
Солдаты держали верёвки.
В пурпурной гондоле лежало тело ветерана, одетое в парадный мундир, сверкающий орденами Тютюрлистана и Блаблации.
— Пускайте шар, — дали знак маги.
Уносимый дыханием могучего пламени, шар умчался в светлеющую лазурь. Он медленно поднимался, точно раздумывая, в какое окно между облаками ему удобнее погрузиться. Вдруг брызнул сноп горячих лучей, указывая дорогу полосой света. Тёплый ветерок отцветшего лета качнул деревья и разбудил стаи скворцов, которые улетели, прощаясь жалобной песней с остывающей землёй. Целая туча птиц устремилась вслед за шаром, словно кто-то до срока поманил умчаться к солнечному югу. Теряя листья, шелестели деревья, медленно склонились боевые знамёна.
Шар уносился выше, и каждому было ясно, что он уже никогда не вернётся на землю. Все стояли в глубоком молчании — и оба короля и вытянувшая мордочку Хитраска. По-птичьи наклонив голову набок, смотрел круглым глазом в небо Киркор Эпикурик. Плакала Виолинка, плакал Мышибрат, разбойники и весь, весь цвет рыцарства обоих королевств.
Хотя шар был не больше черешни, с земли все увидели, как вокруг него зароилось множество замечательных фигур; он уже влетел в сказочное небо, где царит Аннерсен. По вспенённым облакам там плывут фрегаты корсаров и капитан Сильвер, с попугаем на плече, устремил свой взгляд в неведомую даль. Там лежит Пятница у ног Робинзона и из Страны Чудес выбегает Алис.
Смотрите! Там с нетерпением ждут доблестного петуха. Там, в небе испорченных игрушек и вечной молодости!
Я вижу, как все приветствуют старого ветерана, влетающего к ним в блеске немеркнущей славы. Глядите-ка, да ведь это наша старая знакомая, Точка, кружится над ним, садится к нему на грудь, как капелька крови, и восклицает: «Здравствуй, герой!»
Всем показалось, что перед тем, как шар растворился в лазури, петух высунулся из гондолы и приветственно махнул крылом. А может быть, слёзы туманили миг расставанья.
Долго стояли мы с запрокинутыми головами. И вдруг с неба начало падать одно, одно-единственное перо. Оно кружилось, сверкая на солнце. Я жадно схватил его в тоскующие руки.
И этим пером, еще дымящимся красками неба и сиянием просторов, я написал свою повесть.





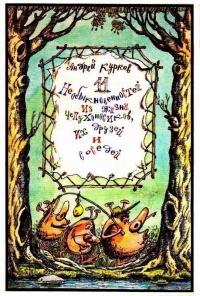






Комментарии к книге «Похищение в Тютюрлистане», Войцех Жукровский
Всего 0 комментариев