Вениамин Александрович Каверин Ночной сторож, или Семь занимательных историй, рассказанных в городе Немухине в тысяча девятьсот неизвестном году
ГОРОДОК НЕМУХИН
Чего только не говорят о Немухине! Говорят, например, что у каждого командировочного начинает звенеть в левом ухе, когда он приезжает в этот город, и так и звенит, пока он не управится со своими делами. Говорят, что в Комиссионном Магазине продаются ковры-вертолеты. И, наконец, говорят, что самым большим влиянием в городе пользуется бывший Леший Трофим Пантелеевич, с блеском закончивший Институт Усовершенствования Леших и Домовых.
Как ни странно, все это почти правда или, по меньшей мере, похоже на правду. Командировочные утверждают, что у них действительно звенит в ухе, но не в левом, а в правом. Ковры-вертолеты продаются, и даже новейшей конструкции, с шелковыми парусами. Трофим Пантелеевич как жил, так и живет в роще недалеко от Поселка Любителей Чистого Воздуха, и в его жизни ничего не изменилось, кроме того, что недавно он купил новый тулуп.
Конечно, многое может показаться невероятным. Неужели, например, Великий Завистник действительно превратил Таню Заботкину в сороку? Представьте себе, превратил! Неужели аптека «Голубые Шары» действительно прилетела за своим Лекарем-Аптекарем в Немухин? Представьте себе, прилетела! Неужели в газете «Немухинский голос» появилось объявление: «Для строительства воздушного замка нужны летающие мальчики»? Появилось, и я читал его своими глазами.
Однако нельзя отрицать, что Немухин остался, что называется, белым пятном на географической карте, и эта несправедливость глубоко огорчала дядю Костю, в особенности когда, выйдя на пенсию, он вернулся в родной городок. Он был клоуном, и не каким-нибудь, а музыкальным, умеющим играть на контрабасе, флейте, кларнете и скрипке, не говоря уже о ложках и барабане.
Правда, его фамилия была Лапшин, а не Попов, но он считал, что в некотором роде он даже выше Попова. Неизвестно, например, любит ли знаменитый Попов совать нос в чужие дела? А дядя Костя любил — это называлось у него поразмяться. Неизвестно, как он узнавал, что кому-нибудь нужно помочь, но узнавал, и почти всегда без ошибки. Только однажды он пришел к старушке с хитроумным, собственного изобретения костылем и получил этим костылем по шее, потому что ногу сломала другая старушка.
Даже клоуны, выйдя на пенсию, начинают скучать. Заскучал и дядя Костя. Только по воскресеньям, когда к нему во двор набирались ребята и он жонглировал ложками, играя одновременно на барабане, у него не сосало под ложечкой. Прочие шесть дней — сосало, да так, что он не находил себе места. Кончилось это тем, что он решил сунуть нос в городские дела, но не в практическом, а в историческом смысле.
Мне случалось навещать его, и должен сознаться, что именно я посоветовал ему заняться путеводителем, и котором — это было совершенно очевидно — нуждается Немухин.
И самом деле, туристы, да и не только туристы, должны были знать, когда построена Новая Пекарня и жив ли еще Ученый Садовод Башлыков. Важно было также объяснить, почему и при каких обстоятельствах немухинцы стали людьми самолюбивыми, постоянно думающими, как бы не ударить лицом в грязь, и не упускающими случая показать, что они ничем не хуже мухинцев — жителей соседнего городка, расположенного на другой стороне речки. Кстати, немухинцы насыпали ее Немухинкой, а мухинцы — Мухинкой.
Путеводитель — сложное дело, в особенности для бывшего клоуна, и не скрою, что именно я намекнул, что прежде всего ему должны помочь старожилы, сестры Фетяска, например, были старше его лет на пятнадцать, могли ли они рассказать ему о чем-нибудь истинно немухинском и в то же время значительном с исторической точки зрения? Конечно, могли. Но, прежде чем посоветоваться с ними, дядя Костя с большим блокнотом под локтем отправился в Городской Музей.
К сожалению, Музей был закрыт. «Санитарный день», — гласила надпись на входной двери. Но по самой этой надписи, выгоревшей и грязной, было ясно, что санитарный день затянулся по меньшей мере на полгода, и, заглянув в окно, дядя Костя убедился в этом. Пол был усеян бумагами. Экспонаты — так называются предметы, выставляемые на обозрение, — не стояли, а валялись на полках: череп доисторического человека (очевидно, одного из первых обитателей Немухина) рядом с подзорной трубой, керосиновая лампа-молния рядом с кочергой, которой, очевидно, было не место в Музее.
Дядя Костя позвонил в Музей — и ничего, кроме звонка, не услышал. Деликатно постучав в дверь рукой, он, помедлив, менее деликатно постучал ногой. Тишина. Ничего не оставалось, как пойти в Отдел Охраны Памятников Старины и спросить: в чем, собственно, дело?
Не стану рассказывать о том, как через какие-нибудь две недели дядя Костя стал директором Музея. В течение этих двух недель его уговаривали сперва Отдел Охраны Памятников Старины, потом Старый Трубочный Мастер, потом Горсовет, потом сестры Фетяска, потом вновь Горсовет. Напрасно он уверял, что никогда ничего не собирал, кроме марок — и то в детстве. Напрасно доказывал, что не в силах просидеть целый день среди предметов старины, не выкинув какое-нибудь сальто-мортале — так некогда назывался смертельно опасный акробатический номер.
— Это хорошо, это прекрасно, что вы — бывший клоун, — возражали ему. — Мы как раз искали не просто порядочного человека, но человека искусства. Не забывайте, что вы — коренной немухинец и, значит, просто обязаны оказать родному городу эту услугу. Кроме того, как пенсионер вы, очевидно, скучаете?
— Скучаю.
— Ну вот, а с нашим Музеем не соскучишься!
И когда он наконец согласился, ему рассказали, что последним директором Музея был некий Лука Лукич Мыло, подозрительная личность, очевидно, связанная с нечистой силой. Именно он однажды вывесил у подъезда надпись «Санитарный день», а с черного хода стал продавать старые ковры, люстры и мебель. Конечно, его отдали под суд, но он куда-то сбежал или даже улетел, потому что его, по слухам, видели летящим над городом по направлению к югу.
Поначалу дела пошли недурно. Вместо надписи «Санитарный день» дядя Костя вывесил новую: «Санитарные сутки». Он надеялся нанести порядок в Музее в течение суток. И может быть, это удалось бы ему, если бы он не начал с полотняной старинной карты Индийского океана. Он снял ее со стены, чтобы вытереть пыльной тряпкой, и заметил на оборотной стороне — не стены, разумеется, а карты — любопытный рисунок.
Неизвестный художник изобразил обруч — в этом не было бы ничего особенного, если бы обруч был похож на те, которые бондари набивают на бочки дли крепления досок. Но нет! Лента, свернувшаяся в большое кольцо, была обвита серебристой змеей, поднявшей узкую головку с опасно сверкающим взглядом. Змея как бы охраняла семь предметов, стоявших или лежавших на внутренней стороне кольца: подзорную трубу, старинный деревянный телефон, модель фрегата с раздутыми парусами, пушечку елизаветинских времен, лакированную шкатулку, музыкальную табакерку с черепаховой крышкой и медный самовар.
Но это было еще не все: в центре обруча живыми, сохранившимися красками был изображен высокий старик, запахнувший полу широкого плаща на плечо и снимающий перед зрителями конусообразную шляпу. Из-под плаща торчали костлявые ноги, длинные руки, а лицо… Огромный, озорной, самолюбивый нос был воткнут между морщинистых щек, упрямые губы над острым подбородком как будто говорили: «Я — это я, и прошу вас с этим считаться». По задумчивым, гордым глазам можно было, пожалуй, вообразить… Но, не полагаясь на воображение, дядя Костя помчался к сестрам Фетяска.
…Надо сказать, что Фетяска — старинная фамилия, заставляющая думать, что сестры были родом из Румынии. Но на самом деле они родились в Немухине, из которого выезжали редко, а выходили часто, особенно осенью, когда в роще за Немухинкой появлялись подберезовики, — они любили грибы.
Фекла Никитична хозяйничала, а Зоя Никитична с утра до вечера раскладывала пасьянсы.
Кроме грибов, они были любительницами кофе, и не какого-нибудь, а турецкого, который варился в медных кастрюльках с мудреным названием. Прежде чем снять кастрюльку с огня, надо было произнести мусульманское заклинание.
И дядя Костя, едва войдя, немедленно получил свою чашечку кофе. Однако, пригубив ее и сказав, как всегда: «Умопомрачительно!» — он, не теряя времени, развернул карту Индийского океана сперва с лицевой стороны, а потом с обратной, и сестры, вооружившись очками, ахнули, оцепенели от изумления и заговорили почему-то по-французски.
— Нил Сократович! — вернувшись к русскому, в один голос сказали они.
— А кто такой Нил Сократович?
— Ночной сторож!
— Не может быть! Что же он так? В плаще и высокой шляпе?
— Да, он всегда именно так!
Дядя Костя открыл блокнот…
А надо сказать, что, принимаясь за путеводитель, дядя Костя составил план:
1. История. Все достойные уважения путеводители начинались с истории.
2. Знаменитые здания, такие, например, как Новая Пекарня или аптека «Голубые Шары».
3. Коренные жители, отлучавшиеся из города только по неотложным делам.
4. Командировочные, среди которых были Герои Социалистического Труда, академики и поэты.
— Подходит, — прочитав план, сказали сестры.
— Кто подходит?
— Нил Сократович.
— Почему?
— Потому что он был и историком, и коренным жителем, и командировочным, и хранителем знаменитых зданий.
— Каким же образом?
— Очень просто! Во-первых, он всегда рассказывал истории. Во-вторых, по совместительству работал ночным сторожем — и в Музее, и в Аптеке, и в Новой Пекарне. В-третьих, он родился в Немухине и был увезен родителями, едва ему исполнилось два года, а в-четвертых, вернулся через пятьдесят лет, потому что его командировал как собственного корреспондента журнал «Новости науки и техники».
— Каким же образом он попал в ночные сторожа?
— Очень просто. Его уволили из журнала.
— Почему?
— А он послал корреспонденцию о том, что чучело на огороде ожило и запустило в ворону шляпой. Не поверили, чудаки.
— А почему уволили из ночных сторожей?
— Потому что он ночью спал, а днем рассказывал детям сказки.
— Где же он теперь?
— Неизвестно. Обиделся и ушел. Дядя Костя взглянул на рисунок.
— И что же, он был так высок? Сестры снова поговорили по-французски.
— Скорее долговяз, — возвращаясь к русскому, объяснили они. — Неуклюж. Одному податному инспектору, прогуливавшему собаку, сказал, что у собаки человеческое лицо, а у него — собачье.
— Так прямо и сказал?
— Прямо. Он всегда говорил, что думал. И между прочим, первый уличил в воровстве Мыло.
— Какое мыло?
— Директора Музея, Луку Лукича.
— Уличил — и что же?
— Уволили!
— Кого?
— Конечно, Нила Сократовича. А Мыло уже потом, когда он окончательно проворовался.
— Интересно, — сказал дядя Костя, торопливо записывая в блокнот все, что ему рассказали. — А как вы думаете, почему Ночной Сторож нарисовал в обруче именно эти предметы: пушечку, фрегат, шкатулку, старинный телефон? И почему обруч обвит серебристой змеей? И почему…
Еще долго продолжались бы эти расспросы, если бы сестры не сказали одновременно:
— Не знаем!
Но когда дядя Костя, выпив еще одну чашечку душистого кофе, простился, они посоветовали ему заглянуть к Старому Трубочному Мастеру.
— Во-первых, Нил Сократович часто заходил к нему, они были друзьями. А во-вторых, в нашем Немухине нет человека догадливее, чем Трубочный Мастер.
Тот, кто вообразил бы, что у Трубочного Мастера мет ни имени, ни отчества, ни фамилии, попал бы, как говорится, впросак. У него было два имени и, хотя отчество — одно, фамилия тоже двойная. Но для немухинцев все его имена и фамилии давно потонули в трех словах: «Старый Трубочный Мастер».
…Самыми ценными считаются обкуренные трубки, поэтому в его маленьком домике всегда стоял дым — тот самый, о котором почему-то говорят «дым коромыслом». В этом дыму с трудом можно было различить хозяина, который сидел у станка, вытачивая очередную трубку.
Он очень боялся, что врачи запретят ему курить. На дощечке у ворот вместо: «Внимание! Злая собака!» — было написано: «Внимание! Врачам и даже членам Академии Медицинских Наук вход воспрещен!» Всех он спрашивал: «Простите, а вы случайно не врач?» И когда дядя Костя постучался и вошел, держа под локтем свернутую карту Индийского океана, он тоже начал было: «Простите, а вы случайно…»
Не стану передавать разговор между ними. Скажу только, что Трубочный Мастер попросил развернуть карту и показать загадочный рисунок. Он долго и с наслаждением смеялся, рассматривая изображение высокого старика в плаще, из-под которого торчали длинные костлявые ноги, а потом грустно задумался и шумно вздохнул.
— Это был… — начал он. — Впрочем, почему был? Я уверен, что мы его еще увидим… Это был удивительный человек! Вечно таскал с собой рваный портфель, набитый рукописями, и читал их вслух, просили ли его об этом или не очень просили. Самолюбивый, обидчивый, добрый и всегда готовый все на свете перевернуть вверх ногами. Между прочим, он считал, что каждый человек в глубине души немного волшебник, но только очень немногие догадываются об этом. Помнится, он с математической точностью доказал мне, что директор Музея, который его уволил, — злой волшебник или даже, может быть, мелкий бес.
— Лука Лукич?
— Вы уже знаете! Причем из Немухина Нил Сократович не уехал, а ушел. Он не признавал ни поездов, ни самолетов, ни автобусов, ни даже велосипедов. Мечтал об осле. И кстати, не был бы собой, если бы не оставил загадки. Впрочем, ее легко разгадать. Подумайте сами, какое сходство между музыкальной табакеркой и моделью фрегата? Или между самоваром и старым телефоном?
Дядя Костя подумал.
— Разница есть, — сказал он простодушно. — А сходства не вижу.
— А вам не приходило в голову, что в каждом из этих предметов можно что-нибудь оставить на па мять? Если, скажем, он вел дневник, почему бы не положить одни страницы в старый телефон, а другие — в музыкальную табакерку?
— А он вел дневник?
Трубочный Мастер снова взглянул на рисунок.
— Кто знает? — сказал он. — Теперь вам, мне кажется, надо найти в Музее эти предметы и выяснить, не являются ли они, так сказать, средством упаковки. Ох, Нил! Никогда не забуду, как он держал со мной пари, что нашу речку можно перейти на ходулях.
— И выиграл?
— Нет, проиграл.
По-видимому, немухинцы до поры до времени махнули рукой на свой Музей, иначе они не сократили бы число его сотрудников до двух и даже одного.
Таким образом, дядя Костя оказался и старшим хранителем, и уборщицей, и сторожем ночным и дневным. Вот почему в первые дни своей работы он забыл и думать о загадочном обруче. И, должно быть, долго не вспомнил бы, если бы я случайно не оказался в Немухине и не заглянул в Музей.
Босой, голый до пояса, в подвернутых спортивных штанах, дядя Костя натирал пол, да так лихо, как будто всю жизнь был полотером.
— В описи значатся, — ответил он, когда я спросил его о семи предметах, вписанных в обруч. — А в наличии — нет. Кроме подзорной трубы, через которую ничего не видно.
— А где она? Можно на нее взглянуть?
Подзорная труба, медная, позеленевшая, тяжелая, была раздвинута до предела — как будто нарочно, чтобы показать, на что она способна. Но, взглянув через нее из окна на открывавшийся за Немухинкой лесок, я убедился в том, что дядя Костя был прав: отразился, да и то неясно, только мой собственный глаз. — вы не пробовали ее разобрать?
Это было не так-то легко — развинтить трубу, которую кто-то свинтил тому назад лет двести. Но дядя Костя, полюбовавшись натертым полом, помог мне, и мы вдвоем кое-как справились с верхним узким отсеком, в котором ничего не оказалось, кроме толстого слоя пыли. Во втором, более широком, мы нашли большую мертвую муху, а третий, четвертый и пятый были наглухо забиты смятыми, исписанными листами бумаги.
— Ну, вот! Напрасно старались! — проворчал дядя Костя.
Но я разгладил несколько страниц на колене и прочел: «Между тем в Немухине все было бы хорошо, если бы решительно все не было плохо». Почерк был неразборчивый, некоторые страницы так скомканы, что, казалось, ни слова нельзя было прочитать. Тем не менее я аккуратно сложил их и сказал дяде Косте:
— Э, нет! Не напрасно!
Без сомнения, вы уже догадались, что Трубочный Мастер был прав: покидая город, Ночной Сторож оставил кое-что на память. И хотя самовар, модель фрегата и другие предметы только значились в описи, теперь стало ясно, что их нужно найти, потому что и они могли оказаться «средством упаковки», хотя более странную упаковку трудно было вообразить.
Так или иначе, до поры до времени надо было, конечно, заняться рукописью, которую мы нашли в подзорной трубе. Впрочем, дядя Костя потребовал, чтобы я свинтил трубу, а потом занялся рукописью, и хотя первая задача оказалась легче второй, пришлось провозиться до вечера, пока через протертые стекла я увидел на другой стороне Немухинки березовый лесок.
Светало, когда я с помощью сильной лупы прочитал измятые страницы. Было ли это потерянное время? Может быть, может быть! Тем более что иные строки, похожие на куриные следы, прочесть было невозможно, и мне пришлось самому придумать, что случилось, скажем, между страницей семнадцатой и двадцать второй. А между тем это стоило сделать: ведь случившееся раньше не могло случиться потом. Плохо было только одно: эта маленькая история не могла пригодиться для задуманного дядей Костей путеводителя. Немухинцы не нашли бы в ней ничего особенного, а туристы решили бы, что это просто сказка для детей или взрослых.
СЫН СТЕКОЛЬЩИКА
Мария Павловна бежит за горчицей
В Немухине давно решено было построить Новую Пекарню. Старая отслужила свое, облупилась, закоптела и — это было самое главное — перестала выпекать черный домашний хлеб с хрустящей корочкой, которым славился город.
Однако прошло немало времени, прежде чем Горнемухстрой поручил архитектору Николаю Андреевичу Заботкину приступить к постройке Новой Пекарни. Следует заметить, что он был одним из самых уважаемых людей в Немухине. Когда он переходил Нескорую, самую оживленную улицу города, милиционер заранее останавливал движение и все почтительно следили, как, поглядывая по сторонам, он неторопливо переставляет длинные ноги. Его уважали даже за то, что он всегда путал ужин с завтраком, а завтрак с обедом.
— Хорошо бы поужинать, — говорил он по утрам своей дочке Тане. А возвращаясь поздно вечером после работы, весело спрашивал ее: — Завтрак на столе?
В ясный солнечный день он выходил из дому с зонтиком, а однажды, когда Мария Павловна вымыла голову и повязала ее полотенцем, не узнал ее и стал расспрашивать, откуда она приехала и нравится ли ей город.
Впрочем, рассеянность нисколько не мешала ему. Однажды он, например, по рассеянности построил такую высокую пожарную каланчу, что с вышки был виден как на ладони не только Немухин, но и Мухин, лежавший довольно далеко за рекой. Мешала ему не рассеянность, а доброта. С каждым годом он становился добрее. Он беспокоился положительно о каждом немухинце, а в особенности о верхолазах, строивших Пекарню, после того как один из них оступился. Именно тогда он предложил выписать верхолазов из Летандии — есть такая страна, в которой люди умеют немного летать. Но Горнемухстрой убедительно доказал ему, что Министерство Дружелюбных Отношений не разрешит выписать для Пекарни иностранных рабочих.
Но больше, чем о любом немухинце, Николай Андрееиич, без сомнения, заботился о своей дочке Тане. Дело и том, что у него три года тому назад неожиданно исчезла жена, Мария Павловна, Директор Института Красоты и, между прочим, одна из самых красивых и симпатичных женщин в Немухине. Это случилось так: за ужином она вспомнила, что забыла купить к сосискам горчицу, вскочила из-за стола, побежала в соседнюю лавочку и исчезла. Весь город искал ее несколько дней, лучшие собаки-ищейки были привезены в Немухин, и, как это ни странно, самые талантливые из них упорно шли по одному маршруту: от дома Заботкиных к единственному в городе Комиссионному Магазину. Этим магазином заведовал некто Пал Палыч, человек пожилой, глуховатый, подслеповатый и — что важно отметить — пугливый. Он считал себя знатоком старины и подчас решительно отказывался продавать казавшиеся ему старинными вещи.
— К сожалению, не могу, — говорил он, поглядывая на какие-нибудь фарфоровые часы, которые были старше его лет на десять. — Это музейная вещь и как таковая должна находиться в Государственном Музее Старинных Механизмов.
Но это обстоятельство, без сомнения, не имело ни малейшего отношения к исчезновению Марии Павловны. Она как бы растаяла в воздухе, и единственной хозяйкой в доме осталась Таня, которой только что исполнилось четырнадцать лет. Нельзя сказать, что она растерялась. Во-первых, она была почему-то уверена, что мама вернется. А во-вторых, надо же было кому-то готовить завтрак, который отец называл ужином, разогревать обед, который он называл завтраком, отдавать белье в прачечную, платить за газ и электричество, не говоря уже о чистоте в квартире.
При этом необходимо было еще и учиться, причем не в обыкновенной, а в Музыкальной Школе. Она играла на скрипке, а кто же не знает, что скрипка — один из самых трудных инструментов на свете.
Да, Тане было действительно трудно, и хотя ей не очень хотелось, чтобы отец нанял домашнюю работницу, но иногда, пожалуй, и очень.
А надо сказать, что одна еще молодая женщина только и думала, как бы ей устроиться у Заботкиных. Дело в том, что ей никак не удавалось выйти замуж, хотя она была, с ее точки зрения, недурна собой. Кроме того, ей очень нравился Николай Андреевич.
«Ведь прошло три года с тех пор, как он потерял жену, — думала она, — а в таких случаях мужчины не прочь жениться снова».
И, принарядившись, она пошла к Николаю Андреевичу и сказала ему, что не может без слез смотреть на Таню, которая хозяйничает в доме, в то время как ей надо учиться.
— Между тем мне кажется, — сказала она, — я вполне могла бы ее заменить.
Однако были причины, которые могли помешать Николаю Андреевичу согласиться на ее предложение. Во-первых, эта женщина, у которой, кстати сказать, было странное прозвище — госпожа Ольоль, родилась и выросла в Мухине, а между мухинцами и немухинцами всегда были сложные отношения. В дни футбольных соревнований, например, хозяева поля независимо от результата дрались с гостями, а гости — с хозяевами поля.
Во-вторых… О, вторая причина заставила б задуматься Николая Андреевича, если бы он догадался о ней!
Дело в том, что госпожа Ольоль училась в Школе Ведьм и хотя была очень ленива, однако окончила четыре класса. В Министерстве Необъяснимых Странностей ей было разрешено совершить только одно необыкновенное чудо, а обыкновенных — не больше трех-четырех.
Так или иначе, никто не подозревал, что госпожа Ольоль — ведьма, хотя и с неоконченным средним образованием.
В конце концов Николай Андреевич все же нанял ее.
— Я буду называть вас экономкой, — сказал он, — тем более что домашних работниц в наше время нанять, говорят, очень трудно. Вы будете полной хозяйкой в доме, а Таню я попрошу только набивать мне трубку и следить, чтобы я не называл завтрак ужином, а ужин — обедом.
И действительно, первое время все шло так примерно на четверку с плюсом. Можно было бы даже сказать — на пятерку, если бы Таня время от времени не ловила на себе какой-то странный взгляд новой экономки. Пожалуй, можно назвать его опасным или, по меньшей мере, не вполне безопасным. Правда, госпожа Ольоль при этом ласково улыбалась, но от ее улыбки Тане становилось как-то не по себе. Ей хотелось куда-нибудь спрятаться, и у нее, как это ни странно, развязывался пионерский галстук, хотя она к нему не прикасалась.
Тем не менее они были в прекрасных отношениях. Каждый день госпожа Ольоль убирала квартиру, ходила по магазинам, проветривала постельное белье и вообще отлично вела хозяйство. Готовила она так хорошо, что Николай Андреевич за обедом съедал по две тарелки супа и даже немного пополнел, хотя при его высоком росте это было почти незаметно.
Всякий раз она с восхищением восклицала: «Ах, как я рада!» — когда он возвращался домой, хотя куда же еще должен он был возвращаться после работы, если не домой.
Стараясь понравиться ему, она три раза в день подкрашивала веки, а два раза щеки, так что верхняя часть ее лица отливала голубоватым цветом, а нижняя — розоватым.
И нельзя сказать, что Николай Андреевич не обращал на нее внимания. Но почему-то, встречаясь с ней, он повторял одну и ту же фразу:
— Ого, госпожа Ольоль, а ведь вы опять похорошели.
Или, когда веки у нее начинали отливать уже не голубоватым, а синеватым оттенком, а щеки — не розоватым, а красноватым, он восклицал:. — Смотрите-ка, госпожа Ольоль, что бы это значило? Ведь вы опять, кажется, похорошели?
В старину тот, кто собирался жениться, обычно говорил своей будущей невесте:
— Позвольте предложить вам руку и сердце.
Руку Николай Андреевич иногда предлагал госпоже Ольоль — когда она стояла на лестнице, вытирая пыль в библиотеке. Но сердце… До этого было далеко!
Что касается Тани, то новая экономка заботилась о ней, как заботилась бы, кажется, родная мать.
— Милая моя, не хочешь ли ты еще одну булочку? — спрашивала она, когда Таня, торопясь в школу, кончала завтрак.
Но пионерский галстук под взглядом госпожи Ольоль продолжал развязываться, а однажды, когда Таня в беге на сто метров была в трех шагах от финиша, у нее развязался шнурок на ботинке, и она пришла шестой, хотя могла бы прийти второй. Перед показательным концертом Музыкальной Школы на скрипке лопнула струна, и пришлось бежать в Мухин, потому что в Немухине не было музыкального магазина.
Впрочем, Таня давно заметила, что упражнения на скрипке странно действуют на госпожу Ольоль. Она морщилась, хваталась за голову, смачивала виски уксусом — словом, вела себя так, как будто Таня не разучивала Баха, а старалась отпилить экономке голову своим смычком. Может быть, это объяснялось тем, что ведьмы вообще немузыкальны? Так или иначе, ничего не оставалось, как заниматься музыкой не в своей комнате, а в старой, заброшенной оранжерее, рядом с домом.
Правда, она была не совсем заброшенной: в ней росли розы, гладиолусы, лилии и георгины. За ними никто не ухаживал, потому что старый садовник умер, а нового немухинцы, занятые строительством Пекарни, еще не собрались нанять. Но Таня — хотя она была очень занята — все-таки находила время, чтобы поливать цветы. Ей даже нравилось заниматься музыкой в оранжерее, тем более что цветы внимательно слушали ее и даже кивали головками, когда какой-нибудь трудный пассаж удавался. Широко известно, что именно цветы острее других растений чувствуют признательность — ведь за ними надо ухаживать особенно терпеливо. Но иногда Тане начинало казаться, что ее слушают не только цветы. Кто-то бродил по старой оранжерее, чуть заметно отражаясь то в одной, то в другой стеклянной стене.
— А ведь интересно узнать, — однажды спросила (или, быть может, только подумала) Таня, — кто еще слушает меня, кроме роз, гладиолусов, лилий и георгинов?
— Сын Стекольщика, — ответил ей чей-то мягкий, приветливый голос.
— В самом деле? Почему же я вас не вижу?
— Не только ты, Таня. Кстати, я узнал твое имя, потому что, когда у тебя получается трель, ты говоришь себе: «Ай да Таня!»
— Так вас не видит никто?
— В том-то и дело!
— Но ведь это же очень неудобно, — возразила Таня. — Вам-то самому хотя бы изредка удается себя увидеть?
— К сожалению, редко. Только когда идет слепой дождь.
— А что это такое?
— Дождь пополам с солнцем. Впрочем, тогда меня могут увидеть и другие.
— Те, кто к вам хорошо относится?
Она услышала добрый, звенящий смех и подумала, что так могут смеяться только хорошие люди.
— Это я радуюсь, что ты так догадлива, — сказал Сын Стекольщика. — Кроме того, ты вежлива, терпелива и нелюбопытна.
— Вежлива? Может быть. Терпелива? Пожалуй. Но нелюбопытна? Ну нет! Мне, например, до смерти хочется узнать, почему вы стали прозрачным, что вы делаете в этой оранжерее, и вообще, что с вами случилось?
— Ну что ж, — вздохнув, отвечал Сын Стекольщика. — Придется рассказать тебе мою историю, Впрочем, это нетрудно, потому что я давным-давно выучил ее наизусть.
Видеть тех, кто тебя не видит, — в этом есть своя прелесть
— Видишь ли, — начал он, — я сын Председателя Союза Стекольщиков, который так любил свое ремесло, что каждый месяц выбивал все окна в своем доме только для того, чтобы вставить новые стекла. Стекло всегда казалось ему одним из семи чудес света, а прозрачность — самым драгоценным свойством любого предмета. Среди его друзей были, например, прозрачно-чистые и прозрачно-благородные люди. Словом, ему до смерти хотелось, чтобы у него родился совершенно прозрачный сын, а когда человек неутомимо стремится к намеченной цели, это почти всегда удается. Вот так и случилось, что я, как видишь, родился совершенно прозрачным.
— Точнее было бы сказать: «как не видишь», заметила Таня.
Он опять засмеялся — и так звонко, что стекла оранжереи весело отозвались.
— Прекрасно! Значит, ты еще и остроумна. Впрочем, я не могу согласиться, что быть прозрачным так уж неудобно. Видеть тех, кто тебя не видит, — в этом есть своя прелесть. Ты спрашивала меня, что я делаю в этой оранжерее. Ты понимаешь, мне приходится много путешествовать, а в гостиницах всегда начинаются длинные, утомительные расспросы… «Извините, гражданин, мы не прописываем невидимок…» Или: «Как же я могу предоставить вам номер, если неизвестно даже, женщина вы или мужчина?» Словом, я решил, что удобнее всего останавливаться в оранжереях. Теперь остается только один вопрос: «Что вы делаете в Немухине?» Ответ: «Ничего». Просто мне показалось, что в этом городке немало кристально-честных и прозрачно-благородных людей. Вот я и подумал: «А вдруг мне удастся помочь кому-нибудь из них?» Ведь именно такие люди часто попадают в беду.
— Да, — вздохнув, ответила Таня. — Вот вчера, например, мальчишки гоняли футбольный мяч и разбили окно в доме нашего Старого Трубочного Мастера. А уж честнее и благороднее его нет, мне кажется, никого на свете.
— Вот я ему и помогу, — сказал Сын Стекольщика. — Но, Таня… Может быть, я мог бы чем-нибудь помочь и тебе? Когда я смотрю в твои глаза, мне начинает казаться, что ты не очень счастлива. Или я ошибаюсь? Почему, например, ты занимаешься музыкой не у себя дома, а в этой старой оранжерее?
— Потому что госпожа Ольоль совершенно не выносит ни меня, ни мою скрипку. Папа нанял ее, чтобы она вела наше хозяйство, и она, мне кажется, вела бы его очень хорошо, если бы поменьше старалась понравиться папе.
— А она очень старается?
— К сожалению, да. Вчера, например, она надела туфли на таких высоких каблуках, что совершенно не могла ходить, и рассердилась на меня, когда я предложила ей воспользоваться папиной палкой.
— А что думает о ней твоя мама?
Должно быть, Сын Стекольщика догадался, что огорчил Таню этим вопросом, потому что она глубоко вздохнула и долго молчала, прежде чем ей удалось справиться со слезами.
— У меня нет мамы, — наконец сказала она. — То есть, может быть, и есть, но никто не знает, где она и что с ней случилось.
И Таня рассказала, как три года тому назад мама вскочила из-за стола, побежала в лавочку за горчицей и исчезла.
— Почему же она не послала тебя?
— В том-то и дело, что накануне я подвернула ногу.
— Ее искали?
— О да. Самые талантливые собаки-ищейки разыскивали несколько дней. Удалось только установить, что она завернула за угол к Комиссионному Магазину. Но кому же может прийти в голову покупать горчицу в Комиссионном Магазине?
Сын Стекольщика промолчал, и в полной тишине был слышен только легкий шорох — бабочка перелетала с цветка на цветок.
«Ушел», — подумала Таня и спустя несколько минут спросила робко:
— Простите, вы еще здесь?
— Да, конечно. Больше того, я теперь долго не покину тебя. Не можешь ли ты сбегать домой и принести мне фотографию мамы?
— Я ношу ее на груди, — ответила Таня.
И действительно: на груди у нее висел маленький медальон, и в нем была фотография мамы.
— Какое нежное, доброе лицо, — сказал Сын Стекольщика. — Какие глаза! Так и кажется, что они говорят: «Желаю вам счастья».
Теперь мне ясно, почему я остановился в Немухине. То, о чем ты рассказала, загадочно и похоже на закоптелое стекло, через которое смотрят на затмение солнца. Стекло надо протереть, чтобы оно стало прозрачным, и я, не теряя времени, займусь этим делом.
Бронзовая статуэтка
Судя по тому, что в ближайшие дни произошло в Немухине, чудеса идут полосой — одно тянет за собой другое.
На вывеске Часовой мастерской были нарисованы большие часы — без всякой необходимости, потому что немухинцам не приходилось смотреть на вывеску, чтобы отличить Часовую мастерскую от Аптеки.
И вдруг эти часы, которым, конечно, не полагалось ходить, вздрогнули, звякнули и пошли. Секундная стрелка стала догонять минутную, а минутная часовую. Окно в доме Старого Трубочного Мастера, разбитое футбольным мячом, оказалось целехоньким и даже более того — прозрачным, как воздух.
Пугало, стоявшее в огороде Завнемухторга, вдруг ожило и стало отгонять птиц своими соломенными руками, а в одну упрямую ворону запустило шляпой.
Но, как это ни странно, немухинцы довольно быстро привыкли к чудесам и даже огорчались, когда в городе ничего не происходило.
Впрочем, самые странные события происходили в Комиссионном Магазине. Дело в том, что Пал Палыч постоянно боялся, как бы не оступиться, не простудиться, не обидеть кого-нибудь — одним словом, поступить не так, как полагается пожилому, болезненному, глуховатому человеку.
И вот в магазине, которым он безмятежно заведовал много лет, начались странности, которые напугали бы и не такого человека. Пал Палыч вдруг обнаружил, что кто-то, кроме него, хозяйничает в магазине, причем среди вещей, которые он считал музейными и никому не хотел продавать. Он мог бы поклясться в том, что шкатулка XVIII века, которая, по его догадкам, принадлежала Екатерине II, вчера стояла на второй угловой полке, а сегодня оказалась на третьей. Японскую лампу, висевшую в левом углу, кто-то взял да и перевесил. Это особенно напугало Пал Палыча, потому что сделать это без лестницы было невозможно, а складная лестница лежала под прилавком.
Право, можно было подумать, что кто-то по ночам бродит по магазину, причем не просто бродит, а заботливо перебирает и переставляет вещи.
«Может быть, мне это только кажется?» — думал бедный Пал Палыч.
На всякий случай он пошел к врачу, и тот сказал значительно:
— Надо лечиться.
Наконец произошло то, что, без сомнения, свело бы Пал Палыча с ума, если бы Старый Трубочный Мастер не помог ему оправиться от потрясения.
Среди предметов, которые он отказывался продавать, была бронзовая статуэтка молодой бегущей женщины. Платье ее развевалось, изящно очерченные губы были слегка открыты, головка приподнята, и вся стройная фигурка устремлялась вперед, очевидно, к тому, кто ждал ее и не мог дождаться. Пал Палыч уверял, что это работа знаменитого скульптора Фидия или одного из его ближайших учеников, хотя на фигурке была домашняя кофточка и юбка ниже колен, а в древности одевались совершенно иначе.
И вот однажды Пал Палыч услышал мягкий приветливый голос — услышал, хотя был один в магазине:
— Доброе утро. Простите, не могу ли я купить у вас одну вещицу, которая мне очень понравилась?
— А именно? — спросил Пал Палыч, глядя во все глаза, никого не видя и думая, что он помешался.
— Вот эту бронзовую статуэтку, — ответил покупатель, и статуэтка, как живая, снялась с полки и неторопливо опустилась на прилавок.
— Виноват, — сказал Пал Палыч, — но мне кажется, что здесь нет никого, кроме меня. А не могу же я покупать у самого себя, тем более что это музейная вещь, которая вообще не продается.
— Это не совсем так, — возразил покупатель. — Во-первых, не вы покупаете у себя, а я у вас. А во-вторых, это не музейная вещь. Если бы не счастливая случайность, или, точнее сказать, несчастная случайность, она не попала бы в ваши руки.
— Позвольте, позвольте… Каким же образом счастливая случайность может одновременно оказаться несчастной?
— Очень просто, — ответил ему невидимый собеседник, — счастливая, потому что вы нашли эту статуэтку три года тому назад. А несчастная… Ну, об этом мы поговорим в другой раз.
В таких случаях обычно пишут: «Он (хотя бы тот же Пал Палыч) был поражен». Но, пожалуй, вернее было сказать, что еще никогда в жизни он не был так поражен. Редкие седые волосы стали дыбом, рот округлился, как буква «о», а руки и ноги задрожали. Дело в том, что он действительно подобрал эту статуэтку на мостовой, недалеко от дома Заботкиных, три года тому назад.
— Зачем же так волноваться? — мягко спросил покупатель. — Вы поступили прекрасно.
— Но если вы все-таки хотите ее купить… — начал было дрожащим голосом Пал Палыч.
— Нет, нет! Я передумал. Мне хотелось только убедиться в том, что она не продана. Кстати, как вы ее назвали?
— Бе-бе-бегущая по волнам.
— Сразу видно, что вы читали Александра Грина. Один из его романов называется именно так. Но вы знаете, лучше было бы назвать ее не «Бегущая по волнам», а «Бегущая за горчицей».
Странствующий рыцарь
На этот раз Пал Палыч закрыл свой магазин на час раньше, чем полагалось. Со всех ног он побежал к Старому Трубочному Мастеру, умнейшему человеку в Немухине, — посоветоваться с ним было необходимо просто до зарезу.
А надо сказать, что они были друзьями со школьных лет и даже сидели некогда за одной партой. Причем Трубочный Мастер уже и тогда помогал Пал Палычу, который был слабоват по арифметике, истории, литературе и географии.
— Ну, что случилось, старик?
— Бяда, — ответил Пал Палыч.
Почему-то, когда с ним случалась маленькая неприятность, он говорил: «Беда», а когда большая: «Бяда».
— А именно?
— Да вот…
И Пал Палыч, волнуясь, рассказал о том, что невидимый покупатель не только собирался купить у него статуэтку, но почему-то назвал ее «Бегущая за горчицей».
— Ну хорошо, допустим, что я его сослепу не разглядел. Но объясни ты мне, ради бога: при чем тут горчица?
Попыхивая трубочкой, Старый Мастер долго обдумывал происшествие в Комиссионном Магазине.
— Это было сегодня?
— Да.
— А какая, между прочим, сегодня погода?
— Прекрасная. Солнышко. Ни облачка. Тепло.
— Ветра нет?
— Тихо.
— Тогда ясно, что он не бросал слова на ветер. Что ж, старина, могу только поздравить тебя. Тебе посчастливилось встретиться с волшебником, а это немало. В Немухине вообще началась полоса чудес. Думаю, что это его делишки. Значит, тебе хочется узнать, почему он заинтересовался этой статуэткой. Ничего особенного! Просто он решил выяснить, порядочный ли ты человек.
— Не понимаю.
— Что ж тут не понять! Что сделал бы другой человек, подобрав эту статуэтку? Продал бы ее какому-нибудь любителю, а деньги — в карман! А ты поставил ее на полку в магазине. Стало быть, заботишься не о своем кармане, а о пользе дела. Видишь ли, в последнее время распространилось убеждение, что странствующие рыцари существуют только в легендах и сказках. Лично я с этим никогда не мог согласиться. Тебе как раз встретился такой рыцарь, да еще к тому же волшебник. И если он еще раз пожалует, попроси его заглянуть ко мне. У меня к нему дело.
— А именно?
— Да понимаешь, у Николая Андреевича так плохи дела, что его может спасти только чудо. Ведь это только кажется, что Пекарня строится. А на деле кирпичи везут на строительство Кинотеатра, а цемент — к Каланче, которую он давно построил. Так что, если бы мне удалось встретиться с твоим волшебником, я бы непременно поговорил с ним о Новой Пекарне.
— Да, черт побери, как же я это упустил! — почесывая затылок, сказал Пал Палыч. — Но если он снова заглянет…
«Госпожа Ольоль, вы опять похорошели»
Теперь Сын Стекольщика виделся с Таней почти каждый день.
— Скажи, пожалуйста, — однажды спросил он, — почему у тебя глаза становятся все грустнее? Ведь появилась серьезная надежда, что твоя мама в один действительно прекрасный день вернется домой. Может быть, ты не поверила мне?
— Ну что вы! С тех пор как вы мне это сказали, я каждый вечер открываю медальон, чтобы пожелать маме спокойной ночи… Более того, с тех пор как я поверила вам, папа стал беспокоить меня больше, чем мама. Новая Пекарня почти не строится, а между тем Кабинет Внешней Торговли сообщил, что из многих стран поступили заказы на черный хлеб с хрустящей корочкой, которым так славится Немухин.
Сын Стекольщика рассмеялся — и у Тани сразу стало легко на сердце. У него был такой добрый, открытый, почти мальчишеский смех.
— Ну, с этим мы как-нибудь справимся. А как ведет себя госпожа Ольоль?
Таня вздохнула.
— Я ее боюсь, — сказала она. — Видите ли, по-видимому, она думает, что, если бы я провалилась сквозь землю, ей удалось бы выйти замуж за папу. Между тем он ее совершенно не замечает. Вчера, например, она встретила его в детской шапочке, чтобы казаться моложе, а он только сказал: «Смотрите-ка, госпожа Ольоль, вы опять похорошели». Когда он ласково разговаривает со мной, она готова лопнуть от зависти, а может быть, от другого, более опасного чувства.
— Если бы ты увидела меня, — сказал Сын Стекольщика, — ты убедилась бы в том, что у меня огорченное и расстроенное лицо. Дело в том, что я буду очень беспокоиться о тебе, когда мне придется на несколько дней покинуть Немухин.
— Вы уезжаете?
— Да. Для того, чтобы вернуть жизнь твоей маме, мне надо повидаться с одним старым волшебником. Он уже давно на пенсии, но у него превосходная память. Он знает все заклинания, которыми люди уже сотни лет защищаются от чертей, леших с дурным характером, озлобленных домовых — словом, от злого колдовства, ведь доброе колдовство встречается сравнительно редко. Мой старик живет на берегу Ропотамо — есть на свете такая река, которая неторопливо несет в море свои прозрачные воды. Я хочу посоветоваться с ним. Заклинаний много, а я например, помню только одно: «Аминь, аминь, рассыпься», — да и то не уверен в том, что оно действует до сих пор.
— Я буду ждать вас, — стараясь удержаться от слез, сказала Таня. — В крайнем случае я скажу госпоже Ольоль: «Аминь, аминь, рассыпься». Может быть, это заклинание еще действует, правда?
— Да, может быть, — ответил ей добрый, мужественный голос, и Тане показалось, что эти слова послышались уже в отдалении и прозвучали как эхо.
Тропинка, с которой свернуть невозможно
Госпожа Ольоль по-прежнему надеялась, что Николай Андреевич не всегда будет говорить: «Вы похорошели», а скажет вдруг: «Не хотите ли вы быть моей женой?» Николай Андреевич вообще почти перестал говорить. Он теперь только ругал Горнемухстрой и себя за то, что согласился построить Пекарню.
«Конечно, если бы у него не было дочки, — думали госпожа Ольоль, — ему волей-неволей пришлось бы жениться на мне. В конце концов, он много старше меня, а в таких случаях дело обычно кончается свадьбой».
Конечно, это было сложно — заставить Таню, например, заблудиться в Немухине, который она прекрасно знала. Но ведь можно послать ее в Мухин, за которым начинается лес, и заставить ее заблудиться и этом лесу, где, между прочим, за последнее время развелись кабаны.
«Но надо действовать осторожно», — думала госпожа Ольоль и после долгих размышлений остановилась на самой обыкновенной шерстяной нитке.
Эту нитку она выдернула из старого Таниного свитера, а заколдовать нитку ничего не стоило — этот предмет проходили во втором классе, а она кончила четыре.
— Милая Танечка, — сказала она однажды, — мне хочется попросить тебя сходить к моей бабушке в Мухин. Отнеси ей, пожалуйста, бутылку молока и пару пирожков, которые остались от вчерашнего ужина. И скажи ей, что я зайду в воскресенье, а может быть, даже в субботу.
Нельзя сказать, что Тане так уж хотелось идти в Мухин, тем более что в этот день она должна была приготовиться к контрольной по литературе. Но она была слишком вежлива, чтобы отказаться.
И вот она взяла молоко и пирожки и отправилась в Мухин, а госпожа Ольоль положила нитку на стол и растянула ее — сперва прямо (чтобы Таня отдала бабушке молоко и пирожки), а потом круто налево — чтобы Таня попала в лес, откуда выбраться было почти невозможно.
А Таня между тем шла и шла. Она перебралась по деревянному мостику через Немухинку, встретилась с бабушкой, отдала ей молоко и пирожки и спокойно вернулась домой. Что же произошло? Почему же госпоже Ольоль не удалось заставить ее заблудиться? Очень просто: котенок прыгнул на стол и сперва поддел нитку лапой, а потом запутал ее — он решил, что госпожа Ольоль решила с ним поиграть.
— Спасибо, милая девочка, — сказала она, когда Таня вернулась. — Надеюсь, что моя бабушка хорошо тебя встретила?
— О да! — ответила Таня. — Она даже сказала спасибо.
Прошло несколько дней, и госпожа Ольоль снова попросила Таню заглянуть в бабушке — доктор прописал ей редкое лекарство, которое с трудом удалось достать в Аптеке.
И Таня даже обрадовалась: она подумала, что госпожа Ольоль не то что полюбила ее, но, по меньшей мере, не желает ей провалиться сквозь землю.
Она взяла лекарство, отнесла его бабушке, но, возвращаясь, повернула не направо, к мостику, а налево, к темному лесу. Перед ней вдруг появилась тропинка, по которой не очень хотелось идти — она вилась среди густых елей. Но Таня все-таки пошла по тропинке — ноги почему-то перестали ей повиноваться.
«Неужели между Мухином и Немухином я могла за6лудиться?» — подумала Таня.
Как ни странно, но, по-видимому, это было действительно так. Тропинка вилась и вилась, начинало темнеть; ели в сумерках казались огромными чудовищами, присевшими на задние лапы, чтобы прыгнуть на Таню. Душа у нее уже совсем собралась уйти в пятки, но она была храбрая девочка и приказала себе успокоиться, а это было не так-то просто! Более того: она вспомнила сказку о Мальчике с пальчик, который бросал камешки на дорогу, чтобы вернуться домой. Правда, у нее не было камешков, зато на шее висело довольно длинное стеклянное ожерелье.
«Разорву-ка я его, — подумала она, — и стану бросать по одной бусинке через каждые десять шагов».
Так она и сделала. Но увы! Ожерелье было хотя и длинное, но не очень. А между тем где-то поблизости промчалось, ломая ветки и отвратительно хрюкая, какое-то животное. Неужели кабан?
Вот когда душа у нее действительно ушла в пятки — никакие силы не могли ее удержать. Таня стала плакать, сперва негромко, потом все сильнее, и, наконец, слезы градом хлынули из ее глаз и вместо бус стали падать на тропинку. Некоторые, самые крупные, попали ей на руки, и она с удивлением подумала, что они действительно похожи на град. Но еще больше они были похожи на ее собственные бусы, из которых можно было сделать не одно, а тысячу ожерелий.
Это было, конечно, нечто вроде весточки от Сына Стекольщика — кто же еще мог превратить слезы в стеклянные бусы?
«Он помнит обо мне, — радостно подумала Таня, — и нет ничего невероятного, если я возьму да и пойду назад по тропинке. Мне кажется, что она больше не заставляет меня идти вперед».
И, скомандовав себе: «Кругом!» — она сделала полный оборот и пошла назад в Мухин — теперь через каждые десять шагов она видела блестящую бусинку, и ей даже захотелось подобрать их — ведь тогда у нее было бы ожерелье из собственных слез.
Она снова — только на этот раз в обратном направлении — прошла расколдованную тропинку и побежала домой быстрее, чем даже на состязаниях, когда ей удалось бы прийти второй, если бы не развязался шнурок.
Госпожа Ольоль только дважды падала в обморок. В первый раз, когда оказалось, что моль почти без остатка съела ее роскошную парижскую шаль, а второй раз, когда в ее тарелку с гороховым супом попал таракан — она до смерти боялась тараканов.
Увидев Таню, которая весело барабанила в дверь, она хоть и не упала в обморок, но остолбенела и долго не могла выговорить ни слова.
— Госпожа Ольоль, что с вами? — спросил Николай Андреевич. — Таня сегодня поздно вернулась из школы, и давно пора завтракать, то есть я хочу скалить — ужинать, а на стол еще не накрыто.
На берегу Ропотамо
Сын Стекольщика не сказал Тане, когда он вернется. Но, уходя, он оставил в Немухине Заботу о ней — она-то и превратила ее слезы в бусы. Он был предусмотрительным волшебником и прекрасно понимал, что госпожа Ольоль не оставит Таню в покое. Забота была одним из тех чувств, которые верно ему служили.
Он уехал, а чувство осталось. Забота сделала то, что на ее месте сделал бы он.
А между тем Сын Стекольщика шел и шел, останавливаясь, чтобы отдохнуть в оранжереях. Он хорошо чувствовал себя среди цветов. С его появлением они, здороваясь, наклоняли головки, а когда он уходил, мысленно желали ему счастливой дороги.
И вот наконец он пришел в городок на Синем море, которое почему-то называется Черным, и надо сказать, что это был удивительный городок. Его жители относились с глубоким уважением не только друг к другу, но и к альбатросам, ветряным мельницам, старым, отслужившим якорям, к морским скалам, буревестникам и даже акулам. Этому не стоило удивляться. Все они были рыбаки, а рыбаки и моряки любят чувствовать себя на суше, как в море. Вот почему улицы своего городка они назвали именами морских птиц, морских животных и морского ветра, который усердно вертел мельницы, хотя муку уже давно продавали не на мельницах, а в продовольственных магазинах.
Старый волшебник редко бывал в городке Ропотамо, в котором одна прозрачная струя лепетала что-то другой, еще более прозрачной, и он любил часами сидеть на берегу, перебирая в уме все, что случилось в прошлом, и не жалея о том, что в будущем уже не случится.
Это был высокий худощавый старик с седой бородкой, с узким лицом и детскими голубыми глазами. Ему нравилось, что друзья некогда сравнивали его с Дон Кихотом — это была его любимая книга.
В молодости, когда он еще не был волшебником, он кончил университет. Его дипломная работа называлась «Заклинания в сказках и в жизни», и он убедительно доказывал в ней, что чудеса надо изучать, потому что они не падают с неба. Почти все заклинания против сплетен, интриг и предательств он знал наизусть — самый искусный индийский факир показался бы в сравнении с ним неопытным мальчуганом. Сына Стекольщика он тоже считал мальчуганом.
— Здравствуй, малыш, — сказал он, увидев в струях Ропотамо мелькнувшее отражение, — рад тебя видеть. Не сомневаюсь, что ты пришел ко мне по важному делу. Последнее время я замечаю, что среди волшебников появилось много энергичных молодых людей, которые не теряют времени даром.
— Да, дело серьезное, — отвечал Сын Стекольщика. — Оно касается поступка одной женщины, которую даже нельзя назвать профессиональной ведьмой. Ей разрешено было раз в жизни превратить кого-нибудь во что-нибудь, и она воспользовалась этой возможностью для подлой, отвратительной цели. Я убежден, что с вашей помощью можно совершить обратное: превратить что-нибудь в кого-нибудь. Скажу точнее: бронзовой статуэтке нужно вернуть ее драгоценную человеческую сущность, то есть снова сделать ее любящей, тонко чувствующей матерью и женой. Могу ли я надеяться на вашу помощь?
Старик задумался — и все задумалось вокруг: далекий парус, блеснувший там, где река соединяется с морем, маленький дом, похожий на птицу с распростертыми крыльями, присевшую на морские скалы, ослик у калитки — на нем Старик ездил в городок, чтобы купить хлеба и вина. Задумался даже пролетавший мимо гларус — есть на свете такая птица, которая любит людей и живет рядом с печными трубами на крышах. Река не могла остановиться, чтобы помочь Старику, но на всякий случай она стала еще более прозрачной — до самого дна. «Может быть, — подумалось ей, — глядясь в мои воды, он вспомнит свое заклинание?»
— Ну, что же, малыш, — сказал после долгого молчания Старик. — Когда-то один нищий поэт, искренний и потому великий, сочинил стихи, которые помогут тебе. Мы встречались. Как никто другой, он умел вдохнуть жизнь в мертвое слово. А ведь слово и жизнь человека — родные братья и даже, я бы сказал, близнецы. Вот почему я уверен в том, что его стихи, возвращавшие жизнь слову, могут вернуть жизнь и человеку, в особенности если за него хлопочут целых два поколения волшебников. Стихотворение короткое, но я не могу записать его для тебя. Ты запомнишь его — ведь у тебя хорошая память.
И он произнес маленькое стихотворение, в котором поэзия верно служила мудрости, а мудрость — поэзии.
— А теперь прощай, — сказал Старик. — Я не считаю потерянным тот час, который я провел с тобой. Он украсил мою одинокую старость.
«Мы должны остаться вдвоем: я и твоя мама»
Между тем в Немухине все было бы хорошо, если бы решительно все не было бы плохо. Сын Стекольщика поручил Заботе оберегать только Таню, а между тем давно было пора позаботиться о ее отце. Если бы у него был помощник, который собственноручно толкал бы кирпичи и цемент не к строившемуся Кинотеатру, а к строившейся Пекарне, дело пошло бы на лад. Но помощника не было, а чудеса, которые время от времени случались в городе, почему-то обходили Пекарню стороной, хотя именно в них-то она и нуждалась.
Так обстояли дела, когда Таня, которая повторяла трудные, скучные упражнения, с удивлением заметила, что запылившиеся стекла оранжереи снова стали прозрачными, и даже прозрачнее, чем в тот далекий день, когда они впервые были вставлены в рамы.
«Неужели вернулся?» — радостно подумала Таня. И не ошиблась, потому что не прошло и пяти минут, как она услышала знакомый голос.
— Конечно, вернулся, — сказал Сын Стекольщика. — И даже не один, а с подарком, дороже которого для тебя нет ничего на свете. Но прежде всего мне надо рассказать историю твоей мамы. Дело в том, что, когда она побежала за горчицей, госпожа Ольоль превратила ее в бронзовую статуэтку. А через несколько минут по вашей улице проходил Заведующий Комиссионным Магазином, хотя и подслеповатый, однако замечавший все, что могло пригодиться для дела. Разумеется, он не узнал твою маму. Немного удивившись (в самом деле, каким образом такая вещь могла оказаться в Немухине?), он подобрал ее и поставил на полку своего магазина. Несколько дней я искал ее и наконец нашел — ведь ты показала мне фотографию. С Пал Палычем — кажется, его зовут именно так — пришлось поговорить. Ты понимаешь, я боялся, что он продаст кому-нибудь статуэтку, и тогда оказалось бы, что я напрасно добрался до Старого Волшебника, который помнит все заклинания, и напрасно задумался ослик у калитки, и белый гларус, и река Ропотамо, которая постаралась стать еще прозрачнее, хотя это было уже почти невозможно. Они помогли Старику, и он вспомнил заклинание, которое некогда подарил ему нищий поэт. Вот оно:
Годы, люди и народы Убегают навсегда, Как текучая вода. В гибком зеркале природы Звезды — невод, рыбы — мы, Боги — призраки у тьмы.Мы должны остаться вдвоем — твоя мама и я. Больше того, она должна вернуться к жизни в том месте, где потеряла ее. Но прежде надо, чтобы госпожа Ольоль навсегда исчезла из вашего дома. Ведь она часто смотрится в зеркало?
— Каждую минуту.
— Говорят, что лицо — зеркало души. Вот она и увидит в зеркале свою душу.
Зеркало души
Нельзя сказать, что это был удачный день для госпожи Ольоль. Проснувшись, она встала с левой ноги — плохая примета. На всякий случай она снова легла в постель, немного поспала и на этот раз встала с правой. Надев халат, она умылась и подошла к зеркалу, чтобы причесаться, подвести веки, подкрасить щеки — словом, сделать все, чтобы Николай Андреевич наконец предложил ей руку и сердце.
Но, едва увидев себя в зеркале, она шарахнулась от него с таким криком, что котенок, мирно спавший на подоконнике, свалился и чуть не попал под машину.
В зеркале она увидела безобразное лицо с приплюснутым носом, крошечными красными глазками без ресниц, ртом до ушей и длинными, как у осла, ушами.
До сих пор она верила своим глазам, и они действительно обманывали ее очень редко. Но на этот раз не поверила.
— Не может быть, — сказала она твердо. — Все знают меня как довольно хорошенькую женщину. Ресницы у меня, например, такие длинные, что я трачу не меньше пятнадцати минут, чтобы их хорошенько покрасить. У меня оригинальное, симпатичное личико, на которое приятно смотреть, в особенности когда я чуть-чуть улыбаюсь. Подойду-ка я к другому зеркалу, в старинной раме. Помнится, Николай Андреевич говорил, что ему уже двести лет, а в таком почтенном возрасте не принято врать.
Но увы! И в старинном зеркале она увидела себя с приплюснутым носом, крошечными красными глазками без ресниц, ртом до ушей и длинными, как у осла, ушами.
Она попробовала крепко зажмуриться, а потом открыть глаза. Ничего не изменилось! Она сильно ущипнула себя за руку — может быть, это сон? Но часы показывали половину восьмого, скоро встанет Николай Андреевич, и уж теперь-то он едва ли скажет: «Ого-го, госпожа Ольоль, а ведь вы опять похорошели!»
Если бы она знала, что лицо — зеркало души, она догадалась бы, в чем дело: все зеркала, в которые она смотрелась, отражали теперь не ее лицо, а ее душу. Но она не знала. Она всегда думала, что у нее душа если не безупречная, так, по меньшей мере, не хуже, чем у любой ведьмы средних лет, а даже лучше.
Между тем проснулся не только Николай Андреевич, но и Таня.
В отчаянии госпожа Ольоль снова посмотрела в зеркало — в свое собственное, которое она вынула из сумочки, — и с размаху бросила его на пол.
Зеркальце разбилось, кстати, это тоже было дурной приметой. Но госпоже Ольоль было не до примет. Наскоро побросав свои вещи в чемодан, она побежала в Мухин. Одной рукой она закрывала лицо — совершенно напрасно! Все равно никому не могло прийти в голову, что это она. Ворвавшись в свою комнату, она заперлась на ключ. Бабушка, которая не успела ее разглядеть, предложила ей чаю или кофе.
Она крикнула в ответ:
— Никогда, ничего, никому!
По-видимому, это означало, что она ничего не хочет, никому не покажется и больше никогда не будет ни есть, ни пить.
Очень может быть, что она и до сих пор сидит в своей комнате. А может быть, проголодавшись, она все-таки позавтракала и постаралась притвориться, что ничего не случилось. Во всяком случае, с тех пор никто ее не видел. Она стала вести уединенный образ жизни, или, иначе говоря, никого не приглашала к себе и сама никогда не выходила из дома.
Мария Павловна покупает горчицу
Через два-три дня на стеклянной двери Комиссионного Магазина появилась записка: «Решил закусить. Приду через час». Однако нельзя сказать, что Магазин опустел. В укромном уголке сидел Сын Стекольщика, дожидаясь, когда он останется наедине с бронзовой статуэткой, которую он снял с полки и поставил перед собой на прилавок.
У Заботкиных — об этом он условился с Таней — все было устроено точно так, как было в тот день и час, когда Мария Павловна побежала в лавочку за горчицей. Стол был накрыт на три прибора, хотя Николай Андреевич уже успел забыть, что госпожа Ольоль куда-то исчезла, не простившись ни с ним, ни с Таней.
К ужину так же, как и три года назад, были приготовлены сосиски, и если бы Николай Андреевич не был таким рассеянным человеком, он удивился бы, увидев, что Таня, прежде чем сесть за стол, впервые в жизни приняла двадцать валериановых капель. Волнуясь, она смотрела на стенные часы, и ей казалось, что минутная стрелка не обгоняет часовую, а плетется за ней, как будто ей не было никакого дела до того, что должно было случиться в Комиссионном Магазине.
Между тем едва только Сын Стекольщика громким внятным голосом произнес стихи нищего поэта, как подле продуктовой лавочки появилась красивая молодая женщина, бежавшая за горчицей. К счастью, у продавщицы, совсем молоденькой девушки, было тренированное сердце, иначе, пожалуй, она упала бы в обморок, увидев Марию Павловну, которую так долго искали и не нашли лучшие собаки-ищейки.
Но сама Мария Павловна вела себя, как будто ничего не случилось. Она купила баночку горчицы, побежала домой и, войдя в столовую, сказала как ни и чем не бывало:
— Танечка, я, кажется, немного задержалась. Наверно, сосиски остыли. Подогрей, пожалуйста, а я пока заварю чай.
Корочка хрустит
Теперь у Сына Стекольщика осталось еще одно маленькое дело, то самое, о котором он сказал: «Ну, это несложно».
И действительно, через несколько дней, когда немухинцы немного привыкли к тому, что Мария Павловна вновь стала работать в Институте Красоты, Председатель Исполкома и Завнемухстрой одновременно проснулись с одной и той же мыслью: «Пекарня».
«В самом деле, — одновременно решили они, — непростительно так небрежно относиться к строительству Пекарни, в то время как люди с нетерпением ждут появления домашнего черного хлеба с вкусной хрустящей корочкой, которым с незапамятных времен славился наш город».
Весьма возможно, что эту мысль внушил им один из посетителей, которого действительно невозможно было заметить. Так или иначе, к удивлению Николая Андреевича, в тот же день к строившейся Пекарне стали стремительно подлетать машины — одна с цементом, вторая с кирпичом, третья с готовыми стенами, в которые были вставлены незастекленные рамы, четвертая снова с цементом. Рабочие, среди которых были настоящие мастера, взялись за дело с такой энергией, что в некоторых бригадах был отменен перекур.
Пекарня начала расти как снежный ком, хотя она, разумеется, ничем не напоминала снежный ком и даже обещала стать одним из самых красивых немухинских зданий. Верхолазы легко взлетали на трубу, и Николаю Андреевичу не приходилось беспокоиться за них, потому что многие из них были мастерами спорта, привыкшими летать над своими снарядами.
Словом, работа, что называется, кипела, и Николай Андреевич по рассеянности даже не заметил, кто и когда вставил в рамы такие прозрачные стекла, что плотники разбили одно из них, думая, что рама, через которую они поднимали доски на второй этаж, осталась незастекленной.
И вот наконец наступила торжественная минута: уютно устроившись на ленте конвейера, одна буханка за другой поплыли, как черные лебеди, в строгом порядке. Они мягко падали в корзины, которые на другом конвейере удалялись в кладовые, выложенные, как, впрочем, и вся Пекарня, голубой плиткой — голубой потому, что это цвет мечты и надежды.
Потом конвейер был остановлен, и наступила еще более торжественная минута, когда решительно всем пришлось волей-неволей затаить дыхание, а некоторые даже приложили руку к груди. Гроссмейстер по выпечке хлеба, приехавший из столицы, еще молодой, но уже успевший прославиться, с закрытыми глазами, чтобы показать, что он не выбирает, взял одну из буханок, разломил ее — и корочка не только разломилась с нежным, хрустящим звуком, но зазвенела, как серебряный колокольчик. Гроссмейстер положил ее в рот, и наступило молчание, мертвое молчание, которое продолжалось все время, пока он жевал ее, катал во рту, причмокивал и, наконец, проглотил.
— Ну, как? — хором спросили немухинцы.
Молодое, серьезное лицо Гроссмейстера стало еще серьезнее, но глаза радостно засмеялись.
— Примите мои самые сердечные поздравления, дорогие друзья, — сказал он, — корочка хрустит, и можно с уверенностью сказать, что на свете едва ли найдется более вкусный, более нежный и, я бы даже сказал, более представительный хлеб.
Слепой дождь
Вот теперь, с хрустящей корочкой во рту, можно, пожалуй, закончить эту историю. Но тогда пришлось бы обидеть Сына Стекольщика и Таню, потому что у них был еще один разговор, который заслуживает упоминания.
Им следующий день после торжественного банкета который был устроен в честь Николая Андреевичи и других строителей Пекарни, Таня вновь пошла и оранжерею. Просто она надеялась… Впрочем, не все ли равно, на что она надеялась? Может быть, ей хотелось проститься с кем-нибудь или сыграть кому-нибудь сонату, которую она на днях разучила?
Музыку трудно выразить в словах, на то она и музыка, а не поэзия или проза. Но если бы музыкальные фразы этой сонаты стали фразами человеческой речи, они говорили бы о том, чего ей хочется… Нет, не увидеть Сына Стекольщика, ведь это было невозможно! Просто поблагодарить за все, что он сделал для нее и папы, а в особенности для мамы.
Она играла с каждой минутой все лучше и лучше, потому что вдруг почувствовала, что ее слушают не только цветы.
— Здравствуй, Таня, — услышала она знакомый добрый голос. — Ты сделала заметные успехи. Соната трудная, а ты сыграла ее превосходно. Я понял каждое слово и могу ответить, что все равно постарался бы еще раз встретиться с тобой. Ведь было более чем невежливо уйти не простившись!
— А нельзя как-нибудь устроить, чтобы вы не ушли? — спросила Таня. — Мне кажется, что, когда вы в Немухине, не только люди, но даже предметы становятся… как бы это сказать… Ну, прозрачнее, что ли. Или, во всяком случае, приветливее и добрее. Сегодня, когда я вошла в столовую, мне показалось, например, что стенные часы сказали мне: «Доброе утро».
Если бы Сын Стекольщика не был прозрачным, она увидела бы, что он грустно покачал головой.
— Я бы охотно остался, милая Таня, — сказал он. — Немухин — тихий, симпатичный город, в котором многие желают друг другу добра. Но, ты понимаешь, я странник, а странники не могут жить без странствий, так же как моряки без моря. Ты не жалеешь, что сегодня дождливый день?
— Конечно, жалею. Но еще больше я жалею, что это не слепой дождь. Ведь вы сказали, что при свете солнца в дождливый день я могла бы вас увидеть.
Едва ли солнце появилось только потому, что на это надеялась Таня. Но оно действительно появилось, и каждая капля, падавшая на город, засверкала, как алмаз, хотела она этого или не хотела.
Мягкий, сияющий свет упал на оранжерею, и в этом свете Таня увидела чуть заметный силуэт, как будто обведенный тонкой серебристой линией. Можно было различить черты доброго и гордого молодого лица, стеклянный шлем на голове, стеклянный панцирь на груди, стеклянные латы.
— Я вижу вас! — успела крикнуть Таня, успела, потому что солнце скрылось прежде, чем она добавила: — Какое счастье!
— Нам повезло, — сказал Сын Стекольщика. — Ты увидела меня, а я успел убедиться в том, что мой панцирь и латы в полном порядке. А теперь мне пора! Кто знает, может быть, мы еще когда-нибудь встретимся. А если нет… Ну, что ж! Ведь самое главное — не забывать друг о друге.
Говорят, это была минута, когда все стекла в Немухине прощально зазвенели, так что некоторые пугливые люди вроде Пал Палыча вообразили, что началось землетрясение. Но на самом деле это просто значило, что сказка о Сыне Стекольщика кончилась.
Он снова отправился странствовать, не дожидаясь, пока пройдет дождь.
Обсуждаем первую сказку и находим вторую
— Почему вы решили, что эта история не годится для моего путеводителя? — спросил меня дядя Костя. — Как раз годится, и даже очень. Ведь это фактически история строительства Новой Пекарни, одного из самых красивых зданий в городе. Более того, это важная страница в истории хлебопечения. Но вот вопрос — многое ли вы выдумали? Иными словами, можно ли смотреть на эту рукопись как на достоверный источник? Заботкины действительно живут в Немухине, и я их прекрасно знаю. Таня действительно училась в Музыкальной Школе, и нет ничего удивительного в том, что мухинская ведьма превратила Марию Павловну в статуэтку. О Сыне Стекольщика я слышал: о нем могут рассказать хотя бы окна Новой Пекарни, прозрачные, как воздух. Но вот Николай Андреевич… Ведь он же был известным художником. Почему же Ночной Сторож не упомянул об этом ни слова? Я сам видел в Москве на всесоюзной выставке его «Портрет жены художника», за который он получил золотую медаль.
— Вы правы, дядя Костя! Но может быть, об этом нам расскажет фрегат или медный самовар?
На этот раз… Впрочем, расскажу по порядку.
При Музее был запасник — так называется помещение, в котором хранятся предметы, которые ждут не дождутся, когда же их наконец выставят для обозрения.
Так вот, трудно даже вообразить, что творилось в этом запаснике! У старинного велосипеда завертелись колеса, большое и маленькое, когда мы вошли. Трехногое кресло наклонилось вперед, точно собралось улизнуть из запасника через открытую дверь. Китайские болванчики как по команде повернули к нам маленькие головки. Жаль только, что они не могли говорить! Может быть, они подсказали бы нам, где искать модель фрегата или пушечку елизаветинских времен? «Но на это мало надежды», — подумали мы с дядей Костей и одновременно вздохнули.
Однако надо было приниматься за дело, и, приладив сильную лампочку, при свете которой запасник стал выглядеть еще более запущенным и грязным, мы… Впрочем, не знаю, как назвать то, чем мы занялись! Дядя Костя пытался навести порядок, остававшийся беспорядком, а я крепко уснул после бессонной ночи в трехногом кресле, и мне приснилось, что дядя Костя, как муха, ходит по потолку, с грохотом отдирая доски.
Пожалуй, стоило бы открыть глаза, чтобы убедиться в этом, но как раз открывать глаза мне почему-то не хотелось, тем более что легче было представить себе, что грохочет вовсе не дядя Костя, а гром и льет дождь, а ведь даже начинающие врачи утверждают, что под шум дождя хорошо спится. Не знаю, как долго я спал, должно быть, полчаса или час, и сон становился все крепче, потому что грохот сменился музыкой, похожей на нежный звон иголочек и осторожно присоединившейся к шуму дождя. Потом я услышал голос дяди Кости и, вскочив с кресла, увидел в его руках коробочку, покрытую черепаховой крышкой. Умиленным голосом дядя Костя пел старинный русский романс:
Кольцо души-девицы Я в море уронил. С моим кольцом я счастье Земное погубил.— Дядя Костя!
Мне дав его, сказала: «Носи, не забывай! Пока твое колечко, Меня своей считай!» С тех пор мы как чужие! Приду к ней, не глядит…Но тут что-то щелкнуло, и звуки-иголочки оборвались.
— Дядя Костя! Вы нашли музыкальную табакерку?
— Да. То есть нет! По-видимому, ей самой захотелось, чтобы я нашел ее, вот она и заиграла.
И он протянул мне маленький ящичек с черепаховой крышкой.
Не только для новой сказки, которую я сразу же стал искать, — даже для табака было очень мало места в этой музыкальной табакерке. Задняя стенка было проломлена, и внутри виднелись какие-то колесики, пружинки и молоточки. Развинтить ее дядя Костя мне не позволил, и ничего не оставалось, как отдать ее столяру, чтобы он починил стенку, а потом — в музыкальную мастерскую. «Но может быть, и то и другое, — подумалось мне, — может сделать Трубочный Мастер?»
Он уже прочел историю Сына Стекольщика и заметил, что строительство Новой Пекарни заслуживает более подробного описания.
— Но нельзя отрицать, — сказал он, — что кое-что Нилу Сократовичу все-таки удалось. Кстати, я просил Сына Стекольщика зайти и ко мне. Очевидно, в Немухине он был занят по горло. Ну-ка, покажите мне табакерку.
Он ее внимательно осмотрел и спросил: — Вы ее выслушивали? Или вы думаете, что вы слушивают только людей? — с торжеством сказал Трубочный Мастер и запустил под потолок по меньшей мере десять голубых колец дыма. Это означало, что он еще не разгадал, но почти разгадал то, о чем я не имел никакого понятия.
Правда, выслушивать табакерку он не стал, у него не было стетоскопа — так называется трубка, которую врачи приставляют к груди больных или здоровых. Но зато он осторожно простучал каждую стеночку табакерки указательным пальцем.
Тук, тук, тук! — на легкие удары отзывался еще более легкий звон иголочек. Он постучал и по сломанной стенке, и по черепаховой крышке. Потом пососал трубку, запустил в потолок еще одно большое кольцо дыма — очевидно, это означало, что табакерку не стоило ни выслушивать, ни выстукивать, потому что в ней нет ничего, кроме валика, пружинки и молоточков. Но, помедлив, он снова взял ее в руки и на этот раз, постучав по дну, сказал многозначительно:
— Ага.
И действительно, у него был серьезный повод, чтобы сказать «ага». Дно почти не отозвалось. Или, точнее сказать, отозвалось, но как-то нехотя, глухо.
— Дайте-ка мне отвертку, — сказал Трубочный Мастер и показал, где у него на полке с инструментами лежала отвертка.
— Перевернув ящичек, он положил его на стол и осторожно стал отвинчивать дно. Первый винтик, второй, третий… Он еще не отвинтил четвертый, как я уже понял, что у табакерки не одно, а два дна, а между ними… Я не поверил глазам: между ними лежал маленький блокнот, выглянувший на свет с таким видом, как будто ему смертельно надоело лежать в табакерке.
Трубочный Мастер засмеялся, протягивая мне блокнот. И хотя мне очень захотелось расцеловать старика за этот смелый шаг, на это я все-таки не решился.
Не моя старая лупа, а телескоп — вот что действительно пригодилось бы мне, когда я стал разбирать буквы, похожие уже не на куриные, а на комариные следы. Мало того, многие строчки сползали вниз, как змейки, сердито теснившие друг друга. «И недаром, недаром, — подумалось мне, — Ночной Сторож, записав маленькие страницы маленькими буквами, умудрился засунуть блокнот в музыкальную табакерку». «В молодости Директор Немухинской Музыкальной Школы играл на ударных инструментах», — удалось мне прочитать на одной из первых страниц. По-видимому, это была музыкальная история. Но не будем забегать вперед! Скажу только, что мне удалось не только прочитать этот блокнот, но переписать его, кое-что прибавив, а кое-что убавив — разумеется, только на тех страницах, разобрать которые было решительно невозможно. Скажем, вступления не было, и мне пришлось написать его, без него многое было бы непонятно. Названия тоже не было, и хотя мне очень хотелось назвать эту историю «Рукопись, найденная в музыкальной табакерке», Ночной Сторож, без сомнения, назвал бы ее
НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
Радуга в гостях
Первыми прилетели две зеленые птички. «Попугаи-неразлучники из Зоомагазина», — немедленно определил Петька. В Немухине был только один Зоомагазин, и Петька знал всех его обитателей — от золотых рыбок до белки Машки, крутившей свое колесико в клетке, висевшей на витрине.
Потом прибежал Дымчато-Розовый Пудель с Белым Мячом в зубах, конечно, из Дома Игрушки. Потом, развертываясь и шурша, у крыльца плавно спустился большой Ярко-Желтый Плакат, и Петька видел, как Варвара Андреевна распахнула дверь, чтобы он не измялся, влетая во флигель. Потом приковылял старый, лоснящийся Черный фрак — надо полагать, из гардероба Немухинского Драматического Театра, а за ним явилась Кремовая Войлочная кавказская Шляпа.
Все это было очень странно, и Петька, сидевший на крыше сарая с книгой в руках, не удивлялся только потому, что был убежден в том, что при любых обстоятельствах мужчина должен оставаться невозмутимым. Но когда в открытое окно, неуклюже и как будто стесняясь, кое-как втиснулся изрядный Краешек Синего Неба, Петьке, очевидно, изменила невозмутимость, потому что от любопытства его стало буквально трясти. Прошло еще минут двадцать; больше никто не приходил и не прилетал, только Варвара Андреевна выглянула и сняла висевший на крыльце красный огнетушитель, и тогда Петька поставил перед собой вопрос. Он любил думать так: сперва ставил вопрос, а потом делал заключение. Вопрос был такой: зачем Варваре Андреевне зеленые попугаи, розовый пудель, желтый плакат, черный фрак и кремовая шляпа? Заключение было такое: никто, кроме Тани Заботкиной, не может ответить на этот вопрос.
И, не теряя времени, он отправился к Тане. Они учились в разных школах, однако встречались часто и даже однажды ходили вдвоем в кино. Таня была девочка серьезная, начитанная, и Петька тоже старался читать, хотя ему больше нравилось дрессировать свою собаку — у него была огромная кавказская овчарка, которую звали Басар. После школы он решил остановиться на опасной профессии Укротителя Диких Зверей. Об этом он часто говорил с Таней, и вообще у них были интересные, содержательные разговоры. Например, когда он однажды прицепился к туристской «Волге» и промчался на лыжах через весь Немухин со скоростью 80 километров в час, Таня доказала ему, что это было глупо, и он согласился просто потому, что с Таней почему-то приятно было соглашаться. Потом однажды Петька сказал, что у девочек — куриные мозги. Таня залепила ему пощечину, они подрались, и это тоже было интересно. Но когда в Музыкальной Школе появилась Варвара Андреевна, отношения у них немного испортились. Дело в том, что Таня стала говорить только о ней: вчера Варвара Андреевна сказала, что у Тани не получается трель, а сегодня — что получилась. Когда Варвара Андреевна входит в класс, кажется, что она плывет — такая у нее легкая походка. Петька слушал, уныло повесив нос. Он не знал, что такое трель, а что касается походки Варвары Андреевны, то, по мнению Петьки, она ходила, как цапля.
Теперь они разговаривали так:
Петька. Еду я вчера по Нескорой. Вдруг — крак! Заднее колесо — ни туда ни сюда.
Таня. А Варваре Андреевне в феврале исполнится двадцать два года, и мы решили подарить ей дирижерскую палочку.
Петька. Два километра тащил велосипед на горбу. Взмок, хоть выжми.
Таня. А Варвара Андреевна говорит, что ребятам, у которых по теории музыки будут пятерки, она начнет летом давать уроки гармонии.
Что оставалось Петьке? Терпеть. Ведь Таня, хоть ей было только двенадцать лет, была его старым другом.
Надо сказать, что не только Таня была без ума от своей учительницы.
Варвара Андреевна была высокая, тонкая, гибкая, с бледным, нежным лицом. Когда она говорила даже самые обыкновенные вещи — «извините, пожалуйста» или «не правда ли, сегодня прекрасная погода?», — всем казалось, что откуда-то доносится музыка. Когда она смеялась, отчетливо слышались звуки челесты — есть такой музыкальный инструмент, напоминающий звон хрустальных бокалов. А когда сердилась, откуда-то мягко доносились аккорды тромбонов.
Словом, можно сказать, что она произвела на немухинцев сильнейшее впечатление. А это, между прочим, не так просто, как кажется.
О своих достопримечательностях немухинцы любят рассказывать неторопливо, подробно. К их числу относятся Старый Трубочный Мастер и футбольная команда класса «В», однажды сыгравшая вничью с донецким «Шахтером».
Теперь немухинцы надеялись, что в число достопримечательностей попадет Варвара Андреевна.
Петька пришел удачно. Таня занималась, так что у него было достаточно времени, чтобы подготовиться и кратко рассказать о том, что произошло: он считал, что, оставаясь невозмутимым, мужчина должен выражаться кратко.
— Сперва попугаи-неразлучники, заметь, зеленые, потом розовый пудель, черный фрак, белая шляпа, желтый плакат, красный огнетушитель и неопределенный кусок киселя, похожий на краешек неба.
— Ничего не понимаю.
Петька терпеливо повторил.
— Ну хорошо, — сказал он. — Допустим, что попугаи заглянули, потому что они надоели друг другу, а пудель… Что с тобой?
Не слушая его, Таня смотрела в окно. Конечно, это было простым совпадением, но как раз в эту минуту над Немухином появилась радуга — широкая, мерцающая, плавно изогнутая, неожиданно соединившая новую телевизионную вышку с куполом Дворца пионеров.
— Значит, розовый, синий, черный, зеленый, белый, желтый и красный? — задумчиво спросила Таня. — Интересно, если бы Варвара Андреевна увидела эту радугу, она пригласила бы ее в гости?
Бамм! Вамм!
О молодости Директор Музыкальной Школы играл на ударных инструментах. Может быть, поэтому он считал, что в музыке самое главное — энергия и отчетливость.
— А какие же инструменты могут сравниться в этом отношении с ударными? — спрашивал он. — Смычковые? Или духовые? Нет и нет!
И он любил вспоминать о тех счастливых мгновениях, когда дирижер направлял на него свою палочку. Он вставал и — бамм! — ударял в блестящие медные тарелки.
Разумеется, он был очень доволен, что вся Школа — и даже весь город — в восторге от Варвары Андреевны, хотя иногда ему казалось, что о ней говорят слишком много. В Школе только и слышалось: «Варвара Андреевна, Варвара Андреевна!» Родители, которые всегда недовольны, не жаловались на нее и даже, как это ни странно, хвалили. В «Немухинском комсомольце» появилась заметка о том, что гармонию — есть такой предмет — преподает девушка, гармоничная во всех отношениях. На той же странице был помещен ее портрет, и в редакцию со всего Советского Союза полетели письма, обещавшие Варе-варе Андреевне счастливое будущее в качестве супруги инженера, акробата, штукатура, монтера и зубного врача.
Над одним из этих писем она задумалась, впрочем, только на минуту: кузнец Иван Гильдебранд написал, что, если она позволит ему придумать для нее тысячу ласковых прозвищ, он сделает это, хотя кончил только среднюю школу и умеет гораздо лучше ковать, чем писать и читать.
Все это раздражало Директора и, главное, казалось ему удивительно несправедливым. Почему о нем, опытнейшем музыканте, рассчитывающем получить к пятидесятилетию звание Заслуженного Деятеля Искусств, в газетах ни слова?
Да, он был очень огорчен, но, как и полагается бывшему барабанщику, держался внушительно и подтянуто-строго. Но когда по немухинскому радио сообщили, что новая преподавательница обладает так называемым абсолютным слухом, то есть может отличать половину и даже четверть тона, он стал положительно неузнаваем. Прежде, лихо откинув поросшую пухом головку, он так и катался по Немухину на своих коротеньких ножках. А теперь ходил, оглядываясь и моргая. Прежде, когда он похлопывал себя по животу, слышался веселый, бодрый звук. А теперь — глухой, расстроенный, унылый. Он ничего не имел против молодой учительницы, решительно ничего! Он желал ей добра и только добра! Но ему не хотелось всю ночь ворочаться с боку на бок и ежеминутно выключать радио из боязни, что кому-нибудь снова придет в голову похвалить Варвару Андреевну. И он придумал остроумный, дальновидный план, о котором решил рассказать своей любимой ученице Зине.
Скучная тайна
Тайны бывают разные — веселые, грустные, удивительные, смешные. У Зины Миленушкиной была своя скучная-прескучная тайна: она скрывала, что у нее разные уши. Левое было ухо как ухо. А правое — большое и плоское, как у летучей мыши. Чего только она не делала, чтобы спрятать его под своими прямыми рыжими волосами! Бант на ее голове всегда был завязан криво, а косы, в которые ей приходилось вставлять свинцовую проволочку, завернуты дугой на правое ухо. И все равно в классе ее звали просто «Ухо», что по отношению к такой вежливой девочке было, по меньшей мере, несправедливо.
Всем она говорила только приятное и даже, отвечая урок, с трудом удерживалась, чтобы не сказать учителю, как он хорошо выглядит, или учительнице, какое на ней сегодня хорошенькое платье. При этом она всегда немного извивалась, так что кое-кому приходило в голову, что она вовсе не семиклассница, а гусеница или даже змея. Но сама она никогда не думала о себе так плохо. Напротив, она была уверена, что во всем Немухине нет другой девочки, которая играла бы сразу на трех ударных инструментах и одновременно была бы так красива, умна и добра.
Директор начал с того, что похвалил Зину за успехи. Она сильно продвинулась, например по тарелкам, хотя «бамм» у нее получается только с одним «м», а надо, по меньшей мере, с двумя. Потом он спросил, как у нее обстоит дело с гармонией, и очень расстроился, узнав, что по этому предмету у нее в четверти тройка.
— Разве можно так огорчать нашу дорогую Варвару Андреевну? — назидательно спросил он. — Ты должна дать мне слово, что в году у тебя будет, по меньшей мере, четверка.
И он с сожалением заметил, что, в сущности, очень мало знает Варвару Андреевну. В Немухин она приехала недавно, молодая девушка, одинокая, ни друзей, ни родных. Днем она занимается в Школе. Но что она делает по вечерам? Она живет на Нескорой, — между прочим, хорошая улица, по которой приятно гулять.
Зина заметила, что она любит гулять по Нескорой.
— Вот и прекрасно. А гуляя, тебе нетрудно будет время от времени останавливаться под окном Варвары Андреевны.
Зина сказала, что под окном у Варвары Андреевны растет бузина.
— Вот видишь, какая ты умная девочка! — воскликнул Директор. — Ведь если ты спрячешься в кустах бузины, не только Варвара Андреевна, но решительно никто тебя не увидит. Ты понимаешь, как человек, я просто не нахожу себе места, думая о ней. А как директор, я обязан интересоваться своими подчиненными, в особенности выдающимися, о которых говорят по радио и пишут в газетах.
Где же музыканты?
В комнате стояла такая тишина, что нечаянно зажужжавшая осенняя муха извинилась и замолчала — это была получившая хорошее воспитание муха. Но почему же в этой глубокой тишине Варвара Андреевна размахивала палочкой, точно дирижируя невидимым оркестром?
Перед ней стоял пюпитр, на котором лежали ноты. Глаза ее блестели, нежные щеки разгорелись. Она была так хороша, что с первого взгляда становилось ясно, почему на ней хотели жениться инженер, акробат, зубной врач, штукатур, монтер и кузнец.
Но из кого же состоял оркестр, которым она управляла? Какую музыкальную пьесу исполняли безмолвные музыканты? И почему Варвара Андреевна так смутилась, когда Таня Заботкина заглянула в полуоткрытую дверь?
— Извините. Я брала у вас ноты, а сейчас у меня как раз свободное время, и я решила вернуть. Спасибо!
— Пожалуйста, Танечка, — ответила Варвара Андреевна.
— Я, кажется, некстати. Вы заняты?
— О нет. Я отдыхаю.
— Но вы дирижировали, когда я вошла?
— Может быть, — задумчиво сказала Варвара Андреевна. — Впрочем, да. Мы разучивали новый концерт.
«Но где же музыканты?» — подумала Таня.
Попугаи-неразлучники сидели на спинке стула, тесно прижавшись друг к другу, как и полагается неразлучникам. Розовый Пудель, вытаращив глазки, крепко держал в зубах Белый Мяч. Потертый Фрак из Немухинского Театра, надетый на плечики, висел на открытой дверце шкафа, а рядом с ним — Кремовая Шляпа. Полуразвернувшийся Желтый Плакат был приколот кнопками к спинке кровати, Огнетушитель стоял у стены, а Краешек Неба стыдливо подползал к форточке — должно быть, ему хотелось удрать, пока на него не обращали внимания. Но вот что странно: у них действительно был такой вид, как будто они только что замолчали.
— Как тебе нравится мой оркестр, Таня?
— Варвара Андреевна, — сказала Таня, — вы говорили, что у меня почти абсолютный слух. Почему же я их не слышу?
Варвара Андреевна засмеялась — и сразу же откуда-то донесся легкий звон хрустальных бокалов.
— Ах, милая моя, — сказала она, — потому что ты просто способная девочка, а я фея Музыки, которая слышит не только звуки, но и цвета — коричневый, черный, розовый, красный, желтый, синий, голубой, зеленый.
Разноцветный оркестр
Известно, что феи — и в особенности добрые феи — иногда поступают на работу и живут, как самые обыкновенные люди. Фея Вежливости и Аккуратности, например, получила даже персональную пенсию, прослужив чуть ли не сорок лет в Главной Палате Мер и Весов.
Нет ничего удивительного и в том, что фея Музыки поступила в Немухинскую Музыкальную Школу. Цвета она слышала потому, что у нее был не абсолютный, а сверхабсолютный слух. Например, когда Варвара Андреевна осенью бродила по березовой роще, ей положительно приходилось затыкать уши: желтизна осенней листвы звенела в ее ушах, как звуки фанфары или высокой трубы.
Трудно себе представить, что, глядя на зеленых попугаев-неразлучников, она ясно различала спокойные звуки скрипки, а между тем это было именно так. Стоило ей в ясный день взглянуть на голубое небо, как до нее доносились нежные звуки тысячи флейт, фиолетовый цвет она слышала так же ясно, как кларнетиста, играющего в Большом зале Московской консерватории. Синий был похож на виолончель, а делаясь темнее, звучал, как задумчивые, глубокие аккорды органа.
Зато зимой, когда начинал идти снег, она не слышала почти ничего: белый цвет был молчалив и годился в лучшем случае для продолжительных пауз.
Директор напрасно беспокоился о ней — она ничуть не скучала в Немухине. Феи, как некоторые люди, вообще не знают, что такое скука. Просто у нее было много свободного времени, и, чтобы оно не пропадало даром, она устроила маленький разноцветный оркестр. Музыкальные пьесы для него она писала сама.
Почему же Варвара Андреевна попросила Таню никому не рассказывать о ее музыкантах?
— Ты понимаешь, я совсем не пуглива, — сказала она. — Я, например, не боюсь темноты. Когда я читаю «Дон Кихота», мне всегда кажется, что и я могла бы войти в клетку льва. А нашего Директора я боюсь. У меня душа просто уходит в пятки, когда он поднимает свои тусклые глазки. Другой директор обрадовался бы, узнав о моем оркестре. А он рассердится и может даже уволить меня.
— Почему?
— Потому что учительнице музыки не полагается слышать цвета, если сам Директор слышит только звуки, да и то далеко не все. Ах! — Варвара Андреевна вздохнула, и откуда-то сразу же донеслась грустная музыкальная фраза. — Неужели мне придется уехать из Немухина и выйти замуж за штукатура, акробата, инженера, монтера, кузнеца или зубного врача? Ведь замужество, говорят, хлопотливое дело! Куда, куда! — сказала Варвара Андреевна Краешку Неба, который тем временем подобрался к форточке и стал похож на голубую пушистую кошку, вставшую на задние лапы. — Репетиция не кончена! На место, мой милый, на место!
— Варвара Андреевна, вы заняты, я пойду, — поспешно сказала Таня. — Я никому не расскажу о вашем оркестре.
— Да, пожалуйста. Впрочем, если тебе очень захочется, ты можешь шепнуть кому-нибудь, что я — фея. Все равно этому никто не поверит.
В кустах бузины
От Варвары Андреевны Таня забежала к Петьке, и, хотя это было очень трудно, она сдержала обещание и не проронила ни слова.
— Попугаи заглянули к ней в гости, — сказала она. — Плакат залетел случайно, Черный Фрак нужен ей для школьного спектакля, а Войлочная Шляпа — потому что Варвара Андреевна собралась на юг. Ну, а Пудель прибежал к ней, потому что она купила его в Доме Игрушки.
— Допустим, — сказал недоверчиво Петька. — А Огнетушитель?
— Ах, Огнетушитель! Ему стало скучно висеть у крыльца, и он попросил Варвару Андреевну перевесить его куда-нибудь в сени.
— Возможно, — согласился Петька. — А откуда же взялся этот голубоватый кусок киселя?
— Да, кажется, там было что-то вроде киселя. Должно быть, Варвара Андреевна собирается переклеить обои.
О том, что она фея, Таня сперва ничего не сказала, а потом небрежно обмолвилась:
— Ты знаешь, а ведь она, кажется, фея.
Петька фыркнул и решил, что если даже Таня не придает этой странной истории значения, значит, можно забыть о ней, по крайней мере, на время.
И Таня ушла, а он стал дрессировать Басара. Он клал ему на нос кусочек хлеба, и лохматый, рыжий, большой, как лошадь, Басар терпеливо ждал, когда Петька крикнет:
— Пиль!
Это значило, что хлеб можно съесть. Потом Басар исполнял команды:
— К ноге!
И он покорно шел рядом с Петькой.
— Кушь!
И он ложился у его ног, застенчиво виляя хвостом.
Но сегодня тренировка что-то не шла. Делая круг по двору, Басар остановился у калитки и залаял, а когда Петька усадил его на задние лапы, так скосился, что чуть не упал, и снова залаял, что могло означать только: «Внимание! Опасность! Враг у ворот!»
Но Петька не выглянул за ворота, как сделал бы на его месте любой немухинский школьник. Он влез на крышу сарая, чтобы предварительно изучить местность, и увидел флигелек, в котором жила Варвара Андреевна, а под окном, в кустах бузины… Как вы думаете, что он увидел в кустах бузины? Большое, плоское, красное ухо!
Конечно, это было ухо Зинки Миленушкиной, и другой мальчик непременно принял бы его за гроздь бузины, тем более что оно пылало от любопытства. Но Петька сразу понял, в чем дело. Он слез с крыши, отдал Басару весь хлеб и сахар, приготовленный для дрессировки, посадил его на цепь и отправился к Зинке.
Она уже выскочила из бузины и шла по Нескорой как ни в чем не бывало.
— Петечка, это ты? Вот хорошо, что я тебя встретила! А я как раз была у Варвары Андреевны, и она мне вдруг говорит: «Не знаешь, Зинуша, кто этот симпатичный парнишка, который живет на соседнем дворе?» Я говорю: «Что вы, Варвара Андреевна, не ужели вы не знакомы с Петей Воробьевым? Его весь Немухин знает! Он вам нравится?» Она говорит: «Очень». А я говорю: «И мне, Варвара Андреевна. Вы знаете, какой он отчаянный! В прошлом году, например, он прицепился к туристской „Волге“».
Это было очень трудно — с ходу не дать Зинке пинка. Но Петька остался, как и полагается мужчине, невозмутимым.
— Лучше скажи, — спокойно начал он, — почему ты пряталась под окном Варвары Андреевны. Подслушивала?
— Ну что ты, Петечка! Она же одна! Не станет же она сама с собой разговаривать?
— Положим, — согласился Петька. — Значит, подглядывала.
— И не подглядывала. Просто подумала: зачем ей игрушечный пудель? Ну, попугаи — это понятно. Моя бабушка, например, тоже любит птиц, вечно у нас чирикает какая-нибудь канарейка. Но ведь это совсем другое дело, правда? Это певчие птицы, бабушка слушает их и говорит, что это приятно. А ведь попугаи-неразлучники, они же, Петечка, не поют?
Если бы Таня рассказала Петьке о разноцветном оркестре, он после разговора поставил бы перед собой вопрос: «Зачем Зинка сидела под окном Варвары Андреевны?» И за ответом со всех ног помчался бы к Тане. Но он не поставил этот вопрос, потому что весь Немухин прекрасно знал, что Зинка любит подсматривать и подслушивать. На всякий случай он все-таки дал ей пинка, а потом вернулся к себе и снова принялся за Басара.
«Как бы мне ее подцепить?»
Надо думать, что Зина Миленушкина не один вечер провела под окном Варвары Андреевны, прежде чем догадалась, что новая учительница слышит цвета.
А может быть, она просто подслушала, как Варвара Андреевна рассказывала Тане о своем разноцветном оркестре?
Так или иначе, однажды она явилась к Директору и не только доложила ему о Пуделе, Черном Фраке, Зеленых Попугаях, Кремовой Шляпе и других музыкантах, но даже изобразила, как Варвара Андреевна, дирижируя, стучит палочкой по пюпитру.
— Значит, когда она смотрит, скажем, на воробья, она его слышит? — спросил Директор. — Даже если он не чирикает?
— Да.
— А корову?
— Тоже.
— Даже если она не мычит?
Зинка сказала, что ей очень жаль, но, очевидно, слышит.
— Конечно, это зависит от цвета, — добавила она. — Если корова рыжая, Варвара Андреевна слышит одно, а если черная — совершенно другое.
— Позвольте, но это же не положено, — сказал Директор. — Ведь она должна заниматься не какими-то попугаями, а школьным оркестром. Под Новый год наш школьный оркестр должен выступить во Дворце пионеров, причем среди приглашенных из столицы гостей будет лучший в Советском Союзе тромбон.
Он хотел сказать — лучший в Советском Союзе музыкант, играющий на тромбоне.
— Ну хорошо. Пусть она слышит цвета, это ее личное дело! Но собственный оркестр! Без разрешения Министерства Музыки и Изящных Искусств? Без моего ведома! Ох!
И чтобы немного прийти в себя, он попросил Зину несколько раз ударить в медные тарелки над его головой. Бамм! Этот веселый, раскатистый звук возвращал ему бодрость.
— Ну что ж, Зиночка, спасибо, — слабым голосом сказал он. — По тарелкам я ставлю тебе пять и по всем другим предметам — тоже пять до конца года.
А теперь иди домой, моя милая. Мне надо немного подумать.
Он не пошел в Школу, заперся в своей комнате и стал думать. Но, как на грех, ни одна дельная мысль не залетала в его маленькую, покрытую пухом головку.
Пожалуй, проще всего было уволить Варвару Андреевну и взять на ее место другую учительницу гармонии. Но немухинцы не поймут такого поступка, а если он станет объяснять им, что учительницам не положено заводить на дому свой собственный, да еще разноцветный, оркестр, они скажут:
— Вот интересно. За что же тут увольнять? Пусть она лучше выступит со своим оркестром в каком-нибудь клубе.
И тогда весь Немухин заговорит, что Варвара Андреевна по звуку может отличить желтый цвет от зеленого, а зеленый от голубого. Нет, здесь нужен совсем другой подход, более тонкий.
У Директора был превосходный сон — бывают же такие счастливые люди! Его не мог разбудить даже самый громкий будильник, и обычно он ставил на свой ночной столик два будильника, а иногда даже три. Теперь хватало и одного — так чутко стал он спать, размышляя с утра до вечера о Варваре Андреевне.
«Как бы мне ее подцепить?» — думал он грустно.
Но день проходил за днем, неделя за неделей. Уже первый мягкий снежок деловито разбросал свои звездочки по немухинским улицам и бульварам, а Директор ничего не мог придумать. Решительно ничего!
«Ведь, чего доброго, в конце концов не я, а она получит звание Заслуженного Деятеля Искусств. С ума сойти! Что же делать?»
Но вот однажды он проснулся с прекрасной мыслью, от которой у него сразу же стало весело на душе:
— Значит, немухинцы сказали бы: «Пусть она лучше выступит со своим оркестром в каком-нибудь клубе»? Отлично. Сегодня же я предложу ей выступить — и не в каком-нибудь клубе, а на новогоднем вечере во Дворце пионеров. Конечно, она не захочет махать своей палочкой в полной тишине — ведь ее музыкантов никто не услышит. А когда она откажется, ей придется уйти из Школы и в лучшем случае выйти замуж за кузнеца, потому что ни зубной врач, ни акробат, ни даже монтер не захотят жениться на обманщице, которая утверждает, что она слышит цвета.
Плачут ли феи
Если бы Варвара Андреевна в этот день засмеялась, никому не показалось бы, что он слышит звуки челесты, напоминающие звон хрустальных бокалов. Но она не смеялась. Весь Немухин заметил, что в этот день она была молчалива и очень грустна.
— Что случилось? — спрашивали ее другие учителя. И она отвечала:
— Благодарю вас, ничего не случилось.
— Ох, что-то мне кажется, что пора вам провести вечерок со мною, — сказал ей Старый Трубочный Мастер.
— Благодарю вас, с удовольствием. Как-нибудь в ближайшие дни.
Один из ученых, занимавшийся волшебниками и волшебствами, предположил, что феи плачут, как самые обыкновенные люди. Как ни странно, он оказался прав. Таня зашла в этот день к Варваре Андреевне и нашла ее в горьких слезах.
— Ах, Танечка, все так плохо, что я тебе и сказать не могу. Директор предложил мне выступить с моим оркестром на новогоднем вечере во Дворце пионеров.
— А вы?
— Я сказала, что у меня нет никакого оркестра.
— А он?
— Он сказал: «А что же делают у вас по вечерам Розовый Пудель, Зеленые Попугаи, Черный Фрак, Красный Огнетушитель и Кремовая Шляпа?»
— А вы?
— А я растерялась и сказала: «Вы забыли о Желтом Плакате и Краешке Голубого Неба».
— А он?
— Он рассмеялся и говорит: «Вот видите!» И я, — глотая слезы, сказала Варвара Андреевна, — я согласилась.
— Как же так? — волнуясь, спросила Таня. — Ведь наш оркестр не может играть. Его никто не услышит!
— В том-то и дело! Публика будет свистеть и топать ногами. Конечно, меня любят в Немухине, и, может быть, публика будет тихо свистеть и еле слышно топать ногами. Но все равно я умру от стыда.
— Варвара Андреевна, извините меня, я еще девочка и не должна вам советовать, — твердо сказала Таня. — Но мне кажется, что вы должны отказаться.
Варвара Андреевна подумала.
— Не могу, — упавшим голосом сказала она. — Я его боюсь. У меня просто душа уходит в пятки, когда я смотрю в его тусклые оловянные глазки.
Другая девочка поохала бы и ушла. Но Таня, прежде чем уйти, все-таки уговорила Варвару Андреевну написать Директору решительное письмо: «В конце концов, этот маленький оркестр был для меня отдыхом, развлечением. Нельзя же все-таки до такой степени не жалеть людей! К сожалению, я вынуждена отклонить Ваше лестное предложение».
— Я отнесу ваше письмо, — сказала Таня. — А потом, Варвара Андреевна… если вы разрешите, я зайду к Старому Трубочному Мастеру.
— Зачем?
— Ну как же! Посоветоваться! Разве вы не знаете, что с ним советуется весь Немухин и что к нему иногда приезжает из Москвы сам Главный Хранитель Палаты Мер и Весов?
Она взяла письмо и решительно направилась к двери. И в эту минуту… Да, именно в эту минуту Петька включил свое радио на полную мощность.
«Дорогие немухинцы, — сказал по радио низкий добродушный голос. — Сегодня одно из последних известий будет одновременно и одним из самых приятных. Директор Музыкальной Школы только что сообщил нам, что Варвара Андреевна, та самая учительница гармонии, о которой мы не раз говорили по радио, согласилась под Новый год выступить со своим разноцветным оркестром во Дворце пионеров.
Кстати, поговаривают, что Варвара Андреевна — фея. Подумайте, как интересно! Увидеть живую фею! Ждем, Варвара Андреевна! Кха, кха! С нетерпением ждем!»
Это интересно потому, что это действительно интересно
Старый Трубочный Мастер недаром сказал Варваре Андреевне:
— Ох, что-то мне кажется, вам пора провести вечерок со мной!
И это несмотря на то, что он в последние дни был очень занят.
Он обкуривал свою новую трубку, а это надо делать в одиночестве, вдумчиво и серьезно.
— Ну, выкладывай, — сказал он Тане и, выслушав ее, стал пускать большие, волнистые кольца голубого дыма. Это значило, что хотя ему было известно почти все, что рассказала Таня, однако есть и кое-что новенькое, о чем стоило подумать в свободное время.
— Отлично, — сказал он. — Пуф, пуф! Концерт состоится.
— Но ведь музыкантов никто не услышит?
— Почему же? Их услышат. Надо только выковать им голоса.
— Не понимаю.
— Еще бы, пуф, пуф! Это не так-то просто понять!
И он рассказал Тане, что в Поселке Любителей Свежего Воздуха живет кузнец, Иван Гильдебранд, который умеет выковывать голоса. Кстати, именно он написал Варваре Андреевне, что готов придумать для нее тысячу ласковых прозвищ. Так что кому-кому, а уж ей-то он не откажет!
— А где находится этот Поселок? — спросила Таня.
— Недалеко. Но попасть туда нелегко.
— Почему?
— Да вот из-за Свежего Воздуха, — с досадой сказал Трубочный Мастер и на мгновение скрылся в клубах табачного дыма. — Эти любители, понимаешь, терпеть не могут ни дыма, ни чада. Паровозы, видите ли, их раздражают: дымят. От шоссе они отказались, так что на автомобиле к ним проехать нельзя. Попасть туда можно только пешком, верхом или на велосипеде.
— А на самолете?
— Нет.
— На воздушном шаре?
Трубочный Мастер не успел ответить: какой-то мальчишка в распахнутой курточке промчался, размахивая кнутиком, на финских санках, которые легко тащил большой лохматый пес с добродушной мордой. Это был, конечно, Петька, который, на зависть всем немухинским мальчишкам, носился по городу, то и дело залетая в канавы.
Он только промелькнул, но этого было вполне достаточно, чтобы и Таня и Трубочный Мастер подумали одновременно: «Вот кто должен отвезти в Поселок Любителей Свежего Воздуха разноцветный оркестр».
Нельзя сказать, что Петька обрадовался, когда Таня попросила его съездить к кузнецу Ивану Гильдебранду. Как очень занятой человек, он схватил в эту четверть две «пары», которые надо было исправить. Но, во-первых, ему давно хотелось доказать Тане, что он настоящий мужчина. А во-вторых, это было интересно, потому что это было действительно интересно.
Прежде всего он зашел к Трубочному Мастеру с атласом СССР, чтобы наметить кратчайший маршрут Немухин — Поселок Любителей Свежего Воздуха. А от него — к Варваре Андреевне.
— Докладываю, — сказал он. — Провизия заготовлена, включая так называемый аварийный запас. Отправление, если я не просплю, в четыре ноль-ноль. Маршрут намечен.
— Если бы ты знал, Петечка, как я тебе благодарна, — сказала Варвара Андреевна. Она выглядела совсем девочкой в своем коротеньком платье, с косой, уложенной вокруг головы. Может быть, увидев ее в эту минуту, Директор даже пожалел бы о своем коварстве.
— Теперь насчет музыкантов, — продолжал Петька. — Таня дала мне свой заплечный мешок. Но, во-первых, они туда не влезут, а во-вторых, я их по дороге переломаю. Попугаи подохнут, Фрак изомнется, а Краешек Неба вообще не запихаешь в мешок. У меня предложение: давайте-ка лучше я привезу этого мастера к вам.
— Ну что ты, Петечка? Разве он поедет?
— А почему бы и нет? Ведь это, кажется, он собирался придумать вам тысячу прозвищ? Я, между прочим, подсчитал, что это практически невозможно.
— Вот что, Петечка, — сказала Варвара Андреевна, — на твоем пути встретится Обыкновенный Лесок. Но он не совсем обыкновенный, потому что в нем живет Леший, который может и не пропустить тебя, если ты ему не понравишься. Зовут его Трофим Пантелеевич. Он довольно симпатичный Леший и, между прочим, мой старый знакомый. Ты отвезешь ему от меня вот эту маленькую табакерку с нюхательным табаком. Он понюхает и чихнет. Тогда ты скажешь: «Салфет вашей милости». Он ответит: «Красота вашей чести». Потом ты скажешь: «Любовью вас дарю». А он ответит: «Покорно благодарю». И тут уж он, я надеюсь, покажет тебе дорожку через бурелом к Поселку Любителей Свежего Воздуха.
Салфет вашей милости
В школе Петька никому не сказал, что намерен отправиться на своем Басаре в далекую дорогу, — не потому, что его не отпустили бы, а потому, что пришлось бы долго объяснять, куда да зачем. Родителям он тоже ничего не сказал: мама, пожалуй, упала бы в обморок, а отец взял бы в руку ремень.
Поздно вечером он запряг Басара в свои финские санки, выехал на берег Немухинки и обрадовался, увидев Таню, которая дождалась, пока уснут взрослые, и пришла, чтобы его проводить.
Если бы он уходил на шхуне или фрегате, она сказала бы ему: «Счастливого плавания и достижений». Но к финским санкам и лохматому Басару не подходило это красивое пожелание. Поэтому она только протянула ему руки и сказала:
— Пока!
Но все равно это было прекрасно! Когда Петька стоял на длинных полозьях и мчался вдоль извилистой речки, перед его глазами стояла Таня в своей короткой шубке, из-под которой были видны стройные ножки, разрумянившаяся, с заиндевевшими, выбившимися из-под круглой шапочки волосами.
Прошло часа два, и Басар, должно быть, стал уставать, потому что раза два он сунулся мордой в снег, а потом с жадностью слизал его со своей мохнатой морды.
— При-вал! — сказал Петька, и они остановились минут на пятнадцать, чтобы закусить и погреться. Впрочем, грелся, топая ногами и хлопая себя по плечам, только Петька, а от Басара и без того валил пар.
На географических картах Обыкновенный Лесок не значился, и это понятно, потому что в нем действительно не было ничего заслуживающего внимания.
Немухинки на картах тоже нет, хотя она открыта давным-давно и по количеству пескарей стоит на одном из первых мест в средней полосе России. Так или иначе, Петька не мог заблудиться: он только время от времени покрикивал на свою добрую, безропотную собаку, и к утру, после еще одного привала, они с разбегу взлетели на снежное взгорье. И перед ними открылось такое зрелище, что, если бы рядом с Петькой в эту минуту стояла Варвара Андреевна, она услышала бы музыку, которую не слышал еще ни один человек на земле.
На низком горизонте лежал спокойный медный ободок восходящего солнца, а под ним весело кувыркалось красно-желтое облачко, похожее на медвежонка. Ночь прошла, но это только казалось, на самом деле она спряталась в лес, со своим нежно светившимся снегом и побледневшей, усталой луной.
Однако надо было выбирать дорогу, и Петька недолго думая скатился с бугра и повернул направо, тем более что, куда ни взгляни, везде был поваленный лес. Полозья звонко заскрипели в тишине раннего зимнего утра, и неудивительно, что этот звук, вместе с возгласами, которыми Петька подбодрял Басара, привлек внимание старого знакомого Варвары Андреевны. Петька увидел его издалека, притормозил санки и помчался прямо к нему.
Это был маленький старичок с рыжевато-седой бороденкой, в потертом кожухе, из-под которого были видны штаны, засунутые в рваные красные валенки. На голове у него был солдатский треух.
— Здравствуйте, Трофим Пантелеич, — сказал ему Петька.
— Ну, положим, здравствуй, — хрипло ответил старичок.
Басар залаял на него, и старичок, попятившись, испуганно заморгал.
— Я, собственно, проездом. А это Басар, он не кусается. Извините, вы ведь, кажется, Леший?
— Ну, положим, — нехотя согласился старичок.
— Нет, я просто хотел передать вам привет от Варвары Андреевны.
Известно, что лешие не только улыбаются, но хохочут, причем у них отвратительный смех, похожий на скрежет тупой пилы по металлу. Но Трофим Пантелеевич весь так и засиял, услышав имя Варвары Андреевны, а когда он негромко засмеялся, закинув бороденку, оказалось, что у него совершенно человеческий, добрый смешок.
— Ну, как она, моя голубушка? Здорова ли? Что поделывает? Каково ей живется?
— Петька рассказал, что Варвара Андреевна здорова, живет в Немухине и преподает гармонию в Музыкальной Школе.
— Просила вам кланяться, — сказал он солидно, — и передать свой подарочек. Вот. — Он достал из кармана табакерку и протянул ее старичку.
На этот раз Трофим Пантелеевич не только засиял, но весь как-то засветился, точно он был прозрачный и внутри у него зажглась большая свеча.
— Ну что за девушка! Обо всем-то она позаботится, обо всем подумает. Ведь я тут который год всякую дрянь нюхаю, грибы сушеные, мхи разные, а она наподи — самый настоящий табачок прислала!
А Он торжественно открыл крышку табакерки и осторожно насыпал щепотку на впадину левой руки между большим и указательным пальцем. Потом втянул табачок сперва в одну большую мохнатую ноздрю, потом в другую и так чихнул, что по всему лесу пошло:
«И-их! Э-эх! У-ух!»
— Салфет вашей милости, — степенно сказал Петька.
— Красота вашей чести, — радостно сморкаясь ответил старичок.
— Любовью вас дарю.
— Покорно бла…
И только он вымолвил «благодарю», как «И-их! Э-эх! У-ух!» так и зазвенело в лесу, пугая птиц и зверей, и докатилось до берлоги залегшего на зиму старого медведя, который сонно насторожил ухо и уже совсем было собрался проснуться, но раздумал и опять захрапел.
— А теперь прошу пожаловать ко мне в гости, — сказал Леший.
— Спасибо, не могу. Очень тороплюсь. Не можете ли вы показать мне дорогу, которая ведет к Поселку Любителей Свежего Воздуха?
— А чем тебе здесь, в лесу, не свежий воздух? Пожил бы у меня. Мы бы с тобой на охоту ходили. У меня ружьецо есть. Правда, старое, но бьет без промаха и белку, и всякую дичь. Право, остался бы, а?
— К сожалению, не могу. Времени в обрез. Скажу только одно: спешу по делам Варвары Андреевны.
— Ну, это другое дело. Тогда пойдем. Только вот что… — Он помолчал. — Ты не можешь как-нибудь устроить, чтобы твоя собака не лаяла? У меня просто сердце падает, когда она лает.
— Басар, ни звука! — повелительно сказал Петька, взглянув собаке прямо в глаза.
Басар кивнул, и они стали пробираться по чуть заметной тропинке, которую старый Леший не без труда нашел среди бурелома.
Иван Гильдебранд
На первый взгляд Поселок Любителей Свежего Воздуха ничем не отличался от любого другого поселка. Странно было только, что почти в каждом доме, несмотря на сильный мороз, окна были распахнуты настежь.
Над дымовыми трубами торчали белые колпаки, похожие на поварские, а над колпаками струился нагретый воздух, красиво таявший на морозном солнце.
— Фильтруют дым! — научно определил Петька. Как в любом поселке, на Главной улице стоял сельсовет, на котором так и было написано «Сельсовет», чтобы никто не спутал его с пожарной командой или сельмагом. По сторонам этой надписи висели два плаката. На одном Петька прочитал: «Курильщики — вон!» А на другом: «При запахе прогорклого масла немедленно вызывайте „Скорую помощь“.
И действительно, в воздухе, пронизанном откуда-то взявшимся голубоватым светом, не было ни пылинки, ни дыма, ни чада. Народу на улице было немного — очевидно, Любители были заняты делом».
Прохожие — это бросалось в глаза — все, как один, были высокого роста и одеты очень легко. О шубах не было и помину. И они не бежали сломя голову, чтобы согреться, а шли неторопливо, с любопытством поглядывая на Петьку, который в своем ватничке и шапке с ушами чувствовал себя, глядя на них каким-то Дедом Морозом. Они напоминали ему «моржей» — так называются смельчаки, которые купаются в проруби зимой и даже устраивают состязание на скорость; в прошлом году на зимних каникулах он видел в Ленинграде такое состязание «моржей».
Вот громадный мохнатый битюг протащил тяжело нагруженную мешками телегу, а вот на стройной гнедой лошадке проехал не торопясь один из Любителей, в спортивной кепке, такой круглолицый и румяный, что можно было, пожалуй, дать ему лет двадцать, в то время как ему, без сомнения, было за сорок.
— Виноват, — вежливо сказал ему Петька, — не можете ли вы сказать, где живет кузнец Иван Гильдебранд?
Всадник подумал, улыбнулся и ответил сложно — очевидно, он любил загадки:
— Кузнец без горна — не кузнец, Огонь без дыма — не жилец. Сбежали на восточный край Колпак, подкова и сарай.И, легко тронув повода, он проехал дальше.
Как ни странно, но Петька легко разгадал эту загадку: через несколько минут он с разбегу подкатил к небольшому каменному строению на краю поселка. Ворота его были распахнуты, а колпак над дымовой трубой был украшен подковой. Это значило, без сомнения, что именно здесь живет Иван Гильдебранд.
Как правило, кузнецы бывают коренастые, широкоплечие, с мускулистыми руками и ногами, как будто выкованные из железа. А навстречу Петьке вышел тоненький молодой человек, белокурый, с голубыми глазами, похожий на рыцаря, хотя на нем был длинный кожаный передник, подпоясанный ремешком. В правой руке Иван Гильдебранд держал клещи, которыми он сжимал узкую, раскаленную, похожую на лепесток стальную пластинку.
— Виноват, одну минуту, — сказал он и вернулся в кузницу, где его ждал подмастерье.
И работа пошла на диво легкая, быстрая, веселая, с искорками, вздохами мехов и пением. Пел Иван Гильдебранд, и, хотя в кузнице было очень шумно, Петька постепенно стал различать слова, тем более что между ними попадалось знакомое имя.
Беляночка, Варварушка, давно ли ты для меня на свете расцвела? Что нравится тебе — вино ли, бухарский шелк, лаванда, мушмула?Подмастерье раздувал мехи, горн пылал, кузнец ловко орудовал маленьким молоточком, и Петька с удивлением заметил, что пластинка постепенно превращается в розовый лепесток.
Красавица, зазнобушка, Жар-птица, боярышня, дружочек, чистый снег, не свидимся, так хоть позволь присниться голубушка, жасмин, слиянье рек, — пел во весь голос голубоглазый кузнец.Да, Иван Гильдебранд не преувеличивал, написав Варваре Андреевне, что, если она разрешит, он придумает для нее тысячу ласковых прозвищ! Более того: из песен, которые кузнец сочинял между ударами молота по наковальне, Петька понял, что кузнец услышал по радио о новогоднем концерте и намерен приехать в Немухин, чтобы поднести Варваре Андреевне букет Голубых Подснежников, которые, конечно, никогда не увянут, потому что они сделаны из стали.
Очевидно, в букете не хватало только одного лепестка, того самого, который Иван Гильдебранд выковал на глазах у Петьки.
Все это было очень хорошо, и Петька подумал, что, если Варваре Андреевне придется уйти из школы, пожалуй, ей стоит выйти замуж именно за этого симпатичного кузнеца, а не за какого-то там зубного врача или монтера. Пора было, однако же, переходить к делу.
— К сожалению, — решительно сказал Петька, — я боюсь, что вам не придется поднести этот букет Варваре Андреевне. Дело в том, что…
И он рассказал все, что случилось в Немухине с той минуты, как он увидел с крыши сарая Черный Фрак, Розового Пуделя, Попугаев-неразлучников и других разноцветных музыкантов. Впрочем, едва он упомянул о разговоре Директора с Варварой Андреевной, кузнец остановил его и сказал:
— Все понятно. Надо выковать им голоса.
«Так и должно быть!»
К счастью, они явились в Немухин поздно вечером, когда городок уже крепко спал. Петька легонько постучал в окно Трубочного Мастера, и тот, покряхтев, встал и открыл дверь. Прежде всего он отправил Петьку домой, потом осмотрел Ивана Гильдебранда и остался доволен, заметив только:
— Длинен.
Это значило, что кузнец не поместится в комнате для гостей на диване. Однако все устроилось наилучшим образом: к дивану была приставлена табуретка, и кузнец уснул, едва коснувшись головой подушки.
О том, как выковывают голоса, ничего не известно, и даже в сказке «Волк и семеро козлят» говорится, что некий кузнец просто взял да и подковал волку голос. Но Старый Трубочный Мастер, очевидно, и тут оказался на высоте. Иван Гильдебранд провел с ним целый день, обсуждая все тонкости этого дела, и надо сказать, что для кузнеца это был трудный день: как Любитель Свежего Воздуха, он не выносил табачного дыма, а Мастер, как на грех, не выпускал изо рта свою трубку.
Музыканты, кроме Огнетушителя, который вдруг зашипел и попросил, чтобы его оставили в покое, еще с вечера сидели или висели в доме, с любопытством ожидая, когда же наконец начнется работа. И вот тут прямо из школы заглянула взволнованная Варвара Андреевна. Это было в ту минуту, когда кузнец, надев свой кожаный передник и засучив рукава, вынимал из мешка инструменты.
— Здравствуйте, — сказала Варвара Андреевна, и инструменты один за другим выпали из его рук на пол.
Они одновременно бросились поднимать инструменты, столкнулись лбами, засмеялись, и тогда Иван Гильдебранд тоже сказал:
— Здравствуйте.
Варвара Андреевна стояла перед ним смущенная опустив глаза, с порозовевшим, как у девочки, лицом.
Всегда трудно найти слова в первые минуты знакомства. Наконец ей все-таки удалось заговорить, и сейчас же откуда-то донеслась еле слышная музыка. Монтер, зубной врач, штукатур, инженер удивились бы, без сомнения, услышав эту нежную музыку, умолкавшую в ту же минуту, когда умолкала Варвара Андреевна. Но кузнец не удивился. «Так и должно быть!» — подумал он радостно. Это значило, что ничего другого от такой девушки, как Варвара Андреевна, он и не ожидал. Надо было назначить, кому какой голос ковать, и они, посовещавшись, решили, что Черный Фрак должен звучать, как рояль, Зеленые Попугаи-неразлучники — как две скрипки, первая и вторая, Краешек Голубого Неба — как виолончель, Желтый Плакат — как фанфары, Кремовая Шляпа — как контрабас, Дымчато-Розовый Пудель — как альт, А Белый Мяч, который он держал во рту, пригодится для пауз.
— Каждый из них уже недурно знает свою партию, — сказала Варвара Андреевна. — Но, конечно, когда они зазвучат, это будет совсем другое дело. Особенно важно, чтобы у рояля был мягкий, но сильный звук. Мой концерт — для рояля с оркестром.
Новогодний концерт
Директор Музыкальной Школы молодел с каждым днем — у него было прекрасное настроение. Теперь Зинке Миленушкиной почти не приходилось ударять в медные тарелки над его головой, чтобы вернуть ему душевное равновесие.
Снова он так и носился по Немухину на своих коротеньких ножках, а когда время от времени похлопывал себя по животу, слышался прежний бодрый звук, напоминавший о том, что Директор в молодости был одним из лучших барабанщиков в Советском Союзе.
О новогоднем вечере во Дворце пионеров давно уже знал весь Немухин, и Директор особенно радовался, когда его расспрашивали о Варваре Андреевне.
— Да, это та самая девушка, о которой писали, что она когда-нибудь непременно станет достопримечательностью, такой же, как наша футбольная команда, — говорил он. — Прекрасная, скромная девушка, и к тому же — вы не поверите — самая настоящая фея!
Но когда Директора расспрашивали о ее разноцветном оркестре, он загадочно отвечал:
— О, в этом надо убедиться собственными глазами!
Конечно, он рассчитывал, что, когда на сцене появятся такие странные музыканты, как Черный Фрак или Кремовая Войлочная Шляпа, и Варвара Андреевна в полной тишине начнет размахивать дирижерской палочкой, вежливые зрители начнут смеяться, а невежливые — свистеть.
«Это будет скандал, — злорадно потирая руки, думал Директор. — Она провалится, и в какой-нибудь центральной газете появится статья: „Можно ли слышать цвета? Конечно, нет!“ Между тем одна учительница Немухинской Музыкальной Школы утверждает, что она способна по звуку отличить один цвет от другого. И Директор был совершенно прав, уволив ее за обман».
Что касается Зинки Миленушкиной, то она давно перестала ходить в Школу. Зачем? Ведь Директор заранее поставил ей пятерки по всем предметам до конца года. Куда интереснее было собирать по городу сплетни. Она складывала их в свой школьный портфель и бегала из одного знакомого дома в другой. Случалось, что ее выгоняли. Ну так что же! Она шла в третий.
В кустах бузины под окном Варвары Андреевны она перестала сидеть — и напрасно! Посиди она еще разочек-другой, и, может быть, ей удалось бы увидеть в гостях у Варвары Андреевны высокого белокурого незнакомца с голубыми глазами. Правда, она ничего не поняла бы из их разговора, потому что речь шла о том, что Черный Фрак еще звучит как кабинетный рояль, а нужно, чтобы он звучал как концертный.
Но все равно это была бы такая большая сплетня, что, пожалуй, она не поместилась бы в школьном портфеле.
Между тем незаметно подошел Новый год, и даже не подошел, а как будто сам собой сложился из елок, которые продавались на каждом углу, из украшенных витрин, в которых стояли, улыбаясь, деды-морозы; из хлопот в каждом доме, где дети клеили цепи из цветной бумаги, серебрили орехи и закутывали елки в хрупкие нити бус и дрожащего тонкого золотого дождя. У самой большой елки во Дворце пионеров стоял одетый Дедом Морозом, в длинной красной шубе и высокой бело-красной шапке, Старый Трубочный Мастер. Он раздавал детям подарки. Это было днем, а вечером… Вечером весь Немухин собрался послушать разноцветный оркестр, которым дирижировала самая настоящая фея!
В первом ряду сидели самые уважаемые в городе люди, и среди них, конечно, Директор Музыкальной Школы, который ежеминутно вскакивал, встречая гостей из столицы.
Приехали журналисты. Приехали представители Министерства Музыки. Приехал Главный Хранитель Палаты Мер и Весов, приятель Трубочного Мастера, намеревавшийся после концерта посоветоваться с ним кое о чем, касавшемся мер и весов. И, наконец, приехал лучший тромбонист Советского Союза, очень похожий на свой длинный инструмент, состоящий, как известно, из блестящих, плавно изогнутых трубок.
Большая сцена была еще совершенно пуста, так, по меньшей мере, казалось зрителям, которые терпеливо ожидали появления музыкантов. Музыкантов не было. На сцене почему-то стоял только маленький стол, на котором, прижавшись друг к другу, сидели Попугаи-неразлучники, а рядом с ними Дымчато-Розовый Пудель с Белым Мячом в зубах. На рогатой вешалке висел изрядно потертый Черный Фрак, который некоторые зрители узнали, потому что не раз видели его на актерах Немухинского театра. К стене был прикреплен кнопками Ярко-Желтый Плакат, а над ним висела Кремовая Шляпа.
Голубое пятно, лениво бродившее по кулисам, никто, конечно, не принял за Краешек Голубого Неба, и вообще зрители решили, что рабочие не успели убрать сцену после очередного спектакля. Только пюпитр, на котором лежали ноты и дирижерская палочка, напоминал о том, что вскоре в этом переполненном зале зазвучит музыка — должно же это было случиться, раз на концерт приехали такие почтенные люди.
И вот Варвара Андреевна в нарядном черном костюме, отделанном поблескивающими, чуть посветлее полосками, в белой кружевной блузке, заколотой скромной брошкой, вышла на сцену и встала за пюпитр. В этот вечер ее трудно было узнать. В ней появилось что-то повелительное, властное: теперь просто невозможно было представить себе, что у нее душа уходит в пятки, когда Директор поднимает на нее свои тусклые свинцовые глазки. Она постучала палочкой по пюпитру, и Черный Фрак, Розовый Пудель и другие разноцветные музыканты взглянули на нее, как в самом настоящем оркестре музыканты смотрят на дирижера, ожидая его первого взмаха. И музыка, которую услышали все, вспыхнула, раскинулась, поплыла. Она плыла, как фрегат, свободно рассекающий волны, с плавно вогнутыми парусами. И немухинцы (кроме Директора, который не поверил ушам) вспомнили детство, когда они, все до одного, были великими людьми, потому что верили в сказки и были убеждены, что их жизнь непременно будет прекрасной. «Иначе не может быть, — думали они, — потому что иначе не может быть никогда».
Да, можно смело сказать, что голубоглазый, похожий на рыцаря кузнец прекрасно справился со своей задачей. Фрак звучал как концертный рояль, Попугаи-неразлучники ни разу не сбились, хотя у них была трудная партия, а ленивый Краешек Голубого Неба звучал почти как орган. Розовый Пудель тоже очень старался, а Белый Мяч, который он держал в зубах, молчал — ведь он был предназначен для пауз.
Большой зал Дворца пионеров не мог вместить всех желающих, многие немухинцы остались дома.
Но эта строгая, нежная музыка, в которой было и воспоминание о детстве, и надежда на сияющий завтрашний день, и что-то еще, непередаваемое, вспыхнувшее в душе как грустный и радостный свет, донеслась и до них. Впоследствии многие думали, что это произошло, потому что оркестром дирижировала Фея Музыки, которой захотелось доказать, что она действительно фея. Но на самом деле, так же как звук отзывается эхом на звук, цвет отозвался на цвет, и весь Немухин зазвучал как огромный разноцветный оркестр.
Теперь уже не фрегат, идущий против ветра, а целый город летел в необозримом пространстве ночи. Чуть слышно зазвенели звезды, мягко отозвалась луна, молодой новогодний воздух был пронизан музыкой, приглушенной медленно падавшим снегом и все же звучавшей светло, торжественно и свободно. Но вот побледневшая от волнения девушка в скромном черном костюме в последний раз взмахнула дирижерской палочкой, и наступила тишина. Она даже не наступила, а как будто вошла, стесняясь, что должна, к сожалению, заменить эту необыкновенную музыку, вошла и стала медленно пробираться между рядами.
Потом вдруг раздался грохот — это Директор вскочил со своего кресла и, задыхаясь, выбежал из зала. Потом… О, потом немухинцы отбили себе все ладони, вызывая Варвару Андреевну! Но она вышла поклониться только один раз, да и то не одна. Она тащила за руку высокого белокурого, похожего на рыцаря незнакомца с голубыми глазами. Сильно покраснев и неловко поклонившись, незнакомец поднес Варваре Андреевне букет Голубых Подснежников, и это было последнее чудо, совершившееся в тот удивительный вечер. Подснежники — в разгар зимы! Конечно, никому и в голову не пришло, что они выкованы из стали.
И феи выходят замуж
Остается рассказать немногое: ведь тот, кто прочие тал эту сказку, уже догадывается, чем она кончится, конечно, если он внимательно ее прочитал. Ничего неожиданного не было в том, что Немухинский Горсовет постановил открыть при Музыкальной Школе лабораторию сравнительного изучения звука и цвета, в которой навсегда поселились скромные музыканты, Теперь их называли «экспонаты», и хотя они не понимали этого странного слова, однако гордились им, потому что сотрудники обычно прибавляли: «И редчайшие в мире экспонаты».
С Зинкой Миленушкиной ничего не случилось, хотя после концерта она почему-то оглохла на правое ухо — то самое, которое ей приходилось прятать под своими рыжими косами. Но это не очень огорчило ее, потому что Директор, которому она рассказывала все, что ей удалось подслушать, навсегда покинул Немухин. После концерта он вырвал из рук гардеробщика свою шубу и шапку и, бормоча: «Этого не может быть», навсегда скрылся в темноте новогодней ночи.
Кто-то видел его на вокзале, где он бродил по платформе и отмахивался, когда его просили успокоиться и хотя бы выпить рюмку водки в буфете. По слухам, он уехал в Москву, где тоже пытался доказать одному из старших советников Министерства Музыки, что «этого не может быть», но тот будто бы неожиданно возразил:
— Нет, может!
Нельзя сказать, что немухинцы были очень огорчены его исчезновением. Более того, они сразу же забыли о нем. Город был взволнован другим событием, гораздо более важным. Сперва в одном доме, потом в другом стали все чаще поговаривать, что кузнец придумал-таки для Варвары Андреевны тысячу ласковых прозвищ и она согласилась стать его женой.
И это было действительно так.
На свадебный обед были приглашены только Таня и Петька, но в каждом доме пили за здоровье молодых и желали им счастья. Из Поселка Любителей Свежего Воздуха за ними прислали легкие, на диво слаженные сани. В сани была запряжена стройная гнедая лошадка, а на козлах сидел тот самый румяный мужчина, который так сложно объяснял Петьке, где живет Иван Гильдебранд.
— Как дела? — спросил его Петька.
И кучер, улыбнувшись, снова ответил загадкой:
Дела растут, как снежный ком, С горы летящий кувырком. Кому сапожный нож, а мне Чепрак и сбруя на коне.И хотя Петька не знал, что чепрак — это цветная материя, которую для красоты иногда кладут под седло, он понял, что перед ним очень занятой человек, с трудом выкроивший время для поездки в Немухин.
Вся Музыкальная Школа в полном составе пришла провожать Варвару Андреевну, и она даже всплакнула — от счастья и от горя. От счастья, потому что она была счастлива, а от горя, потому что ей было грустно расставаться с городом, где ее так полюбили.
Грустили, расставаясь с ней, и немухинцы. «Но с другой стороны, — решили они, — отказываться от такого жениха, как Иван Гильдебранд, было бы просто неблагоразумно».
Молодые уселись в сани, лошадь тронула, и все окна в городе распахнулись одновременно, несмотря на довольно сильный мороз.
— Счастливого пути!
— Не забывайте!
— Пишите!
— Доброго здоровья!
Сани промчались по Нескорой, свернули в переулок, соединявший ее с набережной; кучер, придерживая лошадь, стал выбирать пологий спуск и наконец плавно повел сани вдоль извилистой речки.
Вот и Мухин промелькнул, с ленивым, сонным лаем собак, с телевизионной башней, которая была гораздо ниже немухинской, потом пошли какие-то темные села.
Большая желтая луна с каждым часом становилась все меньше и голубела, пока не превратилась в маленький сияющий блин, который кто-то отхватил сбоку на целую четверть. Но и оставшихся трех четвертей было вполне достаточно, чтобы засыпать всю Немухинку множеством ослепительных, скрипящих под полозьями звезд. Это был, конечно, снег, который старался выглядеть особенно нарядным в первый вечер года.
Варвара Андреевна задремала — намаялась за день. Что-то легкое приснилось ей: весеннее утро, бабочки над маленьким лесным водопадом, кузнечики, неторопливо завтракающие в высокой траве. Иван Гильдебранд обнял ее за плечи, чтобы на крутом повороте она не вылетела из санок, и ей казалось, что, если бы не эта сильная рука, она увидела бы совсем другой сон — грустный или даже, может быть, страшный.
Обсуждаем вторую сказку и находим третью
— Ну что ж, — сказал дядя Костя, когда я прочитал ему эту историю. — Кое-что здесь может пригодиться для моего путеводителя. Скажем, любой турист был бы поражен, узнав, что в здешней школе преподавала фея Музыки, которая потом вышла замуж за обыкновенного или даже не совсем обыкновенного кузнеца. Правда, для первого, второго и третьего раздела моего путеводителя… — Он взглянул на план. — Немухинские музыканты, очевидно, не имеют значения. Но для четвертого… Она была командирована?
— Кто?
— Фея.
— Без сомнения.
— Отлично! Значит, она может смело занять свое место среди академиков, поэтов и Героев Социалистического Труда. Да и вообще…
Дядя Костя задумался.
— Конечно, описания города здесь почти нет. Но окрестности, например Поселок Любителей Свежего Воздуха, о котором, кстати сказать, даже в Большой Советской Энциклопедии нет ни слова, описан недурно. Любопытно, например, что его обитатели любят поэзию и сами время от времени пишут стихи. И вот еще что очень важно! Вы помните, мне хотелось доказать, что немухинцы — люди самолюбивые и скромные, а теперь становится ясно, что они еще и добряки. Посмотрите, как сердечно они отнеслись к Варваре Андреевне с ее немного странным оркестром. И как радушно провожали молодых! И как умно рассудили, что Варваре Андреевне от такого симпатичного кузнеца отказываться было бы неблагоразумно. Правда, мне не верится, что он придумал для нее тысячу ласковых прозвищ. Я в свое время для своей невесты придумал только пять. Короче говоря, мне легко будет доказать, что любой турист встретит в Немухине людей доброжелательных и гостеприимных. Но вот как быть с этим упорным нежеланием ударить лицом в грязь… и вообще с характером коренного населения в целом?
— Но ведь нам пока удалось разыскать подзорную трубу и музыкальную табакерку. Может быть, если мы найдем старинную пушку или медный самовар…
Дядя Костя так сильно потер нос, как будто решился покончить с ним раз и навсегда.
— Не знаю, не знаю, — возразил он. — Пока вы возились с этим блокнотом, я возился с Музеем и, как видите, почти привел его в порядок. Ни пушечки, ни самовара, ни фрегата нет и в помине, не говоря уже о шкатулке, которая, открываясь, превращается в маленький письменный стол.
— Превращается в письменный стол? Откуда вы это знаете?
Вместо ответа дядя Костя протянул мне опись. Под номером 205 действительно была указана шкатулка и прибавлена фраза: «Может служить бюваром для хранения почтовой бумаги, конвертов, корреспонденции и т. д.».
— Где же она?
Дядя Костя только пожал плечами.
— Мне кажется, — нерешительно сказал он, — что она могла попасть в Комиссионный Магазин…
В сказке «Сын Стекольщика» Ночной Сторож утверждал, что хотя Директор Комиссионного Магазина Пал Палыч считался знатоком старины, однако был подслеповат, глуховат и, главное, очень пуглив, что, кстати сказать, совсем не свойственно для знатоков старины. И действительно, он испугался, когда я сказал ему, что шкатулка пропала из Музея.
— Может быть, она случайно оказалась у вас Магазине?
— Помилуйте! Чтобы я купил музейную вещь? Я не только не покупаю их, но даже не продаю, когда они попадают мне в руки. Неужели эта шкатулка, которую я неоднократно видел в Музее рядом с моделью фрегата, бесследно пропала?
— Увы! Пропал и фрегат.
Пал Палыч ахнул и, шатаясь, прошел куда-то за перегородку, в глубину Магазина. Когда он вернулся, от него так сильно пахло валерьянкой, что кошка, до сих пор спокойно дремавшая за прилавком, вылезла и, тревожно принюхиваясь, выгнула спину.
— И пушечка елизаветинских времен, — продолжал я. — И медный самовар.
Пал Палыч взялся рукой за сердце.
— И деревянный телефон начала века в виде ящика, прикрепляющего к стене, с двумя звоночками и ручкой.
— Ну, телефон — бог с ним! — вдруг успокаиваясь, сказал Пал Палыч. — Подобным вещам вообще не место в Музее. У меня, кстати, есть такой телефон. Я сделал из него клетку для белки.
— А где он у вас?
— На дереве, в саду. Хотите взглянуть?
До обеденного перерыва оставалось еще добрых пятнадцать минут, но из любезности ко мне он закрыл магазин, повесил дощечку: «Обедаю», и мы отправились к его дому.
— Ах боже мой! — все повторял он. — И пушечка? Можно понять человека, который покупает старинную шкатулку. Но кому нужна пушка, тем более что из нее выстрелить невозможно!
Пал Палыч жил недалеко от сестер Фетяска, в переулке, который немухинцы почему-то называли Кривым, хотя он был прямой, как стрела. В маленьком садике решительно все было похоже на хозяина: среди скромных пугливых незабудок виднелись затейливые, но тоже пугливые цветочки, которые назывались не-тронь-меня, и только высокие золотые шары старались показать, что они ничего не боятся. В доме (когда мы вошли) осторожно, стараясь никого не обеспокоить, пробили двенадцать раз настенные часы. Но самой похожей на Пал Палыча оказалась белочка, которая вылетела из своего домика, распушив хвост, и, прыгая с дерева на дерево, спряталась в кроне высокой сосны.
Что касается ее домика, надо сознаться, что Пал Палыч остроумно решил воспользоваться старинным телефоном. Он делился на две части: верхняя, украшенная резным полуовалом, напоминала почтовый ящик, а нижняя — тоже почтовый ящик, но вытянутый в длину и поменьше.
— А нельзя ли посмотреть его поближе?
Пал Палыч принес лесенку, с неожиданной ловкостью взобрался по ней и снял телефон.
На месте, где некогда стояла ручка — в старину эту ручку крутили, чтобы соединиться со станцией, — он выпилил для своей белки круглую дырку — она заменяла дверь. Верхний ящик, из которого Пал Палыч вынул весь механизм, был прикрыт покатой дощечкой с парапетом, таким образом белочка при желании могла спать на дощечке, а ведь нет ничего приятнее, чем спать в саду, на свежем воздухе в ясную (или даже не очень ясную) погоду.
Нижний, узенький ящик Пал Палыч оставил нетронутым, по его мнению, домик выигрывал от сходства со старинным телефоном.
— Ведь это, в сущности, нечто вроде первого этажа, — с гордостью сказал он. — А попробуйте-ка найти другую белку, которая жила бы в двухэтажном доме.
Я посмотрел на него, он на меня — можно было, пожалуй, подумать, что нам пришла в голову одна и та же мысль. Но оба ящичка были не привинчены и не приклеены, а врезаны, и я не решился сказать Пал Палычу, что мне хотелось бы заглянуть в нижний этаж.
— А вы случайно не помните, у кого вы купили этот телефон?
Пал Палыч задумался, зажмурив правый глаз. Потом он зажмурил левый и со значительным видом поджал губы.
— Это было года четыре тому назад, — наконец сказал он. — И его принес мне… Нет, не помню. Но кстати, почему бы вам не дать объявление в «Немухинском голосе», скажем, так: «По-видимому, бывший Директор Городского Музея Лука Лукич Мыло украл или продал с черного хода такую-то пушечку и такую-то шкатулку, которая, кстати, превращается в письменный стол. Нашедшему эти вещи и вернувшему их в Музей будет выдано вполне приличное вознаграждение».
И действительно, это была прекрасная мысль. Мы простились, я забежал в редакцию, дал объявление и, вернувшись к себе — я остановился в гостинице, — пообедал. Надо было кое-что исправить в истории о немухинских музыкантах. Но, едва написав пять-шесть строк, я лег на диван, заснул и, проснувшись, увидел Пал Палыча, который ходил по комнате на цыпочках, очевидно, не решаясь меня разбудить.
— Здравствуйте, — сказал он, хотя не прошло и полдня, как мы расстались. — Я вспомнил, кто принес мне телефон. Петя Воробьев по прозвищу Воробей с Сердцем Льва. Конечно, теперь его никто так не называет, потому что он уже студент и приехал в Немухин на каникулы. Причем приехал он как раз к дяде Косте, который для него в буквальном смысле слова действительно дядя.
Конечно, это чистая случайность, что мы нашли в нижнем этаже телефона эту историю, главным героем которой был именно Петя. Но еще более чистой случайностью было то обстоятельство, что он четыре года тому назад нашел на дворе Городского Музея этот старый телефон, который Лука Лукич просто выбросил на свалку как вещь, не имеющую музейного значения.
Впрочем, белочка ненадолго лишилась своей жилплощади. Я заказал для нее новый домик, и хотя в оригинальности он уступал телефону, зато был гораздо поместительнее, так что в нем удобно было воспитывать бельчат, которые появились на свет, пока мы с Петей возились с третьей сказкой, в которой, кстати сказать, тот же Петя показал себя с самой лучшей стороны. Высокий парень, с зелеными глазами и рыжей шевелюрой, он, очевидно, сохранил Сердце Льва. К сожалению, он оказался смешливым — после каждой разобранной страницы он хохотал, хотя некоторые из них были скорее грустными, чем смешными. Мы с ним долго думали, как назвать эту новую историю, и придумали, когда, рассказывая о Настеньке, он упомянул, что у нее была летящая походка или, иначе говоря,
ЛЕГКИЕ ШАГИ
Шум приближавшегося поезда послышался издалека, круглый столб расширяющегося света несся перед ним, и вдруг стали видны станция, с которой свисал снег, лениво заглядывая в освещенные окна, ларек «Пиво — воды», знакомый извозчик из Дома Отдыха Престарелых Грачей, который стоял у ларька, держа кружку с пивом, и даже вылезающая из кружки, лопающаяся пена. Поезд налетел, пролетел, оставив всех в темноте, в тишине. Но прежде чем он пролетел, Петька ясно увидел какую-то девочку, перемахнувшую по воздуху через рельсы перед самым фонарем электрички. Он ахнул. И возчик тоже сказал: «Ух ты!» Но когда улеглись поднятые поездом снежные вихри, на той стороне не оказалось никого, кроме двух баб, закутанных так, что их можно было принять за двигающиеся мешки с картошкой.
Теперь до Немухина было недалеко, и Петька прибавил шагу. О девочке он подумал научно: «Обман чувств». Он любил обо всем думать научно. Но это не было обманом чувств, потому что через несколько минут он увидел ее на углу Нескорой и Малинового переулка. Она стояла, поглядывая по сторонам, точно размышляя, куда бы ей еще слетать, — такой у нее был воздушный вид. На ней было короткое ситцевое платье с большим бантом на спине, а за плечами что-то вроде накидочки. Она была без пальто, и это показалось Петьке интересным, но тоже не вообще, а с научной точки зрения.
— Хрю-хрю, — сказал он.
Девочка обернулась. Пожалуй, надо было поздороваться, но он поздоровался в уме, а вслух сказал:
— А пальто где? В школе забыла?
— Извините, — сказала девочка и присела. — Я еще не знаю, что такое «пальто».
Она, конечно, шутила. Любила же Петькина тетка говорить: «Я не знаю, что такое насморк».
— А где ты живешь?
— Нигде.
— А конкретно?
— Извините, — сказала девочка. — Я еще не знаю, что такое «конкретно».
— Между тем пора бы и знать, — рассудительно заметил Петька. — Тебе сколько лет?
— Второй день.
Петька засмеялся. Девочка была беленькая, а ресницы — черные, и каждый раз, когда она взмахивала ими, у Петьки — ух! — куда-то с размаху ухало сердце.
— Теперь я вас хочу спросить, — сказала девочка. — Скажите, пожалуйста, что это за штука?
Она показала на луну.
— Тоже не знаешь?
— Нет.
— Эта штука называется «луна», — сказал Петька. — Ты, случайно, с нее не свалилась?
Девочка покачала головой.
— Нет, я из снега, — серьезно объяснила она. — Вчера ребята слепили снежную бабу. Мимо проходил какой-то старик с бородой. Он посмотрел на меня… то есть не на меня, а на снежную бабу, и сказал сердито: «Ну нет, и без тебя на дворе довольно бабья».
Она рассказывала спокойно, неторопливо, и Петька заметил, что, когда он говорит, изо рта идет пар, а у девочки не идет.
— Мальчишки ушли, а он меня переделал. На голове у меня было дырявое ведро — он его сбросил, в руках швабра — он ее вынул. Он пробормотал: «В этом деле я не специалист», — когда делал прическу. «А теперь устроим ей ножки», — когда устраивал ножки. Я не слышала, потому что меня еще не было, но, наверно, я уже отчасти была, потому что я все-таки слышала. С глазами не получалось! — сказала она с огорчением. — А потом получилось. Вот.
Она взмахнула ресницами, и у Петьки — ух! — куда-то ухнуло сердце.
— Потом он сказал: «А ходить ты будешь легко, потому что я не люблю девочек, которые ходят, как утки». В общем, я получилась у него так хорошо, что открыть глаза и заговорить — это было не так уж и трудно.
— И ты заговорила?
— Не сразу. Сперва вздохнула.
— Что же ты сказала?
— Не помню. Кажется. «Добрый вечер!».
— А он?
— Он? «Ах ты, моя душенька!» — и ушел.
— Странная история, — сказал Петька.
Они были теперь недалеко от Немухина. Впрочем, Петька — то далеко, то близко. У него были длинные ноги, и он, задумавшись, уходил от девочки, а потом спохватывался и возвращался.
По Нескорой всегда плелись нехотя, вразвалку. Такая уж была улица, располагавшая к лени. Немухинский горсовет переименовал ее было в Какпулясовсехногпроносященскую, но из этого ничего не вышло — все сразу начинали плестись, едва сворачивали в нее с Малинового переулка. Но Петька, устроив девочку в дровяном сарае, где было так холодно, что даже дрова покряхтывали, и, чтобы согреться, толкали друг друга боками, действительно пролетел эту улицу как пуля. Дело в том, что на этой улице жил старый Трубочный Мастер. Самыми ценными считаются обкуренные трубки, поэтому в его маленьком домике всегда стоял дым — тот самый, о котором почему-то говорят «дым коромыслом». В этом дыму с трудом можно было различить хозяина, который сидел в кресле, скрестив короткие ножки.
Он очень боялся, что врачи запретят ему курить. На дощечке у ворот вместо «Внимание! Злая собака» было написано: «Внимание! Врачам и даже членам Академии медицинских наук вход запрещен». Всех он спрашивал: «Простите, а вы, случайно, не врач?» Когда Петька влетел к нему, запыхавшись, он тоже начал было: «Простите, а вы, случайно…»
— Дяденька, необыкновенный случай! — закричал Петька. — Морозоустойчивая девчонка!
И он рассказал Трубочному Мастеру о девочке, которая не знает, что такое «пальто», что такое «луна» и что такое «конкретно».
— Любопытно. Возможно, что это просто Снегурочка. Подождем до весны.
— Почему до весны?
— Потому что весной Снегурочки тают.
— Дяденька, — помолчав, сказал Петька, — а нельзя ли, чтобы она все-таки как-нибудь…
— Ну, знаешь, — сказал Трубочный Мастер, — это уж слишком. Ты же сам говоришь, что она из снега.
— Да, дяденька, но все-таки как-нибудь… Ведь есть же на свете, например, вечный лед. Он ведь не тает?
— Лед — нет. А Снегурочки — да.
Старый Мастер, набив в трубку табаку, умял его коротким желтым пальцем, закурил и стал думать. Пуф-пуф! Большие важные кольца дыма стали медленно подниматься в воздух, а за ними — пуф-пуф — покатились мохнатые голубые клубочки. Это значило, что вопрос сложный. Когда Старый Мастер обдумывал несложный вопрос, он просто пускал дым из ноздрей.
— Не знаю, не знаю, — наконец сказал он. — Разве что послать ее в Институт Вечного Льда? Я немного знаком с директором. Он, кстати, сам из бывших Дедов-Морозов.
И он написал: «Уважаемый Павел Георгиевич! Поручаю Вашему вниманию прилагаемую к сему девочку без пальто. По-видимому, морозоустойчива. Есть опасение, что растает к весне. Не хотелось бы». Он отдал записку Петьке.
— Спасибо, дяденька.
Но Мастер уже забыл о нем. Он открыл окно, дым повалил наружу, и соседи, как всегда, испугались, что в поселке пожар, а потом, как всегда, успокоились, вспомнив о Старом Мастере Трубок.
Директор Института Вечного Льда был плотный румяный человек с седеющей бородой и бесформенным носом между розовых щек. О нем говорили: «Хорош, но со странностями». И действительно, странности были. Летом он чувствовал себя не в своей тарелке, а зимой — в своей. Летом был зол и нетерпелив, а зимой — свеж и болтлив. В отпуск он уходил в январе и всегда удивлялся, что его сотрудники предпочитают отдыхать летом. Фамилия его была Тулупов.
— Как-никак это все-таки чудо, — прочитав записочку, сказал он Петьке. — А чудеса надо изучать, потому что это — воздух науки.
И он приказал поместить девочку в холодильник номер один.
Это был самый обыкновенный холодильник — только очень большой. Там, где было написано «Мясо», лежало много мяса, а где «Фрукты» — очень много фруктов и овощей. Над дверью, когда она открывалась, зажигался большой голубой шар, а на стенках внутреннего шкафа был такой толстый иней, что Снегурочка могла бы писать на нем, если бы она умела писать. Для удобства кто-то предложил называть ее И.О. (исполняющая обязанности) Снегурочки, но директор сказал, что это вздор, и девочку стали называть просто Настей.
Но была ли она Снегурочка? — вот вопрос, который интересовал решительно всех, но больше всех, разумеется, ученых. Это было время, когда много писали о Снежном человеке, который будто бы живет в Гималаях, и один из ученых предположил, что Настенька — дальняя родственница этого дикаря, который только и делает, что ходит, оставляя огромные следы на снегу. Другой, много лет изучавший сказку о Золотом Ключике, пытался доказать, что неизвестный старик, вылепивший девочку из снега, не кто иной, как папа Карло, который вырезал Буратино из полена.
Почти каждый день ученые, надев шубы и валенки, отправлялись в холодильник, и Настенька терпеливо рассказывала им свою историю. Ох, как они ей надоели! Особенно один, с синим носом, который то и дело дышал на пальцы и хлопал в ладоши, чтобы согреться. Глаза у него почему-то бегали, но, когда ему говорили об этом, он отвечал, что иногда они бегают даже у великих людей.
Теперь Настенька знала, что такое «пальто», что такое «луна» и что такое «конкретно». В холодильнике у нее был порядок. Все хорошело, едва попадало к ней в руки. Соленое мясо начинало выглядеть свежим, рыба — живой, а на сыре выступали аппетитные слезы. Что касается холода — нечего и говорить. В холодильнике было холодно, как на Северном полюсе или даже как на Южном, потому что на Южном, говорят, еще холоднее.
Плохо было только одно: она очень скучала. Правда, Петька бывал у нее почти каждый день, хотя по арифметике у него была двойка. Но двойка, в конце концов, та же тройка, а до конца четверти было еще далеко!
Они разговаривали. Петя рассказывал Настеньке о своих делах, а она ему — о своих. Он — о том, что у них злющая завуч и что, когда Настенька научится читать, он принесет ей «Таинственный остров», а она — что ей очень скучно. Холодильник зашумит, а ей кажется, что это ветер шумит. Ученые надоели, особенно один с синим носом, который все старается ковырнуть ее пальцем. Луны в холодильнике нет, а ведь говорят, что, кроме луны, есть еще и какое-то солнце? Правда, ученые говорят, что она должна бояться солнца, но ей все-таки хочется на него посмотреть.
Петьке было страшно дотронуться до Настеньки, но он легонько хлопал ее по плечу и говорил:
— Ничего, Настенька, держись!
Потом она говорила ласково:
— Идите, Петенька. Вы замерзли.
Но он сидел, пока ноги у него не становились, как деревяшки.
И вот однажды, нарочно вскочив пораньше, чтобы приготовить уроки (ему хотелось поехать к Настеньке прямо из школы). Петя включил радио и услышал: «Внимание, внимание! Пропала девочка, по имени Настенька, из породы Снегурочек, очень хорошенькая, в ситцевом платье, вежливая, ходит легко. О местонахождении просьба сообщить в Институт Вечного Льда».
Широко известно, что, как только происходит что-нибудь не совсем обыкновенное, сразу же появляются слухи. В тот же день весь город заговорил о том, что некий Персональный Пенсионер, почтеннейший человек со множеством медалей, своими глазами видел девочку в легком платье, которая катилась по улице, как на коньках, а потом — раз! — и взлетела. Не высоко и не из шалости, полагал Персональный Пенсионер, а просто потому, что не могла не взлететь. Его спрашивали: «Почему же все-таки не могла?» Он отвечал, подумав: «Видите ли, она так плавно шла, что положительно не могла не взлететь».
Второй слух касался ласточки, которой надоело каждый год улетать в жаркие страны. Она осталась на зиму в Москве, а в этот день стоял сильный мороз, и нет ничего удивительного в том, что она стала замерзать на лету.
— Падаю, — сказала она и без сомнения упала бы, если бы ее не подхватила девочка в легком платье, хорошенькая и очень вежливая: даже с ласточкой она заговорила на «вы».
— Что с вами?
— Я умираю.
— Я бы положила вас за пазуху, — задумчиво сказала девочка, — но боюсь, что там вам будет еще холоднее.
И с ласточкой в руках она побежала дальше.
Третий слух касался Пекаря, который любил говорить о себе: «Я, как одинокий мужчина…» Он любил похвастаться, а похвастаться было не перед кем — ни жены, ни детей. Так вот этот Пекарь только что вытащил из печки минский хлеб и только что сказал другому пекарю: «Я, как одинокий мужчина…» — когда какая-то девочка легко вбежала в пекарню и сунула ему за пазуху ласточку. А у Пекаря за пазухой, как известно, тепло, как на Юге.
Но самый интересный слух касался Петькиного дяди. Его звали Костя Лапшин, и он как раз в этот день приехал в Москву.
Дядя Костя был хорош тем, что ему до всего было дело. Он только и смотрел, куда бы сунуть свой нос, — это называлось у него поразмяться. Нос, кстати сказать, у него был здоровенный.
Неизвестно, как он узнавал, что кому-нибудь нужно помочь, но узнавал, и почти всегда без ошибки. Только однажды он пришел к старушке, сломавшей ногу, с хитроумным, собственного изобретения костылем и получил этим костылем по шее, потому что ногу сломала другая старушка.
Все у дяди Кости было на своем месте, как вообще у людей, но почему-то казалось, что не на своем. Глаза у него, например, не смотрели в разные стороны, а казалось как раз, что смотрели. Ногами он, кажется, не загребал или не очень, а казалось, что очень. Волосы он причесывал как все люди, а казалось, что они у него стоят дыбом. Он был ученый не хуже того, с синим носом, который дышал на пальцы и прыгал, а на вид он был вроде Снежного человека — во всяком случае, на снегу от него оставались такие же большие следы.
Еще по дороге в Москву он узнал, что пропала девочка из породы Снегурочек, и, конечно, сразу же решил сунуть нос в это дело. Но когда он приехал в Немухин и узнал, что Петька, родной племянник, схватил уже не одну, а четыре двойки, потому что только и думает, как бы ему найти эту девочку, дядя Костя не просто сунул нос в это дело, а нырнул в него с головой.
Когда он узнавал, что нужно кому-нибудь помочь, он прежде всего составлял план: как помочь, чем помочь и что делать, чтобы помочь не на словах, а на деле.
Петьке он тоже предложил план:
1. Поговорить с ласточкой, которую спасла Настенька. У ласточки должны быть знакомства среди птиц, а птицы летают повсюду.
2. Опросить всех московских мороженщиц, потому что Настенька, без сомнения, любит все холодное, в частности эскимо и пломбир. Деньги у нее есть. Пока она жила в холодильнике, считалось, что она как бы в командировке, и Институт Вечного Льда выплачивал ей суточные — два шестьдесят в день.
К сожалению, ласточку найти не удалось, хотя дядя Костя дал объявление в «вечерку»: «Разыскивается единственная ласточка, оставшаяся на зиму в Москве».
Что касается мороженщиц — не было ничего легче, как опросить их, если бы их не было так много. Они стояли на каждом углу и сердились, что мороженое зимой раскупается хуже, чем летом. Все, как одна, они были сердитые, и это до крайности затрудняло задачу. Их, конечно, тоже можно было понять: мало радости стоять в замерзшем, твердом фартуке на улице в лютый мороз и кричать как на смех: «А вот кому мороженого?» — когда и без мороженого ни у кого зуб не попадает на зуб.
Когда Петька и дядя Костя спрашивали у них: «Простите, пожалуйста, не покупала ли у вас эскимо или пломбир девочка, по имени Настенька, сбежавшая из Института Вечного Льда?» — они обычно отвечали: «Пломбира нет», а когда Петька или дядя Костя объясняли, что Настенька не простая девочка, а из породы Снегурочек и что мороженщицы должны принять в ней участие хотя бы по этой причине, они отвечали: «Девочек много».
День за днем так и прошла зима. Дядя Костя хотя и продолжал искать Настеньку, но понемногу начал заниматься своими делами. А Петька начал вздыхать. Сперва он вздыхал два-три раза в день, но чем ближе к весне, тем чаще. Двоек у него больше не было, но он все-таки вздыхал и вздыхал. По вечерам, возвращаясь из школы, он долго стоял у переезда, нарочно дожидаясь, пока стрелочник спустит шлагбаум, — все надеялся, что Настенька мелькнет перед ярким фонарем электрички. Но поезд проходил, наступала тишина, темнота. Вздыхая, Петька, возвращался домой и, вздыхая, садился за книжку.
Нельзя сказать, что он не старался с научной точки зрения объяснить себе, почему он так часто вздыхает. Но наука наукой, а скука скукой.
Ближе к весне начались снегопады. Мягкий, медленный снег падал с утра до вечера, а по ночам снова падал и падал. В поселке он свисал с крыш, на поле не торопясь трудился над сугробами, все старался, чтобы они были помягче, повыше. Петька выходил во двор, и в медленном, плавном кружении снежинок ему все чудилась Настенька, тоненькая, вежливая, в легком платье. Вот она катится, как на коньках, и вдруг взлетает, скрестив стройные ножки. Вот она говорит: «Извините, мальчик» — и приседает, касаясь краешков платья руками.
Снегопады прошли, началась оттепель, а потом — снова метели, теперь уже весенние, мокрые. Тяжелый снег гнался за кем-то, переваливаясь, подгоняемый ветром, и нехотя, мягко валился на землю.
Еще неделя, другая, и больше нельзя ходить в школу на лыжах. Весна! «А весной, — сказал Старый Трубочный Мастер, — Снегурочки тают».
Куда же все-таки девалась Настенька? Ученый с синим носом предположил, что она улетела в холодные страны. Видел же Персональный Пенсионер, как она шла, шла и взлетела!
— Но взлететь — одно, — сказали другие ученые, — а улететь — другое.
Он возразил, что в таком случае она просто ушла, — не ленится же птица коростель каждый год ходить пешком в Африку и обратно.
Спор не затянулся бы надолго, если бы ученые знали, что Настенька всю зиму прожила у Пекаря, того самого, который любил говорить: «Я, как одинокий мужчина…»
Он не очень удивился, когда Настенька сунула ему за пазуху ласточку.
— Позвольте представиться — и Пекарь и печка, — сказал он и пригласил Настеньку к себе выпить чаю с теплым минским хлебом.
Пекарь считал, что на свете много важных дел, но хлеб, если его хорошо испечь, поважнее. В пекарне у него был порядок, а дома — кавардак, о котором он говорил, что по-своему это — тоже порядок. Все же он в душе обрадовался, когда Настенька, недолго думая, взялась за тряпку и швабру.
— Ах ты, моя душенька! — сказал он.
Всем почему-то хотелось называть ее душенькой.
Конечно, ему и в голову не пришло, что Настенька — из Снегурочек, а когда она стала убеждать его, смеялся и долго не верил. Потом поверил, ужаснулся и уж тут оказался на высоте: он поселил ее в такой холодной комнате, что каждый, входя, непременно говорил «бр-р»; на обед он приносил ей что-нибудь холодное — окрошку со льдом или холодец, на третье снежки — есть на свете такое вкусное блюдо.
Когда девочки успевают научиться шить, мыть и прибирать, неизвестно. Но научилась и Настенька, да так, что Пекарь, приходя домой, просто не верил глазам.
Натирая полы, она кружилась и пела, а застилая кровати, учила слова. Некоторые слова казались ей очень странными, и она много раз произносила их, чтобы привыкнуть. «Ненаглядный» — это, оказывается, был не тот, на которого не надо глядеть, а наоборот, очень надо. «Бессонница» — это, оказывается, не значило спать без снов, а наоборот, не спать.
— Вы не можете устроить, чтобы я увидела сон? — попросила она Пекаря. — Со мной этого еще никогда не случалось.
— Ладно, сделаем, — сказал Пекарь.
Конечно, он пошутил, но в ту же ночь она действительно увидела сон, и это было прекрасно. Она не верила, что снег может растаять совсем, до последней снежинки, хотя Петька клялся, что может. Теперь она поверила, потому что увидела лето. Да, очевидно, это было лето. Солнце, которого она ничуть не боялась, стояло низко над полем, и Настенька изо всех сил бежала к нему среди высокой травы. Петька говорил, что солнце закатывается, а ей не хотелось, чтобы оно закатилось. Она бежала, а потом взлетела и подхватила солнце как раз, когда оно уже легло на тонкую линию, разделявшую небо и землю.
Она проснулась и написала Петьке: «Мой ненаглядный». Это значило, что ей очень хотелось на него поглядеть. «Я видела сон». Это значило, что ей снилось лето. «Пекарь любит хлебнуть». Это значило, что Пекарь иногда выпивал. «Я тебя люблю». Это значило, что она его любит. «Приходи. Твоя Настя».
Ей хотелось попросить ласточку слетать к Петьке с этим письмом, но она не решилась: стояли морозы.
Так она и жила у Пекаря день за днем, неделя за неделей.
Молодая зима стала пожилой, а потом и старой — не то что в декабре, когда она была еще совсем девчонкой. Уже апрель был на носу, когда однажды, прибирая квартиру, Настенька услышала, как в переулке кричит точильщик. А у Пекаря как раз затупились ножи.
На этот раз чужое дело, которым занялся дядя Костя, касалось Старого Мастера — у него сломался станок для вытачивания трубок из виноградного корня.
С утра дядя Костя таскал по мастерским этот станок, расспрашивал мимоходом, не видел ли кто-нибудь вежливую девочку в ситцевом платье, сбежавшую из Института Вечного Льда.
День был весенний, конец марта. Кое-где лежал еще снег, но уже почерневший, хрупкий. Дядю Костю принимали за точильщика, и это ему так нравилось, что он с трудом удерживался, чтобы не закричать: «А вот, кому точить ножи, ножницы?» В конце концов он не удержался, закричал. И тут произошло то, что иногда происходит в сказках: девочка лет двенадцати выглянула из окна и закричала: «Точильщик!»
Почему-то он сразу подумал, что это Настенька, хотя невозможно было вообразить, что Настенька, как обыкновенная девочка, живет в обыкновенном доме. Но все-таки это была она! Кто же еще мог выйти из дома с большим китайским зонтиком, который, как известно, защищает не от дождя, а от солнца! Кто же еще мог так вежливо спросить:
— Извините, но вы, кажется, совсем не точильщик?
— Конечно, нет! — весело сказал дядя Костя. — Это я просто в шутку кричал. А ведь правда здорово получилось? Извините, а вы случайно не Настенька?
Настенька кивнула.
— Не может быть! — закричал дядя Костя. — Какое счастье! Боже мой милостивый, да ведь мы с Петькой ищем вас целую зиму.
Она засмеялась.
— Так вы дядя Костя? — спросила она, и между ними начался длинный вежливый разговор — длинный, потому что вежливый, а вежливый, потому что длинный.
Почти каждая фраза начиналась: «Простите, а не думаете ли вы?» Или: «Извините, а не кажется ли вам?» Но вот они договорились до Петьки, и дело пошло веселее.
— Извините, а как сейчас Петя?
— Помилуйте, да он просто места себе не находит. Он очень боится, чтобы вы… как бы сказать… Мне это кажется странным… Он боится, как бы вы…
— А почему вам это кажется странным?
— Ну как же! Нельзя же все-таки! — волнуясь, сказал дядя Костя. — Существуют холодильники, очень хорошие. Еще вчера я читал, что выпущен новый, кажется, «Юность».
Настенька покачала головой.
— Вы даже не можете себе представить, что это за скука! Мертвая рыба лежит, а мне ее жалко; ученые приходят в шубах и валенках, а я их боюсь. Нет, нет! Лучше растаять. Если бы не Пекарь — это мой хозяин, — я бы давно растаяла. Я у него всю зиму провела. А теперь он меня отхлопотал до апреля.
— Отхлопотал?
— Да. В Министерство ходил. Но, знаете, как это было трудно! Только потому и удалось, что он очень влиятельный Пекарь. Он сейчас уехал в Минск. Там живет гроссмейстер по выпечке хлеба, и будет состязание. Но все равно мой хозяин его победит, потому что минский хлеб он печет лучше всех в Советском Союзе.
— Позвольте, как же так? — спросил дядя Костя. — Вы сказали — до апреля? Но до апреля осталось только несколько дней.
Настенька вздохнула.
— Разве? Ах, да. Простите, не можете ли вы передать Петеньке письмо? Я ему написала, что видела сон, что Пекарь любит хлебнуть и что он мой ненаглядный. Не Пекарь, конечно, а Петя.
Снегурочками, снежными бабами, снежными вершинами занималось Министерство Вьюг и Метелей. Это дядя Костя выяснил точно. Петька едва ли мог ему пригодиться. В лучшем случае, он рассказал бы, как скучает без Настеньки и как ему хочется почитать ей «Таинственный остров». Для Министерства Вьюг и Метелей подобные доводы не имели значения. Поэтому дядя Костя послал Петьку к Настеньке, а сам отправился на прием. Он надел свой лучший костюм и добрых полчаса простоял перед зеркалом, стараясь, чтобы все у него было, как у людей: глаза не смотрели в разные стороны, а волосы не торчали дыбом.
Насчет ног он тоже постарался, чтобы они не очень загребали и чтобы от них, по меньшей мере, не оставались такие большие следы.
Ну и холодно же было в Министерстве Вьюг и Метелей! Сотрудники безучастно смотрели на посетителей. Те, у которых был искренний, симпатичный взгляд, носили темные снеговые очки, чтобы никто не заметил, что они, в сущности, сердечные люди. От них, что называется, веяло холодом. И хотя это был не тот холод, от которого кутаются и одевают шубы, дядя Костя, войдя в Министерство, почувствовал, что у него зуб не попадает на зуб.
— Да… Снегурочка… очень любопытно! Желаю успеха, — выслушав его, нетерпеливо сказал Старший Советник. — Но мы, к сожалению, ничем не можем помочь.
— Извините, но ведь речь идет только о продлении срока. Ну, скажем, до осени.
— Знаем мы эти продления! Сперва до осени, потом до зимы, а зимой… Нет, нет, не могу. И потом, хотите выслушать совет опытного человека? Не связывайтесь. У нее нет ни паспорта, ни свидетельства о рождении. Она числится давно растаявшей, и то, что она сидит где-то под зонтиком, вообще бесмыслица, противоречащая всем законам природы.
— Природу следует исправлять, если это возможно.
— В данном случае это невозможно. Обратитесь в Министерство «Арктических Вьюг и Метелей» может быть, там заинтересуются этим вопросом.
Целый час дядя Костя упрямо доказывал, что Настенька вовсе не бессмыслица, а как раз наоборот — чудо природы. Все было напрасно. Он ушел расстроенный, не заботясь больше ни о глазах, которые смотрели в разные стороны, ни о ногах, которыми он нарочно загребал изо всей силы.
Дядя Костя был умный, даром что всю жизнь занимался чужими делами. «Если уж в Министерстве Вьюг и Метелей дело вышло табак, — подумал он, — чего же ждать от Министерства Арктических Вьюг и Метелей?»
И он поехал в Институт Вечного Льда.
Это была уже не зима, когда Тулупов чувствовал себя в своей тарелке, но еще и не лето, когда он чувствовал себя не в своей. Приближалась весна, и хотя он погрустнел, помрачнел, но крепкий бесформенный нос еще бодро торчал картошкой между розовых щек.
— Не может быть! Нашлась! — так же, как дядя Костя, закричал он. — Какое счастье! Где она?
— Дома.
— Как дома? Надо немедленно отправить ее в холодильник.
— Вы понимаете, — волнуясь, сказал дядя Костя, — она говорит, что в холодильнике скука.
Тулупов обиделся.
— Что значит — скука? — холодно спросил он. — У нас лучшие холодильники в мире. Свежая курица сохраняет свежесть в течение пятнадцати лет.
Дядя Костя хотел сказать: «То курица», но вовремя удержался.
— В таком случае извините, — сказал Тулупов (он становился все холоднее), — ничем не могу помочь.
Дядя Костя замолчал. Все у него разъехалось от огорчения. Глаза уже смотрели в разные стороны, а ноги, даром что он сидел, стали заходить одна за другую. Тулупов посмотрел на него и смягчился.
— Ладно, куда ни шло, — вдруг сказал он. — Поехали.
— Куда?
— В Министерство. Не думайте, что из-за вашей Настеньки. Они там такое напутали с мартовскими метелями, что сам черт голову сломит.
Что случилось с мартовскими метелями, этого дядя Костя так и не понял, хотя Тулупов дорогой старался объяснить ему, что к ним нужен умелый подход, а в Министерстве считают, что они должны начинаться только с ведома и согласия начальства.
Очевидно, именно об этом шел громкий разговор, доносившийся из-за двери кабинета министра, — дядя Костя ждал Тулупова в приемной. Потом послышался смех, и еще через несколько минут Тулупов вышел в приемную с подписанным приказом. Вот он:
«Пункт 1. Разрешаю с 1-го апреля 1970 года считать Снегурочку, сбежавшую из Института Вечного Льда, самой обыкновенной девочкой без особых примет.
Пункт 2. Имя, отчество, фамилия: Снежкова Анастасия Павловна. Время и место рождения: поселок Немухин, 1970 год.
Социальное положение: служащая.
Отношение к воинской повинности: не подлежит».
— А почему Снежкова? — спросил дядя Костя.
— Их всех выписывают Снежковыми. Ну, а как еще? Снегурочкина? Если ей не понравится, переделаем. Но ведь она же все равно со временем замуж выйдет.
— А почему служащая?
— Поправим, если хотите. Домашняя хозяйка?
— Нет уж, пускай служащая. А почему Павловна?
— Это я виноват, — немного смутившись, ответил Тулупов. — Но ведь, в сущности, они все мои дети. Другое нехорошо.
— А именно?
— Долго объяснять. Пошли к секретарю, может быть, он не заметит.
Но секретарь заметил, даром что он был в снеговых очках. Внимательно прочитав приказ, он вернул его Тулупову.
— Не выйдет, — холодно сказал он.
— Почему? Ведь министр подписал.
— Да. Очевидно, забыл, что Снежные Красавицы еще не цветут.
— Ничего не понимаю. Объясните, пожалуйста, — попросил дядя Костя.
— Да что там, чиновники проклятые, — отводя его в сторону, проворчал Тулупов. — Вы понимаете, к таким приказам вместо печати прикалывается веточка Снежной Красавицы. А сейчас середина марта, и она еще не цветет. Послушайте, а может быть, веточку можно нарисовать? — повернувшись к секретарю, попросил он. — У меня в институте один парень рисует что твой Репин. Как живая будет.
— Вы же на основании этого приказа будете метрику хлопотать?
— Да.
— Ну вот. Милиция не позволит.
Секретарь снял очки, зажмурился от света и поманил Тулупова поближе. У него был симпатичный взгляд, и сразу стало ясно, что снеговые очки он носит просто для приличия.
— Попробуйте наведаться к Башлыкову, — оглянувшись по сторонам, тихо сказал он. — Он всю жизнь возится со снежными деревьями. Может быть, он вам поможет.
— Какой Башлыков?
— Из Отдела Узоров на Оконном Стекле.
— Он же на пенсии.
— Вот об этом с ним как раз не стоит разговаривать, — улыбнувшись, сказал секретарь. — О чем угодно, кроме пенсии. А то вы получите не снежное дерево, а фиговое. Вообще к нему стоит заглянуть, у него сад прекрасный.
Он надел снеговые очки и, чтобы все его пугались, свирепо выдвинул нижнюю челюсть.
— Понятно, — сказал Тулупов. — Пошли.
Тут произошли два события одинаково важных. Во-первых, выходя из Министерства, дядя Костя оступился и сильно подвернул левую ногу. Во-вторых, случилось то, чего никто не ожидал, кроме Тулупова, утверждавшего, что в Министерстве напутали с мартовскими метелями: по радио сообщили, что завтра начнется сильный шквал. О шквалах обычно не сообщают, а тут не только сообщили, но и посоветовали: птицам сидеть по гнездам, а милиционерам привязать к ногам что-нибудь тяжелое, потому что они, как известно, не могут уйти с поста даже в самую плохую погоду.
Пока дядя Костя хлопотал о Настеньке, Петька читал ей «Таинственный остров». Слушая, она штопала что-нибудь или шила. В интересных местах она поднимала глаза, взмахивала ресницами, и у Петьки — ух! — с размаху куда-то ухало сердце.
Они ходили в магазины, и на солнечной стороне Петька держал над Настенькой китайский зонтик. Она говорила: «Петенька, я сама», но держал всетаки он — просто потому, что это было приятно.
Они разговаривали. Настенька рассказала ему свой сон, и Петька сказал, что ей еще повезло: он лично никогда не видит снов.
— Но, с научной точки зрения, — объяснил он, — люди, которые видят сны, почти ничем не отличаются от людей, которые их не видят.
Потом Настенька рассказала о Пекаре, как он заботится о ней, не топит в ее комнате, а по вечерам заставляет принимать ледяную ванну.
— Главное, чтобы душа была горячая, — говорил он, — а прочее — кино. Вот ты вроде прохладная, а от тебя в доме тепло. В чем же дело?
Когда он хотел похвалить что-нибудь, он говорил: «Рояль». «Ух, я сегодня кренделя выдал! Рояль!»
Так они сидели и разговаривали, когда дядя Костя вошел, сильно хромая, и плюхнулся в кресло.
— Беда, братцы, подвернул ногу.
Пока Настенька бегала за полотенцем и холодной водой, он разулся и долго горестно рассматривал распухшую ногу.
— Раз, два, три, — сказал он и сунул ногу в ведро с холодной водой. — Вот что, Петя, есть на свете такой — ох! — Башлыков из Отдела Узоров на Оконном Стекле. Ты немедленно — ох! — поедешь к нему и передашь это письмо. Но ни слова о пенсии. Ни слова! Если уж очень захочется сказать «пенси-я», говори что-нибудь другое на «пе»… «пекарня» или «пе-нал». Понятно?
Петя жил в Немухине, а Башлыков — в Мухине по той же Киевской железной дороге.
Можно было ожидать, что в его саду Снежные Красавицы стоят рядами, поднимая свои крупные белые чашечки среди зубчатых листьев. Ничуть не бывало! В самом обыкновенном палисаднике его встретил старичок с сиреневой сливой-носом. Уже по этому носу было видно, что с ним лучше не говорить о пенсии.
— Здравствуйте, дяденька, — сказал Петька, чувствуя, что ему до смерти хочется спросить, какая у старика пенсия — по нетрудоспособности или за выслугу лет. — Меня просили передать это письмо.
Башлыков прочитал письмо.
— Так-с, — задумчиво сказал он. — Хорошая девочка?
— Очень.
— Из Снегурочек?
— Да. Но все равно жалко. Она говорит — интересно.
— Что именно?
— Вообще жить. Она говорит, что даже просто дышать и то интересно. Другие не думают, верно? Дышат и дышат. А ей интересно.
— Еще бы, — сказал Башлыков. — Даже мне интересно.
— А в Министерстве, между прочим, без вас совершенно запутались среди узоров на оконном стекле, — сказал Петька. — Даже странно, говорят, без Башлыкова ни на шаг. Вот уж не думали.
Старичок засмеялся, усадил Петьку, разлил пиво, достал телятину и стал рассказывать, как он превосходно живет. Времени сколько угодно, и он даже стал учиться на виолончели, потому что это инструмент, на котором можно, почти не умея играть, тем не менее играть очень прилично. Языки его тоже интересуют, особенно испанский, который по упрощенному методу можно, говорят, изучить в две недели. Петьке опять захотелось спросить его насчет пенсии, но он, понятно, не стал, а чтобы расхотелось, сказал в уме несколько раз: «Пе-рекладина, пер-пендикуляр, перемена».
— Дяденька, так как же? — спросил он.
Башлыков подумал.
— Для Снежной Красавицы, конечно, рановато, — сказал он, — но, как говорится, будем посмотреть! — Он поднял вверх сухонький палец и повторил хвастливо: — Да-с, будем посмотреть!
И, выйдя в соседнюю комнату, он вернулся через несколько минут с веткой Снежной Красавицы.
Это была самая обыкновенная Снежная Красавица, но ведь, когда смотришь на нее, всегда кажется, что это дерево может расти только в сказках. Академик Глазенап, например, давно доказал, что оно как две капли воды похоже на невесту в подвенечном уборе. Но еще больше оно похоже на невесту, которая наклонилась, чтобы поправить свой подвенечный убор, и выпрямилась, блестя глазами и раскрасневшись.
Раскрывающиеся трубочки цветка осторожно откидываются назад, а розовые пестики покрыты одним из самых изящных узоров, вышитым Дедом-Морозом в незапамятные времена.
— Вот-с, — сказал Башлыков с гордостью. — Какова?
Петя сказал, что красивее этой веточки он ничего в жизни не видел.
— Да-с, и притом — единственная. И не только единственная. Первая в Советском Союзе.
Осторожно держа перед собой приказ с приколотой к нему веточкой, Петя вышел от Башлыкова. С вокзала он пошел пешком — боялся, что приказ изомнут в метро. Он шел неторопливо, но, подойдя к пекарне, не выдержал, ринулся через улицу наискосок и еще поддал, увидев Настеньку, сидевшую во дворе под китайским зонтиком, с книгой на коленях.
Она была в светло-желтом платье, лежавшем ровным кругом на земле, точно она сперва покружилась, а потом села, как это сделала бы девочка, впервые надевшая длинное платье. Если бы кому-нибудь пришла в голову мысль посмотреть на нее сверху, он увидел бы только два светлых круга — зонтика и платья.
Теперь все было уже так хорошо, что лучше, кажется, некуда. С приказом в руке Петька подошел к Настеньке. И вот тут случилось то, о чем накануне сообщили по радио: налетел шквал.
Без сомнения, это был шквал, не предусмотренный Министерством Вьюг и Метелей, которое считало, что шквалы должны держаться в пределах. В пригородах он сорвал восемнадцать крыш, хотя на четырнадцати из них были предусмотрительно навалены кирпичи, старые железные кровати и прочая рухлядь. В Немухине он забросил на колокольню двух козочек, которые очень удивились, увидев свой поселок с высоты — им всегда казалось, что они живут в одном из самых красивых мест на земле. Он сорвал вывеску с пивного зала на Кадашевской набережной и перенес ее на сберкассу, так что всем идущим в пивной зал захотелось положить свои сбережения на книжку, а всем идущим в сберкассу захотелось выпить.
Но, конечно, самое недопустимое заключалось в том, что он вырвал из Петькиных рук приказ, а у Настеньки — китайский зонтик. Приказ он отправил в небо над Колокольней Ивана Великого, а зонтик — тоже в небо, но над шпилем многоэтажного дома на Смоленской.
Трудно сказать, что было страшней для Настеньки. Правда, веточка была теперь приколота к приказу, но ведь он еще не был ей вручен!
Очевидно, не было другого выхода, как сломя голову ринуться за приказом, не спуская с него глаз и надеясь, что, согласно законам природы, он где-нибудь да опустится на землю.
И Петька побежал, натыкаясь на москвичей, которые тоже бежали в метро, на работу, в магазины.
Приказ плыл, как журавль, в нежном мартовском небе. Оглянувшись, Петька заметил с беспокойством, что Настенька бежит за ним, да еще по солнечной стороне, без зонтика. Она тоже оглянулась в эту минуту и тоже с беспокойством, потому что за ней, ковыляя, охая и странно закидывая больную ногу, бежал дядя Костя.
— Прилетит! — кричал он. — Никуда не денется! Приказ, он свое место знает! Ага, что я говорил! — еще громче закричал он, увидев, что приказ плавно опускается на крышу многоэтажки. — Давай, милый, давай! Планируй!
Но, взлетая то вверх, то вниз, качаясь и кувыркаясь, приказ вдруг, здорово живешь, угодил прямо в дымовую трубу! Это видела вся Москва и, уж конечно, Настенька и Петя. Добежав до Арбатской площади, они остановились и в отчаянии посмотрели друг на друга.
Вот тут произошло еще одно событие, если не самое удивительное из всех, так уж во всяком случае самое приятное: пробежав добрых три километра под теплым весенним солнцем, Настенька не растаяла. Она запыхалась, разгорячилась, раскраснелась — все, кажется, одно к одному! Но вот не растаяла же!
И дядя Костя, доковыляв до них, догадался, в чем дело. Он поцеловал Настеньку, закричал, как Пекарь: «Рояль!» — и заплакал. И Настенька заплакала.
— Обними же ее, дубина! — сказал дядя Костя Петьке. От волнения он забыл о вежливости.
Стесняясь, Петька обнял Настеньку и на губах почувствовал вкус ее слез. Как известно, у людей слезы соленые, а у Снегурочек — пресные, вкуса талой воды. Настенька плакала, и слезы становились все солонее. Это значило, конечно, что она постепенно превращается в самую обыкновенную девочку без особых примет.
В чем же все-таки было дело? Ученый с синим носом предположил, что Настенька все-таки растаяла, а когда ему сказали: «Вот же, перед вами девочка!» — он ответил, как мороженщицы:
— Девочек много.
Другой ученый, тоже талантливый, объявил, что уж кто-кто, а он прекрасно понимает сущность вопроса.
— Она просто привыкла, — объявил он, подразумевая под этим словом, что Настенька привыкла быть человеком, а ведь всем известно, как трудно освободиться от привычки, даже очень хорошей.
Но дядя Костя думал иначе: «Нужна она была нам всем, вот и не растаяла, — решил он. — Каково было бы без нее, скажем, Пекарю? Или ласточке? Или мне, не говоря уж о Петьке? Кто говорил бы ему: мой ненаглядный! А приказ, что ж приказ! Возьмем копию, теперь, слава богу, торопиться некуда. Подождем, пока Снежная Красавица расцветет, и приколем не одну, а сразу две веточки».
Трудно сказать, кто из них прав. Как-никак был первый подобный случай в природе.
Дяде Косте давно пора было уезжать; ведь он все-таки в командировке занимался чужими делами. Но прежде надо было получить для Настеньки свидетельство о рождении и устроить ее в школу для взрослых, чтобы она могла работать у Пекаря и учиться. К Башлыкову просто необходимо было заглянуть хоть на полчаса — проститься и оставить что-нибудь на память. А ведь это очень трудно — купить подарок мужчине, изучающему испанский язык и прилично играющему на виолончели.
Наконец надо было дождаться Пекаря хотя бы просто для того, чтобы познакомиться с известным мастером спорта, любившим говорить о себе: «Я, как одинокий мужчина…»
Все это было сделано, и с блеском. Свидетельство о рождении, например, было написано красивыми буквами, напоминавшими ледяные кристаллы. Башлыков принял всех троих — дядю Костю, Настеньку и Петьку, сыграл им на виолончели и сказал по-испански: «Salud». Разумеется, о пенсии не было сказано ни слова.
Втроем же они встретили Пекаря, который победил минского гроссмейстера и вернулся в отличном настроении. Он привез Настеньке в подарок огромный складной полотняный зонтик, под которым художники рисуют в любую погоду, и от души обрадовался, узнав, что зонтик больше не нужен.
Все, кому помогал дядя Костя, пришли провожать его — на перроне положительно нельзя было протолкаться. Здесь были Тулупов, Башлыков, Трубочный Мастер, Пекарь, Настенька, Петя — и среди людей, кстати сказать, прыгал Грач, которого дядя Костя устроил в Доме Отдыха Престарелых Грачей.
Старый Трубочный Мастер притащил ему трубку, которую он обкуривал три года, а Пекарь — такой душистый минский хлеб, что все спрашивали друг друга: «Чем это так прекрасно пахнет?»
Дядю Костю хлопали по спине и целовали. Еле живой, он влез в вагон и, утвердившись у окна, стал снова прощаться с друзьями.
— Приезжайте! — кричал он. — Приезжайте все! И Грач приезжай. И ты, старушка, которой я сделал костыль. Ничего, что ты меня побила!
Поезд пошел, сперва медленно, потом все быстрее, и, высунувшись из окна, дядя Костя увидел две тоненькие фигурки, которые отделились от толпы провожающих и побежали за поездом, размахивая платочками и крича: «Дя-дя Ко-стя!» Это были, конечно, Настенька и Петя.
Стараясь не задевать соседей ногами, дядя Костя полез на верхнюю полку, разделся, улегся и стал думать.
Он вспомнил, что старушка побила его не в Москве, а в Новосибирске, и не теперь, а давно, два года тому назад, — и долго смеялся, натянув на себя одеяло. О Настеньке он все еще беспокоился. «Надо бы, собственно, взять ее с собой, — подумал он. — Ездили бы мы с ней в город Снежное, Снежнянского района, снегирей купили бы. Хотя снегири тут, кажется, ни при чем».
Колеса стучали успокоительно, весело и тоже все про снегирей, снегопады, снежных коз, живущих на снежных вершинах.
А Петька, проводив Настеньку, вернулся в Немухин и стал ее рисовать. Сперва на бумаге появились два светлых круга. Это были зонтик, платье и тоненькие руки с книгой, опустившиеся на колени. В легком летнем платье, она сидела одна в открытом поле зимой. Везде были сугробы — молодые, мягкие, отбрасывающие пепельные тени, и старые, сердитые, с колючими кромками, над которыми кружились дымки.
Потом он нарисовал ее спящей. Она лежала на лугу летом, подложив ладонь под щеку, опустив нежные овалы ресниц, и солнце, которого она больше не боялась, золотило волосы, разделенные полоской пробора.
Обсуждаем третью сказку и сочиняем четвертую
— конечно, человек, который ходит зимой с зонтиком, да еще и в ясную погоду, — Николай Андреевич Заботкин, — сказал Петя, когда мы прочли рукопись, найденную в деревянном телефоне. — Пекарь, кстати сказать, переехал в Немухин, заведует Новой Пекарней, и именно по его плану был выпечен хлеб с хрустящей корочкой. Но дядя-то Костя!
И Петя покатился со смеху.
— Действительно, у него все на своем месте, а кажется, что не на своем. И глаза не смотрят в разные стороны, а кажется, что смотрят. Волосы он причесывает как все люди, а кажется, что они стоят дыбом. Между прочим… Петя помолчал.
— Мы не станем скрывать от него эту историю?
— Разумеется, нет!
— Но как вы думаете, он не обидится?
— А я заменю эти строчки какими-нибудь другими. Например: все у дяди Кости было на своем месте, и только казалось, что не на своем. Глаза не смотрели в разные стороны, и глубоко ошибался тот, кто подумал бы, что смотрели. Походка у него была неторопливая, плавная, а волосы никогда не стояли дыбом, как это иногда случается у пожилых людей.
— Прекрасно! — закричал Петя. — Кстати, Настенька теперь работает в Институте Вечного Льда.
— Ну что ж! Где еще и работать бывшей Снегурочке.
Петя покраснел.
— Как сказать! Это я ее убедил.
— Ты с ней встречаешься? Сильнее покраснеть было невозможно, но Пете, кажется, это удалось.
— Да. У Тулупова. Он, между прочим, ее удочерил, так что она теперь Тулупова, а не Снежкова. А я бываю у них потому, что мне тоже хочется стать гляциологом. Это наука о свойствах природного льда. И насчет Башлыкова Нил Сократыч напутал. На пенсии он тогда еще не был, так что мне не нужно было говорить ему вместо «пенсия» — «пекарня» или «пенал». Но почему Нил Сократыч ни словом не упомянул о Заботкиных? Они тоже нам помогли, в особенности Николай Андреевич. Вы с ними знакомы?
— Нет, но знаю о них довольно много.
— А хотите познакомиться?
— Еще бы!
— Прекрасно! Я сейчас пойду к Марии Павловне в Институт Красоты и спрошу, можно ли заглянуть к ним вечерком. Идет?
Я уже знал, что Николай Андреевич любит называть завтрак ужином, а ужин — обедом. Мы, по-видимому, пришли к завтраку. Мария Павловна и Николай Андреевич только что вернулись с работы. Впрочем, стол был уже накрыт: хозяйничала Таня, которая теперь училась в Консерватории, так что Нил Сократыч хотя, без сомнения, узнал бы ее, но с трудом.
На ужин были поданы сосиски, как будто нарочно для того, чтобы напомнить о том, как Мария Павловна побежала за баночкой горчицы и исчезла.
Я рассказал о своих находках, и всем стало казаться, что Нил Сократыч сидит за столом и пишет очередную сказку вместо корреспонденции в журнал «Новости науки и техники». Потом разговор зашел о бывшем Директоре Музея Луке Лукиче, и Николай Андреевич сказал, что в городе о нем говорили, что хоть он и Мыло, но может куда угодно пролезть без мыла.
— Между прочим, я уверен, что он связан с нечистой силой, — сказал Николай Андреевич.
Я спросил, почему он так думает, и в ответ все Заботкины, стараясь не перебивать друг друга, стали рассказывать о каком-то Юре Ларине, который прятался у них на чердаке, об учителе географии Павле Степановиче Неломахине и, как ни странно, о какой-то летающей шубе. Но когда рассказ дошел до поездки немухинских школьников в старые русские города, Заботкины одновременно замолчали.
— А что было дальше, — сказала Мария Павловна, — расскажет вам Петя.
Нельзя сказать, что Петя был особенно разговорчив. Почти каждую фразу он начинал со словечка «ну».
— Ну, приехали мы в Хлебников. Ну, этот Лука Лукич потребовал, чтобы его называли Мэром. Ну, пошли мы в Мастерскую Игральных Карт, не мы, конечно, а Павел Степанович. Ну, оказалось, что этот Мэр посадил в своем саду волшебные палочки. Ну, вызвал он Павла Степановича на дуэль.
— На дуэль?
— И если бы не Иван Игнатьевич…
— Кто, кто?
— Ну, старый резчик игральных карт. У него, между прочим, на фасаде дома вырезана вся колода от двойки до туза.
Словом, я ничего не понял и на другой день отправился к учителю географии Неломахину, о котором, кстати, надо предварительно сказать несколько слов.
Это был единственный в Советском Союзе Международный Гроссмейстер по спасению людей, зверей и полезных ископаемых. И он действительно заслужил это звание. Ему ничего не стоило распутать паутину, в которую попала рассеянная бабочка. Его прекрасно знали в окрестных лесах. Маленькие лоси почему-то часто ломали ноги, и он бинтовал ноги и даже иногда накладывал гипсовые повязки. О людях нечего и говорить! Немухинка, на вид такая скромная и добродушная, была довольно коварной речкой: два-три раза за лето в ней непременно кто-нибудь тонул. И днем ли, ночью ли — Павел Степанович первый бросался в воду.
За домашнюю или классную работу, так же как и за ответ у доски, он ставил, как это ни странно, двойку, если не находил возможным поставить тройку.
Он не ходил, как это делали другие учителя, с маленькими счетами в кармане и не высчитывал, повлияет ли очередная двойка на общий процент успеваемости в школе.
Короче говоря, если бы не его слава Международного Гроссмейстера, все эти двойки вместо троек и четверки вместо пятерок едва ли прошли бы ему даром…
Итак, от Заботкиных я пошел к Павлу Степановичу и прежде всего убедился, что в нем (по меньшей мере, на первый взгляд) ничего необыкновенного нет. Для Международного Гроссмейстера он держался скромно. Прежде чем ответить на любой вопрос, он задумчиво поглаживал свою начинавшую седеть бородку. Кстати, бородка была аккуратная, круглая и хотя скромная, но как бы незаметно участвовавшая во всем, что делал и говорил ее хозяин. Только одно удивило меня в его маленькой квартире: везде стояли или висели на стенах песочные — большие и маленькие, в металлической и деревянной оправе — часы, и каждые часы можно было перевернуть, чтобы посмотреть, как красиво пересыпается из верхней части в нижнюю тоненький золотистый песок. Словом, кабинет был похож на часовую мастерскую с той разницей, что время здесь не летело сломя голову, а струилось медленно, бесшумно и только тогда, когда это разрешал ему неторопливый человек с аккуратной бородкой. Я спросил Павла Степановича, собирает ли он коллекцию песочных часов, и у него стало грустное лицо, когда, погладив бороду, он ответил:
— Нет. Но они напоминают мне… Впрочем, об этом в другой раз.
И он неторопливо, подробно рассказал мне о том, что происходило в Хлебникове, а потом вдруг перевернул песочные часы, стоявшие у него на столе, и как бы мельком взглянул на лежавшую под лампой груду школьных тетрадей. Нельзя сказать, что я очень догадливый человек, однако понял, что пора уходить. И ушел, но не в гостиницу, а к сестрам Фе-тяска, которые на этот раз повторили свой рассказ, перебивая друг друга.
И не раз еще я ходил к Пете, к Заботкиным, снова к сестрам Фетяска, снова к Павлу Степановичу, пока не решился рассказать вам то, что они мне рассказали. При этом я, как говорят ученые, помножил знание на воображение. Беда была только в названии — ведь никто не находил эту историю ни в подзорной трубе, ни в музыкальной табакерке. Но зато в ней часто повторялось слово, придуманное Юрой Лариным, и ничего не оставалось, как назвать ее просто
СИЛЬВАНТ
Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев.
Ю. Олеша
Авиашуба
Говорят: «Не всякому слуху верь» — и это действительно был слух, которому почти никто не поверил. Да и в самом деле, могло ли быть, чтобы дежурный пожарный, под утро задремавший на своей каланче, вдруг проснулся, потому что над каланчой пролетела шуба? Более того: он утверждал, что шуба проделала иммельман — так называется одна из фигур высшего пилотажа, и тогда из нее выпал не то медвежонок, не то козленок, который бухнулся в сугроб, отряхнулся и опрометью побежал по Нескорой.
Надо сказать, что в Немухине привыкли к чудесам. Ну шуба. Ну пролетела, хотя шубам, вообще говоря, летать не положено. Ну вывалился из нее медвежонок — куда в таком случае он девался? Просто пожарный задремал к утру, а так как он лет сорок тому назад был летчиком, вот ему и померещился иммельман, потому что, если на худой конец шуба и пролетела над каланчой, едва ли ей удалось бы сделать иммельман, а потом принять нормальное положение.
Так или иначе, уже через два-три дня об этой истории забыли, тем более что у Марьи Павловны Заботкиной, директора Института красоты, — подумать только! — через четырнадцать лет после дочки Тани родился мальчик, которого назвали Славой. Разумеется, и в этом не было ничего особенного. Но Заботкиных любили. Вот почему едва ли не в каждом доме был поставлен на обсуждение интересный вопрос: как они вчетвером будут жить в двухкомнатной квартире? Конечно, другой архитектор на месте Николая Андреевича давно бы словчил, построив себе загородный дом или прибрав к рукам какой-нибудь жилищный кооператив побогаче. Но, во-первых, он был один из благороднейших людей не только в Немухине, но и в области, а во-вторых, одна из квартир только и ждала, чтобы ее обменяли.
Впрочем, это была даже не квартира, а целый особняк, с множеством пристроек, в котором некогда жил не то архиерей, не то сам губернатор. Теперь его занимали сестры Фетяска — фамилия, заставлявшая предполагать, что они были родом из Румынии. Фекла Никитишна хозяйничала, а Зоя Никитишна с утра до вечера раскладывала пасьянсы. Обе были страстные любительницы кофе, но не какого-нибудь, а настоящего турецкого, который варился в сужающихся кверху медных кастрюльках с длинными ручками и над которым, прежде чем снять его с огня, надо было произнести мусульманское заклинание.
Вот на какой дом собирались Заботкины менять свою уютную двухкомнатную квартиру. И это было сделано буквально в течение двух дней: Николай Андреевич получил нечто вроде пятиугольного салона, который он немедленно превратил в архитектурную мастерскую. Тане досталась так называемая гардеробная — в ней причудливо смешивались запахи нафталина и кофе. Зала с итальянскими окнами, выходившая на речку Немухинку, была отведена под столовую, а большая комната, напоминавшая фонарь, превратилась в детскую. По-видимому, она и была задумана как фонарь с разноцветными стеклами, так что в солнечный день казалось, что плывущие в воздухе желтый, сиреневый, красный и синий цвета бесшумно ссорятся между собой: каждому хотелось освещать колыбельку. Словом, все были довольны, и в особенности Мария Павловна, которая каким-то чудом существовала во всех четырех комнатах одновременно.
Что касается чердака… Почти до самой крыши он был набит разным хламом, от которого сестры Фетяска рады были отделаться, и отделались, упросив мягкосердечных Заботкиных распорядиться им по-своему: «предать огню», как они старомодно выразились, или продать какому-то татарину-старьевщику, который давно скончался и существовал только в их воображении.
Маленькие загадки
Встречаются в жизни маленькие загадки, на которые решительно не стоит обращать внимания. Тане показалось, что кто-то ночью погладил ее по лбу мягкой лапкой. Так что же? Это могло померещиться ей или просто присниться.
Кто-то выпил молоко, которое Мария Павловна налила в блюдечко для Тюпы — так звали розового, интеллигентного заботкинского кота, который не стал бы врать и жаловаться, если бы это было не так. А он, между прочим, жаловался — по крайней мере именно так можно было понять его обиженное мурлыканье. Причем это случилось не раз и не два.
Однажды под утро, когда Славик громким чмоканьем — он сосал свою пятку — разбудил Марию Павловну, она ясно услышала мягкие, негромкие звуки флейты, именно флейты, а не скрипки, что могло случиться, если бы Тане, любившей поспать, захотелось в шесть утра приняться за свою скрипку.
Это было странно, но у Марии Павловны просто не было времени удивляться. Надо было кормить Славика — собственная пятка, конечно, не могла заменить ему завтрак! Ну, флейта так флейта! Хорошо еще, хоть не барабан или контрабас!
Но когда на одном из чертежей Николая Андреевича появился загадочный рисунок, напоминавший добродушную собаку, вставшую на задние лапы, Заботкины задумались, хотя нисколько не разволновались. Мария Павловна припомнила, что кто-то воспользовался не только Тюпиным молоком — неоднократно пропадали остатки хлеба, которые она откладывала, чтобы насушить из них сухарей. Любимую соску Славика, потерянную в садике возле дома, кто-то нашел и положил в стакан с кипяченой водой, стоявший на столике подле его кроватки.
Конечно, никто не относился к этим случайностям серьезно. Николай Андреевич шутил, что, очевидно, у них поселился домовой и что этому надо только радоваться, потому что, согласно народным поверьям, этот невидимый жилец не только не причиняет зла людям, но старается предостеречь их от грядущих несчастий. А все же, все же…
Очевидное — невероятное
Причудливое явление, призрак, в старину называлось фантомом. Может быть, и в самом деле такой призрак поселился где-нибудь на чердаке в квартире Заботкиных? Причем, без сомнения, это был незлобивый, нетребовательный призрак, игравший по ночам на флейте и делившийся молоком с Тюпой.
— А интересно узнать, замечали ли эти странности сестры Фетяска? — сказала однажды Мария Павловна, когда за обедом обсуждался вопрос о домовых, леших, русалках и прочей нечистой силе.
И на другой день она решила навестить сестер Фетяска.
— Нет, — решительно заявили они, убедительно прибавив, что и не могли ничего заметить, потому что не держат кота, не сушат сухарей и не занимаются архитектурным черчением.
Словом, вопрос, что называется, остался открытым, если бы им не заинтересовался Петька Воробьев, старинный приятель Тани.
Уже давно никто его не называл Воробьем с сердцем Льва и теперь ему не надо было бросаться в Немухинку с трехметровой вышки, чтобы доказать свою храбрость.
Учитель географии Петр Степанович Неломахин, который, кстати, был Международным гроссмейстером по спасанию людей, птиц, зверей и полезных насекомых, считал его одним из самых способных учеников. Они оба не пропускали ни одной передачи «Очевидное-невероятное», и разница между ними заключалась в том, что все невероятное казалось Петьке очевидным, а Петру Степановичу — наоборот.
Эта существенная разница сказалась, между прочим, и в том, как они отнеслись к странностям в доме Заботкиных.
Петр Степанович думал, что все случившееся на деле не случилось, а померещилось не только Марии Павловне и Тане, но и коту Тюпе.
— Давно доказано, — сказал он, — что лешие, кикиморы, русалки и домовые не что иное, как плод народного воображения.
Петька не стал спорить. Однако к вечеру явился к Заботкиным в более чем странном наряде. Брюки с рубашкой и майка с трусиками были на нем вывернуты наизнанку, правая туфля надета на левую ногу, левая — на правую, а кепка торчала на затылке козырьком не вперед, а назад.
Увидев его, Таня покатилась со смеху, но он сделал большие глаза и приложил палец к губам.
— Читала «Демон» Лермонтова? — шепотом спросил он. — Нудная штука, но я одолел. Автор тоже, между прочим, считал невероятное очевидным. А у писателя — забыл фамилию — я прочел, что для того, чтобы увидеть какую-нибудь кикимору, надо ее удивить. Например, одеться шиворот-навыворот и сказать что-нибудь вроде: «Пречистые замки ключами не заперты, ладаном не запечатаны ныне и присно и во веки веков». Короче говоря, айда на чердак!
— Почему на чердак?
— А где, по-твоему, должны жить привидения?
На чердаке не было электричества, и Таня зажгла карманный фонарик.
— Погасить! — строго сказал Петька. — С логической точки зрения — это дело темное, а темные дела должны происходить в темноте.
Впрочем, ночь была лунная, и на чердаке не очень темно, свет украдкой проникал в невидимые щели. Плохо было, что Таня давилась от смеха, а между тем в ожидании чуда — как же иначе называть то, что должно было случиться, — нужно было, по мнению Петьки, сохранять «стоическое», как он выразился, то есть железное, спокойствие.
Однако прошло минуты две, и хотя Таня была не робкого десятка, она вдруг почувствовала, что ей вовсе не смешно, а даже, пожалуй, страшно.
На чердаке пахло пылью, в одном углу были свалены тяжелые сломанные карнизы, в другом — кресла с торчащими пружинами, и она стояла в перекрещивающихся лунных полосках, которые как будто связывали ее по рукам и ногам.
Петька шумно откашлялся — может быть, чтобы показать, что он ничуть не боится.
— Пречистые замки ключами не заперты, ладаном не запечатаны, открыты ныне и присно и во веки веков, — громко сказал он.
Сперва зазвенела пружина, точно кто-то вскочил с кресла, потом в наступившей тишине послышалось слабое дыхание. Что-то совершалось, очевидно, чудо. Можно было вообразить, что невидимые руки лепят какую-то неясную фигуру из сумеречного света, из пылинок, которые стали видны, из самого воздуха, который как бы уплотнился, хотя это было, кажется, невозможно.
— Можно, я зажгу фонарик? — дрожащим голосом спросила Таня.
Петька не успел ответить.
— Конечно, пожалуйста! — отозвался ясный молодой голос.
Теперь, при свете фонарика, можно было различить странную фигуру, чем-то похожую на детские рисунки. Ноги были как ноги — в потрепанных джинсах; руки как руки, хотя и покрытые шерсткой, на широких плечах ковбойка, но голова… Голова походила на шлем, с поднятым забралом, и неестественно большие глаза мягко сияли на лице, вогнутом, как сломанный обруч.
— Кто ты? — загробным голосом спросил Петька. — Домовой?
— Такой же, как ты, — отозвался спокойный голос.
— Извините, — вежливо возразила Таня. — Но если вы человек, почему у вас такая необычная внешность?
— Прежде всего познакомимся. Меня зовут Юра Ларин. Я из Хлебникова, может быть, вы слышали о таком городке на Черном море? Я ученик девятого класса Хлебниковской школы. Вы оба, кажется, тоже в девятом классе? Но ты, Таня, кажется, в музыкальной школе? Черт возьми, если бы не моя мачеха, мне тоже удалось бы поступить в музыкальную школу. Я играю на флейте.
— Так эту игру мы с мамой иногда слышали по ночам?
— Я нашел на чердаке старую окарину, на которой осталось только шесть дырочек вместо девяти. Говорят, Паганини на одной струне исполнял сложнейшие партии. Ну вот, так же и я. Вместо флейты играл на окарине, в которой вместо девяти дырочек всего-навсего шесть.
Петька, конечно, понятия не имел, кто такой Паганини, но Таня прекрасно знала, что был такой знаменитый скрипач и композитор.
— Я немного боялся, что беспокою Марию Павловну, — вежливо добавил Юра.
— Славик мешает ей спать, а тут еще я со своей окариной.
— Нет, мама не слышала, а мне было даже приятно. Мне мерещилось, что я слышу звуки флейты во сне.
— Ну ладно! Как говорится, вернемся к делу, — сказал Петька. — Все-таки ты, может быть, расскажешь нам, кто ты такой, как появился в Немухине и, в частности, в этом доме? Между прочим, заклинание, которым я тебя вызвал, относится не только к домовым.
— Может быть. Но на меня подействовало не твое заклинание. Просто смертельно соскучился и очень обрадовался, когда вас увидел. Конечно, пора объяснить, как я здесь оказался. Но с чего начать? Может быть, с мачехи? — задумчиво сказал Юра.
Его бледное лицо, как будто вырезанное в глубине лунного ободка, омрачилось, погрустнело.
— Валяй с мачехи, — согласился Петька. — Она кто у тебя? Ведьма?
Да, брат, тебе досталось
— Можете мне не поверить, но каких-нибудь две недели тому назад я почти ничем не отличался от вас. Когда мне было два года, у меня умерла мать, отец женился на молодой красивой женщине, но, к сожалению, с очень дурным характером и большими ногами. Не удивляйтесь, что я упоминаю о ногах. Она всю жизнь старается скрыть, что ей впору туфли сорок первого размера, и покупает двумя номерами меньше. А попробуйте-ка, особенно летом, в жару, носить такие туфли! Злость закипала у нее в ступнях, а потом поднималась вверх, как ртуть в градуснике. Короче говоря, утром моя мачеха еще могла улыбаться, особенно когда она кокетничала, а к вечеру просто кипела от злобы. Огрызалась, скрежетала зубами, старела на глазах и просто умирала от желания кого-нибудь съесть. И съела!
— Как съела? — одновременно спросили Таня и Петя.
— Очень просто! Моего отца, добродушнейшего, кроткого человека. У него даже в истории болезни было написано: «Не повезло с женой. Крайне неудачная семейная жизнь». Конечно, сразу же после смерти отца ей захотелось съесть меня. В самом деле, еще молодая, интересная дама, а тут под ногами вертится какой-то мальчишка, который к тому же не только знает, что она носит туфли на два номера меньше, но знает, что по всему свету она ищет хирурга, который превратил бы ее копыта в маленькие, изящные ножки. Конечно, каждый из них говорил: «Нет, мадам! Вам может помочь только волшебник». Тогда — представьте себе — она стала искать волшебника. И нашла!
— Нашла? — с изумлением спросила Таня.
— Заливаешь! — одновременно откликнулся Петька.
— Правда, не столько волшебника, сколько мошенника. То есть в прошлом он служил в Отделе Необъяснимых Странностей, но его прогнали и категорически запретили заниматься чудесами. В Хлебникове он показывал карточные фокусы в пивных и тайком лечил плешивых, причем с каждого брал клятву, что тот никому никогда не расскажет, почему у него заросла плешь. Вот из пивных-то его и выудила моя мачеха.
Юра тяжело вздохнул: видно было, что ему нелегко давалась эта история.
— Ты устал? — мягко спросила Таня. — Ведь можно встретиться в другой раз.
— А вы торопитесь?
— Я нет! — сказал Петька.
— Я тоже, — сказала Таня, — но уже двенадцатый час, и я боюсь, что мама станет беспокоиться, куда я пропала. Вот что: я скажу ей, что иду спать…
— Да, брат, тебе досталось, — мрачно сказал Петька, когда она убежала.
Они помолчали.
— Послушай, ты, может, голодный? — вдруг вскинулся Петька. — Хочешь, я тебе притащу что-нибудь из дому?
— Нет, спасибо. Между прочим, на твоем месте я бы переоделся, пока Таня не вернулась.
— Ах, да!
И Петька живо вывернул рубашку, брюки, переодел туфли. Только кепка осталась лихо торчать на затылке козырьком не вперед, а назад — впрочем, так он носил ее не только тогда, когда собирался вызывать домовых.
Таня вернулась.
— Все в порядке. Мама укачивает Славика. Я пожелала ей доброй ночи. Между прочим, у нас на ужин была макаронная запеканка. Я подогрела и принесла. Ты, наверное, проголодался?
— Спасибо. Я потом съем. Сейчас неохота.
— Остынет.
— Не беда.
— Ну, рассказывай! — нетерпеливо сказал Петька. — Значит, ты все-таки не человек?
Юра вздохнул.
— Я — сильвант. Многие выдумывают страны, которых нет, а я задумался о людях, которые живут на земле и знают, как она прекрасна, — сказал он. — У каждого дерева свой голос, береза шелестит, липовая роща шепчет, хвойный бор сердито бормочет, дубы задумчивы и молчаливы, а мачтовые сосны готовы пожертвовать собой, чтобы увидеть дальние страны. Сильванты понимают язык деревьев, потому что они очень похожи на них. Никогда не лгут, не ссорятся, никому не желают зла. Они стоят на земле твердо и прямо и гнутся только под ветром, который тоже прекрасен, потому что умеет вертеть мельничные крылья и в течение тысячелетий помогал людям открывать новые страны. Среди сильвантов много поэтов, художников, музыкантов, в их сонатах и ноктюрнах тонкий слух различает пение птиц и листвы. Они гораздо умнее обыкновенных людей и уступают в тонкости чувств только деревьям. Кстати, об этом думал один поэт. Он писал:
Я знаю, что деревьям, а не нам Дано величье совершенной жизни На ласковой земле, сестре звездам, Мы — на чужбине, а они — в отчизне.Вот так же и сильванты относятся к земле. Она для них не приплюснутый шар, который с утомительным однообразием вращается в пространстве, а ласковая звезда, на которой и деревья, и животные, и люди должны ежеминутно чувствовать радость существования. Я часто рисовал сильвантов, мне казалось, что они все же должны отличаться от обыкновенных людей. И вот однажды… Но прежде чем объяснить, что случилось, мне надо вернуться к своей мачехе. Кстати, ее зовут Неонилла, и она почему-то гордится этим именем. Она где-то познакомилась с Луканькой — его зовут Лука Лукич, но все в городе звали его Луканька. Приодела его, поселила где-то поблизости от нас, и буквально через неделю он совершенно преобразился. Кстати сказать, он служил в Игральных мастерских — у нас самые большие Мастерские Игральных Карт на всем свете, — и пристроила его туда она же, кажется, кладовщиком. И началось!
— Что началось?
— Через месяц он уже заведовал цехом пасьянсных карт, через два был заместителем директора, а потом каким-то образом пролез в Главный Филиал и стал управляющим делами и теперь требует, чтобы все называли его «Мэром». У нас он стал бывать каждый день и, между прочим, как бы подружился со мной, хотя меня воротило с души при одном виде его сизого носа.
— Сизого?
— Сизый нос сливой, глазки заплывшие, плешивоватый, все говорит, что нет времени, а сам шляется без дела в пальто с шелковыми отворотами, в лакированных туфлях и в цилиндре.
— В цилиндре?
Впервые Таня не поверила Юре, а Петька откровенно сказал:
— Врешь!
— Сильванты не лгут, — с достоинством отозвался Юра. — Так вот, он… Мне казалось, что он был против того, чтобы мачеха меня уморила. Но теперь-то мне ясно, что они были в сговоре и что он заступался за меня притворно.
— Но как же все-таки она могла тебя уморить?
Юра с досадой махнул рукой.
— Ну как? Очень просто! По ночам, как только я засыпал, колотила в дверь ногами или запускала радио на полную катушку. Распустила по всему городу слух, что я тайком опустошаю холодильник, а сама, между прочим, пристроила к нему электрический звонок, который трещит на весь дом, когда открывают дверцу. Сломала мои лыжи, не пускала на каток, не давала читать, а мою библиотеку продала за гроши. Вот такая была жизнь, и немудрено, что мне захотелось удрать. Но об этом нечего было и думать.
— Почему?
Юра долго молчал. Что-то одновременно и грустное и радостное показалось в его огромных добрых глазах, обведенных темными кругами.
— Ну, об этом как-нибудь в другой раз, — сказал он. — О чем я рассказывал? Ах, да! В тот вечер Лука Лукич пришел ко мне не в пальто, а в старой, поношенной шубе, хотя была мягкая осенняя погода. «Ну, как живешь, бедолага? — спросил он. — Скучаешь? Голодаешь? Я тебе подарочек принес. — И он бросил на мой стол связку свежих кренделей, несколько луковиц и финский сыр „Виола“. — Ты держись! Дай срок, я на Неониллке женюсь, и мы с тобой ее одолеем. А что это ты рисуешь?» А я, на свою беду, как раз рисовал сильванта.
— Такого?
И Таня показала ему маленький рисунок, который Николай Андреевич с негодованием обнаружил на одном из своих чертежей.
— Да. Николай Андреевич очень сердился?
— Очень. Я успела скопировать, прежде чем он стер рисунок. Вот! Похоже?
— Пожалуйста, извинись перед ним. Я больше не буду.
— Дальше, — потребовал Петька.
— И я, на свою беду, стал рассказывать Луке Лукичу о сильвантах. А он… Конечно, теперь для меня ясно, что мачеха в этот день условилась с ним отделаться от меня, иначе он не явился бы ко мне в шубе. И вот он вдруг спросил меня… Но я совсем забыл сказать, что он озорник, проказник, любивший неожиданно ошеломить, ошарашить, озадачить. Ему было все равно, как избавиться от меня, а тут вдруг подвернулся случай еще и подшутить. Это было как раз в его духе! «А тебе не хочется стать вот таким сильвантом? — спросил он, взглянув на мой рисунок. — Конечно, не выходя из дому, потому что иначе на тебя станут показывать пальцами и сбежится толпа». Ну, что вы ответили бы на такой вопрос, ребята?
— Конечно, да! — закричал Петька. — Никогда не врать — это же интересно! Понимать, о чем говорят деревья! Ни с кем не ссориться и не драться, в то время как еще вчера Петр Степанович страшно отругал меня за то, что я врезал Вальке Стригунову!
— Ну вот и я ответил: да. И сразу почувствовал… Не знаю, как вам рассказать. Я как будто лишился сознания и в то же время ясно чувствовал и понимал, что со мной происходит. Видел, как он сильно потер свой сизый нос, похожий на подгнившую сливу, и этого оказалось достаточно…
Он замолчал, может быть, потому, что хотел справиться с волнением.
— И этого оказалось достаточно, чтобы я превратился в сильванта.
Таня тихонько ахнула, а Петька засопел — он всегда сопел, когда видел или слышал что-нибудь интересное.
— Откуда-то вдруг появилась мачеха, и, помнится, я снова подумал: «Они хотят от меня отделаться», — потому что она помогала ему, когда он надевал на меня шубу. Кажется, я все спрашивал: «Зачем, зачем?» — а Лука посмеивался: «Это, брат, не какой-нибудь планер! Где стоишь — оттуда и летишь! Три пуговицы — три скорости. Застегнешься на первую — подъем. На вторую — нормальный полет, шестьдесят километров в час. На третью… Ну, на третью я тебе не советую». Он вдруг сильно ударил меня по лбу, может быть, чтобы привести в сознание. «Ну, с богом! Счастливого пути».
Он сам застегнул нижнюю пуговицу, и я, приходя в себя, стал медленно подниматься. Потом, когда я почувствовал, что лечу над облаками и сквозь их прозрачную белизну вижу поля, леса, маленькие ленты дорог, которые то скрещивались, то разбегались, как на географической карте, мне захотелось петь, читать стихи, кувыркаться. Поднялся ветер, облака стали обгонять меня, но я застегнул вторую пуговицу и с такой силой рванулся вперед, что едва не вылетел из шубы. Признаться, я даже забыл, что превратился в сильванта, и вспомнил только потому, что, застегивая пуговицу, заметил, что у меня мохнатые руки. Это и была минута, когда я впервые пожалел, что не нарисовал сильванта другим. Но кому бы пришло в голову, что ты когда-нибудь превратишься в собственный рисунок?
Ночь была на исходе, когда Юра закончил свой рассказ. Впрочем, мы уже знаем, как он пролетел над Немухинской каланчой, вывалился из шубы и побежал по Нескорой. Сестры Фетяска крепко спали, когда он спрятался на чердаке, а через два или три дня дом перешел к Заботкиным, и начались те странные явления, о которых мы уже рассказали. Стоит только упомянуть, что, расставаясь с Юрой (чтобы вскоре снова встретиться), практичный Петька спросил:
— А куда делась шуба?
И получил короткий ответ:
— Не знаю.
Но Таню интересовал совсем другой, гораздо более сложный вопрос.
— Извини, Юра, — сказала она. — Но мне хотелось бы узнать: неужели ты, как настоящий сильвант, стал понимать язык деревьев? И никому не желаешь зла? И земля кажется тебе ласковой звездой?
Наступило молчание, такое долгое, что часы на вывеске часовой мастерской, только что пробившие шесть ударов, хрипло заурчали, как всегда, когда они подбирались к половине седьмого.
— Да, — наконец сказал Юра. — Но есть одна причина, которая заставляет меня глубоко сожалеть об этом превращении. У меня к тебе просьба, Таня. Подари мне свой рисунок. На обороте я напишу несколько слов. Ты не станешь их читать, не правда ли? Запечатай рисунок в конверт и пошли по адресу: Хлебников, улица Неизвестного поэта, 23. Ирине Синицыной. А когда получишь ответ, принеси его мне, хорошо?
— Ты можешь не беспокоиться. Я непременно сделаю это, — ответила Таня. Остается заметить, что в разговоре Юра упомянул о какой-то ветке, полной цветов и листьев. Когда Таня с Петькой спросили его, что это за ветка, он смущенно промолчал. На прощание Тане очень хотелось спросить, удалось ли мачехе добыть себе маленькие, стройные ножки. Но она не решилась. После серьезного разговора как-то неловко было спрашивать о таких пустяках.
Под строжайшим секретом
История Юры была в действительности гораздо сложнее, чем его рассказ. Но прежде чем вернуться к ней (а это значило бы без помощи летающей шубы добраться от Немухина до Хлебникова, то есть пролететь добрых восемьсот километров), полезно рассмотреть результаты того факта, что на чердаке у Заботкиных появилось существо, требующее хлопот и внимания, хотя зоологи всего мира не имели о нем ни малейшего представления.
Разумеется, и Петька и Таня понимали, как необходима осторожность. В Немухине, который гордился своими достопримечательностями, сильванта, единственного в своем роде, не только обласкали бы, но непременно попросили бы остаться сильвантом. Поэтому в ночной разговор на чердаке были посвящены только два человека — Мария Павловна и учитель географии Петр Степанович.
Мария Павловна подошла к делу практически. Хотя Юра уверял, что сильванты едят очень мало, она устроила для него регулярное трехразовое питание, так что теперь кот Тюпа мог быть совершенно спокоен за свое молоко, а отложенный хлеб беспрепятственно превращался в сухари, которые у Заботкиных очень любили.
Но Петр Степанович… Впрочем, сперва надо сказать о нем несколько слов. Он любил спасать не только людей, но и зверей и полезных насекомых. Ему ничего не стоило распутать паутину, в которую попала рассеянная бабочка. Его прекрасно знали в окрестных лесах. Маленькие лоси почему-то часто ранили ноги, и он бинтовал их и даже иногда накладывал гипсовые повязки. О людях и говорить нечего! Немухинка, на вид такая скромная и добродушная, была довольно коварной речкой: два-три раза за лето в ней непременно кто-нибудь тонул. Днем ли, ночью ли. За Петром Степановичем тогда бежали.
Впрочем, он вообще был необыкновенным человеком. За домашнюю или классную работу, так же как и за ответ у доски, он ставил, как это ни странно, двойку, если не находил возможным поставить тройку. Он не ходил, как это делали другие учителя, с маленькими счетами в кармане и не высчитывал, повлияет ли очередная двойка на общий процент успеваемости в школе.
Короче говоря, если бы не его слава Международного гроссмейстера, все эти двойки вместо троек и четверки вместо пятерок едва ли прошли ему даром.
Когда Петька под строжайшим секретом рассказал ему о превращении Юры Ларина в сильванта, он не удивился и не стал терять времени на расспросы, хотя в его практике этот случай был необыкновенный. Как человек дела, он прежде всего заинтересовался личностью волшебника — кто он такой, откуда взялся и нет ли возможности, так сказать, обвести его вокруг пальца. Он запросил о нем Отдел Необъяснимых Странностей и немедленно получил ответ: «Не числится». В дальнейшей переписке ему удалось выяснить причину увольнения: «Шулер и пьяница. Опасен. Уличен в краже волшебных палочек. Отчислен без права поступления на службу».
Как человек принципиальный, Петр Степанович сразу понял, что слабое место в биографии этого проходимца заключается в краже волшебных палочек. Можно было не сомневаться, что с помощью одной из них он превратил Юру в его собственный рисунок, с помощью другой отправил в полет, накинув на него потрепанную шубу.
Короче говоря, необходимо было отправиться в Хлебников и на месте решить, что делать. Кстати сказать, Петр Степанович каждый год ездил куда-нибудь со своими учениками, а на ближайшее лето была намечена экскурсия по старым городам. Хлебников вполне подходил под это понятие — он был основан в четырнадцатом веке.
А пока в Немухине надо было вооружиться сведениями, которые могли ему пригодиться. Во-первых, Таня под строжайшим секретом сказала, что Юра попросил ее отправить письмо какой-то Ирине Синицыной и с нетерпением ждет ответа. Во-вторых, оказалось, что Зоя Никитишна Фетяска — та из сестер, которая целый день раскладывала пасьянсы, — хорошо знакома с главным резчиком Мастерской Игральных Карт Иваном Георгиевичем Синицыным, близким родственником или даже отцом Ирины. Стоит заметить, что Петру Степановичу пришлось выслушать длинный рассказ о том, как Иван Георгиевич сорок лет назад влюбился в Зою Никитишну на гулянье в Петергофе и потом всю жизнь отказывался от «блестящих партий», как она выразилась, надеясь, что она выйдет за него замуж. Как он ежегодно, к дню рождения, присылает ей колоду пасьянсных карт. Более того, она показала недавнее письмо от Ивана Георгиевича, очень ее обеспокоившее, потому что ее старый друг с огорчением писал ей, что «Ирочка перестала петь».
— Дело в том, — объяснила она, — что его дочка Ирочка — изумительная певунья. Чем бы она ни занималась — прибирает ли в доме, моет ли посуду, вяжет ли, или готовит уроки, — непременно поет. Да так, что под окнами собираются, чтобы ее послушать! И вот перестала.
— Почему? Об Этом он вам не пишет?
— Нет. Но письмо кончается пословицей: «Не мил и свет, когда милого нет». Подумайте, мы сорок лет не виделись, — вздохнув, сказала Зоя Никитишна, — он женился, потерял жену, дочка на выданье, а он все-таки не может, не в силах меня забыть.
Конечно, Петр Степанович не стал убеждать ее, что пословица намекает не на долголетнюю привязанность Ивана Георгиевича, а на загадочную причину, заставившую замолчать «дочку на выданье», пение которой любил слушать весь город.
На ласковой земле
Ночь была безлунная, когда Юра спустился с пожарной лестницы, ничего не сказавшей ему вслед. Железо было молчаливо. Из чердачного окна он часто смотрел на березовую рощу за Немухинкой, и случалось, что в шелесте листьев до него доносились отдельные звонкие голоса. Когда он пробегал через мостик, перекинутый с одного берега на другой, он ясно услышал, как речка прошелестела ему вслед: «Осторожно, Юра! Места незнакомые. Легко заблудиться». Но невозможно было заблудиться в лесу, где каждое дерево показало бы ему дорогу.
Правда, он не мог разглядеть ни одной тропинки в темноте, но и тут ему повезло! Вдруг небо озарилось упавшей звездой, и он со всех ног побежал, чтобы подобрать ее. Это было в двух шагах от него. Кустарник вспыхнул сумеречно-багровым светом, и, хотя звезда почти погасла, ее мягкий свет был гораздо сильнее, чем свет карманного фонарика, который подарила ему Таня. Он поднял звезду и стал перебрасывать ее из одной руки в другую, радуясь, что, остывая, она почти не теряла света.
После душного чердака, в котором можно было задохнуться от пыли, он дышал всей грудью, беспричинно смеясь, и босыми ногами остро чувствовал мягкую, душистую землю.
Постепенно в беспорядочном шелесте листьев под легким ветром он стал различать слова.
— Смотрите, кто пришел к нам в гости! — сказала старая береза, подле которой он стоял. — Тот, кого мы ждали тысячу лет или по меньшей мере девятьсот девяносто девять… Ведь ты умеешь говорить не только с нами, но и с людьми. Не можешь ли ты передать, что мы верно служим им, а они так часто к нам беспощадны?
— Хорошо, передам! Но едва ли кто-нибудь прислушается к моим словам. Мне не поверят, что я понимаю язык деревьев. Ведь я только в девятом классе.
Горячая звезда немного опалила шерстку на пальцах, но и это почему-то присоединилось к тому чувству счастья, с которым он бродил по березовой роще.
Он невольно подслушал спор между молодыми дубком и осиной; это было забавно: запальчивый дубок упрекал осину за то, что она слишком быстро растет, заслоняя от него солнце. Молодая березка прихорашивалась под ветерком, и он подумал, что, может быть, деревья видят в темноте: она надеялась, что кто-то утром увидит ее с прибранной, блестящей листвой.
Слышались шорохи, шуршание, шелесты, ничего не происходило случайно, и Юра не был бы сильвантом, если бы ему не пришла в голову мысль, поразившая его своей простотой: никто никому не желал зла в этой душистой, неторопливо засыпающей роще. Ночная смена муравьев усердно строила свой многоэтажный дом с лабиринтом туннелей, ежи торопились домой после каких-то деловых разговоров, сова пожелала кому-то доброй ночи.
— Ты влюблен, сильвант? — спросила его насмешливая молодая лиственница, мимо которой он прошел, освещая звездой.
— Да. И к счастью и к сожалению.
— Почему «к сожалению»?
— Потому что, если я останусь сильвантом, мне не суждено увидеть ту, кого я люблю.
Начинало светать, когда он пробежал по еще пустым немухинским улицам. И у Заботкиных еще спали. Никто не слышал и не видел, как он поднялся на чердак и бросился в старое кресло, на котором лежало сложенное заботливой Таней одеяло.
Остаться сильвантом? Но как же быть с тем памятным вечером, когда Ириночка в легком платье встретилась с ним на набережной и сказала: «Если бы папа не уснул, я выскочила бы в окно»? Как быть с их отражением в спокойной воде? Как быть с веткой, которую он наудачу сломал в незнакомом саду, — ветку, странно прошелестевшую листьями и цветами?
Его весь город боится
Все было готово к отъезду, когда Петр Степанович все-таки решил встретиться с Юрой. Один существенный вопрос интересовал его, а на него не могли ответить ни Петька, ни Таня, ни Зоя Никитишна. Вот почему встреча все-таки состоялась, короткая, но полезная хотя бы потому, что сама внешность Петра Степановича обнадежила Юру. Он был небольшого роста, ходил, загребая левой ногой, на толстеньком носу была нашлепка, и трудно было представить себе, что в праздники у него на пиджаке умещалось множество медалей за спасание людей, птиц, зверей и полезных насекомых. Но едва он появлялся в любом доме или даже в учреждении — самые бестолковые люди становились более или менее толковыми, самые отчаявшиеся начинали надеяться, и все вокруг, как говорится, начинало дышать уверенностью и прямотой.
— Скажи, пожалуйста, — спросил он Юру, — вот ты говоришь, что Лука Лукич просто потер свой нос и этого было достаточно, чтобы ты превратился в сильванта?
— Да.
— Может быть, может быть… — задумчиво сказал Петр Степанович. — А ты случайно не заметил, не было ли у него в руках какой-нибудь палочки вроде тех, которые втыкают в цветочные горшки?
Юра задумался.
— Не помню, — наконец ответил он. — Лука Лукич постоянно вертит что-нибудь в руках. То карандаш, то цепочку — он носит старинные золотые часы на цепочке, то зубочистку. Возможно, была и палочка. Какое это имеет значение?
— Но ведь ты, кажется, сказал, что тебя буквально воротит с души от одного вида его сизого носа?
— О, да!
— И в тот вечер, когда вы дружески разговаривали, ты тоже не смотрел на него?
— Во всяком случае, старался не смотреть.
— Понятно, — сказал с удовлетворением Петр Степанович.
Нет времени рассказывать, какие старинные города осмотрели немухинские ребята, прежде чем попали в Хлебников. Стоит только упомянуть о том, чем этот город отличался от других городов. Он был расположен вдоль моря и окружен ветряными мельницами, которые больше не мололи муки, но зато не пропускали ни одного ветерка, чтобы не обменяться с ним каким-нибудь слухом или сплетней. Старые ржавые якоря попадались на каждом углу. К сожалению, они были молчаливы, но не было никакого сомнения, что каждый из них мог бы рассказать немало интересных историй. Зато чайки, летавшие над крышами, болтали без умолку, и, даже не понимая их языка, легко было угадать, что история города их не интересует. А между тем она была очень интересна, потому что с древнейших времен в городе жили поэты.
На главной площади стоял памятник, изображавший странника в рваном плаще, без шляпы, выронившего листы бумаги, которые в беспорядке лежали у его ног. Это был самый талантливый из прославивших город поэтов. Его звали старинным русским именем Велимир.
Впрочем, Петру Степановичу было некогда осматривать город. Заняться этим он поручил Петьке как старосте девятого класса, а сам отправился в пригород, где с незапамятных времен находилась Мастерская Игральных Карт, расходившихся по всему миру. На каждом доме была вылеплена карта: мастер, вырезывавший валетов, украшал свои дубовые двери изображением валета, его сосед — дамы, а сосед соседа — туза или короля. Только на одном доме была раскинута вся колода, и любой прохожий мог убедиться, что в этом доме живет главный резчик Иван Георгиевич Синицын.
Маленький, сухонький, похожий на деревянного человечка для щелканья орехов, он, когда постучался Петр Степанович, очевидно, только что встал с постели, потому что на его голове торчал вязаный желтый колпак с кисточкой. В разговоре с Петром Степановичем резчик вспомнил о колпаке и, рассмеявшись, сунул его в карман.
— А я не знал, что этого проходимца уволили за кражу волшебных палочек, — задумчиво сказал он. — И даже догадываюсь, куда он их спрятал.
— А именно?
— Вы заметили, что в городе почти не пахнет морем? Это потому, что все запахи заглушает аромат его сада. Там растут цветы, которых нет ни в одном ботаническом саду. К нам приезжают ботаники с мировыми именами, которые ничего не могут понять. Но мне сейчас все ясно: он посадил в землю волшебные палочки, они выросли и расцвели, и теперь каждая из них считается маленьким чудом.
— Хитер, — сказал Петр Степанович.
— И не только хитер, но мстителен, коварен и зол. Я в мастерской работаю сорок лет, меня каждая собака знает и уважает, а его я боюсь. Более того, его весь город боится.
— В чем же дело?
— Неизвестно. Вот, например, наш город славился поэтами, художниками, скульпторами. Но когда он приказал называть себя Мэром, все уехали. А почему? Потому что у тех, кто называл его просто Лукой Лукичом, он под разными коварными предлогами отбирал мастерскую. Темная личность! Но, между прочим, отлично играет в «японский сундучок» — есть такая карточная игра — и даже объявил, что, кто у него выиграет партию, может называть его не Мэром, а просто Лукой Лукичом.
— Ну что же! Будем посмотреть! — загадочно сказал Петр Степанович. — А теперь позвольте, Иван Георгиевич, поговорить с вашей дочкой и, если вы не возражаете, наедине?
Иван Георгиевич вздохнул.
— Да, разумеется. Но дело в том, что…
— Я знаю, она перестала петь. И очень похудела, должно быть? И не спит по ночам?
— Просто не узнать!
— Вот мы с ней и выясним, в чем дело! А пока я по секрету скажу вам, что Юра Ларин жив.
Надо было видеть, какое впечатление произвели на старого резчика эти слова. Он подпрыгнул от радости и так высоко, что ему позавидовал бы любой мастер спорта по прыжкам в высоту.
— Жив! Слава богу! Это такой мальчик! Такой мальчик! Он после учебного дня мыл пол в классе, а когда я его спросил: «Зачем?» — ответил: «Не „зачем“, а почему. Потому что мне это нравится». Сам испек торт!
— Торт?
— Да! Для Ириночки в день ее рождения. И украсил его формулой, которую она не знала, когда, кончая восьмой класс, едва не провалилась по математике. Вообще она учится неважно, а Юра ей так помогал, так помогал!
— Вот пускай она о нем и расскажет!
Ветвь, полная цветов и листьев
Надо сказать, что Петр Степанович удивился, увидев Иру Синицыну.
Красавицы в подавляющем большинстве прекрасно знают, что они красавицы, а она, казалось, не имела об этом никакого понятия.
Она была такая тоненькая, что с сильным ветром, не говоря уже о штормовом, надо было заранее сговариваться, чтобы он не переломил ее. Глаза на нежном лице, казалось, стеснялись, что они такие большие, а длинные изогнутые ресницы старались казаться короткими, не заслуживающими никакого внимания.
Она смутилась до слез, когда Петр Степанович заговорил о Юре, и побледнела, как будто кто-то спрятал ее под папиросную бумагу.
— Ну, как он? Я получила от него письмо, только два слова: «Не забывай!» — и рисунок сильванта. Вы не знаете, получил ли он мой ответ?
— Не думаю. Я говорил с ним перед отъездом.
— Я ведь так и не знаю, что с ним случилось! Хотя мне стало смешно, когда я прочитала «Не забывай», но одновременно я заплакала, потому что все это очень грустно. Он постоянно рисовал своих сильвантов, мы часто говорили о том, что люди должны понимать язык деревьев. Однажды я даже показала ему глиняный горшок с углями и постаралась уверить, что это не угли, а погасшие звезды. Но ведь это казалось нам только игрой!
— Понимаю. А потом в вашу игру вмешался очень плохой человек, которого даже трудно назвать человеком. Но вот о чем я хотел у тебя спросить… Юра упомянул в одном разговоре о какой-то ветви, полной цветов и листьев. Я не стал расспрашивать, но мне показалось, что эта ветвь имеет для него особенное значение.
Ириночка засмеялась, и сразу стало ясно, что она любит петь. У нее был музыкальный смех.
— Ах, это тоже была просто игра! Мы постоянно придумывали что-то, и однажды, когда встретились на набережной, он спросил: «Хочешь, я подарю тебе кота с рубиновыми глазами? Или зеркальце из пушкинской сказки, ведь ты не догадываешься, что краше тебя нет никого на свете?» Я засмеялась и сказала: «Иди туда, не знаю куда; принеси то, не знаю что». И он бросился бежать по самому краешку набережной — это было вечером, и я испугалась, что он упадет в море. Но он не упал: через несколько минут он вернулся. «Я перелетел через самый высокий в мире забор, — сказал он, — и оказался в саду, который обиделся бы, если бы его назвали прекрасным. Это сад, в сравнении с которым висячий сад Семирамиды показался бы скучным городским сквером. Я пробежал вдоль кустарника и задел плечом ветку, прошелестевшую листьями и цветами. Вот она».
— И, надеюсь, ты не рассталась с нею?
Теперь Петр Степанович побледнел от волнения и тоже выглядел так, как будто его сунули под папиросную бумагу.
— Конечно, нет. Ведь это подарок Юры. По утрам я здоровалась с ней, а вечерами желала ей спокойной ночи. И хотя каждые два-три дня меняла воду в кувшине, ветка увяла — листья пожелтели и осыпались, цветы состарились и умирают, как люди. И теперь она стала похожа на обыкновенную палочку.
— Нет, она стала похожа на необыкновенную палочку, — энергично возразил Петр Степанович, — и, если действовать осмотрительно, с ее помощью я верну тебе Юру.
Здравствуйте, Лука Лукич!
На первый взгляд нельзя сказать, что Петр Степанович стал действовать так уж умно и неторопливо. На самом же деле он действовал именно так.
Прямо от Синицыных он явился в приемную Главного Филиала и спросил:
— Лука Лукич у себя?
— Позвольте, позвольте, — сказал секретарь. — А кто, позвольте спросить, разрешил вам называть Мэра Лукой Лукичом? Вы, очевидно, приезжий и не знаете, что по имени-отчеству его может называть только тот, кто выиграет у него партию в «японский сундучок».
— Считайте, что я ее уже выиграл, — возразил Петр Степанович и открыл дверь кабинета.
Надо признаться в том, что Юра довольно верно описал своего отчима: Лука Лукич был невзрачен, тощ и, хотя ежеминутно пыжился, как бы уверяя себя (и других), что он личность значительная, сразу было видно, что перед вами мелкий проходимец. Нос его действительно был похож на подгнившую сливу, рот маленький — он ежеминутно вытирал его носовым платком, глазки плоские, как у летучей мыши. Однако в этих глазках прятались коварство, хитрость и злоба, и по временам они начинали крутиться, как на шарнирах, чего никогда не бывает у обыкновенных людей.
— Здравствуйте, Лука Лукич!
— Обратитесь к секретарю!
— Прежде всего позвольте представиться: Петр Степанович Неломахин.
— Обратитесь к секретарю!
— Послушайте, нам надо поговорить, но называть вас Мэром я не согласен. Если угодно, сыграем в «японский сундучок». А потом поболтаем.
— Что?
Лука Лукич засмеялся. Он вынул из кармана и бросил на стол колоду, сложившуюся, как веер.
— Нет, уж извините, — возразил Петр Степанович. — Я предложу вам свою колоду.
Телефон зазвонил, Лука Лукич рявкнул в трубку:
— Я занят! — И, вызвав секретаря, сказал ему: — Прием закрыт.
— Слушаюсь, Мэр, — прошептал секретарь. У него почему-то дрожала челюсть.
Игра началась, первые карты легли на стол, и между ними сразу пошел разговор. Старые знакомые, они давно не встречались.
«Люди — наша судьба, — сказал Король Пик, — а мы — судьба людей. Но на этот раз истрепанные бумажки, которые они называют деньгами, кажется, не играют существенной роли?»
«Вы правы. Ваше Величество, — заметил Валет Бубен. — В этой игре деньги не играют роли. Гроссмейстер приехал в наш город для благородной цели. Он хочет спасти юношу, который даже не подозревает, что когда-нибудь он станет великим поэтом».
«Совершенно верно, — отозвалась Дама Бубен. — Мы должны помочь Гроссмейстеру выиграть. Тем более что этот Мэр лишен вкуса. Мне стыдно участвовать в игре, которой пользуются шулера в карточных притонах». — И она осталась в руках Петра Степановича, потому что он проиграл бы, положив ее на стол.
Возможно, что Мэр догадывался об этом разговоре. Колода Ивана Георгиевича была, как это делали в старину, напечатана по доскам, а доски старый мастер резал с такой любовью и вдохновением, что эти чувства передались картам. И это было очень кстати, потому что в «японском сундучке» все решает Случай, а карты вложили в игру Разум, и Случай потеснился, а потом совсем ушел, ни с кем не простившись.
Лука Лукич вдруг бросил карты — он проигрывал — и засмеялся.
— Черт с вами, называйте меня, как хотите. Кого же вы намерены спасать? И вообще, что вам от меня угодно?
Петр Степанович аккуратно сложил колоду и спрятал ее в карман.
— Видите ли, я намерен говорить о вашей, как это ни странно, склонности к проказам. У вас, если не ошибаюсь, приличный автомобиль — я заметил его у подъезда. Но ведь это не единственный способ передвижения, которым вы пользуетесь, не правда ли?
Сизый нос мгновенно разгорелся и даже замерцал, утратив свое сходство с подгнившей сливой. Плоские глазки бешено завертелись, и в кабинете почему-то запахло серой.
— Ну, положим, не единственный. А вам-то что за дело?
— Вопрос чести.
— Чести?
Лука Лукич засмеялся, и Петр Степанович невольно почувствовал холодок в сердце от этого негромкого, ядовитого смеха.
— По меньшей мере моей чести как Гроссмейстера по спасанию людей, птиц, зверей и полезных насекомых.
— Кого же, позвольте осведомиться, намерены спасать?
— Юру Ларина, которого вы отправили к черту на рога в какой-то авиашубе.
Сизый нос побелел, зеленая хитрость вспыхнула в плоских глазах, но тотчас же погасла, сменившись коварством, которое, в свою очередь, потеснилось, чтобы дать место самой черной бешеной злобе.
— Я не знаю никакого Юры Ларина.
Лука Лукич позвонил, и секретарь с дрожащей челюстью появился на пороге.
— Выведи гражданина. Он пьян!
Петр Степанович засмеялся.
— Последний вопрос: вам удалось устроить его мачехе маленькие, стройные ножки?
Вызов принят
Удалось. И более того: Неонилла затеяла большой костюмированный бал, чтобы весь город убедился в том, что она давно простилась со своими неуклюжими ногами.
В лучшем ателье Хлебникова она заказала себе кружевное белое платье, которое напоминало подвенечное, если бы не было таким коротким. Сапожник-любитель, широко известный на Юге, сшил ей золотые туфельки, от которых завистливые модницы должны были, как надеялась Неонилла, сойти с ума и отправиться в больницу.
Виноград закупался ящиками, арбузы, дыни, груши доставлялись на грузовиках. Дорожки в саду посыпались мелкими раковинками, чтобы они с приятным треском рассыпались под ногами. Словом, приготовления шли полным ходом, и весь город, можно сказать, трепетал, когда наутро после приезда Петра Степановича все были ошарашены сообщением по радио, которое подействовало на хлебниковцев, как ведро ледяной воды:
«Уважаемые граждане! Доводим до вашего сведения, что Гроссмейстер Петр Степанович Неломахин, прибывший из Немухина с группой школьников-экскурсантов, вчера выиграл у Мэра партию в „японский сундучок“ и, таким образом, получил право называть его просто Лукой Лукичом. Этот же Гроссмейстер утверждает, что Лука Лукич в молодости служил в Отделе Необъяснимых Странностей и был уволен за кражу волшебных палочек. Трудно поверить, но, по словам Гроссмейстера, Лука Лукич посадил украденные палочки в землю, убив таким образом двух зайцев: с одной стороны, он скрыл свое преступление, а с другой — вырастил сад, который сбивает с толку ботаников всего мира. И, наконец, самое важное: Петр Степанович решительно утверждает, что недавнее загадочное исчезновение из Хлебникова ученика девятого класса Юры Ларина тоже не обошлось без участия Луки Лукича, отправившего его в неизвестном направлении в заколдованной шубе. А теперь посмотрим, уважаемые граждане, как на это ответит высокочтимый Мэр!»
Осталось неизвестным, что произошло на радиоузле, когда Лука Лукич примчался туда на своей машине и вышел из нее, легко опираясь на трость. Но, очевидно, именно эта трость приняла живое участие в разговоре, потому что Лука Лукич, крича на сотрудника, разбил ею не только стекла на всех письменных столах, но и матовую стеклянную стену, украшавшую город.
Короче говоря, вслед за первым, поразившим весь город сообщением появилось второе, после которого почти все учреждения и школы прекратили работу.
«Уважаемые друзья! Доводим до вашего сведения, что высокочтимый Мэр не только решительно отвергает все обвинения некоего гражданина Неломахина, но намерен проучить этого клеветника, вызывая его на дуэль, или, иначе говоря, на поединок. Судебным передрягам он предпочитает эту старинную, но благородную форму защиты своей чести. К барьеру, гражданин Неломахин, к барьеру!»
Дуэлей так давно не было в Хлебникове, что городская молодежь даже не знала этого слова, а старики знали, но забыли. Об этой форме защиты чести были осведомлены главным образом знатоки литературы, прочитавшие «Евгения Онегина». Но, как это ни странно, решительно все поняли, что между высокочтимым Мэром и приезжим Гроссмейстером в ближайшие дни должна состояться, схватка. Более того, в тот же день понятие «дуэль» так широко распространилось, что одна симпатичная, находчивая гражданка, стремившаяся купить заграничные джинсы, неожиданно сказала другой, менее симпатичной и пролезавшей вне очереди:
— Я вызываю вас на дуэль!
Очередь остолбенела, и джинсы были благополучно приобретены.
Третье сообщение было более чем кратким: «Вызов принят».
Неизвестно откуда появился молодой, но дельный администратор Саша, предложивший, чтобы схватка была публичной: противники в костюмах пушкинских времен, по его мысли, должны встретиться на сцене городского театра. Цены на билеты, ввиду исключительности зрелища, повышены, карета «скорой помощи» дежурит у подъезда. В случае смерти одного из противников духовой оркестр исполнит траурный марш.
Все эти предложения были отвергнуты, кроме одного: из отдела старинного оружия хлебниковского Городского музея были извлечены и приведены в порядок дуэльные пистолеты. Подходящих пуль оказалось только две, и это смутило администратора, потому что противники должны были стреляться «до результата», то есть пока один из них не будет убит, а две пули позволяли обменяться выстрелами только один раз. Но дельный молодой человек заказал местному ювелиру отлить из свинца еще несколько пуль и таким образом решил эту задачу.
По-видимому, Мэр считал, что полезно заручиться общественной поддержкой, и администратор по его распоряжению заказал последнему художнику, который остался в Хлебникове, плакат-карикатуру, появившийся очень кстати, чтобы закрыть дыру в матовой стене радиостудии. На плакате был изображен Мэр с носом, похожим на свежую сливу, а над ним плавал маленький Гроссмейстер с подвернутой ножкой, стараясь уклониться от направленного на него пистолета.
Вопрос о секундантах решился просто: Мэр предложил эту почетную обязанность администратору Саше, и тот, разумеется, с восторгом согласился, а Петру Степановичу, у которого в чужом городе не было друзей, пришлось попросить старого резчика.
— Извините, Иван Георгиевич, вы, разумеется, понимаете, что не мне пришла в голову эта глупая затея, — сказал он. — Но отказываться неудобно, а без вас мне никак не обойтись.
И действительно, очень скоро выяснилось, что без Ивана Георгиевича он никак не мог обойтись. Более того: без Ивана Георгиевича дело могло кончиться плохо.
О месте и времени поединка можно было только догадываться, но, очевидно, догадались многие, потому что на каждом дереве в городском парке сидели мальчики и девочки (и среди них, разумеется, немухинские экскурсанты). Парк был расположен вдоль набережной, и в парусных лодках на море колыхались нетерпеливые зрители с полевыми биноклями в руках.
Те и другие громко спорили, держали пари, перекликались, но все умолкли, когда большой серый автомобиль, перерезав парк (что запрещалось), затормозил у площадки над пляжем, и Мэр в ослепительно белой рубашке, в сияющем пиджаке стального цвета, с гвоздикой в петлице, в белых шотландских брюках, искусно скрывающих его кривые ноги, вышел из машины. Заплывшие глазки опасно сверкали. Сизый нос грозно торчал над маленьким ртом. На золотой цепочке свисали с шеи на грудь золотые очки. Словом в сравнении с ним Петр Степанович и его секундант, покуривавшие в тени под платаном, выглядели так, как будто их и вовсе не было.
Однако пора было приступать к делу. Секунданты сошлись. Ящик с пистолетами был открыт. Проверили условленное расстояние. Два мраморных фонтана, из которых высоко взлетали струи воды, находились как раз в десяти шагах один от другого.
Необходимо отметить, что Петр Степанович был меткий стрелок, хотя из дуэльных пистолетов ему стрелять не приходилось. Однако и Мэр неоднократно хвастался, что может попасть в подброшенную копейку.
— Начнем, пожалуй, — сказал администратор Саша, которому очень хотелось, чтобы зрелище напоминало роковой поединок между Онегиным и Ленским. О сходстве не могло быть и речи, хотя бы по той причине, что Саша, привыкший в самодеятельности руководить массовыми сценами, говорил в рупор.
— Прежде всего, согласно дуэльному кодексу 1892 года, предлагаю соперникам помириться.
Мэр энергично замотал головой, а Петр Степанович подошел к фонтану, напился, вытер рот носовым платком и тоже сказал:
— Нет.
Он был спокоен, хотя немного жалел, что решительно отказался от плана, который накануне предложил ему Петька. План заключался в поголовном вооружении всех немухинских ребят рогатками, которые били не хуже дуэльных пистолетов. Пустить их в ход предполагалось до начала дуэли, причем Петька брался сделать Мэра «небоеспособным», как он выразился, в два удара.
Теперь Петька, возглавляя экскурсантов, сидел на каштане, который простирал свои нежные ветви над местом дуэли.
— В таком случае прошу занять места, — сказал в рупор Саша.
Первый выстрел, согласно жеребьевке, был за Петром Степановичем, и все ахнули, когда он стал целиться в Мэра. Но в эту минуту он подумал, что Гроссмейстеру по спасанию людей как-то не с руки расправляться с Мэром, который считается человеком, хотя и несимпатичным во всех отношениях. И хотя расправиться все-таки хотелось, он отвел руку в сторону и выстрелил в воздух.
Все ахнули. Все перевели дух. Все до одного уставились на Мэра, который мог оценить великодушие Петра Степановича, а мог и не оценить. Мэр не оценил. Злобно поджав маленький ротик, он стал усердно целиться в своего противника.
Необходимо отметить, что старый резчик, секундант Петра Степановича, лучше всех в городе знал характер Мэра, который в свое время начинал в Мастерской Игральных Карт под его руководством. Он как раз был уверен в том, что Лука Лукич не способен оценить благородный поступок. Поэтому, отправляясь на поединок, он заранее вынул из чемодана Петра Степановича волшебную палочку и на всякий случай положил ее в боковой карман его пиджака. Он не очень-то верил в чудеса, но наступило мгновение, когда он был вынужден до известной степени в них поверить.
Мэр выстрелил, и пуля, почти долетевшая до груди Петра Степановича, под прямым углом повернула налево и упала в траву.
Трудно передать, какое острое впечатление произвел на Мэра этот странный случай. Коварство, злоба, хитрость уступили место глубокому изумлению в плоских птичьих глазах. Впрочем, все изумились, и немедленно завязался спор. Одни стали утверждать, что это — чудо, а другие — что дуэльные пистолеты состарились и нет ничего удивительного в том, что они не могут послать пулю дальше десяти шагов.
Согласно условиям дуэли, теперь должен был вновь стрелять Петр Степанович. И он действительно выстрелил, но не в Мэра, а в случайно пролетавшую мимо ворону, хотя она была не в десяти, а в добрых тридцати шагах от места дуэли.
Зрители на этот раз не только ахнули, но стали оглушительно аплодировать. Все, кроме, разумеется, вороны, почему-то развеселились. Послышались крики: «Вот это да!», «Вот это работа!», «Какая прелесть!», «Сдавайся, Мэр!» и так далее.
Однако Мэр, по-видимому, и не думал сдаваться. На этот раз он целился долго, очевидно, надеясь попасть в живот противника, а между тем, хотя Петр Степанович ежедневно делал зарядку, много ходил и плавал, живот был его самым уязвимым местом. И снова пуля, долетев до намеченной цели, круто под прямым углом повернула, но на этот раз не налево, а направо. Повернула и упала в море, звонко булькнув, точно вылетела не из пистолета, а из пустой бутылки.
Казалось бы, этот звук должен был подбодрить Петра Степановича. Но, как это ни странно, он вдруг рассердился. Добрые глаза его омрачились, нашлепка на толстеньком носу позеленела от злости, и вопреки дуэльному кодексу он как-то потоптался на месте, загребая левой ногой. Именно с таким упрямым, непреклонным лицом он ставил заслуженную двойку вместо незаслуженной тройки.
Он выстрелил, почти не целясь, и, очевидно, попал, потому что Лука Лукич завертелся на месте, как флюгер. Он почему-то стал ниже ростом. Лицо у него стало испуганное, и он куда-то пошел, шатаясь, на подгибающихся ногах. Администратор вызвал в рупор «скорую помощь», но Мэр хрипло сказал: «Не надо!» — и ввалился в машину, у которой тоже стал жалкий, пристыженный вид.
— Домой, — пробормотал он, и ошеломленные зрители шарахнулись в сторону, освобождая дорогу машине.
То, что произошло через несколько минут, осталось в памяти зрителей на всю жизнь. Поношенная шуба показалась над городом, совершенно не похожая на ковер-самолет, но, однако, чем-то и похожая, потому что, поднимаясь все выше, она не падала на землю, а летела.
По команде Петьки немухинские ребята немедленно обстреляли ее из рогаток, но она была уже далеко. Очевидно, набрав высоту, Мэр застегнул шубу на вторую пуговицу, потому что, долетев до моря, она рванулась вперед, в сторону Летандии, как отметили наиболее проницательные зрители.
Почему Мэр решился на этот отчаянный шаг? Был ли он серьезно ранен и надеялся, что его быстро поставят на ноги тамошние врачи? Боялся ли, что будет уличен в краже волшебных палочек и раскрыт как обманщик перед ботаниками всего мира? Потерял ли надежду восстановить свое положение в городе после злосчастной дуэли?
Выражение «это покрыто мраком неизвестности» сюда не подходит. Все неизвестное в конце концов становится известным, и можно не сомневаться, что когда-нибудь мы узнаем, куда улетел Лука Лукич, благополучно ли он приземлился, помогли ли ему тамошние врачи и, наконец, удалось ли ему убедить жителей Летандии, чтобы его называли не Лукой Лукичом, а Мэром.
Прощание с детством
Удивительно, как быстро все изменилось в городе, когда шуба скрылась из вида.
Художники и поэты, удравшие из Хлебникова, немедленно стали складывать свои чемоданы. Домой, домой! Бал, который Неонилла задумала, был отменен, потому что ее стройные ножки потолстели, и золотые туфельки пришлось отнести в комиссионный магазин, где они были проданы как самые обыкновенные туфли, потому что золото оказалось фальшивым. Директор экскурсионного бюро публично поблагодарил немухинских ребят с Петькой во главе за то, что они мужественно обстреляли из рогаток авиашубу. Сад из волшебных палочек был немедленно передан городу, а Мэр был объявлен по радио жуликом и авантюристом.
Ириночка Синицына еще не стала петь, но время от времени напевала, а ее отец срочно делал новую колоду, чтобы Петр Степанович отвез ее в подарок младшей сестре Фетяска.
Не изменилась только волшебная палочка, которая еще недавно была веткой, полной цветов и листьев.
Конечно, Юра не знал, что он подарил Ириночке маленькое чудо. Но этот подарок был воплощением любви, а он был убежден, что его может спасти только любовь. Интересно, что Петр Степанович придерживался такого же мнения. Однако на всякий случай, кроме сухой ветки, нарушившей законы баллистики, он попросил Ириночку спеть любимый романс Юры и записал его на пленку. Он взял с собой маленький магнитофон.
Обратное путешествие прошло без приключений, так что о нем можно только упомянуть. Но в Немухине Петра Степановича ждало известие, глубоко огорчившее его как Гроссмейстера и как человека: Юра пропал.
Первым это известие принес Петька, который прямо со станции побежал к Заботкиным, разумеется, чтобы узнать, очень ли соскучилась по нему Таня. И через несколько минут они оба были перед Петром Степановичем, умывавшимся с дороги.
— Он пропал! — закричал еще с порога Петька. — Удрал! Его третий день ищут.
Таня, как человек рассудительный, объяснилась более подробно:
— Однажды вечером я заметила, что Юра по пожарной лестнице спускается в город, — сказала она, — а в другой раз утром, когда еще все спали, он бегом взлетел на чердак. И у него было счастливое лицо, вот что меня удивило! Словом, я думаю, что его надо искать в лесу. Ему нравится разговаривать с деревьями, и я его вполне понимаю.
Юра не вернулся и на следующее утро, и решено было отправить за ним поисковую партию в составе Петра Степановича, Тани и Петьки. К ним присоединилась Мария Павловна с судками, в которых находились гороховой суп, куриные котлеты и на сладкое кусок шоколадного торта. Трехразовое питание оставалось нетронутым в течение трех дней, и Мария Павловна справедливо полагала, что мальчик проголодался.
Нельзя сказать, что они так уж быстро нашли его. Короче говоря, они сами успели изрядно проголодаться, прежде чем Петька увидел промелькнувшую в ивовом кустарнике тонкую фигуру. Юра вежливо поздоровался и сказал, смеясь, что не удрал бы, предположив, что это обеспокоит таких почтенных людей.
— Это были три лучшие дня в моей жизни. Белки кормили меня лесными орешками, а знакомый еж показал грибы, которые нужно есть сырыми, потому что на сковородке они теряют свой оригинальный вкус. С моим другом Старой Березой мы говорили о смысле жизни, и она объяснила мне, почему не надо бояться смерти.
«Мы — и деревья и люди, — умирая, отдаем свою жизнь другим, — сказала она. — Я жалею, что Пушкин назвал природу равнодушной».
И пусть у гробового входа Младая будет жизнь играть, И равнодушная природа Красою вечною сиять.В молодости Старая Береза была влюблена в Ветра-Полуночника, случалось, что до утра он гладил ее покорные листья. В ее ветвях прятались партизаны. Она убедительно доказала мне, что деревья верно служат людям, а люди нередко относятся к ним беспощадно.
Юра рассказывал, и его странное лицо все разгоралось от радостного волнения.
— Мы верим тебе, — сказал Петр Степанович, — но ведь, кроме нас, никто тебе не поверит. Немногим удается проникнуть в выдуманную страну, и в конце концов они возвращаются, чтобы рассказать о ней обыкновенным людям. Я не стал бы уговаривать тебя, ты счастлив, но это короткое счастье! В обыкновенном мире, конечно, не бродят по лесам, разговаривая с березами, белками и ежами, ты же не захочешь огорчить тех, кто любит тебя. И, кстати, теперь тебе не нужно превращаться в собственный рисунок, потому что Лука Лукич улетел неизвестно куда в авиашубе, а мачеха надеется, что она навсегда избавилась от тебя.
— Короче говоря, — сказал Петька, — не будешь же ты всю жизнь бродить по лесам голодный, заросший, в ковбойке и оборванных джинсах. Вот еще Маугли нашелся! Лесники-то не знают о твоих фантазиях. Примут за браконьера — и вся недолга!
— Самое важное, что каждый час, каждую минуту тебя ждет надежда на счастье, — прибавила Таня.
Заслушавшаяся Мария Павловна уронила судки. Суп пролился, котлеты покатились, и только нетронутый кусок шоколадного торта соблазнительно темнел на зеленой траве.
Юра метнулся в сторону, когда Петр Степанович вынул из кармана волшебную палочку. В больших, мягких глазах было: «Да, да, да», но все выгнутое, как сломанный обруч, лицо говорило: «Нет, нет, нет». Победили, конечно, глаза, ведь недаром же говорят что они «зеркало души». В этом «зеркале» шаткое сомнение стало сменяться уверенностью, а ведь от уверенности не больше двух шагов до решения. Петр Степанович взял в руки волшебную палочку. Ему показалось, что Юра будет стесняться своего превращения, и он скомандовал:
— Прошу отвернуться!
Все послушно отвернулись в сторону, а когда Мария Павловна спросила: «Теперь можно?» — на месте сильванта стоял высокий юноша, смуглый, с вьющейся каштановой шевелюрой, длинноногий, плечистый, но, как ни странно, чем-то непохожий на обыкновенных людей.
«Это пройдет, — подумала Таня, — через два-три дня он ничем не будет отличаться от нас».
(Но она ошиблась. Прошли годы, Юра стал великим поэтом, а поэты, да еще великие, во многом отличаются от обыкновенных людей.)
— Это прощание с детством, — сказал он задумчиво. — Никогда больше я не буду жить в придуманной стране. Рисовать сильвантов я тоже не стану — я не трус, но, по-видимому, это слишком опасно. Мария Павловна, спасибо за обед, от которого остался только кусок шоколадного торта. Я с удовольствием съем его, у меня першит в горле от орехов, которыми меня угощали белки, а есть сырые грибы можно, мне кажется, только один раз в жизни. Сегодня я возвращаюсь в Хлебников. Я не буду больше жить у мачехи просто потому, что я ее не люблю, а она не любит меня. Я окончу школу, а потом стану резчиком в Мастерской Игральных Карт. Надеюсь, что Иван Георгиевич устроит меня в общежитие. Ириночка снова начнет петь, и весь город будет слушать ее. А иногда она будет петь негромко, почти шепотом для меня, когда мы будем одни гулять по набережной вдоль моря. А теперь простите меня за все тревоги, которые я нехотя вам причинил.
Все на свете, к сожалению, кончается, пора и мне поставить точку, без которой не может обойтись самая занимательная история. Но пусть это будет очень маленькая, едва заметная точка. Она не помешает мне снова вернуться в страну, где ловят погасшие звезды и говорят правду, только правду, и ничего, кроме правды.
Обсуждаем четвертую сказку и не находим пятую
— Почему вы думаете, — спросил меня дядя Костя, когда я прочитал ему эту историю, — что здесь нет ничего полезного для моего путеводителя? Во-первых, вы подробно рассказали о Павле Степановиче, что вполне соответствует третьему разделу плана: коренные жители, отлучавшиеся из города только по неотложным делам. А во-вторых, из этой истории можно сделать практические выводы. Почему бы, например, не устроить нечто вроде соревнования между Немухиным и Хлебниковым в отношении чистоты и порядка?
Я спросил, думает ли дядя Костя упомянуть в путеводителе о чудесах и нельзя ли их тоже включить в условия соревнования. Дядя Костя подумал.
— Именно можно. Более того, необходимо! Помилуйте, тысячи людей верят в летающие тарелки. Почему же не задуматься, по какой причине именно в Немухине и в Хлебникове никто не удивляется чудесам? И потом, не надо забывать, что мы еще не нашли ни самовар, ни пушечку, ни шкатулку.
— Дядя Костя, а вы не думаете, что эти вещи Лука Лукич оставил себе?
Это была минута, когда о глазах дяди Кости нельзя было сказать, что они смотрят в разные стороны, потому что они сошлись у переносицы и его ошеломленный взгляд был прямо устремлен на меня.
— Более того, — продолжал я, — не только Заботкины, но и Петя, и вы, и Павел Степанович много раз встречались с Юрой Лариным. Могли они спросить у него, не видел ли он у своего отчима самовар, пушечку или шкатулку? Правда, он улетел в неизвестном направлении, но в Хлебникове осталась мачеха Юры. Она, без сомнения, очень зла на Луку Лукича и именно поэтому расскажет нам, что он украл из Музея.
— Немедленно еду в Хлебников! — крепко зажмурив глаза от волнения, сказал дядя Костя. — Я просто вижу пушечку у нее на дворе.
Конечно, дядя Костя не поехал в Хлебников. Поехал я, и это было прекрасно. Правда, если смелая мысль о соревновании городов была бы осуществлена, Немухину пришлось бы признать свое поражение. Мне даже захотелось переписать страницы, на которых Юра Ларин рассказывал о том, как хорош его городок, опоясанный ветряными мельницами и украшенный ржавыми якорями. Я бы охотно побродил по узким улицам, вдоль которых дома стояли так близко друг от друга, что можно было обменяться рукопожатием с соседом, жившим на противоположной стороне.
В доме, где жил Лука Лукич, меня встретила мачеха Юры, Неонила Петровна. Пожалуй, теперь нельзя было назвать ее дамой, мечтавшей, чтобы ее маленькими стройными ножками любовался весь город. Скорее можно было поверить, что она действительно съела своего первого мужа. Она была в халате и шлепанцах (а не в узких туфлях). Однако, когда я заговорил о Луке Лукиче, злость все-таки закипела у нее в пятках и поднялась до самого горла.
— Слышала, слышала, — злобно сказала она, узнав, что я из Немухина. — Лука рассказывал, что он там жил, но климат, видите ли, ему не понравился. И уехал, хотя ему в ноги кланялись, чтобы остался.
— А вы случайно не помните, Неонила Петровна, не подарили ли ему что-нибудь на память, когда он уезжал?
— Как же не подарили? Подарили. Другой часы получает, или перстень какой-нибудь, или портфель с золотой дощечкой. А ему — смеху подобно — старую пушку.
— Пушку! — Сердце у меня куда-то поехало, и пришлось приструнить его, чтобы оно вернулось на место. — Можно взглянуть?
Пушечка, стоявшая во дворе, была петровская, а не елизаветинская, как значилось в описи. Ей цены не было, и сразу стало ясно, почему Лука Лукич увез ее из Немухина вместо прощального подарка. Я зажег электрический фонарик и заглянул в короткий ствол. Он был набит осенними листьями, занесенными в пушечку ветром, но когда мне удалось добраться до дна, я, к сожалению, ничего не нашел.
— Неонила Петровна, — сказал я таким сладким голосом, что слова растаяли во рту, прежде чем мне удалось заговорить снова. — А может быть, Лука Лукич получил в подарок не только пушечку, но еще что-нибудь? Скажем, модель фрегата или самовар?
На этот раз у меня не оставалось сомнений, что ей до смерти захотелось съесть меня, потому что вместо ответа она промолчала, злобно оскалив длинные желтые зубы.
Если бы ветер умел играть на свирели, я подумал бы, что это — ветер. Он даже представился мне в лаптях и соломенной широкополой шляпе. Чем ближе я подходил к Мастерской Игральных Карт, тем отчетливее различал нежный женский голос, а когда один прохожий с доброй улыбкой сказал другому:
«Ириночка», — я понял, что поет та самая Ириночка Синицына, о которой старый резчик с огорчением писал сестрам Фетяска, что его дочка перестала петь.
Приближаясь к дому Ивана Георгиевича, я увидел хлебниковцев, которые слушали ее на балконах, у калиток, а некоторые даже выглядывали из ворот. Как было принято выражаться в старину, они «щадили ее скромность».
Слушатели зашикали, убедившись, что я подхожу к дому. Впрочем, шиканье прекратилось, когда мне открыл сам Иван Георгиевич, которого сестры Фетяска предупредили о моем приезде.
— Милости просим, — радушно сказал он.
Я передал ему письмо от Зои Никитичны, а он не теряя времени, передал мне карточную колоду.
— Чтобы не забыть, — сказал он. — А то память стала слабовата… Извините, я отлучусь на минуту. Попрошу Ириночку петь немного потише. Видите ли она сейчас стирает и в этих случаях особенно громко поет.
Он вернулся не один. Юноша с каштановой шевелюрой, высокий, тот самый, который был чем-то похож на молодого Блока, поздоровался со мной и сказал, улыбаясь:
— А ведь я знаю, что вы были у мачехи и ничего не нашли. — Он был дома и хотя не участвовал в сцене, разыгравшейся между мною и мачехой, но как бы участвовал: сидел у окна и думал, войти ему или нет.
— Мне хотелось поговорить с вами наедине — сказал он. — А между тем по лицу Неонилы было уже заметно, что у нее закипает в пятках обида. Но скажите, пожалуйста, вы нарочно не спросили у нее о шкатулке, кроме фрегата и самовара?
Я схватился за голову:
— Забыл! Неужели она у нее?
— Нет, у меня. Я храню в ней письма, ответы на письма и…
Ручаюсь, что он хотел сказать: «и стихи». Но удержался.
— И другие бумаги.
— Где же она?
— У Ириночки, — ответил Юра, и я догадался, что именно он впервые стал называть ее именно Ириночкой, а вслед за ним и весь город. — Сейчас принесу.
Это была высокая шкатулка, внутри покрытая красным лаком, а снаружи — черным. Она искусно складывалась из двух других шкатулок и, раскрываясь, составляла, как это было недаром упомянуто в описи, поверхность, на которую, как на письменный стол, было наклеено зеленое сукно.
— Но в ней ничего нет, — сказал я, заглянув сперва в верхнюю, а потом в нижнюю часть.
— Совершенно верно. Но было.
— Рукопись?
— Да, и очень интересная, по меньшей мере для меня. В жизни Тани Заботкиной были, оказывается, приключения, которые мне и не снились. Я видел Лекаря — такой симпатичный маленький человек. Но представить себе, что за ним в Немухин прилетела вся его Аптека… Словом, много любопытного, хотя кое-что Ночной Сторож, без сомнения, придумал. Скажем, едва ли Солнечные Зайчики могли так долго прожить без воздуха. Все зайцы, как известно, нуждаются в воздухе, а солнечные уж и подавно! Ведь недаром же они старательно прячутся в пасмурную погоду! Но все это, разумеется, мелочи. Лошадь в розовых очках — просто прелесть! О сороках рассказано слишком подробно. Но зато историю о том, как два мальчика держали пари, кто дольше просидит под водой, вообразить, по-моему, невозможно. Вот!
И Юра торжественно протянул мне толстую тетрадь.
— Вам даже не придется переписывать ее, это сделала Ириночка, а у нее разборчивый почерк…
Он хотел продолжить, но в эту минуту Ириночка вошла в комнату, и это была минута, когда Юра забыл обо мне, о шкатулке, о том, что он в ней нашел, и даже, без сомнения, о том, что на дворе — день, а не ночь.
Я люблю слово «симпатичный», хотя в наши дни оно почему-то кажется старомодным. Так вот, это слово не просто подходило к Ириночке Синицыной, а, я бы сказал, подбегало. С первого взгляда можно было сказать, что о других она думает больше, чем о себе.
— Ночной Сторож назвал эту историю «Великий Нежелатель Добра Никому», — сказал Юра. — Но, по-моему, это не очень удачно. Ведь все-таки он желает добра собственной дочке! И потом, завидовать всем — это все-таки другое, чем не желать добра никому. Я назвал бы ее
МНОГО ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ И ОДИН ЗАВИСТНИК
Таня отправляется в аптеку «Голубые Шары»
Машинистка Треста Зеленых Насаждений стояла у окна, и вдруг — дзынь! — золотое колечко разбило стекло и, звеня, покатилось под кровать. Это было колечко, которое она потеряла — или думала, что потеряла, — двадцать лет назад, в день своей свадьбы.
Зубному врачу Кукольного Театра ночью захотелось пить. Он встал и увидел в графине с водой все золотые зубы, когда-либо пропадавшие из его кабинета.
Директор Магазина Купальных Халатов вернулся из отпуска и нашел на письменном столе золотые очки, которые были украдены у него в те времена, когда он еще не был директором Магазина Купальных Халатов. Они лежали, поблескивая, на прежнем месте — между пепельницей и ножом для бумаги.
В течение добрых двух дней весь город только и говорил об этой загадке. На каждом углу можно было услышать:
— Серебряный подстаканник?..
— Ах, значит, они возвращают не только золотые, но и серебряные вещи?
— Представьте, да! И даже медные, если они были начищены зубным порошком до блеска.
— Поразительно!
— Представьте себе! И в той самой коробочке, из которой она пропала!
— Вздор! Люди не станут добровольно возвращать драгоценные вещи.
— Ну, а кто же тогда?
— Птицы. Профессор Пеночкин утверждает, что это именно птицы, причем не галки, как это доказывает профессор Мамлюгин, а сороки, или так называемые сороки-воровки…
Эта история началась в тот вечер, когда Таня Заботкина сидела на корточках подле двери и слушала, о чем говорят мама и доктор Мячик. У папы было больное сердце — это она знала и прежде. Но она не знала, что его может спасти только чудо. Так сказал Главный Городской Врач, а ему нельзя не верить, потому что он Главный и Городской и никогда не ошибается — по крайней мере, так утверждали его пациенты.
— И все-таки, — сказал доктор Мячик, — на вашем месте я попробовал бы заглянуть в аптеку «Голубые Шары».
Доктор был старенький, в больших зеленых очках; на его толстом носу была бородавка, он трогал ее и говорил: «Дурная привычка».
— Ах, Петр Степаныч! — с горечью ответила мама.
— Как угодно. На всякий случай я оставлю рецепт. Аптека на пятой улице Медвежьей Горы.
И он ушел, грустно потрогав перед зеркалом в передней свою бородавку.
Папа давно уснул, и мама уснула, а Таня все думала и думала: «Что это за аптека „Голубые Шары“?».
И когда в доме стало так тихо, что даже слышно было, как вздохнула и почесала за ухом кошка, Таня взяла рецепт и отправилась в аптеку «Голубые Шары».
Впервые в жизни она шла по улице ночью. На улицах было не очень темно, скорее темновато. Нужно было пройти весь город — вот это было уже страшно, или скорее, страшновато. Тане всегда казалось, что даже самое трудное не так уже трудно, если назвать его трудноватым.
Вот и пятая улица Медвежьей Горы. Только что прошел дождь, и парадные подъезды блестели, точно кто-то нарисовал их тушью на черной глянцевитой бумаге. У одного из них, с распахнутой настежь дверью, был даже такой вид, как будто он говорил: «Заходите, пожалуйста, а там посмотрим». Но именно над этим подъездом горели в окнах большие голубые шары. На одном было написано: «Добро пожаловать», а на другом: «в нашу аптеку».
Маленький длинноносый седой человек в потертом зеленом пиджаке стоял за прилавком.
«Аптекарь», — подумала Таня.
— Нет, Лекарь-Аптекарь, — живо возразил человек.
— Извините. Могу я заказать у вас это лекарство?
— Нет, не можете.
— Почему?
— Потому что до первого июня чудесами распоряжается Старший Советник по лекарственным травам. Если он разрешит, я приготовлю это лекарство.
Он ушел, и Таня осталась одна.
Вот так аптека! На полочках стояли бутылки — большие, маленькие и самые маленькие, в которых едва могла поместиться слеза. Фарфоровые белочки, присев на задние лапки, притаились между бутылками. Это тоже были бутылки, но для самых редких лекарств. На матовом стекле вдоль прилавка вспыхивала и гасла надпись: «Антиподлин». Пока Таня раздумывала, что значит это странное слово, дверь открылась, и толстый мальчик, пугливо оглядываясь, вошел в аптеку. Это был Петька, тот самый, с которым она познакомилась в пионерском лагере в прошлом году. Но Петька был не похож на себя, вот в чем дело! Воротник его курточки был поднят, а кепка надвинута до самых ушей.
— Здравствуй, Петя. Вот хорошо, что мы встретились! Теперь мне будет не так страшно возвращаться домой.
— Если вам страшно, — возразил Петя, — вы можете купить таблетки от трусости, а мне они не нужны, потому что я ничего не боюсь. Кроме того, я вовсе не Петя.
Конечно, это был Петя! Конечно, он пришел, чтобы купить таблетки от трусости. Но ему стало стыдно, когда он увидел Таню, и он притворился, что он вовсе не Петя.
— Ах ты, глупый мальчишка, — начала было Таня, но в эту минуту вернулся Лекарь-Аптекарь.
— Советник не разрешил, — еще с порога сказал он. — У него сегодня отвратительное настроение.
— Пожалуйста, верните мне рецепт, — попросила Таня. — Где он живет? Главный Городской Врач сказал, что моего отца может спасти только чудо.
— Ради бога, замолчи, — болезненно морщась, сказал Лекарь-Аптекарь. — У меня больное сердце, мне жаль тебя, а это очень вредно. Надо же, в конце концов, подумать и о себе. Возьми рецепт. Он живет на Козихинской, три.
Таня знакомится с косолапенькой Лорой и получает коробочку, на которой нарисована птица
Дом был обыкновенный, давно не крашенный, скучный. Закутавшись в дырявую шаль, лифтерша сидела у подъезда. Она была похожа на бабу-ягу. Но это была, конечно, не баба-яга, а самая обыкновенная старая бабушка, закутанная в дырявую шаль.
— Девятый этаж, — сказала она сердито.
И Таня не успела опомниться, как лифт взлетел и распахнулся перед дверью, на которой было написано «Старший Советник». Таня нажала кнопку, и детский голос спросил:
— Кто там?
— Простите, пожалуйста, не могу ли я видеть…
Дверь распахнулась. Беленькая толстенькая девочка стояла в передней.
— А ты действительно хочешь его видеть?
— Конечно.
— Не удивляйся, пожалуйста, что я спрашиваю. Дело в том, что я никому не верю. Мой отец говорит, что верить никому нельзя, а уж своему-то отцу я все-таки должна поверить. Кстати, скажи, пожалуйста, ты обедаешь два раза в день?
— Нет.
— А я два, — со вздохом сказала девочка. — Отец, видите ли, беспокоится о моем здоровье. Ешь и ешь! И только смеется, когда я говорю, что это неприлично, когда у девочки нет даже намека на талию. Пойдем, я провожу тебя. Как тебя зовут?
— Таня.
— Ты ему не говори, что я пожаловалась.
— Ну что ты!
…Это был человек высокого роста, худощавый, черноглазый, лет сорока. Глаза у него были беспокойные, и левая ноздря время от времени отвратительно раздувалась. Но ведь и у хороших людей, как известно, бывают плохие привычки! Добрый доктор Мячик трогал же каждую минуту бородавку на своем толстом добром носу. Зато Старший Советник улыбался. Да, да! И можно было назвать эту улыбку добродушной, даже добродушнейшей, если бы он не потирал свои длинные белые руки и не втягивал маленькую черную голову в плечи.
— Что я вижу? — сказал он, когда девочки вошли в кабинет. — Дочка еще не спит? И даже привела ко мне свою подругу?
— Не притворяйся, папа! Ты прекрасно знаешь, что у меня нет подруг. Эта девочка пришла к тебе по делу. Ее зовут Таня.
— Здравствуйте. Извините. Меня направил к вам заведующий аптекой «Голубые Шары». Будьте добры, разрешите ему приготовить это лекарство.
Почему у Старшего Советника так заблестели глаза? Почему он так страшно вытянул трубочкой губы?
— Боже мой! — закричал он. — Ваш отец заболел! Какое несчастье!
— Разве вы его знаете?
— Еще бы! Я прекрасно знаю его. Много лет тому назад мы жили рядом, на одном дворе. Каждый день мы купались и очень любили нырять. Интересно, помнит ли он меня? Едва ли.
— Наверное, помнит, — вежливо сказала Таня. — Между прочим, он и теперь еще умеет отлично нырять.
— Вот как? — И Старший Советник схватился за сердце. — Лорочка, дружочек, приготовь мне, пожалуйста, прохладную ванну. Кажется, сегодня я опять не усну.
Можно было подумать, что Лоре не хочется выходить из комнаты, хотя не было ничего особенного в том, что отец попросил ее приготовить прохладную ванну.
— Подожди меня, хорошо? — шепнула она Тане и вышла.
— Но скажите, Таня, доктор Мячик предупредил вас, что лекарство должны принять сперва вы, а потом уже он?
— Я?
— Да. Но, если вы не хотите, я не буду настаивать, нет! Лекарство не нужно заказывать. Оно лежит у меня в столе.
И он протянул Тане коробочку, на которой была нарисована птица.
— Спасибо.
Таня взяла коробочку, поблагодарила и вышла. В коридоре она открыла ее. Там лежала пилюля, самая простая, даже хорошенькая. Она положила ее в рот и проглотила.
Вот тут неизвестно — сразу она превратилась в Сороку или прежде услышала, как Лора, выбежав из ванной, с ужасом крикнула:
— Не глотай!
Петька принимает таблетки от трусости и становится храбрым
Как же поступил Петька, когда Таня ушла из аптеки «Голубые Шары». Он поскорее купил таблетки от трусости и побежал за ней. Ему стало стыдно, что девочка попросила проводить ее, а он, мужчина, невежливо отказался.
На Козихинской было темно, район незнакомый. Таню он не догнал, потому что останавливался на каждом шагу и хватался за карман, в котором лежали таблетки.
Дом номер три опасно поблескивал под луной. Тощая кошка с разбойничьей мордой сидела на тумбе. Лифтерша, выглянувшая из подъезда, была похожа на бабу-ягу. А тут еще какая-то птица вылетела из окна и стала кружиться над ним так низко, что чуть не задела своим раздвоенным длинным хвостом. Это уж было слишком для Петьки. Дрожащей рукой он достал из кармана таблетки и проглотил одну, а потом на всякий случай — вторую. Вот так раз! Все изменилось вокруг него в одно мгновение. Дом номер три показался ему самым обыкновенным облупившимся домом. Кошке он сказал: «Брысь!» А от птицы просто отмахнулся и даже погрозил кулаком.
Разумеется, он не знал, что ей хотелось крикнуть: «Помоги мне, я — Таня!» Увы, теперь она могла только трещать как сорока!
— Ну, тетя, как делишки? — сказал он лифтерше.
— Не беги, не спеши, — сказала лифтерша. — Посидим, поболтаем.
Возможно, что, если бы Петька принял одну таблетку, он подождал бы Таню у подъезда, но он, как вы знаете, принял две, а ведь две — это совсем не то, что одна.
— Мне некогда болтать с тобой, тетя, — отвечал он лифтерше. — Ну-ка, заведи свой аппарат. — Ив одно мгновение он взлетел на девятый этаж. — Тебя-то мне и надо, — сказал он, взглянув на медную дощечку, и забарабанил в дверь руками и ногами.
Все люди сердятся, когда их будят, но особенно те, которым с трудом удается уснуть. Рассердился и Старший Советник. Но чем больше он сердился, тем становился вежливее. Такая уж у него была натура — опасная, как полагали его сослуживцы. Он вышел к Петьке, ласково улыбаясь. Можно было подумать, что ему давно хотелось, чтобы этот толстый мальчик разбудил его отчаянным стуком в дверь.
— В чем дело, мой милый?
— Здорово, дядя, — нахально сказал Петька. — Тут к тебе пришла девчонка, передай, что я ее жду.
Советник задумчиво посмотрел на него.
— Иди-ка сюда, мой милый, — ласково сказал он и провел Петьку в свой кабинет.
— Здравствуй, папа, — сказал он Старому Дрозду, который сидел нахохлившись в большой позолоченной клетке.
— Шнерр штикс трэнк дикс, — сердито ответил Дрозд.
В кабинете было много книг: двадцать четыре собрания сочинений самых знаменитых писателей, русских и иностранных. Книги стояли на полках в красивых переплетах, и у них был укоризненный вид — ведь книги сердятся, когда их не читают.
— Ты любишь читать, мой милый?
Конечно, Петька любил читать. И не только читать, но и рассказывать. Старшему Советнику повезло — он давно искал человека, который прочел бы все двадцать четыре собрания сочинений, а потом рассказал ему вкратце их содержание. Он усадил Петьку в удобное кресло и подсунул ему «Три мушкетера». Петька прочел страницу, другую и забыл обо всем на свете.
Таня знакомится с Доброй Старой Лошадью
Сорока — нервная птица и не живет в городах. Но Тане, разумеется, не хотелось улетать из родного города — ведь она еще не потеряла надежду снова превратиться в девочку с косой, переплетенной голубой ленточкой и красиво уложенной вокруг головы. Но когда она взлетела на дерево и уселась на ветку, покачивая длинным раздвоенным черным хвостом, никому, конечно, не пришло в голову, что это девочка, а не сорока.
Первый же мальчишка, который увидел Таню на Воробьевых горах, запустил в нее камнем, закричав:
— Гляди, ребята, сорока!
В Нескучном саду на нее накинулись галки, а в зоопарке чуть не проглотил гиппопотам за то, что она уселась на его голову, торчавшую из воды, приняв ее по неопытности за камень.
К вечеру, усталая и голодная, Таня залетела на бега. Здесь жили лошади в таких прекрасных просторных стойлах, что она от всей души пожалела, что Старший Советник не превратил ее в лошадь. Среди них были гордые кони, недавно выступавшие на состязаниях и поэтому находившиеся между собой в дурных отношениях; были молодые, с гордо блестевшими глазами. Но Таня залетела в стойло Старой Доброй Лошади, которая таскала вдоль дорожек бочку с водой и получала за это только побои. Таня вздохнула и в ответ услышала глубокий, протяжный вздох.
— Ну что, девочка, плохи наши дела? — сказала ей Лошадь.
— Откуда вы знаете, что я девочка?
— И ты узнала бы меня, если бы я была без хвоста. Увы, давно ли я жила с папой и мамой на Восьмеркиной, семь! Меня звали Ниночкой, а теперь — Аппетит. Что за нелепое имя! Я очень любила читать, особенно сказки. У меня были синие ленточки в гриве, я хочу сказать — в косах. Каждое утро я чистила зубы и каждый вечер мыла копыта, я хочу сказать — ноги, в горячей воде. Я уже начинала немного ржать по-английски. Сколько тебе лет?
— Двенадцать.
— А мне было пятнадцать. Для лошади это много. Вот почему я действительно Старая Лошадь. У меня болят кости, я плохо вижу, а другие лошади только смеются, когда я говорю, что мне нужны очки. Ежеминутно я ломаю руки — я хочу сказать, ноги — при одной мысли, что никогда больше не увижу своего маленького уютного стойла на Восьмеркиной, семь…
— Вы опять запутались, Лошадь, — сказала Таня. — Вы хотите сказать — своей маленькой уютной комнатки, да?
Великий Завистник
Мне не хочется, чтобы Старая Лошадь рассказала вам эту историю. Вы, наверное, заметили, что она все время сбивалась. Один раз она сказала — лягалась, а между тем речь шла о том, что мама уговаривала ее принять английскую соль. В другой раз она повторила: «Я ржала», и осталось неясным — она громко смеялась или действительно ржала. Словом, лучше я сам расскажу о Великом Завистнике — лучше для меня и для вас.
Это началось давно, когда на свете еще не было ни Петьки, ни Тани, а были другие мальчики и девочки, хорошие и плохие. Два мальчика жили на одном дворе. У одного была черная гладкая маленькая голова, которую он любил втягивать в плечи, а у другого — русая, а на затылке вихор. Каждый день они купались в реке. Раз купались, значит, ныряли. Вот почему Старший Советник спросил Таню, помнит ли еще ее папа о том, как они любили нырять.
Однажды они держали пари, кто дольше просидит под водой. Они глубоко вдохнули воздух и одновременно опустились на дно. «Раз, два, три, — считали они, — четыре, пять, шесть». Сердце билось все медленнее. «Семь, восемь, девять». Больше не было сил. Уф! И они вынырнули на поверхность. Первой показалась маленькая гладкая черная голова, а уже потом — русая, с мокрым вихром на затылке. Черный мальчик проиграл пари.
Потом они выросли, и все, что нравилось одному мальчику, не нравилось другому. Мальчик с русой головой любил бродить по горам. В конце концов он забрался так высоко, что орлы прислали ему золотую медаль. А мальчик с черной головой, спускаясь по лестнице, бледнел от страха.
Первый никогда не думал о себе. Он думал о тех, кого любил, и ему казалось, что это очень просто. А второй думал только о себе. Иногда ему даже хотелось попробовать, как это думают о других, хоть день, хоть час. Но как он ни злился — ничего не получалось.
Потом мальчик с русой головой стал художником, и оказалось, что он умеет делать чудеса. По крайней мере, так говорили люди, смотревшие на его картины. Мальчик с черной головой тоже научился делать чудеса, например, превращать людей в птиц и животных. Но кому нужны были эти чудеса? По ночам он угрюмо думал: «Кому нужны мои чудеса?» Он томился тоской — ведь завистники всегда томятся, тоскуют.
Он ломал руки, когда видел рыболовов, спокойно сидевших с удочкой над водой. Ему становилось тошно, когда он смотрел на юношей и девушек, которые, раскинув руки, ласточкой падали в воду. Он завидовал всем, кто был моложе его. У него не было друзей, он никого не любил, кроме дочки. Его отец когда-то был Министром Двора и Конюшен и никак не мог примириться с тем, что он потерял это звание. Сорок лет он не выходил из дома. Он постоянно ворчал, и, чтобы хоть немного отдохнуть от отца, Великий Завистник время от времени превращал его в Старого Дрозда и сажал в золоченую клетку.
«Здорово, папа», — говорил он ему, и Дрозд отвечал: «Шнерр штикс трэнк дикс».
Нельзя сказать, что Великий Завистник не лечился от зависти — каждое воскресенье Лекарь-Аптекарь приносил ему капли. Не помогали!
Иногда он боялся, что зависть пройдет — ведь, кроме зависти, у него в душе была только скука, а от скуки недолго и умереть. Иногда принимался утешать себя: «Ты хотел стать великим — и стал, — говорил он себе. — Никто не завидует больше, чем ты. Ты — Великий Завистник. Ты — Великий Нежелатель Добра Никому». Но чем больше он думал о себе, тем чаще вспоминал тот ясный летний день, когда два мальчика сидели под водой и считали: «Раз, два, три», — тот день, когда он проиграл пари и в его сердце впервые проснулась зависть.
Таня возвращается в аптеку «Голубые Шары»
— На себя я давно махнула рукой, — сказала Старая Лошадь. — Но ты должна надеяться, Таня. И главное — не привыкай к мысли, что ты Сорока. Не гордись своим раздвоенным длинным хвостом! Не трещи! Девочки быстро привыкают к тому, что они сороки, тем более что они вообще, как известно, любят трещать. Если ты увидишь золотые очки или золотое колечко, поскорее зажмурь глаза, потому что сороки воруют все, что блестит. И самое главное — постарайся все-таки заказать лекарство в аптеке «Голубые Шары».
— Спасибо, Старая Добрая Лошадь. Можно мне называть вас Ниночкой?
— Нет уж, брат. — Лошадь шумно вздохнула. — Куда уж! Правда, как девочка я еще ребенок, но зато как лошадь я старый, опытный человек.
— Рецепт остался у Великого Завистника, — стараясь не трещать, сказала Таня.
— Эх, ты! Впрочем, не беда. Я знаю Лекаря-Аптекаря. Он тебе поможет.
Ночь Таня провела в стойле, а утром полетела в аптеку «Голубые Шары». Да, Лошадь была права! Лекарь-Аптекарь с первого взгляда понял, что случилось с Таней.
— Не смей говорить, что этот негодяй превратил тебя в Сороку! — закричал он визгливо. — Не мучайте меня, у меня больное сердце. Дайте мне спокойно умереть.
Но, по-видимому, ему все-таки не хотелось умирать, потому что он взял с полки бутылку и выпил рюмочку, потом — другую.
— Яд! — сказал он с наслаждением.
Это был коньяк, о котором он любил говорить: «Это для меня яд».
— Ужасно, ужасно! — сказал он. — И самое печальное, что я ничего не могу для тебя сделать, решительно ничего. Не возражать! — крикнул он так громко, что фарфоровые белочки присели на задние лапки от страха. — Во-первых, до пенсии мне осталось только полгода. А во-вторых, ты дочь своего отца, а ведь ему-то именно этот негодяй и завидует больше всех на свете. И подумать только: если бы он просидел под водой хоть на одну секунду дольше, чем твой отец, они бы вынырнули друзьями! Все, что я могу сделать, — это посадить тебя на плечо и отправиться к больным. Сегодня у меня четыре визита.
…С Козихинской на Колыбельную, с Колыбельной на улицу Столовая Ложка, со Столовой Ложки на Восьмеркину — маленький, в потертом зеленом пиджаке, в ермолке, лихо сдвинутой на ухо, Лекарь-Аптекарь начал свой обход, а Сорока сидела у него на плече, стараясь не трещать по-сорочьи.
Один сел в калошу, другому соседка въелась в печенку, у третьего ушла в пятки душа — а попробуй-ка вернуть ее на старое место! Каждый раз, выходя от больного, он говорил Сороке: «Еще не придумал». Это значило, что он еще не придумал, как ей помочь. Наконец, выйдя от одного простодушного парня, который тяжело пострадал, сунув свой нос в чужие дела, он весело закричал:
— Готово!
Но, прежде чем рассказать Тане, что он придумал, Лекарь-Аптекарь вернулся домой, снял ермолку и зеленый пиджак, выпил рюмочку коньяку и сказал с наслаждением:
— Яд!.. Великий Завистник давным-давно лопнул бы от зависти, Таня. Но у него есть пояс, которым он время от времени затягивает свой тощий живот. Например, когда ты сказала, что твой отец до сих пор умеет превосходно нырять, — ручаюсь, что Великий Завистник раздулся бы, как воздушный шар, если бы забыл надеть пояс. Нужно стащить с него этот пояс — и баста.
— Стащить?
— Да! Мы сделаем это, — торжественно сказал Лекарь-Аптекарь. — Я тебе ручаюсь, что он лопнет, как мыльный пузырь. А знаешь ли ты, что произойдет, если он лопнет? Ты снова станешь девочкой, Таня. Я приготовлю лекарство по рецепту доктора Мячика, и твой отец будет спасен, потому что его может спасти только чудо. А Старая Добрая Лошадь вернется к своим родителям и снова будет носить голубые ленточки — не в гриве, а в косах.
Любитель необыкновенных историй рассказывает Лоре сказку о Красной Шапочке, и Лора запоминает ее наизусть
А Петька все читал и читал. Когда его окликали, он только спрашивал: «М-м?..» — и снова читал — строку за строкой, страницу за страницей. Одно собрание сочинений он прочел и принялся за другое. Можно было надеяться что он расскажет Великому Завистнику хотя бы вкратце, о чем написаны книги, стоявшие в нарядных, разноцветных переплетах на полках. А он не рассказывал. Не потому, что не мог, а просто так, не хотелось. Он даже попробовал, но Великий Завистник с таким удовольствием потирал свои длинные белые руки, когда кому-нибудь не везло даже в книгах, что Петька перестал рассказывать и теперь только читал.
Время от времени папа-Дрозд, злобно косясь на него, начинал кричать:
— Шнерр дикс, тэкс тррэнк!
Это значило: «Я — Министр Двора и Конюшен. Прогоните мальчишку!»
Тогда Петька накидывал на клетку одеяло, и, думая, что наступила ночь, Дрозд засыпал.
В общем, Петька совсем зачитался бы, если бы не Лора, которая то и дело приходила к нему поболтать.
— Между прочим, отец давно хотел съесть тебя, — сказала она однажды, — но я не позволила.
— Почему?
— Просто так. Мне смешно смотреть, как ты сидишь и читаешь.
Два раза в неделю она брала уроки у феи Вежливости и Точности и, вернувшись, показывала Петьке, как она научилась ходить — не боком, а прямо и легко, как снегурочка, а не тяжело, как медведь. Но Петька только спрашивал: «М-м?..» — и продолжал читать.
Чтобы похудеть, Лора ела теперь не пять раз в день, а только четыре и спала после обеда не два часа, а только час двадцать минут. И похудела, правда не очень. Но Петька все равно не обращал на нее внимания. Она надела на шею ожерелье и, разговаривая, все время играла им, как будто нечаянно. Но хоть бы раз Петька взглянул на это хорошенькое ожерелье из цветного стекла!
Оставалось только рассказать ему что-нибудь поинтереснее, чем эти толстые книги, от которых он не мог оторваться. И она отправилась к Любителю Необыкновенных Историй.
Это был отставной клоун, вырезавший трубки из виноградного корня, очень хорошие, хотя иногда он и забывал проделать отверстие для дыма. Зато истории, которые он рассказывал, были не то что хорошие, а превосходные, и очень жаль, что никто не хотел их слушать. Как только он открывал рот, жена говорила: «Ну, здрасте, поехал!» Дети — у него были взрослые, даже пожилые дети — начинали зевать, а гости приходили к нему с условием, что будут говорить они, а не он, и притом о самом обыкновенном: «У Марии Ивановны родился сын, а она ждала дочь» или: «Петр Ильич будет получать теперь не восемьдесят рублей в месяц, а восемьдесят пять рублей сорок копеек».
— Ага, старик, — с торжеством говорили они, уходя, — сегодня тебе не удалось рассказать ни одной необыкновенной истории.
Всем надоели его рассказы, вот почему он так обрадовался, когда к нему пришла Лора.
Она вошла немножко боком, но вообще почти прямо и если не так легко, как снегурочка, то уже не так тяжело, как медведь. Она вежливо поздоровалась и сказала:
— Не можете ли вы рассказать мне какую-нибудь интересную сказку? Я запомню ее слово в слово, у меня превосходная память.
— Да ради бога! — откладывая в сторону начатую трубку, сказал Любитель Необыкновенных Историй. — Сколько угодно. Грустную или веселую?
— Веселую.
— Отлично.
И он рассказал ей о девочке Красная Шапочка. Вы, конечно, знаете эту историю, дети? Может быть, она не очень веселая, особенно когда волк глотает бабушку, надевает ее чепчик, который ему совсем не идет, и ложится в постель, поджидая Красную Шапочку с пирогами. Но зато все кончается хорошо. А ведь это самое главное, особенно когда все начинается плохо.
Лора запомнила ее слово в слово — ведь у нее была превосходная память. Но слова почему-то запомнились ей в обратном порядке. Например, не «Жила да была девочка, которую прозвали Красная Шапочка», а «Шапочка Красная, прозвали которую девочка, была да жила». Понятно, что Петька послушал минуть пять, а потом засмеялся и сказал:
— Да, здорово это у тебя получается.
И снова принялся за чтение. Теперь, когда Лора приходила к нему, он только лениво смотрел на нее одним глазом и читал себе да читал строку за строкой, страницу за страницей. Иногда, впрочем, он рисовал на полях чертиков с хвостами, изогнутыми, как вопросительный знак.
Великий Завистник рассказывает о себе
Когда у Великого Завистника начиналась бессонница, он завидовал всем, кто спит. Он скрипел зубами, думая о том, что соседи сладко похрапывают с открытыми форточками: кто на боку, а кто на спине. А где уж тут уснешь, если то и дело приходится скрипеть зубами! Он завидовал даже ночным сторожам, впрочем, только тем, которые — даром что они были сторожа — все-таки спали.
Все люди стараются уснуть, когда им не спится. Старался и Великий Завистник. Он ведь тоже был как-никак человек. Он считал до тысячи, представлял себе медленно текущую реку или слонов, идущих один за другим, важно переставляя ноги. Ничего не помогало! Он открывал окно и долго ходил по комнате в туфлях и халате — остывал, чтобы потом сразу бухнуться в постель и заснуть. Остывать удавалось, а заснуть — нет. Может быть, потому, что он начинал беспокоиться, что слишком долго остывал и теперь еще, не дай бог, простудился. В этот вечер он даже решился слазить на крышу с авоськой — авось удастся словить хоть какой-нибудь сон — ведь над городом по ночам проплывают сны. И поймал, даже не один, а целых четыре. Но, спускаясь с чердака, он выронил авоську, и сны неторопливо выплыли из нее, задумчивые, неясные, похожие на дым от костра в сыром еловом лесу.
Когда не спится, лучше не смотреть на часы. Часы, как известно, иногда врут. Нельзя, например, сравнить их с зеркалом, которое всегда говорит только чистую правду. И все-таки, взглянув на часы, почти всегда можно узнать, далеко ли до утра, или близок ли вечер. До утра было еще далеко, и Великий Завистник решил сходить в аптеку «Голубые Шары».
— Извините, — сказал он, постучав в стекло, за которым неясно виднелась маленькая фигурка в халате. — Прошу простить, это я. Как живете, старина? Вы не спите?
Ему казалось, что подчиненным, чтобы они его любили, нужно почаще говорить: «Ну как, старина?», или: «Как делишки, собака?»
— Здравствуйте. Сейчас открою, — ответил Лекарь-Аптекарь. — Это он, — торопливо прошептал он Сороке. — Тебе нужно спрятаться, Таня. Сюда, сюда!
За аптекой была маленькая комнатка, в которой он готовил лекарства.
— Заходи, пожалуйста.
Он зажег полный свет, и фарфоровые белочки, притаившиеся между пузырьками, стали протирать глаза сонными лапками: они решили, что наступило утро.
— Извините, старина, что так поздно, — сказал, входя, Великий Завистник. — Что-то не спится, черт побери. Решил узнать, как ваши делишки, и кстати прихватить у вас какую-нибудь микстурку, чтобы поскорее уснуть. Нет ли у вас чего-нибудь новенького, дружище?
— Хм… новенького? Надо подумать.
Великий Завистник устало опустился в кресло. Пожалуй, он не был похож на Великого Завистника в эту минуту. Он вздыхал, и левая ноздря у него не раздувалась, как всегда, а уныло запала.
— А вы молодец, как я посмотрю, — сказал он, глядя, как Лекарь-Аптекарь, быстренько вскарабкавшись по лесенке, сунул свой длинный нос сначала в одну бутылку, а потом в другую. — Интересно, знаете ли вы, что такое скука?
— Аптекарю очень нужен нос, — не расслышав, ответил Лекарь-Аптекарь.
— Скука, я говорю.
— Скука? Скука, нет, не нужна. Нос и руки.
— Я смертельно скучаю, старый глухарь, — сказал Великий Завистник. — Все мне врут, и, кроме дочки, меня никто не любит. А ты думаешь, мне не хочется, чтобы меня любили, старик? (В минуту откровенности он любил называть подчиненных на «ты».) Очень хочется, потому что, если подумать, — я совсем неплохой человек.
Лекарь-Аптекарь промолчал. Он был занят — взвешивал маковый настой и перемешивал его с липовым медом.
— Ты думаешь, мне так уж хочется, чтобы этот мазилка умер? — продолжал Великий Завистник (так он называл Таниного отца). — Ничуть! Все равно ему уже никогда больше не придется нырять. Что касается его чудес, честно скажу, — не могу согласиться. Я видел его картины. Ничего особенного: холст, рама и краски.
Лекарь-Аптекарь молчал. Он размешивал микстуру стеклянной палочкой и старался не подсыпать в нее крысиного яду.
— Все, что угодно, можно сказать обо мне, — продолжал Великий Завистник. — Я простодушен, нетребователен, терпелив; меня легко обмануть. На днях, например, божья коровка притворилась мертвой, чтобы я ее не убил. И я поверил! Поверил, как ребенок. И только потом догадался и убил. У меня много недостатков, но уж в зависти меня никто и никогда не смел упрекнуть.
«Именно не смел», — подумал Лекарь-Аптекарь.
— Готово, — сказал он вслух. — Примите, и я ручаюсь, что через полчаса вы прекрасно уснете.
Возможно, что самое главное произошло именно в эту минуту. Великий Завистник встал и подтянул брюки — он забыл дома свой пояс. Разумеется, он сделал это по возможности незаметно — в присутствии подчиненных неудобно подтягивать брюки. Но у Лекаря-Аптекаря был острый глаз и, пробормотав: «Извините, пожалуйста», он торопливо прошел в маленькую комнатку за аптекой.
— Таня, — прошептал он одними губами.
Сорока, забившаяся в темный уголок, встрепенулась.
— Лети к нему. Он забыл дома свой пояс. Ты помнишь адрес?
— Да.
Лекарь-Аптекарь распахнул окно.
— Я постараюсь задержать его. Принеси мне пояс. Забудь о том, что ты девочка. Ты — Сорока-воровка.
Таня и Петька ищут и не находят пояс
Днем Великий Завистник ссорился с дочкой: все хотел превратить Петьку в летучую мышь, а она не хотела. Днем Лора приходила и показывала, как она теперь ловко ставит ножки, когда ходит, и как изящно складывает их, когда сидит. А ночью Петька был один-одинешенек, если не считать папы-Дрозда.
Никто не мешал ему читать и читать. Некоторые книги он перелистывал — они были холодные, точно на каждой странице лежала тонкая ледяная корка. Зато другие… О, от других невозможно было оторваться!
Однажды — это было как раз в ту ночь, когда Великий Завистник отправился в аптеку «Голубые Шары», — Петька заметил, что он похудел. Теперь уж никто не назвал бы его толстым мальчишкой! Это ему понравилось. Плохо только, что штаны стали падать. Он поискал веревочку — не нашел. У Великого Завистника на спинке кровати висел ремешок. Недолго думая Петька затянулся им и опять принялся за книжку.
Лора сладко похрапывала в своей комнате — набегалась за день, устала, повторяя на память уроки вежливости и приличных манер; кошка с разбойничьей мордой шумно метнулась на кухне — поймала мышонка — и все утихло, ни звука, тишина. Только страница прошелестит — прочитана, до свидания!
Вдруг кто-то постучал в окно. Петька взглянул одним глазом. Ничего особенного — Сорока. И он перевернул страницу. Но стук повторился.
— Открой.
«Гм… Странно. Сорока, а говорит человеческим голосом. Впрочем, в этом доме лучше не удивляться».
— Открой, ты слышишь? Сию же минуту.
Петька лениво распахнул окно и швырнул в Сороку пустой чернильницей — жаль, не попал!
— Хорош, — влетая в комнату, укоризненно сказала Таня. — Не пускает, да еще и кидается. Дай срок, влетит тебе от меня, глупый мальчишка.
Пожалуй, не стоит рассказывать, как они ссорились. Петька все говорил: «а ты…», «а ты…», и получалось, что Таня сама виновата в том, что ее превратили в Сороку. Наконец они принялись искать ремешок. Конечно, Петька забыл, что не прошло и часа, как он подтянул им брюки, — ведь это случилось между двумя страницами, из которых одна была интереснее другой! Да и трудно было представить себе, что Великий Завистник носил этот старенький ремешок. Его пояс — так им казалось — должен был состоять из стальных колец, тонких, как паутина.
Они искали долго. Нет и нет! Зато в письменном столе Таня нашла рецепт доктора Мячика и бережно спрятала его под крыло.
Они искали все время, пока Великий Завистник, зевая, шел домой из аптеки «Голубые Шары». Он задремал в лифте — так сильно подействовал на него настой на меду. Полусонный, еле передвигая ноги, он вошел в свою комнату, и только тогда Таня с Петькой перестали искать ремешок. Полумертвые от страха, они притаились под кроватью, на которую он рухнул, едва стащив с себя пиджак и брюки.
— Каршеракешак, — прошептала Таня.
Это значило — надо бежать. И Петька понял ее, хотя и не понимал по-сорочьи. Но нужно было подождать, пока Великий Завистник крепко уснет. И они сидели под кроватью, дрожа, особенно Таня, потому что Петька теперь уже не так трусил, как прежде. Но вот негромкие свисточки послышались в комнате — Великий Завистник всегда негромко посвистывал, а уж потом начинал храпеть. На цыпочках они выбрались в переднюю, оттуда на лестницу — и кубарем с девятого этажа! Кубарем катился Петька. Огорченная, громко вздыхая, повесив клюв, за ним плавно спускалась Сорока.
Великий Завистник впервые в жизни видит веселые сны
Он еще посвистывал, как уходящий поезд, а сны уже стояли в очереди, толпились: «Я первый! Нет, я! Позвольте, граждане, вот этот длинный сон может подтвердить, что первый именно я».
Нет, это были не длинные и не скучные, а восхитительные, приснившиеся впервые в жизни легкие сны! Мальчик, на которого Великий Завистник наступил в прошлом году, явился смеющийся, розовый и сказал, что ему совсем не было больно. Девочка, которую он превратил в Старую Лошадь, долго старалась втиснуться в лифт и наконец, отчаявшись, стуча копытами, вскарабкалась на девятый этаж — только для того, чтобы поблагодарить его: с тех пор, как она стала лошадью, для нее началась — так она проржала, положив ногу на сердце, — настоящая жизнь. Божья коровка, которую он убил, летала вокруг него, напевая: «Так мне и надо, тра-ля-ля», и когда он спросил ее во сне: «Почему?» — она ответила: «А потому, что нечего было притворяться мертвой».
Да, самое лучшее в мире — это сон, но нет ничего хуже, как проснуться от детского плача. А между тем случилось именно это. Кто-то громко плакал в соседней комнате. Неужели этот уткнувшийся носом в книгу толстый мальчишка?
Вскочив с кровати, Великий Завистник накинул халат, распахнул дверь… Плакала Лора. Она сидела на полу среди разбросанных книг; в руках у нее было длинное сорочье перо, и она плакала так громко, что у Великого Завистника защемило сердце: он, очень любил свою дочь.
— Что случилось? — крикнул он с ужасом.
— Он у… у… у…
— Фу! Ты меня напугала. Умер?
— Нет, ушел.
— Ушел? Это прекрасно… — начал было Великий Завистник, но успел произнести только «прек»… и подпрыгнул, потому что Лора больно ущипнула его за лодыжку. — Ай! Почему ты плачешь, мое бедное дорогое дитя? Ты жалеешь, что я не успел превратить его в летучую мышь?
Вместо ответа Лора легла на пол, прямо в маленькую лужу, которую она наплакала, и принялась бить об пол ногами.
— Хочу, хочу, хочу, — кричала она, — хочу, чтобы он вернулся!
Она колотила своими толстенькими косолапенькими ножками так сильно, что жильцы восьмого этажа поднялись на девятый, чтобы почтительно спросить, не пожаловаться ли им в домоуправление.
— Он вернется, обещаю тебе! Даю честное благородное слово.
— Я не верю! — кричала Лора. — Ты нечестный, неблагородный. Ты сам говорил, что никому нельзя верить.
— Но как раз в данном случае можно, — в отчаянии кричал Великий Завистник. — Не забывай, что я твой отец. Успокойся, я тебя умоляю. Откуда у тебя это перо?
— А-а-а! Я хочу, чтобы он сидел в кресле и читал. Я хочу, чтобы он спрашивал «м-м?..» и смотрел на меня… а-а-а… одним глазом!
— Хорошо, хорошо, он вернется и скажет «м-м?..», чтоб он пропал! И будет смотреть на тебя одним глазом.
Похолодев, он отнял у Лоры перо. Оно было сорочье, а сорочье перо могла выронить только Сорока.
Великий Завистник не находит свой пояс, хотя прекрасно помнит, что повесил его на спинке кровати
«Враги! — уныло думал он, грызя ногти и втягивая маленькую черную голову в плечи. — Мне завидуют, это ясно. Я на виду, мне сорок лет, а я уже Старший Советник. Я доверчивый, а доверчивым всегда худо. Вот пригрел этого мальчишку, а он ушел, даже не сказав спасибо.
Будем рассуждать спокойно: Сорока прилетела не за мальчишкой, а за рецептом. О на еще надеется заказать лекарство в аптеке „Голубые Шары“. Но аптекарь — мой друг! Я всегда относился к нему снисходительно… Тем хуже! Во всяком случае, для меня.»
«…Я запутался, — думал он через час, пугаясь и холодея. — Мне грозит опасность. Вот что нужно сделать прежде всего: подумать не о себе. Это освежает».
Ему всегда было трудно думать не о себе и главное — неинтересно. Но все-таки он подумал:
«Нет, Лекарь-Аптекарь не посмеет приготовить лекарство без моего разрешения. Ведь он знает, что до первого июля я распоряжаюсь чудесами. И Заботкин умрет».
Улыбаясь, Великий Завистник потер длинные белые руки.
«Да, но его отнесут во Дворец Изящных Искусств. Духовой оркестр будет играть над его гробом похоронный марш, и не час или два, а целый день или, может быть, сутки. Самые уважаемые в городе люди, — думал он с отчаянием, чувствуя, как зависть просыпается в сердце, — будут сменяться в почетном карауле у гроба».
Это была подходящая минута, чтобы надеть ремешок, и Великий Завистник протянул руку — помнится, он повесил его на спинку кровати. Ремешка не было. Он обшарил платяной шкаф — не забыл ли он ремешок в старых брюках? — вывернул карманы, обыскал письменный стол. Он разбудил дочку и пожалел об этом, потому что, едва открыв глаза, она залилась слезами. Он засунул в мусоропровод свою длинную белую руку, и рука поползла все ниже — в восьмой, седьмой, шестой, пятый этаж. Нет и нет! Вытянув губы в длинную страшную трубочку, бормоча: «Ах так, миленькие мои! Значит, так? Хорошо же!» — он вернулся в свою комнату.
Старая Лошадь деликатно стучится в аптеку «Голубые Шары»
Лекарь-Аптекарь сразу же понял, что Таня не принесла ему пояс.
— Не смей говорить, что ты не нашла его! — закричал он, схватившись за сердце. — Все погибло, если ты его не нашла. Он догадается, что это была ты, а если он догадается…
Сороки не плачут, как это доказывает профессор Пеночкин, или плачут крайне редко, как это утверждает профессор Мамлюгин. Но Таня еще совсем недавно была девочкой, и нет ничего удивительного в том, что она разревелась.
— Не сметь! — визгливо закричал Лекарь-Аптекарь. — Ты промочишь пиджак (Таня сидела на его плече), я простужусь, а мне теперь некогда болеть. Что это еще за мальчишка?
Мальчишка, стоявший у двери с виноватым видом, был Петька, и Лекарь-Аптекарь не хватался бы так часто за сердце, если бы он знал, что на Петьке был ремешок, старенький, потертый ремешок из обыкновенной кожи. Но он этого не знал.
— Мало с тобой хлопот! Здравствуйте, теперь еще придется возиться с этим трусишкой. Оставьте меня в покое! У меня больное сердце. Дайте мне спокойно умереть.
Но, по-видимому, ему все еще не хотелось умирать, потому что он выпил рюмочку коньяку, а потом, немножко подумав, вторую.
— Яд, — сказал он с наслаждением. — Давай сюда рецепт, глупая девчонка. Он догадается, что это была ты, и меня, конечно, уволят, если я приготовлю лекарство для твоего отца. А мне, понимаешь, до пенсии осталось полгода. Боже мой, боже мой! Всю-то жизнь я старался не делать ничего хорошего людям, и никогда у меня ничего не получалось, никогда! И вот, пожалуйста, опять! Ну ладно, куда ни шло! В последний раз. Умереть мне на этом месте, если я еще когда-нибудь сделаю хорошее людям… Зверям — другое дело. Птицам — пожалуйста! Но людям… Почему ты так похудел, мальчик? Ты голоден? Возьми бутерброд. Ешь! Я тебе говорю, ешь, подлец! Ох, беда мне с вами.
Он ворчал, и вздыхал, и сморкался в огромный застиранный зеленый платок, хотя, как известно, все аптекари в мире стараются не сморкаться, приготовляя лекарство. А если и сморкаются, так не в зеленые застиранные, а в новенькие, белые как снег платки. Но он сморкался, и моргал, и почесывался, и даже раза два одобрительно хрюкнул, когда стало ясно, что для Таниного отца он приготовил не лекарство, а настоящее чудо. Плохо было только, что вместо одного пузырька он нечаянно приготовил два, а за два ему могло попасть ровно вдвое.
— Возьми, Таня.
Сорока осторожно взяла пузырек, на котором было написано: «Живая вода».
— Так. А второй мы спрячем. Не дай бог, пригодится. Счастливого пути. Живо! — закричал он и затопал ногами. — А то я еще передумаю! Ох, как вы мне все надоели.
И Таня улетела — вовремя, потому что позвонил телефон, и Лекарь-Аптекарь услышал голос, который действительно мог заставить его передумать.
— Как дела, старина? — спросил Великий Завистник. (К сожалению, это был он.) — Я хочу поблагодарить тебя за микстуру. Спал, как ребенок. Здорово это у тебя получилось!
— Пожалуйста, очень рад.
— Погромче!
— Очень рад, — заорал Лекарь-Аптекарь.
— То-то же. Ты вообще имеет в виду, что я к тебе отношусь хорошо. Вот сейчас, например, с удовольствием потрепал бы тебя по плечу, честное слово. Ты ведь, кажется, любишь птиц?
— Что?
— Птиц, говорю! Воробьев там, канареек, сорок?
— Птиц? Нет. То есть, смотря каких. Полезных — да. Которые поют. А воробьев — нет. Они не поют.
— Понятно. Кстати, тут на днях к тебе не залетала Сорока?
— Нет. А что?
— Да тут, понимаешь… просыпаюсь, а на полу Сорочье перо. Уронила. Ну, ты меня знаешь! Захотелось вернуть. Ищет, думаю, огорчается птица. Значит, не залетала?
— Нет.
— Хм… тем лучше. До свидания. Ах, да! Надеюсь, ты еще не забыл, что чудесами распоряжаюсь лично я впредь до распоряжения?
— Что вы!
— Ну то-то. Прощай.
Они одновременно положили трубки и зашагали из угла в угол: Великий Завистник, зловеще бодаясь маленькой черной головкой, а Лекарь-Аптекарь, в отчаянии хватаясь за свой длинный, сразу похудевший нос. Они шагали, думая друг о друге. Мысли Великого Завистника летели в аптеку, а мысли Лекаря-Аптекаря — прямехонько на Козихинскую, три, — и нет ничего удивительного в том, что они столкнулись по дороге. Раздался треск, не очень сильный, но все же испугавший Лошадь, тащившую бочку с водой вдоль Соколиной Горы. Это была та самая Старая Лошадь, которую когда-то звали Ниночкой, а теперь — Аппетит. Ей давно хотелось узнать, заказала ли Таня лекарство, и заодно, если удастся, купить у Лекаря-Аптекаря очки. Купить, правда, было не на что.
«Но, может быть, — думала она, — я сумею оказать ему какую-нибудь услугу? Например, для микстур и настоев нужна вода. А у меня она как раз очень вкусная и сколько угодно».
«…Да, без очков трудно жить, — думала она грустно. — Особенно когда даже подруги норовят стащить твое сено из-под самого носа. Впрочем, какие они мне подруги? Разве они носили когданибудь ленточки в косах? Разве их награждали когда-нибудь почетной грамотой, как меня, когда я перешла в третий класс? Кто танцевал в школе лучше, чем я? Кто пел, как соловей: „И-го-го, и-гого!“?»
Ей показалось, что она встала на цыпочки и запела, а на самом деле она подняла хвост и заржала. Лекарь-Аптекарь, все еще шагавший из угла в угол, прислушался с беспокойством.
Трах! — Аптечная посуда зазвенела в ответ, а фарфоровые белочки привстали, насторожив уши.
Трах! — Это, конечно, была Старая Лошадь. Ей казалось, что она стучит деликатно, чуть слышно.
Живая вода превращается в сиреневый куст
Живая вода плескалась в пузырьке. Таня крепко сжимала его в своем черном изогнутом клюве. Еще несколько взмахов — и дома! Вот и знакомая крыша показалась вдали. На трубах сидели воробьи и вдруг все разом шумно вспорхнули, должно быть, испугались большой черно-белой птицы, которая несла что-то непонятное в клюве. А ну взорвется или еще что-нибудь? Мальчишки запускали воздушного змея на Медвежьей Горе. Они тоже, конечно, заметили Таню, тем более что подул ветер и воздушный змей поплыл к ней навстречу. Он был страшный, рогатый, с высунувшимся красным языком. Любая сорока закричала бы караул. Но Таня не закричала, — ведь она могла выронить пузырек! Зажмурив глаза, она приближалась к змею. Поздороваться с ним и обогнуть — это был бы лучший выход из положения. Но и для этого нужно было открыть клюв, а она сжимала его все крепче.
— Сорока-воровка!
— Гляди, ребята! Что-то стащила!
Один камень больно ударил Таню в плечо, другой оцарапал ногу, а третий… третий разбил пузырек! Тонкая, засверкавшая на солнце нить протянулась между землей и небом. Это пролилась живая вода, и там, где она упала, вырос такой красивый сиреневый куст, что Ученый Садовод немедленно написал о нем книгу под названием «Чудо на Медвежьей Горе».
Расстроенная, измученная, с подбитым крылом, Таня полетела обратно в аптеку. Она помнила, что Лекарь-Аптекарь приготовил два пузырька живой воды. Какая удача! Но на куске картона, висевшем между голубыми шарами, было написано: «Хотите верьте, хотите нет — аптека закрыта». Почерк был Петькин, и никто другой не нарисовал бы в уголке чертика с хвостом, изогнутым, как вопросительный знак.
Да, аптека была закрыта, и Таня, взлетев на антенну, с которой были видны все двенадцать улиц Медвежьей Горы, принялась ждать — что еще могла она сделать?
Прошел час, другой, третий. Начался дождь. Таня промокла до последнего перышка — и это было прекрасно, потому что она боялась уснуть, а под дождем не уснешь, тем более без зонтика, правда? Но дождь перестал, и она уснула. Солнце поднялось; когда она открыла глаза, подъезды сверкали после дождя, точно нарисованные мелом на белой глянцевитой бумаге, а кусок картона с надписью попрежнему висел между голубыми шарами. ЛекарьАптекарь не вернулся. Но куда же в таком случае делся Петька? Таня полетела на Бега к Старой Лошади, но в ее стойле спал, расставив ноги, грубый Битюг с рыжим хвостом.
— Простите, вы не знаете?.. Прежде в этом стойле часто останавливалась одна девочка… Я хотела сказать, одна лошадь.
— Кобыла Аппетит снята с рациона, — проржал, просыпаясь, Битюг, который прежде возил заведующего продовольственной базой и привык выражаться так же кратко, как он.
— Снята? Почему?
— Как сбежавшая в неизвестном направлении, утащив казенную упряжь, тележку и бочку с водой.
Ничего не оставалось, как вежливо извиниться и улететь. Но куда?
…В отвратительном настроении Таня спряталась в самой густой листве Березового Сада. Все казалось ей в черном свете, даже солнце, на которое, как все сороки, она могла смотреть не мигая. Голубое небо казалось ей серым, зеленые листья — рыжевато-грязными, а птица, сидевшая на соседнем дереве, самой обыкновенной скучной вороной.
— Шакикракишакерак, — вдруг сказала птица.
Очень странно! На чистейшем сорочьем языке это значило: «Добрый вечер».
— Каршишкарирашкераш, — быстро ответила Таня.
Это значило: «Какая приятная неожиданность! Представьте себе, я приняла вас за ворону».
— Нет, я Сорока. Ворона, если вы имеете в виду Белую Ворону, приходится мне тетей. Вы живете в городе?
— Да. А вы?
— Я предпочитаю деревню. Здесь слишком шумно. Вы знаете, совершенно невозможно сосредоточиться. Какое хорошенькое это у вас перо с хохолком!
— Ну что вы, ничего особенного. Вот сегодня ночью я потеряла перо. До сих пор не могу прийти в себя. Знаете, такое белое-белое с черной отделкой.
— Что вы говорите! И не нашли?
— Нет, конечно. Ужасно жалко. Что это у вас на ноге? Неужели колечко? Какая прелесть! Бирюза?
— Да. И у меня еще есть бирюзовые сережки. А вот брошку никак не подберу. Вы не поверите, на днях обшарила все магазины. Нет и нет! Хоть плачь.
— А это колечко вы тоже купили в комиссионном?
— Купила? Зачем? Стащила.
Они потрещали еще немного, а потом Сорока пригласила Таню к себе в Лихоборы.
— Я живу у тети, — объяснила она. — Она будет очень рада. Лететь недалеко, всего сто километров.
«Осторожно, Таня. Помни, что девочки быстро привыкают к тому, что они сороки, тем более что они вообще любят потрещать. Ты девочка, ты не сорока». Можно было подумать, что Старая Добрая Лошадь была тут как тут — так ясно услышала Таня ее грустный предостерегающий голос. Но она устала и была голодна. В конце концов, что за беда, если она проведет денек с этой веселой Сорокой?
— К сожалению, мне необходимо найти Лекаря-Аптекаря, — сказала она. — Он ушел и не вернулся. Я прождала его целую ночь.
— Ну и что же! Тетя скажет вам, куда он ушел. Вы знаете, какие они умные, эти вороны.
Таня задумалась.
— Кракешак, — сказала она наконец.
На чистейшем сорочьем языке это значило: «Я согласна».
Пришлось сделать порядочный крюк, но, улетая из города, не могла же она не заглянуть домой хоть на минутку!
Окно папиной комнаты было распахнуто настежь, он рисовал, лежа в постели, а мама сидела подле с книгой в руках. У нее было грустное лицо. Она, без сомнения, волновалась за Таню. Но почему-то ей стало легче, когда Сорока, приветливо кивая, пролетела мимо окна.
Лекарь-Аптекарь прощается со своей аптекой, а Старая Добрая Лошадь надевает очки
Что же значила странная надпись на картоне, висевшем между голубыми шарами: «Хотите верьте, хотите нет — аптека закрыта»? Не стоит ломать себе голову над этой загадкой, тем более что нет ничего проще, как разгадать ее. Лекарь-Аптекарь испугался. А когда человек пугается, он бежит.
«Нужно сделать вид, что меня нет, — подумал он, поговорив с Великим Завистником по телефону. — А когда человека нет, его нельзя уволить, потому что нельзя уволить того, кого нет. Прекрасная мысль! Но ведь очень трудно сделать вид, что меня нет, когда я тут как тут, в своей ермолке, в зеленом пиджаке, со своими порошками и микстурами, в которых никто не может разобраться, кроме меня. Значит, нужно удрать. Куда?»
И он решил удрать к Ученому Садоводу, симпатичнейшему человеку, который, как об этом неоднократно сообщали газеты, прекрасно относился к цветам, вообще растениям и некоторым насекомым. Можно было рассчитывать, что столь же хорошо он относится к некоторым людям, таким, например, как Лекарь-Аптекарь. Итак, решено!
Он собрался было вызвать такси, но именно в эту минуту — трах! — постучалась Старая Лошадь.
— Вот кстати-то! — закричал он. — Здравствуй, Ниночка. Надеюсь, ты не очень занята и сможешь отвезти меня к Ученому Садоводу?
— Конечно, могу! — с восторгом проржала Лошадь.
Да, это был выезд, на который стоило посмотреть! Отправляясь в дорогу, Лекарь-Аптекарь надел пальто, тоже зеленое — у него была слабость к этому цвету, — и сменил ермолку на широкополую шляпу, и под которой грустно торчал его озабоченный нос. Через плечо он надел дорожную сумку, в которой звенели банки и склянки. Он уселся на передке, чтобы за спиной уютно плескалась вода, и все поглядывал по сторонам — не летит ли Сорока? Петька вскарабкался на бочку. Какой же мальчишка откажется прокатиться — если не на роллере, так на бочке с водой?
Что касается Лошади… О, это был один из лучших дней ее жизни! Когда Лекарь-Аптекарь укладывался, она попросила его подарить ей очки. Конечно, если бы у него было время, он подобрал бы для нее очки по глазам. Но он очень торопился и нечаянно подарил очки, через которые весь мир кажется веселым, счастливым.
Теперь она была в этих очках, выглядевших очень мило на ее бархатном добром носу. Первые два-три километра она шла осторожно, на цыпочках — привыкала, но, как только город с его сверкающими автомобильными фарами, презрительно косившимися на водовозную клячу, остался позади, она пустилась вскачь, приплясывая и напевая.
Как все искренние, простодушные люди, она пела обо всем, что встречалось по дороге. Но встречалось как раз не то, что она видела. Или, вернее сказать, видела она совсем не то, что встречалось. Каменщики в серых фартуках строили дом, а ей казалось, что они не в серых фартуках, а в голубых и что кирпичи сами летят им в руки; мальчишки плелись в школу, а ей казалось, что они бегут со всех ног, чтобы поспеть к началу занятий. Это было даже опасно, потому что на одной улице рабочие чинили мост, а ей показалось, что они его уже починили, и водовозная бочка с пассажирами едва не угодила в канаву.
Ленивая Девчонка лежала на берегу этой канавы, подложив под голову учебник арифметики и выставив на солнце голые ноги.
— Скажите, пожалуйста, как проехать к Ученому Садоводу? — спросил ее Лекарь-Аптекарь.
— Не скажу.
— Почему?
— Лень.
— Но ведь ты уже сказала целых три слова? — с интересом спросил Лекарь-Аптекарь.
— Да. А адрес не скажу. Он длинный.
— Редкий случай, — определил Лекарь-Аптекарь, любивший, как все врачи, редкие случаи и думавший, что, кроме него, никто с ними справиться не может. — Возьми, девочка.
— Он протянул ей коробочку с порошками.
— Принимай перед школой.
— Не возьму.
— Почему?
— Лень.
— Тебе лень принять лекарство от лени?
— Да.
— Понятно. Держи ее, Петя! — сказал рассердившись Лекарь-Аптекарь. — Ну-ка. Вот так!
И он всыпал в рот девочке три порошка сразу.
Да, это было сильное средство! Достаточно сказать, что с этого момента никто больше не называл Ленивую Девчонку ленивой. Ее называли как угодно — злой, невежливой, глупой, неблагодарной, капризной, но ленивой — нет, никогда! Как встрепанная, вскочила она на ноги и прежде всего отбарабанила адрес Ученого Садовода:
— Поселок Любителей Свежего Воздуха, улица Заячья Капуста, дом семью девять — шестьдесят три, квартира восемью девять — семьдесят два.
Конечно, она хотела сказать, что дом три, а квартира два, но ей не терпелось поскорее выучить таблицу умножения.
— Спасибо, — сказал Лекарь-Аптекарь. — А как проехать в поселок Любителей Свежего Воздуха?
— До поворота — прямо, девятью девять — восемьдесят один, — ответила бывшая Ленивая, а теперь Прилежная Девчонка, — а потом налево, десятью десять — сто.
И все-таки, если бы не Застенчивый Кролик, они не добрались бы до Ученого Садовода. Дело в том, что Старая Лошадь побежала к повороту не прямо, а криво (потому что в Волшебных Очках все кривое казалось ей прямым), а потом повернула не налево, а направо. Теперь понятно, почему они сбились с дороги?
Вот тогда-то из грядок капустного поля и выглянул Кролик! Он выглянул и спрятался, а ушки остались торчать. Потом снова выглянул и спрятался, а ушки остались… Потом выглянул и спрятался в третий раз, а ушки… Но тут его окликнул Лекарь-Аптекарь.
Это был обыкновенный Кролик, отличавшийся от других, еще более обыкновенных, тем, что никак не мог сказать одной молоденькой, только что кончившей школу Крольчихе: «Будьте моей женой».
Иногда он говорил: «Будьте…», иногда ему даже удавалось сказать: «моей», но тут он умолкал, краснея, и девушке оставалось только огорченно шевелить ушами.
«Неизвестно, — думала она. — Может быть, он хочет сказать: „Будьте моей сестрой“?»
Опустив глазки, Кролик стоял перед Лекарем-Аптекарем и от смущения не мог выговорить ни слова.
— Ага, понятно, — добродушно сказал Лекарь-Аптекарь. — Ничего особенного. Сильнейшая застенчивость. Проходит с годами. Две капли на сахар два-три раза в день. Только не перебарщивать. У меня был случай, когда один застенчивый юноша, вроде вас, выпил сразу весь пузырек и превратился в нахала.
И он протянул Кролику пузырек и пипетку. Что же должен был ответить Кролик? Ну конечно: «Благодарю вас, сахара у меня, к сожалению, нет. Нельзя ли принимать ваше лекарство с капустой?» А он только открыл и закрыл рот.
— Дядя Аптекарь, — закричал Петька. — Что вы, честное слово! Откуда у него сахар? Он же кролик.
— Пожалуй, — согласился Лекарь-Аптекарь. — Но это лекарство можно принимать и с водой. Сейчас мы это сделаем. Петя, нацеди стаканчик. Ну, братец Кролик, смелее.
Кролик выпил лекарство.
— Спасибо, — сказал он чуть слышно. — Вы заблудились, — добавил он немного погромче. — К Ученому Садоводу — не направо, а налево, — сказал он обыкновенным голосом, как самый обыкновенный незастенчивый кролик. — Он живет в зеленом домике под черепичной крышей! — заорал он, по-видимому совершенно забыв, что минуту назад от смущения не мог выговорить ни слова. — Извините, я тороплюсь.
И со всех ног он побежал искать Крольчиху, чтобы сказать ей: «Будьте моей женой».
И все-таки они с большим трудом нашли дом Ученого Садовода. Дело в том, что дом был очень маленький и зеленый, а сад — очень большой и тоже зеленый. А найти зеленое в зеленом трудно, особенно если первое зеленое — маленькое, а второе — большое.
Но еще труднее оказалось найти в этом большом зеленом самого Ученого Садовода. Петька обегал все дорожки, пока не наткнулся на худенького старичка в широкополой шляпе, который сидел на корточках и с озабоченным лицом прислушивался к разговору между Тюльпаном и Розой.
— Невозможно, невозможно, — говорил Тюльпан. — Подумать только, за десять дней ни одного дождя! Ты побледнела.
— В конце концов эта жара погубит нас, — отвечала Роза. — Ты просто не представляешь себе, как мне хочется пить.
— Где же твоя роса?
— Ее выпили пчелы.
Да, стояла сильная жара. Анютины глазки вот-вот готовы были закрыться навсегда, левкои лежали в обмороке, и только канны гордо подставляли солнцу свои огненно-красные крылья.
Вот почему Ученый Садовод так обрадовался, увидев за калиткой Старую Лошадь, которая, по-видимому, — он подпрыгнул от радости, — привезла целую бочку чистой прохладной воды. На передке сидел старичок в длинном зеленом пальто и широкополой шляпе.
«Ага, понимаю, — подумал Ученый Садовод. — Это новая водовозная форма».
— Добро пожаловать, — сказал он. — Вы приехали вовремя. Позвольте прежде всего поблагодарить вас от имени моего сада, который положительно умирает от жажды.
Гусь-обманщик
«Нет, Лекарь-Аптекарь не решится приготовить лекарство для Таниного отца, — думал Великий Завистник. — Как-никак я все-таки часто называю его то старина, то собака. Бывают, конечно, подлецы! К ним относишься хорошо, а они возьмут и устроят гадость. Ну, этот-то нет! Полгода до пенсии. Да и поговорил я с ним как-то ловко: и пригрозил и приласкал. А что, если все-таки приготовит? Что, если этот Мазилка поправится? Страшно подумать!
…Бог с ним, с поясом, — думал он уныло. — Пропал и пропал. Пора мне уже отвыкать от него. Жизнь научила меня завидовать, а по природе-то я же добряк! Я готов все отдать первому встречному. Вот сейчас, например: последнюю рубашку готов снять с себя, только бы Мазилка скончался».
С тех пор, как пояс пропал, он не читал газет. Зачем? Могут напечатать что-нибудь хорошее, а ему вредно волноваться. Могут напечатать, что награжден кто-нибудь, чего доброго, или что дела вообще идут хорошо. Нет уж, бог с ними! Но радио он иногда все-таки слушал.
И вот однажды в последних известиях сообщили, что на днях в Большом Зале Мастеров открывается выставка. Это было бы еще полбеды. Но на этой выставке все картины принадлежали Таниному отцу. Вот это уже была настоящая подлость! Мало того, на выставке — Великий Завистник почувствовал, что ему нечем дышать, — будет присутствовать сам художник, выздоровевший после тяжелой болезни. Так и было сказано: «сам».
Возможно, что Великий Завистник тут же свалился бы в сильнейшем сердечном припадке, если бы не раздался звонок. Кто-то пришел к нему, и, наскоро проглотив микстуру от зависти, Великий Завистник подошел к двери:
— Кто там?
— Га-га.
Это был Гусь, тот самый, о котором говорили: «Хорош Гусь». Он был обманщик, но глупый, и ему удавалось обмануть только тех, кто был еще глупее, чем он. Великий Завистник посылал его разузнать, куда убежал Лекарь-Аптекарь.
— Ах, это ты, старина? Как дела?
— Дела га-га.
— Выражайся яснее.
— Я нашел их, — торжественно сказал Гусь. — Они скрываются в поселке Любителей Свежего Воздуха, в доме Ученого Садовода.
— Ах так! Отлично!
— Отлично, да не совсем. Вы их там не найдете.
— Почему?
— Потому что вчера расцвели тополя.
— Ну и что же?
— А то, что он летает, га-га.
— Кто — он?
— Не кто, а что, — сказал Гусь. — Пух от тополей.
— Не понимаю.
— Каждая пушинка немедленно сообщит Лекарю-Аптекарю о вашем приближении. Так приказал Ученый Садовод, а его даже столетние дубы не смеют ослушаться, не то что какой-то там пух. У меня ведь тоже есть пух, так что в свое время я интересовался этим вопросом. Но у меня другой, так называемый гусиный. Тут нужна интрига, га-га. Например, я надену платочек и подойду к ним, знаете, вроде баба принесла им грибы. А вы спрячетесь под грибы. Вам ведь ничего не стоит. Они станут покупать, а вы — раз! И га-га!
— А нос?
— Ну и что же, у баб бывает такой нос. Или иначе: накинуть на домик сеть, чтобы они все попались, а потом вынимать по очереди Лекаря-Аптекаря, Лошадь и Петьку.
Великий Завистник поморщился: он не любил дураков.
— Да, это мысль, — сказал он. — Но понимаешь, старина, возня. Уж если плести сеть, — она мне для других дел пригодится, почище. Кстати, ты не заметил случайно, не валяется ли там где-нибудь ремешок? Такой обыкновенный, потертый? Ну, просто такой старенький ремешок с пряжкой? Не видел?
— Видел. Он на Петьке.
— Что?!
— То, что вы слышите. А зачем вам ремешок? Я лично предпочитаю подтяжки.
— Конечно, конечно, — волнуясь, сказал Великий Завистник. — Я тоже. Значит, так: прежде всего нужно выбрать ветреный день. Пух легко уносится ветром. Если ветер дует, скажем, северный, а ты явишься тоже с севера, — они тебя не заметят. Во-вторых, надеть нужно не платочек, а бантик на шею — в бантике у тебя представительный вид. Стало быть, ты войдешь, вежливо поздороваешься и скажешь: «Не могу ли я видеть Лекаря-Аптекаря из аптеки „Голубые Шары“?» Он спросит: «А что?» — «К вам едет знаменитый астроном». — «Зачем?» — «А затем, скажешь ты, что жена попала ему не в бровь, а в глаз, и теперь он не может отличить Большую Медведицу от Малой. Не будете ли вы добры принять его?» А вместо астронома приеду я. Понятно?
— Понятно.
— Эх, братец!
А нужно вам сказать, что Лора была в соседней комнате и слышала этот разговор. Она сидела на Петькином стуле и читала Петькину книгу, ту самую, которую он не успел дочитать. На полях она рисовала чертиков, и чертики получались совсем как Петькины — с длинными хвостами, изогнутыми, как вопросительный знак. А чтение — нет, не получалось. Может быть, потому, что Петьке было интересно, что будет дальше, а ей все равно. Она обрадовалась, узнав, что Гусь знает, где Петька.
Когда Гусь уходил, она догнала его на лестнице и попросила передать Петьке записку. Записка была коротенькая: «Берегись».
Правда, она написала «биригись», но только потому, что очень волновалась: а вдруг Гусь не возьмет? Но Гусь взял. Может быть, если бы он умел читать, записка мигом оказалась бы в руках Великого Завистника. Он не умел. Ему и в голову не пришло, какую неприятность может причинить ему эта записка.
…И нужно же было, чтобы именно в этот день с Крайнего Севера прилетел Северный Ветер! Продрогший, с льдинками в усах, раздувая щеки, он принялся за работу — срывать крыши, ломать деревья, раскачивать дома, свистеть в дымоходах. Тополевый пух он в одно мгновение унес туда, где даже и не растут тополя. И Гусь, приодевшийся, в отглаженных брюках, в новеньких подтяжках, с черным бантиком на шее, никем не замеченный, пришел к Ученому Садоводу.
Все были дома. Лекарь-Аптекарь, Ученый Садовод и Петька пили чай на открытой веранде, а Лошадь в очках бродила вокруг, пощипывая траву, которая казалась ей сладкой как сахар.
— Здравствуйте, — вежливо сказал Гусь. — Приятно чаю попить.
— Здравствуйте. Милости просим.
— Благодарю вас, некогда. Дела.
И Гусь рассказал Лекарю-Аптекарю о знаменитом астрономе, которому жена попала не в бровь, а в глаз. Кое-что он напутал, назвав Большую Медведицу просто га-га. Но Лекарь-Аптекарь все-таки понял.
— Пусть приезжает, — сказал он. — Конечно, астроному нужны глаза. Почти так же, как аптекарю — нос.
Еще не было случая, чтобы он отказал больному.
— Благодарю вас, — сказал Гусь и откланялся, шаркнув лапками в отглаженных брюках.
Но тут он вспомнил о записке, которую Лора просила передать Петьке.
— Виноват, мне бы хотелось поговорить с мальчиком, — сказал он. — У меня к нему поручение. Так сказать, личное га-га.
Петька соскочил с веранды, и они отошли в сторону.
— Выкладывай! — сказал он.
Гусь вытащил из-под крыла записку. Вот тут-то и произошла неприятность, о которой Гусь непременно догадался бы, будь он хоть немного умнее. Петька прочел записку и, пробормотав: «Ага, понятно», схватил его за горло.
— Предательство! — закричал он Лекарю-Аптекарю. — Великий Завистник подослал к нам этого шпиона. Надо удирать. Значит, так: вы складываете вещи, а я запрягаю Лошадь.
Таня ищет Лекаря-Аптекаря, и бывший Застенчивый кролик советует ей заглянуть к Ученому Садоводу
К сожалению, Старая Лошадь была права: девочки быстро привыкают к мысли, что они сороки. Привыкла и Таня. По-сорочьи она говорила теперь лучше, чем по-человечьи. Вдруг она забывала, как сказать собака, корова, трава. Нельзя сказать, чтобы она так уж гордилась своим раздвоенным длинным хвостом, однако поглядывала на него не без удовольствия, распустив на солнце, чтобы каждое перышко отливало золотым блеском.
Она жила у Белой Вороны, симпатичной и еще совсем недавно красивой женщины, к сожалению, сильно пополневшей под старость. Впрочем, она держалась мужественно.
— Надо бороться, — говорила она и, полетав над Березовой рощей, спрашивала Таню: — Ну как, похудела?
Как известно, самое верное средство, чтобы похудеть, — стоять на одной ноге после обеда. И она стояла, долго, с терпеливой, страдающей улыбкой, завидуя цаплям, которые полжизни стоят на одной ноге, не думая о том, как это трудно.
Первое время все сороки казались Тане на одно лицо, и Белая Ворона посоветовала ей прежде всего научиться отличать себя от других.
— Ну, а отличив себя от других, — говорила она назидательно, — не так уж и трудно научиться отличать других от себя.
Действительно, оказалось, что это нетрудно. Одни ходили, покачивая хвостом, как дрозды, а другие — как трясогузки; одни любили душиться дубовым, а другие — березовым соком; одни красили ресницы пыльцой от бабочек, а другие — самой обыкновенной пылью, настоянной на воде. Зато трещали они все без исключения.
— А вы знаете, что…
Так начинался любой разговор, а потом следовала какая-нибудь новость — без новостей сороки жить не могли.
— А вы знаете, что в соседнем лесу уже никто вообще не носит узеньких перьев?
— Что вы говорите?
— То, что вы слышите.
Или:
— А вы слышали, что на Туманную поляну прилетела испанская Голубая Сорока? Оперение — чудо!
— Что вы говорите?
— То, что вы слышите. Хлопает крыльями совершенно как мы, а слышится: не «хлоп», а «кликикиклюк». Заслушаешься! Ну, прелесть, прелесть!
Профессор Пеночкин утверждает, что сороки питаются свежим швейцарским сыром, а не только земляными червями, как это утверждает профессор Мамлюгин. Но тот же профессор Пеночкин предполагает (впрочем, весьма осторожно), что в качестве приправы к швейцарскому сыру сороки питаются слухами и новостями.
«Если это не так, — пишет он в своем труде „Сорока как сорока“, — они бы, по-видимому, вообще не трещали. Ведь трещать-то надо о чем-нибудь, правда?»
Это было убедительно, и Таня, проведя среди сорок несколько дней, должна была с ним согласиться. Та самая молодая сорока, с которой она познакомилась в Березовом саду, чуть не умерла от скуки только потому, что сидела на яйцах и, следовательно, не могла отлучиться из гнезда, чтобы узнать хоть какую-нибудь новость.
Пришлось вызвать к ней «скорую помощь», и она пришла в себя лишь тогда, когда санитарка шепнула ей по секрету, что ее соседка лежит в обмороке, убедившись в том, что она высидела кукушку.
Вот почему Белая Ворона пообещала Тане найти Лекаря-Аптекаря.
— О человеке, который ходит в зеленой ермолке, — сказала она, — без сомнения, ходит множество сплетен и слухов. А если он еще к тому же и холост…
— Он старенький. Полгода до пенсии.
— Ну и что же? Тем более.
И действительно, не прошло двух-трех дней, как сороки принесли на своих хвостах интересную новость: обыкновенный Кролик, отличавшийся от других, еще более обыкновенных, тем, что он не мог сказать одной молодой Крольчихе: «Будьте моей женой», — вдруг осмелел, сказал и женился. Кто же вылечил его от застенчивости? Маленький длинноносый человечек, но не в ермолке, а в шляпе.
— Ну и что же! — радостно сказала Таня. — В дороге он сменил ермолку на шляпу.
Она полетела к бывшему застенчивому Кролику, и он вышел к ней с женой и детьми — их было у него уже трое.
— Застенчивость — это не что иное, как отсутствие воспитания, — сказал он. — Надеюсь, мы с женой сумеем внушить это детям. Да, Лекарь-Аптекарь спрашивал меня, как проехать к Ученому Садоводу. И я показал дорогу, хотя тогда был еще очень застенчив. Вы как, по воздуху или пешком? Лучше по воздуху, ближе и легче найти. Черепичная крыша. — Спасибо. До свидания. — Счастливого пути. Дети, что нужно сказать? — Счастливого пути, — хором сказали крольчата.
Лекарь-Аптекарь, Петька и Старая Лошадь отправляются в Немухин, а за ними — и сама аптека «Голубые Шары»
Между тем выезд, на который стоило посмотреть, превратился в выезд, на который невозможно было досыта насмотреться. Прощаясь, Ученый Садовод украсил Старую Лошадь розами, и теперь она стала похожа на пряничного доброго льва, которого хотелось съесть, — так она была мила и красива. В шляпе Лекаря-Аптекаря тоже торчала роза, но бледно-желтая, чайная, называющаяся так потому, что она была привезена из Китая. А китайский чай, как известно, так хорош, что его пьют без сахара — во всяком случае, сами китайцы. Петька, который, как все мальчишки, презирал цветы, все-таки обвил водовозную бочку цветущим голубым плющом и приколол к своей курточке несколько анютиных глазок. Словом, выезд утопал в цветах, и было бы очень хорошо, если бы пассажиры (или хотя бы Лошадь) знали, куда они едут. Гусь-предатель, которого они захватили с собой, даже спросил Петьку:
— Скажите, пожалуйста, куда вы изволите ехать?
Он стал очень вежлив после того, как этот мальчик чуть не свернул ему шею. Но, увы, хотя Петька и сказал отрывисто: «Куда надо», никто не мог ответить на этот вопрос.
— Прямо или направо? — спросила Лошадь, когда они добрались до перекрестка, на котором скучал, повесив голову, длинный белый столб-указатель. «Мухин — 600 метров» — было написано на стрелке, показывающей прямо. «Немухин — тоже 600» — было написано на другой, показывающей направо.
— Аида в Немухин! — закричал Петька.
Лекарь-Аптекарь строго посмотрел на него и сказал Лошади:
— Прямо.
На ночлег пришлось остановиться в поле. Лекарь-Аптекарь завалился на боковую, а Петька стал рассматривать его банки и склянки. Одну, в которой что-то поблескивало, он откупорил, просто чтобы понюхать, — и Солнечные Зайчики стали выскакивать из бутылки, веселые, разноцветные, с отогнутыми разноцветными ушками. Одни скользнули в темное, ночное небо, другие побежали по дороге, а третьи, прыгая и кувыркаясь, спрятались в траве.
На бутылке было написано: «Солнечные Зайчики. От плохого или даже неважного настроения. Выпускать по одному».
Ну вот! По одному! А он небось выпустил сразу штук сорок. И Петька поскорее заткнул бутылочку — испугался, как бы ему не попало.
Наутро они приехали в городок Немухин и сняли комнату у веселого Портного, который целыми днями сидел, поджав ноги, и шил пиджаки, жилеты и брюки. Вечерами, чтобы размять ноги, он катался — летом на роликах, а зимой на коньках. На роликах он катался лучше всех в Немухине, а на коньках едва ли не лучше всех в Советском Союзе. Если бы не музыка, он, может быть, стал бы даже чемпионом — так ловко он выписывал на льду имя девушки, на которой собирался жениться.
— Не можете ли вы вылечить меня от любви к музыке? — попросил он Лекаря-Аптекаря. — Дело в том, что на катке каждый вечер играет оркестр, а я так люблю музыку, что забываю о своих фигурах. Однажды, например, я заслушался и вместо трех с половиной сальто в воздухе сделал только три. Ну, куда это годится!
С такой удивительной болезнью Лекарь-Аптекарь встретился впервые. Любовь к деньгам, или так называемую скупость, он лечил. Любовь к спиртным напиткам — тоже. А вот любовь к музыке… Он обещал подумать.
В общем, если бы не Гусь, который все время боялся, что его съедят, в Немухине жилось бы прекрасно. Гусь начинал ныть с утра:
— А вы меня не съедите?
— Не съедим, — отвечали ему. — Но только потому, что гусятина у тебя невкусная, старая. А то съели бы, потому что ты — предатель.
— Ну и что же? Подумаешь! Ну и предатель! Тогда отпустите. Меня дома заждались.
А домой нельзя.
Почему?
— Потому что ты скажешь Великому Завистнику, что мы в Немухине. И он такое с нами устроит, только держись!
Гусь успокаивался, но наутро опять начиналось:
— А вы меня не съедите?
В общем, все было бы хорошо, если бы аптека не соскучилась по своему Аптекарю.
Соскучились бутылки, большие, маленькие и самые маленькие, в которых едва могла поместиться слеза. Соскучились Голубые Шары, годами слушавшие бормотание своего хозяина, который разговаривал с ними, как с живыми людьми. Порошки пересохли и пожелтели. На микстурах появилась плесень. И, хотя многие врачи в настоящее время утверждают, что плесень тоже лекарство, никто еще не пробовал лечиться ею от зависти или лени. Единственный человек, побывавший в аптеке, был немухинский Портной, да и то лишь на несколько минут — в Москве у него были дела, и он торопился. Лекарь-Аптекарь дал ему ключи, чтобы он поискал лекарство от любви к музыке, мешавшей ему стать чемпионом.
Но больше всех, без сомнения, соскучились белочки. Беспокойно двигая своими пушистыми хвостами, они все прислушивались — не скрипит ли дверь, не пришел ли хозяин?
Именно они-то и начали этот перелет — повидимому, единственный в истории Аптек и Аптекарей всего мира. Присев на задние лапки, они прыгнули в маленькую комнатку за Аптекой, а оттуда в открытую форточку, ту самую, через которую вылетела Сорока.
Как они догадались, что Лекарь-Аптекарь скрывается в Неухине, осталось неизвестным, хотя можно предположить, что они узнали об этом от Портного. Так или иначе, белочки выпрыгнули и полетели — ведь они прекрасно умеют летать. За ними помчались к своему хозяину порошки, таблетки, микстуры, травы, пилюли, коробочки, пузырьки, и среди них, конечно, тот, на котором было написано «Живая вода». И, наконец, последними неторопливо поднялись в воздух Голубые Шары — левый, на котором было написано: «Добро пожаловать», и правый, на котором было написано: «в нашу аптеку».
Все это произошло очень быстро — Портной не успел опомниться, как его мастерская превратилась в Аптеку: порошки, немного перемешавшиеся дорогой, расположились на своих местах, микстуры и настойки выстроились рядами. И хотя в мастерской было тесновато, зато на длинном портняжном столе — куда просторнее, чем на вертящихся этажерках. Голубые Шары по старой привычке удобно устроились на окнах. Висевший между ними кусок картона тоже перебрался в Немухин, но теперь Петька переделал надпись: «Хотите верьте, хотите нет — аптека открыта».
Таня находит Лекаря-Аптекаря
Трудно было представить себе, что худенький старичок, поливавший левкои из старой, заржавленной лейки, и есть Ученый Садовод, о котором писали, что он прекрасно относится к цветам, вообще растениям и некоторым полезным насекомым. Но к сорокам он относился, без сомнения, несколько хуже, потому что едва Таня показалась на дороге, как он нахлобучил на себя шляпу, поднял плечи и замер — изобразил пугало, очевидно совершенно забыв о том, что как раз пугало-то и должно изображать человека.
— Простите, — робко начала Таня. — Я не трону ваши цветы, а червяк мне попался только один, да и то полудохлый. Я ищу Лекаря-Аптекаря. Мне сказали, что он остановился у вас.
— Ах, боже мой! Не напоминайте мне о нем, — сказал Ученый Садовод со вздохом. — Вы знаете это чувства? Человек уезжает, и вдруг оказывается, что жить без него положительно невозможно. Но я-то что! Мои цветы так соскучились по нему, что приходится поливать их по три раза в день. Сохнут!
— Где же он?
— Не знаю. Он очень торопился. Я боюсь за него, — тревожно сказал Ученый Садовод. — Мне кажется, что он просто-напросто удирал от кого-то.
Что могла сказать бедная Таня? Она поблагодарила и улетела.
Так она и не нашла бы Лекаря-Аптекаря, если бы в поле под Немухином не наткнулась на Солнечных Зайчиков, которых Петька выпустил из бутылки. Они еще прыгали, скользили в траве, прятались друг от друга. Заигрались! Ведь они были зайчики, а не взрослые зайцы.
— Скажите, пожалуйста, не видели ли вы Лошадь в очках? — спросила их Таня.
— Конечно, видели! — ответил самый пушистый Зайчик с самыми длинными разноцветными ушками. — Мы сидели в бутылке, бутылка лежала в сумке, а сумка висела на плече Лекаря-Аптекаря. Лекарь-Аптекарь сидел на передке за водовозной бочкой, а бочку тащила Лошадь в очках. Мы ехали в Немухин. И приехали бы, если бы Петька не выпустил нас из бутылки.
Сороки, как известно, летают медленно и даже вообще больше любят ходить, чем летать. Но Таня полетела в Немухин, как ласточка, а быстрее ласточек летают только стрижи. Вот и Немухин! Вот и аптека «Голубые Шары»! Вот и Лекарь-Аптекарь! Она опустилась на его плечо и сказала:
— Здра…
На «вствуйте» у нее не хватило дыхания.
Танин папа не беспокоился о дочке. Он был уверен, что она отправилась с пионерским отрядом в далекий поход — так ему сказала Танина мама. Странно было только, что она не зашла проститься. Но мама сказала, что ей не хотелось будить отца, а это было уже вовсе не странно.
По-видимому, вскоре он должен был умереть — по крайней мере, так утверждали врачи, разумеется, когда они думали, что он их не слышит. Но ему все казалось: а вдруг — нет?
— В общем, там видно будет, — говорил он себе и работал.
Он писал мамин портрет, и его друзья в один голос утверждали, что этот портрет мог рассказать всю мамину жизнь. Каждая морщинка говорила свое, и, хотя их было уже довольно много, художнику казалось, что двух-трех все-таки еще не хватает.
— Сюда бы еще одну, маленькую, — говорил он смеясь. — И сюда. А без третьей я, так уж и быть, обойдусь.
И вот однажды, когда она пришла, чтобы пожелать ему доброго утра, он заметил, что на ее лице появилась как раз та морщинка, которая была нужна, чтобы закончить портрет.
— Вот теперь все стало на место, — сказал он и поскорее принялся за работу.
Он не знал, что новая морщинка появилась потому, что мама беспокоилась за Таню, от которой не было ни слуху ни духу.
Чтобы закончить «Портрет жены художника» — так называлась картина — нужно было только несколько дней. И оказалось, что именно эти несколько дней прожить совсем нелегко. Но он старался, а ведь когда очень стараешься, становится возможным даже и то, что положительно не под силу. Он работал, а ведь когда работаешь, некогда умирать, потому что, чтобы умереть, тоже нужно время.
— Да, эта морщинка чертовски идет тебе, — устало сказал он жене, когда кисть в конце концов все-таки выпала из руки. — Никогда еще ты не была так красива.
Союз художников объявил, что первого мая откроется его выставка, и до сих пор он все развешивал свои картины — разумеется, в воображении. А теперь перестал.
— Завещаю вам пореже трогать бородавку на вашем толстом носу, — сказал он доктору Мячику. — В конце концов это ей надоест, она сбежит от вас, а без бородавки, имейте в виду, ни один пациент вас не узнает.
Он еще шутил!
— Пожалуй, «Портрет жены художника» придется назвать портретом его вдовы, — сказал он друзьям.
Это тоже была еще шутка.
С каждым часом ему становилось все хуже.
— Может быть, мне станет легче от клюквы? — спрашивал он жену. — Или от ежевики?..
— А не попробовать ли нам черничного киселя? — спрашивал он, когда не помогли ежевика и клюква.
У него было так много учеников и друзей, что, когда Смерть вошла в комнату, она должна была проталкиваться сквозь толпу, чтобы добраться до его постели.
— Извините, — говорила она вежливо, — я вас не толкнула? Не будете ли вы любезны посторониться? Благодарю вас.
Друзья расступались неохотно, и она опоздала — не надолго, всего лишь на несколько минут. Но этого было достаточно: черно-белая птица с раздвоенным длинным хвостом мелькнула за окнами, и в открытую форточку влетел пузырек, на котором было написано: «Живая вода».
— А, наконец-то! — сказал доктор Мячик. — Ну-ка, дайте мне столовую ложку.
Смерть еще проталкивалась, но уже не так решительно, как прежде.
— Виновата, — говорила она слабеющим голосом. — Посторонитесь, господа. Что же это, в самом деле, такое?
— Боюсь, что вы опоздали, сударыня, — сказал ей доктор. — Если не ошибаюсь, вам здесь нечего делать.
Это было именно так.
Танин папа выпил ложку живой воды, и Смерть остановилась, хотя была уже в двух шагах от постели. Он выпил вторую, и она попятилась назад. Он выпил третью, и Смерть вышла из комнаты. Она спускалась по лестнице с достоинством, как и полагается почтенной особе, привыкшей к тому, что в конце концов она берет свое, хотя подчас и приходится подождать денек или годик.
Сороки
Таня вернулась в Лихоборы — что еще могла она сделать? С каждым днем она все больше привыкала к мысли, что она не девочка, а сорока. В общем, сороки понравились ей.
«Симпатичные, в сущности, люди, то есть птицы, — думала она. — Правда, не очень умны, зато доверчивы, а ведь и это немало».
Плохо было только одно: они воровали все, что попадалось на глаза. Но не вообще все, а только то, что блестело. Почти в каждом гнезде лежали золотые и серебряные колечки, цветные стеклышки, которыми девочки играют в классы, брошки, серьги и запонки. Это было неприятно. Даже Белая Ворона, гордившаяся тем, что она была ворона, тоже время от времени возвращалась домой с какой-нибудь хорошенькой блестящей вещичкой. И Таня просто не могла понять, как такая почтенная, всеми уважаемая женщина может спокойно принимать гостей в украденных сережках.
— Шакликрак, — однажды сказала ей Таня.
Это значило: «Извините, тетя, но я не понимаю, неужели это приятно, воровать?»
Белая Ворона неодобрительно пожала плечами.
— В тебе еще говорит бывшая честная девочка, — проворчала она. — Нет, моя милочка, воровать надо. Понятно? На то ты и Сорока-воровка.
Да, с этим нельзя было не согласиться. И все-таки, пролетая мимо всего, что блестело, Таня крепко зажмуривала глаза. Только на солнце она не боялась смотреть.
«Ведь солнце все равно невозможно украсть, — думала она, — даже если бы очень захотелось».
И она вспомнила историю о том, как одна молодая сорока решила украсть — конечно, не солнце, а маленькую хорошенькую звездочку, на которую она с детства не могла насмотреться. Родители убеждали ее отказаться от этой неразумной затеи.
— Известно, что черт пытался украсть луну, — поучительно говорили они, — и то у него ничего не вышло. Подумай только! Самый настоящий черт, с хвостом и рогами.
— У меня тоже есть хвост, — беззаботно отвечала Сорока.
Но хвост не помог ей, когда она отправилась в путь. Она летела день и ночь, а до звездочки было все так же далеко. Она решила вернуться, но по дороге ей встретился кречет, который, по-видимому, съел ее, потому что она не вернулась.
Да, это была грустная история, доказавшая, кстати сказать, что воровать опасно. Но, к сожалению, она ничему не научила сорок, хотя о девушке, которая решила похитить звезду, было написано прекрасное стихотворение.
И вдруг распространился слух, что немухинские сороки решили вернуть украденные вещи.
— Никогда не поверю, — сказала Белая Ворона. — Скорее пчелы перестанут жалить. Воровство и жеманство у сорок в крови. Другое дело, если бы это были попугаи или райские птицы.
Но слух повторился — и тогда Танина подруга, та самая, которая, высиживая птенцов, чуть не умерла от скуки, а теперь умирала от любопытства, решила слетать в Немухин. Вернувшись, она рассказала… Это было поразительно, то, что она рассказала. Своими глазами она видела Сороку, которая своими ушами слышала, как другая Сорока рассказывала, что она своими глазами видела серебряное колечко, которое ее дальняя родственница вернула какой-то девочке Маше. Почему? Это был вопрос, перед которым в этот день в глубоком раздумье остановились все лихоборские сороки. Ответ был неожиданный: просто потому, что девочка плакала, и Сорока ее пожалела.
Конечно, этот ответ придумала Таня. Более того, именно она шепнула первой попавшейся сплетнице, что немухинские сороки решили вернуть украденные вещи.
— Как, вы еще не вернули зубному врачу Кукольного Театра его золотые зубы? — спросила она. — Дорогая, вы отстали от моды:
Мода — вот словечко, которое мигом облетело все сорочьи гнезда. Кому же охота отставать от моды? Сразу же появилось множество сплетен — сороки не могли жить без сплетен.
— Говорят, что сама Черная Лофорина вернула супруге бывшего тайного советника Дубоносова бриллиантовую брошь, которую она стащила в тысяча девятьсот девятом году.
— А вы слышали, что в заброшенном гнезде дикой сороки нашли изумруд из короны японской императрицы Хихадзухима?
Сережки, браслеты, цветные стеклышки, медные пуговицы от старинных солдатских мундиров, копейки, запонки, кукольные глазки вернулись на свои места или иногда — на чужие. Это, впрочем, не имеет значения. Если без них столько лет обходились люди, без них могли — не правда ли? — обойтись и сороки.
Вот как произошло событие, о котором заговорил весь город. Вот откуда взялось золотое колечко, которое машинистка Треста Зеленых Насаждений потеряла (или думала, что потеряла) двадцать лет тому назад, в день своей свадьбы. Вот каким образом директор Магазина Купальных Халатов нашел на столе золотые очки, которые были украдены у него в те времена, когда он еще не был директором Магазина Купальных Халатов.
Великий Завистник надевает сапоги-скороходы
Итак, все было бы хорошо, если бы в последних известиях не сообщили о том, что Аптека открыта.
— В Немухине, — сказал диктор, — неожиданно открылась Аптека.
— Что же здесь плохого? — скажете вы. — И почему так расстроился Лекарь-Аптекарь?
Он расстроился потому, что последние известия слушают решительно все, а диктор сказал, что Аптека оборудована всем необходимым, и в том числе голубыми шарами. А если — шарами, стало быть, Великий Завистник догадается (или уже догадался), где искать Лекаря-Аптекаря, Петьку и Старую Лошадь. А если он догадается…
Самолеты в Немухин не ходят, а нужно было спешить, и Великий Завистник вытащил из чулана Сапоги-Скороходы. Они валялись среди старого хлама много лет, но механизм еще действовал, если его основательно смазать. Плохо было только, что за ним увязалась Лора.
— Я знаю, я все знаю! — кричала она. — Ты думаешь, я не слышала, что тебе сказал Гусь?
— Он сказал «га-га»! — кричал в ответ Великий Завистник. — Клянусь тебе, больше ни слова!
— Нет, не «га-га»! Он сказал, что видел на Пете твой ремешок.
— Ну и что же? Подумаешь! Ну и видел!
— Нет, не подумаешь! А-а-а! Теперь ты съешь его. Я знаю, превратишь в какую-нибудь гадость и съешь!
— Ничего подобного, и не подумаю! Действительно, охота была! Успокойся, я тебя умоляю.
— Не успокоюсь!
И она действительно не успокоилась, так что пришлось, к сожалению, взять ее с собой. Это было неразумно — прежде всего потому, что для Лоры нашлись только Тапочки-Скороходы, которые все время сваливались с ее косолапеньких ножек.
В первый раз они свалились на лестнице — левая на седьмом этаже, правая на третьем, так что Великому Завистнику пришлось дать своим сапогам задний ход.
Потом слетела только правая тапочка. Это случилось, когда Лора шагала через Москву-реку и левая нога была уже на том берегу, а правая еще на этом.
— Мы опоздаем, они опять убегут! — кричал в отчаянии Великий Завистник. — Я не съем его, даю честное благородное слово! Останься, я тебя умоляю!
— Ни за что!
— Хочешь, условимся? Я вежливо попрошу у него ремешок, и только, если он не отдаст…
— А-а-а!
Лора заплакала так горько, что пришлось вернуться за тапочкой и уже заодно подвязать ее старым шнурком от ботинок.
Между тем они могли не торопиться, потому что ни Лекарь-Аптекарь, ни Петька, ни тем более Старая Лошадь не собирались бежать. Правда, когда диктор сказал «оборудована голубыми шарами», Лекарь-Аптекарь, схватившись за голову, крикнул Петьке: «Запрягай!» — и принялся укладывать банки и склянки. Но, выйдя во двор в своем длинном зеленом пальто, с сумкой на боку, в шляпе, из-под которой озабоченно торчал его озабоченный нос, он увидел, что Петька, сняв с себя ремешок, подвязывает его к упряжи вместо лопнувшей уздечки.
— Откуда у тебя этот ремешок? — визгливо закричал Лекарь-Аптекарь.
— Тпру-у-у!.. А что?
— Я тебя спрашиваю, откуда…
— Видите ли, в чем дело, дядя Аптекарь, — смущенно начал Петька. — Я его взял… Ну там, знаете… на Козихинской, три.
Дрожащей рукой Лекарь-Аптекарь взял ремешок и засмеялся.
— И ты молчал, глупый мальчишка? Ты носил этот ремешок и молчал?
— Видите ли, дяденька, он валялся… то есть он висел на спинке кровати. Ну, я и подумал…
— Молчи! Теперь он в наших руках!
«Теперь они в моих руках!» — думал, вытягивая губы в страшную длинную трубочку, Великий Завистник.
До Немухина осталось всего полкилометра, и он снял сапоги, чтобы не перешагнуть маленький город.
Мрачный, втянув маленькую черную голову в плечи, он появился перед аптекой «Голубые Шары», и хотя был немного смешон — босой, с Сапогами-Скороходами, связанными за ушки и висящими за спиной, — но и страшен. Так что все одно временно и улыбнулись и задрожали.
Он появился неожиданно. Но Лекарь-Аптекарь все-таки успел придумать интересный план: закрыть все окна и молчать, а когда он подойдет поближе, выставить плакат: «У нас все прекрасно». А когда подойдет еще поближе — второй плакат: «Мы превосходно спим». Еще поближе — третий: «У Заботкина — успех», еще поближе — кричать по очереди, что у всех все хорошо, а у него — плохо.
В общем, план удался, но не сразу, потому что Великий Завистник сперва притворился добреньким, как всегда, когда ему угрожала опасность.
— Мало ли у меня аптекарей, — сказал он как будто самому себе, но достаточно громко, чтобы его услышали в доме. — Один убежал — и бог с ним! Пускай отдохнет, тем более, он прекрасно знает, что до первого июля чудеса в моем распоряжении.
Петька выставил в окно первый плакат.
— Ну и что же? Очень рад, — сказал Великий Завистник. — И у меня все прекрасно.
Петька выставил второй плакат — «Мы превосходно спим», и Великий Завистник слегка побледнел. Как известно, превосходно спят те, у кого чистая совесть, а уж чистой-то совести во всяком случае позавидовать стоит.
Он закрыл глаза, чтобы не прочитать третий плакат, но из любопытства все-таки приоткрыл их — и схватился за сердце.
— Вот как? У Заботкина — успех? — спросил он, весело улыбаясь. — А мне что за дело? Кстати, хотелось бы поговорить с тобой, Лекарь-Аптекарь. Как ты вообще? Как делишки?
— Да-с, успех! — собравшись с духом, закричал Лекарь-Аптекарь. — Надо читать газеты! За «Портрет жены» он получил Большую Золотую Медаль. Пройдет тысяча лет, а люди все еще будут смотреть на его картину. Кстати, он и не думал умирать.
— Вот как?
— Да-с. Вчера купался. Ныряет как рыба! Что, завидно?
Великий Завистник неловко усмехнулся:
— Ничуть!
— Счастливых много! — крикнул Портной, — Я, например, влюблен и на днях собираюсь жениться! Что, завидно?
И они наперебой стали кричать ему о том, что все хорошо и будет, без сомнения, лучше и лучше. А так как он был Великий Нежелатель Добра Никому и завидовал всем, кто был доволен своей судьбой, зависть, которой было полно его сердце, выплеснулась с такой силой, что он даже почувствовал ее горечь во рту.
— Папочка, пойдем домой, — испуганно взглянув на него, прошептала Лора.
Теперь кричали все, даже Гусь, который перекинулся к Лекарю-Аптекарю — просто на всякий случай.
— Твои чудеса никому не нужны! У нас есть свои, почище!
— Все к лучшему!
— О спутниках слышал? На днях запускаем четвертый, на Марс! Что, завидно? Потолстел, негодяй!
— Подожди, еще не такое услышишь!
И он действительно потолстел. Пиджак уже трещал по всем швам, от жилета отлетели пуговицы. Посреди двора стоял толстяк на тонких ногах, с маленькой, втянутой в плечи головкой.
— Ох! — простонал он. — Пояс! Верните мне пояс!
— Обойдешься подтяжками! — крикнул Гусь. — Странно, дался ему этот пояс!
Лекарь-Аптекарь засмеялся.
— Я разрезал твой пояс, — сказал он, — большими портняжными ножницами на мелкие кусочки.
— Не верю!
Он хотел уничтожить их взглядом, но сил уже не было, и только дверь, на которую он мельком взглянул, с грохотом сорвалась с петель.
— Не может быть, — прошептал он. — Не может быть, что все это правда! Счастливых нет! Все плохо и будет хуже и хуже! Портной женится и будет несчастен! До Марса не долететь! Лошадь останется Лошадью! Из мальчишки вырастет негодяй! Заботкин умрет! Я не лопну. Ах!
Не следует думать, что по нему пошли трещины, как по холодному стакану, когда в него нальют горячую воду. Скорее, он стал похож на воздушный шар, из которого выпустили воздух. Лицо его сморщилось, потемнело. Губы вытянулись, но уже не страшной, а беспомощной, жалкой трубочкой.
И Лора увела его, потому что она была хорошая дочка, а папа, даже и лопнувший от зависти, все-таки остается папой.
Ну, а дальше все пошло именно так, как предсказал Лекарь-Аптекарь. Старая Добрая Лошадь сразу же превратилась в симпатичную добрую девочку, правда, с конским хвостом на голове. Но это было даже кстати, потому что вскоре выяснилось, что многие ее подруги по классу носят точно такой же лошадиный хвостик. Таня… Но о том, что случилось с Таней, нужно рассказать немного подробнее.
Вот уже несколько дней, как Лихоборские сороки готовились к событию, о котором, чуть дыша от волнения, трещали с утра до вечера не только лихоборские сороки: впервые за все время существования птиц на земле открывалась сорочья школа. Причем, занятия решено было начать с поговорки: «Не все то золото, что блестит». На ее изучение отводилось почти полгода. Естественно, что во всех гнездах чистились перышки, шились наряды — ведь теперь, когда сороки перестали воровать, украсить себя было довольно трудно.
— Нет, нет, вы ошибаетесь. Спину и плечи теперь носят бледно-голубые, а головку — золотисто-черную.
— Милая моя, это вы ошибаетесь. Спинку — розовую, плечи — белые с голубыми чешуйками, а ножки — красненькие.
— Ну уж, только не красненькие! На открытие школы нужно прийти в чем-нибудь строгом.
Да, это был большой день для всех Лихоборских сорок. Но в особенности для Тани, потому что не кто иной, как именно она, была назначена директором школы.
Серьезная, застенчивая, держась скромно, но с достоинством, она прилетела на поляну, и ребята, трещавшие наперебой, почтительно замолчали.
— Итак, дети… — начала Таня.
Но больше она ничего не успела сказать, потому что в эту минуту в далеком Немухине Великий Завистник лопнул от зависти и все его чудеса потеряли силу. Перед детьми (и родителями, облепившими вокруг все кусты) появилась девочка, Таня Заботкина, одетая и причесанная точно так же, как в ту ночь, когда она отправилась в аптеку «Голубые Шары».
Через час она уже садилась в поезд, а сороки провожали ее. Их было так много, что один местный Любитель Природы даже написал об этом в газету. Его особенно поразило, что, улетая, они покачивали крыльями, как самолеты, — он не знал, что они прощались с Таней.
— Шакерак! — высунувшись в окно, крикнула им Таня.
Это значило: «Будьте счастливы!»
— Шакерак маргольф! — отвечали сороки.
Это значило: «До свидания, мы тебя не забудем!»
Прошел месяц, за ним другой. Наступила осень. А осенью, как известно, ребята начинают понемногу забывать о том, что случилось летом. Забыла и Таня. Петька, которого она пригласила на день своего рождения, тоже забыл, тем более, что для него важнее всего были книги, стоявшие в нарядных переплетах у бывшего Великого Завистника, а он с тех пор прочел много других, поинтересней.
Он опять потолстел, но был уже не трусишка, как прежде, а толстый храбрый мальчик, успевший — это было видно по его толстому носу — испытать в жизни немало.
Конечно, Таня пригласила не только его, но и Ниночку, и Лекаря-Аптекаря, и косолапенькую Лору, которая научилась теперь ходить легко, как снегурочка, или, во всяком случае, не так тяжело, как медведь.
Дети говорили о своих делах, а взрослые — о своих. И все было так, как будто на свете нет и никогда не бывало сказок.
И вдруг Солнечные Зайчики побежали по комнате — веселые, разноцветные, с коротенькими розовыми хвостами.
Одни спрятались среди стаканов на столе, другие, кувыркаясь и прыгая, побежали вдоль стен. А один, самый маленький, уселся на носу ЛекаряАптекаря, отогнув разноцветные ушки.
Это Петька откупорил бутылку с Солнечными Зайчиками — разумеется, просто из озорства, потому что у всех и так было превосходное настроение.
Но, может быть, Солнечные Зайчики выскочили не из бутылки? Может быть, по улице пронесли зеркало? Или в доме напротив распахнули все окна?
Так или иначе, все кончается хорошо. А ведь это самое главное — не правда ли? — особенно если все начинается плохо.
Обсуждаем пятую сказку и читаем шестую
— Конечно, все, что касается сорок, не может пригодиться для моего путеводителя, — сказал дядя Костя. — Но то, что случилось с Аптекарем и его Аптекой, — помилуйте, да это же бесценный материал, который может украсить раздел «Знаменитые здания»! Ручаюсь, что ни одна аптека в СССР не может похвастаться такой историей. Порошки, пилюли, банки и склянки, скучая по своему хозяину, летят за ним в другой город без ведома и разрешения Начальника Аптекоуправления! Какова привязанность! Однако есть неясность. Николай Андреевич был известным художником и жил в Москве. Почему он переехал в Немухин? Очевидно, Нил Сократыч об этом не знал.
— А вы знаете?
— Да. Во-первых, потому, что Мария Павловна — коренная немухинка, и, когда ей предложили должность Директора Института Красоты, отказаться она была просто не в силах. А во-вторых, потому, что Николаю Андреевичу после болезни доктора запретили жить в больших городах. Живопись он не бросил, но Главному Архитектору города Немухина и без живописи хватает дела. Так или иначе, кое-что мне пригодится. Я, кстати, успел уже написать первую фразу: «Время основания Немухина история точно еще не установила; по-видимому, оно затерялось в седой глубине веков». Ну как?
— Отлично.
— «И только легенды, дошедшие до нас, — продолжал дядя Костя, — говорят, что он был основан в XX веке».
— Превосходно!
— А вот с картой беда! К Путеводителю надо приложить карту, а у меня, как на грех, еще в школе по географии были двойки и тройки.
Я взглянул на карту, которую начертил дядя Костя, и подумал, что для путеводителя она все-таки едва ли может пригодиться. Площадь Фигурного Катания, которая называлась так, потому что зимой на ней устраивался каток, он переименовал в Площадь Бальных Танцев на Льду. Прямой переулок в Не Очень Прямой.
Я объяснил ему, что переименование улиц — обязанность Горсовета, и хотя похвально, что дядя Костя взял это на себя, однако карта, приложенная к Путеводителю, должна соответствовать действительности, а не воображению.
— Жаль, — со вздохом сказал дядя Костя. — Ну что же! Тогда придется попросить Павла Степановича. Ведь он, как учитель географии, в этом деле, как говорится, дока.
— Без сомнения!
— Так, может быть, заглянем к нему?
Гроссмейстер был занят, когда мы пришли: выслушивал ежа, у которого было больное сердце.
— Н-да, — задумчиво сказал он. — Сердечная недостаточность. Вам сколько лет?
Еж показал лапкой сперва пять, а потом еще три.
— Восемь? Немало. Надо почаще отдыхать, мой милый.
Еж послушно пошевелил коротким хвостиком и ушел, а дядя Костя развернул перед Павлом Степановичем свою карту.
Кстати, рассказывая о Гроссмейстере, я совершенно забыл упомянуть, что он был человеком удивительно вежливым — не случайно, например, он обратился к ежу на «вы». Лицо его осталось совершенно спокойным, когда он рассматривал карту, — без сомнения, он боялся, что даже добродушная улыбка обидела бы дядю Костю.
— Я попрошу своих десятиклассников начертить карту Немухина, — сказал он, — и самой удачной мы воспользуемся для Путеводителя. Идет?
И в эту минуту… Трудно даже сказать, что случилось в эту минуту! На первый взгляд ничего не случилось. Радио было включено, и, когда мы вошли, передавалась музыка. А теперь музыка прекратилась, и звучный женский голос сказал: «Приятная новость! Журнал „Новости науки и техники“ вместо очередной корреспонденции напечатал сказку „Песочные часы“, подписанную Н. Кто. Это можно понять как „Никто“ или „Некто“. Мы подозреваем, однако, что таинственный „Некто“ или „Никто“ знаком немухинцам и что они порадуются вместе с нами».
Забегая вперед, я должен заметить, что эта заметка произвела сильное впечатление в городе — не было дома, в котором ее не прочитали бы вслух. Теперь редко употребляется слово «фурор», то есть шумное публичное одобрение. Так вот, заметка произвела фурор, причем, обсуждая ее, немухинцы делились радостными предположениями, хотя для радости не было, казалось бы, никаких оснований. Разговоры вертелись вокруг загадочного вопроса: «он» или «не он». Одни утверждали, что это «он», поскольку «он» подчас подписывался «Никто». А другие, что это — «не он», поскольку иногда под его корреспонденциями стояла подпись «Некто».
Но был в городе один человек, который не только огорчился, услышав по радио эту заметку, но перестал спать и даже провел целый день в постели с холодным, мокрым полотенцем на лбу. Это был — вы не поверите! — Павел Степанович Неломахин. Куда делась его невозмутимость, спокойствие, трезвый, рассудительный ум? В старом халате он, ничего не делая, бродил по квартире. И это началось именно в тот день, когда мы советовались с ним насчет карты Немухина.
Услышав по радио, он немедленно побежал в газетный киоск, держа в руках свежий номер «Новостей науки и техники». Должно быть, он уже успел просмотреть его, потому что выбежал из дома одним человеком, а вернулся совершенно другим — мрачным, с остановившимся взглядом.
И в киоске и в книжном магазине все номера журнала были разобраны, но, подходя к гостинице, я встретил Петю Воробьева, который шел, читая журнал на ходу и натыкаясь на прохожих. Я спросил его, кто, по его мнению, напечатал сказку, и он ответил не задумываясь:
— Конечно, Нил Сократович.
— Почему ты так думаешь?
— Потому что мы с Танькой Заботкиной когда-то — сто лет тому назад — все это ему рассказали. Хотите прочесть?
— Еще бы!
И, вернувшись к себе, я прочел сказку, которая называлась
ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
В пионерском лагере появился новый воспитатель. Ничего особенного, обыкновенный воспитатель! Большая чёрная борода придавала ему странный вид, потому что она была большая, а он маленький. Но дело было не в бороде!
В этом пионерском лагере был один мальчик. Его звали Петька Воробьёв. Потом там была одна девочка. Её звали Таня Заботкина. Все говорили ей, что она храбрая, и это ей очень нравилось. Кроме того, она любила смотреться в зеркало и хотя каждый раз находила там только себя, а всё-таки смотрела и смотрела.
А Петька был трус. Ему говорили, что он трус, но он отвечал, что зато он умный. И верно: он был умный и замечал то, что другой и храбрый не заметит.
И вот однажды он заметил, что новый воспитатель каждое утро встаёт очень добрый, а к вечеру становится очень злой.
Это было удивительно! Утром ты хоть что у него попроси — никогда не откажет! К обеду он был уже довольно сердитый, а после мёртвого часа только гладил свою бороду и не говорил ни слова. А уж вечером!.. Лучше к нему не подходи! Он сверкал глазами и рычал.
Ребята пользовались тем, что по утрам он добрый. В реке сидели часа по два, стреляли из рогатки, дёргали девочек за косы. Каждый делал, что ему нравилось. Зато уж после обеда — нет! Все ходили смирные, вежливые и только прислушивались, не рычит ли где-нибудь «Борода» — так его прозвали.
Ребята, которые любили ябедничать, ходили к нему именно вечером, перед сном. Но он обыкновенно откладывал наказание на завтра, а утром вставал уже добрый-предобрый. С добрыми глазами и с доброй длинной чёрной бородой!
Это была загадка! Но это была ещё не вся загадка, а только половина.
Петька очень любил читать: должно быть, поэтому он и был такой умный. Он повадился читать, когда другие ребята ещё спали.
И вот однажды, проснувшись рано утром, он вспомнил, что оставил свою книгу в читальне. Читальня была рядом с комнатой Бороды, и, когда Петька пробегал мимо, он подумал: «Интересно, какой Борода во сне?» Кстати, дверь в его комнату была открыта не очень, а как раз, чтобы заглянуть. Петька подошёл на цыпочках и заглянул.
Знаете, что он увидел? Борода стоял на голове! Пожалуй, можно было подумать, что это утренняя зарядка.
Борода постоял немного, а потом вздохнул и сел на кровать. Он сидел очень грустный и всё вздыхал. А потом — раз! И снова на голову, да так ловко, точно это было для него совершенно то же самое, что стоять на ногах. Это действительно была загадка!
Петька решил, что Борода прежде был клоуном или акробатом. Но зачем же ему теперь-то стоять на голове, да ещё рано утром, когда на него никто не смотрит? И почему он вздыхал и грустно качал головой?
Петька думал и думал, и хотя он был очень умный, но всё-таки ничего не понимал. На всякий случай он никому не рассказал, что новый воспитатель стоял на голове, — это была тайна! Но потом не выдержал и рассказал Тане.
Таня сперва не поверила.
— Врёшь, — сказала она.
Она стала хохотать и украдкой посмотрела на себя в зеркальце: ей было интересно, какая она, когда смеётся.
— А тебе это не приснилось?
— Нет.
— Будто не приснилось, а на самом деле приснилось.
Но Петька дал честное слово, и тогда она поверила, что это не сон.
Нужно вам сказать, что Таня очень любила нового воспитателя, даром что он был такой странный. Ей даже нравилась его борода. Он часто рассказывал Тане разные истории, и Таня готова была слушать их с утра до ночи.
И вот на другое утро — весь дом ещё спал — Петька и Таня встретились у читальни и на цыпочках пошли к Бороде. Но дверь была закрыта, и они только услышали, как Борода вздыхает.
А нужно вам сказать, что окно этой комнаты выходило на балкон, и, если влезть по столбу, можно было увидеть, стоит Борода на голове или нет. Петька струсил, а Таня полезла. Она влезла и посмотрела на себя в зеркальце, чтобы узнать, не очень ли она растрепалась. Потом на цыпочках подошла к окну да так и ахнула: Борода стоял на голове!
Тут уж и Петька не выдержал. Хотя он был трус, но любопытный, а потом ему нужно было сказать Тане: «Ага, я тебе говорил!» Вот влез и он, и они стали смотреть в окно и шептаться.
Конечно, они не знали, что это окно открывалось внутрь. И когда Петька и Таня налегли на него и стали шептаться, оно вдруг распахнулось. Раз! — и ребята хлопнулись прямо к ногам Бороды, то есть не к ногам, а к голове, потому что он стоял на голове. Если бы такая история произошла вечером или после тихого часа, несдобровать бы тогда Тане и Петьке! Но Борода, как известно, по утрам бывал добрый-предобрый! Поэтому он встал на ноги, только спросил ребят, не очень ли они ушиблись.
Петька был ни жив ни мёртв. А Таня даже вынула зеркальце, чтобы посмотреть, не потеряла ли она бантик, пока летела.
— Ну что ж, ребята, — грустно сказал Борода, — я мог бы, конечно, сказать вам, что доктор прописал мне стоять на голове по утрам. Но не надо врать. Вот моя история.
Когда я был маленьким мальчиком — таким, как ты, Петя, — я был очень невежлив. Никогда, вставая из-за стола, я не говорил маме «Спасибо», а когда мне желали спокойной ночи, только показывал язык и смеялся. Никогда я вовремя не являлся к столу, и нужно было тысячу раз звать меня, пока я наконец отзывался. В тетрадях у меня была такая грязь, что мне самому было неприятно. Но раз уж я был невежливый, не стоило следить за чистотой в тетрадях. Мама говорила: «Вежливость и аккуратность!». Я был невежливый — стало быть, и неаккуратный.
Никогда я не знал, который час, и часы казались мне самой ненужной вещью на свете. Ведь и без часов известно, когда хочется есть! А когда хочется спать, разве без часов не известно?
И вот однажды к моей няне (у нас в доме много лет жила старая няня) пришла в гости одна старушка.
Только она вошла, как сразу стало видно, какая она чистенькая и аккуратная. На голове у неё был чистенький платочек, а на носу очки в светлой оправе. В руках она держала чистенькую палочку, и вообще она была, должно быть, самая чистенькая и аккуратная старушка на свете.
Вот она пришла и поставила палочку в угол. Очки она сняла и положила на стол. Платочек тоже сняла и положила себе на колени.
Конечно, теперь бы мне понравилась такая старушка. Но тогда она мне почему-то ужасно не понравилась. Поэтому, когда она вежливо сказала мне: «Доброе утро, мальчик!» — я показал ей язык и ушёл.
И вот что я сделал, ребята! Я потихоньку вернулся, залез под стол и стащил у старушки платочек. Мало того, я стащил у неё из-под носа очки. Потом я надел очки, повязался платочком, вылез из-под стола и стал ходить, сгорбившись и опираясь на старушкину палку.
Конечно, это было очень плохо. Но мне показалось, что старушка не так уж обиделась на меня. Она только спросила, всегда ли я такой невежливый, а я вместо ответа опять показал ей язык.
«Слушай, мальчик, — сказала она, уходя. — Я не могу научить тебя вежливости. Но зато я могу научить тебя точности, а от точности до вежливости, как известно, только один шаг. Не бойся, я не превращу тебя в стенные часы, хотя и стоило бы, потому что стенные часы — это самая вежливая и точная вещь в мире. Никогда они не болтают лишнего и только знай себе делают своё дело. Но мне жаль тебя. Ведь стенные часы всегда висят на стене, а это скучно. Лучше я превращу тебя в песочные часы».
Конечно, если бы я знал, кто эта старушка, я бы не стал показывать ей язык. Это была фея Вежливости и Точности — недаром она была в таком чистеньком платочке, с такими чистенькими очками на носу…
И вот она ушла, а я превратился в песочные часы. Конечно, я не стал настоящими песочными часами. Вот у меня, например, борода, а где же видана у песочных часов борода! Но я стал совсем как часы. Я стал самым точным человеком на свете. А от точности до вежливости, как известно, только один шаг.
Наверное, вы хотите спросить меня, ребята: «Тогда почему же вы такой грустный?» Потому что самого главного фея Вежливости и Точности мне не сказала. Она не сказала, что каждое утро мне придётся стоять на голове, потому что за сутки песок пересыпается вниз, а ведь когда в песочных часах песок пересыпается вниз, их нужно перевернуть вверх ногами. Она не сказала, что по утрам, когда часы в порядке, я буду добрым-предобрым, а чем ближе к вечеру, тем буду становиться всё злее. Вот почему я такой грустный, ребята! Мне совсем не хочется быть злым, ведь на самом деле я действительно добрый. Мне совсем не хочется каждое утро стоять на голове. В мои годы это неприлично и глупо. Я даже отрастил себе длинную бороду, чтобы не было видно, что я такой грустный. Но мало помогает мне борода!
Конечно, ребята слушали его с большим интересом. Петька смотрел ему прямо в рот, а Таня ни разу не взглянула в зеркальце, хотя было бы очень интересно узнать, какая она, когда слушает историю о песочных часах.
— А если найти эту фею, — спросила она, — и попросить, чтобы она снова сделала вас человеком?
— Да это можно сделать, конечно, — сказал Борода. Если тебе меня действительно жаль.
— Очень, — сказала Таня. — Мне вас очень жаль, честное слово. Тем более, если бы вы были мальчик, как Петька… А воспитателю стоять на голове неудобно.
Петька тоже сказал, что да, жаль, и тогда Борода дал им адрес феи Вежливости и Точности и попросил их похлопотать за него.
Сказано — сделано! Но Петька вдруг испугался. Он сам не знал, вежливый он или невежливый. А вдруг фее Вежливости и Точности захочется и его во что-нибудь превратить?
И Таня отправилась к фее одна…
Это была самая чистенькая комната в мире! На чистом полу лежали разноцветные чистые половики. Окна были так чисто вымыты, что даже нельзя было определить, где кончается стекло и начинается воздух. На чистом подоконнике стояла герань, и каждый листик так и блестел.
В одном углу стояла клетка с попугаем, и у него был такой вид, как будто он каждое утро моется мылом. А в другом — висели ходики. Что это были за чудные ходики! Они не говорили ничего лишнего, а только «тик-так», но это значило: «Вы хотите узнать, который час? Пожалуйста».
Сама фея сидела у стола и пила чёрный кофе.
— Здравствуйте! — сказала ей Таня.
И поклонилась так вежливо, как только могла. При этом она посмотрела в зеркальце, чтобы узнать, как это у неё получилось.
— Ну что же, Таня, — сказала фея, — я ведь знаю, зачем ты пришла. Но нет, нет! Это очень противный мальчишка.
— Он уже давно не мальчишка, — сказала Таня. — У него длинная чёрная борода.
— Для меня он ещё мальчишка, — сказала фея. — Нет, пожалуйста, не проси за него! Я не могу забыть, как он стащил мои очки и платочек и как передразнивал меня, сгорбившись и опираясь на палку. Надеюсь, что с тех пор он довольно часто обо мне вспоминает.
Таня подумала, что с этой старой тётушкой нужно быть очень вежливой, и на всякий случай поклонилась ей снова. При этом она снова посмотрела в зеркальце, чтобы узнать, как это у неё получилось.
— А может быть, вы всё-таки расколдовали бы его? — попросила она. — Мы его очень любим, особенно по утрам. Если в лагере узнают, что ему приходится стоять на голове, над ним станут смеяться. Я его так жалею…
— Ах, ты его жалеешь? — заворчала фея. — Это другое дело. Это первое условие для того, чтобы я простила. Но под силу ли тебе второе условие?
— Какое же?
— Ты должна отказаться от того, что тебе нравится больше всего на свете. И фея показала на зеркальце, которое Таня как раз вынула из кармана, чтобы узнать, как она выглядит, когда разговаривает с феей. — Ты не должна смотреться в зеркальце ровно год и один день.
Вот тебе раз! Этого Таня не ожидала. Целый год не смотреться в зеркальце? Как же быть? Завтра в пионерском лагере прощальный бал, и Таня как раз собиралась надеть новое платье, то самое, которое она хотела надеть целое лето.
— Это очень неудобно, — сказала она. — Например, утром, когда заплетаешь косы. Как же без зеркала? Ведь я тогда буду растрёпанная, и вам самой это не понравится.
— Как хочешь, — сказала фея.
Таня задумалась.
«Конечно, это ужасно. Ведь, по правде говоря, я смотрюсь в зеркальце каждую минуту, а тут здравствуйте! Целый год да ещё целый день! Но ведь мне это всё-таки легче, чем бедному Бороде каждое утро стоять вверх ногами».
— Я согласна, — сказала она. — Вот моё зеркальце. Я приду за ним через год.
— И через день, — проворчала фея.
И вот Таня вернулась в лагерь. По дороге она старалась не смотреться даже в лужи, которые попадались ей навстречу. Она не должна была видеть себя ровно год и день. Ох, это очень долго! Но раз она решила, значит, так и будет.
Конечно, Петьке она рассказала, в чём дело, а больше никому, потому что хотя была и храбрая, но всё-таки побаивалась, что девчонки возьмут да и подсунут зеркальце — и тогда всё пропало! А Петька не подсунет.
— Интересно, а если ты увидишь себя во сне? — спросил он.
— Во сне не считается.
— А если ты во сне посмотришься в зеркальце?
— Тоже не считается.
Бороде она просто сказала, что фея расколдует его через год и день. Он обрадовался, но не очень, потому что не очень поверил.
И вот для Тани начались трудные дни. Пока она жила в лагере, ещё можно было кое-как обходиться без зеркала. Она попросила Петьку:
— Будь моим зеркалом!
И он смотрел на неё и говорил, например: «Кривой пробор» или «Бант завязан косо». Он замечал даже то, что самой Тане в голову не приходило. Кроме того, он уважал её за сильную волю, хотя и считал, что год не смотреться в зеркало это просто ерунда. Он, например, хоть бы и два не смотрелся!
Но вот кончилось лето, и Таня вернулась домой.
— Что с тобой, Таня? — спросила её мама, когда она вернулась. — Ты, наверное, ела черничный пирог?
— Ах, это потому, что перед отъездом я не видела Петьки, — отвечала Таня.
Она совсем забыла, что мама ничего не знает об этой истории. Но Тане не хотелось рассказывать: а вдруг ничего не выйдет?
Да, это была не шутка! День проходил за днём, и Таня даже забыла, какая она, а прежде думала, что хорошенькая. Теперь случалось, что она воображала себя красавицей, а сама сидела с чернильной кляксой на лбу! А иногда, наоборот, она казалась себе настоящим уродом, а сама была как раз хорошенькая — румяная, с толстой косой, с блестящими глазами.
Но всё это пустяки в сравнении с тем, что случилось во Дворце пионеров.
В городе, где жила Таня, должен был открыться Дворец пионеров. Это был превосходный дворец! В одной комнате стоял капитанский мостик, и можно было кричать в рупор: «Стоп! Задний ход!» В кают-компании ребята играли в шахматы, а в мастерских учились делать игрушки — не какие-нибудь, а самые настоящие. Игрушечный мастер в чёрной круглой шапочке говорил ребятам: «Это так» или «Это не так». В зеркальном зале были зеркальные стены и, куда ни взглянешь, всё было из зеркального стекла — столы, стулья и даже гвоздики, на которых в зеркальных рамах висели картины. Зеркала отражались в зеркалах — и зал казался бесконечным.
Целый год ребята ждали этого дня, многие должны были выступить и показать своё искусство. Скрипачи по целым часам не расставались со скрипками, так что даже их родители должны были время от времени закладывать уши ватой. Художники ходили перемазанные красками. Танцоры упражнялись с утра до вечера, и среди них — Таня.
Как она готовилась к этому дню! Ленточки, которые заплетают в косы, она гладила восемь раз — ей всё хотелось, чтобы в косах они остались такими же гладкими, как на гладильной доске. Танец, который Таня должна была исполнить, она каждую ночь танцевала во сне.
И вот наступил торжественный день. Скрипачи в последний раз взялись за свои скрипки, и родители вынули вату из ушей, чтобы послушать их менуэты и вальсы. Таня в последний раз протанцевала свой танец. Пора! И все побежали во Дворец пионеров.
Кого же Таня встретила у подъезда? Петьку.
Конечно, она сказала ему:
— Будь моим зеркалом!
Он осмотрел её со всех сторон и сказал, что всё хорошо, только нос как картошка. Но Таня так волновалась, что ему не попало.
Был здесь и Борода. Открытие было назначено на двенадцать часов утра, и он поэтому был ещё добрый. Его посадили в первом ряду, потому что нельзя же человека с такой длинной прекрасной бородой посадить во втором или третьем. Он сидел и с нетерпением ждал, когда выступит Таня.
И вот скрипачи исполнили свои вальсы и менуэты, а художники показали, как чудесно они умеют рисовать, и Главный Распорядитель с большим голубым бантом на груди прибежал и крикнул:
— Таня!
— Таня! Таня! На сцену! — закричали ребята.
— Сейчас будет танцевать Таня, — с удовольствием сказал Борода. — Но где же она?
В самом деле, где же она? В самом тёмном уголке она сидела и плакала, закрыв лицо руками. — Я не буду танцевать, — сказала она Главному Распорядителю. Я не знала, что мне придётся танцевать в зеркальном зале.
— Что за глупости! — сказал Главный Распорядитель. — Ведь это очень красиво! Ты увидишь себя сразу в сотне зеркал. Неужели тебе это не нравится? Первый раз в жизни встречаю такую девочку!
— Таня, ты обещала — значит, должна! — сказали ребята.
Это было совершенно верно: она обещала — значит, должна. И никому она не могла объяснить, в чём дело, только Петьке! Но Петька в это время стоял на капитанском мостике и говорил в рупор: «Стоп! Задний ход!».
— Хорошо, — сказала Таня, — я буду танцевать.
Она была в лёгком белом платье, таком лёгком, чистом и белом, что сама фея Вежливости и Точности, которая так любила чистоту, осталась бы им довольна.
Прекрасная девочка! На этом сошлись, едва она появилась на сцене. «Однако посмотрим, — сказали все про себя, — как она будет танцевать».
Конечно, она очень хорошо танцевала, особенно когда можно было кружиться на одном месте, или кланяться, приседая, или красиво разводить руками. Но странно: когда нужно было бежать через сцену, она останавливалась на полдороги и вдруг поворачивала назад. Она танцевала, как будто сцена была совсем маленькая, а нужно вам сказать, что сцена была очень большая и высокая, как и полагается во Дворце пионеров.
— Да, недурно, — сказали все. — Но, к сожалению, не очень, не очень! Она танцует неуверенно. Она как будто чего-то боится!
И только Борода находил, что Таня танцует прекрасно.
— Да, но посмотрите, как странно она протягивает руки перед собой, когда бежит через сцену, — возразили ему. — Она боится упасть. Нет, эта девочка, пожалуй, никогда не научится хорошо танцевать.
Эти слова как будто донеслись до Тани. Она понеслась по сцене — ведь в зеркальном зале было много её друзей и знакомых и ей очень хотелось, чтобы они увидели, как хорошо она умеет танцевать. Больше она ничего не боялась, во всяком случае никто больше не мог сказать, что она чего-то боится.
И во всём огромном зеркальном зале только один человек всё понимал! Как же он волновался за Таню! Это был Петька.
«Вот так девочка!» — сказал он про себя и решил, что непременно нужно будет стать таким же храбрым, как Таня.
«Ох, только бы поскорее кончился этот танец!» — подумал он, но музыка всё играла, а раз музыка играла, Таня, понятно должна была танцевать.
И она танцевала всё смелее и смелее. Всё ближе подбегала она к самому краю сцены, и каждый раз у Петьки замирало сердце.
«Ну, музыка, кончайся, — говорил он про себя, но музыка всё не кончалась. — Ну, миленькая, скорее», — всё говорил он, но музыка знай себе играла да играла.
— Смотрите-ка, да ведь эта девочка прекрасно танцует! — сказали все.
— Ага, я вам говорил! — сказал Борода.
А в это время Таня, кружась и кружась, всё приближалась к самому краю сцены. Ах! И она упала.
Вы не можете себе представить, какой переполох поднялся в зале, когда, ещё кружась в воздухе, она упала со сцены! Все испугались, закричали, бросились к ней и испугались ещё больше, когда увидели, что она лежит с закрытыми глазами. Борода в отчаянии стоял перед ней на коленях. Он боялся, что она умерла.
— Доктора, доктора! — кричал он.
Но громче всех кричал, разумеется, Петька.
— Она танцевала с закрытыми глазами! — кричал он. — Она обещала не смотреться в зеркало ровно год и день, а прошло ещё только полгода! Не беда, что у неё закрыты глаза! В соседней комнате она их откроет!
Совершенно верно! В соседней комнате Таня открыла глаза.
— Ох, как плохо я танцевала, — сказала она.
И все засмеялись, потому что она танцевала прекрасно. Пожалуй, на этом можно было бы окончить сказку о Песочных Часах. Да нет, нельзя! Потому что на другой день сама фея Вежливости и Точности пришла к Тане в гости.
Она пришла в чистеньком платочке, а на носу у неё были очки в светлой оправе. Свою палочку она поставила в угол, а очки сняла и положила на стол.
— Ну, здравствуй, Таня! — сказала она. И Таня поклонилась ей так вежливо, как только могла.
При этом она подумала: «Интересно, а как это у меня получилось?»
— Ты исполнила своё обещание, Таня, — сказала ей фея. — Хотя прошло ещё только полгода и полдня, но ты отлично вела себя за эти полдня и полгода. Что ж, придётся мне расколдовать этого противного мальчишку.
— Спасибо, тётя фея, — сказала Таня.
— Да, придётся расколдовать его, — с сожалением повторила фея, — хотя он вёл себя тогда очень плохо. Надеюсь, с тех пор он чему-нибудь научился.
— О да! — сказала Таня. — С тех пор он стал очень вежливым и аккуратным. И потом, он уже давно не мальчишка. Он такой почтенный дядя, с длинной чёрной бородой!
— Для меня он ещё мальчишка, — возразила фея. — Ладно, будь по-твоему. Вот тебе твоё зеркальце. Возьми его! И помни, что в зеркальце не следует смотреться слишком часто.
С этими словами фея вернула Тане её зеркальце и исчезла.
И Таня осталась вдвоём со своим зеркальцем.
— Ну-ка, посмотрим, — сказала она себе. Из зеркальца на неё смотрела всё та же Таня, но теперь она была решительная и серьёзная, как и полагается девочке, которая умеет держать своё слово.
ЛЕТАЮЩИЙ МАЛЬЧИК
«Летающие мальчики? Вздор!»
В газете «Немухинокий голос» появилось объявление: «Для строительства воздушного замка требуются летающие мальчики».
Немухинцы прочитали его с удовольствием: это значило, без сомнения, что в городке будет строиться воздушный замок. Не поверил этому только Петька Воробьев, который случайно знал, что воздушный замок можно построить только в воображении. Потом он подумал о себе — летающий ли он мальчик? И решил, что едва ли. Правда, ему случалось летать во сне, и он решил, что в объявлении пропущены два слова: «Для строительства воздушного замка требуются мальчики, летающие во сне». Это было бы строго научно: мальчики, летающие во сне, приглашались построить замок в воображении. Но в редакции «Немухинского голоса» ему сказали, что он не годится. «Тут нужен не сон, — сказали ему, — а практический подход к делу».
На другой день это объявление повторилось по радио с настоятельным предупреждением, что речь идет не о девочках, а именно о мальчиках, а еще через два-три дня в Немухин приехал корреспондент центральной газеты, которому поручили написать статью «Летающие мальчики? Странно!». Корреспондент обежал Немухин, заглянул на хлебный завод и застрял на футбольном матче между мухинцами и немухинцами, кончившимся вничью. Вернувшись в Москву, он написал две статьи. Одна называлась «Летающие мальчики? Вздор!». А в другой он упомянул, что у немухинцев, атаковавших ворота противника, положительно вырастали крылья.
И объявление, хотя оно еще несколько раз повторилось по радио, стали забывать. Не забыл его только Петька, который, никому в этом не признаваясь, непременно хотел стать космонавтом или, по меньшей мере, верхолазом.
Прямоугольный смотритель
День был жаркий, и гонять по Немухину на велосипеде не хотелось, тем более что Петька и так не слезал с седла целое утро. Пожалуй, он погонял бы ворон, но на днях он узнал, что «гонять ворон» — это значит «бить баклуши». Весь Немухин бил баклуши в этот утомительный августовский день. Собаки сидели высунув языки и скоро дыша, а люди плелись по Нескорой, отдуваясь и обмахиваясь газетой. Только из трубы хлебозавода валил дым. Но и дым валил как-то лениво.
Скучища! Можно было, правда, заглянуть к Таньке, но даже здесь, на дворе у Воробьевых, было слышно, как Танька пиликает на скрипке — она училась в музыкальной школе.
Оставалось только глазеть на забор, и Петька заметил, что если глядеть научно, то есть внимательно следя за собой, не уснешь, а ненаучно — уснешь. Однако уснуть не удалось, потому что через забор перелетела шляпа. Как будто выбирая, где приземлиться, она покружилась в воздухе и неторопливо уселась у Петькиных ног.
Шляпа была мягкая, велюровая, зеленая, с перышком, но мужская. Петька заметил все это сразу, потому что у него был натренированный взгляд. Но больше он ничего не успел заметить, потому что вслед за шляпой через забор перелетел нескладный коротенький человек, с нескладными руками и ногами и ничего не выражающим прямоугольным лицом.
— Простите, если не ошибаюсь, вы тот известный мальчик, которого все зовут «Воробей с Сердцем Льва»? — опросил он, улыбаясь.
Петька отвечал, что иногда его действительно так называют, но это ошибка, потому что у него сердце как сердце.
— Сразу видно, что вы — воплощенная скромность! Но скажите, пожалуйста, почему вы не удивились, увидав меня перелетающим через забор?
Петька сказал, что он не удивился потому, что еще в прошлом году дал себе слово ничему не удивляться. Насчет воплощенной скромности он промолчал.
Незнакомец снял плащ и оказался в поношенном зеленом мундире с высоким воротником и в узких брюках с зеленым же кантом.
— Между прочим, я летаю потому, что я из Летандии. Есть, вы знаете, такой островок. Не Исландия, не Лапландия, а именно Летандия. В географии говорится, что это — остров ветряных мельниц и парусных лодок. Вздор! Это остров неслыханной красоты, парусных лодок и ветряных мельниц. Более того, это остров, на котором постоянно слышится музыка. Ветер играет на эоловой арфе.
Петька не удивился, что ветер умеет играть. Но насчет эоловой арфы он все-таки спросил, потому что был почти уверен в том, что никто не знает, что такое эолова арфа.
— Музыкальный инструмент, на котором может играть только ветер! И когда он играет, все приходит в движение: крылья ветряных мельниц начинают кружиться, а цветные паруса на лодках надуваются и трепещут.
— А в Летандии все умеют летать? — спросил Петька. — Или только начальство?
— Почти все. Летают по делам, иногда в гости. А под парусами ходят для отдыха, для развлечения. Вообще жизнь веселая, необыкновенная. Каждый год устраиваются, например, маскарады. Все переодеваются, ходят в масках, играют, танцуют, поют.
Он говорил, улыбаясь, но глаза оставались неподвижными на прямоугольном, ничего не выражавшем лице.
— Значит, если бы мне удалось попасть в Летандию, я бы тоже научился летать?
— Без сомнения. Но прежде надо было бы, пожалуй, взять два-три урока.
Можно было подумать, что нет ничего проще, как найти в Немухине человека, который научил бы Петьку летать.
— Жаль, что у меня нет времени. Я, понимаешь, Смотритель Маяка и не могу отлучиться надолго. Маяк в Летандии старинный, на керосине, и каждые три-четыре часа керосин приходится подливать. Но тут у вас живет один мальчик, который, пожалуй, может тебя научить, потому что сам он летает прекрасно.
— А где он живет?
— Вот этого-то я как раз и не знаю, — сказал Смотритель Маяка. — Но, может быть, тебе удастся его найти? Его зовут Леон Караскин, а по-русски, я думаю, просто Леня Караскин. Только не говори ему, пожалуйста, что его разыскивал Смотритель Маяка из Летандии. Отношения у нас превосходные, но, на всякий случай, лучше не говорить. А когда ты его найдешь, пожалуйста, напиши мне открыточку: «Летандия. Смотрителю Маяка. Нашел. Воробей с Сердцем Льва». Или даже просто: «Воробей». Я догадаюсь.
— Ну что ж, — сказал Петька, — попробуем.
Незнакомец поднял шляпу и задумчиво повертел ее в руках.
— Я бы принял тебя в Летандии, как самого дорогого гостя. — Он засмеялся, а потом вздохнул, и Петька сделал наблюдение, что он смеется, когда нет ничего смешного, и вздыхает, когда для этого нет никаких оснований. — Я устроил бы в твою честь маскарад. Самый большой колокол на Площади Розы Ветров встретил бы тебя торжественным звоном. Я зажег бы для тебя самый сильный тройной маячный огонь: белый переходил бы в красный, а красный — в изумрудно-зеленый. Ты опустился бы под эскортом семнадцати девочек из самых знатных семей, и сам Господин Главный Ветер принял бы тебя в своем дворце, конечно, если бы у него оказалось время.
— Ну, что вы, — сказал польщенный Петька. — Зачем же такой шурум-бурум? Как вы говорите? Леня Караскин? Ладно, попробуем. А теперь покажите, пожалуйста, как это у вас получается? Крыльев у вас ведь, кажется, нету?
Незнакомец застегнул плащ, надел шляпу и протянул Петьке руку. Рука у него была тоже прямоугольная, и, когда он плавно поднялся в воздух и скрылся за пожарной каланчой, которую немухинцы давно решили переделать в телевизионную башню, Петька решил, что он похож на летающие пифагоровы штаны — теорема, которую на днях он с блеском доказал на уроке геометрии, получив первую и единственную в его жизни пятерку.
Леня Караскин
Во всех школах всех Воробьевых зовут просто Воробьями. Что касается Петькиного прозвища, оно как раз не очень подходило к нему, потому что он, как это ни грустно, был трусоват. Но с другой стороны, он был храбро трусосват, потому что однажды, собравшись с духом, пошел к Старому Трубочному Мастеру, умнейшему человеку, с которым иногда советовался сам Президент Столичной Палаты Мер и Весов.
Старик молча выслушал его, хлопнул по плечу и сказал:
— Трус никогда не сознался бы в том, что он трус. Ты не трус, а Воробей с Сердцем Льва. Ясно?
В тот же день Петька прыгнул в Немухинку с вышки, на которую еще вчера даже боялся смотреть. Львиное Сердце ушло у него при этом в пятки. На школьном дворе он подрался с семиклассником, который был выше его на голову и вдвое сильнее, а в воскресенье на глазах у Тани Заботкиной спрыгнул, держа зонтик в руках, с крыши сарая. Зонтик, к счастью, остался цел.
Кстати сказать, он спрыгнул как бы между прочим: вертел, вертел зонтик в руках, а потом — раз! — и спрыгнул. Но на самом деле это было сделано потому, что ему хотелось, чтобы Таня больше не сомневалась в том, что у него львиное сердце.
Короче говоря, совершенно ясно, что едва только Смотритель растаял в воздухе за пожарной каланчой, Петька со всех ног побежал к Тане.
Она еще играла — пришлось подождать. Потом пришлось еще подождать, пока она укладывала скрипку в футляр, а ноты в нотную папку. Таня была очень аккуратная и не умела, как Петька, делать два или даже три дела сразу. Но вот он дождался наконец и выпалил все сразу — Смотритель Маяка, Летандия, эолова арфа, Леня Караскин. Она слушала его, устроившись в кресле с ногами, и была такая хорошенькая, что Петьке снова захотелось спрыгнуть ради нее с крыши сарая.
Потом она подумала и сказала:
— Реникса.
Это было ее любимое слово. Оно означало: «Чепуха». И действительно, если прочитать «чепуха» по-английски или даже, на худой конец, по-французски, получалось «реникса». Но насчет эоловой арфы она призадумалась. Дело в том, что ни в одном городе Советского Союза по ночам никогда не бывает так тихо, как в Немухине. Это объясняется тем, что вежливые немухинские собаки очень уважают своих хозяев и, чтобы не разбудить их, лают шепотом, а громко только с восьми утра, когда пора идти на работу. Тут уж они, конечно, отыгрываются за ночь!
Электричка тоже старается не очень шуметь. С колесами, понятно, ничего не поделаешь, но гудит она осторожно, негромко.
И вот в этой особенной, прославившей Немухин тишине Таня, просыпаясь иногда среди ночи, слышала какие-то странные, особенные, удивительно нежные звуки. Кто-то перебирал струны, но так легко, как будто не касался их пальцами, а просто дул на них то сильно, то слабо.
Известно, что каждый предмет отбрасывает тень. «Это — тени звуков, но не дневные, — думала Таня, — а ночные, лунные, то мягкие, то отчетливо резкие, точно на струны дул добрый человек, который иногда скучал или сердился».
— Может быть, кто-нибудь в Немухине играет на эоловой арфе?
С девчонками лучше было не спорить, но немухинец, играющий, как ветер, на эоловой арфе, — это была, конечно, реникса, и Петька вместо ответа только подумал, что Таня заважничала, поступив в музыкальную школу.
— А ты не можешь разбудить меня, когда услышишь эти странные звуки? — попросил он.
Таня засмеялась. Она прекрасно знала, что Петьку можно разбудить, только окатив его ведром холодной воды. Тогда он просыпался с криком «Убью!», что было невежливо и опасно. Но все же они условились: ведро с водой он обещал каждый вечер ставить подле сеновала — он спал на сеновале, — а вместо «Убью!» кричать «Зашибу!», что было все-таки не так опасно.
Прошла неделя, другая. Дни были еще жаркие, а ночи — прохладные, и в городе наступила такая тишина, что было слышно, как рвется под легким ветерком первая сентябрьская паутинка. И вот в такую-то бесшумную ночь Таня, проснувшись, услышала… Трудно объяснить, что она услышала, потому что это были не звуки, а как бы полузабытые воспоминания, незаметно переходившие одно в другое.
И хотя Таня условилась разбудить Петьку, она полежала еще немного, думая о том, как трепещут листья осины, как зеленый, поблескивающий, лиственный дым окружает березу и как ровно, важно и плоско качаются на своих длинных черенках молодые кленовые листья.
Потом эти звуки стали влажными, точно по дороге к ней они окунулись в речку, и Таня вспомнила, как она с одной девочкой проплыла поздним вечером по серебряной дорожке, которую по Немухинке проложила луна. Но потом пришлось все-таки встать и, пройдя босиком на цыпочках через комнату, в которой еле слышно похрапывала мама, спуститься на Нескорую.
Она жила в начале этой улицы, а Петька — в конце. Ведро с холодной водой стояло, как было условлено, у сеновала, и она недолго думая выкатила его на Петьку.
Интересно, что на этот раз Петька мог обойтись и без холодной воды: он не спал, зачитался. На сеновале было строго запрещено зажигать огонь, и он читал при свете карманного фонарика очень интересную книгу, которую, как сказала ему библиотекарша, ему полагалось прочитать через три или даже четыре года. Впрочем, он не очень огорчился, получив неожиданный холодный душ: во-первых, потому что его окатила Таня, а во-вторых, потому что на книгу не попало ни капли. Он только встряхнулся, как собака, и спросил:
— Бежим?
Они вышли на Нескорую и побежали. Таня знала, куда они бегут. Что касается Петьки… «Ага, слышу!» — говорил он, когда где-нибудь во дворе шепотом тявкала собака. «Давай, давай», — говорил он, когда Таня вдруг поворачивала то направо, то налево.
В конце концов они остановились у домика, принадлежавшего тому самому Трубочному Мастеру, который назвал Петьку Воробьем с Сердцем Льва. Тут уж даже Петька, который не мог отличить музыкальной ноты от удара палкой по забору, услышал мелодию, которую невидимый музыкант играл на невидимом инструменте. Правда, она не напомнила ему ни серебряной дорожки вдоль Немухинки, ни плавного раскачивания кленовых листьев. Пожалуй, так мог бы скулить в клетушке щенок. Но щенок едва ли был способен на такие сложные — как сказала Таня пассажи.
Калитка была гостеприимно приоткрыта, они вошли крадучись. На дворе спали куры, зарывшись в песок. Собаки не было, но котенок, сидевший у крыльца, промяукал вопросительно и даже с оттенком угрозы. Они обошли дом и, подняв головы, увидели чердачное окно, в котором смутно белело что-то худенькое, мигом исчезнувшее — это был худенький мальчик, в белой рубашке, который, увидев Таню и Петьку, как-то странно, болезненно вскрикнул. Но еще более странным было то, что на чердачном окне, которое открывалось наружу, были натянуты струны. Стекло было выбито или выставлено, и струны, тени которых сломились под углом на стене, еще дрожали, как будто их только что касалась чья-то рука.
Впоследствии, когда Петька изучил Всемирную историю, он установил. что на земном шаре действительно существует инструмент, называемый эолова арфа. Это обыкновенный деревянный ящик, в котором натянуты струны — от восьми до двенадцати. Его вешают на дерево, как скворечник, и ветер играет на нем, когда ему больше нечего делать. Эол, оказывается, был повелитель ветров, отец шести сыновей и стольких же дочерей, которые вели веселую жизнь в царском дворце. Это было давно и, по-видимому, не имело никакого отношения к худенькому мальчику, который — это было видно с первого взгляда — жил в доме Трубочного Мастера очень скромно и тихо.
Мальчик выглянул из окошка, спрятался, но когда Таня ласково спросила: «Скажи, пожалуйста, как называется твой удивительный инструмент?» — снова выглянул и долго молча смотрел на нее большими, испуганными глазами.
Возможно, что если бы Петька, который мысленно уже видел себя в Летандии, спросил: «А ты, случайно, не Леня Караскин?» — он даже не вышел бы к ним. Но Петька удержался, не спросил, — и мальчик как-то незаметно оказался подле них на дворе, такой худенький, с острым носиком, с грустным, падавшим на глаза беленьким хохолком и в таких залатанных штанах, что Тане захотелось заплакать.
Сразу стало ясно, что с ним надо говорить очень вежливо, может быть, даже на «вы». Но чтобы он не обиделся, Таня все-таки обратилась к нему на «ты».
— Дело в том, что я учусь в музыкальной школе, — сказала она. — Но среди множества инструментов, на которых играют мои коллеги, я не видела ни одного, который напоминал бы твое окошко.
Она нарочно сказала «коллеги», а не ребята, потому что ей было интересно, знает ли этот мальчик такое интересное иностранное слово.
— О, в этом нет ничего поражающего слух или воображение, — тихо ответил мальчик. — И ваши уважаемые преподаватели и коллеги, без сомнения, лишь улыбнулись бы, увидев чердачное окно, на которое я от скуки натянул струны.
«Ого!» — подумала Таня. А Петька, который любил короткие энергичные фразы, подумал сперва: «Эк его!», а потом с уважением: «Лихо!»
— Но играть так искусно от скуки, мне кажется, почти невозможно?
Мальчик вздохнул.
— Играет ветер, — сказал он. — А я ему аккомпанирую. В той стране, откуда я прилетел, почти в каждом чердачном окне натянуты струны. Мне захотелось поступить точно так же, потому что я очень скучаю по своей стране, хотя в то же время я, к сожалению, ее от души ненавижу.
Это был такой вежливый разговор, что Петька, конечно, молчал как рыба. Но в том, что оказал Леня Караскин (Петька не сомневался в том, что это был именно он), Петька заметил противоречие.
— Как же ты можешь скучать по стране, которую ты ненавидишь? — спросил он.
Мальчик снова вздохнул, и на этот раз так глубоко, что одна из струн эоловой арфы ответила ему еле слышным звоном.
— Я родился в Летандии, — начал он. — Это остров, о котором в любой географии можно прочесть, что он ничем не напоминает ни Исландию, ни Лапландию. Но нигде не указано, что жители острова умеют летать. Казалось бы, что может быть веселее, чем летать? Однако эта редкая способность уже почти никому не нужна. Летают до крайности редко, да и то по делам.
Очевидно, это было принято в Летандии — говорить так вежливо и длинно, точно читая по книжке. Но Петьку заинтересовало другое.
— Так Летандия — крепость? — спросил он.
— О да! Весь остров — крепость, в которую можно проникнуть только по мосту, висящему на железных цепях. Везде камень, куда ни бросишь взгляд, — с отвращением сказал худенький мальчик. — В гавани — парусные лодки, с которых ветер давно сорвал паруса. Ветряные мельницы не машут крыльями, даже когда начинается шторм. А маяк! У меня нет ни отца, ни матери. Смотритель Маяка взял меня к себе на воспитание, а это человек, который всю жизнь провел в полном одиночестве, доказывая самому себе, что люди не нужны друг другу и что я, например, нужен только для того, чтобы подливать керосин в маячную лампу. Подумайте не торопясь и скажите, что может быть страшнее? Каждое утро он говорил мне: «Поступай сообразно своим обязанностям». После обеда: «Никогда не обнаруживай своих чувств». А вечером: «Нет ничего надежнее прямого угла». Короче говоря, я просто умер бы от меланхолии, если бы однажды не собрался с силами, вспомнив, что я умею летать.
— И улетел?
— Улетел!
— Вот это да! — сказал с восторгом Петька.
Они разговаривали бы до утра, если бы Старый Трубочный Мастер, который просыпался раньше всех в Немухине, не вышел на крыльцо, протирая глаза. Он только сказал:
— Кыш!
И они разлетелись.
Стоит подумать
Таня с утра ушла в свою музыкальную школу, а Петька — в свою немузыкальную, из которой он после третьего урока удрал. Две Летандии представились, как оказал бы Леня Караскин, его воображению. Та, которую нарисовал Смотритель Маяка, — нарядная, веселая. Маскарады, ветряные мельницы, лодки под цветными парусами. Главный Ветер, который принимает его, как видного представителя города Немухина, и, наконец, эскорт — семнадцать летающих девочек из самых знатных семей. Заглянув в словарь иностранных слов, Петька, кстати сказать, выяснил, что эскорт означал «конвой» или «прикрытие». Но все равно приятно было опуститься на площадь Розы Ветров под конвоем семнадцати девочек из знатных семей.
Но была, оказывается, еще и другая Летандия, в которой все умеют, но никому неохота летать. Скучная, заброшенная крепость, построенная пятьсот или шестьсот лет назад, где нет ни радио, ни стадиона и где парусные лодки пришвартованы в гавани на вечной стоянке. О стадионе он специально спросил у Лени.
Словом, сравнивая одну Летандию с другой, Петька подумал о том, что слетать туда все-таки интересно. Но как? В первом разговоре он не решился попросить Леню дать ему два-три урока. Через несколько дней он снова отправился к Лене, и тут состоялся очень важный женско-мужской разговор, потому что вдвоем они говорили минут пять, а потом к ним присоединилась Таня.
— Значит, ты улетел потому, что тебе стало скучно? — спросила она.
— О да. Ведь скука бывает разная: легкая, тяжелая. У меня она была смертная. Я чувствовал, что скоро умру, а что может быть скучнее, чем умереть от скуки. Но была и другая, не менее серьезная причина. Я перестал поступать, соображаясь со своими обязанностями, а Смотритель, соображаясь со своими, стал меня бить. И кончилось тем, что, собравшись с силами, я сказал ему, что он коварен, отвратительно прямоуголен, жесток и заслуживает сурового наказания за жестокое обращение с детьми.
— А он? — спросили в один голос Таня и Петя.
— Он на трое суток запер меня наедине с маячной лампой, и я не задохнулся от запаха керосина только потому, что в Летандии очень плохой керосин. Почти все керосинщики — лицемеры, подливающие в керосин много воды. Я зажег тройной проблесковый огонь, чтобы все корабли, приближаясь к Летандии, далеко обходили эту скучную крепость. Потом я немного поплакал, написал на стене Маяка: «Прости» — и улетел.
С точки зрения Петьки, мальчишка, который сознается в том, что он плакал, — это уже не мальчишка, а девчонка или ни то ни другое.
Но Таня, по-видимому, поняла Леню совершенно иначе.
— Конечно, трудно расстаться с родиной, какова бы там она ни была, — мягко сказала она. — Но ты действительно надеешься, что он может тебя простить?
«Как бы не так!» — подумал Петька, вспомнив коротенькую злобную фигуру Смотрителя, с его ничего не выражавшим лицом.
— Нет, это было обыкновенной вежливостью, — ответил Леня. — Просто в Летандии вместо «прощай» говорят «прости».
— Ну, братцы, значит, так, — сказал Петька, которому не терпелось научиться летать. — Что же мы, товарищи, будем делать?
Конечно, прежде всего надо было сказать Лене, кто поместил в «Немухинском голосе» странное объявление о строительстве воздушного замка. Кто вслед за шляпой перелетел через забор к Воробьевым. Кто, подъезжая к Петьке, приглашал его в Летандию, если он найдет мальчика, умеющего летать. Но так прямо и выложить все это худенькому, вежливому, нервному Лене?
Заранее было условлено, что начнет Таня — сперва что-нибудь о воздухе вообще или о воздушном опылении, которое они недавно проходили по ботанике. Потом, что между Мухином и Немухином, говорят, скоро начнут ходить вертолеты. Потом… Словом, все было бы в порядке, если бы Петька вдруг не заговорил о книге — той самой, которую, по мнению библиотекарши, он должен был прочитать через три или четыре года.
— Я ее даже захватил с собой, но не всю, потому что она очень толстая. Там две девчонки сперва разговаривают о том, какая чудная ночь, а потом одна садится на корточки и подхватывает себя под коленки. Причем совершенно ясно, сказал он по слогам, — что она рассчитывает взлететь.
Таня нахмурилась, и Петька догадался, что забежал вперед, хотя был убежден, что девчонка была, в общем, на верном пути.
— А ведь правда, это вышло удачно, что мы нашли тебя по эоловой арфе? мягко заметила Таня. — С другой стороны, ты все-таки иностранец? Может быть, в Летандии недовольны тем, что ты улетел?
Леня погрустнел.
— Да. Но ведь я почти ничем не отличаюсь от других обыкновенных немухинских мальчиков, правда? Старый Трубочный Мастер устроил меня в школу, и, в общем, я хорошо учусь, хотя некоторые учителя утверждают, что я говорю слишком сложно. Учитель литературы, например, заметил однажды, что так говорят в шестьдесят с лишним лет. Но, вы знаете, это просто потому, что я постарел очень рано. Пройдет! Я, например, уже научился говорить, как другие: «Вот это да!» или: «А мне до лампочки!» Хотя совершенно не понимаю, что это значит.
Он вздохнул.
— Конечно, труднее всего не скучать по Летандии, которую я ненавижу. Но я не хочу, ни за что не хочу возвращаться! И вас я прошу — если вы считаете меня своим другом — никому не говорить, что я умею летать. Может быть, для вас не составит труда дать мне клятву, чтобы я был совершенно спокоен?
— Клянусь!
— Клянусь!
— Впрочем, если бы даже мы рассказали кому-нибудь, что ты умеешь летать, прибавила Таня, — все равно нам бы никто не поверил. А теперь, понимаешь, нам надо сообщить тебе одну неприятную новость. Дело в том, что тебя разыскивает один человек.
— В зеленом мундире, — брякнул Петька. — Он просил написать ему, когда я тебя найду. Но фигу я ему напишу! Кроме того, он говорил, что ты можешь научить меня летать. Как ты вообще смотришь на это дело?
Если бы кому-нибудь пришло в голову изобразить Леню в эту минуту, вполне достаточно было бы побледневшего носика, беленького хохолка, печально упавшего на лоб, и двух огромных, добрых, испуганных глаз.
— Это — Смотритель Маяка! И я уверен, что он давно нашел бы меня, если бы мог отлучиться надолго. Он не может, потому что надо подливать керосин в маячную лампу. Но никто не захочет заменить его, потому что в Летандии, где все надоели друг другу, он надоел всем больше всех.
Тайна полета
Теперь стало совершенно ясно, как должен вести себя Леня Караскин: так, чтобы никто не мог догадаться, что он умеет летать. Больше того, надо было вести себя так, чтобы каждый, взглянув на Леню, сказал себе мысленно: «Вот парень, который, в лучшем случае, умеет прыгать через веревочку, как любая девчонка, и, уж конечно, никогда не сумеет взлететь». Но все это было только полдела. Надо было помочь Лене помолодеть, то есть научить его разговаривать, как полагается в одиннадцать лет, а не в шестьдесят с лишком.
За эту работу взялся Петька, и надо сказать, что она у него пошла, хотя и не без затруднений.
— Как бы ты сказал, например, если бы немухинцы сыграли с мухинцами не вничью, а, скажем, пять — один?
Леня подумал.
— Я бы оказал, что усилия немухинцев увенчались заслуженным успехом.
— Вот видишь! А надо сказать просто: «Блеск!» А если бы они проиграли?
Леня снова подумал.
— Ну, может быть… «Не принимайте слишком близко к сердцу этого огорчения. Продолжайте работать, и я уверен, что в ближайшем будущем вас ожидает удача».
— Та-ак, — сказал с отвращением Петька. — А я бы сказал покороче: «Эх, вы, сапоги!» Пойдем дальше. Если ты прощаешься с кем-нибудь, что надо, по-твоему, оказать?
— Позвольте пожелать вам всего самого лучшего.
— Ну вот! А надо сказать просто: «Пока!» Или в лучшем случае: «Привет бабушке, не забудь полить фикус». Если ты, например, сидишь над задачкой полчаса и не можешь ее решить, что надо сделать?
— Ничего. Сидеть, пока не решишь.
— Надо сказать: «Муть!» А потом можно, конечно, и посидеть, но лучше списать ее у кого-нибудь на уроке. Ну, и так далее. Запиши, с непривычки тебе, возможно, трудно запомнить. Ну, пока!
— Пока!
И Петька ушел.
Словом, дела шли недурно — и в школе и дома. В школе Леня Караскин был самым незаметным из самых незаметных учеников шестого «Б» класса. А дома Трубочный Мастер иногда сердился и даже кричал на него, но только потому, что, по его убеждению, каждый мастер своего дела непременно должен уметь кричать и сердиться. На Леню он сердился для практики, чтобы не забыть, а на деле был одним из самых добрых людей в Немухине.
Леня залетел к нему случайно. Он очень устал от долгого полета и почти без сил нырнул в первое попавшееся чердачное окошко.
— «Муть», «Пока», «Привет бабушке!» — твердил по утрам старательный Леня. — «Эх, вы, сапоги!», «Блеск!»
Но не все было так хорошо, как могло показаться с первого взгляда. Незаметно Леня становился заметным — и вовсе не потому, что умел летать: Петя и Таня сдержали слово. Он становился заметным потому, что никому и ни в чем не мог отказать. Каждый день кто-нибудь просил у него карандаш, резинку, линейку — конечно, в долг, — но кому же придет в голову вернуть взятую в долг резинку? Хуже было, когда у него просили одиннадцать копеек на эскимо. Тогда он оставался без завтрака, и Трубочный Мастер кричал на него уже не для практики, а всерьез и усаживал за целую миску картошки.
Он как раз сидел над этой миской, размышляя, как бы обмануть его и съесть половину миски, когда зазвонил пожарный колокол и весь город побежал смотреть пожар — в Немухине любят смотреть пожары. Горела пожарная каланча. Дежурный успел ударить в колокол несколько раз, а потом скатился по лестнице вниз. У него обгорели усы, и в толпе, мигом окружившей его, многие справедливо заметили, что усы отрастут, а каланчу придется отстроить.
И вдруг… Впрочем, об этом надо рассказать по порядку.
Пожарник удрал, но вокруг деревянной, окруженной перилами вышки метался рыженький, нежный комок. Это был, без сомнения, котенок Трубочного Мастера, который каким-то образом попал на каланчу и теперь то вскакивал на перила, то становился на задние лапки, а передние складывал вместе, как человечек.
Наконец, потеряв надежду, он совсем уже собрался прыгнуть вниз и, без сомнения, разбился бы насмерть, потому что это был котенок, а не кошка, которая с любой высоты падает непременно на лапы. Но котенок не прыгнул. Его остановило предчувствие. Из огромной толпы, окружившей в некотором отдалении горевшую каланчу, вылетел худенький мальчик и плавно направился к изумленному котенку.
Изумлен был, разумеется, не только котенок. Немухинцы утверждали впоследствии, что мальчик летел не как птица, а именно как мальчик, небрежно засунув руки в карманы. Приблизившись к вышке, он сказал: «Кис, кис», и котенок прыгнул к нему, зажмурив глаза. Замечено было также, что мальчик, опустившись на землю, как бы провалился сквозь нее, то есть немедленно и бесследно исчез.
Все это произошло так неожиданно и скоро, что иные немухинцы стали даже утверждать, что ничего не было — каланча не горела, котенок почудился, а мальчик не взлетал, потому что это противоречит законам природы. Однако тот самый журналист, который написал статью «Летающие мальчики? Вздор!», немедленно приехал в Немухин и, опросив множество свидетелей, напечатал в центральной газете длинный подвал, в котором доказывал, что если летающие тарелочки — вздор, то летающие мальчики, по-видимому, действительно существуют в природе.
В общем, все были довольны. Немухинцы — тем, что наконец сгорела деревянная, старомодная вышка, на месте которой никто не мешал теперь построить телевизионную башню, а Старый Трубочный Мастер — тем, что прославился не чей-нибудь, а именно его котенок. Недоволен был только Леня. Более того, на него напала такая тоска, что он совершенно перестал заниматься и схватил по ботанике двойку. Все, чему его научил Петька, он начисто забыл и стал говорить даже еще сложнее, чем прежде.
— У меня угнетенное состояние духа, — сказал он Тане и Петьке, — вызванное непредвиденным происшествием, которое может повлечь за собой другое происшествие, еще более непредвиденное и нежелательное во всех отношениях.
Он хотел сказать, что ему не надо было спасать котенка, потому что теперь все узнали, что он умеет летать.
— К сожалению, на этот раз я действительно должен поступить сообразно обстоятельствам, — продолжал он, — потому что Смотрителя Маяка можно ожидать в Немухине каждую минуту. Вот почему я решил открыть вам тайну полета. Кто знает, может быть, вам придется помочь мне, а для этого необходимо научиться летать.
Разговор происходил поздно вечером, и весь город опал, по возможности, вежливо, то есть не храпя и не вскакивая без причины во сне.
— Однажды ты упомянул, Петя, о девочке, которой хотелось взлететь?
— Ну, как же. «Так бы вот села на корточки и подхватила себя под коленки».
Петя давно выучил эту страницу наизусть.
— Была ли в ту ночь полная луна?
— Нет, — честно сознался Петька. — «Почти полная на светлом, почти беззвездном небе».
— Зажмурилась ли она, когда села на корточки, подхватив себя под коленки?
— Тоже нет.
— А надо было крепко зажмуриться, — сказал Леня. — Кроме того, она, без сомнения, не знала, что надо сказать, крепко зажмурившись и подхватив себя под коленки.
Вечер был ясный, на дворе светло, и когда худенький, беленький Леня, в накинутом на плечи пальтишке, переделанном из пиджака Трубочного Мастера, сел на корточки и закрыл глаза, Таню даже немного затошнило от волнения, а Петьку — от любопытства.
— «Господин Главный Ветер и прочая, и прочая, и прочая, ты слышишь меня? прошептал Леня. — Пошли мне попутный, не встречный, не поперечный. Пошли мне не косой и не боковой. В тучах не заблудиться, в облаках не растеряться, под солнышком не растаять, до утра долететь». А потом, — уже своим, обыкновенным голосом сказал Леня, — надо встать, открыть глаза, и все пойдет как по маслу, то есть я хочу сказать, именно так, как происходит в природе. Лететь, кстати сказать, можно не только при полной луне, но и в полдень, когда солнце в зените. Махать руками, как крыльями, не надо. Бояться или думать, что это чудо, не следует и даже опасно. Но если захочется опуститься, вот тогда как раз и надо подумать, что это — чудо. Но подумать вежливо, в осмотрительных выражениях. Например: «А не странно ли, в самом деле, что я летаю, как птица, вместо того чтобы ходить по земле?» Вы понимаете, ребята, вообще-то говоря, ведь это действительно настоящее чудо. Но чудеса самолюбивы, обидчивы. Как только им перестают верить, они перестают действовать. Ведь это тоже совершенно естественно, правда?
Если бы ребята не были так увлечены разговором, они бы заметили, что какой-то странный ветерок бродил по Немухину в ту бесшумную лунную ночь. Вот он заглянул в один двор, пошарил в сарае, пробрался в курятник и смертельно напугал кур, подув на них сзади, как это делают хозяйки, размышляя, стоит ли их покупать.
Вот заглянул в другой, обежал флигелек, осторожно залетел в слуховое окошко. Можно было подумать, что этот ветерок искал кого-то в Немухине, или даже, что он, не зная адреса, догадывался, где живет тот, кого он искал.
— Конечно, жители Летандии летают в любое время дня и ночи без обращения к Господину Главному Ветру, — продолжал Леня. — Но иностранцы — ведь в Летандии вы, как это ни странно, сразу же станете иностранцами — могут летать, только зная тайну полета.
Ребята разговаривали тихо, и ветерок, бродивший по Немухину, может быть, не услышал бы их, если бы Петька не спросил громким голосом:
— Значит, если о чудесах подумать невежливо, они тебя так брякнут о землю, что, пожалуй, и костей не соберешь?
Не знаю, случалось ли вам замечать, как сильный шторм в густом лесу подчас валит деревья не всплошную, а точно по выбору, переламывая, как спички, столетние сосны? Нечто подобное произошло в эту минуту. Легкий ветерок вдруг превратился в вихрь. Все закружилось во дворе Трубочного Мастера, двери распахнулись, забор с треском упал, сарай мигом превратился в груду переломанных досок. Дом уцелел, слегка перекосившись, но крышу унесло в Мухин, откуда ее наутро пришлось перегонять через речку с помощью самоходной баржи.
Но самое грустное, самое неожиданное и, по-видимому, непоправимое заключалось в том, что Леня Караскин пропал. Осталась только эолова арфа на чердачном окне, и она еще звенела так пронзительно-грустно, как будто без конца повторяла «Прости».
Где же Леня? Таня поднялась на чердак, Трубочный Мастер бегал по двору, котенок жалобно мяукал. И только Петька, опустив голову, стоял на крыльце, думая о том, что теперь-то он наконец сумеет доказать, что у него действительно львиное сердце. Он своими глазами видел мелькнувшего в улетающем вихре коротконогого Смотрителя Маяка, похожего на пифагоровы штаны. В центре квадрата, построенного на гипотенузе, сидел, сжавшись и втянув голову в плечи, бледный, худенький, перепуганный Леня.
Воробей с сердцем льва
Лене случалось видеть цветные сны, и теперь он иногда думал, что самый милый из его цветных снов — это Немухин с его Нескорой улицей, с его светлой речкой, в которой стайками ходили пескари, с его пожарной каланчой, которая была так хороша, пока не сгорела. И зачем только он пожалел котенка? Но жалеть о том, что он пожалел котенка, Леня не мог.
«Судьба», — грустно думал он, просыпаясь, и Немухин исчезал, как сон, потому что и цветной сон в конце концов исчезает. Надо было вставать и действовать «сообразно своим обязанностям», как приказывал ему Смотритель. В этот день обязанности заключались в том, что он должен был идти за керосином в город. На набережной, перед воротами крепости, керосинщик уже трубил, извещая Летандию о своем появлении.
От Наблюдательной вышки, где спал в эту ночь Леня, он должен был спуститься вниз по длиннейшей винтовой лестнице Маяка, а потом, гремя бидонами, почти две мили бежать по уложенному булыжниками молу. Куда проще было бы в пять минут слетать к керосинщику и обратно! Но подобно тому, как жители приморских городов не любят купаться, в Летандии принято было летать только по важным делам или — в редких случаях — в гости.
Хвост был уже длинный, когда, запыхавшись, Леня добрался до керосинщика и уселся на каменные плиты, — и надо сказать, что это был не совсем обыкновенный хвост. Почти никому не нужен был керосин, и многие пришли только потому, что на этом месте и в этот час каждое утро покупали керосин их отцы и деды. В Летандии были сильны традиции, а традиции, как известно, в некоторых странах переходят из поколения в поколение.
Керосину, слава богу, хватило и для Лени, и он поплелся дальше, не думая о том, как хороша была Летандия в этот нежаркий октябрьский день. Красно-рыжие черепичные крыши были похожи на остроугольные ступени, не спеша поднимавшиеся в гору, — они и были ступенями для Господина Главного Ветра. Его сквозной, открытый со всех сторон, дворец стоял на высокой желто-зелено-красной горе, и крепость, по стенам которой можно было бродить целый день, казалась оттуда цветной мозаичной трапецией, вставленной между синевой моря и неба. Но эта трапеция, если спуститься вниз, превращалась в старинный городок с узкими улицами, переходящими в лестницы, и с лестницами, ведущими в пятисотлетние храмы. В центре города была площадь, уложенная гладкими плитами. Над самым старинным из храмов висел прозрачный колокол, светившийся по ночам таинственным, зеленым светом.
Короче говоря, на каждом шагу было что-нибудь необыкновенное, а ведь если необыкновенное видеть каждый день, оно начинает казаться таким обыкновенным, что ничего обыкновеннее просто невозможно себе представить. Вот почему Леня не заметил даже, что из каждого дома слышались звуки камертона — это настраивались эоловы арфы, а у кого не было настоящих эоловых арф, те натягивали потуже бельевые веревки, переброшенные через улицу от одного дома к другому.
Все это означало, что на острове ждут возвращения Господина Главного Ветра, потому что, возвращаясь, он с незапамятных времен играл на всех эоловых арфах одновременно.
Но Лене было не до музыки. Он тащился по городу, ничего не видя и не слыша. Покупок было еще немало. Ему хотелось сэкономить на табаке для Смотрителя, чтобы купить хоть немного хлебных крошек — он тайком кормил хлебными крошками чаек.
Но табак подорожал, и чайки остались без крошек.
С грустью думал он о том, что все давным-давно забыли его в Не-мухине: забыл котенок, которого он как-никак спас, забыл Старый Трубочный Мастер, забыла Нескорая улица, по которой он каждое утро бежал в свою школу, забыла школа, а в школе забыли Таня и Петя.
Но он ошибался: никто в Немухине его не забыл.
Еще в сентябре появилась статья, в которой было сказано, что все без исключения немухинцы решительно протестуют против насильственного исчезновения, при подозрительных обстоятельствах, одного из лучших учеников шестого «Б» класса, недавно проявившего мужество перед лицом смертельной опасности, грозившей одному легкомысленному котенку.
В других номерах были краткие сообщения о создании комиссии по спасению Лени Караскина.
Наконец, под шапкой «Вылетели» было напечатано следующее сообщение:
Сегодня, 25 сентября, на розыски пропавшего без вести шестиклассника Л. К. отправилась экспедиция в составе:
1) С. Т. М., корреспондент «Немухинского голоса» (руководитель).
2) П., по прозвищу «Воробей с Львиным Сердцем».
3) Т. — ученица шестого класса музыкальной школы (скрипка).
По некоторым соображениям пункт назначения, имена участников и материальная сторона экспедиции остаются в полном секрете.
Материальная сторона заключалась, главным образом, в том, что Старый Трубочный Мастер взял не только фотоаппарат, но и радиопередатчик, Таня — свою скрипку, а Петька — котенка.
Вот как обстояли дела, когда расстроенный тем, что ему не удалось купить хлебных крошек для чаек, Леня спускался к молу по лестнице со своими бидонами, отдыхая чуть ли не на каждой ступеньке. И вдруг он почувствовал, что один из бидонов стал полегче: не пролил ли он керосин? Нет, все в порядке! Но вот полегче стал другой, и, обернувшись, он увидел подхвативших бидоны Таню и Петю. Немного поодаль с достоинством шел Старый Трубочный Мастер, у которого был вид настоящего спецкорреспондента, с его фото — и радиоаппаратами, висевшими крест-накрест на широкой груди. Аппараты тут же были пущены в ход, и первое сообщение гласило:
Обнаружен в неприглядном виде. Обдумываются меры немедленного восстановления здоровья.
Решено было, никому не показываясь в городе, скрыться до ночи в Лениной каморке, дождаться полнолуния и улететь. Но как попасть на Маяк? Смотритель может увидеть их на узкой полоске мола.
Они торопливо пробежали по молу, хотя Леня сказал, что Смотритель никогда не смотрит в сторону Летандии.
«Зачем же, — однажды заметил он, — смотреть на то, что никогда и ни при каких обстоятельствах измениться не может?»
Бочки с запасом пресной воды стояли вдоль стен подвала, на случай, если буря отрежет Маяк от земли. В углу были сложены отслужившие свой век маячные лампы. Отсюда по железной винтовой лестнице они поднялись до первой смотровой площадки, на которую выходила комната Лени. Подниматься дальше было опасно, потому что Смотритель мог услышать шаги и вообще пора было отдохнуть и перекусить после полета. По этому поводу в Немухин полетела вторая радиограмма:
Перекусываем.
У хозяина не оказалось ничего, кроме краюхи хлеба и отвратительной настойки из ягод шиповника, которую Смотритель считал полезной для детей нежного здоровья, и Трубочный Мастер, вытащив из заплечного мешка колбасу, лук и яйца, прибавил через несколько минут к своей радиограмме:
Аппетит превосходный.
Но аппетит аппетитом, а ведь пора было подумать о том, чтобы успешно решить поставленную перед экспедицией задачу — то есть вернуть Леню Караскина в шестой «Б» класс немухинской средней школы.
Вообще говоря, размышлять особенно долго было нечего, а надо было добраться до открытого места и, совершив все, что полагается для благополучного перелета, вернуться в Немухин.
Открытое место было под боком — из комнаты Лени легко было шагнуть на площадку, находившуюся примерно метрах в тридцати над морем.
Но прежде надо было:
1) разбудить Смотрителя, потому что Маяк нельзя было оставлять без присмотра.
2) подлить керосин.
Это, разумеется, должен был сделать Леня, а его спасители на всякий случай должны были спрятаться кто куда.
В Лениной комнате была ниша, где хранились отслужившие свою службу канаты и брезентовый плащ, который он надевал, выходя на вышку в дурную погоду. Он спрятал друзей в эту нишу, закрыл дверь и ушел.
Котенок мгновенно уснул, Трубочный Мастер занялся своими аппаратами, а Таня с Петей стали болтать о полете, который, как это ни странно, ничуть не показался им чудом.
— Ух, а мне было страшно, когда я поднялась, — сказала Таня, — у меня шнурок развязался на туфле, и я не знала: если это все-таки чудо, можно, например, завязать его, то есть сделать самую обыкновенную вещь?
— Мне тоже было страшно, да как! А здорово мы заблудились в облаках! — с восторгом сказал Петька. — И какие они смешные, верно? Перистые, как перья, а кучевые совершенно как стадо баранов! Так и кажется, что сейчас услышишь: «мэ-э, мэ-э».
Только что Трубочный Мастер успел передать по радио:
Подзаправились, обмениваемся впечатлениями, отдыхаем,
как вернулся взволнованный Леня.
— Насилу разбудил, — сказал он. — И к сожалению, он проснулся в очень дурном настроении. Левый сапог он надел на правую ногу, а правый — на левую и рассердился, когда я обратил внимание на эту ошибку. Трижды он пересчитал деньги, оставшиеся от покупки керосина. Он велел мне начистить мелом пуговицы на его парадном мундире — это значит, что с минуты на минуту надо ждать возвращения Господина Главного Ветра. Словом, надо лететь. Через четверть часа солнце будет в зените.
Несколько минут все же пришлось потерять, потому что Трубочный Мастер должен был дать радиограмму: «Вылетаем», а Петька — осколком кирпича вывести на стене: «Привет бабушке, не забудьте полить фикус». В полном снаряжении они вышли на смотровую площадку — и вдруг нежная, слабо-порывистая, напоминающая широкие, летящие шаги музыка окружила их таким плотным кольцом, что они не могли бы, кажется, двинуть ни рукой, ни ногой. Это эоловы арфы возвестили о приближении Господина Главного Ветра. Он пролетел над Маяком так быстро, что Петька увидел лишь его желтые развевающиеся волосы и длинные ноги в клетчатых брюках.
— Ровно двенадцать, — шепотом напомнил Леня. Они присели на корточки, крепко обхватили себя под коленками. Но зажмуриться — увы — не пришлось, потому что Смотритель Маяка, в ярко-зеленом мундире, на котором блестели ярко начищенные пуговицы, в новых брюках с зеленым кантом, неожиданно появился на смотровой площадке.
— Вы арестованы, — сказал он ровным, ничего не выражающим голосом. — Более того, я доложу Господину Главному Ветру о вашей незаконной попытке похитить коренного жителя Летандии.
Он не успел договорить. Петька вскочил и произнес три слова, которые впоследствии были признаны почти историческими, потому что еще никто не произносил их в таком рискованном положении. Он сказал: «Как бы не так!» — и с тридцатиметровой высоты кинулся в море.
Что прошло — то прошло
Господин Главный Ветер неизменно возвращался из своих путешествий с какой-нибудь новой затеей.
На этот раз он был увлечен мыслью, которая никого не заставила задуматься в Летандии, потому что все знали, что через несколько дней он забудет о ней.
Она была выражена в четырех словах: «Что прошло — то прошло». И в объявлениях, наклеенных на стенах, эти слова разъяснялись: «Прошлого не вернуть, как бы уж там ни стараться. Да и стоит ли? Ведь кто-то уже доказал, что время — необратимо!»
Таким образом, нельзя было сказать, что Господин Главный Ветер не заботился о Летандии. В других странах он вел себя гораздо хуже: засыпал песком города, обрушивал на морские пристани волны высотой с Эверест, топил корабли, устраивал обвалы в горах и очень любил доводить людей до нервного расстройства. Как настоящий разбойник, он скрывался под сотней имен и прозвищ — Сирокко, Суховей, Самум. Он обрушивался на целые континенты, и теперь уже никто не верил, что некогда у него была строгая мать, которую он уважал и любил. Об этом легко судить по известной колыбельной песне:
«Спи, дитя мое, усни, Сладкий сон к себе мани. В няньки я тебе взяла Ветер, Солнце и Орла». Улетел Орел домой, Солнце скрылось за горой, Ветер после трех ночей Мчится к матери своей. Ветра спрашивает мать: «Где изволил пропадать, Али звезды воевал, Али волны все гонял?» «Не гонял я волн морских, Звезд не трогал золотых Я дитя оберегал, Колыбелечку качал».Разумеется, эта песня была строго запрещена в Летандии. Еще бы! Кто посмел бы предположить, что Господин Главный Ветер занимался такими пустяками и даже был, строго говоря, обыкновенной няней?
Ходили слухи, что в одной из самых старинных рукописей, которые давным-давно никто не читал, рассказывалось о том, что под Летандией сохранились пещеры, где добровольно или по принуждению оставалось навсегда все забытое Господином Главным Ветром или то, что он хотел забыть.
«Там течет подземная река, — шептали друг другу жители Летандии, — а в ней, представьте, водятся пещерные рыбы, которые могут жить только в темноте. Там застыл в воздухе теплый солнечный дождь, который не согласился стать холодным и косым, несмотря на приказ Господина Главного Ветра».
Но самый странный слух, которому почти невозможно было поверить, заключался в том, что он в конце концов рассердился на свою мать за ее советы и наставления и решил, как это часто бывает с подрастающими детьми, жить своим умом. Более того, он заключил ее в одну из подземных пещер и забыл о ней на целое тысячелетие.
Короче говоря, Господин Главный Ветер был очень неблагодарный, честолюбивый и беспощадный господин.
Он не любил, например, когда жители Летандии начинали думать о себе, а не только о нем. Он был хвастлив — возвращаясь, он собирал всех жителей острова на Площадь Розы Ветров и долго рассказывал им о своих подвигах, почти всегда неприятных. Его не то что боялись, но побаивались, тем более что у него была дурная привычка: если собеседник не соглашался с ним, он вдруг ставил его вверх ногами.
Все будет «тип-топ»
Петька, слетевший в море, как он полагал, «ласточкой», на деле шлепнулся, как мешок с картошкой. Зато в его ушах еще слышался испуганно-восторженный возглас Тани. Он выплыл, хотя его чуть не схватила за ногу какая-то глубоководная рыба. На берегу он подсох, отдышался и привел себя в порядок неудобно было все-таки являться в таком виде к Господину Главному Ветру. Камни на берегу успели нагреться, и с помощью одного из них он сделал на потрепанных штанах заметную складку.
Никто не помешал ему войти в крепость по мосту, висевшему на заржавленных цепях. Над мостом была натянута парусина, и на парусине крупно написано: «Что прошло — то прошло». Он поднялся по лестнице на площадь; старинные дома стояли, тесно прижавшись друг к другу; редкие, узкие, темные улочки пугливо убегали направо и налево. «Что прошло — то прошло», — было написано почти на каждом доме — где аккуратно, а где и небрежно. Кое-где висели объявления, и Петька прочел одно из них, подозревая, что в нем сообщается о непрошеных гостях из Немухина. Нет! «Прошлого не вернуть!» — говорилось в объявлении. «Старина интересна лишь тем, кто ее не видел, а не тем, кому она надоела. Вот почему все неведомое или неизвестное отныне приветствуется в Летандии. Новости будут отмечены нижеследующими словами Господина Главного Ветра: „Спасибо“, „Большое спасибо!“ и „Весьма благодарен“».
Небезопасно было идти напрямик через город. Петя решил обогнуть крепостные стены и действительно не встретил почти никого; Старая женщина, на которой было много юбок, выглядывающих лесенкой одна над другой, гнала осла по пыльной дороге. Непохоже было, что она умеет летать. Скорее Петька мог бы сказать это об осле, который весело поигрывал ушами. Двое мальчишек гоняли мяч под крепостной стеной так лениво, что тот, который посылал мяч, успел бы, кажется, вздремнуть, пока мяч возвращался обратно. Короче говоря, у всех без исключения, кого он встретил, был сонный, скучающий и одновременно чем-то озабоченный вид. Об этих летающих людях можно было сказать, что даже и на земле они стоят не очень-то твердо. Одеты они были старомодно, хотя и не очень. Но вот из-за линии черепичных крыш показался летевший по воздуху толстяк с портфелем, в белой рубашке и в сиреневом модном костюме. Но и у толстяка, может быть, потому, что он летел по важному делу, был озабоченный и даже несколько испуганный вид.
Не было ничего проще, как, обогнув крепостную стену, подняться на желто-зелено-рыжую гору, с которой дворец Господина Главного Ветра был виден как на ладони. Но едва Петька опустился в неглубокую впадину между горами, как легкий толчок сбил его с ног.
«Споткнулся», — подумал он и, вскочив, побежал вверх по тропинке. Хлоп — и он снова упал. Что за чудеса! И ведь вокруг не было ни души, только легкий ветерок катился навстречу ему, поднимая легкую пыль, а когда Петька упал, торопливо скрылся в кустарнике, которым густо заросли горы.
Нельзя сказать, что Петька быстро разгадал эту загадку. Он разгадал ее после того, как раз десять скатился то с одного, то с другого холма, разорвал брюки и больно ушиб коленку. Телохранители Главного Ветра — вот кто были эти ветерки, сбивавшие его с ног.
Нужно было что-то придумать и, привалившись к желтому кленовому кусту, Петька стал изучать необычайный факт как с научной, так и с практической точки зрения. И без сомнения, он изучил бы его, если бы не заснул, едва успев подумать, что он здорово «сел в муку», что означало на языке шестого «Б» класса немухинской средней школы, что он попал в безвыходное положение.
Солнце уже клонилось, на желто-зелено-рыжие горы падали, уютно устраиваясь, длинные вечерние тени, когда Петька открыл глаза и зевнул. Он увидел кленовый куст, под которым он спал, — это было естественно. Вдоль куста шагали чьи-то ноги в клетчатых штанах — и здесь не было ничего заслуживающего внимания! Но когда Петька, вскочив, высоко закинул голову и увидел того, кому они принадлежали, он был поражен.
Это был еще моложавый, длинноногий человек, с пушистыми, разлетающимися, желтыми волосами и очень смешным лицом. Щеки его были похожи на два розовых воздушных шара, толстые губы как будто нарочно устроены, чтобы дуть, нос коротенький, вздернутый, дерзкий, а глаза — жестокие, насмешливые и озорные. Роста он был такого, что даже если бы Петька встал на цыпочки, ему едва ли удалось бы дотянуться до украшенного серебром кожаного пояса, на котором висел охотничий нож.
— Извините, — вежливо сказал незнакомец, — если не ошибаюсь, я был невольной причиной вашего пробуждения. Позвольте узнать, с кем я имею честь…
— Воробей с Сердцем Льва, — пробормотал Петька.
Человек в клетчатых штанах засмеялся. И смех у него был насмешливый, озорной и жестокий.
— Насколько я могу судить, не будучи специалистом, — заметил он, — это крайне редкое, почти не встречающееся в природе соединение. Разрешите же представиться и мне: Главный Ветер.
По мнению знатоков архитектуры, дворец Господина Главного Ветра представлял собой одно из самых изящных зданий в мире. Его оригинальность заключалась в том, что никакого здания, в сущности, не было.
На вершине крутой горы, среди кустов лаванды, напоминавших испуганных, круглых, спрятавших головку под крылья, темно-фиолетовых птиц, стояли четыре колонны, над которыми Петька не заметил крыши. Но крыша все-таки, очевидно, была или, по меньшей мере, появлялась в дождливые дни. В этом странном дворце все появлялось или исчезало по желанию Господина Главного Ветра. Войдя вместе с Петькой во дворец, он сказал: «Садитесь, пожалуйста!» — хотя вокруг не было ни кресел, ни стульев.
Что было делать? Петька решительно сел, не сомневаясь, что сейчас он шлепнется на пол, и не только не шлепнулся, но оказался в очень удобном, хотя и еле заметном воздушном кресле. Все это были, разумеется, ветерки с их бесконечными превращениями. «Отличная вещь», — подумал, устраиваясь, Петька. И он решил, что, вернувшись в Немухин, он непременно поставит вопрос о практическом использовании почти незаметного движения воздуха. Но где? На мебельной фабрике или в Аэродинамическом институте?
Это был очень содержательный разговор. Главный Ветер, как и полагается хозяину, спросил прежде всего: было ли оказано господину Воробью с Сердцем Льва должное гостеприимство?
Петька сказал, что было, и даже поблагодарил. Он чувствовал, что с Главным Ветром надо держаться дипломатически, то есть думать одно, а говорить другое.
— Может быть, вам нетрудно рассказать мне о своем впечатлении от Летандии? — спросил Главный Ветер.
Петька ответил, что впечатление хорошее, но что ему лично больше всего понравился парусиновый плакат у входа в крепость, на котором написано: «Что прошло — то прошло».
— Хорошая идея, — одобрительно сказал он.
Короче говоря, до сих пор все шло превосходно, и Петька уже подумывал, как бы подъехать к Господину Главному Ветру с просьбой пустить Леню в Немухин, когда хозяин спросил как будто невзначай:
— Кстати, как вы попали в Летаидию? Морем?
Надо было ответить дипломатически: «Да, морем». Но тогда Господин Главный Ветер не задумался бы, пожалуй, отправить их и обратно морем…
И Петька рассказал, как Леня Караскин научил немухинцев летать, — и рассказал с подробностями, которые, по-видимому, не очень понравились Господину Главному Ветру. У него вдруг изменился цвет глаз — из ярко-голубых они стали ядовито-зелеными.
Разговор был бы еще содержательнее, если бы Петька не переходил время от времени на язык шестого «Б» класса.
— Ну тогда все будет тип-топ! — закричал он, когда Главный Ветер сказал, что Леня получит командировку в Немухин для окончания школы.
А Главный Ветер решил, что Петьке захотелось потопать ногами. Но и слово «потопать» они понимали каждый по-своему, потому что, когда Петька сказал: «Ну, теперь я потопаю», Главный Ветер меньше всего ожидал, что его собеседник, не прощаясь, выскочит из дворца и со всех ног побежит вниз по тропинке.
Впрочем, далеко он не убежал.
— Виноват, мы еще не договорились, — сказал ему вслед Главный Ветер, и Петька, сам не понимая, как это случилось, вновь оказался перед ним. Скажите, пожалуйста, а как у вас в Немухине относятся к выдаче государственной тайны?
Петька ответил, что насчет тайны Господин Главный Ветер может не беспокоиться, потому что они с Таней дали честное пионерское слово, а Старый Трубочный Мастер — почетное честное пионерское, потому что он почетный пионер.
— Могила, — значительно сказал он. — Кроме того, ведь у вас же на каждом шагу написано: что прошло — то прошло! А ведь то, что мы узнали от Лени, уже давно прошло. Верно?
— О да! Без сомнения, — улыбаясь, сказал Главный Ветер. — Словом, ты можешь сказать своим друзьям, что им ничто не угрожает.
На этот раз телохранители не помешали Пете спуститься вниз по тропинке.
Главный Ветер молча смотрел ему вслед. Нельзя сказать, что у него в эту минуту было приятное лицо. Он сложил толстые губы и уже совсем собрался, кажется, дунуть — тогда Петька, без сомнения, оказался бы где-нибудь в пустыне Сахаре. Но Главный Ветер только сильно раздул щеки. И этого вполне было достаточно, чтобы все флюгера на всех крышах крепости одновременно повернулись к нему.
— Свод законов, том сто восьмой, пункт четвертый, — сказал он. — Как нежелательных иностранцев провести по городу с завязанными глазами. Пункт пятый: сбросить в море со скалы «Великий утюг».
Вылет возможен, но невозможен
Когда Смотритель принялся писать секретнейший рапорт, его со всех сторон окружили дурные предчувствия. Надо было как-то уговорить их убраться или просто махнуть на них рукой, а это было совсем нелегко, потому что ради торжественного дня возвращения Главного Ветра он надел тесный, застегивавшийся на добрую сотню пуговиц парадный мундир, мешавший ему размахивать руками. Но один раз махнуть все-таки удалось, и он с удовольствием углубился в свой рапорт.
Он начал его с истории Лени Караскина, оставшегося сиротой и спасенного им от голодной смерти.
«Находясь под беспрестанным нравственным присмотром и в более чем благополучном материальном положении, он тем не менее стал скучать, — с возмущением писал Смотритель, — и внезапно, без необходимого письменного уведомления, на которое немедленно последовал бы отрицательный ответ, улетел в город Немухин».
Он писал долго, неторопливо, с наслаждением. Он прекрасно понимал, что Леня очень нужен ему, но остановиться или — страшно подумать — простить его Смотритель уже не мог. Это была бы неблагонадежная, кривобокая и, уж во всяком случае, непрямоугольная мысль.
Он так увлекся, что не заметил, как морское пространство, освещенное Маяком на добрых пять-шесть миль, превратилось в самое обыкновенное, не освещенное Маяком морское пространство. Маяк погас! Случалось, что он мигал, коптел — в докеросиновые времена, когда в лампу заливали тюлений жир или лампадное масло. Но погаснуть? За последние пятьсот лет это случилось впервые!
Первая мысль Смотрителя была все о том же Лене: конечно, этот проклятый мальчишка нарочно не залил керосин, намереваясь снова улететь в Немухин. Вторая — тоже о Лене: сидя под ключом в своей каморке, каким же образом он мог залить керосин? Третья, на первый взгляд, о мундире, а по сути дела — снова о Лене. Для того чтобы заправить лампу, необходимо было переодеться, а попробуйте-ка расстегнуть сотню пуговиц на парадном мундире? Короче говоря, оставив незаконченный рапорт на столе, Смотритель вскочил и побежал за Леней.
…Нельзя сказать, что день был проведен немухинцами бесцельно или лениво. Старый Трубочный Мастер дал две радиограммы. Одна была короткая:
Воробей доказал, что у него сердце льва. Положение осложнилось.
Вторая — немного длиннее:
Настроение бодрое. Запас продовольствия на три дня. Вылет возможен, но невозможен.
Последняя загадочная фраза объяснялась просто. Дверь на смотровую площадку осталась открытой, и, дождавшись полнолуния, они могли улететь. Но без Петьки они улететь не могли, а от него не было ни слуху ни духу.
Они очень беспокоились о нем, и Таня даже всплакнула. Леня, пригорюнившись, сидел на груде морских канатов и только безнадежно разводил руками, когда чайки вопросительно заглядывали в окно, надеясь на хлебные крошки. Но после того как Старый Трубочный Мастер разъяснил, что настроение должно соответствовать радиограмме, начинавшейся словами: «Настроение бодрое», Таня и Леня действительно приободрились, тем более что Немухину, да еще по радио, неудобно было соврать.
Таня занялась своей скрипкой, Леня геометрией — предусмотрительный Петька, улетая из Немухина, захватил для него учебник, — когда дверь распахнулась и вбежал Смотритель, зеленый, как его парадный мундир. Зубы у него стучали, и он заставил себя открыть рот лишь после того, как Трубочный Мастер сдвинул очки на лоб и сказал:
— Ну-с?
— Извините, я, кажется, помешал? Но дело в том, что маячная лампа, в которую никто, — он злобно посмотрел на Леню, — не позаботился своевременно залить керосин, погасла, что случилось впервые за последние пятьсот — шестьсот лет.
— Так-с, — сказал Трубочный Мастер. — И что же?
— Между тем именно сегодня в честь возвращения Господина Главного Ветра я должен был зажечь тройной бело-красно-изумрудный огонь. Короче говоря, мне грозят серьезные служебные неприятности. Я прошу вас на время забыть о наших неудачно сложившихся отношениях и помочь мне зажечь маячную лампу. Должен предупредить, что вскоре вам снова придется вспомнить о них, в особенности если вы попытаетесь бежать, после того как окажете мне эту услугу. Наружная дверь Маяка заперта, а ключ надежно спрятан в моем парадном мундире.
— Понятно, — кратко ответил Трубочный Мастер. — Пошли.
Нельзя сказать, что, вытачивая и обкуривая трубки, считавшиеся лучшими в Немухине и во всем мире, он был знатоком маячных ламп, построенных пятьсот лет тому назад. Но недаром к нему иногда приезжал за советом сам Президент Столичной Палаты Мер и Весов. Короче говоря, не прошло и получаса, как тройной бело-красно-изумрудный огонь вспыхнул на башне, осветив морское пространство не на пять, а на добрых шесть с половиной миль. Более того, Трубочный Мастер наладил двухударный колокол, который должен был заменять Маяк во время тумана.
Радиограмма, которую вскоре принял Немухин, была немного хвастлива:
Оказал услугу Морскому Министерству. Необходимость дипломатического вмешательства, по-видимому, отпала.
Если бы он не был так занят починкой маячной лампы, в которую надо было вставить новый пухлый, тяжелый фитиль, он, без сомнения, заметил бы, как задрожал Леня, когда лампа, вспыхнув, осветила сперва спящий город, а потом задремавшее море.
Он задрожал, потому что увидел неподвижные флюгера и понял, что это значит.
В его жизни уже была минута, когда он вдруг почувствовал, что и у него сердце… Конечно, не льва, но уж, во всяком случае, львенка: нашел же он в себе силу, чтобы на глазах целого города подлететь к пожарной каланче, чтобы спасти глупого маленького кота который чуть не сгорел? Теперь Леня должен был спасти друзей — целую экспедицию, смело прилетевшую к нему на помощь.
— Вы понимаете, сущность дела, — солидно объяснял Смотритель, заключается в том, что приток воздуха между светильниками должен сопровождаться полным сгоранием керосина.
Работая, он должен был все-таки снять мундир, и ни он, ни Трубочный Мастер не заметили, как Леня вытащил из мундира ключ от наружных ворот маячной башни.
— А полное сгорание керосина, — продолжал Смотритель, — зависит от силы притока воздуха между светильниками. Как правило, он утраивается для получения тройного огня.
Минута была удачная, и она могла не повториться. Более того, минута была такая удачная, что она не могла повториться: Смотритель вышел на смотровую площадку, чтобы взглянуть, нет ли отклонений между переходами белого огня в красный, а красного в изумрудный. Он был так увлечен, что ничего не понял, когда Леня, подойдя к нему очень близко, сказал дрожащим голосом:
— Прошу меня извинить, но для меня и моих друзей это — единственный выход.
И он сильно толкнул Смотрителя, который с тридцатиметровой высоты вылетел в освещенное воздушное пространство. Тут только он догадался, что произошло нечто кривобокое и во всяком случае непрямоугольное, тем более что его секретнейший рапорт остался лежать на столе.
— Ты что, ошалел? — спросил изумившийся Старый Трубочный Мастер.
Леня торопливо захлопнул дверь на смотровую площадку.
— Мы должны защищаться, — сказал он. — Все флюгера в городе повернулись в сторону Дворца. Это означает: «Повинуемся». А «Повинуемся» означает «Казнь».
За пыльным круглым окном был виден грузно летавший вокруг башни Смотритель. Он был похож на бабочку в полосе света, падающего из окошечка будки на экран в летнем кино.
— Мундир, мой мундир! — кричал он, крутясь за окном и в отчаянии поднимая короткие руки.
Громкий стук донесся снизу. Кто-то ногами молотил в наружную дверь Маяка.
Трубочный Мастер не торопясь, аккуратно сложил мундир и швырнул его в форточку. Леня кинулся вниз.
— Кто там?
Это был Воробей с Сердцем Льва, веселый, встрепанный, в разорванных штанах и в рубашке, от которой остались только лохмотья.
— Блеск! — сказал он, еле дыша. — Главный Ветер разрешил тебе улететь в Немухин. Мировой парень! Фу-у! Устал! Найдется полопать?
Загадки
Загадок было не очень много, однако, по меньшей мере, две, и почти невероятно, что Леня решил их с помощью двух слов — на каждую по слову. Первая: почему, пообещав Воробью отпустить Леню в Немухин, Господин Главный Ветер немедленно отменил свое решение? И вторая: неужели он не понимает, что немухинцы не выдадут своих и что его ожидают серьезные неприятности в международном масштабе? Два слова, которыми Леня решил обе загадки, были: «легкомыслие и вероломство».
— Надо бежать, — сказал он. — Надо скрыться туда, где он нас никогда не найдет.
Никто не нашел бы их, если бы им удалось проникнуть в пещеры. Леня, который часто бродил по берегу моря, знал, что в скалах, между которыми стоял Маяк, есть глубокая расщелина, которая ведет в эти пещеры. Однако, к его удивлению, немухинцы не собирались ни бежать, ни скрываться. Трубочный Мастер послал радиограмаму:
Воробей вернулся с хорошими известиями, которые оказались плохими. Дальнейшие сообщения могут последовать через неопределенный срок. В случае радиограммы, начинающейся словами «Всем, всем, всем», немедленно вылетайте на помощь.
В маячной башне кое-где, очевидно, были трещины, потому что в одну из них пробрался ветерок, веселое дыхание которого сразу почувствовалось в Лениной каморке. Но нельзя назвать особенно веселыми слова, которые размеренно и четко послышались одновременно с этим дыханием:
— Господин Главный Ветер приказывает вам немедленно явиться к нему.
— От имени города Немухина, — не задумываясь, ответил Старый Трубочный Мастер, — передайте вашему господину, что, если ему угодно видеться с нами…
Он не успел договорить, как Маяк задрожал от самой скалы, на которой он стоял, до заметавшейся в ужасе маячной лампы. Железный вихрь ударил в него, и он качнулся направо и налево, как гигантская кегля.
— Бегите вниз! — закричал Леня. — Торопитесь. Главный Ветер в гневе номер один. Может быть, мы еще успеем спуститься.
Они бросились вниз по лестнице, едва успев захватить: Таня — скрипку, Трубочный Мастер — свои аппараты, а Петька — котенка, когда второй удар обрушился на Маяк. Тысячи воздушных кристаллов, тяжелых, как пушечные ядра, осадили его со всех сторон.
— Сюда, скорее, скорее! — говорил Леня. — За мной! Теперь он в гневе номер два. Торопитесь!
Трубочный Мастер зажег карманный фонарик, осветивший узкую темную расщелину, в которую они скользнули по грубо вырубленным ступеням. Еще несколько минут, и они были ниже уровня моря. Но и здесь был слышен третий удар, не раскатившийся, а прошелестевший долго, медленно, неотвратимо. А вслед за ним до немухинцев донесся глубокий старческий вздох. Это вздохнул Маяк.
Когда Старый Трубочный Мастер, который шел со своим фонариком впереди, оглянулся, он увидел, что худенькое лицо Лени было мокро от слез.
Прости меня, мама
Узкий проход поворачивал то под прямым, то под косым утлом, спускаясь и поднимаясь. Теперь слабому свету фонарика отвечали камни-самоцветы, вспыхнувшие здесь и там в неровностях скользких, постепенно расширявшихся стен.
Здесь была тишина, устоявшаяся столетиями я как будто насупившаяся, помрачневшая, заметив, что ее осмеливаются нарушить. Потом стал слышен отдаленный, убегающий шум подземной реки, успокоившей их, может быть, потому, что в тишине, напоминавшей о смерти, она одна двигалась, струилась, убегала. Но вскоре к мирному, глуховатому шуму воды стал примешиваться другой, свистящий, натыкающийся на стены разгневанный шум, и хотя Леня ничего не сказал, все поняли, что Главный Ветер гонится за ними. Они ускорили шаг.
Узкий каменный коридор, по которому они шли, вдруг повернул в пещеру со страшно поблескивающими стенами, почти пустую. В этой дикой, выщербленной пустоте лежали груды камней, на которые торопившиеся немухинцы не обратили внимания. Но если бы они остановились хоть на минуту, они подумали бы, что эти камни отдаленно напоминают людей, стоящих вверх ногами. Среди них были грузные, пожилые, а были тонкие, как юноши, как будто нарисованные одной ломаной, изящной чертой.
Кто знает, может быть, это и были люди, некогда не согласившиеся с Господином Главным Ветром, — ведь тех, кто не соглашался с ним, он любил ставить вверх ногами…
Налетающий на стены свистящий шум с каждой минутой становился слышнее, и немухинцы, не оглядываясь, пробежали вторую пещеру. Впрочем, она была не так странна и страшна, как первая, но и тут было на что посмотреть. Прозрачные стрелы дождя косо свисали с потолка, не достигая земли. Это был теплый прямой дождь, не согласившийся с Главным Ветром, который требовал, чтобы он стал холодным и косым, и который в наказание был навсегда заключен и забыт.
Но вот немухинцы достигли третьей пещеры, светившейся одиноким фосфорическим блеском.
Это был каменный сад, по которому пробегала и снова уходила под скалы река.
Деревья и растения, отказавшиеся стать другими, окаменели здесь, сплетаясь и поддерживая друг друга. И в этом саду, который не казался мертвым, потому что он был все-таки садом, под веткой каменного дуба, на обломке скалы, сидела старуха с гордо откинутой головой и неподвижными, как сама неподвижность, глазами. И если бы немухинцы, убегая из пещеры, оглянулись на нее, они заметили бы что эти глаза задумчиво проводили их с почти не изменившимся, но ласковым выражением. Опираясь на посох, крепко сжимая его побелевшими пальцами, она сидела на длинном платье, каменные складки которого переходили в складки скалы.
Теперь догоняющий, раздраженный, с размаху ударяющий о стены шум был заглушен струящимся шумом подземной воды. Но Главный Ветер был близко, и хотя Леня надеялся, что пройдя пещеры, можно добраться до берега и спрятаться вдали от маяка в заброшенном доке, чем длиннее становился его путь, тем короче становилась надежда.
Снова загорелся впереди слабый фонарик Старого Мастера — и они шли и шли, почти падая от усталости, по острым камням. Они не знали, что Главный Ветер пролетел первую и вторую пещеры, ворвался в третью — и остановился как вкопанный, услышав усталый, но твердый голос, который произнес только одно слово:
— Сын.
О легкомысленных людях говорят, что у них ветер в голове. Представьте же себе, какой ветер поднялся в голове господина Главного Ветра когда он увидел свою мать, о которой ни разу не вспомнил за тысячу лет.
— Что ты здесь делаешь, мама? — с изумлением спросил он.
— Нам надо поговорить. Я ненадолго задержу тебя. Год или два, ведь это немного?
— Пожалуйста, мама. Но я не понимаю… Почему ты не напомнила о себе?
— У меня не было времени. Я думала о тебе. Тебя благословляли моряки, у тебя были сотни ласковых прозвищ. Ты вертел крылья мельниц, помогая жить миллионам людей. Ты вмешался в несправедливую войну и разметал Великую Армаду. Ты был одной из самых разумных сил природы. И вот теперь ты гонишься за детьми, которые пытаются спасти своего товарища от смерти?
Она говорила, он нетерпеливо слушал, но его глаза, которые только что были ярко-зелеными от бешенства стали медленно голубеть.
— Знаешь, почему этот мальчик убежал от тебя? Потому что ты лишил свою страну воображения. Когда ты в молодости переставлял звезды, чтобы пошутить над людьми, которые думали, что они делают открытия, боже мой, ведь можно было ожидать, что из тебя получится Ветер с воображением!
Он улыбнулся.
— Я очень скучаю, мама.
— Вот видишь! А сколько раз я говорила тебе, что нет ничего опаснее скуки! От скуки до жестокости — один шаг.
Трудно сказать, что происходило в эти минуты в душе Господина Главного Ветра, хотя бы потому, что неизвестно, есть ли у него душа. Но ведь говорят же: «Ветер улегся». Или даже: «Ветер упал».
— Прости меня, мама, — сказал он. — Вернись ко мне! Ты станешь жить в моем дворце, воздушном, пустом и веселом. В нем ничего нет, кроме легких ветерков, которые будут исполнять каждое твое приказание. Тысячу лет я буду просить у тебя прощения за то, что я забыл о тебе на тысячу лет.
Она покачала головой.
— Нет. Мне здесь хорошо. Тишина. Я не скучаю. Жизнь шумит здесь подземной рекой. Она обегает весь мир и возвращается ко мне с новостями. Впрочем, у меня к тебе просьба: освободи теплый дождь, он устал. Пуская он поднимется в небо и прольется на землю.
Осталось неизвестным, сколько времени продолжался этот разговор. Однако под утро Господин Главный Ветер был уже у себя и занимался делами, потому что, когда полуживые от усталости немухинцы добрались наконец до берега моря, Леня радостно закричал:
— Флюгера!
Утро было даже еще не утро, а последний краешек ночи, и казалось, что сонная крепость, едва проснувшись, зевает, крепко протирая глаза. Рыже-красные черепичные крыши матово поблескивали под первыми солнечными лучами. А флюгера? Играя с ветерками, они весело вертелись во все стороны, а это означало, что даже в тысячелетних, легкомысленных и жестоких разбониках родная мать иногда способна разбудить совесть.
Странности, сказки и сны
Приглашая Воробья в Летандию, Смотритель обещал, что в его честь будет устроен маскарад, на Маяке будет гореть тройной огонь и самый большой колокол на Площади Розы Ветров встретит его торжественным звоном. Как ни странно, но именно это и произошло, когда немухинцы вместе с Леней собрались в обратный путь.
Маскарада, правда, не было, но маячный огонь далеко освещал темно-розовое пространство неба и моря.
Еще утром в окно Лениной каморки влетел свиток, начинавшийся, как и полагается, длинным титулом: «Мы, Господин Главный Ветер и прочая, и прочая, и прочая» — и кончавшийся словом: «Согласен». Правда, по ошибке Леня Караскин был назван «Каскин-Караскин», но это, разумеется, не имело значения.
Смотритель, который был очень любезен, снова надел парадный мундир и даже произнес маленькую речь о том, как будет скучать по Лене не только он, но самый Маяк и в особенности маячная лампа.
Семнадцать девочек из самых знатных семей поднялись в воздух, провожая немухинцев, — все, как одна, в нарядных платьях с такими крылатыми, разноцветными бантами за спиной, что их можно было принять за вертолеты, если бы вертолеты, в свою очередь, не были похожи на огромных, безобразных шмелей. Но торжественные проводы немухинцев остались в истории Летандии по другой, не менее серьезной причине.
Все эоловы арфы одновременно сыграли им прощальный морской сигнал: «Счастливого плавания и достижений», и аккорды, как бы превратившиеся в живой, звучащий воздух, окружили их и летели вместе с ними, как белые треугольники журавлей.
Девочки со своими бантами давно остались позади, скрылся Маяк. Сама Летандия с ее странностями начинала казаться сном или сказкой. Вот уже показался вдалеке и Немухин с его будущей телевизионной башней в лесах.
Крошечные фигурки на площади взволнованно размахивали руками, толпа становилась все больше. Экспедицию встречали представители общественных организаций и, разумеется, средняя школа в полном составе.
Но аккорды эоловых арф еще не оставляли немухинцев, как будто решив проводить их до самого дома. Правда, их не слышал Старый Трубочный Мастер, мысленно готовивший скромную речь. Их не слышал Воробей с Сердцем Льва, который не мог отличить музыку от обыкновенного шума. И Леня не слышал их, думая о том, что он, без сомнения, здорово отстал по алгебре и геометрии и что придется как следует налечь на эти предметы.
Зато Таня не только слышала, но даже видела эти аккорды. Для нее они складывались в изящные фигуры, рисующие соединение лунной ночи, тишины, теплого неба и холодно-искрящейся поверхности моря.
Вполне возможно, что она и теперь еще слышит и видит их — ведь о музыке нельзя сказать: «Что прошло — то прошло».
Во всяком случае, именно о ней говорят:
— Таня Заботкина? Ну как же! Это та самая знаменитая скрипачка, которая в детстве слышала музыку эоловых арф.
На финишной прямой
Поезжайте в Немухин! Вас встретят как долгожданного гостя. Даже если вы приехали в командировку или в отпуск, вас непременно постараются уговорить остаться в городе навсегда.
Можете мне не поверить, но меня-то как раз уговаривать не пришлось. Из гостиницы я переехал к сестрам Фетяска, и они научили меня варить кофе по-турецки и раскладывать пасьянс «Наполеон» — один из самых трудных в мире. Каждое утро на завтрак у них подается хлеб с хрустящей корочкой, и он мне так нравится, что я чуть было не написал сказку под названием: «Вкус немухинского хлеба, или Седьмое чудо света».
После завтрака я помогаю дяде Косте писать его путеводитель, и мы уже далеко продвинулись от исторического замечания о том, что «город основан в XX веке». Музей — неузнаваем. Все пропавшие вещи вернулись, как будто они никогда не были проданы или украдены, только старинную пушечку Неонила отдала по решению суда.
Зимой я хожу на лыжах в березовую рощу, и, если случайно встречаю Трофима Пантелеевича, мы толкуем о погоде, о городских, а подчас и международных делах — ведь он не какой-нибудь дремучий, а довольно образованный Леший. Летом я купаюсь в Немухинке, и, хотя здешней воде далеко до Ропотамо, в которой каждая прозрачная струя лепечет что-то другой, еще более прозрачной струе, я после купания чувствую себя бодрым и стараюсь придумать или даже написать новую сказку. — Всю жизнь меня не оставляла бессонница, но в Немухине я спал бы не просыпаясь, если бы каждую ночь, обходя город, Нил Сократович не стучал по медной кастрюле старой барабанной палкой. «Тук, тук, тук!» — слышите вы сквозь сон, и одновременно до вас доносится скрипучий, старческий, ворчливый голос: «Спите спокойно! Ничего особенного не случилось!»
Музейный Сторож, он, как истый немухинец, охраняет родной город, в котором все-таки кое-что случается вопреки его уверениям: на днях, например, молодая елочка, закутанная в снег и похожая на старую бабу в салопе, вообразила себя старой бабой и, явившись в город, потребовала, чтобы ей назначили пенсию.
Кстати сказать, Лекарь-Аптекарь предполагает, что возгласы Нила Сократовича и стук его барабанной палки действуют как снотворное, потому что, убедившись, что в городе все спокойно, немухинцы спят еще крепче, чем прежде.
В хорошую погоду, весной и осенью, когда не очень жарко, я иду пешком в Поселок Любителей Свежего Воздуха — надо же осведомиться, как живется фее Музыки и не забыла ли она, что не только видит, но и слышит цвета.
Башлыкова недавно избрали почетным членом Академии наук, и его книга «Снежная красавица» лежит на письменном столе каждого ученого садовода. Он по-прежнему играет на виолончели, но изучает теперь не испанский, а португальский язык. Пенсию он получает персональную, но его друзья и знакомые знают, что о ней нельзя упоминать, и вместо слова «пенсия» говорят, как некогда Петька, другие слова: «пенсне», «пентюх» или «пенка».
Что касается других немухинцев, то и они не забывают родной город. Новый Концертный зал, который построил Николай Андреевич, всегда полон — иголке некуда упасть, — когда приезжает на гастроли его знаменитая дочка.
Леня Караскин, пролетая над городом, не забывает покачать крыльями, приветствуя своих друзей и знакомых.
Петька работает на судостроительном заводе — когда-нибудь по глубоководной Немухинке пройдет пароход, построенный по его проекту.
Словом, все заняты делом. Отдыхает только шариковая ручка, которой я написал эту книгу. И то верно! Пора отдохнуть!
Путеводитель по городу Немухину





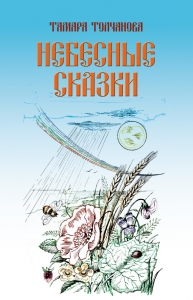

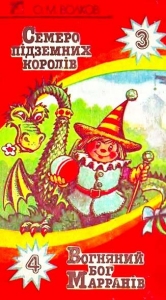
Комментарии к книге «Ночной сторож, или Семь занимательных историй, рассказанных в городе Немухине в тысяча девятьсот неизвестном году», Вениамин Александрович Каверин
Всего 0 комментариев