Ольга Арматынская ВСАМДЕЛИШНЫЕ СКАЗКИ
Моему Олежке
Предисловие
На Урале, в Пермской области, на каменистом берегу реки Сылвы стоит деревня Грибушино. Живёт в этой деревне тетка моя, Агафья, которая сказки сказывает… Только сказки не простые, а всамделишные. Всё взаправду в них: и Сылва-река, и поля за деревней, и лес до самой вершины Кленовой горы, а гора та стоит — не шелохнется, и над всем этим небо — веселое, синее…
Пеньковская кикимора
Помню, как вчера, приходит ко мне бабка Лена из соседних Пеньков. А Пеньки-то, соседняя деревня, вовсе опустели, только эта бабка одна и осталась — один, значит, жилой дом.
— Как живешь, — говорю, — баб Лен?
— Милая! Плохо, нехорошо живу. Ужасы у меня в дому, силушки нет! Дверь на ночь запру, топор под кровать положу, лежу, сама себя уговариваю: «Кому ты нужная, старуха древняя? Золота-серебра в доме сроду не водилось, всё богатство — серёжки с бирюзой, которые ещё девкой нашивала», а всё одно — страшно! Завелся у меня кто-то: живой, озорной, в трубе кувыркается, а в сенцах-то нет-нет да и мелькнёт. Бабки-то в магазине говорят: кикимора это у тебя. Последняя, значит, которая из пустых домов осталася, к теплу и перебралась! Пришла бы ты ко мне, Агафья, хоть бы ночку сночевала!
Пообещала я бабке, как не придёшь! Захожу к бабушке дня через три, гляжу — сидит за столом, чаи пьёт, веселёхонька!
— Здравствуй, баб Лен! Чё, не страшно теперь одной?
— А я и не одна! С Марусей мы.
— Это кто же-то Маруся?
— Дак кикимора моя!
Ну, вижу, совсем бабка плохая стала, мерещится ей. Спрашиваю её тихонечко:
— И где ж она у тебя, Маруся-то эта?
— А в трубе схоронилась, тебя испугалась. Меня тоже сперва боялась, из подполья луковицами кидалась, а теперь поправилась. Ласковая она у меня. То василёк мне на стол положит, то окошко в сильный ветер притворит, а то песни со мной поёт.
Ну, думаю я себе, придумала бабка! Останусь, пригляжу, раз такое дело… Улеглись мы ввечеру спать, сон меня быстро сморил, только посреди ночи ровно кто меня подтолкнул. Что такое?! Слышу — поют в избе, в темноте-то. Один голос бабкин, дребезжучий, слабенький, а второй — звонкий, девчонкин. Так и выводят: «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам…».
Тут я и не стерпела, вскочила, выхожу из-за печки-то. Смотрю — одна бабка сидит, а на меня и не глядит, в сени, в темноту вглядывается. Послышался, значит, мне второй-то голос. Рассердилась я, и давай бабку стыдить: «Старая уж, седая, а чего удумала — детские песни по ночам распевать! Кикиморы ей мерещатся, Маруси всякие! Шла бы ты спать, нету тут никого, кроме мышей!»
Бабка Лена молчит, будто не слышит меня, а потом в сени куда-то, тихо так говорит: «Выдь, Маруся, вернись! Она, Агафья-то, не со зла тебя напугала, она хорошая!» Только в избе тишина, да и кому там быть? Не поглядела бабка в мою сторону, ни словечка не сказала, легла на лежанку и молчит. Лежала-лежала, вдруг слышу — плачет: «Не придёт она больше! Пропаду я одна без Маруси…»
Ну что тут будешь делать? Кое-как уснула бабка Лена, а мне не спится, не лежится: как ни подумай, во что ни поверь, а виновата я перед бабушкой. Пошла я в сени, повернулась в самый темный угол и говорю: «Кто ты там, Маруся, не Маруся, вернись к бабушке-то, а я уйду себе!..» Ну и ушла домой. Вот вам и вся сказка!
— Как же это вся, тётка Агафья? А кикимора-то была или нет?
— Как не была! Она и сейчас есть! В магазин наш за хлебом девчонка чернявая ходит, в ушах серёжки с бирюзой. Дознавались, кто такая. Только она не разговаривает, как немая. Убежит по пеньковской дороге — только её и видели! Ещё говорят, в Пеньках-то по ночам песни поют — мальчишки рыбачить ходили, да слыхали. Маруся, значит, с бабкой Леной поют.
Подёнкин день
Странная моя речка Сылва! Всё-то в тебе чудно! И подвесные мосты, и длиннющие морские водоросли на глубине, и чайки среди здешних-то лесов! И берега у тебя необыкновенные: нет-нет, а выступят среди чащ и полян каменные россыпи, воронками в цветах зияют карстовые провалы, над самой водой вдруг нависнет каменная громадина — а в ней тёмная, холодная пещера… Сылва, Сылва — то ли море, то ли горы, то ли лес. И откуда у тебя на исходе лета, например, белые ночи? А ещё, как минует прозрачная августовская ночь, придёт Подёнкин день — и появятся на свет миллиарды белых, лёгких мотыльков-подёнков. Проживут они ровно денёк, и упадут на твои берега, на воду, на прибрежную траву и камни — а к следующей ночи плывёт меж зелёных лесов Сылва белым-бела, как в снегу… Жители твои улыбаются в Подёнкин день грустно, а коли плывёт одинокий рыбак по Сылве, тёмный след от лодки на запорошенной воде короткий, недолгий, как сам летний денёк. Уплыл челнок, затянулся белый покров на воде — и как не бывало…
— Тётка Агафья, отчего соседа нашего, Анатолия, Подёнкиным зовут? Он вроде Иванов.
— История с ним была, в Подёнкин день и вышла. Вот и зовут его — Толян Подёнкин. Поначалу-то чуть не с кулаками лез, обижался, а теперича привык.
— Что за история? Взаправду чего?
— Как уж знаю, так и скажу. Приключилось, значит, это с Толяном на горе Лобач. Он всегда ленивый был да злой, вовсе беспутный по молодости. Ружьё отцовское спьяну в Сылве утопил, дак стащил где-то крысиный капканище, давай его на лисиц ставить. Шкуры в город продавал, и звали его тогда Толян-Шкуродёр.
А какое у нас лисье место! Аккурат вокруг Лобача. Гора-то высоченная, утёсом прямо в реку наклюнулась, и редко кто туда взойдёт: путник ли случайный потрудится, постоит на вершине, ветерком обдутый. А то лиска мышкует, заберётся наверх и застынет на крайнем камушке: нюхает воздух — будет ли гроза к вечеру…
Вот на эту гору Шкуродёр свой капкан и притащил. А место лисье — хитрое, значит. Как раз в Подёнкин день отправился Шкуродёр капкан свой проверять. На гору взошёл, к ложбинке, где капкан стоит, добрался — и обомлел! Попалась ему лиска, да непростая — белая как снег. Рвётся, лает. Увидела Шкуродёра, притихла, вздыхает как-то по-старушечьи. Ахнул Шкуродёр: за такую-то роскошную шкуру сколько он деньжищ огребёт! Прыг поближе, да палку рукой нашаривает, чтоб лисицу добить. Известно, Шкуродёр и есть! Замахнулся уже было, да и застыл: была перед ним лисица, а стал каменный белый валунчик, точь-в-точь как белая лиса в клубок свернулась, только каменная. Потрогал её Шкуродёр рукой — холодная каменюга, гладкая, как отполированная. Заглянул с другого бока — а там, где у лисицы глаза должны быть, два мотылька-подёнка сидят, беленькие, и будто глядят на Шкуродёра.
Попятился парень, головой закрутил. А вокруг над горой будто туман сгущается — не то что Сылву не видать, в трёх шагах марево висит, в глазах смутно. «Капкан взять, и идти отсюда», — думает Шкуродёр. Оглянулся к ложбинке, а там ни каменной лисы, ни капкана, только трава примята. Потянулся Шкуродёр к воротнику — душно ему от страху стало. Тут за спиной у него что-то ясно так «звяк-звяк». Шкуродёр глаза скосил — чур меня! Идет мимо в тумане та самая белая лиса, живёхонька, ступает легко, не спеша, а на задней ноге у неё капкан цепочкой по камушкам позвякивает… К самой вершинке пошла, и хвостиком Шкуродёру повела, будто зовёт: иди-ка за мной!
Шкуродёр и не хотел, ноги сами понесли. Побежал, спотыкаясь, за лисой, и кругом туман, и в голове у него помутилось. Встала лисица на самом краешке, над обрывом, стоит не шелохнётся, на Сылву глядит. Отдышался Шкуродёр маленько, осмелел. Нагнулся, каменюгу в руку взял: «Сейчас, — думает, — я тебя, зверина, пристукну!»
Подкрался близёхонько, замахнулся, да как ахнет камнем в лисицу! Стукнулся камень о камень так, что осколыши брызнули, один Шкуродёру нос поцарапал! А вместо лисы — опять белый камень, только теперь торчком стоит, будто застыла лиса, обернувшись на него, и мордочка у неё скалится. Заорал Шкуродёр не своим голосом, прыгнул в сторону и — клац! — в собственный капкан угодил ногой. Завыл парень вовсе по-звериному, пополз в кусты.
Сколь он так выл, не знаю, по реке голос далеко слышится. На Шкуродёрово счастье бабка объявилась, на гору взобралась, подходит к нему. Сухонькая такая, вертлявая старушечка в белом во всём, носик остренький. «Дай-ка!» — говорит. Поковыряла каким-то пустяшным прутиком в железяке, капкан и раскрылся. Шкуродёр ногу свою вытащил.
— Чего ж ты, внучок? Нешто можно на Царицыной горе капканы ставить?
— Чё ты, бабка? Какая царица?
— Известно какая! Лисица-царица, здешним местам королева единственная. Тут и хоромы у ней в горе — пещера морозная. Только ей ничего не делается — каменной прикинется и спит себе, Лобач сторожит.
— Фу ты! — отмахнулся Шкуродёр. — Наплела! Из ума выжила, старая?!
И даже «спасибо» бабке не обронил, заковылял прочь на покусанной ноге. Рассердилась бабка, прищурилась, носом швыркнула, потянулась:
— Эй, — кричит ему вдогонку, — погоди маленько, хромоногий!
Оглянулся Шкуродёр: «Господи, твоя воля!» — на бабкином месте белая лисица сидит, скалится, будто смеётся над ним, и коготками камушек перед собой царапает…
У Шкуродёра ноженьки подкосились, не ступают ровненько, поскакал он по горе, как заяц от лисицы. В деревню вовсе беспамятный доковылял, трясётся весь, зубами стучит. Окружили его деревенские, смеются: «Чё с тобой? Глянь-ка на себя!» А Шкуродёр весь с головы до ног в бабочках-подёнках, даже на ушах мотыльковые крылышки трепещут. Стоит белое чучело, головой ворочает, ему мальчишки свистят.
Вот и стали Шкуродёра звать Подёнкиным. Охоту он бросил, в Подёнкин день на улицу не выходит и ещё лисьих шапок видеть не может… Царицы боится!
Сон-трава
Загостилась я у тётки, никак не уеду. Встали мы утром с Агафьей Дормидонтовной, поглядели в окно — а в Грибушино осень. Свет с неба ясный, пронзительный, и будто воздуха совсем нет. Всё видно, чего раньше было не разглядеть. Пасётся корова на другом берегу, а у неё глаза блестят. Вовка соседский высоко на яблоню залез, а видно, что нос у него конопатый. Потом посыпался жёлтый лист с берёз, вызолотило нам двор и крышу, стало ещё светлей. Самое время гулять.
— Тётя Агаша, давай я в лес пойду? Грибов наберу, нажарим с картошкой? У бабки Любы-Сорочихи хлеба купим, она с такой корочкой печёт… Устроим с тобой пир на весь мир!
— У Любки-колдуньи? Как же! Кто её знает, чего она там на тесто нашепчет!
— Опять ты за своё! Чего она нашепчет?
— Не знаю, а только может. Всю жизнь колдуньей была, кто их дела знает!
— Да ведь я у неё хлеб брала, ты ела да нахваливала! Сорочиха не вредная, чего ты на неё наговариваешь? Она травница, и врачи теми же травами лечат. И таблетки из тех же травок делают, какое тут колдовство? Сама чай с душицей пьёшь…
— Душица — травка обыкновенная. А у ней травы чародейные. У них сила другая, всякому подряд неведомая. Бабке за девяносто, а вон как по лесам шмыгает, целыми кошёлками траву несёт, всё сушит да толчёт. Я ж бабку Любу ещё молодой помню…
Как раз война началась. Забрали осенью грибушинских мужиков, а обратно одни похоронки возвращаются. К весне никого война не обошла, в каждом дому стон. А Насте Завьяловой одну за другой три похоронки почтальонка принесла — на мужа да на двух старших сынов. Последний у неё остался сынок, Миша.
Только снег тронулся, пригорки стали подсыхать, тут и Мише повестка пришла: собирайся, парень, на войну, твой черёд подошёл. Осталось ему дома две ночки сночевать.
Настя бумажку ту увидала, и забилась на плетне: «Не пущу!» — кричит, убивается. Мишка её в избу тянет, бабы наши поодаль стоят, подойти боятся.
Откуда ни возьмись, Любка-Сорочиха. Подошла к плетню, зыркнула глазами на парня: «Ступай в избу, голубок», и давай Настю стыдить: «Ты чего, глупая, по нём как по покойнику воешь? Чего горе зовёшь?» И начала ей что-то шептать, обнимать, платок на ней завязывать. У Любы-то у самой мужик полгода как без вести пропал, то ли жив то ли нет — кто знает. Настя у неё в руках и затихла. Бабы стояли-стояли, разошлись кто куда, а Сорочиха Насте говорит: «Погоди слезы лить. Меня послушай… Я тебе слова скажу, заговору научу. Как провожать сына станешь, так над ним скажешь. А завтра в ночь луна округлится, выйдет нужный срок. Встань завтра с росой, пойди на гору Лобач. Отыщи наверху сон-траву, дрёму пушистую, она из-под снега уже выстрелила. С виду невысокая, колокольчик фиолетовый, весь в пуху, а листочков нет. Неси цвет домой, опусти в чашку, в холодную воду, да никому не показывай. Поставишь ночью у окна, куда луна светит, а огня не зажигай. Сядь поодаль и гляди — как станут цветы из воды выниматься, пошевелится трава, так клади её под подушку и сама ложись, спи. Всю свою судьбу и увидишь, сон тебе будет вещий. Всё узнаешь».
Настя её и спрашивает: «Что ж ты, Любушка, сама про своего Петра не узнала?» А Любка усмехнулась ей нехорошо и говорит: «Не всем везёт, Настенька! Твой весной идёт, а мой осенью ушёл. Отцвели мои цветочки».
Потом уж мне Миша Завьялов рассказывал, что дальше было: «Проснулся я до света — надо на войну собираться. Глаза открыл, а мама в ногах сидит. Стол накрыт, на стуле мешок мой собранный, одёжка чистая приготовлена. Вставай, говорит, поешь, приберись. Потом встань передо мной, сынок, я над тобой слово скажу.
И зашептала надо мной чудные слова:
„Будет моё дитятко цел и невредим от пушек, от врагов-злодеев. Не убить его, железом не уязвить, а быть ему перед ними соколом, а им дроздами. Закрываю я Мишеньку своего от уклада, от стали, от меди красной, от меди зелёной, от медной проволоки, от золота-серебра, от птичьего пера. Дух духом, всех пинком, нет никого, ты один поживу-поздорову. Заговариваю я тебя матерним заповеданием; а быть ему, как указано, вовеки ненарушимо. Рать могуча, сердце ретиво, мой заговор всему превозмог…“
Я стою молчу: мать жалко, самому тошно. А она шептать перестала, смотрит на меня — глаза сухие, чистые, будто и не плакала до того сутки.
„Поедешь, — говорит, — на фронт, сынок, ничего не бойся. А как довоюешь до осени, лист с берёз попадает, будешь ты в одном месте в бою, там кругом один лес берёзовый, и ранят тебя. Так ты ползи, сынок, к реке, река небольшая, тихая. Я видела, знаю. Ползи к ней на берег, Мишенька, не оставайся на месте. Обещай мне, что так и сделаешь“. А я ведь комсомолец, ни в какое колдовство не верю: слова от пули, известное дело, не закроют. Но матери сказал: ладно, мама, будет по-твоему.
Довоевал я до осени невредим, как раз берёзы пожелтели, лист полетел. Оказались мы у одной деревушки, где немец в землю вцепился, засели в берёзовой роще на берегу. Отступать им некуда, пушки выставили, а мы перед ними как на ладошке — ни куста, ни ложбинки. Ну куда деваться? Поднялись мы опять в атаку, бегу я со всеми, и вдруг прямо передо мной земля дыбом встала и тишина настала сразу, только падаю я куда-то долго, будто до земли далеко-далеко. Слышать ничего не слышу, а глаза видят: лежу уже на боку, ноги подвёрнуты. На себя смотрю — весь здесь, ничего не оторвало, только ногам горячо и тяжело. Лежу я на краю воронки, а два раза в одно место снаряд не попадает, это всякий солдат знает. С перебитыми ногами мне не уйти, лучше тут оставаться, чтоб не убило и свои живым подобрали. Повернул я голову: где наши? А все уже впереди бегут… Мы, значит, на земле, а на небе никакой тебе войны нету.
Свет кругом ясный, пронзительный, и будто воздуха совсем нет. Всё видно, чего раньше было не разглядеть. Вдруг вспомнил я мамкины слова „ползи, Миша, к речке“. Хотел я остаться у воронки, но пополз, сам не знаю почему. Сапоги как камни, трава не пускает, я руками впереди вцеплюсь и тяну себя изо всех сил. Совсем обессилел, уткнулся лицом в землю, полежал, а когда снова перед собой посмотрел — недалеко от берега будто мама моя стоит. Юбка на ней старая синяя, и мне рукой машет — сюда, Мишенька! Хочу крикнуть — не могу я, мама, да голоса нет. А она мне дорогу показывает: ползи, мол, сюда, сюда, на берег. Тут опять всё взорвалось вокруг, землёй меня присыпало. Дальше ничего уж не помню.
Подобрал меня земляк, раскопал и кричит мне в ухо: „Миха, Завьялов, ты мёртвый или раненый?“ Я говорю: раненый. А он мне — я думал, тебя убило. Оказывается, в ту самую воронку, откуда я отползал, как раз ещё один снаряд долетел. Только-только я от смерти посторонился.
Отлежал в госпитале пять месяцев, отправили меня домой, хромой не годился уж воевать. А для жизни ничего, привык постепенно.
Когда конец войне объявили, к нам соседская дочка прибежала: „Тётя Настя, война перестала, война перестала!“ Народ из домов на улицу выходил, а мать села да заплакала. Потом взяла ведро и ушла куда-то за деревню. Вернулась с полным ведром: из него мохнатые цветочки какие-то торчат. Вот, говорит, Мишаня, твои цветы. Усадила их у дома во дворе, и так, и эдак их устраивала, досками укрывала, ухаживала. Не все принялись, но остались, и долго у нас росли. Когда берёзовый сок начнёт в деревьях двигаться, ещё и снег не весь уйдёт — а эти уже цветут. Сон-травой мать называла».
Так-то вот. Кабы не Любкина травка, может быть, и не видать Мише Завьялову родного крыльца.
— А что, тётя Агаша, и сейчас эта трава на Лобаче есть?
— А как нет? Растёт, конечно. Прострел ещё называется. Снег только притает, коркой ещё лежит, а этот его и прострелит, выйдет на свет весь в пуху, как гусёнок. Цветок фиолетовый, крупный, внутри жёлтый ободок. А ты, дорогая душа, как за хлебом к Сорочихе пойдёшь, молока ей снеси! Вон, в погребе стоит.
Дедушкино наследство
Как идти в Пеньки из нашего Грибушина, за лесом, по левую руку, будет заброшенный карьер. Раньше там глину брали для завода, а теперь одни ребятишки бегают. Глина там особая, какой только нет: и жёлтая, и белая, и оранжевая, и сиреневая. Наберут пацанята этой глины и тащат её к деду Семёну, соседу моему: самому ему уж не под силу было за деревню ходить. Налепит Семён игрушек — все ребятишкам раздаст. Дед старенький уж был и один-одинёшенек. Внучок его, Витька, в Перми на художника учится, весь в деда, с малолетства лепил да рисовал. А больше никого у деда не осталось.
Тем летом приходит ко мне дед: «Вот чего, Агафья! Сходи-ка в Кишерть. Витьке моему телеграмму пошли, помирать я собрался. Да чтоб быстрее ехал». Не стала я деду противоречить, а он в сенях обернулся: «Ничего ведь внучку-то я не оставлю. Дом наш развалюшка, его и дачники не купят. А коли не поспеет Виктор, скажи ему, пусть дом-то оставит, не продаёт, в том дому его родители свадьбу играли. А у меня вверху-то на полке игрушка стоит, никому чтоб её не отдавал, пусть ему на память про меня будет!» Двух дней дед не дождался, помер.
Горевал Виктор-то, целый месяц в Грибушино прожил, всё дом чинил дедов. Вот сижу однова в избе, гроза на воле разыгралась — темно на улице, только молнии сверкают и дождь шумит. Стучится ко мне кто-то. И кого это нелёгкая в такую непогодь носит? Открываю: Витька, мокрый, как лягушка, и рот до ушей:
— Бабка Агафья, гляди, чего я нашел у деда! Сначала сюда погляди. И ставит мне на столешницу глиняную игрушку, ту, что ему Семён в наследство, на памятку оставлял. Чудная игрушка, на наши непохожая — лев! В передних лапах виноградина, на гриве — листочки, на хвосте цветок. Покачала я головой: и где только подглядел старый такую зверюгу?
— Вот, — обрадовался Витька, — и я всё думал, откуда бы деду Семёну такие заморские образцы знать! А теперь гляди сюда, бабка Агафья! Всё мне казалось — видел я где-то дедушкиного льва, вроде бы здесь прямо… Смотрю, во дворе чашка грязная под порогом валяется, дед из неё кур кормил, пока были. Подобрал её где-то на пашне, домой забрал. Почистил я плошку, вымыл — гляди, чего получилось!
Взглянула я — не иначе как золотая миска-то! Вся светится! Сбоку, правда, помятая — видать, трактором на пашне задело. А на донышке тот самый лев нарисован: в передних лапах виноградина, в гриве — листочки, на хвосте цветок. Вот тебе и куриная миска! Золотая ведь, слышь ты, оказалась! Старинная вещь, древняя. Дед-то нашёл её, курам бросил, не разглядел как следует, но рисуночек ему в ум запал, вот и слепил он льва-то своего.
Виктор чашку в музей свёз, денег ему заплатили — четверть чашкиной цены, как находчику. Сказывают, такие чашки в восточных странах давным-давно делали, а в наши края купцы привозили, на рыбу да меха меняли.
Вот тебе и наследство деда Семёна, глиняная игрушка!
Морозкина дудочка
Летит снег над Сылвой-рекой… Превратилась старая изба тётки Агафьи в белый терем: над сараями снежные башенки, на крыше — белая шапка куполом, на наличниках белые бороды висят до самой земли. И пока тётка из дому не выйдет — на дворе ни соринки, ни веточки, ни следочка, будто на всём белом свете нет никогошеньки.
Только вчера смотрю — по всему Агафьиному двору отпечатки маленьких валенок, будто ребятишки бегали… Вот только ребятишек-то зимой в Грибушино не бывает! Живут у нас в деревне одни старики, а внуки только летом, на каникулы приезжают.
Захожу я к тётке:
— День добрый! Что это у тебя, Агафья Дормидонтовна, на дворе снег стоптан? Уж не племянники ли к Рождеству наехали?
— Какие зимой племянники! Это, поди, Морозко ночью наследил, забор сколачивал.
— Это какой же Морозко?
— Ну, Дед Мороз, по-вашему, по-городскому.
— Тётя Агаша! Это же сказочный дед! Взрослые для детишек выдумали. Дядьки для ребятишек Дедами Морозами наряжаются, ну ещё по телевизору в мультяшках показывают.
— У вас, может, и показывают, — обиделась тётка, — а у меня телевизору нету. У нас-от Морозко жив-здоров. Вона как начнёт лёд на Сылве ковать — до самой Перми слышно. Он, Морозко-то, работник ничего, но старичок своенравный, ругательный да вздорный. Наши бабы ему на снег ложку овсяного киселя плескают — не серчай, Морозко, яблони не жги, птиц замертво не бей, нас не пугай. Он, дедушка, смилостивится и попритихнет.
— Ох, тётка Агафья! И выдумщица же ты! Сама-то ты его видала хоть раз?
— Не совру, не видала! А грибушинские наши видели, как же… Вот хочешь, так слушай…
Жил у нас в Грибушино паренёк, Кирилка-пастушок. В приёмышах жил, у дядьки своего. А приголубить Кирилку всякий норовил — не за то, что сирота, не за карие глазки да веснушки, а за музыку. Уж так играл наш Кирилка на дудочке — любую музыку умел! После войны-то было у нас одно радио в сельском клубе, в Кишерти. Он в село хоть с перевозчиком, а хоть и вплавь через Сылву чуть не каждый день бегал. Наслушается московской музыки — и нам сыграет, всё помнил. И дудки сам мастерил — деревянные, глиняные, берестяные — пропасть сколь у него разных дудочек было! Возьмёт какую в руки, глаза прикроет, вытянется сам весь за дудочкой своей и тоненько так выведет, высоконько, будто жаворонок. Да запоёт-запоёт, пальчики по дудочке забегают, будто и незнакомая музыка, а сердцу сладко!
— Про что, — спрашивают, — играешь, Кирюшка?
— Про Сылву-речку.
— А теперь?
— А теперь — как девчонки за малиной пошли. А это — как на горе Кленовой птицы поют.
Вот однажды, под самый Новый год, собрался Кирилка в Кишертъ, концерт по радио слушать. А тут как раз такая пурга закрутилась: дом от дому не видать, ветер слёзы выбивает. С полудня на улицу никто носа не показывал. А сироту кто присмотрит? Ушёл Кирилка через речку в пургу — никто его не хватился. И то сказать, Кишерть через Сылву — напротив нашей деревни, вроде и недалеко.
Пойти-то пошёл, да не дошёл. Скатился Кирилка с нашего берега, а на льду сугробы высокие, по пояс глубокие, идти тяжко. Один берег из глаз пропал, а другого не видать, пурга глаза застит. Замерзать Кирилка стал, совсем невмочь. Кинулся обратно к грибушинскому берегу — да следов уж не видно, откуда шёл, их уж снегом занесло. Страшно стало Кирилке: «Так и замёрзну на реке, не выберусь, сил вовсе нету». Вдруг впереди, прямо перед ним, показались на снегу следочки, частые, невеликие, будто детские. Побрёл Кирилка по тем следочкам — и чудно! Кирилкины следы враз заметает, а эти далеко-далеко видно. Шёл, шёл, да и вышел к высокому сугробищу, у которого снег ложбинкой выдуло и будто навес снежный над той ложбинкой сверху держится. В ложбинке и ветер потише — забрался Кирилка туда, лёг на самое донышко, калачиком свернулся. Тут у самого его уха не ветер свистнул, а будто снег захрустел. Поднял Кирилка голову — стоит над ним старичок в белом полушубке, не ёжится, весёлый, глаза хитрющие.
— Чего, — спрашивает старичок Кирилку, — отдышался? Ты, что ли, и есть грибушинский пастушок Кирилка?
— Ну я! А ты кто такой, дед?
— Я-то? Неужто не знаешь? Морозкой меня кличут… Здорово я тебя напужал, да? Не чаял, поди, живым-то остаться? Поделом тебе! Не ходи, когда я гуляю — снега навеваю. Ни души ведь на воле — ни зверей, ни людишек, все от меня попрятались. А он, вишь, какой, самый храбрый — гулять отправился… Пошто меня, старика, ослушался, в избе не усидел?
— Надо мне, — насупился Кирилка.
— Ишь ты, «надо» ему! И какая такая надобность у тебя случилась?
— В Кишерть идти, радио слушать, — отвечает Кирилка. — Там музыку станут передавать, из самой Москвы.
— Музыку, вон что! Слыхал я про тебя. Будто мастер ты эту самую музыку играть. Вот сыграй-ка мне, старичку, коль такой ты музыкант. А ну. как мне пондравится? Враз до Кишерти отпущу!
— Ладно, — полез Кирилка в карман за дудочкой липовой, взглянул, а дудочка его от мороза треснула, на две половинки развалилась! Зажмурился Кирилка и не стерпел, заплакал.
— Эк, — крякнул Морозко, — нехорошо получилось! Да ладно, ладно, не реви уж… А хочешь, я тебе другую дудку дам? Погляди-ко сюда! — и подаёт Кирилке дудочку, да не простую — ледяную.
Утёр Кирилка глаза, смотрит — взаправду непростая дудка: сверкает как хрустальная, разноцветными огоньками переливается. Взял её в руки, а пальцы-то Кирилкины так застыли, что и ледяная дудочка в них не тает. Вздохнул Кирилка, заиграл музыку тихую-тихую.
Сразу и метель вокруг поулеглась, снежинки в воздухе остановились, сугробы опустились и словно потеплело в ложбинке снеговой. Долго Кирилка играл, долго Морозко слушал, и так заслушался, что едва опомнился — жарко деду стало. Спохватился Морозко!
— Стой, — кричит, — перестань играть! Ты мне, парень, весну накличешь! Так я с тобой распогодился, что по колено в снег провалился! Ну, нечего сказать, славно ты играешь, уважил старика. Иди в свою Кишерть. И провожатого дам, чтоб не заплутал больше. — Дунул Морозко в кулак — откуда ни возьмись, позёмка по сугробу завертелась, обернулась вокруг Кирилкиных валенок, подтолкнула его, подхватила…
Так и не понял пастушок: то ли сам до Кишерти добежал, то ли позёмка донесла по воздуху… Услыхал только, как Морозко вслед кричит: «Дудку-то мою побереги! Это подарок тебе на Новогодье!»
Забежал Кирилка в Кишерти в клуб, к печке кинулся обогреться, да остановился: «Дудка-то ледяная! Растает дудочка от домашнего тепла!»
Достал из кармана Морозкин подарок — дудка и та вроде, и не та. Повернулся к свету — а дудка-то не ледяная больше, а каменная сделалась, селенитовая! Есть камушек такой в наших краях, селенит, — мягкий, ножом скребётся, полупрозрачный, как предвесенний лёд, блестеть не блестит, а изнутри будто светится… Вот тебе и неживой Морозко! Дудка селенитовая точно у Кирилки была, играл он мне.
— Про что, — спрашиваю, — играешь, Кирилка?
— Про то, как ты, тётка Агафья, на первый снежок радуешься…
И смешно мне Кирилку слушать, весело. Такой весёлой да смешливой я только в девчонках была, давно уж…
Золотой гусь
Ещё девчонкой слыхала, — говорит тётка Агафья, — а помню, как сейчас. Старики рассказывали: живёт в наших местах золотой гусь. С виду обыкновенный, а внутри — чистое золото, так сквозь пёрышки и посверкивает. Увидать его можно раз в году, о конец лета, когда по Сылве бабочки-подёнки плывут. Сами они белёхоньки, а живут один только день — под утро замертво в воду падают. Вся река будто в нетаяном снегу, и берега кругом словно припорошены. В такой день золотой гусь ночует на горе Лобач, на самой каменной вершинке, только в руки всё одно никому не даётся.
Говорят, жил в Кишерти, в большом селе, мужик по прозванию Яшка — Поймай Гуся. Во всём селе никого жаднее не было и завидущее. С молодых лет Яшка гуся золотого ловил: что ни год, как подёнкам слететь — сидит Яшка на Лобаче, гуся караулит. Ночь просидит на камнях, от жадности и холода трясётся весь, как в лихорадке, а гусь-то сядет на самый краешек и дразнит мужика. Много лет Яшка гуся ловил.
Вот однажды просидел он ночку на горе, дождался гуся. И как-то близко птица уселась — рукой подать. Пополз Яшка к ней, а она шлёп-шлёп лапками, и подальше отодвинется. Яшка, понятно, за ней. Так доползли они до самого краешка: некуда больше Яшке ползти, а то вниз полетит. Схватил жадный мужик камень да с досады бросил в гуся. Попал, да не убил, только грудь птице разбил. Кровь у гуся брызнула, перевалился он с лапы на лапу, спрыгнул с горы и улетел прочь, за Сылву. Кровь гусиная из раны капает, на гору Лобач упала, на берег, на поля, на луга. А мужик сполз к реке, взглянул в воду — а он уж седой, белый, вон как река в белых мотыльках…
Жизнь-то вся прошла, пока гуся золотого ловил, как у подёнки, как один день пролетела!
А кровь гусиная будто вся превратилась в сердоликовые бусинки.
И по сей день их находят то на Лобаче-камне, то на поле, то на берегу. Да и у меня такая есть. Кто такую бусину на шее носит, тому она кровь останавливает и от бедности помогает.
Рябиновое варенье
— Давай вечерять, тётка Агафья, чай пить! Ещё бы с этим твоим рябиновым вареньем — уж такая прелесть! Осталось ли ещё?
— Понравилось, значит? То-то! А всё смеёшься над старой тёткой — мол, завсегда небылицы рассказывает, во всякое колдовство верит. Кабы не эти самые колдуны — не видать бы тебе рябинового варенья.
— Это как же?
— А вот так! Было это прошлой осенью под заморозки, в самый раз, как рябина поспела.
…Откуда ни возьмись, налетели к нам рябиновые заготовщики. Говорят, в самой Перми объявился заводчик — денежный мешок. Построил в городе заводик, и давай рябиновую наливку гнать. Рябина-то в лесу сама собой растёт, ягодой так и осыпается, бери не хочу, всё даром.
Только даровое-то богатство голову кружит пуще всякой наливки. Ожаднел этот пермяк, вовсе голову потерял. Нанял беспутных мужиков, разослал по всему району рябину собирать. Грузовики туда-сюда шныряют полнёхоньки, из кузовов на дорогу рябина сыплется, колеса её давят… Вся дорога в красной «каше»! Деревенские тех мужиков стыдят: «Бросьте разбойничать!» А тем хоть бы что. Рябину-то они не собирали, а живьём, без всякой жалости обдирали, как липу на лыко. Ветви обломают, деревца завалят — порубят, где пройдут — там и лес поредеет. По самой чаще лесной проплешины остались, даже мох вековой повыворачивают.
Добрались и до нашей, грибушинской околицы. Глядим поутру — нету наших рябинок на горке за деревней, одни пеньки рваные торчат.
И того им мало показалося. Отправились эти заготовщики в Молёбку, то село, что за Сылвой-рекой.
Известное дело, Молёбка в глухом лесу стоит. Леса эти тихие да тёмные, деревья стеной стоят, непотревоженные. Молёбские места даже по телевизору показывали. Опять-таки, что ни год, ездят туда разные учёные из Москвы. Говорят, что в молёбские леса инопланетяне прилетают и называется эта глухомань — «Зона М». Деревенские смеются, конечно: какие там «инопланетяне», если всякий ребятёнок знает, что молёбские — поголовно колдуны да знахари. Чужие в Молёбку без нужды нипочём не пойдут, а уж в тамошние леса и подавно, там в сумерки у простого человека душа смущается.
Вот эти заготовщики бестолковые в эти заповедные чащи и нагрянули. Давай и там всё крушить да рвать и ломать.
Я-то сама в те поры в Молёбку пошла, на почту. Иду себе, гляжу — у почты рябиновый грузовик стоит, вокруг мужики-заготовщики, на травке сидят, покуривают. Умаялись, вишь, сердешные, разбойничая.
А по селу нет ни души. И куда все молёбские в воскресенье подевались — никому неведомо. Все ставни закрыты, ворота заперты, даже собаки голоса не подают. Вдруг — глядь, идёт к почте бабка — из лесу, видно. Несёт веник рябиновый — насбирала, значит, чего заготовщики наломали… Подошла она к мужикам и стоит молчит, глядит на них тихонечко, и всё. Неуютно стало заготовщикам, переглядываются меж собой, а от бабки глаза в сторону отводят. Тут один лохматый не вытерпел, кричит как в лесу: «Чего тебе, бабка? Иди своей дорогой!» А бабка знай себе стоит. «Чё тебе надо, а?» — говорит заготовщик. А бабка ни звука, только давай тихонько так веником на них помахивать. «Ах ты! — взъярился мужик. — А ну чеши отсюда, ведьма старая! Пристала как репей!»
Встрепенулась бабка, голову как-то набок наклонила, да и говорит: «Лесному вору всегда репей впору. Ты бы, дурачок, себя пожалел, да своих дружков-разбойников. Ужо наплачетесь ещё, пока все репьи с себя обдерёте!» И пошла себе. Мужики поплевались, посмеялись, да и забыли, видно, про молёбскую бабку.
А вечером грибушинские бабы под окном шумят: «Эй, слыхала ты, Агафья, у заготовщиков-то грузовик загорел! И до Перми не доехали, еле живы остались! Одёжа на них огнём полыхнула, насилу из грузовика выбрались!»
С тех пор нет как нет в наших краях рябиновых разбойников, всех как ветром сдуло. И нам на варенье ягода досталась!
— Ничего я не пойму, Агафья Дормидонтовна! При чём тут репьи какие-то, колдунья молёбская и погорельцы эти рябиновые?
— Чего ж тут непонятного? Подцепили эти заготовщики в молёбской чаще репей-стожар. Травка такая бывает, в заповедных лесах произрастает, цветёт цветочком красненьким, маленьким, а цеплючая — страсть!
Коли появится в чаще лесной вор, начнёт птиц разорять, деревья губить, зверьё обижать, тут стожар ему — цоп! На одежду, на рукав али на подол. Пойдёт человек из лесу, и думать забудет, чего натворил давеча, — тут стожар и полыхнёт у него на одежде. Хорошо, коли жив останется, неповадно будет впредь разбоем промышлять.
Вот бабка молёбская репьём-стожаром и пригрозила рябинникам. Они, молёбские-то, известное дело, колдуны-знахари. А варенье из рябины варить всех молёбские бабы научили. Говорят, оно полезное очень, особливо от простуды.
Филипп Филипыч
Летом нам с тёткой Агафьей в избе не сидится: то по грибы, то по ягоды отправляемся, то травы лесные собирать — да мало ли чего! Ходить-бродить с тёткой не скучно — чего только не расскажет! Бывало, выйдем из Грибушино в берёзовую рощу, Агафья скажет: «Вот на берёзах плакучих русалки смешливые живут, песни распевают. Оттого в роще всякому человеку весело».
Сверну с тропинки в ромашковый цвет, Агафья и тут окликнет: «Полно анчуток пугать! Выходь на дорогу! На всяком, значит, цветочке нечисть такая махонькая живёт, анчуткой зовётся. Безвредные они, да ещё, говорят, — смеётся Агафья, — беспятые. Вот ведь как! Вишь ли, дорогая душа, малый-то народец от людей прячется. Боится, что обидят. Конечно, если добрый человек — ему покажутся. Ещё и пригодятся, али из беды какой выручат… Плохо им, одиноким-то, жить. Людишки, дело понятное, всё больше по городам собрались, сами с собой живут… А энтих сиротами бросили…»
Вот как опустели у нас две деревеньки — Нижние Пеньки да Верхние, поразъехались все жители кто куда, остался, знаешь, в Нижних Пеньках дом большой на самой горе, у околицы. Печь большая, горница светлая. Дом крепкий, высокий, а нет никого в нём. Хозяева бывшие сад растили, и вот, как весна, весь дом по самую крышу в белом цвету. Пчелки жужжат, дух райский на всю тихую деревню, а в ней-то, в деревне, ни одной живой души. Конечно, дорога посередь деревенской улицы травой обросла, в колодцах вода затухла — чистый яд.
Случись прошлым летом гроза в наших местах: ливень хлещет, гром гремит, белые молнии до земли достают. И попал в самую грозу Вася, сельский почтальон, вместе с велосипедом своим и сумкой почтальонской. До нитки промок, велосипед в глине вязнет, газетки в сумке тяжёлые, мокрые. Въехал в Пеньки, видит тот самый дом на горе. Двери, конечно, забиты, но не пропадать же под дождём!
Поставил лестницу, влез в окошко, спрыгнул на пол в тёмную горницу, прислушался. В доме тихо-тихо, слышно только, как с Васиной куртки вода капает на пол. Нащупал Василий стул в темноте, сбросил мокрую одежду, сапоги снял. Холодно ему, никак не согреется. За окном пуще прежнего дождь хлещет.
Думает Василий: «Придётся заночевать». Запечалился. И так он по жизни один-одинёшенек, а в пустом доме, холодному да голодному, вовсе скучно сделалось, жалко себя. «Эх, — думает, вот бы огонь в печи затрещал, самовар запыхтел, какой-никакой огонёк посветил в темнотище. А и поговорить бы с живой душой, да по-хорошему!»
Задумался, не заметил, что сам с собой разговаривает, вздыхает на всю горницу. Только помолвил — громыхнуло что-то в печке, потянуло дымком. Глядит — а в печи огонёк пляшет да всё ярче разгорается. Василий было к печке бочком-бочком: что за небывальщина?! А в это время у него за спиной зафыркало, вода забренчала. Оглянулся он, а в темноте самовар блеснул, из трубы будто дымок потянулся. «Та-а-к!» — сказал себе Вася, и враз ему жарко сделалось. Попятился он назад, наткнулся на скамейку, сел и ноги подобрал. «Ну и дела! Что за чертовщина?!» Притих Василий, не дышит, и на полу ему шорохи какие-то слышатся. Посидел-посидел, осмелел немножко и позвал в темноту: «Эй, кто тут?» Тишина в ответ. Вася опять: «Кто ходит? Назовись!» Снова тихо.
Огонь в печке меж тем разгорелся, посветлело чуть-чуть. Глядит Вася по всем углам — вроде нет никого! «Ну всё! — говорит Василий себе. — Осталось только чаю попросить!» Только наклонился к столешнице самовар поддуть — шлёп! Прямо перед носом полная плошка, мёдом пахнет. Тут уж Василий не раздумывал больше, бросился к окну, уже на подоконник вскочил — прочь бежать, пока цел! А ему в спину кто-то кричит: «Стой! Не пужайся! Я ведь по-хорошему! Сам же чайку просил, вот тебе и медок!» Вася на всякий случай покрепче за подоконник ухватился и дрожащим голосом спрашивает:
— А ты кто?
— Известно кто — домовой! К этому дому приставленный.
— Так ведь тут не живёт никто!
— Я живу! Ещё мышки были, да разбежались, сверчок жил, да ушёл… Меня Филипп Филипыч зовут.
— А меня — Вася. Василий Николаевич, то есть! А вы где? Не вижу…
— Извиняй, Василий Николаевич, не обихоженный я теперича. Одичал один-то. Испугаешься, коли покажусь, убежишь. Давай-ко чай пить, он у меня смородиновый, духовный, а медок гречишный, лечебный, как раз тебе впору, чтоб, значит, не простудился.
Послушался Вася, себе чаю налил и Филиппу Филипычу на пол чашку спустил. Мелькнула из-под лавки тоненькая тень, ровно от барсучьей лапки, чашку цоп! — и исчезла под лавкой. Слышно только, как Филипп Филипыч чай прихлёбывает.
Слово за слово, заночевал Вася у домового в гостях, до рассвета проговорили. Понятное дело: Филипыч сам себе в пустом доме прискучил, да и Вася на свете сам себе родня.
Стал Василий Филипыча навещать. Тот рад-радёшенек: пирогов напечёт с черемухой, пол подметёт, то лукошко черники принесёт, то грибов нажарит. То возьмётся Василия уму-разуму наставлять: «Пора тебе, душа моя, жениться. Хозяйку найти, ребят завести побольше, собаку и кошку, всё — как положено быть. Хочешь, я тебе веснушки выведу? Кислой капустой али Петрушкиным корешком — будешь ты первый парень на деревне!»
Вася на такие слова краснел да отмахивался, но на Филипыча не серчал ни разочка. А как-то приехал и говорит ему:
— Давай-ка, Филипп Филипыч, переезжай ко мне. Домишко у меня в деревне поменьше этого будет, зато вдвоём станем жить. Поладим как-нить, устроимся!
Филипыч как услыхал, загремел кастрюлями на печи, зашуршал, закряхтел, а сам молчит. Окликает его Вася, окликает — наконец отозвался домовичок:
— Вот выйду сейчас перед тобой, не испугаешься — быть по-твоему!
Посветил Вася свечкой посреди комнаты, из угла Филипыч выкатился — шлёп! Остановился перед Васей. Косматенький весь, нечёсаный, ручки мохнатенькие. Уши мхом заросли, на одной ножке спичечный коробок надет, другая босая. Глаза у Филипыча — как две мокрые карие вишенки, а ресницы до самого кончика носа отросли, и на носу зелёная веснушка сидит.
— Ну что? — спрашивает Филипыч.
— А что, — улыбается Вася, — заеду завтра после работы за тобой. Домой поедем!
Филипыч повеселел, засуетился, обеспокоился, ручками машет:
— Василий, мне ведь для переезду лапоть нужен. По-другому нам, домовым, не положено на новоселье ехать.
— Лапоть так лапоть, — кивает Вася, — не забуду.
— Ты вот что, Василёчек, — тихо ему Филипыч говорит, — не обмани меня. Забери старичка, коли пообещал. Всю ночь тебя ждать буду, а если не придёшь, беда мне будет.
— Не сомневайся, Филипыч, дожидайся!
Идёт на следующий день Василий на почту свою, весело ему: и лапоть в сумке лежит, и солнышко светит, и всё хорошо кругом. А на работе начальство ему приказывает:
— В Пермь поедешь, на станцию, посылки получать.
— Не поеду, — упирается Вася, — мне к вечеру по делу нужно.
— Какие у тебя дела? Ты у нас не семейный, никто по лавкам не плачет, пить-есть не просит!
— А вот и плачет! — Вася отвечает. — Домовой у меня в Пеньках. Обещался я.
— Ишь ты! — смеётся начальство. — Важное дело! Вот посылки в Перми получишь, можешь хоть к лешему отправляться. Машину тебе вышлем, чтобы в село доехать.
Так и уехал Вася. Уж вечер, а он на станции в Перми со своими посылками дожидается. Ещё час прошел, другой да третий… Никто за ним не едет. Посылки на станции не бросишь, на себе не увезёшь… Пришла та машина под утро, а засветло Вася и до почты доехал. Ничего не сказал, дверью хлопнул, на велосипед — и в Пеньки помчался.
Вот и дом. Вбежал Вася в горницу, зовет Филипыча, а в ответ ни звука. Туда-сюда Вася мечется — нету. Вдруг следочки на полу углядел, один следочек от босой ноги, другой — от коробочка спичечного. Грязные следы. Видно, до околицы Филипыч ходил, там Васю выглядывал, на дороге поджидал, да не дождался, значит. Пошёл Вася по следочкам, Филипыча окликает везде, а следочки возьми да и пропади на заросшей деревенской улице. Кричал Вася, просил, аукал — нет Филипыча, как и не было. Потом сыскал Василий спичечный коробок пустой у самого леса. А какая жизнь домовому в лесу дремучем?
Вот и всё. Вася дом свой в Кишерти продал, а тот, в Пеньках, купил. Живёт себе, как и раньше, один. Может, Филипыча ждёт, а может, людей сторонится, чтоб не обидели…
Тимошин берег
— Тётка Агафья, мы завтра в Кишерть, на тот берег едем, не надо ли чего в магазине купить?
— А чего мне надо, у меня всё есть. Перевозчику конфеток купи, не забудь, гляди!
— Ну вот ещё! Зачем ему? Перевозчик Григорий — мужик в возрасте, не маленький.
— А ты не знаешь? Нашим, грибушинским перевозчикам завсегда, кроме перевозной платы, конфетку или пряник, хоть кусок сахара дают, а они в Сылву-реку их бросают для Тимоши.
— Что это за Тимоша такой?
— А вот послушай.
Был у нас раньше перевозчик Тимоша. Война кругом была тогда, кто в белые пошёл, кто в красные, а в Грибушине, как сейчас, одни старики да детные бабы. А Тимоша молоденький был, подросток ещё, а незрячий, родился слепой. То ли он слышал, как камыши у берегов шуршат, то ли как вода струями-потоками в самой реке течёт, а ловко он перевозил всех туда-сюда, прямёхонько к мосточкам угадывал. Целые дни грёб себе тихонечко из Грибушино в Кишерть и обратно, от берега к берегу, будто видел всё.
Однажды замешкался он на том, кишертском берегу, и поздно уже, и темно! Наскочили на Тимошу трое разбойников с ножами да ружьями. Вези, говорят, в Грибушино, и пистолет Тимоше в спину наставили. Гребёт Тимоша и слышит, как они сговариваются: кого в деревне пограбить, чей дом пожечь, кого вовсе погубить — всякие лихие люди тогда по нашим местам водились. «Ты, — кричат они Тимоше, — огни-то примечай на том берегу, туда и выгребай! Видишь ли?» Вижу, отвечает слепой перевозчик, а сам думает: «Вот я вас привезу, куда вижу, как раз туда и приедем!»
Подплывают они к берегу — и странный какой-то берег перед ними. Плыли прямёхонько на огни, а тут темным-темно. Камыши не шумят, вода не плещет, и туман с пригорков стекает, а не из воды встает…
Спрыгнули разбойники на берег, а там душно да страшно, не видать ничего дальше руки. «Ты куда нас завёз, перевозчик? Что за берег такой? Где деревня?!» Вскинулись они, побежали, хотят обратно в лодку прыгнуть, а она тихонечко от берега тронулась и поплыла себе в сторону.
Схватил один из разбойников винтовку, прицелился да и выстрелил в Тимошу. Упал Тимоша бездыханный, а лодочка и уплыви вместе с ним далеко-далеко, только её разбойники и видели… Пропали пропадом те разбойники, никто их больше не встречал. Остались, значит, на том берегу, куда их Тимоша завёз.
— А что это за берег такой?
— Старики говорят, это — Другой берег, откуда никто уж никуда не уплывает. С тех пор, как случится, что поедет с каким-нибудь грибушинским перевозчиком лихой человек, да за злым делом, — на середине реки, глядь, а на перевозчиковом месте Тимоша окажется. Обернётся и молчит. А то, говорят, и спросит: «Что, свезти тебя на берег, который вон виднеется?» И уж из лодки тому человеку не выпрыгнуть, увезет его Тимоша на Другой берег. Наши-то перевозчики в Сылву конфетки да всякую детскую радость бросают — для Тимоши, значит, чтоб он не обижался и нас от злых людей сберегал.
Половинный человек
Непогода над речкой Сылвой кого хочешь напугает. Шумят осенние леса на вольном ветру, да так, что голоса своего не услышишь. Берега стоят угрюмые, под мостом вода — черным-черна!
— Темно на свете! — глядит в окошко тётка Агафья. — То-то страху, кого непогода в безлюдье застанет! А уж коли сам недобрый человек — сердце в потёмках, — тому вовсе худо…
— Полно тебе, тётка Агаша! Добрый ли, недобрый путник запоздал, а только сядет себе в укромное местечко, костёр запалит, и всё с ним будет нормально.
— Не то ты говоришь! Доброму человеку страх — испытание, а вот злому — наказание!
Вон прикатили к нам прошлой осенью двое городских охотничков. Каков с виду рябчик — не видели, а знай хорохорятся: подать нам знатока-проводника, мы в самые молёбские леса охотиться приехали! Это в чащу-то, что за деревней Молёбкой, куда и местные мужики без нужды не захаживают. Лес там темнющий, на мху да на диких камнях. Птица непугана, тропы — звериные… А эти-то упёрлись: сейчас под вечер и пойдем туда, далеко ли тут?
Митрич, наш-то главный грибушинский охотник, покряхтел-покряхтел, да и стал сбираться — заплутают ведь одни, непутёвые, чего уж себе на душу грех брать!
Ну хорошо. Стемнело уж, когда они в самую молёбскую глухомань забрались. Обтоптали полянку, Митрич костерок запалил, шалашик набросал. Сели ночь коротать, чтоб, значит, спозаранок лису подкараулить или, там, рябчиков.
Митрич у огня пригрелся, помалкивает, прутики в костёр подкладывает — а чего в ночи-то шуметь? Зато охотнички городские разошлись не на шутку: «Да я, да мы! У меня весь город в кулаке!» Кричат на весь лес, на газетку поестъ-попить понатрясли, а Митрича не угощают.
Потом давай над ним посмеиваться: «Чё, мужик, из тебя слова не вытянешь? Али вы, деревенские, на одни пеньки глядючи, разговаривать разучились?» Молчит Митрич. А они не унимаются: «Костра развести не умеешь. Сейчас мы сами разберёмся!» И давай крушить, ломать да рубить вкруг поляны, всё в огонь швыряют. И правда, жарко стало, развиднелось на полянке. Огонь-то выше голов, выше деревьев летит, трещит на весь лес — всю чащу переполошили!
Терпел Митрич, терпел, и говорит: «Хорош, мужики, баловаться! Места здесь серьёзные, утихомирьтесь!» Да где там! Рассердился Митрич: «Допрыгаетесь, накличете, мало-то не покажется!» Плюнул под ноги и в шалашик ушёл.
Задремал было Митрич, и вдруг слышит: как заорут его подопечные хором, крикнули — и тишина! Высунулся он из шалашика и видит: стоят охотнички, как статуи, на полянке, пальцами куда-то тычут, рты открывают, а сказать ничего не могут. Посмотрел Митрич, куда они показывают, а там из-за сосны чужой человек выглядывает. Страшный мужик, обросший, и лицо злое, нехорошее. Тут стрельнула головешка из костра, человек за деревом вздрогнул, в сторону отступил — а у него рука-то одна и нога-то одна, и глаз один — Половинный человек и есть! Известное дело, Половинный человек из чащи на свет костра да на шум выходит — ему, вишь, самому хочется людей криком пугать. Хотел Митрич охотничков за собой позвать, за рябинку спрятаться.
Рябинка тоненька, а говорят, за нею Половинный человек людей не видит. Да в это время чудище половинное на одной ноге присело, и как завоет! Охотники от воя этого очнулись, вздрогнули, хвать ружья, и давай в него палить! Откуда ж им знать, что страсть эту, Половинного-то человека, можно только щепкой убить, пули его не берут. Глянули мужики — прыгает прямо к ним эта страсть жива-невредима. Охнули, ружья кинули и бросились в разные стороны, в самый бурелом.
Митрич-то за рябиной встал. Видел он, как потоптался Половинный человек, забуркал и к огню прыгнул. Видно, осерчал: расшвырял уголья и головешки одной рукой, ружья об ёлку в щепы разбил — Митрич только крякнул и дышать перестал. Оглядел Половинный человек поляну одним глазом, и одним скачком в чащу впрыгнул — исчез, значит.
Одного охотничка Митрич уже с рассветом в лесу под ёлкой разыскал, а второй сам собой в деревню добежал. Сел у своей машины на траве, ругается, плюётся. Говорит Митричу: «Наплевать мне на вашу чертовщину, а вот ключи от машины я посеял — это вот да!»
Теперь уж Митрич не на шутку осерчал: «Ах, наплевать тебе! Сбирайся, со мной пойдёшь, будут тебе ключи». Притащил мужика на ту самую поляну и велит: «Снимай ботинок!» — «Ты чё, сдурел? Зачем это?» — «Я сказал — сымай, а то умный больно!» Митрич ботинок на ёлку за шнурок повесил, и громко так говорит: «Мурт, мурт. Половинный человек! Я тебе лапоть принёс. Если ты мою пропажу нашёл — отдай! Я тебя не обижал». А охотничку говорит: «Пошли в деревню! Завтра утром сам пойдёшь — в ботинке ключи и поищешь!»
На другой день побежал мужик на молёбскую полянку. Вернулся. Митрич его спрашивает: «Ну?» Мужик молчит, ключи ему в руке показывает, а рука-то у самого дрожит, в лице ни кровиночки. Больше они и не разговаривали. Молчком охотнички в машину свою сели — только их и видели!
А Митрич про те дела говорить не любит. Только по весне рябину в лесу где-то выкопал и перед окошком посадил. Пусть растёт!
Федотыч и домовой
— Как у твоей печки славно, тётка Агафья! Сразу и уютно так, что спать хочется!
— Что правда, то правда, печка у меня хорошущая! Федотыч наш клал, большой по печкам художник! У него домовые в подручных ходят!
— Так-таки домовые?
— А ты не смейся над старухой. Смеялся тут один, тоже городской… Приехал, значит, к нам пермский житель один, дом для дачки искать. На горе-то у нас, в Грибушино, уже почти все избы дачниковы. И вредный такой мужик попался: всё ему не так и не эдак, еле-еле дом выбрал, только печь там переложить надо. Ему деревенские и говорят: мол, старику Федотычу, печнику, поклонись, не поскупись, уважь мастера, и будет тебе не печка, а праздник!
Ну, пойти-то к Федотычу он пошёл, да толку, видно, нету у него с людьми-то разговаривать: «Я да я, сделай мне всё без халтуры, а то денег не заплачу». Обиделся Федотыч, особенно что Пузатый этот ему, старику, «тыкает», да промолчал. Вот перебрал он печку — загляденье, даже побелил её наново, день работы остался, и всё.
Приезжает Пузатый работу принимать. Ходит вокруг печи, сопит, пальцем в печку тыкает и пальчик потом платочком вытирает. Сопел-сопел, и показывает: «Здесь пол от побелки помоешь, а печь к утру закончишь» — даже и спасибо не сказал! Рассердился Федотыч: «Это почему же я к утру должен кончать? Не было такого уговору, вы переезжать через три дня собирались». А Пузатый упёрся: «Я тебе деньги плачу — чего желаю, то и приказываю!» Плюнул Федотыч с досады: «Сам напросился, невежа!»
Ну ладно, приехал Пузатый через три дня вместе с супругой своей. Первую ночь ночуют. Посреди ночи грохочет кто-то мне в вороты — дом-то Пузатого от моего недалеко. Выхожу — так и есть, они. Зову их в горницу, а у самой даже сон пропал — смех разбирает. Стоят они с супругой всклокоченные, еле-еле одетые, перепуганные до смерти. Улыбку-то с лица согнала, спрашиваю:
— Чего стряслось?
— У нас, — супруга говорит, — на крыше и в печной трубе воет кто-то, знаете ли, просто звериным воем! А то так завопит, что кровь в жилах стынет. Муж в сени выглянул — там чего-то чёрное шевелится. Ой, я не могу больше! Что же это такое?!
— Да ничегошеньки особенного! — отвечаю. — Домовой вас не принимает в этом дому. Нелюбезны вы ему, значит! — говорю, а сама засмеяться боюсь.
Тут Пузатый на меня раскричался: «Что за ерунда, что за домовой!» Старуха, мол, глупая и глупости у неё старушечьи!
Обиделась я:
— Вот вам порог — не верите, так идите с моего дому в свой!
Не пошли они к себе, страшно показалось. Постелила я им на полу — а смех меня разбирает, аж подушка из рук выпала!
Деревенские-то все знают: печника не обижай, не перечь. Если его хозяин не уважит, приладит в дымоход да под стрехи каку-нить хитрость: бутылку ли, железную ли какую скобочку — и начнёт там воздух так выть-завывать тёмными ночами, что никому в том дому покоя не станет. Так ухитрится, что на крыше и плачет, и стонет, и свистит, и воет — нету мочи человеческой такое слушать. Вот поночевали наши дачники ещё две ночки, а дом трясётся весь от звериных голосов, и укатили в Пермь. И дачку покупать не стали. Наши-то, грибушинские, долго Пузатого вспоминали, смеялись. Федотыча спрашивали:
— Как, Федотыч, домовой твой поживает?
А старик разговоров этих страсть как не любил, сердился. Говорю ему как-то:
— Чего ты, Федотыч, сомневаешься, правильно этого Пузатого настращал!
— А он оглянулся и тихонько мне шепчет:
— То-то и оно, настращал! Я и сам настращался! Вот скажи: голоса у них три дня выли, так? Так! А как уехали они, так и выть перестало, так?
— Так!
— Дак вот! Свистящую штуковину свою я из трубы после первой ночи убрал. Оно само собой заголосило на другую ночь, вот ведь что! Я, Агаша, после того у себя в избе, на печке, стал сухарики оставлять — своему домовичку, значит! Ты уж, соседка, не срами меня, не говори никому, а только съедает эти сухарики кто-то. И не мыши, на мышей у меня кот имеется. Вот ведь каково!
Провал-озеро
Земля в наших краях с причудами. Бьются в ней, как жилки, подземные родники, собираются в ручьи, точат мягкую породу меж гранитными глыбами, роют тёмные норы, сочатся беззвучно под лесом, под дорогами и под полем.
И вдруг не стерпит, разорвётся тонкий земной покров, откроется яма-карст: будто земной глаз в небо посмотрел. Бывают карсты маленькие, а бывают с целое озеро. Вокруг Кишерти их три десятка: Молебное, Безымянное, Мишуткино, Кислое, Травяное… Я все и не знаю, надо тётку Агафью спрашивать…
— А чего тебе про них рассказать? Озера вроде и разные, а на самом деле все меж собой соединённые, так и учитель детям в школе объясняет. И хозяйка у них одна — Водяниха. Никто её в глаза не видал, только ночью на озёрах кто-то хлопает и смеётся, по-совиному ухает, как будто рукой рот закрывает. Рыбаки сколько раз над водой огоньки видели: плывут они, скачут, но вреда от них никакого. Главное, первую рыбу в воду бросить — и кто б там ни был, рыболова не тронет.
— С чего ж решили, что это Водяниха? Может, он Водяной?
— А ты не смейся! Может, и был. Только после войны люди стали говорить «Водяниха». Вроде она у нас вдовая. Он ведь, шут водяной, так пошутит, что напугает до обморока, когда и под воду утянет. А у нас купаются ребятишки — бывало, кто нахлебается воды, а ни разу беды не случилось, все выплывали. Отфыркаются, отдышатся и говорят: «Вода сама вытолкнула, к берегу выпихнула». Так только берегиня может, она детей не обидит, охранит.
А сколько лет после войны забредали в Кишерть детишки-сироты, да и к нам в Грибушино ходили. Кто такие, куда идут — бог весть. Увидят кого из деревенских, одёжку попросят, а то пристанут: «Скажи мне, тётенька, моё имя». Ну, наши скажут: «Ваня» или «Машутка», и одёжку дадут. Отказывать нельзя, так русалочьи дети побираются. Кто знает, может, и людские это сироты ходили. А только всех жалко.
Вот в Кишерти бабка жила с сыновьей семьёй — сноха да внучка. Сын бабкин — рыбак рыбакам, еще пацаном домой сомов таскал больше себя ростом. Вот вырос, женился, а когда народили они дочку, посадил молодой отец черёмуху во дворе, дочке Верочке на радость. Подросла Верка, и вместо мальчишки за отцом на всякую рыбалку увязывалась, штаны натянет — и за ним. Да так наловчилась, что вечно наудит больше. Отец только усмехался: «Водяной мою девчонку балует, всю рыбу ей гонит». Жена ворчит: «Куда столько нарыбачили — не сварить, не съесть.
Мне до полуночи вашу рыбу чистить?» Так отец с дочерью всё рыбу у бани развешивали, солили да сушили.
Жили-были душа в душу, а тут война. Как началась, на другой день и проводили они своего мужика. Проводили, а обратно не встретили. Не вернулся, без вести пропал. Война прошла, год пролетел. И мать, и жена уже не ждут Петра. А Верка молодая ещё, в школу не отбегала, ждёт, когда отец приедет — то ли к Первомаю, то ли будущей осенью, то ли под Новый год?.. И главное, всё снасти чинит, удочки ладит, и в бане их прячет. А на Сылву не идёт: «Мы с отцом пойдем! Я ему и удочку новую приберегла…»
Прошло так четыре года. На исходе лета вернулся в деревню один кишертский мужик, он после войны ещё в дальних странах служил, наконец командиры домой его отпустили. Повидался со своими, и приходит в Веркин дом. Сел у стола и говорит:
— Так и так, женщины милые. Принес я вам последний поклон от Петра. Привелось нам на фронте свидеться. У меня на руках он умирал, и слово от меня взял, что не пошлю вам бумагу, а сам всё скажу, как есть. Велел вам Петя жить дружно. Очень, дочка, тебя вспоминал. Как, говорит, мы с Верунькой рыбалить ходили. Уж не поймать мне, говорит, больше дочкиного, а она у меня удачливая уродилась.
Тут Верка вскочила с лавки, крикнула что-то, с места сорвалась, дверью ахнула, в сенях чем-то загремела — и на двор. Мать за ней, а Верка у той самой черёмухи стоит и удочки в щепки ломает, кричит страшные слова.
День ли два прошло, топят они баню. Истопили. Первой бабушка сходила, и внучку посылает. Верка собралась, пошла, и бежит вдруг обратно: «Бабушка, ты где мылась? Бани-то в огороде нет!» Выглянула бабка: а на огороде ни бани, ни черёмухи — только яма на том месте, а вокруг земля прогнулась, как огромная тарелка. Потом сбоку в этой тарелке трещина показалась, стала расходиться, земля внутрь посыпалась, зашумело глухо, вздохнуло и стала изливаться на свет подземная вода.
Испугались они в своей избе ночевать, к соседям ушли. А наутро пришли — на том месте провал в два Веркиных роста глубиной, а неподалеку еще один, и в обоих вода на глазах прибывает.
Соединились два провала, а на следующую ночь появилась рядом третья дыра, и земля между ними как будто тает, как сахар, уходит куда-то вниз. На третий день и получилось глубокое озеро в полсотни метров. Так и назвали озеро — Провал.
Жалко бабке двора, и черёмухи жалко, и бани. Ходила старая у воды, вздыхала, сыночка вспоминала. И стало ей слышаться, что вздыхает кто-то ей в ответ. Взяла бабка потихоньку от снохи и внучки горбушку хлеба, табаку, ну в озеро и бросила. На поминовение сына своего и на всякий случай — для бабы Водянихи.
Оттого или нет, а вода в Провале понемногу успокоилась, притихла. Стали люди воду в озере брать, огороды поливать. А на другое лето поднялись вокруг цветы, окружили Провал, берега травой затянулись. И караси в Провале завелись — толстенные!
Встречник
— Не в обиду, тётка Агафья, а только все грибушинские — чудной народ! Иду сейчас от реки, а там наш сосед, дядя Коля Золотой, с ребятишками воздушного змея пускает. Мужику уж под сорок, а он ветер ловит!
— Ветер, говоришь… А ты его не суди, Николая-то! Ребятишек ему бог своих не дал, а с чужими он смолоду завсегда возился. Николай-то — хороший мужик, даром что чудной маленько. Он ведь Григорьевны, солдатской вдовы сын. Одна она Николку растила, а подняла, на шофёра выучила. Первый парень на деревне — пока зима на дворе. А как подтает снег, солнышко заблестит — ищите тогда Колю Григорьева! Стоит он где-нить у беседки на кишертской станции, на поезда глядит и песенку напевает:
«Хорошо на свете жить.
Ходят пароходики.
Не заметишь, как проходят Золотые годики!»
Оттого и прозвали его дядя Коля Золотой. Постоит он так, поглядит, посвистит — и к матери:
— Скучно, мама! Поеду я, не серчайте!
— Куда, сынок? И чего тебе дома не жизнь?
Да сколь Григорьевна не просит, сколь слёз не прольёт, он потерпит, похмурится, а мешок соберёт — и в дверь:
— Ждите, мама! Не ругайтесь!
Где ведь только не бывал: и на Дальнем Востоке рыбу ловил в море, в теплых краях по горам ходил — пастушил, то в тайге пропадал, то в Сибири плоты гонял… С первым снегом объявится в Грибушино, матери подарков дорогих навезёт. Бригадир рад-радёшенек — мужиков в деревне прибыло! А с новой весны — всё по-прежнему: никто Колю в деревне не удержит.
Ходила уж Григорьевна к молёбской знахарке, просила сына заговорить, чтоб не рвался никуда, не чудил, сидел бы возле матери, женился бы, гнездо свил, ан нет — всё как бродяга! А знахарка говорит ей: «И не убивайся, милая! Такой, как твой Николай, — один на тыщу родится, Странник он. Судьба ему такая. И не сумлевайся: всё на миру не зазря. Не трожь его».
Так и повелось. Год за годом бежит, все как все, а Николай — сам собой. Вроде и примета в Грибушино такая: дядя Коля Золотой уехал — стало быть, и весна пришла, скоро лето!
А в одно лето и случись в наших краях великая сушь. Трава кругом погорела, в лесах — пожары, Сылва обмелела, что коровы вброд норовят перейти. Зной плывёт — и ни вздоха, ни дождичка, ни ветерка. Земля слипла в камень, а по песчаным дорогам рассыпалась в пыль, так что нога по щиколотку утопает. А после и ветры сухие поднялись. Как задует, запылит, закроет всё небо, как перед грозой, да только на небе ни облачка. Только людишек дразнит.
Старухи деревенские меж собой зашептались: «Ветер, мол, бродит, Встречник-обидчик! Глядите, бабы, малых ребят далеко в поле не пущайте. Встречнику, ему что телегу изломать, что малого ребенка изувечить — всё одно. И откуда только он к нам залетел — неведомо!»
Об эту пору, нежданно-негаданно, объявился в деревне дядя Коля Золотой: «Соскучился я что-то, мама. Дай, думаю, проведаю…» День-второй проходит, зовёт его бригадир: «Свези меня, Николай, в Губаху, на станцию!»
Ну, поехали они. Несутся дорогой по открытому полю. Вдруг навстречу ребятишки стайкой бегут, будто наперегонки. Подъехали мужики поближе, затормозили, видят — неладное что-то. Кричат ребята во всё горло, лица перепуганные, и за спину себе показывают. Мужики кричат: «Что стряслось?»
А пацаны наперебой: «Дядя Коля, там ветер, уйдём скорее, убьёт!» Взглянули мужики — и точно: за мальчишками на дороге между небом и землёй будто чёрный столб качается, ветрищем завивается. Идёт по дороге за мальчишками, как живой. В жгут закручивается, всё ближе идёт, всё ближе, шумит-трещит, гудит в ушах всё громче…
А перед ветряным столбом-то ещё двое ребят показались, вовсе маленьких, далеко от старших отстали — видно, силёнок бежать уж нету. Вот-вот их Встречник подхватит…
Николай рванул дверцу, крикнул бригадиру: «Вылезай, уводи ребят!» А сам как газанёт прямо к тем отставшим-то! Те уж и не бегут — мочи нет! «Уходите!» — кричит им Николай, из машины выпрыгнул, и бегом навстречу тому столбу ветряному… Встречник будто ещё быстрей завертелся, завыл. Шагнул к нему Коля, мальчишки за спиной — в крик!
Извернулся Николай, выпрямился, закричал тоже и кинул что-то прямо в эту страсть! Пахнуло ветром по всему полю, свистнуло, замерло, и рухнул этот столб у самых Колиных ног оземь. Тихо стало вдруг, только зной в воздухе струится…
Тут и бригадир подбежал, еле дышит. Глядит: стоит Коля, пошатывается, лицо удивлённое, рубаха — хоть выжимай, и будто улыбается. На дороге перед ним завал: куча мусора всякого, щепок, грязи да камней, сверху железки рваные, — всё, чем Встречник забавлялся.
— Чё ты с ним сделал, Коля? Ты как это его?
— Ножик, — отвечает Николай, — я в него ножик бросил.
— Ножик? Ага… А он, значит, того… Ну, брат, сам бы не видал — ни в жизнь бы не поверил!
— Я и сам не верил, — отвечает Коля. — Не знаю, как вспомнилось. Мне как-то в степи мужики рассказали: чтобы смерч шибче завертелся, нужно крикнуть: «Вызы! Вызы!», — а потом, чтоб его сгубить, ножик в самую середину чёртова столба и бросить.
— Кто его знает, что такое! — вздохнул бригадир. — А выходит, не наколдуй ты здесь, всем бы нам, того… Да уж! Настранствовал ты себе, парень, ума-разума! Ну и дела!
Вот тебе и весь сказ.
Уж коли чудак человек, значит — для чудного дела рождён. Так тому и быть.
Васильковый колодец
— Пей-ко чай, — говорит тётка Агафья, — он у меня травяной, лечебный, васильковой воды.
— Как это — васильковой воды? — спрашиваю я.
— А из Василькового колодца, значит.
Парень у нас в Грибушино жил, Васей звали, Васильком. И сам был — чистый василёк: глаза голубые, гибкий как травиночка. И была у него сестрёнка младшая, любимая, Катюша. С малолетства на закорках у брата сидела: куда старшой, туда и Катя. Товарищи, бывало, смеются: «Нянька Василиса, да и только!» А у Васи и платок всегда с собой был — Катькин нос вытирать.
Ну вот, раз зимой, в лютый мороз, оставил-таки Вася сестру дома, убежал к парням. А старая бабка в избе и не угляди: шмыгнула девчонка за дверь в одних чулках — и бегом по деревне брата искать. Одной-то ей, вишь, не сидится, малолетка, без ума-разума. Увидал её Василёк, сгреб в охапку, и бегом домой — на печь отогреваться. Да поздно! Простудилась девчонка. И зима миновала, и весна, а она всё хворает, лежит на печке, просит: «Посиди со мной, Василёк!» Извёлся Вася: «Я, мол, виноват, что Катюшка заболела…»
Вот как-то под конец лета идет Вася полем. У обочины синим-синё — всё васильки цветут. «Дай, — думает парень, — Катюшке цветочков нарву, пусть порадуется». Ухватился за один стебель — не может сорвать, за другой — тоже никак. Что за чудеса?
Вдруг слышит:
— Ишь, самостоятельный какой! Во чужом двору, да расхозяйничался!
Обернулся Вася: стоит старичок во ржи, да больно махонький. Глазки мелкие, голубенькие, сам белый как лунь, на животе сумка огроменная.
— Я, дедушка, ничё плохого не делал. Сестре вот цветы хотел нарвать. Хворает она у нас. Говорят, чай на васильках кашель унимает.
— Унимает, говоришь? — сморщился старичонка, будто сейчас чихнёт. Носом пошмыгал, успокоился и говорит: «А ты, преж чем рвать, сперва мне помоги — нос утри». И шмыг-шмыг носом-то.
Удивился Вася:
— Как это?
— Как-как! — возмутился старичонка. — Я — старик Белун! Мне положено нос утирать! Эх, молодёжь неотёсанная! Чему вас только учат теперича!
Ну, делать нечего, полез Вася в карман за Катиным платком, нос старику утёр. Хотел отойти, а сумка у старика на животе возьми и откройся, посыпались оттуда жёлтые монеты прямо Васильку на сапоги. Сверкают, в пыль прыгают.
— Бери-ко сколь надо! — щурится Белун. — А то можешь и не брать! Тогда скажу, как Катюшку твою на ноги поставить.
— Не стану брать, — говорит Васька и хмурится. — Скажи лучше, как лечить!
— А золотой водой лечи. Колодец выкопай в деревне-то и лечи! — отвечает Белун. Свистнул тихонечко, монетки враз пропали, шагнул в рожь, и был таков!
— Эй, — кричит Вася, — стой, дед! Какая вода, какой такой колодец?
— А ты не ленись, у старших поучись-поспрашивай. Скажи, старик Белун велел.
Вернулся Василёк в деревню, давай взрослых мужиков расспрашивать:
— Пойдёте со мной колодец копать? Мне надо, чтоб вода была золотая. Мужики, конечно, на смех его подняли:
— Зачудил малец! Сейчас всё бросим, станем на берегу колодец копать. Вон тебе Сылва-речка у самого порога. Хоть не золотая вода, а чисто хрусталь!
А Василек на своём стоит:
— Мне дед Белун так велел!
Тут Семёныч, пожилой уж мужик, в затылке почесал и говорит:
— Погодите смеяться, мужики. Мне отец чего-то такое про этого Белуна рассказывал. Вроде во ржи живёт. Встретится такой — поклонись, поле-то его вотчина. А попросит нос вытереть — не смейся, послушайся, тогда старик тебя золотом одарит. Ну-ко, парень, рассказывай толком!
Вася и рассказал, как всё было.
Три недели мужики по очереди колодец рыли, от бабьих насмешек отмахивались, да и над собой посмеивались. Однако вырыли колодец. Семёныч сруб берёзовый ставить не дал, и дубовый не велел, а нужен, говорит, сосновый — от него дух смоляной и в воде золотые блёстки появятся. Звонкая тогда будет водица, как золотая монетка станет в кружке звенеть.
Вот и стал у нас Васильковый колодец, васильковая вода. Катю-то Вася той водой отпоил — здоровёхонька!
— Ну, тётка Агафья! Всё у тебя к одному! Тебя послушать, так чуть заболеешь — не врача надо звать, а кликать в поле васильковых старичков!
— А хочешь — верь, а не хочешь — как хочешь! Вот доктор из больницы Василию так и сказал:
— От сосны, из которой у вас сруб колодезный, стала ваша вода лечебная. Сосновая вода, уважаемый, полезная, когда у кого дыхание сбито, и лечит она больную грудь. Вот ты Катерину и вылечил.
А как же! Скажем, загордись наш Василёк, не утри нос старичку, али того хуже — позарился бы парень на монетки, ничего бы и не было: ни колодца, ни Катюшкиной радости…
А ржаной старичок, он ведь от твоего неверия не сгинет, не переведётся! Всё будет, пока рожь в поле не переведётся, да васильки, да милое сердце у человеков… Так-то!
Перелёт-трава
Сумерки над Сылвой-рекой синие-синие! Тёмно-синие засыпают леса по берегам, густо синеет высокое небо, и под синей тенью, как под большим крылом, затихает милое моё Грибушино…
Виднеются в синей полутьме, светятся одни белые ромашки у заборов, но всё до той поры, пока не вспыхнет на небосводе золотая звёздная россыпь, от которой так кружится голова…
— Тётка Агафья, глянь, звёзды нынче какие! Вон, вон одна полетела… Ах, не успела я желание загадать!
— А и ладно! До неба высоко-далеко, чего уж там загадывать. Старики, слышь, говорят: одна перелёт-трава желания исполняет… Нигде та трава не растёт, и корешка-то у неё нет. Летает себе с места на место, с края в край. Как полетит к земле, так и переливается огнём радужным — за то её с падучей звездой путают. И нету, стало быть, силы сильней, чем в той травке перелётной, да не всякому она покажется.
— Опять ты за своё, тётка Агафья! Да кто эту летягу видал на самом деле, да ещё без корешков… Чепуха какая-то! Звёзды — вот они, так ведь и на них желания придумывают забавы ради. А травки эти ваши перелётные…
— Тебе видней! Вы, городские, известно, грамотные!
— Да ты обиделась, тётка Агафья? Не сердись, бог с ней, с травкой! Ну, коли хочешь, пусть будет, жалко, что ли, а? Ну чего ты молчишь? Говорю же, пусть себе летает ваша травка волшебная, не сердись, не молчи!
— Вот слушай-ка! За себя не скажу — не показалась мне такая трава. А Валентину знаешь, что у перевоза живёт? Она видала. «Чему и быть, — говорит, — тётка Агафья, как не той травке. Перелёт-трава и есть». Была, она сказывала, девчонкой еще, как раз её мать в тот год в школу свела. Нашла себе Валюха подружек — не разлей вода. Зима — время весёлое, с темна дотемна за короткий зимний день нахохотаться да в снегу наваляться дня им мало. Известно, какие в деревне забавы…
И случись… пошёл по деревне слух: едут, мол, из самой Москвы артисты! Цирк, значит, с живой обезьяной, и прямо в нашу Кишерть!
Было ли этакое дело! И главное — обезьяна настоящая, деревенским-то и в кино её не показывали, и телевизоров тогда у нас не было…
И приехали те циркачи на самом деле. Афишу на сельсовете повесили — «Обезьяна на проволоке». Четверым подружкам родители в конторе билеты справили, а пятой — нет. Как Валюха товарку обидит, без Машутки как они пойдут?! Взяла Валюша у Маши рубль: «Куплю тебе билет в очередь, сиди жди!» Прибежала Валя в Кишерть, в сельсовет, где стол специально поставили билеты продавать. Да куда там! Съехались все деревни к сельсовету: и молёбские тут, и грибушинские, и кишертские, и губахинские на телегах прикатили. Кричат все, толкаются, того гляди крыльцо снесут.
Страшно Валюхе — и убежать ни с чем нельзя. Нырнула она в эту толпу, а тут как закричат: «Заходи, народ, билеты дают». Подхватили Валюху, вместе с толпой в дом занесли, слыхала только, как двери крякнули в сенях, как мимо проносили. В комнате вовсе дышать нечем, шум да гам. Дядька с билетами было на стол вспрыгнул, руками машет: «Обезумели вы, что ли?! Выйдите отсюда, не стану билеты продавать!» Да стол уже под ним ходуном заходил. Он на шкаф полез, кричит… Какое там билеты, Валюшка!.. Отдавили её к самому окошку, лицом к стеклу, стоит ни жива ни мертва, только изо всех сил рубль в кулачишке сжимает. И заплакать не может, и вздохнуть. Носом в синее окошко уткнулась — вечер уж на улице, плывёт перед глазами всё…
«Неужто, — думает, — ни в жизнь мне и обезьяны не увидать, и ничего вообще?» Глядит — за окошком в самой вышине дрогнул огонёк и полетел к земле медленно, как во сне, всё ближе и ближе. Вот уже перед глазами плывёт — будто веточка зелёная посреди снега и цветы на ней. Уж как она вспомнила — не ведаю, стоит шепчет: «Перелёт-трава, перелёт-трава, помоги!» — и сама своего голоса не узнаёт… Упал огонёк далеко за избами.
Враз и забасил кто-то ей в затылок: «Эй, народ, девку-то вовсе задушили!» Ручищи чьи-то хвать Валюху за бока, да вверх и выдернули, на чьи-то плечи поставили. «Держись, мелкая! Дядька! — кричат билетёру. — А ну выдай девчонке первой билет на обезьяну поглядеть!» И ещё чего-то кричали…
А та обезьяна всего-то и по проволоке один раз на представлении пробежала — туда и обратно, да дело не в том…
Больше никогда перелёт-трава Валюхе не показывалась. Сказывала Валентина — может, оттого, что ничего за всю жизнь не захотелось так… Выходит, для перелёт-травы большую охоту надо иметь, захотеть чего так, как дитё малое хочет, тогда она и покажется… А по-другому никак.
Сумерки над Сылвой-рекой синие-синие. Оттого ли звёзды здесь яснее ясного? Смотришь на них долго — огоньки путаются, переливаются, расцветают радужным светом. Кажется, закроешь уставшие глаза — обрываются огоньки на самых кончиках ресниц, слетают вниз. С неба на землю, с места на место, с одного края в другой. Далекий край, невиданный, желанный…
Грозовые стрелки
За окном зима, а в избе у тётки Агафьи теплынь, даже лавка у печи тёплая, как на солнышке нагретая… Зимние вечера долгие, самое время сказки слушать.
— Сказки не сказки, а что вправду было, отчего не рассказать? — улыбается тётка Агафья.
Раньше в наших краях чудь чудная жила, народ такой. Все великаны, как один, оттого у нас и горы каменные — иначе бы их земля не удержала. Жили-были, только машин всяких у них ещё не было, всё руками делали из дерева, из камня ли, из железа, — словом, мастера. Нет-нет, а что-нибудь из их хозяйства на пашне-то и выступит, в береговой осыпи откроется. Ребятишки в деревню то ржавый ножик принесут, то бронзовушку какую позеленевшую или бусинку самоцветную. А как случилось, что дед Семён золотую чашку на пахоте нашёл, тут у нас в Грибушино и началось! Взрослые мужики с ума посходили: лопату на плечо, и давай кругом деревни землю ковырять, чудское золото искать.
Всё лето бродили, да ничего такого не нашли, попритихли. Один Васька Беспутный копал, всё рыскал да похвалялся: «Найду я, — говорит, — семь чашек золотых, стопочкой, одну в одной». Стал он за маленькими пацанами приглядывать: откуда они вещички носят, где чего находят. Разузнал про одну пещерку, на самой вершине Кленовой горы: около неё, мол, мальчишки каменные стрелки находят. Бабка Васькина вцепилась в него: «Не пущу, нехристь! Стрелки грозовые из земли выступают — к войне! Иди лучше на тракториста учись!» Васька аж сплюнул с досады: «Щас! Пойду!»
И пошёл. Полдня на Кленовую-то лез, полдня пещерку искал. А когда увидал, вокруг ходить не стал, как пацаны, а сразу прыг к самому входу внутрь, в самую темноту шагнул. За стенки держится, идёт вперёд, в черноту смотрит. Тут что-то ему в колено ткнулось. Замер Васька Беспутный, руками щупал, щупал, а глаза уже попривыкли к темноте. Пригляделся — винтовка ему в ногу прямо дулом приставлена! Оторопел Васька: вот тебе и война, как бабка сказала! Стоит наш Вася, пошевелиться боится: кто его знает, кто там у приклада за камнями притаился, не видать же. Дышать старается потише, взмок весь, а фонарик достать боится.
Сколько так стоял, сам не знает, мочи нет больше. И вдруг в темноте кто-то как запищит, хлопнет — прямо на кладоискателя нашего летучая мышь вылетела. Дрогнул Васька-то, нога дёрнулась и винтовку с камня сшибла. Когда опомнился, себя пощупал — живой, вокруг прислушался — тишина кругом. Фонарик зажёг и посветил за камни. А пещерка внутри большая, мусор всякий, камни на полу и винтовка валяется, трехлинейка, только прикладу нее гнилой, рассыпался давно.
Оказывается, в Гражданскую войну в пещерке кто-то с ружьём сидел, чью-то погибель караулил. Куда стрелок сгинул — кто его знает? А ружьё, камнями обложенное, тут и осталось — и, слышишь, заряженное оказалось, хотя мужики говорят, что стрелять уж не могло! Целилось-целилось в кого-то ружьё, да и заржавело, вот и не выстрелило в Беспутного.
За золотом Вася больше не хаживал. Учителю кишертскому ружьё в музей снёс и пожаловался, как чуть-чуть не пропал из-за него. А учитель говорит: «Права твоя бабка! Стрелки-то грозовые, которые мальчишки вокруг пещерки нашли, они ведь тоже на людей деланы, для войны. Люди, Василий, как соберутся за чужим золотом пойти — и на тебе, сразу война. Всегда так».
Чародейский подарок
— Тётка Агафья, слушай, чего со мной приключилось. Поднесла вчера одной бабушке в Молёбке, в деревне-то соседней, ведро воды от колодца до ворот. Она мне «спасибо» да «спасибо», даже в избу зазвала. Вдруг подаёт мне сорочье перо: «Вот, — говорит, — девка, обмахивай им лицо три утра, три вечера — и три года ни одной хвори тебе не знать»… Представляешь?
— А ты не смейся, не сомневайся, голуба! Не подарок дорог, а привечание… Оно ведь как? С каким пожеланием дар преподнесёшь, какое слово к нему прикрепишь — таково и будет даренье: на беду, на любовь или так, пустота…
Ты перышко-то оставь, не выбрасывай, трудно, что ль, тебе им обмахнуться!
А молёбские — известные мастера приговаривать: что в руку возьмут, что придумают — с тем и подадут простому человеку. Вся как есть деревня колдуны! Только чародейством и промышляли в старые-то годы.
Жил у нас в Грибушино старик один из Молёбки. Запустел тогда у нас дом на окраине, а он возьми и объявись к нам в деревню жить. Грибушинским тогда не понравилось: что хорошего, когда сосед — колдун? Шептали про него всякое: Стефаныч, мол, не одну душу загубил! Стефанычем его звали.
Высокий был старик, силы большущей, уж седой весь, а не погорбится. В пёсьей шубе ходил, какой ни мороз на дворе — всё без шапки. Идёт по деревне — волосы белые по ветру развеваются, сам ни на кого не глядит — всё поверх голов… Бабы малых детей на ту окраину и пускать не стали.
Но вот повадился к Стефанычу вечерять соседский мальчишка, Ванятка. Мать его, Макаровна, сколько мне жаловалась: уж бранила сына, раз и за ухо оттаскала, а пацан всё норовит к деду на окраину ушмыгнуть. «Боюсь, испортит мне парня, худому чему научит! Спрашиваю его: чего тебе там? „Дед сказывает про травки!“ Каки-таки травки, что сказывает? Разное! И ничё больше не добьёшься!»
Вот раз зимой, уж темным-темно, стучит кто-то мне в дверь. Смотрю — сосед стоит: «Агафья, будь ласкова, пойди к моим! Я в село побегу, в Кишерть. Ванятка у нас совсем плохой, в жару горит, ни жив ни мёртв! Посиди с ним да с Макаровной, извелась она…» Как тут не пойдёшь? Бегу я к Макаровне, она дверь открыла, вижу — совсем беда. Лампа одна притушенная на столе теплится, в тёмном углу Ванятка на кровати лежит: горло перемотано, не шелохнётся…
Макаровна плачет: «В жару второй день, уж больной был, а всё к своему колдуну бегал. Нынче с утра говорил ещё, а теперь и рта раскрыть не может, не ест, не пьёт! Рукой только мне этак-то всё показывает: свет, мама, погаси, смотреть больно! А сам глаза прикрывает, не глядит вокруг… Уж не тот ли старый хрыч Ванятку моего сгубил, напустил чего на мальчонку? Сколько отец-то проходит, по сугробам да по Сылве по льду… К утру разве обернётся с доктором!»
Я, конечно, утешаю, да как мать утешить, когда дитя в болезни? Вот сидим мы, шепчемся уж час да второй.
Вдруг стучится кто-то в дверь. Метнулась Макаровна к порогу, отперла, да и отпрянула: стоит в дверях Стефаныч… Подвинул он её:
— Мир этому дому, — говорит. — Что, мать, здоров ли сынок твой? — а сам поверх её головы в угол на Ванятку смотрит. Всё сразу углядел, Макаровну в сторону отодвинул.
— Пусти-ко меня, мать! Да не бойся, я Ванятке худого не сделаю.
Пошёл, как есть, в сапогах в избу, над мальчиком наклонился, платок на шее размотал, лоб потрогал, ухо своё большое приставил, послушал, как Ваня дышит. Долго так стоял, смотрел, потом велит нам:
— Вот что: неси, хозяйка, свету побольше! А ты, Агафья, паренька посади, за спину будешь придерживать!
Ослушаться мы и не подумали, будто онемели обе. Приподняла я Ваню, обняла сзади рукой горячую спинку. Он чуть глаза приоткрыл, колдуна своего узнал, пальчиками шевельнул, улыбнулся вроде…
Открыл дед свою суму, вытащил коробочку берестяную, ручищу туда сунул и достаёт чего-то — вроде живое, непонятное. Как раз Макаровна свету поднесла: а у Стефаныча в руке… жаба живая, огромная! Господи спаси! И где ж он её зимой-то выискал, из какой норы выманил?! Макаровна закачалася с лампой-то в руке, а колдун только зыркнул на неё: молчи, мол, и к Ванятке склонился:
— Гляди, парень, делай всё, как я скажу. Сейчас, сколько можешь, рот открой и на эту жабу дыши со всей силы. Всю свою болезнь выдыхай! — и держит жабину свою прямо у Ванечки перед лицом.
Ванятка насилился, и давай на эту жабу дуть, закашлялся было, потом опять на лягушину хрипит. Долго, мне показалось, он дышал — у меня уж и руки мальчонку придерживать устали. А Стефаныч молчит, на него строго глядит и жабу поперёк толстого брюха крепко держит. Наконец вымолвил: «Будет с тебя», — руку стряхнул, и жаба шлёпнулась на пол, скакнула в сторону. Смотрю — перевалилась она, задышала так часто-часто, что бока ходуном заходили, потом вдруг распласталась и замерла, а может, и вовсе сдохла. Будто Ванину болезнь на себя приняла… Стефаныч её с полу поднял, а она и лапами не ведёт. Сунул обратно в свой коробок, и в сумку тот коробок схоронил. А Ване вроде полегче стало, зашевелился, на локоток приподнялся.
— Вот, — говорит старик Ванятке, — хворость твоя уйдёт к завтрему. А и я сегодня в ночь уйду — нужда у меня в других местах. Оставил бы я тебе, Иван, какой-никакой подарок на память и обережение… Дак ведь мамка забранит, и в школе заругают. Разве такой подарок подарить, какой сам тебя не оставит. Да хоть этот: вот, гляди в окошко! Видно ли тебе звёздочку какую, хоть одну, что в ваше окошко заглядывает?
И мы с Макаровной в окошко глядим: точно, висит над лесом одна-одинёшенька звёздочка, как раз посередине окошка, так и заглядывает в горницу, тоненький лучик тянет.
Достал старик свечку, зажёг, велел Ване в окошко глядеть, глаз от той звёздочки не отводить. И давай шептать над парнем, свечкой над его головой круги водить. Чего шептал — всего не расслышали, да и не запомнить чародейские слова без колдовской науки. А кой-чего и посейчас не забуду, уж больно сказаны чудно: «…слово не в дело, а дело не в цели, нож обломится, пуля минует, яд просыплется, огонь не разгорится, вода не погубит, сабля не зарубит… Ключ и замок моим словам». Нашептал, свечку задул, сумку на плечо вскинул.
— Прощай, — говорит, — Иванечка! В беде ли, в радости на подарок мой поглядывай!
Потом и к нам повернулся, поклонился:
— Не серчай, мать, сынку твоему я добра желал, худому не учил!
И вышел из избы, тихо-тихо дверь прикрыл. С тех пор никто его в деревне не видал: как сказал, так и ушёл. А Ваня на другое утро с кровати встал, через день у окошка сидел, через три дня на улицу пошёл…
— Да уж, тётка Агафья, как ангину жабой лечат, я ещё не слыхала! А на память, значит, звёздочку в небе подарили… Ну и ну!
— А ты погоди… Ты дальше послушай!
Иван-то прошлым летом в Грибушино наезжал, на погост к отцу ходил, на свои детские места любовался. Ваня ведь врачом стал — говорят, наихороший в Перми доктор! И у меня погостил, чаёвничали мы, старые годы вспоминали. Я его и спроси: «Помнишь ли, Иван, колдуна-то, друга твоего сердечного, сгодился ли тебе его подарок чудной?» «Сгодился, — говорит. — Я ведь и матери родной не сказывал, а была со мной одна история…
Как пришло время мне из Грибушино уезжать, в город учиться, в институт. Гуляли мы накануне с ребятами вокруг деревни, да заигрались-заговорились — молодым и в полночь не сон… Вышли в ночи к Нижним Пенькам, к нежилой-то деревне. И тогда уж ничего там не осталось — только смородиновые кусты разрослись выше роста человечьего, где жилье когда-то стояло, да берёзы шумят, где улица была. Ребята гурьбой на холм взошли, а я поотстал: разглядел в лунном свете, как смородина гроздьями на кусту висит. Потянулся к ней, переступил поближе — всё и рухнуло передо мной куда-то вниз… Очнулся — кругом сырая земля. Руками и ногами упираюсь в эту землю в разные стороны, а подо мной, внизу, земли этой самой и вовсе нет. Висит одна нога по щиколотку в воде и пахнет снизу гнилым чем-то и страшным. Поднял я голову вверх, где вроде светлее — надо мной окошко в самое небо, травка по краям. Тут и осенило меня, что я в старый колодец упал! Сруба у него, видно, давно не было, а сверху лопухи прикрыли, вот я в него и вступил обеими-то ногами. Как мне умирать не захотелось, тётка Агафья, рассказать не смогу! Попробовал я кричать — а даже сам себя не слышу, слабый крик выходит, голос как чужой. Окошко-то на землю, на волю, так далеко, а гнилая пропасть водяная — вот она, уже ногу обмывает. Чувствую, что и руки устают в стенки упираться, одна нога скользит, другая дрожит — вот-вот сорвусь вниз, а уж там недолго мне будет плавать…
Зацепиться бы, да не за что: опалубка в колодце сгнила, только глина кругом скользкая. Рук не отпустить, не перехватиться половчее… Взглянул я ещё раз наверх, думаю: вдруг в последний разок? А там, в квадратике колодезного окошка, одна-одинёшенька звёздочка висит — как раз посередине. И будто тянет меня тонким таким лучиком: выходи давай, парень, иди, иди сюда! Прилепился я к этой звёздочке глазами, и пополз. И теперь не знаю, как оно вышло: упирался я и спиной, и ногами, и руками, и затылком… Так, раскорякой, и вылез наверх, в белый свет… Пусть темнело вокруг, а мне всё светлее солнышка показалось. Отполз я чуть от ямы, а встать не могу: руки-ноги не слушаются… Отлежался, услышал, как ребята меня зовут — потеряли, значит! Тогда и понял, что живой.
Ребятам не откликаюсь, лежу, на свою заговорённую звездочку смотрю и от радости ни плакать, ни смеяться не могу. Темно уж стало… Потом встал, конечно, вышел к ребятам. Они смеются: „Ты где вывозился, заснул под кустом, что ли?“ Я, отвечаю, звал вас, что не ответили? Они только плечами пожимают: не слыхали ничего!
Не сказал я про то никому. Казалось, расскажу — и не сбудется моё спасение от дурной смерти.
Дома в баню пошёл, а на спине, под майкой, по всему телу — глина пластами размазана — как я полз вверх-то по колодцу!
Выходит, мне та звёздочка жизнь спасла. Недаром Стефаныч шептал надо мной, как это: „Слово не в дело, а дело не в цели, вода не погубит, сабля не зарубит…“ — как сейчас помню!
Жалко, что не все слова-то знаю — я б ту звёздочку сыну подарил!»
Вот как дело-то вышло! Человека одарить по-всякому можно: каково твоё душевное желание будет — то и станется. Можно и в руки ничего не дать, а жизнь подарить. Как пожелаешь — к тому и дарение: на беду, на любовь, или так, пустота одна…
Воробьиная ночь
Коротки ночи посередине лета. Едва сомкнёшь глаза — и вдруг проснёшься оттого, что сильно бьётся сердце. Изба вспыхивает и гаснет, свет встаёт в окне и снова пропадает. Если гроза идёт — почему ж так тихо?
— Тётка Агаша, ты спишь?
— Не сплю, не сплю.
— Что это, тёть Агаша?
— Воробьиная ночь прилетела.
— Почему же воробьиная?
— А рябая потому что. Воробьиная ночь — значит пёстрая, рябая. Как у воробья — то тёмное пёрышко, то светлое, то вам горе горькое, то смех. Далеко-далеко гроза идёт, землю трясёт, зарницы играют — ни ночь тебе, ни день. Старики говорят — злая сеча в небесах, бой небесный случился. Высоко над нами бой — ничего не слыхать, как ни слушай. Только видно, как оружие сверкает, да ветер веет.
— А кто бьётся-то в том бою?
— Один с другим и бьются. Зло с добром, добро со злом.
— Угу! — поворочалась я с боку на бок, нет, не спится! Тени мечутся по избе, и сколько глаза ни зажмуривай — светят зарницы через веки…
— Пойду посмотрю на твою воробьиную ночь, — засобиралась я. — Всё равно не заснуть, всё перед глазами мелькает…
Только дверь в избу закрылась, в тёмный сад мне спускаться сразу расхотелось. Тётка Агафья — там, в избе, а тут я одна в целом мире осталась. Ветер дует сразу во все стороны, берёзы дрожат за воротами, сад как живой, ходуном ходит. И то над головой, то у земли полыхают излучины белых небесных ручьёв. Покажутся на миг, пропадут, и вмиг темнеет в глазах: нет на свете ничего, да и я — есть ли? Вздохнёшь — подождёшь, и у края земли заревом откликнется светлое эхо, станет видно: вот гора Кленовая, там — лес, и Сылва знакомо блеснёт — тут я, не бойся… Злая сеча идет в небесах…
Вдруг, откуда ни возьмись, стайка чёрных воробьёв заметалась в трёх рябинах, будто в ветках запутались. Где спрячешься? Куда из тёмной ночи вылетишь? Кинулись воробьи дальше за забор, бог весть куда…
Скрипнула дверь на крыльце, вышла тётка Агафья — и сразу мне на этом свете стало гораздо лучше. А тётка только охнула, да бегом с крыльца в тёмный сад. Сверкнуло опять зарево, засиял сад, и вижу: сидит моя Агафья Дормидонтовна у тех трёх рябин и самую тонкую к колышку подвязывает. Придётся и мне с крыльца сбегать.
— Дай помогу, тёть Агаша!
— Ладно уж, привязала. Гляжу из окошка: треплет там рябину, того гляди ветер заломает. Полно уж, милая душа, пойдём в избу. Страсть кругом такая…
— Да уж… Кто в небесном бою-то победит, а, тётя Агаша? Добро или зло?
— Ишь ты, чего спросила! Как уж выйдет, чья воля переволит! Наше с тобой дело — помогать, рябину привязать. Устоит кудрявая, не поломается — наша выйдет воля. А пропадёт — нам и горевать, щепки подбирать. Ничего! Солнышко взойдёт, душа отдохнёт — все и помирятся… Воробьиная-то ночь короткая.
Русалкин гребешок
В середине июля, в самую летнюю благодать, нету на всём белом свете места лучше, чем разлюбезное моё Грибушино. Даже облака стоят над ним, как во сне, в речку Сылву смотрятся, уходить не хотят. Сколько мы на лавочке с тёткой Агафьей ни сидим — нету долгому вечеру конца, не стемнеет никак, не погаснет неведомо откуда льющийся свет.
Я не знаю, что это такое, а тётка Агафья твердит, что «русальи недели» идут…
В такую вот пору выходят в поля, в леса и на берег русалки — они ведь у нас не как в телевизоре или из всяких заморских рассказок: без рыбьих хвостов, по-старинному все — берегини. Будто девушки, только чудны: сидят по тропинкам и бережкам, пыль с ладошки на ладошку пересыпают, она у них сверкает на солнышке, они и смеются…
Бывает, и хороводы с подружками водят, и песни поют или волосы чешут на камне. Вроде бы и не злы, и не то чтобы добрые — смотрят, кого оберечь, а кого и не нужно, а кого и прогонят и даже погубят.
А срок придёт — обернутся они в облака, и прощай-провожай, тут и русальим неделям конец.
Было это давно. На самые «русальные недели», как раз на макушку лета, собрались наши грибушинские парни на дальние покосы, за берёзовую рощу. Поставили там балаган, день-второй косят, ну и стали замечать: кто-то у них хлеб ворует. Времена-то голодные были, никто вволю не едал. «Ванча! Покарауль!» — говорят. А с ними Ванятка Семёнов был, соседа нашего сын. из всех косцов самый младшенький.
Вот Ваня остался в балагане, сидит скучает, травинки сплетает. Вдруг слышит — шорох, будто подошёл кто. Ваня к земле пригнулся, ватник старый на себя натянул и лежит, в щёлку подглядывает. Ворохнулся кто-то на свету, и юркнула в балаган девчоночка: и в полутёмках видать, что пригожая, волосы распущенные, аж до коленок висят.
Зыркнула по сторонам, а от входа в балаган до того места, где Ваня притаился и хлеба краюха лежит, — шагов пять. И как бы девчонке дотянуться? Повиделось тут Ване, будто руки у неё вытянулись, длинные стали предлинные: хвать она хлеб у самой Ваниной головы — и назад попятилась.
«Не серчай, Ваня, хлебушка хотца!» — вдруг говорит. Засмеялась, головой у входа тряхнула, а волосы у ней так и плеснули светом голубым да зелёным, точь-в-точь как головка у крякового селезня. Парень-то прыгнул ко входу за нею, из балагана выглянул — а нет вокруг никого, одни берёзки шелестят у балагана, переговариваются. Тьфу ты, что делать?
Пришли косцы, спрашивают, где хлеб. Ваня и рассказал. Парни его на смех подняли: «Девчонки напугался! Горазд общий хлеб раздавать — самим мало! Ты гляди, завтра не схватишь воришку — другого караульщика поставим, и в деревне девкам расскажем, кто у нас пугливый самый!» А как спать улеглись — молодым-то не спится, они давай перешёптываться: а ну как не померещилось Ванятке, вдруг эта девка — русалка была? Самая ведь русальная пора, в старину и косить-то после полудни заповедно было. Попугали друг дружку, и уснули. Один Никола, знахарский внук, не спит, ворочается. Вот он шёпотом Ваню окликает:
— Вань, а Вань! Это ведь как есть русалка-волосатка была! Я от бабки знаю. Бегают оне быстрее лошади — оттого ты и уследить за нею не мог. В сию пору, русальную неделю, самый шабаш у них!
Худо, Ванча, что тебя шутовка по имени зовёт! Сколь молодых парней в старые времена пропадало: заманят в чащу, защекочут до обморока, а то и в воде утопят.
Нарви, знаешь, назавтра себе полыни, положь около, а еще острое чего — ножик там или косу поперёк входа. Да как станет звать тебя — не откликайся, пожалеешь!
Ну, проснулись наутро, покушали, только Ваня свой хлеб потихоньку в рукав спрятал, не стал есть. Ушли косцы в луга, а Ванчу оставили. Час пробежал, второй, вот как солнышко поднялось, цветочный дух по полям полетел, разморило паренька, забылся он…
Вдруг сквозь сон слышит — поёт кто-то неподалеку: «Гутыньки-гутыньки, рели-рели-рели!» Отряхнулся, выбрался из балагана, смотрит — а это его давешняя знакомица. У двух берёзок соседних веточки свиты, вот она на них, как на камельках, качается, знай поёт себе, на Ваню с усмешкой поглядывает. Спрыгнула, подошла:
— Здорово, Ваня! Чего не глядишь? Боишься, что ли, меня? Чего ж тогда ножика не прихватил, али веничка полынного? Кулачки сжала, съёжилась, захихикала, да как свиснет! — аж берёзка рядом дрогнула.
— Ну, чё не бежишь, караульщик? Взглянь, взглянь-ко на меня! Объела вас девка-бродяжка?
Ваня и поглядел исподлобья. Девчонка вроде его лет, волосы чёрные, а на солнышке и впрямь иссиня с зеленцой отливают. А тоненькая, тощенькая — страсть! Бледненькая, как снегурочка, аж прозрачная вся!
— Это я тебе вот, — Ваня отвечал, — там-то больше не бери, парни сердятся, — и краюшку свою припасённую протягивает, — на!
— He-а, — отвечает ему девчонка, — сам ешь, я уж сытая. И враз грустная стала, вот-вот заплачет:
— Этошний год хуже прежнего, куда хуже!
Вздохнула ещё:
— Не приду я больше, бог с тобой! Больно ты нехитрый, Ванча, ну какой мне прок? Вот и хлебца не пожалел, простая душа. На что мне он? Разве уток кормить…
Хихикнула опять, скосила глаза вбок, и скороговоркой так тараторит: «А Николке скажи, пусть привет от меня бабке своей передаст, она у него знающа. А он сам — дурачок! Коли ещё в мои берёзки станет иголки втыкать — ночью приду, на макушку ему плюну — облысеет, сердешный!»
Топнула ножкой и пошла прочь к рощице, потом обернулась вдруг:
— Лови-ко! — и бросила чем-то в Ваню. Он подпрыгнул, схватил, руку уколол до крови. Смотрит — а в руке белый-белый гребешок, рыбьей кости, зубчики острые, аж в кожу впились.
— Рыбачить пойдёшь — с собою бери! Да не сказывай никому!
Ваня глаза поднял — а девчонки с зелёными волосами и след простыл!
В сумерки возвратились старшие с лугов, выспросили всё у Вани. Только гребешка он никому не показал, ни словечком про русалкин подарочек не обмолвился, пока особый срок ему не пришел…
— Откуда ж ты тогда, тётка Агафья, про тот гребешок знаешь?
— Откуда-откуда! Дак в ту зиму, почитай, пять дворов, все соседи, только через тот гребешок и живы осталися. Как русалка и горевала — год выдался страшней некуда, голодовали мы. А зимой совсем помирать собрались, да Ваня с парнями придумал проруби на Сылве бить и рыбу добывать. И как пойдут — так воз рыбы, да всё больше стерлядки. Взволокут на нашу гору — всем соседям раздадут. Ничего, живы-сыты несколько дней. Поначалу, правда, хаживали мальчишки рыбачить и без Вани — так смех и грех: то пустые придут, то на одну рыбку сподобятся. Рыбацкая удача, что ль, в том гребешке была, уж не знаю.
Много лет с тех пор утекло… А тут — война!
Ваня-то уж сам детный был, как на войну уходил. Прощался, матери своей всё и рассказал: «Я вам, мама, оставлю гребешок. Берегите, авось он вас в лихолетье выручит».
Мать обещалась, конечно. От внучат гребень под подушку себе положила. Да не пришлось. Лежал себе лежал гребешок, да и пропал: кажись, вчера был тут, а не сыскался. А на Ивана вскоре похоронка пришла: погиб, мол, как герой, в дальней стороне, на немецкой речке Одер, куда с нашей стороны только облака залетают.
Вечер-то, вечер никак не наступит! Светло над рекой, над полями, и небо прозрачно. Уж не знаю, чья тень промелькнула вон там, за околицей, лёгкая, будто от птицы летящей, да птицы-то спят! Может быть, кто-то и вправду нас всех бережёт как умеет, как может. И как мы того заслужили…
Малиновый сон
Лето нынче выдалось жаркое, второй месяц над деревней ни облачка… Посохли в Грибушино вишни, цветы в палисадниках пожглись. Взглянешь с берега на Сылву-речку — будто и она усохла, уже стала и мельче.
«Жарко до невозможности!» — вздыхают жители, и без нужды в полдень из прохладной избы ни ногой!
А тётка моя, Агафья, заладила: «Пойди да пойди по малину за старую деревню. А принесёшь — малиновых пирогов настряпаю, вечерять». Идти под белым солнцем, да в гору — ох как не хочется, но разве против тёткиных пирогов устоять?
— Пойду, что ли. Только за старую деревню-то зачем, в этакую крутизну лезть? Я гору-то обойду, у Петрушина леса малинник стеной стоит, издалека слышно, как пчёлы гудят — как на аэродроме.
— И не думай! Неча делать у Петрушина леса! Там и в полудень места тёмные, ягода без солнца, водянистая! Ступай куда велено — и всё тут!
Препираться в такую жару лениво и скучно. Пришлось мне брести с лукошком на гору, за старую деревню, и брать ягоду на самом солнцепёке, тёплую и душистую, как горячий мёд.
Вечеряли мы с тёткой уже по холодку, с малиновыми пирогами и смородиновым чаем, — может, в том и есть высшая благодать, какую пришлось испытать на этом свете…
— Тётка Агафья, а ты зачем меня в Петрушин лес не пустила? Ягода там крупнее, и не обобран малинник никем. Сама видела — ягода на землю сыпется, птицы клюют, пропадает малина.
— Не малина там, а мороки одни, маета и сны неизбывные. В этакую дурную жарынь Петрушин лес — не забава!
— Чем же это он такой страшный? Послала меня в самое пекло, ничегошеньки не объяснила. Вот расскажи-ка, чем это Петрушин лес нехороший такой?
— А чего ж рассказывать? Дело тёмное, непонятное… Тайное дело — Петрушин-то лес…
Петрушу я сама знала, из Морозково был мужик, из соседней деревни. Безобидный, тихоня, да только неудачливый — страсть! Никакое дело у него не ладилось. Мужики уж, бывало, гонят его: «Пойди, Петруша. в сторону, не то у меня лошадь спотыкнется!» Или бабы не в шутку на него напустятся: «Выдь из избы — тесто не поднимется!» И всё у него не так, всё не эдак, вроде и всё как у всех, а удачи-везенья нету.
И стал Петруша на судьбу обижаться, злиться стал и всем завидовать: потому, дескать, всем всё даётся, что корыстью и обманом они удачу добывают, живут-де все неправедно, он один хорош! А ему, хорошему, ничего и не досталось — ни богатства, ни таланту, ни родной души, которая о нём печалится, — ничего нету.
Забормочет, бывало, про соседей, глаза злятся, сам аж слюной брызжет! Хоть бы словечко доброе невзначай обронил… Стали его сторониться, как больного, а потом и вовсе обходить стороной.
Тут и подоспела к Петруше нечаянная судьба. Пошёл он в тот самый лес, умаялся, ноги набил. Присел, значит, отдохнуть у буреломной кучи в малиновых зарослях. А лето — вот как нонешнее: отовсюду жар пышет, шевельнёшься — потом обольёшься. Зато в тёмном малиннике солнце Петрушу не достает, голова только от заманчивого малинового духа кружится, к сердцу сладкие сны подступают. Напала на мужика дрёма-заманиха. Кажется, позови кто его душу — она и упорхнёт бабочкой, в солнечное марево взлетит… Совсем было закрыл Петруша глаза, да откуда ни возьмись — бабулька перед ним объявилась: серенькая. хроменькая, один глаз с бельмом, одежонка вся — как пожухлые листья. Выскочила весело так из малинового куста, ловко — ни одной перезрелой ягодки с куста не обронила. К Петруше шасть, и глазом сереньким смотрит вкось, будто сквозь Петрушу. Мужику шевелиться неохота, лень и слово молвить. Глядит, ухмыляется про себя довольно: «Вот ведь замухрышка какая, моего хуже! А что? Мне, что ль, одному непутёвому быть?» И вдруг озлился про себя: «И не мне, не мне одному. Так тебе и надо, убогая, тебе и жить-то осталось с гулькин нос! Это мне, молодому мужику, удача и добро ещё как надобны!» Сплюнул Петька бабке под ноги, и лёг поудобнее. Бабулька встрепенулась, ручонками всплеснула, и будто мысли Петрушкины подслушала — давай бормотать быстро-быстро странным говорком:
«Хи-хи-хи да ха-ха-ха. На ловца и зверь поскачет! Забери свою удачу — Я отдам и не заплачу! Вон клад лежит — тебя сторожит! При энтом кладе Сидит чёрт на окладе, Кладёт на сдачу Блоху собачью. Тот клад скоморох Заповедал на трёх: На сонных сов, пустых голов, На завистливых молодцов. Сову — на аркан, пустой сон — в карман. Пойдёт клад добывать. У чертей вырывать! Шинь-брынь, и аминь!»Махнула бабка рукой на ближний малиновый куст, покивала головёнкой: тут, мол, тут! — и пропала, как во сне растаяла.
А тишь вокруг, тепло, малиновый запах плывёт из-за Петрушиных плеч, вкруг головы оборачивается, течет по лицу — и нет Петруше боле ни белого света, никакой тревоги, беды и заботы… Очнулся он — темнеет уж в чаще. Встал — шатается, голова трещит, глаза еле-еле раскрываются. Тут и вспомнил мужик свой сон. Ему бы впору стариков спрашивать, к чему такая напасть мерещится, а Петруша возрадовался, уверился: «Вот она, моя удача! Я ли её, голубушку, не ждал, не заслужил?» Упал, как стоял, на четвереньки под малиновый куст, который бабка указала, пригнулся к земле и вправду видит: щель в земле, а в щели блестит что-то в сумерках. Ногтей Петруша не пожалел, давай землю и траву рвать и рыть, как голодная лиса. И чего ж? Вытаскивает Петруша из земляной норы помятый медный котелок, и в нём чего только не накладено — клад и есть! Потом Петруша деревенским хвастался: и кольца, и бусы, и монеты золотые и серебряные.
Стоит Петруша, коленками в мох провалился, руки дрожат. «Вот вам всем, — шепчет, — вот вам! Думали, Петруша всех дурней, так теперь от зависти задохнётеся!»
Одно колечко Петруша на палец надел, не удержался. Сверкнуло колечко малиновым камушком, и погасло. Ему бы, Петруше, хоть засмеяться от радости, полюбоваться, да не вышло — один шип из горла послышался. Закашлялся мужик, а из чащи сова ему отвечает: «Ух! ух!» — да так и ухала ему в спину, пока он домой со своим кладом поспешал…
Рассказал-показал Петруша соседям свой клад. Да сквозь зубы цедил, с усмешечкой, никого дальше порога в избу не пустил. Старики его послушали и говорят:
— Бог тебе судья, Петруша, что старикам даже на лавки не указал. А только сон твой малиновый — недобрый. Это лесавка-старушка, лешачья жёнка, к тебе выходила, а её, видать, сами черти подослали… Она бабка весёлая, нраву озорного и проказливого, а вот на злобу и зависть — гневлива! Кабы ты ей показался, понравился, она бы тебе потешек не пела, над тобой бы не смеялася. И клад твой, гляди, потешным, обманным выйдет!
Не послушал их Петруша, погнал из избы:
— Сам всё знаю! Сон и есть сон — чепуха одна малиновая, от жары и духоты привиделся. Везенье моё — по моим заслугам давно положено, а вам, завистникам, Петрушина удача — в досаду поди? Шли бы вы прочь, старьё, на печи лежать!
Хватился наутро Петруша своего котелка у изголовья — глядь, а в нём какие-то склянки и черепки лежат — что за чертовщина! Запустил он руку в котелок, в стеклянное крошево, шарит там, руку в кровь порезал! — нету его богатств! А ведь вчера только на месте были камушки-колечки, всей деревне показывал!
А тут в двери кто-то ломится. Открыл Петруша — милиция наехала!
— Где золото взял? Показывай, рассказывай. Выкладывай, товарищ Пётр Семёнов, служивым государственную долю!
Они его выспрашивать, а Петруша ничего ответить не может, от горя ошалел…
Ну, стариков позвали. Они переглянулись, заступились за земляка. Сказали — не в себе, мол, был мужик с вечера, мороки у него от жары. Всей, мол, деревней котелок видали — не было там ничего. Отступились служивые, уехали.
Одно только колечко осталось Петруше — то самое, что он на палец надевал, — под подушкой нашёл. Разглядел его Петруша, а оно негодное, так, медная игрушка с красным стёклышком! Сверкнет стёклышко, подмигнёт ему — аж застонет Петруша…
Терпел-терпел бедняга, да и побежал в тот самый лес, к малиновым буеракам. Снял с пальца медное кольцо, размахнулся, зашвырнул под куст: забери, мол, старая, своё обманное добро, а в ответ то ли сова в чаще заухала, то ли старуха-лесавка над самым ухом хохотнула — кто его знает!
Петруша недолго в деревне оставался, в город поехал, да так и не вернулся…
Жалели его бабы, как время прошло, а старики по-своему толковали: мол, в жаркое лето малиновый сон в малиновом-то саду — к исполнению желаний. Во как! Только желание это без злобы должно быть, весёлое, независтливое, значит, а иначе горе одно и обман. А коли не уверен в своём сердце, так не искушай судьбу, не верь сладкому мороку, не гляди малиновых снов.
— Да уж, Агафья Дормидонтовна, ну и сказочки у тебя! Побоялась, значит, меня в Петрушин лес в жаркий полдень пускать? Чтоб, значит, нечаянно снов малиновых не нагляделась, искушенья какого не вышло, а?
— А ты не серчай, милая душа… Чего судьбу пытать по пустякам, из-за пирогов малиновых! Надо будет — судьба тебя сыщет. Уж кем покажется — старухой-лесавкой, али ещё кем, это уж кому какая доля.
Всякому свой час, свой сон малиновый, своё и пробужденьице… Так-то!
За синей Кленовой горой спит маленькая, тихая деревенька Грибушино, давно меня не было там!
Туда, туда! Сначала поездом, потом дождаться неторопливой электрички в Кишерть, да пешком до перевоза через речку Сыпву — кто-то возит нынче на другой берег, в милое моё Грибушино?
Взойду на гору к знакомому дому, постучу в окошко. И ахнет моя тётка, выбежит встречать Агафья Дормидонтовна, впопыхах и на радостях обронит старую тапку с ноги, засмеётся: «Здравствуй, здравствуй!»
И заживём мы с нею как в сказке, лучше прежнего!


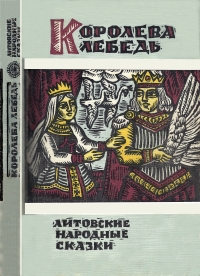







Комментарии к книге «Всамделишные сказки», Ольга Арматынская
Всего 0 комментариев