Павел Петрович Бажов МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА
Павел Петрович Бажов
1879–1950
У старого рудника
I
з пяти заводов б. Сысертского горного округа Полевской был единственным, где мне не приходилось жить и даже бывать до одиннадцатилетнего возраста.
Однако об этом заводе, который в нашей семье обычно звали старым, слыхал довольно часто.
Отец был родом из этого завода и по паспорту числился крестьянином Полевской волости из завода. Там он, как полевской общественник, имел право на покосный надел, но никогда этим не соблазнялся. К жизни в Полевском заводе всегда относился отрицательно, даже с насмешкой:
— Глухо у них. Здесь в Сысерти при большой дороге живём. Чужой народ мимо ездит. Всё-таки веселее, как поглядишь. А у них кому проехать? В город и то по-доброму-то дороги нет. Как ехать, так и гадать: то ли через Кургановку, то ли через Макаровку, то ли ещё как.
— И строянка у них в беспорядке. Не как у нас — улицы по ниточке, а кто где вздумал, тут и построился. На Большой улице и то порядок вывести не смогли: то она уже, то шире. В одном месте и вовсе насмех сделано. Идёшь-идёшь — в дома упрёшься… Пойдёшь вдоль этих домов да и воротишься близко к тому месту, откуда пошёл. Штанами это место зовут. Штаны и есть.
— Про фабрику тамошнюю да медеплавильный говорить не осталось. У нас старьё, а у них вовсе ветхость.
Бабушка была «коренных сысертских родов», но в молодости попала «в число обменных девок, коих отправили на старый завод для принятия закону с тамошними парнями».
Об этом «случае» своей жизни бабушка рассказывала не особенно охотно:
— Не знаю, к чему и применить такую штуку. Видно полевских девок нехватало. Их, видишь, с малолетства на Гумёшки наряжали, а потом по дальним рудникам да приискам рассовывали. На Кунгурку тоже порядком прудили. Как раз в те годы эта деревня заводилась. Наших девок, значит, на их место и везли. Когда телег пять, когда больше. Не по один год это было. Как Успенье пройдёт, так и объявится этот девий набор на старый завод. Сирот, конечно, в перву голову хватали. Ну, и отецких задевало. Стражников ещё пошлют с возами-то, чтобы которая не убежала. А кто убежит, коли все без ума ревут. Слёзная в ту сторону дороженька! Слёзная… Вся девичьими слезами полита.
— То, видно, и не просыхает никогда у Большой-то елани, — пошутил как-то отец. И бабушка, обычно всегда спокойная и добродушная, даже разгорячилась:
— Постыдился бы при ребёнке такое слово говорить! Не шуточно, поди-ка, дело хоть бы и девичья слеза!
Отец откровенно сознался:
— Так это у меня… не то слово вылетело.
— А ты их придерживай! Слова-то свои. Дело, конечно, прошлое, а всё шутить не годится. Хорошо, — вот я усчастливилась, согласно со стариком прожила. Так ведь это редкость. А сколько народу загинуло из-за этой шутки! Не слыхал?
— Да ладно, мать… Знаю… Говорю — пустое слово вылетело, — оправдывался сконфуженный отец.
Привезённая в Полевской завод таким диким способом бабушка «приняла там закон, с кем указали», прожила свыше двадцати лет, вырастила детей, но всё-таки, как видно, «не вжилась». Едва ли бабушка и не была главной виновницей того, что дед, как только пало крепостничество, перешёл из медеплавильщиков в доменщики и переселился в Сысерть.
Однако о Полевском бабушка говорила много мягче отца:
— Завод как завод. Такие же люди живут. Только в яме против нашего пришёлся. Медная гора у них — Гумёшки-то эти — место страховитое, а так ничего. Лес кругом, и ягод много. Кроме здешних, там ещё морошка растёт. Жёлтенькая ягодка крепкая. И в лесу у них не всё сосны да берёзы, а ельник да пихтач есть. Дух хороший от пихты-то. Нарочно её к большим праздникам привозят. Разбросишь по подлавочью— ох, хорошо пахнет! Ну и чесноку по тамошним местам много. Вроде огородного бутуну, только потвёрже будет. Весной, как он молодой, целыми мешками его таскают да солят. В петровки, глядишь, из этого солёного чесноку пироги пекут. Славнецкие пироги выходят, только душище потом, как наедятся экого места. Прямо в избу не заходи, коли сама не поела. За это вот полевских и дразнят чесноковиками. А он на пользу человеку, чеснок-от этот. Болезнь будто всякую отгоняет. Скотских падежей у них вовсе не слыхано. И всё, говорят, из-за чесноку. Ну, конечно, молока весной тоже не похлебаешь. Горчит оно.
Меня больше всего интересовала Медная гора, но ясности в этом пункте было меньше всего.
Отец скупо объяснял:
— Да рудник же это. Малахит раньше там добывали. Только работали не вскрышей, как вот на Григорьевском либо на Каменной горке, а шахтами, как на Скварце. Видал ведь? Теперь эти шахты затопило. В забросе рудник, а говорят — малахиту там ещё много осталось.
Бабушка на вопрос о Медной горе отвечала:
— Самое это проклятущее место. Сколь народичку оно съело! Сколь народичку!
— У моей-то золовушки парня вовсе в несовершенных годах гора задавила. А девчушка у ней, — золовушки-то, — на этой же горе сгорела. Вовсе себя потеряла, — как без ума сделалась. Бегает да кричит, и понять нельзя. Брата-большака у моего-то старика тоже гора изжевала. Семью осиротил. Пятерых оставил. Кум Матвей, на что здоровый мужик был, и того уродом гора сделала: плечо ему отдавила…
После длинного перечня задавленных, изжёванных, покалеченных бабушка неизменно добавляла:
— Вспоминать-то про это неохота. Как жили там, так вовсе в ту сторону и не глядела, где эта самая Медная гора.
По этим рассказам у меня в раннем детстве сложилось самое дикое представление о Полевском заводе, как об огромной яме, в которой рассованы как попало дома. Вокруг ямы какой-то невиданный лес с хорошим запахом. Вместо травы в нём растет чеснок и жёлтая крепкая ягода, которую, видно, надо раскусывать как орех. В стороне от заводской ямы — большая гора с тусклым, как у давно нечищенного самовара, блеском. По форме гора похожа на лежащего медведя, вроде той медной фигурки, какую приходилось видеть на подоконнике надзирательского дома. По горе мечется босая девчонка в лохмотьях и дико кричит, как обожжённая. Внизу стоит человек без плеча, а перед ним малахит. Тот красивый камень, который я знал тогда по черенкам двух праздничных вилок.
С годами это представление изменилось, но всё же «старый» завод продолжал казаться каким-то необыкновенным, а Медная гора даже страшной.
Впервые пришлось поехать в Полевской завод, когда мне было одиннадцать лет.
В этот год отец долго ходил без работы. Лишь во второй половине лета, придя домой, объявил:
— На старый завод нарядили.
Большой радости, однако, в этих словах не слышалось. Из дальнейшего разговора выясни: лось, что в Полевском заводе работа идёт с большими перебоями. Мама даже усомнилась:
— Живут же чем-то?
— Тем и живут, что по огородам ямы бьют, — ответил отец и пояснил:
— У полевчан ведь это привычка: как есть нечего, так и пошёл по огородам золото добывать.
Этот разговор, помню, встревожил меня, но сначала эту тревогу заглушила другая мысль.
По случаю вчерашней ссоры со своими близкими товарищами по улице не без торжества подумал:
«Не обрадуются, как скажу им, что на старый завод уезжаем. Сразу, небось, запоют: „давай мириться, давай мириться!“ А я им ещё про огороды тамошние скажу, как там золото добывают! Пусть вперёд не задаются! С Петькой и вовсе мириться не стану. Попомнит, как заединщикам носы разбивать! До крови!».
Но эта мстительная мысль сейчас же сменилась другой — тревожной.
«А как же там? Один-одинёшенек? На старом-то заводе?»
Петька перестал казаться таким ненавистным.
«Он, может, нечаянно. Сорвалась рука, — мне и попало по носу».
Так и вышло. Все мои товарищи сейчас же безоговорочно помирились со мной, как только узнали о моём отъезде. Петька даже превзошёл мои предположения. Он со свойственной ему горячностью стал доказывать, что не столько у него рука сорвалась, сколько мой нос не во время подсунулся. Подсунулся, впрочем, нечаянно, и винить меня в этом тоже никак нельзя.
Конечно, в другое время можно было бы ещё поспорить, — мой нос или его рука виноваты, но тут было не до того. К моему отъезду Петька отнёсся с особым участием и придумал устроить по этому поводу «некрутские проводы».
Отец уехал с обратным возчиком в Полевской завод, мама стала «собираться», а у меня начались хлопотливые дни. Надо было проститься со всеми любимыми местами, выкупаться по разным уголкам заводского пруда, кой с кем «додраться», кой с кем помириться на прощанье. Надо было переиграть во все летние игры не только в своём околотке, но и с «низовскими» и с «верховскими» ребятами своей улицы.
Ходил я тогда «некрутом». Несмотря на жаркую погоду, не снимал шапки с прицепленным к ней матерчатым цветком, который Петька самоотверженно стянул с «венчальной иконы» своей матери. И всё-таки мне не было весело. Чувствовалось, что для моих товарищей проводы были новой занятной игрой, а для меня это было действительное прощанье со всем милым и дорогим. Необыкновенная уступчивость и даже «прямая поддача некруту» в играх — лишь острее напоминали — а как там… на старом-то заводе?
Ближайший к Сысерти участок дороги на Полевской и Северский заводы был хорошо известен. Сюда летом с ребятами ходил за черникой, осенью— за опятами. В той же стороне в те годы отводились лесосеки для заготовки дров населению, и ребята ходили и ездили сюда с отцами. Случалось бывать и дальше — до Северского завода, но лишь по зимнему пути.
Дорога не была безлюдной, но движение по ней носило чисто заводский, производственный характер. Из Сысерти чаще шли обозы порожняка; иногда везли металлический лом для мартеновского производства Северского завода и другие случайные грузы. Обратно из Северского везли чугун для Верх-Сысертского и мартеновскую болванку для Ильинского листокатального завода.
Здесь приходится сказать попутно об особенностях хозяйства б. Сысертского горного округа.
Имея три завода (Сысертский, Верх-Сысертский, Ильинский) на восточном склоне Урала и два завода (Северский и Полевской) на западном склоне, заводоуправление находило выгодным для себя обслуживать переделочные заводы восточной группы чугуном и мартеновскими слитками из заводов западной группы.
Правда, Урал здесь сильно понижен, но всё же это была горная дорога, притом совсем плохо сделанная. По такой дороге на лошади средней силы можно было увезти не больше 20–25 пудов.
Такая непонятная, на наш современный взгляд, переброска полуфабрикатов через Урал, на 40–50 километров от места производства, имела своё объяснение.
Прежде всего, владелец заводов и слышать не хотел о каком бы то ни было новом строительстве. Сумма в четверть миллиона рублей, которая ежегодно снималась с заводского бюджета под названием владельческой прибыли, полностью расходовалась владельцем и его семьёй, мотавшейся где-то за границей, а заводы должны были приспособлять производство к старому оборудованию.
Кроме того, многочисленные заводские перевозки были нужны заводоуправлению, как «судебный повод» в деле, которое тянулось чуть не с семидесятых годов.
Заводское население, ссылаясь на то, что посессионер не выполняет своих обязательств, — не обеспечивает заводскими работами население, проживающее на территории заводского округа, требовало выделить часть земель под пахотные участки.
Владельческие адвокаты в ответ приводили подсчёты, доказывая, что население полностью обеспечено и даже не справляется с заводскими работами. Видное место в этих адвокатских подсчётах занимали пудовёрсты перевозок и старательские работы. Первые были удобны, так как всегда можно было доказать, что часть перевозок, особенно между Сысертью и б. Екатеринбургом, производилась крестьянами, жившими вне заводского округа. Старательские же работы были и того удобнее: сколько вздумаешь, поставь, — проверить нельзя.
Адвокат со стороны заводского населения — какой-то «дворянин Эйсмонт», вероятно, тоже состоявший на службе у владельца, оспаривал эти подсчёты, а по существу затягивал дело, и положение оставалось таким же, каким оно было при крепостничестве. Население заводских посёлков пользовалось лишь покосными участками, а пахотной земли вовсе не имело. Заводская дача, в которой считалось 239 707 десятин (свыше 260 000 га или 2600 кв. километров), оставалась в полном распоряжении заводоуправления.
К этому надо добавить — заводское начальство было уверено, что население, привязанное к месту домишками, покосами и микроскопическим хозяйством, не разбежится, если его ещё слегка придерживать такими поводками, как перевозка и право «искаться в земле». Последнее на официальном языке называлось правом разработки золотоносных россыпей.
И заводское начальство не ошиблось. Население, особенно в Полевском заводе, несмотря на давнюю заброшенность этого завода, упорно держалось за родные места. Может быть, это упорство в какой-то мере поддерживалось и многочисленными, оставшимися ещё от крепостной поры легендами о «земельных богатствах».
Люди верили в это и ждали, что «опять загремит наша Полевая», а пока, руководствуясь только практикой стариков-старателей да кладоискательскими приметами, «бились в земле», переворачивая миллионы Кубометров песков. Причем эти миллионы чудовищно преувеличивались владельческими адвокатами, как «судебный повод». Те из полевчан, которые разочаровались в песках, «держались за лес»: заготовляли брёвна, дрова и древесный уголь для соседнего Северского, а иногда и для Сысертского, заводов либо по «убойной дороге» везли чугун и мартеновские слитки.
Заводское начальство могло быть спокойно: дешёвая рабочая сила на подсобных работах и бесперебойная перевозка грузов были обеспечены. Не надо было думать ни о спрямлении, ни даже об исправлении дороги.
Например, от Северского до Верх-Сысертского по прямой было не больше 30 верст. Грузов здесь проходило больше всего. Проложить тут дорогу по просекам с использованием существовавшего моста через Чусовую было совсем легко: требовалось лишь расширить просеку, перебросить пару мостиков через мелкие речушки да проканавить подсыхающую часть болота. Однако даже попытки такой не было, и люди везли груз по круговой дороге через Сысерть, делая свыше 50 вёрст.
Во время своей первой поездки я, разумеется, не знал того, о чём написано выше. Привыкший в уральских условиях ко взгорьям и спускам на любой дороге, я тогда даже не заметил, что здесь был перевал из одного водораздела в другой. По-ребячьи лишь почуял, что после Липовского увала произошла какая-то перемена. Как будто до этого растительность была строже, суровее, а за Липовками стала мягче, кудрявее; появились бабочки неизвестной мне окраски; среди привычной зелени сосняка замелькали бледнозелёные листья кустарниковой липы (липняка); показались первые ели.
Крепко засели в памяти две дорожных стлани. Одна покороче, другая, — её и звали Долгая стлань, — тянулась вёрстами. Это был настил из жердей по затопляемым весною участкам дороги. Настил делался небрежно, из жердей разной толщины, очевидно, с расчётом засыпать этот настил сверху песком. По отдельным островкам можно было видеть, что такая засыпка и производилась когда то, но очень давно не подновлялась. Не только ездить, но и ходить по такому настилу из подпрыгивающих или исковерканных жердей было трудно.
Другое что привлекло внимание, — это пустынность края. На протяжении 45 вёрст имелась лишь одна приисковая деревушка Косой Брод, где был мост через реку Чусовую. Кроме этой деревушки, был ещё Липовский кордон, — что-то вроде станции для возчиков чугуна и мартена. Этот кордон был как раз на половине пути от Северского до Сысерти.
Чусовая, о которой я слыхал, как о главной реке «Полевской стороны», произвела обратное впечатление: стал вслух удивляться, зачем над такой речонкой построен большой и высокий мост.
Обратный возчик, с которым мы ехали, усмехнулся:
— Мы вот, как весной ездим, так другое говорим. Такой ли мост на этой реке надо! Того и жди, — разнесёт по брёвнышку. А им что! Сами, небось, в эту пору не ездят, а до нашего брата им и дела нет.
Я прекрасно понимал, что «они» — это заводское начальство; привык слышать, что всегда начальство старается сделать во вред рабочим, но здесь мне показалось требование чрезмерным.
— Над такой-то речонкой! Да у нас в Сысерти около Механического пруда вон какая ширь, а мост меньше здешнего.
— Не спорь-ка ты, не спорь! — вмешалась мама. — У нас ведь мост над спруженным местом, а здесь вольная река. Сама хоть не видала, а слыхала, что весной она сильно бушует.
— Того вон места не видать, — показал возчик на далёкие кусты вправо от реки.
Я просто не поверил этому и по-ребячьи подумал:
«Задаётся своей Чусовой, а тут и лошадь искупать негде!».
После Чусовского моста дорога расходилась: вправо — хорошо накатанная, даже избитая в Северский завод, прямо — в гору, такой же ширины, но какая-то зарастающая, похожая на зимник, шла дорога «на старый завод».
II
Как-то потом, в более позднем возрасте, мне пришлось «искать по приметам» один дом в Мраморском заводе.
Знакомый кустарь, приглашая к себе, говорил:
— Мой-то домок легко найти. От всех он на отличку. На мраморе поставлен, мрамором прикрыт, с боков столбы, а посредине окошко вроде венецианского. Не ошибёшься, небось. Хоть не широко живу, зато у всякого на примете.
Казалось, что найти такой заметный дом в маленьком Мраморском посёлке вовсе не трудно. На деле оказалось не так. Дважды прошёл по единственной тогда улице посёлка, но ничего похожего не увидел. Удивился, когда проходившая женщина показала пальцем на неказистую хибарку с единственным окошечком.
Только приглядевшись, понял, в чём тут дело: точные приметы указывались в шутливом тоне, а были приняты всерьёз.
Избушка, верно, была «совсем на отличку» от всех других построек завода.
Стены были связаны не в угол, как обычно, а сложены в столбы, как забор. Нижние брёвна опирались наподобие фундамента из обломков серо-грязного камня. Крыши привычного вида избушка не имела. Сверху настланы были тонкие драницы, а чтобы их не сбрасывало ветром, на них наворочены были крупные обломки того же серо-грязного камня, что и внизу. Даже окошко, пожалуй, было можно назвать венецианским: ширина у него была гораздо больше высоты.
Мой мраморский приятель, несмотря на последнюю стадию чахотки, был неизменно весёлый человек. Услышав о моих поисках, он сначала расхохотался, потом стал делать шутливые предположения:
— Искал, значит, дом на мраморном цоколе? Крышу из мраморной плитки? В голубой тон? Окошко в сажень ростом? По цоколю, поди, чеканку глядел? Самыми крупными литерами пущено: «Здесь проживает, нисколь горюшка не знает надгробных дел мастер Иван Степаныч Свешников». А внизу, в венчике: «Плиту делаю на совесть: живому не в силу, мёртвому вовсе не поднять. Милости просим, го-го, заказчики».
Посмеявшись над моим легковерием, уже в «учительном тоне» добавил:
— Нет, друг, такого у нас не водится, чтобы сделанный камень дома держать. Как кончил работу, так и сдаёшь поскорее заказчику либо в город везёшь. Там у насесть благодетели: чуть не даром принимают, а сдаёшь — не обратно же везти. Дома-то у нас только обломки камня остаются. Этого добра девать некуда. Придумали вон на дорогу валить, — мостим будто. Ну, свои-то помалкивают, а кому со стороны случится проезжать по нашим дорогам, те ругаются: — испортили дорогу остряком! Лошадь может ноги извести, да и колеса разбиваются.
Кончил всё-таки шуткой:
— Вот и угоди людям! Того не понимают, что наши дороги чистым мрамором деланы. Только будто не пошлифованы и воском не натёрты.
Этот забавный случай остался в памяти, как пример разрыва между действительностью и представлением, составленным с чужих, неверно осознанных слов.
Такой же, — помню, — разрыв получился и тогда, при первом моём знакомстве с Полевским заводом.
Всё было так, как мне говорили, и всё-таки нисколько не походило на то, как я себе представлял.
Прежде всего, никакой заводской ямы не оказалось. Главная часть заводского посёлка была расположена на довольно ровном месте, ниже заводской плотины. В Сысерти и в Северском мы жили на улицах, которые с нагорья спускались к заводским прудам. Это создавало известный простор, осветление, воздушную перспективу. Здесь, в узких, длинных улицах, упиравшихся одним концом в насыпь плотины, казалось глухо, как в яме.
Вскоре стало понятно, что Полевской завод можно было назвать тогда ямой и в другом смысле, как очень глухой угол. Железной дороги в Челябинск тогда ещё не было, и завод стоял «на отрыве» от других населённых пунктов. Заметное движение было лишь между Полевским и Северским заводами, но и это движение было односторонним: ездили только полевчане. Туда возили уголь и дрова, оттуда — мартеновские слитки. По этой же дороге, через Северский завод, везли «в город» (б. Екатеринбург) готовые изделия: железо и штыковую медь. Дальнейшее направление «городской дороги» определялось мостом через Чусовую в селе Кургановском и селом Горный Щит. Через Курганову, впрочем, ездили лишь в весеннюю пору, а летом, когда Чусовая мелела, и зимой всячески «спрямляли» дорогу. Было ли тут, действительно, спрямление, судить не берусь. Несомненно одно, что все виды лесных дорожек одинаково не походили на тракт и одинаково выводили к Горному Щиту. Здесь обычно полевские возчики металла делали остановку на ночлег, ранним утром уезжали в б. Екатеринбург и, сдавши там груз, к вечеру вновь приезжали сюда на вторую ночёвку. Может быть, это был своего рода исторический пережиток от того времени, когда обозы железа и караваны меди ещё отправлялись под вооружённой охраной до крепости Горный Щит.
Считалось, что по «городской» дороге шло движение через Полевской завод на Уфалей, Касли и Кыштым, но в действительности этого не было: туда предпочитали ездить из Екатеринбурга по тракту через Сысерть, а из Полевского ездить в Уфалей было некому и незачем.
На запад от Полевского не было даже и просёлочных дорог. В этой стороне Сысертская заводская дача смыкалась с наиболее слабо освоенными участками Ревдинской и Уфалейской. Всё это место, свыше 1000 кв. километров, было занято лесом, который потом переходил в лесостепь по речкам Нязе и Бардыму, уже Уфимской, а не Чусовской системы. Человеческое жильё в этом лесном участке можно было встретить лишь в виде покосных балаганов, охотничьих избушек да землянок углежогов. В засушливые годы, когда предвиделся недостаток кормов, полевчане пробирались на нязинскую лесостепь и там «пользовались», то-есть заготовляли сено, которое с большим трудом можно было вывезти лишь по санному пути. На Бардым ездили за малиной. Её было так много, что заготовка носила промысловый характер.
Тележные дороги в западном направлении, конечно, имелись, но были так трудны, что чаще отправлялись туда пешком или на верховых, и в Полевском заводе, не в пример другим заводам Сысертского округа, вовсе не редкость было видеть женщину в мужском седле.
Такой оказалась в действительности полевская «заводская яма», где обособленно, почти не видя «посторонних», жило свыше 7000 населения.
Пришлось исправлять своё представление о Полевском заводе и по остальным разделам.
Беспорядок в планировке улиц был больше в Заречной части, «по горе». В огородах старательских дудок было не видно, но вблизи заводского поселка было много перемытых и разрабатываемых песков. Пахучий пихтач оказался вкраплением в сосновые леса привычного для меня вида. Чтобы найти дикий чеснок, надо было знать места, где он растёт. «Крепкая ягода морошка» оказалась лишь твердоватой и не особенно вкусной.
Фабричные здания, на мой взгляд, ничем не отличались от тех, что я видел по другим заводам округа. Обращала на себя внимание лишь работавшая ещё тогда медеплавильня. Это было низенькое, похожее на большую кузницу здание с необыкновенно толстыми каменными стенами. В медеплавильне было довольно темно, но всё-таки на одной из стен вблизи узкого окна можно было прочитать надпись на чугунной доске. Тут говорилось, что завод основан в 1702 году по распоряжению думного дьяка Виниуса.
Помню, тогда меня очень занимало участие в заводском деле дьяка, которого я отождествлял с церковными дьячками, но мои исследовательские попытки не имели успеха. Взрослые отмахивались от этого вопроса, как от пустякового.
— Ну, мало ли что напишут. Может, был какой-нибудь, а может, — и враньё одно.
Только один из моих полевских сверстников сделал удовлетворившее меня предположение:
— Что ты думаешь? Из дьячков-то ведь дошлые бывают. Вон при здешней церкви один есть — ещё зубы ему вышибли… Так он, сказывают, лучше всех блесёнки мастерит. Вот и узнай их, дьячков-то! И тоже пьяница несусветная. Не лучше этого. В вине уса-то!
Впоследствии я мог догадаться, что мемориальная доска с именем А. А. Виниуса была чем-то вроде грачиного гнезда английских аристократических парков. Там, как рассказывал Диккенс, очень дорожили грачиными гнёздами, как признаком древности парка, а здесь владельцы уральских заводов непрочь были щегольнуть один перед другим давностью своих заводов. Имя Виниуса было поставлено вовсе зря: по его приказу в 1702 году было произведено лишь правительственное обследование открытого арамильскими рудознатцами Гумёшевского рудника, постройка же завода началась уже при Геннине, в 1724 году.
Гораздо яснее, чем мемориальная доска, говорило о крепостной старине внутреннее оборудование медеплавильни. Особенно была заметна печь, в которой «томили» медь. Это был открытый сверху чугунный сосуд, в который с каждой стороны проходило по шесть тонких трубок-воздуходувок. Чтобы очистить медь от нежелательных примесей, её «дразнили»: посыпав угольной мелочью расплавленную массу и до предела усилив дутьё, совали сверху окоренный, но ещё достаточно сырой берёзовый кол. Берёзовый сок сейчас же вызывал бурное кипение, и печь начинала «плеваться», «спускать пену». Когда печь «проплюётся» и «медь упореет», массу разливали по изложницам, где она и остывала небольшими плитками по полпуда (около 10 килограммов) весом. Почему-то эти плитки назывались штыками. В таких штыках медь и продавалась из заводских магазинов или увозилась в б. Екатеринбург.
Берёзовый кол, как оказывается, был бессилен отделить драгоценные примеси меди, но «медной пеной» всё-таки интересовались. Взрослые приписывали ей целебные свойства, говорили, что она помогает при переломах, от грыжи и т. д. Ребятишки собирали остывшие металлические брызги — шарики в качестве игрушек и менового знака. Эти шарики «медной пены» потом сортировались по величине и даже по цвету. За «пузырёк» таких шариков давалось от 5 до 10 пар бабок. Выше всего ценились у ребят наиболее крупные шарики с беловатым оттенком. Говорили, что тут есть серебро, хотя это было неверно. Берёзовым колом, как оказывается, даже самый опытный мастер-практик мог «выдразнить» лишь такие мешавшие ковкости меди примеси, как кобальт, никель, висмут, мышьяковистые соединения, но не золото и серебро.
И без мемориальной фальшивки даже ребёнку было понятно, что в медеплавильне всё осталось таким, каким было в крепостную пору. Так же, вероятно, дробили руду окованными железом брёвнами — пестами, таким же порядком «умельцы медного литья» «варили медь», с помощью берёзовых кольев «спускали пену» и, выждав, когда масса «упореет», вычерпывали её ковшами и разливали по изложницам стой же заводской маркой — цапля. Разница была лишь в том, что тогда, в крепостную пору, здесь стояло несколько таких печей, а теперь работала, и то с большими перебоями, одна последняя. Наберут в отвалах Гумёшевского рудника тысячу-две пудов руды, старые мастера превратят эту руду в медные штыки, и медеплавильня закрывается на неопределённое время.
О восстановлении затоплённого ещё в 70-х годах Гумёшевского рудника даже и разговора не было. Он считался безнадёжно погибшим, а с ним умирало и медеплавильное производство.
Всё-таки больше всего меня обманула Медная гора.
Подъезжая к Полевскому заводу, я первым делом искал глазами эту Медную гору, которую так ясно представлял. Кругом завода было много обычных для Урала, покрытых хвойным лесом гор, но Медной горы не было.
В Заречной части заводского посёлка гора спускалась скалистыми уступами к речке. Уж не эта ли? Но возчик сказал, что это Думная, и пояснил:
— Тут, сказывают, Пугачёв три дня сидел, думал. Оттого Думная и называется.
Это показалось интересным, но всё-таки — где Медная гора? На вопрос об этом возчик указал пальцем направление и сказал:
— Не видно её из-за домов-то.
От такого пояснения моя гора, конечно, много потеряла.
«Какая это гора, коли из-за домов не видно! Так, видно, горочка какая-нибудь!»
Когда же через несколько дней увидел Гумёшки вблизи, то чуть не расплакался от обиды. Никакой горы тут вовсе не оказалось. Было поле самого унылого вида. На нём даже трава росла только редкими кустиками. На поле какие-то полуобвалившиеся загородки из жердей да остатки тяговых барабанов над обвалившимися шахтами. Возвратившись с Гумёшек, с азартом, стал «уличать» отца в обмане, но отец спокойно повторял своё прежнее объяснение:
— Я же говорил, что рудник это. Медную руду добывали. Значит, гора и есть. Всегда руду из горы берут. Только иная гора наружу выходит, а иная в земле.
— Тоже объяснил! Что это за гора, если её не видно!
Бабушку я даже укорить не мог, так как она осталась «домовничать» в Сысерти. Написать ей письмо тоже было бесполезно: она была неграмотна.
— Вот какая! Сколько раз говорил: «Давай научу читать и писать. Давай научу!» А она своё заладила: «Опоздала, дитёнок. Седьмой десяток мне». Вот тебе и седьмой! А теперь бы как пригодилось.
Успокоился тем, что решил при первой встрече «как следует отчитать» бабушку за всё: за Медную гору, за яму, за чеснок, за морошку. Но и это не удалось. Ко времени нашей встречи уже хорошо понимал, кто был виноват в неправильном представлении о Полевском заводе.
III
Полевской завод был первым по времени и едва ли не самым многолюдным в Сысертском заводском округе. Правда, в Сысертской волости считалось в 90-х годах свыше 11 тысяч населения, но там это число приходилось на 4 посёлка: Сысерть, Верхний завод, Ильинский и деревню Кашино. Здесь же волость состояла из одного заводского посёлка, в котором жило свыше 7 000. Северская волость, куда входили Северский завод и деревня Косой Брод, была значительно меньше: в обоих селениях этой волости не насчитывалось и 4 000.
Между тем, фабричное оборудование в заводском округе к тому времени оказалось расположенным как раз обратно числу населения заводских посёлков.
Лучше других было положение северчан. Там тогда действовали 2 доменных печи, 1 отражательная, 2 мартеновских, 2 сварочных, 1 газо-пудлинговая и 1 листокатальная. Всего на Северском заводе было занято свыше 500 человек. В переводе же на язык сравнительных цифр это значило, что на фабричной работе был занят каждый 8-й или даже 7-й человек.
В Сысертской части на 11 000 населения приходилось 2 доменных печи, 1 отражательная, 8 газо-пудлинговых, 6 сварочных, 3 листокатальных, 2 листораспарочных и 2 вагранки. Занято было 1 100 рабочих или один на каждый десяток населения.
В Полевском же заводе на 7 000 населения имелось 4 пудлинговых, 3 сварочных печи да архаическая медеплавильня, в которой изредка «варились крошки старого рудника». Фабричных рабочих по заводу было меньше 350, или один на 20 человек населения.
Понятно, что эта особенность завода сразу была заметна и одиннадцатилетнему мальчугану.
На довольно ходовой в ребячьем быту вопрос: «где у тебя отец робит?», в Сысерти обычно слышалось в ответ: «в паленьговой», «на сварке», «под домной», «на механическу ходит», «на Верхний бегает», «листокаталем на Ильинском». Здесь же чаще отвечали совсем по-другому: «куренная наша работа», «из жигалей мы», «на лошадях робим», «на лошади колотится», «на людей в курене ворочает», «так, по рудникам да приискам больше», «старатель он», «золото потерял: пески переглядывает», «около мастерской кормится», «охотничает по зимам-то».
Обычная в таких случаях ребячья гордость и похвальба слышалась разве у многолошадных да углежогов, остальные говорили невесело, иногда даже с пренебрежительной усмешкой, повторяя, очевидно, оценку взрослых в своих семьях.
В Полевском того времени, и верно, полудикую, тяжёлую, но относительно сытую жизнь вели лишь семьи, которые из поколения в поколение занимались углежжением. Обычно это были многолюдные и многолошадные семьи, которые большую часть времени жили в лесу. Летом «до белых комаров» заготовляли сено, и в остальное время года для всех было много работы по заготовке плахи, по укладке и засыпке куч. В работах принимали участие и женщины и подростки. Слова: «куренная наша работа», «из жигалей мы» означали не только профессию отца, но указывали и на личное участие в этой «наследственной» работе. Впрочем, далеко не все подростки хвалились этой работой, чаще жаловались:
— Кожа к костям присохнет, как из куреня воротишься. Заморил нас всех дедушко. Ему бы только работай, а похлебать одной поземины, да и то недосыта. А ему одно далось: «Робь, не ленись. Урежу вот бадогом-то! Не погляжу на отца с матерью!».
Положение подростков, и особенно молодых женщин, которых «таскали в лес с пеленишными ребятами», было, действительно, крайне тяжёлое, и только суровая власть старшего в семье могла удержать от распада эти семейные коллективы углежогов.
О положении наёмных рабочих, — хоть редко, а всё-таки это бывало, — едва ли надо говорить. Таким горемыкам приходилось жить впроголодь, в самых первобытных условиях и «ворочать во всю», а плату тут ужать умели.
Жили углежоги своей особой, замкнутой жизнью, «знались и роднились» преимущественно с такими же углежогами. Да надо сказать, что и девушки «со стороны» редко по доброй воле выходили замуж в семьи таких углежогов, — на каторжную куренную работу.
С одним из подобных семейств «мы приходились в родстве», и мне изредка случалось видеть вблизи их домашнюю жизнь. Дом был довольно просторный, «с горницей, через сени». Горницей, однако, не пользовались. Там даже печь не топили, чтоб «ненароком не заглохло имущество в сундуках». С едой туда тоже нельзя было входить, — ещё мышей приманишь! Пол был устлан половиками трёх сортов (по числу невесток в семье), но сверху половиков были набросаны рогожи. В горнице стояли три кровати «в полном уборе», но никто на них не спал, шкафы с посудой, которой никто не пользовался, и сундуки тремя «горками». Всё это было своего рода выставкой, показом, что «живём не хуже добрых людей», единственной утехой женщин, которым пришлось жить в этом унылом доме.
Безвыездно жили в доме лишь старуха — мать хозяина да его жена. Они «управлялись по хозяйству», водились с малышами, которых еще нельзя было брать в курень, и пекли хлеб для работавших в курене. Раз или два в неделю, в зависимости от погоды, за хлебом приезжали. Тогда же увозили какой-нибудь приварок: сушёную рыбу, крупу.
Когда вся семья собиралась домой, ютились в «жилой» избе, которая тогда становилась не лучше куренной землянки.
Непривычным казалось наблюдать в этом доме необыкновенную строгость. Не только малыши и женщины были запуганы, но и взрослые женатые сыновья со страхом поглядывали на отца, спрашиваясь у него даже в бытовых мелочах.
Старик был именно тот хозяин, «который заморил всех на работе», чтоб в результате иметь необитаемую «горницу с имуществом» да полный двор скота.
Странным было, что этот суровый старик имел всё-таки слабость. Ежегодно из своего конского поголовья он продавал одну или две лошади и покупал «необъезженных степнячков».
Может быть, и здесь был скопидомский расчёт купить «по круговой цене» редкую лошадь, но старик сам объезжал новокупок и обращался с ними куда ласковее, чем со своими семейными. Этой слабостью порой «спасались». Чтобы отвлечь внимание старика либо просто выжить его из избы, которая-нибудь из снох скажет:
— Тятенька! А Игренька-то ровно оберегает заднюю левую?
— Замолола! Кто тебя спросил? — цыкнет старик, но сейчас же спросит: — кою, говоришь, оберегает? — и, получив ответ, сейчас же уходит к лошадям.
Оттуда уж он не скоро вернётся.
Кому нужно было поговорить со стариком, тот тоже начинал с лошадей. Старик оживлялся, находил много слов, и было удивительно, что этот грузный и довольно неуклюжий человек говорил не о возовой лошади, а о рысаке и «виноходце». Однако стоило заговорить о деле, как старик переходил на скупые ответы: «не знаем», «подумать надо», «не наше дело», «нас не касаемо».
Строго ограниченный рамками своего хозяйства и работы уклад был обязателен и для всех членов семьи.
— На что ему много грамоты? Научился расписаться и хватит. По нашему делу больше не требуется, — отвечал старик на просьбы оставить парнишку «доучиться в школе».
— Цыть, вы! — кричит он, если женщины заговорят о «чужих делах».
— Ружьё завести? А хлыстика не хочешь? Вытяну вот, так будешь помнить: охота — не работа, под старость куска не даст.
Даже обычных в каждом доме удочек у мальчуганов здесь не полагалось под тем предлогом, что «рыбка линьки — потеряй деньки, а кто хомуты починять станет?».
К лесной жизни и лесной фантастике отношение было строгое, деловое.
— Всякий зверь уходит, где лес валить станут, и лешак жигаля боится.
Старик даже по этому поводу рассказывал в поученье младшим:
— Было эк-ту со мной в малолетстве… Наслушался побасёнок про девку-Азовку… А робили в тот год близко Азова… Ну, я тут эту девку и поглядел… Сейчас забыть не могу… Выполз по ночному времени из балагана, а сам всё в то место поглядываю, где Азов-гора… Боюсь, значит… Тут мне и покажись, будто из горы страхилатка лезет… Космы распустила, хайло разинула да как заревёт диким голосом… Я беги-ко в балаган да давай-ко будить тятю. Он, покойна головушка, схватил вожжи и почал меня охобачивать, и почал охобачивать, а сам приговаривает: «Я те научу в лесу жить. Я те научу Азовку глядеть!». С той поры, небось, не случалось этого со мной. Выучил, — спасибо ему, — родитель.
На вопрос, кто ревел диким голосом, старик отвечал:
— Страх-от во мне и ревел. Как родитель вышиб его вожжами, так и реветь перестал. — И учительно добавлял:
— Вот оно, значит, польза какая, вовремя ума вложить!
Такую же, примерно, жизнь вели и другие семьи «наследственных углежогов». Только путём самоограничения и самой беспощадной эксплоатации труда женщин и подростков они добивались известного достатка. Но таких семей, разумеется, было немного, и они казались какими-то посторонними среди остального заводского населения.
Положение тех, кто «колотился с одной лошадёнкой», едва ли надо много пояснять. Это была почти нищета, так как плата за провоз была снижена до предела. Дело доходило до того, что из Северского завода, который находился на той же дороге, но шестью верстами ближе к б. Екатеринбургу, везли дороже, чем из Полевского. По этому поводу горько шутили:
— У нас ведь не как у людей: дольше проедешь, меньше получишь.
Были в Полевском две-три мастерских, которые использовали навыки медников, камнерезов и столяров. Делали там мраморные умывальники, столики с каменной крышкой, шашки и шашечные доски из мрамора, подсвечники, письменные приборы и прочее в этом роде. Этим мастерским приходилось выдерживать жестокую конкуренцию с мраморскими кустарями, которые, наряду с могильной плитой и памятниками, выбрасывали на рынок то же, что делалось и в Полевском. Причём камень у мраморчан был мягче, легче для обработки, и вещи выходили дешевле. В таких условиях полевским мастерским приходилось рассчитывать только «на сорт», на высокое качество работы. Понятно поэтому, что в Полевском «кормиться около мастерских» могли лишь квалифицированные специалисты, порой настоящие художники, которые «видели нутро камня» и умели так оправить его в металл и дерево, чтоб он «умному говорил и дураку покою не давал». Из малахита тогда делали только мелочь (броши, запонки), но рассказы о прежних мастерах-малахитчиках были живы в группе камнерезов.
Разумеется, эти мастерские были в руках мелких хозяйчиков, и только взаимная их конкуренция заставляла дорожить квалифицированными рабочими, зато положение подсобных было самое безотрадное.
«Маленькое ремесло имеет» — чаще всего значило: сапожник, реже портной, столяр, жестянщик, но бывали ремесленники и самые неожиданные. Производство одного из таких мне пришлось увидеть с первых же дней жизни в Полевском заводе.
Поселились мы сначала у столяра в «задней избе», которая до осени была свободна, так как в летнюю пору хозяин работал под навесом, во дворе. Столярная работа, особенно когда работают хорошо отточенным инструментом опытные руки, всегда привлекает ребят. Немудрено, что я сейчас же стал вертеться около верстака, высказывая полную готовность «пособить дяденьке». «Дяденька» оказался не особенно приветливым и не понимал своей пользы, т. е. не давал тупить инструмент, но от мелких услуг: подержать, сбегать за клеем и т. д., не отказывался. И вот раз он говорит:
— Слазай-ко на пятра. Там в самом углу три доски липовых. Увидишь — вовсе белые они. Которая пошире, ту и спусти.
Это уж было поручение, за которым можно было ждать предложения: — Ну-ко, выгладь доску рубаночком! — Я бросился на лестницу и чуть не свалился от испуга, когда взлез на пятра. Там в несколько рядов на досках стояли «блюдья» с человеческими головами. «Блюдья» походили на обыкновенные пельменные, но головы были совсем белые, как мел. И хотя «для страху» около голов были красные пятна и потёки, легко было догадаться, что это «не настоящие головы». Идти вдоль ряда всё-таки было жутко и неприятно. Хуже всего оказалось, что на конце самой широкой липовой доски тоже стояло такое блюдо. Волей-неволей приходилось его сдвигать и сразу почувствовалось, что оно очень лёгонькое. Эта легковесность почему-то ещё более успокоила, и я, хоть посматривал сбоку на отрубленные головы, всё же спокойно сбросил доску под навес. Когда спустился, столяр лукаво улыбнулся:
— Натерпелся страху-то?
— Не настоящие, поди-ко…
— То-то не настоящие! Иные большие пужаются, как нечаянно-то увидят. А кто опять плюётся да матерится. На уж, построжись маленько. Сними вон кромку с доски, да за черту не заезжай, смотри!
Эта была награда за мужество, но мне всё-таки теперь интереснее было узнать, что это за головы и почему их так много. Из разговора выяснилось, что это — работа младшего брата хозяина. Парень тоже был столяром, потом ушёл в город и попал работать в иконостасную мастерскую.
Там он научился формовке из гипса. С этими новыми навыками приехал домой и решил «хорошо заработать». Он придумал формовать голову «Ивана-крестителя на блюде». Как видно, считал это новинкой и работал «потихоньку от других». Наформовал этих голов несколько десятков и понёс продавать, но вышла полная неудача. Сначала, конечно, пошёл «по начальству и богатым домам», но нигде не покупали. Одни отказывались — страшно, другие считали грехом «держать фигуру вровень с иконами», третьи просто говорили — не надо. Словом, вышел полный провал. Служащие тоже покупать не стали, а рабочие подняли насмех «нового торгована рубленой головой». Так этот «торгован» и уехал из завода «от стыда». Потом, как я услышал, он всё-таки разбогател, но не от рубленых голов, а от «дворянских бань с женской прислугой», пока волна революции не смыла эту нечисть вместе с его банями.
Рубленые же головы так, видно, и остались в Полевском, и угрюмый столяр устраивал себе развлечение, посылая кого-нибудь из незнающих на пятра за доской.
Были, конечно, как и по другим уральским заводам, «ремесленники» по изготовлению и сбыту «драгоценных камней» из бутылочного стекла или «червонного золота» из медной стружки. Многие знали этих «специалистов», но сами они о своём «ремесле» рассказывали, как о «слышанном от людей».
Было и несколько охотников-промысловиков. «Промышляли», главным образом, «зверя» (лося) и диких козлов. Последних было довольно много в юго-западной части заводской дачи. Их забивали в зиму до сотни голов, и в заводском быту нередко можно было видеть дохи из красивых, пышных, но крайне непрочных козлиных шкурок.
Из перечисленных групп занятые перевозками (по-заводски — возчики) составляли самую большую. Ещё многочисленнее была группа горнорабочих. Часть из них была занята на «казённых» (владельческих) рудниках и приисках, часть работала мелкими артелями по разработке и промывке золотоносных песков.
Сысертский заводской округ хоть не выделялся своей золотоносностью среди других уральских заводских округов, но всё же за год сдавалось отсюда пудов до двадцати золота. Так, по крайней мере, значилось по заводским отчётам 90-х годов. В действительности, эту цифру надо было сильно увеличить, так как заводское начальство требовало сдачи золота по пониженной, — чуть не втрое против государственной, — цене, а старатель всячески «ухитрялся сдать на сторону», «ближе к казённой цене». При распылённости старательских артелей, изворотливости скупщиков и «добрососедских отношениях» со штейгерами, которым платилось владельцами «не очень жирно», это и удавалось вполне.
Можно думать, что и «горное начальство» «не крепко к этому вязалось». В сущности оно тут очень немного теряло, так как золото через скупщиков сдавалось тоже в казну. Впоследствии мне даже приходилось видеть в старых уральских газетах статьи, где предлагалось «раскрепостить старателя от посессионеров, которые отбирают у него большую часть заработка в виде платы за право разработки песков».
В золотоносных песках Полевского района нередко находили самородки довольно значительного веса. Причём находили их иногда в верхних, — самых доступных для разработки даже мелким старательским коллективам пластах. Это создавало известный ажиотаж, и на те участки, где оказались «счастливые комышки», сейчас же устремлялись с других. Сюда же откочёвывала часть горнорабочих с «казённых» рудников и приисков. Все эти поиски носили более или менее случайный характер. Порой совсем зря переворачивали пески, порой заваливали горами «пустяка» «дорогую породу», иногда находили. Чаще всего это была именно находка, случайность, но многолетний практический опыт старателей тоже, конечно, содействовал «счастливым находкам».
Хорошие золотые жилки «попадали» больше опытным в таких разработках людям. Объяснение тут было естественное, деловое:
— Этот места знает. Сквозь все пески прошёл. С первой лопаты видит, положено ли тут.
— Щегарь по плану, а этот по пенёчкам да по камешкам. Подойдёт к какому надо, загонит каёлку — это место! Вот те и весь план! И будьте спокойны — найдёт, не ошибётся.
— Ему бы только до старой земли достукаться, а там уж он сразу разберёт, как по книге.
К такому простому и в сущности правильному объяснению нередко примешивались и соображения другого порядка.
— Словинку знает.
— Пособничков, видно, имеет, да нам не сказывает.
— В тот раз в кабаке похвалялся — полозов след видал. Потому и находит!
— Дедушко у них на эти штуки дошлый был. Он, поди, и открыл всю тайность.
Когда случалось «натакаться на богатимое место» совсем неопытному старателю, подобные разговоры о тайном слове, тайной примете, тайных пособниках усиливались.
— Не иначе, сини огонёчки подглядел.
— Сидит будто и видит — у камня медянки играют. Цельный клубок их. Перевились все, а головами-то друг дружку подтыкают. Он и заметил этот камешок. Копнул тут да и выкопнул штучку в три фунтика! Понимай, значит, какие это медянки играли!
— На ходок, говорят, напал. От старых людей остался. Он и давай тут колупаться да и выгреб свою долю.
— На ходок-от попасть, так уж тут дело верное. Стары люди знали. Зря ходок не сделают.
Разговоры о таинственном Полозе, о синих огоньках и змеиных клубках, как показателях золотоносных мест, мне случалось слыхать и в Сысертской части округа, но разговор о каких-то старых людях был новостью. Это было особенностью Полевской стороны и связано было с историей Гумёшевского рудника, как и другие фантастические образы.
IV
Представляешь себе теперь картину прошлой жизни.
Завод умирал. Давно погасли домны. Одна за другой погасли медеплавильни. С большими перебоями на привозном полуфабрикате работали переделочные цеха. Не было ни клочка пахотной земли, и всё-таки население заводского посёлка цепко держалось за родные места.
Сопоставляешь, как быстро пустела Сысерть во время промышленного кризиса 1900–1903 годов. Припоминаешь целые улицы заколоченных домов в Северском заводе в начале восстановительного периода 1921–1925 годов. Здесь же, при крайне угнетённом положении производства в 90-х годах, когда на фабрике было занято лишь 350 человек, квартиру найти было нелегко. В чём тут дело?
Думаешь об этом и приходишь к выводу, что главной причиной особой привязанности населения к своему месту был старый Гумёшевский рудник: воспитанные работой на нём производственные навыки и твёрдая уверенность в исключительном богатстве недр вблизи Гумёшек.
История этого древнейшего рудника, который в 1702 году был открыт арамильскими крестьянами-рудознатцами уже как старый заброшенный, ещё не написана. По тем сведениям, которыми мы располагаем, можно утверждать лишь, что это было первое и самое мощное залегание углекислой меди по западному склону Среднего Урала. Одно из тех мест, о котором проф. А. Е. Ферсман в своей книге-поэме «Цвета минералов» говорит:
«Как мишурная роскошь, вспоминается нам малахит наших медных рудников, с грандиозностью запасов которых не могло сравниться ни одно месторождение мира: то бирюзово-зелёный камень нежных тонов, то тёмнозелёный с атласным отливом (Средний Урал)…»
Из приводимых в V томе «Летописи» В. Н. Шишко «Сведений о минеральных богатствах Пермской губернии» видно, что в Гумёшевском руднике добывалось и встречалось:
Малахит. Лучистый, мелкокристаллический, почковатый и сплошными массами.
Медная лазурь. Мелкими кристаллами, наросшими на буром железняке.
Медная зелень. Сплошными массами.
Медный колчедан. В сплошных массах.
Красная медная руда. В сплошном виде и кристаллами, являющими иногда сложные комбинации правильной системы.
Медь самородная. Мелкими кристаллами в форме отктаэдра, наросшими на землистом буром железняке либо на плотной красной руде.
Брошантит. В виде шестовато-кристаллических агрегатов и мелкими кристаллами изумрудно-зелёного цвета, наросшими на плотной красной медной руде.
Фольбортит. Чешуйками зеленовато-жёлтого цвета, наросшими на буром железняке.
Халькотрихит. Волосистыми кристаллами карминно-красного цвета, наросшими на буром железняке.
Элит. В виде гроздеобразных почек на буром железняке.
Такое минералогическое разнообразие неизбежно должно было вызвать к жизни камнерезное дело, как боковую отрасль. Главное же было в мощности залегания.
Гумёшевский и лежавший рядом с ним Полевской рудник и были той жемчужиной, ради овладения которой началось колонизационное движение на юго-запад от г. Екатеринбурга.
Крепость Горный Щит строилась, чтоб защищать дорогу туда с севера, крепость Полдневая (Полдневское село) была основана для защиты с юга, а Полевской завод закладывался для использования рудных богатств «двух гуменцев», открытых близ речки Полевой.
Строитель завода Геннин высоко ценил полевские руды. В одном из писем Петру I он, рассказывая о расходах на строительство новых заводов, обещал: «а ныне тебе бог заплатит вдруг от полевской и гумёшевской, такожде от кунгурских и яйвинских медных руд весь убыток скоро» («Горный журнал», 1726 г., кн. 5).
Однако этому обещанию не суждено было исполниться. Вороватые царские чиновники и немецкие специалисты вели дело всё время с убытком. Полевской завод выплавлял за год от 250 до 1 000 пудов меди и лишь в последний год «казённого содержания» дал 4 577 пудов (у Чупина в «Географическом и стат. словаре»).
Можно думать, что немцы, стоявшие тогда во главе завода, и сами не знали ценности Гумёшевского месторождения. Косвенным подтверждением этого может служить картина расхищения казённых горных заводов. Начавший это «для интересу её величества полезное» дело разбазаривания государственных заводов немец Шемберг ухватил себе самый лакомый кусок — Гороблагодатские заводы и Лапландские медные рудники. Потом этот кусок у немецкого проходимца перехватил «доморощенный орёл» граф Шувалов. За ним протянула руки и остальная «плеяда Елизаветина двора»: другой Шувалов, оба Воронцовы, граф Чернышев и лейб-кампанеец Гурьев, фельдмаршал князь Репин…
Каждый из этой «стаи славных» старался урвать кусок побольше и пожирнее. Особенно отличился граф М. Воронцов, захвативший Ягошихинский, Пыскорский, Мотовилихинский и Висимский заводы; Роману Воронцову отдан был Верх-Исетский завод; графу Чернышеву достались Юговские; Гурьеву — Сылвенский и Уткинский и т. д.
Среди больших дворцовых птиц, растаскивавших казённые заводы, оказался лишь один ястребок попроще — Соликамский «солепромышленник и фабрикант в ранге сухопутного капитана» — Турчанинов. Этот угодил царице изготовлявшейся в его мастерской медной посудой и получил Гумёшевский рудник с Полевским и Сысертским заводами.
Турчанинов, не в пример вельможным заводовладельцам, оказался «рачительным хозяином». В то время как те, не заплатив казне ни копейки условленной стоимости заводов, приписали себе сотни новых крепостных, наделали дополнительных долгов и начали продавать заводы в другие руки, этот стал быстро богатеть. Главным источником его богатства оказалось сначала медеплавильное производство на гумёшевских рудах.
Турчанинов по опыту своей прошлой работы, как видно, хорошо оценил высокие качества старых русских мастеров по меднолитейному делу. Получив в своё распоряжение Полевской завод, Турчанинов, как рассказывали в Полевском, в первую очередь привёз сюда этих мастеров, а также «своих рудознатцев и рудобоев».
В исторической литературе мне до сих пор не удалось найти подтверждения этим рассказам, но обилие в б. Сысертском округе фамилий, прозвищ и слов несомненно северного происхождения, исключительная «однопородность» и «одноверность» населения говорит, что заселение здесь производилось не так, как в других заводских округах. В произведениях Мамина-Сибиряка, посвящённых, главным образом, Демидовской и Расторгуевской части заводского Урала, а также в романе А. П. Бондина «Лога», написанном на основе материалов по б. Тагильскому заводскому округу, нередки мотивы столкновений по национально-бытовым и вероисповедным особенностям (между «хохлами» и «расейскими», между «кержаками» и «никонианцами»). В Сысертском заводском округе, по моим наблюдениям, даже почвы для этого не было. Не помню ни одной заводской семьи, которая бы заметно отличалась от других своими речевыми особенностями, манерой постройки, бытовыми мелочами, не считая, конечно, разной степени экономического и культурного уровня. Концовские столкновения определялись исключительно территориальными признаками: мальчуганы дрались одна улица против двух соседних, у подростков и «холостяжника» был более широкий масштаб (Зарека против Скату). Отражались иногда и разногласия производственного порядка, хотя бы в обидных кличках: жженопятики (фабричные), кроты и пескомои (горнорабочие и старатели), лесовики (углежоги) и «несчастный подряд» (возчики).
По вере все числились православными. В основном большинство выполняли житейские обряды: «венчались», «крестили ребят», «отпевали умерших», держали иконы, но большого усердия к церковным делам не проявляли. Для мужчин считалось достаточным сходить в церковь на пасхе или на рождестве да в свои именины. Излишне усердствующих презрительно звали боголизами (все божьи следочки оближет!) и боголазами (забота есть— на бога лезть). Говели чаще старухи, реже старики, а из молодых лишь те, кто собирался жениться или выходить замуж (Чтоб заминки не вышло от попов. По полному, значит, закону, как полагается).
Мне как-то приходилось читать, — кажется, у К. Д. Носилова, — что русификаторы севера считали подобное «обрядоверие» особенностью «обращённых» коми. Один такой фанатик русификации жаловался:
— Не разберёшься, верят они или не верят. Икон не прячут, священников принимают, сами иногда в церковь ходят, обряды крещенья, венчанья, погребанья выполняют без напоминания, но всё это при полном религиозном равнодушии. Так, для порядка.
Цитата дана произвольно, как уложилась в памяти, да и мнение не представляет такой ценности, чтобы приводить его со всей точностью, но оно всё же запомнилось. Читая это место, невольно подумал: «точь-в-точь как в наших заводах». Может быть, это запомнилось, как обратный пример, подтверждавший уже сложившуюся мысль. Наблюдения языкового порядка, — в частности над двойными сысертскими и полевскими фамилиями, где уличное прозвище казалось русским переводом неизвестного слова, говорили, что заводской округ, если не сплошь, то в подавляющем большинстве, был заселён выходцами из северных областей. В том числе, конечно, было немало и «обращённых», т. е. насильственно окрещённых и русифицированных коми и коми-пермяков. Иногда отметка о национальности и северном происхождении оставалась в фамилиях: Зыряновы, Пермяковы, Олонцевы, Вологодцевы, Устюжанины. Чаще об этом можно было лишь догадываться по значению слова: Чипуштановы, Черепановы, Подкины, Наносовы, Летёмины, Тулункины, Мухлынины, Талаповы и пр. Разумеется, много было фамилий и обычного типа — от производства: Валовы, Засыпкины, Кузнецовы, Ширыкаловы, от лесной жизни: Медведевы, Зайцевы, Хмелинины, от имён и различных прозвищ: Антроповы, Григорьевы, Савелковы, Потопаевы, Полежаевы, Потоскуевы и т. д.
Опираясь на привезённых с собою мастеров, рудознатцев и рудобоев, Турчанинов в первый же год владения увеличил выплавку меди более чем вдвое «против казённого содержания». В последующие годы выплавка всё время росла и к концу первого десятилетия перевалила за 27 000 пудов. И дальше в течение столетия эта цифра выплавки шла средней, повышаясь иногда за 30 тысяч, а в один год (1866-й) даже до 48 тысяч.
При бесплатном крепостном труде полевские медеплавильни и Гумёшевское месторождение стали золотым дном для владельцев и самой жуткой подземной каторгой для рабочих.
Не зная процентности руды, невозможно представить объём горных работ, но, несомненно, при технике того времени он требовал очень большого количества рабочих.
Отсюда можно сделать вывод, что население Полевского завода в подавляющей своей части в прошлом было связано с горными работами на Гумёшевском руднике. В 90-х годах можно было встретить еще немало стариков, которые «до воли» и «после воли» работали забойщиками на этом руднике.
Те же, что работали по разборке руды (дети) или «бегали с собакой» (подростки-катали), были ещё совсем не старыми.
При широком применении труда детей, подростков и женщин работа на Гумёшках прививала рудничные навыки большому числу населения Полевского завода. Не удивительно поэтому, что когда в 1871 году рудник затопило, заводское население, не покидая насиженного места, занялось рудничными и старательскими работами.
Понятен и другой вывод.
О Гумёшевском руднике, где в течение сотни лет гибли одно за другим несколько поколений рабочих, держались предания и рассказы чуть не в каждой рабочей семье.
Огромное богатство и минералогическое разнообразие, а также то обстоятельство, что рудник и при его открытии был старым, оставленным, вносили в рассказы о Гумёшках элемент непонятного, чудесного. Гумёшки расценивались как «самое дорогое место», но объяснить это неграмотный горняк прошлого мог только с помощью фантастики.
Чаще всего говорилось о «старых людях». По одним вариантам, эти «старые люди» «натаскали тут всякого богатства, а потом, как наши пришли в здешние края, эти старые люди на вовсе в землю зарылись, только одну девку оставили смотреть за всем». По другим вариантам— «старые люди вовсе в золоте не понимали, толку не знали. Хотя золота тогда было много, его даже не подбирали. Потом одна девка ихняя наших к золоту подвела. Беспокойство пошло. Тогда стары люди запрятали золото в Азов-гору, медь в Гумёшки вбухали и место утоптали, как гумно сделали. А девку ту в Азов-гору на цепь приковали. Пущай-де до веку казнится да людей пужает. Таковско ей дело!». По третьему варианту, «стары люди вовсе маленькие были». Они ходили под землёй по одним им ведомым «ходкам» и знали «всё нутро». Потом опять случилась какая-то «девичья ошибка», и «стары люди из здешних мест ушли, а девку с кошкой за хозяйку оставили». «В какое место девка пойдёт, туда и кошка бежит. Когда оплошает, уши у ней из земли высунутся да синими огоньками горят». Таких вариантов было много. Общее в них было только «стары люди» да «девка». Последняя называлась иногда Азовкой, иногда малахитницей.
Была и другая версия сказов, где фигурировали больше «стара дорога» и горы Азов и Думная. Эту версию сказов надо отнести скорее к кладоискательским: говорилось о кладах, а не о «земельном богатстве».
По этой версии выходило, что вблизи Полевского завода проходила большая дорога. По этой дороге шло много обозов со всякими товарами, а «вольные люди» подстерегали и грабили эти обозы. Захваченное складывали в пещеру Азов-горы. Эта гора, а также Думная, служили вольным людям как сигнальные вышки. Когда вольным людям пришлось уйти отсюда, они оставили при своих кладах «девку-Азовку».
Положение этой «девки» определялось по-разному. Одни называли её «женой атамана», «его полюбовницей». Другие это оспаривали — коли такая бы была, так давным-давно состарилась бы и умерла, а эта и посейчас такая, какой была. Она вовсе из старых людей им досталась. То и сидит век-веченский, а сама не старится.
Отношение «девки» к охране клада тоже изображалось неодинаково. То она была добровольной хранительницей, которая «никого близко не подпустит». То она была прикована цепями в Азов-горе и отпугивала людей своими стонами и криками.
Между прочим, эта «стара дорога», неизменно и упорно упоминавшаяся в сказах о кладах Азов-горы, была одним из толчков, побудивших меня рыться в исторических материалах о «путях сообщения». В изданной в 1838 году книге П. А. Словцова «Историческое обозревание Сибири» нашёл подтверждение, относящееся к периоду с 1595 по 1662 год, то-есть ко времени, когда на Урале не было ещё ни одного железоделательного завода, но уже строились крепости и остроги. «Была ещё летняя тропа для верховой езды, пролегавшая из Туринска, после из Тюмени через Катайский острог на Уфу по западной стороне Урала, с пересечкой его подле Азовской горы».
Дальше рассказывалось и о характере движения.
«И по этой тропе происходили пересылки воевод, в нужных случаях, особенно в последней декаде периода, исключая одного раза, когда в 1594 г. велено было отряду служилых, из 554 человек состоявшему, пробраться в Сибирь от Уфы степью».
Выходил опять разрыв между представлением и действительностью. Оказывалось, что те «трудные дорожки», которыми полевчане пробирались на Нязинскую степь и могли добраться до Нязепетровского завода, пролегали по местам исторической тропы — старой дороги сказов. Казалось трудным представить, что по таким местам проходили «обозы с товарами». Может быть, впрочем, тут действовала разница во времени: то, что считали дорогой в XVI и XVII веках, казалось неосвоенным местом в конце XIX века. Гораздо проще было представить, что по этой второстепенной и поэтому менее строго охраняемой колонизационной дороге пробирались в Сибирь «беглые», которые, «сбившись в ватаги», превращались в «вольных людей». Возможно, что эти вольные люди и нападали на «воеводские пересылы», которые могли интересоваться ценностями, конями, оружием и вообще как живая враждебная сила.
Азов в этой части Урала самая заметная гора. На вершине голый камень, к которому со всех сторон близко подступает лес. Это создаёт очень выгодное положение для наблюдателей: оставаясь незаметными из-за леса, они на десятки вёрст могли видеть окрестности. Такой же голой скалистой вершиной оканчивалась и Думная гора. Легко было поверить, что обе эти горы, расстояние между которыми по прямой около 10 километров, могли служить сигнализационными вышками.
В связи с этим можно было даже подумать, что открытые в начале XVIII века «два гуменца промеж речками Полевыми», где, кроме рудокопных ям, оказалось «изгарины многое число, что выметывают кузнецы из кузниц», были просто остатками работы одной из ватаг, долго отсиживавшейся здесь, в удобном месте. Ведь известно же, что крестьяне Арамильской слободы задолго до постройки в этом краю первых заводов плавили железо в «малых печах», продавали его и даже платили за это «десятую деньгу». Почему таких же «плавильщиков» и «ковачей» не предположить среди ватаги «вольных людей»? Потребность в металле у них, конечно, была большая: и для оружия и в качестве товара, как у крестьян Арамильской слободы.
Пещера в горе Азов подходила для всех вариантов сказов. Одни говорили, что в этой пещере и жили «вольные люди». Другие населяли её таинственными «старыми людьми». Но и те и другие одинаково утверждали, что попасть в эту пещеру очень трудно. Ход в неё так запрятан, что редкий найдёт, а если и найдёт, — тоже не попадёт, так как пещера охраняется таинственными силами и разными страшилищами. Самым страшным хранителем кладов была «девка-Азовка». Иногда эта «девка» изображалась такой ослепительной красавицей, что всякий, взглянувший на неё, «навсегда свет в глазах потеряет и вовсе без ума станет». Чтобы получить доступ к оставленным в пещере богатствам, надо было знать «заклятое слово», «потаённый знак», «тайное имя», и тогда доступ в пещеру становился свободным, там встречала гостя девица, угощала его «крепким, стоялым пивом» и предоставляла брать из богатства, «что ему полюбится».
Пароль, открывающий доступ к «захороненным богатствам», а также оставленная при богатствах женщина, по моим наблюдениям, обычны для всех сказов о «вольных людях». Подобное, например, приходилось слыхать по чусовским деревням. В одном сказе, помню, паролем служили условленные слова песни на точно определённом месте. Когда это совпадало полностью, то открывался ход в скале, и оттуда выходила девица-красавица, которая начинала «звать-величать, гостей привечать, про здоровье спрашивать». Когда слова песни и место совпадали неполностью, скала тоже раскрывалась, и девица появлялась, но сейчас же всё исчезало. «Начнут тут люди спорить, было али не было. Спорят-спорят и давай друг дружку в воду бросать да топить. Коли все утонут, девка опять выскочит да и заревёт по-лешачиному, а коли хоть один останется, тогда не покажется, — будто и не было вовсе».
В сказах этого типа вполне понятен, конечно, образ женщины, которая ждёт и «привечает» своих, отводит, обманывает, отпугивает и даже губит чужих. Такие женщины на судебном языке старого времени назывались «пристанодержательные жёнки», «воровские жёнки», «береговые девки», а в сказах они фигурировали как красавицы, жёны атаманов и эсаулов.
В чусовских сказах о «вольных людях» иногда упоминалась и Азов-гора, как особо охраняемое место. Очевидно, эту гору раньше знали гораздо шире, чем в последующие годы.
В сказах о «самом дорогом месте» тоже упоминалась гора Азов. Основанием здесь надо считать обилие ценных ископаемых по равнине около Азова. Кроме двух медных рудников, здесь были залегания прекрасного белого мрамора, который у камнерезов зовётся полевским; здесь же, по речкам, были найдены первые в этом районе золотые россыпи.
По местам с открытыми выходами сернистых колчеданов, которые Геннин, видимо, имел в виду под названием «медного ила», в сырую погоду держался густой туман особого оттенка. Этот «синий туман» тоже считался показателем богатства в земле.
Всё это, поддерживая сказы о «самом дорогом месте» — Гумёшевском руднике, связывалось и с Азовом. Там, говорили, и хранится главное богатство.
В пещере Азов-горы, таким образом, сходились два направления сказов: кладоискательское, где говорилось о кладах, «захороненных в горе вольными людьми», жившими тут, вблизи «старой дороги», и горняцкое — с попыткой объяснить происхождение, вернее, скопление здесь «земельных богатств». Тут фигурировали «стара земля», «стары люди» и «тайна сила».
Понятно, что при таких условиях сказы одного направления сближались, переплетались со сказами другого направления, и одни образы переходили в другие. «Стары люди» получили черты «вольных людей», и наоборот. Красавица — жена атамана или «береговая девка» судебных приказов превращается в «каменную девку», в «малахитницу», в «Хозяйку горы». Хозяйка из безразличной хранительницы «земельных богатств» превращается в сознательную: одним помогает, сама показывает, облегчает доступ к богатствам, других «отводит», обманывает или губит.
Враждебна Хозяйка к барам, начальству, всякого рода барским прислужникам, а помогает лишь смелым, решительным и свободолюбивым рабочим, которые в какой-то степени родственны «вольным людям». Однако Хозяйка горы не сводится на роль только пособницы, соучастницы, хранительницы собранного (кладов). Нет, она распоряжается не кладами, а «земляными богатствами» и распоряжается самостоятельно. По своему желанию может допустить разработку, может и не допустить, может с помощью подвластных ей ящериц «увести богатство», может и собрать.
Кроме многочисленных ящериц, в подчинении Хозяйки горы ещё бурая кошка. Она ходит в земле, но близко к поверхности, выставляя иногда свои огненные уши. В каком-то подчинении находится и хранительница «главного богатства» «девка-Азовка». Иногда, впрочем, этот образ кажется не связанным с образом Хозяйки горы, но всё же налёт горняцкого тут остаётся: в перечне богатств горы упоминаются лишь золото и драгоценные камни, а не товары и оружие.
Там, где «самое дорогое место», «главное богатство», неизбежен, конечно, и образ змеи. Это ведь повсеместно, — змея и золото связывались. «Змеиные гнёзда», «змеиные места» считались верным признаком золотоносности. Это не отрицалось и в книгах, которые по состоянию культуры XVIII века можно отнести к разряду научных.
Так, в 1760 году было издано «Обстоятельное наставление рудному делу, состоящее из четырёх частей… сочинённое и многими чертежами изъяснённое… бергколлегии президентом и монетной канцелярии главным судьёю Иваном Шляттером» — объёмистая книга, — 294 страницы большого формата, с 35-ю листами чертежей, — посвящённая президенту Академии наук П. И. Шувалову, конечно, была одним из капитальных трудов своего времени. И всё-таки в этом «капитальном труде» читаем: «Что о пребывании ящериц, змей и тому подобных насекомых при богатых рудных жилах говорится, то хотя оное за неосновательное почитается, однако узнавание особливо при Колывано-Воскресенеких заводах ясно доказывает, что сего вовсе опровергать не надлежит; ибо множество змей, находящихся там на горе, золотою и серебряною рудами изобилующей, от которых и оная гора змеиною горою названа, есть явное свидетельство, что такие горы больше водятся в тех местах, где золотые и серебряные руды находятся».
Ящерицы и змеи обычного типа у старателей считались только слугами, пособниками. Среди ящериц одна была главной. Она иногда превращалась в красивую девицу. Это и была Хозяйка горы. Над змеями начальствовал огромный змей — Полоз. В его распоряжении и находилось всё золото. Полоз, по желанию, мог «отводить» и «приводить» золото. Иногда он действовал с помощью своих слуг змей, иногда только своей силой. Иногда роль Полоза сводилась только к охране «земельного золота». Полоз всячески старался не допустить человека до разработки золотоносных мест: «пужал», показываясь «в своём полном виде», «беспокойство всякое старателю производил», утягивая в землю инструмент, или, наконец, «отводил» золото. Реже Полозу давались черты сознательного полновластного распорядителя золотом: он, как и Хозяйка горы, одним облегчал доступ к золоту, указывал места и даже «подводил золото», других отгонял, пугал или даже убивал.
Между подчинёнными Полозу силами нередко упоминались его дочери — Змеёвки. С их помощью Полоз «спускал золото по рекам» и «проводил через камень». Чаще всего олицетворением Змеёвок считались небольшие бронзовые змейки-медяницы. Широко распространённым было поверье, что эти змейки проходят через камень, и на их пути остаются блёстки золота. Иногда о Змеёвках говорилось без связи с Полозом: они считались одним из атрибутов колдовской ночи, когда расцветает «папора». В эту ночь Змеёвки в числе прочей «колдовской живности» вились около чудесного цветка. Вспугнутые человеком, «знающим слово», они сейчас же уходили в землю, и если тут был камень, то оставляли в нём золотой след. Если кладоискатель «не знал слова», Змеёвки устремлялись на него и тоже «сквозь пролетали». «Умрёт человек, и узнать нельзя — от чего. Только пятнышко малое против сердца останется».
Взаимоотношения между Полозом и Хозяйкой горы были не вполне ясны. Помню, мы потом не раз спрашивали у лучшего полевского сказителя дедушки Слышко о Полозе.
— Он хоть кто ей-то? Муж? Отец?
Старик обычно отшучивался:
— К слову не пришлось, — не спросил. Другой раз увижу, так непременно узнаю, — то ли в родстве они, то ли так, по суседству.
V
В «квартире с рублеными головами» жили недолго. Удалось найти лучше, — на шлаковых отвалах, за рекой, у самой Думной горы, рядом с женской школой.
Домик строился, как квартира для учительниц, но так как он тогда стоял ещё совсем на пустыре, то две девушки-учительницы боялись тут жить, предпочитая ютиться в самом школьном здании, где жила и сторожиха. Нам и пришлось «обживать» этот «флигель при девичьей школе».
Взрослые были довольны переменой квартиры, мне сначала показалось здесь совсем скучно.
На шлаковых отвалах, ближе к берегу реки, тянулись бесконечные поленницы дров. Тут была так называемая «дровяная площадь», где обычно «стоял годовой запас дров» для пудлингового и сварочного цехов. Для охраны дров была поставлена на горе будка с колоколом.
Нельзя сказать, чтобы вид на безлюдную дровяную площадь мог привлекать внимание одиннадцатилетнего мальчугана. Не лучше был и пустырь за домом. Правда, там по перегнившим уже навозным свалкам росли мощные сорняки, в которых неплохо бы поиграть «в разбойники», но играть-то было не с кем. Улица-одинарка, в конце которой стоял наш школьный флигель, была какая-то совсем нежилая. В противоположном конце, около пруда, стояло здание заводской конторы. Через интервал — мужская школа, потом какой-то заводской склад, потом два-три домика обычного типа, новый интервал, — и женская школа с флигелем.
Вечерами здесь было совсем безлюдно.
— Пойдём на гору сказки слушать, — пригласил меня как-то один из моих первых «знакомцев» на новом месте. Я сначала отказался, но приятель настаивал:
— Пойдём, говорю. Сегодня в карауле дедко Слышко стоит. Он лучше всех рассказывает, Про девку-Азовку, про Полоза, про всякие земельные богатства. Не слыхал, поди?
Это было даже обидно.
— Не слыхал! Да об этом, поди, все говорят! Как соберутся вечером на завалинке, так обязательно про земельные богатства разговор. Где их искать, как добыть, какой Полоз бывает, в котором месте стары люди жили. Ну, всё как есть. В Сысерти у нас такие разговоры в редкость, а тут их каждый вечер слушай! Надоело даже, а ты говоришь — не слыхал!
Товарищ, однако, продолжал приглашать:
— Пойдём! Слышко занятнее всех сказывает. Ровно сам всё видел. Что на Медной горе было, так он и места покажет.
Хотя Медная гора, как я уже говорил, больше всего обманула мои ожидания, но интерес к ней был жив. Пошёл с товарищем на гору и с той поры стал самым ревностным слушателем дедушки Слышка. Даже потом, когда круг моих товарищей расширился, отказывался по вечерам от игры, чтобы не пропустить дежурство у караулки этого заводского сказителя.
Звали его Хмелинин Василий Алексеевич, но это так только — по заводским и волостным спискам. Ребята обычно звали его дедушка Слышко. У взрослых было ещё два прозвища, на которые старик откликался: Стаканчик и Протча!
Почему звали Стаканчиком, об том, конечно, легко догадаться, а два других прозвища шли от любимых присловий: слышь-ко и протча (прочее). Никого не удивляло, когда к старику обращались:
— Стаканчик! Ты на Фарневке пески знаешь?
— А то нет?
— Пойдём тогда, — тёзку поднесу. Поглянется, так и другой поставлю. Поговорить с тобой охота.
— Это можно… Отчего не поговорить… К нам с добром, и мы не с худом. Что знаю — не потаю.
Даже официальное лицо — «собака-расходчик», как его звали рабочие, при месячной выплате кричал:
— Эй, Протча, огребай бабки! Ставь крест — получай пятёрку! Не убежала у тебя гора-то!
— Гора, Иван Андреич, не собака, зря метаться не станет.
Среди ожидающих получки смех. Расходчик делает вид, что не понял ответной насмешки, и продолжает подшучивать:
— Сказки там сказываешь. Только у тебя и дела!
— Кому ведь что дано, Иван Андреич. Иному вон сказать охота, а только тявкать умеет.
Опять смех. Расходчик откровенно сердится:
— Ты у меня, гляди!
— На то и в карауле держат. На людей не кидаемся, а глядеть— глядим. Недаром пятёрку-то платишь.
— Отходи, говорю… Не задерживай!
— Это вот верное слово сказал.
Когда старик отходит, в толпе одобрительные замечания:
— Отбрил собаку-то!
— Бывалый старичонко. Со всяким обойдётся как надо. Переговори его!
Таким бывальцем, «знатоком всех наших песков», ловким балагуром и «подковырой» слыл Хмелинин среди взрослых. Ребятам он был известен как самый занятный сказочник.
Детей старик любил и с ними был всегда ласков.
Старик, по-моему, был почти одинок. Знаю, что у него была «старуха», годов на десять моложе, но она больше «по людям ходила: бабничала, домовничала»… Были ли у них взрослые дети, — не знаю.
Старик ещё бодро держался, бойко шаркал ногами в подшитых валенках, не без задора вскидывал клинышком седой бороды, но всё же чувствовалось, что доживал последние годы. Время высушило его, ссутулило, снизило и без того невысокий рост, но всё ещё не могло потушить весёлых искорок в глазах.
Не по росту широкие плечи и длинные руки напоминали, что сила в этом теле была раньше немалая.
У караулки на Думной горе хорошо. Даже надоевшая дровяная площадь с длинными рядами поленниц и широкими полубочьями воды на перекрёстках кажется отсюда по-новому. Видно всё — до свалившегося полена и сизых пятен на стоялой воде в полубочьях, но всё это уменьшилось, стало игрушечным. Особенно забавны бани по огородам за рекой. Они похожи на карточные домики.
Радует глаз круглая, будто переполненная чаша Полевского пруда и уходящая вдаль широкая река — Северский пруд. Красивым кажется кладбище. С горы оно — купа стройных елей в белоснежном кольце каменной ограды. Это единственный яркий кусок среди унылых дальних улиц с заплатанными крышами, покосившимися столбами и разношерстными заборами. Да и весь заводской посёлок не лучше. Дома побольше, дома поменьше, а всё-таки глазу остановиться не на чём на этой низине под заводской плотиной.
Веселей глядят лишь фабричные здания, когда там есть работа. Только приземистый почерневший четвероугольник медеплавильни всегда кажется унылым и страшным.
В той стороне, где теперь высятся многочисленные корпуса криолитового завода и соцгородка, было видно лишь серое чуть всхолмлённое поле старого Гумёшевского рудника. Ближе к берегу Северского пруда прижалось несколько убогих лачужек, а дальше по всему серому полю одни обломки старинных загородок да три тяговых барабана, которые издали похожи на пауков в своих гнёздах.
Зато там, за Гумёшевским рудником и заводским посёлком, насколько глаз мог охватить, однообразная, но красивая лесная картина — тёмносиние волны густого хвойного бора. Седловатая волна выше других — Азов-гора. До неё считалось вёрст 7–8, а «может, и больше». Острый ребячий глаз различает на вершине Азова постройку. Это охотничий домик владельца заводов со сторожевой вышкой «для огневщиков».
На плотине «отдали восемь часов». То же повторилось на церковной колокольне. Третья очередь Думной горы. Дедушка Слышко уже взобрался на невысокий помост и ждёт, когда замрёт последний звук с колокольни. Отбил и похвалился:
— Знай наших! Тонко, да звонко, и спать неохота! Сразу, поди, на две копейки перед конторой отсчитался.
Не спеша сходит с помоста, усаживается на крылечке караулки и начинает набивать свою «аппетитную».
На дровяной площади уже нет рабочих, пешее и конное движение стало редким, а ещё светло, и нет надобности караульщику ходить между поленницами. Самое спокойное время. Часы сказок. Человек пять ребятишек уже давно ждут, но если кто-нибудь попросит сказку, старик всегда поправит:
— Сказку, говоришь! Сказки это, друг, про попа да про попадью. Такие тебе слушать рано. А то вот ещё про курочку-рябушку да золото-яичко, про лису с петухом и протча. Много таких сказок маленьким сказывают. Только я это не умею. Кои знал, и те позабыл. Про старинное житье да про земельные дела — это вот помню. Много таких от своих стариков перенял, да и потом слыхать немало доводилось.
— Тоже ведь на людях, поди-ка, жил. И в канаве меня топтали, и на золотой горке сиживал. Всякого бывало. Восьмой десяток отсчитываю — понимай, значит! Это тебе не восемь часов в колокол отбрякать! Нагляделся, наслушался!
— Только это не сказки, а сказы да побывальщины прозываются. Иное, слышь-ко, и говорить не всякому можно. С опаской надо. А ты говоришь — сказку!
— Думаешь, про тайну силу правда? — возражал кто-нибудь из слушателей.
— А то как же…
— У нас в школе говорили…
— Мало что в школе. Ты учись, а стариков не суди. Им, может, веселее было всё за правду считать. Ты и слушай, как сказывают. Вырастешь — тогда и разбирай, — кое быль, кое небылица. Так-то, милачок! Понял ли?
Старик, как видно, и сам «хотел считать всё за правду». Рассказывал он так, будто, действительно, сам всё видел и слышал. Когда упоминались места, видные от караулки, Хмелинин показывал рукой:
— Вон у того места и упал…
— Около дальнего-то барабана главный спуск был. Туда и собрались, а Степан и говорит…
— Теперь нету, а раньше поправее тех вон сосен горочка была, — Змеиная прозывалась. Данило и повадился туда…
Коли приходилось слышать сказ второй или третий раз, легко было заметить, что старик говорил не одними и теми же закостеневшими словами. Порой менялся и самый порядок рассказа. По-разному освещались и подробности.
Иной слушатель не выдержит — заметит:
— В тот раз, дедушка, ты об этом не говорил.
— Ну, мало ли… Забыл, видно, а так, слышь-ко, было. Это уж будь в надежде — так!
Хмелинин с десятилетнего возраста до глубокой старости — «пока мога была» — работал исключительно по горному делу.
— Мне это смолоду досталось, — рассказывал старик. — В ваши-то годы я вон там, на Гумёшках руду разбирал. Порядок такой был. Чуть в какой семье парнишко от земли подымется, так его и гонят на Гумёшки.
— Самое, сказывают, ребячье дело — камешки разбирать. Заместо игры!
— Вот и попал я на эти игрушки. По времени и в гору спустили. Руднишный надзиратель рассудил:
— Подрос парнишко. Пора ему с тачкой побегать.
— Счастье моё, что к добрым бергалам попадал. Ни одного не похаю. Жалели нашего брата — молоденьких. Сколь можно, конечно, по тем временам. Колотушки там либо волосянки — это вместо пряников считалось, а под плеть не подводили ни разу. И за то им большое спасибо.
— Ещё подрос — дали кайлу да лом, клинья да молот, долота разные: — Поиграй-ко, позабавься!
— И довольно я позабавился. Медну Хозяйку хоть видеть не довелось, а духу её сладкого нанюхался, наглотался. В Гумёшках-то дух такой был, — по началу будто сластит, а глонёшь — дыханье захватит. Ну как от спички-серянки. Там, вишь, серы-то много было. От этого духу да от игрушек-то у меня нездоровье сделалось. Тут уж покойный отец стал рудничное начальство упрашивать:
— Приставьте вы моего-то парня куда полегче. Вовсе он нездоровый стал. Того и гляди — умрёт, а двадцати трёх парню нет.
— С той поры меня по рудникам да приискам и стали гонять. Тут, дескать, привольно: дождичком вымочит, солнышком высушит, а солнышка не случится — тоже не развалится.
Не изменилось положение Хмелинина и после падения крепостничества. Разница свелась лишь к тому, что теперь он «больше на себя старался», т. е. преимущественно работал в мелких старательских артелях и реже на владельческих приисках.
В этой полосе жизни у Хмелинина был «случай», когда удалось найти крупный самородок — в 18 фунтов. Конечно, Хмелинин от этой находки не получил ничего, кроме вреда. Иначе, впрочем, и быть не могло. Вся система прошлого, бытовое окружение и бескультурье неизменно вели к этому. Правда, контора не отобрала самородок, не обвинила старателя, не посадила в острог, как бывало с другими, но всё-таки «находка ушла» и увела в могилу жену Хмелинина. Постарался тут скупщик золота и кабатчик Барышов. Он под покровом пьяного угара очень быстро вернул выданные за самородок деньги и выставил пропившегося старателя из кабака.
Бесследно этот «случай» всё же не прошёл. Старик, рассказывая о нём, добавлял:
— Поучили меня. Хорошо поучили. Знаю теперь, куда наше счастье старательское уходит.
Понятно, что Хмелинин, на себе испытавший всю тяжесть «крепостной горы» и потом продолжавший работать по горному делу, знал жизнь старого горняка во всех деталях вплоть до «нечаянного богатства». Это давало сказителю возможность насыщать сказы живыми и совершенно правдивыми подробностями.
В 90-х годах Хмелинину было за 70, а на Гумешевский рудник он попал в десятилетнем возрасте. Приходится это на 30-е годы прошлого столетия. Тогда, вероятно, можно было встретить стариков из второго и даже из первого поколения «турчаниновских выведенцев», которыми был заселён Полевской завод. В силу этого, некоторые подробности о колонизации, о первых годах работы «на новом месте» приобретают у Хмелинина характер исторического документа. Если до настоящего времени не всё подтверждено письменными документами, то, вероятно, лишь потому, что поиски были недостаточны.
То же самое, вероятно, надо думать и о встречающихся в сказах указаниях на «особо богатые места». Пусть горняки прошлого были технически безграмотны, пусть они считались порой с разными смешными приметами, всё же их многолетний опыт, опиравшийся вдобавок на опыт предыдущих поколений, мог давать немало и ценных знаний.
Красногорка в пору сказителя была покосным участком со следами заброшенного железного рудника. Такой оставалась она в моём представлении, когда в 1936 году воспроизводились сказы, связанные с этим старым рудником («Медной горы Хозяйка», «Сочневы камешки»). И уж только потом, но тоже без большого удивления узнал, что Красногорка теперь одна из мощных разработок ценных ископаемых. Как видно, вовсе не зря старатели прошлого «кружились» около этого рудника. Своими жалкими орудиями производства они не могли добиться успешных результатов, но оценка места была правильная.
VI
В какой-то степени специфическим, свойственным по преимуществу Полевскому району, по моим наблюдениям, можно считать лишь опоэтизированный образ «старых людей». В других районах случалось слыхать о «старике» или даже о «старце» (в последнем названии, по-моему, чувствуется отзвук старообрядчества), наделённом некоторыми сходными признаками. Этот «старик» или «старец» так же, как «старые люди», «собирают богатство в одно место», «ограждает заклятием», «переносит от людей».
Остальные фантастические образы, как уж говорилось выше, не представляют собой ничего нового. Везде хранитель и хозяин золота — змей, змеиный царь; везде ему служат змеи, некоторые из змей — его дочери. Не знаю, как по Северному Уралу, но по Среднему и Южному этого фантастического змея чаще зовут Полозом, Великим Полозом, вероятно, потому, что здесь издавна идёт разговор, частично поддерживаемый натуралистами прошлого (Сабанеев, например), о существовании особо крупного вида змеи — полоза.
Не менее широко был известен и образ «горной», «каменной», «золотой девки», «Хозяйки горы». По всему Уралу бродил и «серебряный олень» и его разновидности: «зверь (лось) — золотые рога» и «козёл— серебряное копытце». Случалось слышать и о «синих огонёчках» и об «огненных ушах», и о «синем паучке» — хранителе богатства. Только этот паучок не имел дальнейшего превращения, но его лапы имели свойство далеко вытягиваться по земле, и прикосновение их к голове человека вызывало сон, переходивший в смерть.
Упоминался и «дедко Филин», почему-то всегда в роли противодействующего Полозу, но не встречался больше образ «лисички», как в сказе «Золотой волос». Можно думать, что этот образ пришёл извне.
При всей замкнутости Сысертского заводского округа в пору крепостничества всё-таки на горных работах были заняты и башкиры. Об этом легко догадаться хотя бы по речевым признакам. Кроме широко распространённых слов, вроде: елань, тулаем и др., здесь были понятны и такие, как сармак (выгода, польза), камча (плеть); встречалось даже русское словообразование от башкирских корней, например, тартмачить (торговать вразнос).
Понятно, что и башкирский эпос был в какой-то мере известен русским горнякам, и ходовой в башкирской сказке образ лисички-свахи перешёл, видимо, оттуда.
Происхождение образа Полоза — змея-хранителя золота — как-то совсем не интересовало: этот образ казался с детства привычным. Думаю, однако, что образ пришёл не от древней символики и не от морализаторских разговоров, а от внешних окружающих впечатлений. Любопытно, что в кладоискательской рецептуре рекомендовалось «подглядывать» «след Полоза», его «кольца» в вечерние часы, после чего они уходят в землю. Купанье же Змеёвок и полосканье в реке золотых кос можно было увидеть чаще всего ранним утром. Не случайно, конечно, говорилось, что сквозь камень проходила не всякая змея, а лишь бронзово-золотистая медянка.
Предположения о происхождении образа «Хозяйки горы» уже высказывались. Здесь надо лишь повторить, что этот образ далеко перерос свой первоначальный. Хозяйка горы стала олицетворением мощи, богатства и красоты недр, которые раскрываются полностью только перед лучшими представителями трудящихся.
Образ ящерицы, как воплощение «Хозяйки горы», достаточно ясен для всякого, кому случалось видать открытый выход углекислой меди или её разлом. По цвету, а иногда и по форме здесь сходство очевидное. Можно думать, что подвижность и весёлый вид ящерицы получили отражение в образе «Хозяйки горы». Недаром «Хозяйка» всегда изображалась очень подвижной, быстрой в решениях, большой насмешницей и «мудровальницей», которая любила потешиться не только над неугодными ей людьми, но часто ставила в затруднительное положение и тех, кто ей нравился.
Впрочем, эта сложность фантастических образов раскрывалась лишь в сказах горняцкого направления. У кладоискателей всё это было гораздо проще. Вся «тайная сила» одинаково представлялась только хранителями богатств. Задача у всех их — Полоза, Змеёвок, Азовки, горной Хозяйки — была одна — не допустить человека к богатству. Чтобы это было легче осуществить, вся «тайная сила» изображалась «самой страшной» да ещё окружалась всякими чудовищами вплоть до рогатой лошади с чугунными копытами и быка с медвежьими зубами и змеиным хвостом. Но даже в разговорах этого типа больше налегали на хитрость Хозяйки, а не на её страшный вид. Такими же изображались и её слуги. Они могли завести в такое место, откуда трудно было выбраться, могли испугать бегущими навстречу огнями, могли, наконец, погубить слабыми по виду руками старухи Синюшки.
Чтоб преодолеть все эти «страсти и хитрости», человеку надо было знать «тайность». К сообщению этой «тайности» (секретного слова, средства, приёма) и сводилось основное содержание сказов кладоискательского типа.
Совсем иную нагрузку получала «тайная сила» в сказах чисто горняцкого характера.
С помощью этой «силы» неграмотный горнорабочий и старатель прошлого прежде всего хотели объяснить себе многие непонятные явления, которые приходилось наблюдать при горных работах.
Откуда так много богатства в Гумёшках?
Десятки лет сотни людей надрываются над добыванием и подъёмом руды, а её не убывает. Почему это? И фантастика даёт простой и лёгкий ответ: — Гумёшки — это склад, оставшийся от «старых людей», которые сюда «захоронили всё богатство».
Откуда самородки в верхних пластах?
Те же «стары люди» разбросали или не подобрали.
Куда исчезла золотоносная жилка?
Полоз отвёл золото.
Как оказалось золото внутри кварца?
Змеёвка прошла, на её пути и остались золотые блёстки и капельки.
Почему один рабочий гораздо «удачливее», «добычливее» другого?
Ответ напрашивается простой: — «тайна сила» помогает. Чем-то приобрёл её расположение. Но чем?
При ответе на последний вопрос явственно выступает вторая нагрузка тайной силы сказов.
Условия труда в горе в крепостное время были самые тяжёлые. В сущности это была самая тяжёлая форма каторги, из которой выхода вовсе не было. В таких безвыходных условиях крепостные горнорабочие могли мечтать лишь о помощи со стороны непонятных им «тайных сил». В результате Хозяйка горы, Полоз и все их слуги из безразличных хранителей недр превращаются в силу, дружественную горнорабочим и определённо враждебную, противодействующую барину и всем его прислужникам. Естественно поэтому, что в таких сказах появляется много крайне неприятного и невыгодного для заводского начальства. Сказы начинают преследоваться, и поэтому они становятся «тайными»: их передают тайком от начальства, которое обычно изображается в сказах в довольно непривлекательном виде.
Можно думать, что у «тайной силы» сказов была ещё одна нагрузка.
Заводское начальство крепостного времени по своей грамотности стояло не выше рабочих. Оно тоже верило в существование «тайных сил». Поэтому рабочим иногда можно было прикрыться этими «тайными силами». Например, в сказах отмечалось, что в руднике «людей не пороли». Мотивировалось это боязнью начальства лютовать во владениях Хозяйки горы. Нарушивший этот обычай приказчик понёс заслуженное наказание. Причём смерть приказчика и обстоятельства, ей предшествующие, так и тянут сказ к другой, совершенно реальной концовке: «Может, рудничные сами всё это подстроили и приказчика в рудничную зелень затоптали, а на Хозяйку одна слава пущена». Такое же, примерно, положение в сказе «Две ящерки». Там из рудника исчезает прикованный цепями рабочий, потом он появляется в заводе, замораживает печи в медеплавильне и после этого совсем скрывается. Объясняется это чудесным содействием Хозяйки горы, но легко предположить и другое.
«Пустить славу на Хозяйку» рабочим было выгодно и потому, чтобы отвести от себя наказание, и потому, чтобы поддержать и укрепить у невежественного заводского начальства суеверный страх перед «тайными силами», которые помогают рабочим.
Хмелинин не был единственным рассказчиком «тайных сказов» своего района, но бесспорно рассказывал лучше всех, кого мне приходилось слыхать.
Его огромный горняцкий опыт позволял ему встать выше старательских примет, поверий и всех подобных «тайностей». Старик относился к ним критически и никогда не засорял свои сказы «рогатыми лошадьми» и разной кладоискательской рецептурой. В силу этого, в сказах оставалась лишь та исторически ценная часть фантастики, с помощью которой неграмотный горнорабочий прошлого пытался осмыслить непонятные ему явления геологии.
Отбрасывая кладоискательскую шелуху, порой насмехаясь над ней, Хмелинин зато очень живо изображал «тайну силу», как сознательную помощницу рабочих, однако далеко не всех, а только таких, кто не робел перед начальством, не унижался, не жадничал при удаче, честно выполнял свои обязательства перед товарищами по работе.
Большой жизненный опыт, живой ум и несомненный талант художника давали Хмелинину возможность легко и свободно вводить в сказы живые детали из жизни горняков, хорошо видеть и слышать героев своих сказов, в том числе и «тайную силу».
Хмелинин говорил, что «перенял сказы от своих стариков», и это было верно.
Он, конечно, слыхал ещё в детстве всё, что говорилось в Полевском заводе о земельном богатстве и его таинственных хранителях. Отбросив из этого материала кладоискательские «тайности» (приметы и рецепты), он принял на веру все остальное и строго его хранил. Когда, например, старику возражали по поводу «старой дороги», доказывали, что такой тут не могло быть, он всё-таки отстаивал своё, и оказывалось — был прав.
Эта особенность позволяет думать, что и другие исторические детали из периода колонизации завода, из времени Пугачёвского движения так же верны. И вообще сказы кажутся историей, рассказанной крепостными горнорабочими, где отразилась не только беспросветно-тяжёлая жизнь горняка, но его наивная фантастика и его неясная мечта о каких-то иных временах, иных условиях жизни.
Сказы В. А. Хмелинина никем небыли записаны, и это вполне понятно: «Настояще грамотных» в заводе тогда было совсем немного: доктор, учитель мужской школы, две учительницы мужской же школы и две — женской. Вот и все грамотные, кто мог произвести эту запись.
Была, правда, ещё группа заводских служащих, но она по состоянию своей культуры не могла оценить сказы по достоинству. Большинство этих служащих были или вовсе малограмотные «практики заводского дела», или люди «с хорошим почерком и бойким счётом».
Управитель, надзиратель, лесничий были, конечно, чуть пограмотнее, но это уж было начальство, которое свысока смотрело на «старичонку-караульного».
Этим важным людям было не понять, что «неграмотный старичонка» с редкой глубиной прочувствовал и понял жизнь горнозаводского рабочего и, как подлинный художник, сумел передать её и всю историю округа в образах гораздо ярче и правдивее, чем делали это официальные историки. Да, впрочем, Хмелинин и сам не стал бы рассказывать начальству, или рассказал бы так, что записывать нельзя.
Раз мне удалось, притаившись за углом, у заводских магазинов, слышать, как старик рассказывал в присутствии начальства, и я рад, что это больше не повторилось.
Сказ о «Хозяйке медной горы» превратился в такую грубую похабщину, что мне до слез было обидно и за Степана и за Хозяйку, которые так нравились в этом сказе. Когда сказал об этом старику, он спокойно ответил:
— Так ведь тут надзиратель сидел. Разве при нём можно по-доброму-то сказывать? Не для них, поди-ко, это сложено, не им и слушать.
Подобную же маскировку «худыми словами» мне приходилось наблюдать у сысертского песенника-импровизатора Н. Н. Медведева. Обычно скромный в быту и «воздержанный на язык», он всегда был нарочито грубым в своих песенных импровизациях, посвящённых барину, заводскому начальству или попам.
Воспроизведённые по памяти, притом почти через полвека, сказы Хмелинина, конечно, потеряли ценность фольклорного документа. Неизбежно кой-что могло прийти и от других сказителей и от производившего запись. И если даже в таком виде сказы были замечены и вызвали широкий интерес, то это лишь говорит о высокой значимости фольклора, связанного со старыми уральскими рудниками. Мне кажется, и теперь не поздно старательно собрать и самым внимательным образом обработать рассказы стариков около таких старых месторождений, как Меднорудянское, Быньговское и, особенно, Берёзовское и Мурзинское. Бывшая же Турчаниновская Медная гора настоятельно требует своей полной истории.
1939 г.
Дорогое имячко
то ещё в те годы было, когда тут стары люди жили. На том, значит, пласту, где поддёрново золото теперь находят.
Золота этого… кразелитов… меди… полно было.
Бери, сколько хочешь. Ну, только стары люди к этому несвычны были. На что им? Кразелитами хоть ребятишки играли, а в золоте никто и вовсе толку не знал. Крупинки жёлтенькие, да песок, а куда их? Самородок фунтов несколько, а то и полпуда лежит, примерно, на тропке, и никто его не подберёт. А кому помешал, так тот его сопнёт в сторону— только и заботы. А то ещё такая, слышь-ко, мода была. Собираются на охоту и наберут с собой этих самородков. Они, видишь, маленькие, а увесистые. В руках держать ловко и бьют ёмко. Присадит таким, так большого зверя собьёт. Очень просто. Оттого нынче и находят самородки в таких местах, где бы вовсе ровно золоту быть не должно. А это стары люди разбросали, где пришлось.
Медь самородну, ту добывали маленько. Топоры, слышь-ко, из неё делали, орудию разную. Ложки-поварёшки, всякую домашность тоже.
Гумёшки-то нам от старых людей достались. Только, конечно, шахты никакой не били, сверху брали, не как в нонешнее время.
Зверя добывали, птицу-рыбу ловили, тем и питались Пчёлы дикой множина была. Мёду — сколько добудешь. А хлеба и званья не было. Скотину: лошадей, напримерно, коров, овцу — не водили. Понятия такого у них не было.
Были они не русськи и не татара, а какой веры-обычая и как прозывались, про то никто не знат. По лесам жили. Однем словом, стары люди.
Домишек у них, либо обзаведенья какого — банёшек там, погребушек — ничего такого и в заводе не было. В горах жили. В Думной горе пещера есть. С реки ход-от был. Теперь его не видно, — соком завалили. Поди, сажен уж на десять. А самоглавная пещера в Азов-rope была. Огромаднейшая — под всюё гору шла. Теперь ход-от есть, только обвалился будто маленько. Ну, там дело тайное. Об этом и сказ будет.
Вот живут себе стары люди, никого не задевают, себя сильно не оказывают. Только стали по этим местам другие народы проявляться. Сперва татара мимо заездили: по подгорью от Думной горы к Азов-rope тропу протоптали. С полдня на полночь, как из оружия стрелено. Теперь этой тропы не знатко, а старики от дедов своих слыхали, будто ране-то видно было. Широкая, слышь-ко, тропа была, чисто трахт какой, без канав только.
Ну, ездят и ездят татара. В одну сторону одни товары везут, в другу — други, а насчёт золота ничего. Видно, сами не толкуют, либо случая такого не подошло. Стары люди сперва прихоронились. Потом видят, — никто их не задеват — стали жить потихоньку. Птицу-рыбу полавливают, золотыми камнями зверя глушат, медными топорами добивают.
Вдруг татара что-то сильно закопошились. Целыми утугами на полночь пошли, и все с копьями, с саблями, как на войну. Мало спустя обратно побежали. Гонят, свету не видят. А это Ермак с казаками на Сибирь пришёл и всех тамошних татар побил. Которые пособлять своим приходили, и тех досмерти перепугал. Как дело тогда внове было— из ружья стрелять, татара этой стрельбы и забоялись.
Казаки, слышь-ко, ране вольные были, и на Сибирь они уж проданные пришли. Купцам продалися, а царь их вовсе задарил. Набольшему — Ермаку-то — свою серебряную рубаху царь послал. Так Ермак той рубахи с себя не сымал. Гордился, значит. Так и утоп в ей — в царском-то подареньи.
Как умер Ермак, тут баловство и развелось. Ну, мало ли худых людишек к казакам налипло. Они и давай хозяевать, как кому любо. Возьмут, кого им надо, за горло. Подавай того-другого. Баб хватают, девчонок, вовсе подлетков и протча. Однем словом, баловство развели — хуже некуда.
Одна такая ватажка и объявилась в здешних местах. Небольшая ватажка, — пеши пришли; а вожак, видать, грабастенькой попался. Эти сразу золото сметили. Хватовщина пошла, чуть до смертоубойства не дошло. Потом образумились, видят — золота много, с собой не унесёшь. Что делать? Туда-сюда зачали соваться, нет ли где жила близко, лошадей добыть. И набежали так-то на старых людей. Сейчас спрашивать, конечно:
— Что за народ? Какой веры-племени? Какому царю ясак даёшь?
Стали так-то наступать на старых людей. Те им своё маячат, — дескать, ваша нам не нужна, наша вам не мешат, проходите мимо. Казачишки опять на испуг берут. Из оружья пальнули. Стары люди испужались, в гору побежали. Казачишки за ими, думают, так и есть — победили, а не тут-то было. Стары люди смелые были. Это они сперва только испужались. Думали, огонь, напримерно, с неба. Ну, потом отошли. И здоровые были — куда нашим, русським-то. В полтора раза, может, больше.
Добежали, значит, до пещеры своей, да как начали казачишек золотыми камнями пушить, знай, держись. Чуть не всех заколотили казаков-то. Двое либо трое всё-таки убежали. А стары люди и гнаться за ими не думали. Утурили — и ладно. Пущай-де идут, куда им надо. Лишь бы к нам больше не лезли. Подивились на убитых, что у них нахватано у каждого жёлтых камешков через число, как только тащили экую тягость, а того не смекнули, на что им эти камни. По-своему думали, что тоже для бою набрали. Осмотрели оружья убитых, а одно было заряжено. Вот один из старых людей вертел-вертел оружьё-то, копался-копался, оно и пальнуло. Сполоху наделало, самого маленько ушибло, а никого не убило. Тут стары люди и домекнули, что эго не с неба огонь. Стали доходить, как бы ещё пальнуть. Оснимали мёртвых, всё перещупали, осмотрели, обнюхали. Порох нашли, свинец рубленый, а что к чему, так и не добрались.
А те трое-то, которые убежали, вышли-таки к своим. Обсказали своему начальнику. — Напали, дескать, на нас незнамые люди и чуть не всех побили. Трое вот только и выбежали. — Начальник, — может, он пьяный был — «ладно», — говорит. Время, конечно, военное — Сибирь-покоренье-то. Мало ли всяких случаев было. Побили и побили. На том дело и заглохло. А про золото те не сказали. Думают, так и есть — погуляем, потешимся. Только золото, оно и золото. Хоть веско, а само кверху лезет. Его, видишь, первым делом разменять требуется. Тут они оха и поймали. Хватили самородки покрупнее, а как с таким объявишься? Сейчас спросы-расспросы, где взял… Догадались всё-таки. Раскрошили самородки на мелочь да и понесли купцам продавать. А уж таиться стали один от другого. Известно, золото. Один к одному купцу пришёл, другой к этому же и третий тоже. Да так всех купцов и обошли. Купцы, конечно, — с полным нашим удовольствием. Деньги, значит, дают, а сами примечают. Денег наменяли — куда их? Оделись, перво-наперво, как только кто удумал, и занялись пьянством да гулянкой. Из кабака, напримерно, не выходят и кого доходя поят. Ну, другим казакам и стало подозрительно, — откуда у людей такие деньги! Стали дознаваться, а у пьяных долго ли… Выведали всё до тонкости и тоже ватажку сбивать стали: за золотом, значит, сходить.
Не все, конечно, казаки одинаковы были. Один, — не знаю, как его звать-величать, — из Соликамска к ним пристал. Пошёл за хорошей жизней, а видит, тут грабёж да пьянство, и отшатился от казаков.
Услышал, что опять собираются грабить, и стал их совестить.
— Как, дескать, вам не стыдно. Раньше купцов да бояр оглаживали, а теперь что? У здешнего народу с кровью рвать да купцам барыш давать? Так, что ли?
Тем, конечно, не по носу табак, а как все оборужённые, то сейчас у них свалка пошла, с саблями и другой орудией. Ну, соликамской-от этот парень проворный был, удалой. Ото всех отбился, только сильно его изранили. Он в лес и убрался, чтобы его не нашли. Леса страшенные были— где найдёшь! Побегали-побегали казачишки, пошумели и разошлись, а тот, раненый-то, думает, как дальше быть? Показаться в жиле— наверняка убьют, а то и под палача подведут — за разговор-от. Вот и придумал:
— Пойду к тем людям, которых грабить собираются. Упрежу их.
Дорогу он понял, куда то-есть итти собирались. Путь всё-таки не ближняя, а запасу у него, например, никакого. Отощал в дороге, да ещё и раны донимают.
Еле идёт. Полежит-полежит и опять плетётся. У самой Азов-горы — вот у того места — совсем свалился.
Увидали стары люди — чужестранный человек лежит, весь кровью измазанный и оружье с им. А бабы набежали первые-то. Баба, известно, у всякого народа жалостливее и за ранеными ходить любит. Тут ещё девка случилась, ихнего старшины дочь. Смелая такая, расторопная, хоть штаны на такую надевай. И красивая — страсть. Глаза, как угольки, щёки, как розан расцвёл, коса до пяток и вся протча в полном аккурате. Лучше нельзя. Плясать первая мастерица, а ежели песню заведёт с переливами, ну… Однем словом, любота. Одно плохо, — сильно большая была. Прямо сказать, великанша. И как раз девка на выданьи. Восемнадцатый год доходил. Самая, значит, пора. Ну, ей и приглянулся, видно, пришлый-то. А он тоже, по-нашему, мужик рослый был. Из себя чистый, волосом кудрявый, глаза открытые. Ей и любопытно стало. Пока другие бабы охали да ахали, эта девка сгребла раненого в охапку, притащила в пещеру и давай за им ходить — водой там смачивать, раны перевязывать. Отец-мать ничего, будто так и надо. Соседи тоже помалкивают и помогают, подают то — другое. Бабам, вишь, жалко, а у мужиков своё на уме: не научит ли, как огонь пущать.
Раненый мало-помалу оклемался. Видит, какие-то вовсе незнамые люди. Рослые против наших и по-татарски бельмень. Сам-то он мараковал маленько по-татарски. На то и надеялся, когда шёл в эти места. Ну, делать нечего, стал маяками дознаваться, как и что они прозывают. Учиться, значит, стал по-ихнему. А девка от его не отходит, прямо прилипла. И он тоже человек молодой, к ей тянется. Поправа, однако, плохо идёт. Главная причина — хлебушка у их не было. Притащит это ему девка пищи самолучшей. Рыбы, мяса наставит, мёду чашку вскрай полнёхоньку, а его с души воротит. Ему бы хоть яшничка ломоток. Просит у ей, а она не понимает, какой есть хлеб. Заплачет даже. Это она-то. Известно, русському человеку без хлебушка невозможно. Какая уж тут поправа. Ну, всё-таки ходить стал и к разговору мало-мало обык, а девка обратно от его русський разговор переняла да так скоро, что просто удивленье. Такая уж удачливая была и, видать, не простая. Тайная сила в ей, видно, гнездовала.
Стал это он — соликамской-от — ходить. Оглядел всю местность, показал, как с оружьем поступать, и весь установ объяснил, что и как.
— Эти, — говорит, — камни жёлтые, крупа, песок и зелёненькие стёклышки — это есть самое вредное для вас. Купцы раз унюхали, они уж спокою не дадут. А до царя дойдёт — и вовсе житья не станет. Вы, — говорит, — вот что сделайте. Камни эти, самородки-то, значит, куда с глаз уберите. Хоть вон в Азов-гору стаскайте. И кразелиты туда же сгребите. А крупу и песок зарыть надо. Снизу чёрной земли выворотить, чтобы травой заросло. А пока всё это не угоите, никаких чужестранных близко не подпускайте. Бейте их, всё одно, как зверя. Чтобы нечаянно не пришли, поставьте, — говорит, — на Думной горе и на Азов-горе караулы надёжные. Пущай досматривают по дороге, не идёт ли кто, а как заметят чужестранного, пущай знак подают — костерок запалят. Ну, тогда всем наготове быть и этих чужестранных бить насмерть. Хуже они зверя всякого при вашем-то положении.
Девка всё это растолмачила своим. Они видят, человек для их старается — послушались. Караулы поставили, как он сказал, а сами занялись самородное золото да кразелиты подбирать, да в Азов-гору стаскивать. Штабеля наворотили — глядеть страшно и кразелитов насыпали, как угольну кучу. Потом оставшую крупу и песок зарыли, а чужих на то время близко не подпускали. Увидят с Азов-горы либо с Думной, кто идёт ли, едет ли, — сейчас знак подадут, огнём, значит. Все и бегут, в которую сторону надо. Навалятся и в одночасье прикончат. Прикончат и в землю зароют. Оружьев они уж тогда не боялись.
Только ведь золото-то человеку, как мухе патока. Сколь ни гинут, а пуще лезут. Так и тут. Много людей сгинуло, а другие идут да идут. Это, значит, слушок про золото дальше да дальше идёт. Кто-то, видно, до царя дотолкал. Тут вовсе худо стало— с пушками полезли. Со всех сторон напирают. Даром, что лес страшенный, нашли пути-дороги.
Видят стары люди — дело неминучее, сила не берёт. Пошли к раненому-то посоветовать, как дальше быть-поступать. А он на то время на Думной горе был. Для воздуху его девка-то туда притащила, как он вовсе слабый стал. Азов-гора, она сроду в лесу, а на Думной-то на камнях ветерком обдувает. Девка и таскала его. Отходить его всё охота было.
Думали они тут целых три дня. Оттого и гора Думной зовётся. Раньше по-другому как-то у ей имя было. Обмозговали всё по порядку и придумали переселиться на новые места, где золота совсем нет, а зверя, птицы и рыбы вдосталь. Он же надоумил— Соликамской-от — и рассказал, в котору сторону податься. На этом дело решили и в путь-дорогу сряжаться стали.
Хотели стары люди этого своего радельца с собой унести, да он не пожелал.
— Смерть, — говорит, — чую близкую, да и нельзя мне. — Почему нельзя, этого не сказал. А девка объявила:
— Никуда не пойду.
Мать, сёстры в рёв, отец пригрожать стал, братья уговаривают:
— Что ты, что ты, сестра! Вся жизнь у тебя впереди.
Ну она на своём стоит.
— Такая моя судьба-доля. Никуда от своего милого не отойду.
Сказала, как отрезала. Кремень-девка. По всем статьям вышла. Такую в нонешнем народе, поди, и не найдёшь. Родные видят — ничего не поделаешь. Простились с ней честно-благородно, а сами думают— всё равно она порченая. У которой ведь девушки жених умирает, так та хуже вдовы. На всю жизнь у ей это горе останется.
Вот ушли все, а эти вдвоём в Азов-горе остались. Людишки уж со всех сторон набились в те места. Лопатами роют, друг дружку бьют.
Раненый-то вовсе ослаб. Вот и говорит своей наречённой:
— Прощай, милая моя невестушка! Не судьба, знать, нам пожить, помиловаться, деток взростить.
Она, конечно, всплакнула женским делом и всяко его уговаривает:
— Не беспокой себя, любезный друг. Выхожу тебя, поживём сколь-нибудь.
А он опять ей:
— Нет уж, моя хорошая, не жилец я на этом свете. Теперь и хлебушком меня не поправить. Свой час чую. Да и не пара мы с тобой. Ты вон какая выросла, а я супротив тебя ровно малолеток какой. По нашему закону-обычаю так-то не годится, чтобы жена мужа, как ребёнка, на руках таскала. Подождать, видно, тебе причтётся и не малое время подождать, когда в пару тебе в нашей земле мужики вырастут.
Она это совестит его:
— Что ты, что ты! Про такое и думать не моги. Да чтоб я окроме тебя…
А он опять своё:
— Не в обиду, — говорит, — тебе, моя милая невестушка, речь веду, а так оно быть должно. Открылось мне это, когда я поглядел, как вы тут по золоту без купцов ходите. Будет и в нашей стороне такое времячко, когда ни купцов, ни царя даже званья не останется. Вот тогда и в нашей стороне люди большие да здоровые расти станут. Один такой подойдёт к Азов-горе и громко так скажет твоё дорогое имячко. И тогда зарой меня в землю и смело и весело иди к нему. Это и будет твой суженый. Пущай тогда всё золото берут, если оно тем людям на что-нибудь сгодится. А пока прощай, моя ласковая. — Вздохнул в остатный раз и умер, как уснул. И в туё ж минуту Азов-гора замкнулась.
Он, видать, неспроста это говорил. Мудрёный человек был, не иначе, с тайной силой знался. Соликамски-то, они дошлые на эти дела. В лесах живут, с колдунами знаются.
Так с той поры в нутро Азов-горы никто попасть и не может. Ход-от в пещеру и теперь знатко, только он будто осыпался. Пойдёт кто, осыпь зашумит, и страшно станет. Так впусте гора и стоит. Лесом заросла. Кто не знает, так и не подумает, что там, в нутре-то.
А там, слышь-ко, пещера огромадная. И всё хорошо облажено. Пол, напримерно, гладкий-прегладкий, из самого лучшего мрамору, а посредине ключ, и вода, как слеза. А кругом золоты штабеля понаторканы, как вот на площади дрова, и тут же, не мене угольной кучи, кразелитов насыпано. И как-то устроено, что светло в пещере. И лежит в той пещере умерший человек, а рядом девица неописанной красоты сидит и не утыхаючи плачет, а совсем не старится. Как был ей восемнадцатый годок в доходе, так и остался.
Охотников в ту пещеру пробраться много было. Всяко старались. Штольни били — не вышло толку. Даже диомит, слышь-ко, не берёт. Хотели обманом богатство добыть. Придут это к горе да и кричат слова разные, как почуднее. Думают, не угадаю ли, дескать, дорогое имячко, которое само пещеру откроет. Известно, дураки. Сами потом как без ума станут. Болбочут, а что — разобрать нельзя. Имена, слышь-ко, всё выдумывают.
Нет, видно, крепкое заклятие на то дело положено. Пока час не придёт, не откроется Азов-гора.
Одинова только знак был. Это когда ещё батюшка Омельян Иваныч объявился, и рабочие на Думной горе собираться стали. Так вот старики наши сказывали, будто на то время из Азов-горы как песня слышалась. Ровно мать с ребёнком играет и весёлую байку поёт.
С той поры не было. Всё стонет да плачет. Когда крепость сымали, нарочно многие ходили к Азов-горе послушать, как там. Нет, всё стонет. Ещё ровно жалобнее.
Оно и верно. Денежка похуже барской плётки народ гонит. И чем дальше, тем ровно больше силу берёт. Наши вон отцы-деды в мои годы по печкам сидели, а я на Думной горе караул держу. Потому каждому до самой смерти пить-есть охота.
Да, не дождаться мне, вижу, когда Азов-гора откроется… Не дождаться! Хоть бы песенку повеселее оттуда услышать довелось.
Ваше дело другое. Вы молоденькие. Может, вам и посчастливит — доживёте до той поры.
Отнимут, поди-ка, люди у золота его силу. Помяни моё слово, отнимут! Соликамской-от с умом говорил.
Кто вот из вас доживёт, тот и увидит клад Азов-горы. Узнает и дорогое имячко коим богатства открываются.
Так-то… Не простой это сказ. Шевелить надо умишком-то, — что к чему.
1936 г.
Про великого Полоза
ил в заводе мужик один. Левонтьем его звали. Старательный такой мужичок, безответный. Смолоду его в горе держали, на Гумёшках то-есть. Медь добывал. Так под землёй все молодые годы и провёл. Как червяк в земле копался. Свету не видел, позеленел весь. Ну, дело известное, — гора. Сырость, потёмки, дух тяжёлый. Ослаб человек. Приказчик видит — мало от его толку, и удобрился перевести Левонтия на другую работу, — на Поскакуху отправил, на казённый прииск золотой. Стал, значит, Левонтий на прииске робить. Только это мало делу помогло. Шибко уж он нездоровый стал. Приказчик поглядел-поглядел да и говорит:
— Вот что, Левонтий, старательный ты мужик, говорил я о тебе барину, а он и придумал наградить тебя. Пускай, говорит, на себя старается. Отпустить его на вольные работы, без оброку.
Это в ту пору так делывали. Изробится человек, никуда его не надо, ну, и то пустят на вольную работу.
Вот и остался Левонтий на вольных работах. Ну, пить-есть надо, да и семья того требует, чтобы где-нибудь кусок добыть. А чем добудешь, коли у тебя ни хозяйства, ничего такого нет. Подумал-подумал, пошёл стараться, золото добывать. Привычное дело с землёй-то, струмент тоже не ахти какой надо. Расстарался, добыл и говорит ребятишкам:
— Ну, ребятушки, пойдём, видно, со мной золото добывать. Может, на ваше ребячье счастье и расстараемся, проживём без милостины.
А ребятишки у него вовсе ещё маленькие были. Чуть побольше десятка годов им.
Вот и пошли наши вольные старатели. Отец еле ноги передвигает, а ребятишки — мал-мала меньше — за ним поспешают.
Тогда, слышь-ко, по Рябиновке верховое золото сильно попадать стало. Вот туда и Левонтий заявку сделал. В конторе тогда на этот счёт просто было. Только скажи да золото сдавай. Ну, конечно, и мошенство было. Как без этого. Замечали конторски, куда народ бросается, и за сдачей следили. Увидят — ладно пошло, сейчас то место под свою лапу. Сами, говорят, тут добывать будем, а вы ступайте куда в другое место. Заместо разведки старатели-то у них были. Те, конечно, опять свою выгоду соблюдали. Старались золото не оказывать. В контору сдавали только, чтобы сдачу отметить, а сами всё больше тайным купцам стуряли. Много их было, этих купцов-то. До того, слышь-ко, исхитрились, что никакая стража их уличить не могла. Так, значит, и катался обман-от шариком. Контора старателей обвести хотела, а те опять её. Вот какие порядки были. Про золото стороной дознаться только можно было.
Левонтию, однако, не потаили — сказали честь-честью. Видят, какой уж он добытчик. Пускай хоть перед смертью потешится.
Пришёл это Левонтий на Рябиновку, облюбовал место и начал работать. Только силы у него мало. Живо намахался, еле жив сидит, отдышаться не может. Ну, а ребятишки, какие они работники? Всё-таки стараются. Поробили так-то с неделю либо больше, видит Левонтий — пустяк дело, на хлеб не сходится. Как быть? А самому всё хуже да хуже. Исчах совсем, но неохота по миру итти и на ребятишек сумки надевать. Пошёл в субботу сдать в контору золотишко, какое намыл, а ребятам наказал:
— Вы тут побудьте, струмент покараульте, а то таскать-то его взад-вперёд ни к чему нам.
Остались, значит, ребята караульщиками у шалашика. Сбегал один на Чусову-реку. Близко она тут. Порыбачил маленько. Надёргал пескозобишков, окунишков, и давай они ушку себе гоношить. Костёр запалили, а дело к вечеру. Боязно ребятам стало.
Только видят — идёт старик, заводской же, Семёнычем его звали, а как по фамилии — не упомню. Старик этот из солдат был. Раньше-то, сказывают, самолучшим кричным мастером значился, да согрубил что-то приказчику, тот его и велел в пожарную отправить — пороть, значит. А этот Семёныч не стал даваться, рожи которым покарябал, как он сильно проворный был. Известно, кричный мастер. Ну, всё-таки обломали. Пожарники-то тогда здоровущие подбирались. Выпороли, значит, Семёныча и за буйство в солдаты сдали. Через двадцать пять годов он и пришёл в завод-от вовсе стариком, а домашние у него за это время все примерли, избушка заколочена стояла. Хотели уж её разбирать. Шибко некорыстна была. Тут он и объявился. Подправил свою избушку и живёт потихоньку, один-одинёшенек. Только стали соседи замечать— неспроста дело. Книжки какие-то у него. И каждый вечер он над ими сидит. Думали, может, умеет людей лечить. Стали с этим подбегать. Отказал: «Не знаю, — говорит, — этого дела. И какое тут может леченье быть, коли такая ваша работа». Думали, — может, веры какой особой. Тоже не видно. В церкву ходит о пасхе да о рождестве, как обыкновенно мужики, а приверженности не оказывает. И тому опять дивятся — работы нет, а чем-то живёт. Огородишко, конечно, у него был. Ружьишко немудрящее имел, рыболовную снасть тоже. Только разве этим проживёшь? А деньжонки, промежду прочим, у него были. Бывало, кой-кому и давал. И чудо этак. Иной просит-просит, заклад даёт, набавку, какую хошь, обещает, а не даст. К другому сам придёт.
— Возьми-ка, Иван или там Михайло, на корову. Ребятишки у тебя маленькие, а подняться, видать, не можешь. — Одним словом, чудной старик. Чертознаем его считали. Это больше за книжки-то.
Вот подошёл этот Семёныч, поздоровался. Ребята радёхоньки, зовут его к себе:
— Садись, дедушко, похлебай ушки с нами.
Он не посупорствовал, сел. Попробовал ушки и давай нахваливать — до чего-де навариста да скусна. Сам из сумы хлебушка мяконького достал, ломоточками порушал и перед ребятами грудкой положил. Те видят — старику ушка поглянулась, давай уплетать хлебушко-то, а Семёныч одно своё — ушку нахваливает, давно, дескать так-то не едал. Ребята под этот разговор и наелись как следует. Чуть не весь стариков хлеб съели. А тот, знай, похмыкивает:
— Давно так-то не едал.
Ну, наелись ребята, старик и стал их спрашивать про их дела. Ребята обсказали ему всё по порядку, как отцу от заводской работы отказали и на юлю перевели, как они тут работали. Семёныч только головой покачивает да повздыхивает: охо-хо, да охо-хо. Под конец спросил:
— Сколь намыли?
Ребята говорят:
— Золотник, а может поболе, — так тятенька сказывал.
Старик встал и говорит:
— Ну, ладно, ребята, надо вам помогчи. Только вы уж помалкивайте. Чтоб ни-ни. Ни одной душе живой, а то… — и Семёныч так на ребят поглядел, что им страшно стало. Ровно вовсе не Семёныч это. Потом опять усмехнулся и говорит:
— Вот что, ребята, вы тут сидите у костерка и меня дожидайтесь, а я схожу — покучусь кому надо. Может, он вам поможет. Только, чур, не бояться, а то всё дело пропадёт. Помните это хорошенько.
И вот ушёл старик в лес, а ребята остались. Друг на друга поглядывают и ничего не говорят. Потом старший насмелился и говорит тихонько:
— Смотри, братко, не забудь чтобы, не бояться, — а у самого губы побелели и зубы чакают. Младший на это отвечает:
— Я братко, не боюсь, — а сам помучнел весь.
Вот сидят так-то, дожидаются, а ночь уж совсем, и тихо в лесу стало. Слышно, как вода в Рябиновке шумит.
Прошло довольно дивно времечка, а никого нет, у ребят испуг и отбежал. Навалили они в костёр хвои, ещё веселее стало. Вдруг слышат— в лесу разговаривают. Ну, думают, какие-то идут. Откуда в экое время? Опять страшно стало.
И вот подходят к огню двое. Один-то Семёныч, а другой с ним незнакомый какой-то и одет не по-нашенски. Кафтан это на ём штаны — всё жёлтое, из золотой, слышь-ко, поповской парчи, а поверх кафтана широкий пояс с узорами и кистями, тоже из парчи, только с зеленью. Шапка жёлтая, а справа и слева красные зазорины, и сапожки тоже красные. Лицо жёлтое, в окладистой бороде, а борода вся в тугие кольца завилась. Так и видно, не разогнёшь их. Только глаза зелёные и светят, как у кошки. А смотрят по-хорошему, ласково. Мужик такого же росту, как Семёныч, и нетолстый, а, видать, грузный. На котором месте стал, под ногами у него земля вдавилась. Ребятам всё это занятно, они и бояться забыли, смотрят на того человека, а он и говорит Семёнычу шуткой так:
— Это вольны-то старатели? Что найдут, всё заберут? Никому не оставят?
Потом прихмурился и говорит Семёнычу, как советует с им:
— А не испортим мы с тобой этих ребятишек?
Семёныч стал сказывать, что ребята не балованные, хорошие, а тот опять своё.
— Все люди на одну колодку. Пока в нужде да в бедности, ровно бы и ничего, а как за моё охвостье поймаются, так откуда только на их всякой погани налипнет.
Постоял, помолчал и говорит:
— Ну, ладно, попытаем. Малолетки, может, лучше окажутся. А так ребятки ладненьки, жалко будет, ежели испортим. Меньшенький-то вон тонкогубик. Как бы жадный не оказался. Ты уж понастуй сам, Семёныч. Отец-то у них не жилец. Знаю я его. На ладан дышит, а тоже старается сам кусок заработать. Самостоятельный мужик. А вот дай ему богатство — тоже испортится.
Разговаривает так-то с Семёнычем, будто ребят тут и нет. Потом посмотрел на них и говорит:
— Теперь, ребятушки, смотрите хорошенько. Замечайте, куда след пойдёт. По этому следу сверху и копайте. Глубоко не лезьте, ни к чему это.
И вот видят ребята — человека того уж нет. Которое место до пояса — всё это голова стала, а от пояса шея. Голова точь-в-точь такая, как была, только большая, глаза ровно по гусиному яйцу стали, а шея змеиная. И вот из-под земли стало выкатываться тулово преогромного змея. Голова поднялась выше леса.
Потом тулово выгнулось прямо на костёр, вытянулось по земле, и поползло это чудо к Рябиновке, а из земли всё кольца выходят да выходят. Ровно им и конца нет. И то диво, костёр-то потух, а на полянке светло стало. Только свет не такой, как от солнышка, а какой-то другой, и холодом потянуло. Дошёл змей до Рябиновки и полез в воду, а вода сразу и замёрзла по ту и по другую сторону. Змей перешёл на другой берег, дотянулся до старой берёзы, которая тут стояла, и кричит:
— Заметили? Тут вот и копайте! Хватит вам по сиротскому делу. Чур, не жадничайте!
Сказал так-то и ровно растаял. Вода в Рябиновке опять зашумела, и костерок оттаял и загорелся, только трава будто всё ещё озябла, как иней её прихватил.
Семёныч и объясняет ребятам:
— Это есть Великий Полоз. Всё золото в его власти. Где он пройдёт — туда оно и подбежит. А ходить он может и по земле и под землёй, как ему надо, и места может окружить, сколько хочет. Оттого вот и бывает — найдут, например, люди хорошую жилку, и случится у них какой обман либо драка, а то и смертоубойство, и жилка потеряется. Это, значит, Полоз побывал тут и отвёл золото. А то вот ещё… Найдут старатели хорошее, россыпное золото, ну, и питаются. А контора вдруг объявит — уходите, мол, за казну это место берём, сами добывать будем. Навезут это машин, народу нагонят, а золота-то и нету. И вглубь бьют и во все стороны лезут — нету, будто вовсе не бывало. Это Полоз окружил всё то место да пролежал так-то ночку, золото и стянулось всё по его-то кольцу. Попробуй, найди, где он лежал.
Не любит, вишь, он, чтобы около золота обман да мошенство были, а пуще того, чтобы один человек другого утеснял. Ну, а если для себя стараются, тем ничего, поможет ещё когда, вот как вам. Только вы смотрите, молчок про эти дела, а то всё испортите. И о том старайтесь, чтобы золото не рвать. Не на то он вам его указал, чтобы жадничали. Слышали, что говорил-то? Это не забывайте первым делом. Ну, а теперь спать ступайте, а я посижу тут у костерка.
Ребята послушались, ушли в шалашик, и сразу на их сон навалился. Проснулись поздно. Другие старатели уж давно работают. Посмотрели ребята один на другого и спрашивают:
— Ты, братко, видел вчера что-нибудь?
Другой ему:
— А ты видел?
Договорились всё-таки. Заклялись, забожились, чтобы никому про то дело не сказывать и не жадничать, и стали место выбирать, где дудку бить. Тут у них маленько спор вышел. Старший парнишечко говорит:
— Надо за Рябиновкой у берёзы начинать. На том самом месте, с коего Полоз последнее слово сказал.
Младший уговаривает:
— Не годится так-то, братко. Тайность живо наружу выскочит, потому — другие старатели сразу набегут полюбопытствовать, какой, дескать, песок пошёл за Рябиновкой. Тут всё и откроется.
Поспорили так-то, пожалели, что Семёныча нет, посоветовать не с кем, да и углядели, — как раз по серёдке вчерашнего огневища воткнут берёзовый колышек.
— Не иначе, это Семёныч нам знак оставил, — подумали ребята и стали на том месте копать.
И сразу, слышь-ко, две золотые жужелки залетели, да и песок пошёл не такой, как раньше. Совсем хорошо у них дело сперва направилось. Ну, потом свихнулось, конечно. Только это уж другой сказ будет.
1936 г.
Медной горы Хозяйка
ошли раз двое наших заводских траву смотреть. А покосы у них дальние были. За Северушкой где-то.
День праздничный был, и жарко — страсть. Парун чистый. А оба в горе робили, на Гумёшках то-есть. Малахит-руду добывали, лазоревку тоже. Ну, когда и королёк с витком попадали и там протча, что подойдёт.
Один-от молодой парень был, неженатик, а уж в глазах зеленью отливать стало. Другой постарше. Этот и вовсе изробленный. В глазах зелено, и щёки будто зеленью подёрнулись. И кашлял завсе тот человек.
В лесу-то хорошо. Пташки поют-радуются, от земли воспарение, дух легкий. Их, слышь-ко, и разморило. Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железну руду добывали. Легли, значит, наши-то на травку под рябиной да сразу и уснули. Только вдруг молодой, — ровно его кто под бок толкнул, — проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе видать — девка. Коса ссиза-чёрная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зелёные. Сквозь светеют и тонко этак позванивают, будто листовая медь. Дивится парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо — на месте не посидит. Вперёд наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок изогнётся, на другой. На ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Однем словом, артуть-девка. Слыхать — лопочет что-то, а по-каковски — не известно, и с кем говорит — не видно. Только смешком всё. Весело, видно, ей.
Парень хотел было слово молвить, вдруг его как по затылку стукнуло.
— Мать ты моя, да ведь это сама Хозяйка! Её одёжа-то. Как я сразу не приметил? Отвела глаза косой-то своей.
А одёжа, и верно, такая, что другой на свете на найдёшь. Из шёлкового, слышь-ко, малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на-глаз, как шёлк, хоть рукой погладить.
«Вот, — думает парень, — беда! Как бы только ноги унести, пока не заметила». От стариков он, вишь, слыхал, что Хозяйка эта — малахитница-то — любит над человеком мудровать.
Только подумал так-то, она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой:
— Ты что же, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пялишь? За погляд-от ведь деньги берут. Иди-ка поближе. Поговорим маленько.
Парень испужался, конечно, а виду не оказывает. Крепится. Хоть она и тайна сила, а всё-таки девка. Ну, а он парень — ему, значит, и стыдно перед девкой обробеть.
— Некогда, — говорит, — мне разговаривать. Без того проспали, а траву смотреть пошли.
Она посмеивается, а потом и говорит:
— Будет тебе наигрыш вести. Иди, говорю, дело есть.
Ну, парень видит — делать нечего. Пошёл к ней, а она рукой маячит, обойди-де руду-то с другой стороны. Он и обошёл и видит — ящерок тут несчисленно. И всё, слышь-ко, разные. Одни, например, зелёные, другие голубые, которые в синь впадают, а то как глина либо песок с золотыми крапинками. Одни, как стекло либо слюда, блестят, а другие, как трава поблёклая, а которые опять узорами изукрашены.
Девка смеётся.
— Не расступи, — говорит, — моё войско, Степан Петрович. Ты вон какой большой да тяжёлый, а они у меня маленьки. — А сама ладошками схлопала, ящерки и разбежались, дорогу дали.
Вот подошёл парень поближе, остановился, а она опять в ладошки схлопала да и говорит и всё смехом:
— Теперь тебе ступить некуда. Раздавишь мою слугу — беда будет.
Он поглядел под ноги, а там и земли незнатко. Все ящерки-то сбились в одно место, — как пол узорчатый под ногами стал. Глядит Степан — батюшки, да ведь это руда медная! Всяких сортов и хорошо отшлифована. И слюдка тут же, и обманка, и блёски всякие, кои на малахит походят.
— Ну, теперь признал меня, Степанушко? — спрашивает малахитница, а, сама хохочет-заливается. Потом, мало погодя, и говорит:
— Ты не пужайся. Худого тебе не сделаю.
Парню забедно стало, что девка над ним насмехается да ещё слова такие говорит. Сильно он осердился, закричал даже:
— Кого мне бояться, коли я в горе роблю!
— Вот и ладно, — отвечает малахитница. — Мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра, как в гору спускаться, будет тут ваш заводской приказчик, ты ему скажи, да, смотри, не забудь слов-то: «Хозяйка, мол, медной горы заказывала тебе, душному козлу, чтобы ты с Красногорского рудника убирался. Ежели ещё будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в Гумёшках туда спущу, что никак её не добыть».
Сказала это и прищурилась:
— Понял ли, Степанушко? В горе, говоришь, робишь, никого не боишься? Вот и скажи приказчику, как я велела, а теперь иди да тому, который с тобой, ничего, смотри, не говори. Изробленный он человек, что его тревожить да в это дело впутывать. И так вон лазоревке сказала, чтоб она ему маленько пособила.
И опять похлопала в ладошки, и все ящерки разбежались. Сама тоже на ноги вскочила, прихватилась рукой за камень, подскочила и тоже, как ящерка, побежала по камню-то. Вместо рук-ног — лапы у её зелёные стали, хвост высунулся, по хребтине до половины чёрная полоска, а голова человечья.
Забежала на вершину, оглянулась и говорит:
— Не забудь, Степанушко, как я говорила. Велела, мол, тебе, — душному козлу, — с Красногорки убираться. Сделаешь по-моему, замуж за тебя выйду!
Парень даже сплюнул вгорячах:
— Тьфу ты, погань какая! Чтоб я на ящерке женился.
А она видит, как он плюётся, и хохочет.
— Ладно, — кричит, — потом поговорим. Может, и надумаешь?
И сейчас же за горку, только хвост зелёный мелькнул.
Парень остался один. На руднике тихо. Слышно только, как за грудкой руды другой-то похрапывает. Разбудил его. Сходили на свои покосы, посмотрели траву, к вечеру домой воротились, а у Степана одно на уме: как ему быть? Сказать приказчику такие слова — дело не малое, а он ещё, — и верно, — душной был — гниль какая-то в нутре у него, сказывают, была. Не сказать — тоже боязно. Она ведь Хозяйка. Какую хошь руду может в обманку перекинуть. Выполняй тогда уроки-то. А хуже того, стыдно перед девкой хвастуном себя оказать.
Думал-думал, насмелился:
— Была не была, сделаю, как она велела.
На другой день поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошёл. Все, конечно, шапки сняли, молчат, а Степан подходит и говорит:
— Видел я вечор Хозяйку медной горы, и заказывала она тебе сказать. Велит она тебе, душному козлу, с Красногорки убираться. Ежели ты ей эту железную шапку спортишь, так она всю медь на Гумёшках туда спустит, что никому не добыть.
У приказчика даже усы затряслись.
— Ты что это? Пьяный, али ума решился? Какая Хозяйка? Кому ты такие слова говоришь? Да я тебя в горе сгною!
— Воля твоя, — говорит Степан, — а только так мне велено.
— Выпороть его, — кричит приказчик, — да спустить в гору и в забое приковать! А чтобы не издох, давать ему собачьей овсянки и уроки спрашивать без поблажки. Чуть что — драть нещадно!
Ну, конечно, выпороли парня и в гору. Надзиратель рудничный, — тоже собака не последняя, — отвёл ему забой — хуже некуда. И мокро тут, и руды доброй нет, давно бы бросить надо. Тут и приковали Степана на длинную цепь, чтобы, значит, работать можно было. Известно, какое время было, — крепость. Всяко галились над человеком. Надзиратель ещё и говорит:
— Прохладись тут маленько. А уроку с тебя будет чистым малахитом столько-то, — и назначил вовсе несообразно.
Делать нечего. Как отошёл надзиратель, стал Степан каёлкой помахивать, а парень всё-таки проворный был. Глядит, — ладно ведь. Так малахит и сыплется, ровно кто его руками подбрасывает. И вода куда-то ушла из забоя. Сухо стало.
«Вот, — думает, — хорошо-то. Вспомнила, видно, обо мне Хозяйка».
Только подумал, вдруг звосияло. Глядит, а Хозяйка тут, перед ним.
— Молодец, — говорит, — Степан Петрович. Можно чести приписать. Не испужался душного козла. Хорошо ему сказал. Пойдём, видно, моё приданое смотреть. Я тоже от своего слова не отпорна.
А сама принахмурилась, ровно ей это нехорошо. Схлопала в ладошки, ящерки набежали, со Степана цепь сняли, а Хозяйка им распорядок дала:
— Урок тут наломайте вдвое. И чтобы наотбор малахит был, шёлкового сорту. — Потом Степану говорит — Ну, женишок, пойдём смотреть моё приданое.
И вот пошли. Она впереди, Степан за ней. Куда она идёт, — всё ей открыто. Как комнаты большие под землёй стали, а стены у них разные. То все зелёные, то жёлтые с золотыми крапинками. На которых опять цветы медные. Синие тоже есть, лазоревые. Однем словом, изукрашено, что и сказать нельзя. И платье на ней — на Хозяйке-то — менятся. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает, либо скрасна медным станет, потом опять шёлком зелёным отливает.
Идут-идут, остановилась она.
— Дальше, — говорит, — на многие вёрсты желтяки да серяки с крапинкой пойдут. Что их смотреть? А это вот под самой Красногоркой мы. Тут у меня после Гумёшек самое дорогое место.
И видит Степан огромадную комнату, а в ней постели, столы, табуреточки — всё из корольковой меди. Стены малахитовые с алмазом, а потолок тёмнокрасный под чернью, а на ём цветки медны.
— Посидим, — говорит, — тут, поговорим.
Сели это они на табуреточки, малахитница и спрашивает:
— Видал моё приданое?
— Видал, — говорит Степан.
— Ну, как теперь насчёт женитьбы?
А Степан и не знает, как отвечать. У него, слышь-ко, невеста была. Хорошая девушка, сиротка одна. Ну, конечно, против малахитницы где же ей красотой равняться! Простой человек, обыкновенный. Помялся-помялся Степан да и говорит:
— Приданое у тебя царям впору, а я человек рабочий, простой.
— Ты, — говорит, — друг любезный, не вихляйся. Прямо говори, берёшь меня замуж али нет? — И сама вовсе принахмурилась.
Ну, Степан и ответил напрямик:
— Не могу, потому другой обещался.
Молвил так-то и думает: огневается теперь. А она вроде обрадовалась.
— Молодец, — говорит, — Степанушко. За приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на каменну девку. — А у парня, верно, невесту-то Настей звали. — Вот, — говорит, — тебе подарочек для твоей невесты, — и подает большую малахитовую шкатулку. А там, слышь-ко, всякий женский прибор. Серьги, кольца и протча, что даже не у всякой богатой невесты бывает.
— Как же, — спрашивает парень, — я с эким местом наверх поднимусь?
— Об этом не печалься. Всё тебе будет устроено, и от приказчика тебя вызволю, и жить безбедно будешь со своей молодой женой, только вот тебе мой сказ — обо мне, чур, потом не вспоминай. Это третье тебе моё испытание будет. А теперь давай поешь маленько.
Схлопала опять в ладошки, набежали ящерки, — полон стол установили. Накормила она его щами хорошими, пирогом рыбным, бараниной, кашей и протчим, что по русскому обряду полагается. Потом и говорит:
— Ну, прощай, Степан Петрович, смотри, не вспоминай обо мне. — А у самой слёзы. Она это руку подставила, а слёзы кап-кап и на руке зёрнышками застывают. Полнёхонька горсть. — Ha-ко вот, возьми на разживу. Большие деньги за эти камешки люди дают. Богатый будешь, — и подаёт ему.
Камешки холодные, а рука, слышь-ко, горячая, как есть живая, и трясётся маленько.
Степан принял камешки, поклонился низко и спрашивает:
— Куда мне итти? — А сам тоже невесёлый стал. Она указала перстом, перед ним и открылся ход, как штольня, и светло в ней, как днём. Пошёл Степан по этой штольне, — опять всяких земельных богатств нагляделся и пришёл как раз к своему забою. Пришёл, штольня и закрылась, и всё стало по-старому. Ящерка прибежала, цепь ему на ногу приладила, а шкатулка с подарками вдруг маленькая стала, Степан и спрятал её за пазуху. Вскоре надзиратель рудничный подошёл. Посмеяться ладил, а видит — у Степана поверх урока наворочено, и малахит отбор, сорт-сортом. «Что — думает, — за штука? Откуда это?» Полез в забой, осмотрел всё да и говорит:
— В эком-то забое всяк сколь хошь наломает. — И повёл Степана в другой забой, а в этот своего племянника поставил.
На другой день стал Степан работать, а малахит так и отлетает, да ещё королёк с витком попадать стали, а у того — у племянника-то, — скажи на милость, ничего доброго нет, всё обальчик да обманка идёт. Тут надзиратель и сметил дело. Побежал к приказчику. Так и так.
— Не иначе, — говорит, — Степан душу нечистой силе продал.
Приказчик на это и говорит:
— Это его дело, кому он душу продал, а нам свою выгоду поиметь надо. Пообещай ему, что на волю выпустим, пущай только малахитовую глыбу во сто пуд найдёт.
Велел всё-таки приказчик расковать Степана и приказ такой дал — на Красногорке работы прекратить.
— Кто, — говорит, — его знает? Может, этот дурак от ума тогда говорил. Да и руда там с медью пошла, только чугуну порча.
Надзиратель объявил Степану, что от его требуется, а тот ответил:
— Кто от воли откажется? Буду стараться, а найду ли — это уж как счастье моё подойдёт.
Вскорости нашёл им Степан глыбу такую. Выволокли её наверх. Гордятся, — вот-де мы какие, а Степану воли не дали. О глыбе написали барину, тот и приехал из самого, слышь-ко, Сам-Петербурху. Узнал, как дело было, и зовёт к себе Степана.
— Вот что, — говорит, — даю тебе своё дворянское слово — отпустить тебя на волю, ежели ты мне найдешь такие малахитовые камни, чтобы, значит, из их вырубить столбы не меньше пяти сажен долиной.
Степан отвечает:
— Меня уж раз оплели. Учёный я ноне. Сперва вольную пиши, потом стараться буду, а что выйдет — увидим.
Барин, конечно, закричал, ногами затопал, а Степан одно своё:
— Чуть было не забыл — невесте моей тоже вольную пропиши, а то что это за порядок — сам буду вольный, а жена в крепости.
Барин видит — парень не мягкий. Написал ему актовую бумагу.
— На, — говорит, — только старайся, смотри.
А Степан всё своё:
— Это уж как счастье поищет.
Нашёл, конечно, Степан. Что ему, коли он всё нутро горы вызнал и сама Хозяйка ему пособляла. Вырубили из этой малахитины столбы, какие им надо, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Сам-Петербурхе отправил. А глыба та, которую Степан сперва нашел, и посейчас в нашем городу, говорят. Как редкость, её берегут.
С той поры Степан на волю вышел, а в Гумёшках после того всё богатство ровно пропало. Много-много лазоревка идёт, а больше обманка. О корольке с витком и слыхом не слыхать стало, и малахит ушёл, вода долить приняла. Так с той поры Гумёшки на убыль и пошли, а потом их и вовсе затопило. Говорили, что это Хозяйка огневалась, за столбы-то, что их в церкву поставили. А ей это вовсе ни к чему.
Степан тоже счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завёл, дом обстроил, всё как следует. Жить бы ровно да радоваться, а он невесёлый стал и здоровьем хезнул. Так на глазах и таял.
Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И всё, слышь-ко, к Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит. В осенях ушёл так-то да и с концом. Вот его нет, вот его нет… Куда девался? Сбили, конечно, народ, давай искать. А он, слышь-ко, на руднике у высокого камня мёртвый лежит, ровно улыбается, и ружьишечко у него тут же в сторонке валяется, не стреляно из него. Которые люди первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зелёную видели, — да такую большую, каких и вовсе в наших местах не бывало. Сидит будто над покойником, голову подняла, а слёзы у ей так и каплют. Как люди ближе подбежали, — она на камень, — только её и видели. А как покойника домой привезли да обмывать стали, — глядят, — у него одна рука накрепко зажата и чуть видно из неё зёрнышки зелёненькие. Полнёхонька горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зёрнышки и говорит:
— Да ведь это медный изумруд! Редкостный камень дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось. Откуда только у него эти камешки?
Настасья — жена-то его — объясняет, что никогда покойник ни про какие такие камешки не говаривал. Шкатулку вот дарил ей, когда ещё женихом был. Большую шкатулку, малахитову. Много в ей добренького, а таких камешков нету. Не видывала.
Стали те камешки из мёртвой Степановой руки доставать, а они и рассыпались в пыль. Так и не дознались в ту пору, откуда они у Степана были. Копались потом на Красногорке. Ну руда и руда, бурая с медным блеском. Потом уж кто-то вызнал, что это у Степана слёзы Хозяйки медной горы были. Не продал их, слышь-ко, никому тайно от своих сохранял, с ними и смерть принял. А?
Вот она, значит, какая медной горы Хозяйка!
Худому с ней встретиться — горе, и доброму — радости мало.
1935 г.
Приказчиковы подошвы
ыл в Полевой приказчик— Северьян Кондратьич. Ох, и лютой, ох, и лютой! Такого, как заводы стоят, не бывало. Из собак собака. Зверь. В заводском деле он, слышь-ко, вовсе не мараковал, а только мог человека бить. Из бар был, свои деревни имел, да всего решился. А всё из-за лютости своей. Сколько-то человек досмерти забил, да ещё которых из чужого владенья. Ну, огласка и вышла, прикрыть никак невозможно. Суд да дело — Северьяна и присудили в Сибирь либо на здешние заводы. А Турчаниновым — владельцам — такого убойцу подавай. Сразу назначили Северьяна в Полевую.
— Сократи, сделай милость, тамошний народ. Ежели и убьёшь кого, на суд тебя тут никто не потянет. Лишь бы народ потише стал, а то он вон что вытворять придумал.
А в Полевой перед этим старого-то приказчика на калёну болванку посадили, да так, что он в одночасье помер. Драли, конечно, за приказчика-то. Только виноватого не нашли.
— Никто его не садил. Сам сел. Угорел, может, либо затменье на него нашло. Хватились поднять его с болванки, а уж весь зад до нутра испортило. Такая, видно, воля божья, чтоб ему с заду смерть принять.
По этому случаю владельцам заводским и понадобилось рыкало-зыкало, чтобы народ испужать.
Вот и стал убойца Северьян нашим заводским приказчиком. Он, слышь-ко, смелый был, а всё-таки понимал — завод не деревня, больше опаски требует. Народ, вишь, завсегда кучкой, место тесное, да ещё у огня. Всякий с орудией какой-нибудь… Клещами двинуть может, молотком садануть, сгибнем либо полосой брякнуть, а то и плахой ахнуть. Очень даже просто.
Могут и в валок либо в печь головой сунуть. Угорел-де, подошёл близко, его и затянуло. Поджарили же того приказчика.
Северьян и набрал себе обережных. Откуда только выкопал! Один другого могутнее да отчаяннее. И всё народишко — откать последняя. Братцы-хватцы из шатальной волости. С этой оравой и ходил по заводу. Впереди сам идёт. В руке плётка в два перста толщиной, с подвитым кончиком. В кармане пистолет, на четыре ствола заряженный. Пистончики надеты, только из кармана выдернуть. За Северьяном шайка идёт. Кто с палкой, кто с саблей, а кто с пистолетом тоже. Чисто в поход какой срядился.
Первым делом уставщика спрашивает:
— Кто худо робит?
Тот уж знает, что ладно про всех сказать нельзя, сам под плётку попадёшь — потаковщик-де. Вот и начинает уставщик вины выискивать. На ком по делу, на ком — понасердке, а на ком и вовсе зря. Лишь бы от себя плётку отвести. Наговорит так-то на людей, приказчик и примется лютовать. Сам, слышь-ко, бил. Хлебом его не корми, любил над человеком погалиться. Такой уж характер имел. Убойца, однем словом.
В медну гору сперва всё-таки неспущался. Без привычки-то под землёй страшно, хоть кому доведись. Главная причина — потёмки, а свету не прибавишь. Хоть сам владелец спустись, ту же блёндочку дадут. Разбери, горит она али так только вид даёт. Ну, и мокреть тоже. И народ в горе вовсе потерянный. Такому что жить, что умирать — всё едино. Безнадёжный народ, самый для начальства беспокойный. И про то Северьян слыхал, что у медной горы своя Хозяйка есть. Не любит будто она, как под землёй над человеком измываются. Вот Северьян и побаивался. Потом насмелился. Со всей шайкой в гору спустился. С той поры и пошло. Ровно ещё злости в Северьяне прибавилось. Раньше руднишных драли завсегда наверху, а теперь нову моду придумали. Приказчик плетью и чем попало прямо в забое народ бьёт. Да каждый день в гору повадился, а распорядок у него один — как бы побольше людям худа сделать. Который день много народу изобьёт, в тот и веселее. Расправит усы свои да и хрипит руднишному смотрителю:
— Ну-ко, старый хрыч, приготовь к подъёму. Пообедать пора, намахался.
С неделю он так-то хозяевал в горе. Потом случай и вышел. Только сказал руднишному смотрителю — готовь к подъёму, — вдруг голос да так звонко, будто где-то совсем близко:
— Гляди, Северьянко, как бы подошвы деткам своим на помин не оставить!
Приказчик схватился:
— Кто сказал? — Повернулся на голос да и повалился, чуть ноги не переломал. Они у него как прибитые стали. Едва от земли оторвал. А голос женский. Сумление тут приказчика и взяло, а всё-таки виду не оказывает. Будто ничего не слыхал. Северьянова шайка тоже молчит, а видать — приуныла. Эти сразу сметали — сама погрозилась.
Вот ладно. Перестал приказчик в гору лазать. Вздохнули маленько руднишные, только ненадолго. Приказчику, вишь, стыдно: вдруг рабочие тот голос слышали да теперь и посмеиваются про себя: струсил-де Северьян. А это ему хуже ножа, как он завсегда похвалялся — никого не боюсь. Приходит он в прокатную, а там кричат:
— Эй, подошвы береги! — Это у них присловье такое. Упредить, значит, кто зазевался. А приказчик своё думает:
«Надо мной смеются». Шибко его тем словом укололо. Не стал и человека искать, который про подошвы кричал. Даже никого на тот раз не избил, а стал посерёдке прокатной да и говорит своей-то ораве:
— Что-то мы давненько в горе не были. Надо там за порядком доглядеть.
Спустились в гору. И такая на приказчика злость накатила, как ещё не бывало.
Походя всех лупит. Всё ему показать-то охота, что никого не боится. И вот опять тот же голос:
— Другой раз, Северьянко, тебя упреждаю. Пожалей своих малолетков. Подошвы им только оставишь!
Приказчик на голос повернулся и повалился, как и тот раз. Ноги от земли оторвать не может. Глядит, а они чуть не на вершок в породу вдавились, хоть ка ёлкой обивай. Вырвал всё-таки, только сапоги спереду оскалились — подошвы отстали.
Притих приказчик, а как наверх поднялись, опять осмелел. Спрашивает своих-то:
— Слыхали что в шахте?
Те говорят:
— Слыхали.
— Видели, как ноги у меня прилипли?
— Видели, — отвечают.
— Как думаете — что это?
Ну, те мнутся, понятно, потом один выискался и говорит:
— Не иначе, это медной горы Хозяйка тебе знак подаёт. Грозится вроде, а чем — непонятно.
— Так вот, — говорит Северьян, — слушайте, что я скажу. Завтра, как свет, в гору приготовьтесь. Я им покажу, как меня пужать да бабёнку в горе прятать. Все штольни-забои облазаю, а бабёнку ту поймаю и вот этой плёткой с пяти раз дух из неё вышибу. Слышали?
И дома перед женой этак же похваляется. Та, женским делом, в слёзы:
— Ох да ах, поберёгся бы ты, Северьянушко! Хоть бы попа позвал, чтоб он тебя оградил.
И верно, попа позвали. Тот попел, почитал, образок Северьяну на шею повесил, пистолет водичкой покропил да и говорит:
— Не беспокойся, Северьян Кондратьич, а в случае чего — читай «Да воскреснет бог».
На другой день на свету вся приказчикова шайка к спуску явилась. Помучнели все, один приказчик гоголем похаживает. Грудь выставил, плечи поднял, и глядят— сапоги на нём новёшенькие, как зеркало блестят.
А Северьян плёткой по сапожкам похлопывает и говорит:
— Ещё раз оборву подошвы, так покажу руднишному смотрителю, как грязь разводить. Не погляжу, что он двадцать лет в горе служит, спущу и ему шкуру.
А вы первым делом старайтесь бабёнку эту углядеть. Кто её поймает, тому пятьдесят рублей награда.
Спустились, значит, в гору и давай везде шнырить. Приказчик, как обыкновенно, впереди, а орава за ним. Ну, в штольнях-то узко, они цепочкой и растянулись, один за другим. Вдруг приказчик видит — впереди кто-то маячит. Так себе легонько идёт, блёндочкой помахивает. На повороте видно стало, что женщина. Приказчик заорал — стой! — а она будто и не слыхала. Приказчик за ней бегом, а его верные слуги не шибко торопятся. Дрожь на их нашла. Потому видят — неладно дело: сама это. А назад податься тоже не смеют — Северьян досмерти забьёт. Приказчик всё вперёд бежит, а догнать не может. Лается, конечно, всяко, грозится, а она и не оглянется. Народу в той штольне ни души.
Вдруг женщина повернулась, и сразу светло стало, видит приказчик— перед ним девица красоты неописанной, а брови у ней сошлись и глаза, как уголья.
— Ну, — говорит, — давай разочтёмся, убойца! Я тебя упреждала: перестань, — а ты что? Похвалялся меня плёткой с пяти раз забить? Теперь что скажешь?
А Северьян вгорячах кричит:
— Хуже сделаю. Эй, Ванька, Ефимка, хватай девку, волоки отсюда, стерву!
Это он своим-то слугам. Думает, тут они, близко, а сам чует — ноги у него опять к земле прилипли.
Уж не своим голосом закричал:
— Эй, сюда! — А девица ему и говорит:
— Ты глотку-то не надрывай. Твоим слугам тут ходу нет. Их и в живых сейчас многих не будет.
И легонько этак рукой помахала. Как обвал сзади послышался, и воздухом рвануло. Оглянулся приказчик, а за ним стена — ровно никакой штольни и не было.
— Теперь что скажешь? — спрашивает опять Хозяйка. А приказчик, — он шибко ожесточенный был да и потом обнадёженный, — выхватил свой пистолет:
— Вот что скажу! — И хлоп из одного ствола… в Хозяйку-то! Та пульку рукой поймала, в коленко приказчику бросила и тихонько молвила:
— До этого места нет его. — Как приказ отдала. И сейчас же приказчик по самое коленко зеленью оброс. Ну, тут он, понятно, завыл:
— Матушка-голубушка, прости, сделай милость. Внукам-правнукам закажу. От места откажусь. Отпусти душу на покаянье?
А сам ревёт, слезами уливается. Хозяйка даже плюнула.
— Эх, ты, — говорит — погань, пустая порода! И умереть не умеешь. Смотреть на тебя — с души воротит.
Повела рукой, и приказчик по самую маковку зеленью зарос. Как глыба большая на его месте стала. Хозяйка подошла, чуть задела рукой, глыба и свалилась, а Хозяйка — как растаяла.
А в горе переполох. Ну как же— штольня обвалилась, а туда приказчик со своей свитой ушёл. Не шутка дело. Народ согнали. Откапывать стали. Наверху суматоха тоже поднялась. Барину в Сысерть нарочного послали. Горное начальство из города на другой день прикатило. Дня через два отрыли приказчиковых-то слуг. И вот диво! Которые хуже-то всех были, те все мёртвые, а кои хоть маленько стыд имели, те только изувечены.
Всех нашли, только приказчика нету. Потом уж докопались до какого-то неведомого забоя. Глядят, а на середине глыба малахиту отворочена лежит. Стали оглядывать её и видят, — с одного-то конца она шлифована.
«Что — думают, — за чудо. Кому тут малахит шлифовать?» Стали хорошенько разглядывать да и увидели— посредине шлифованного места две подошвы сапожные. Новёхоньки подошевки-то. Все гвоздики на них видно. В три ряда. Довели об этом до барина, а тот уже старик тогда был, в шахту давно не спускался, а поглядеть охота. Велел вытаскивать глыбу, как есть. Сколько тут битвы было! Подняли всё-таки. Старый барин, как увидел подошвы, так в слёзы ударился.
— Вот какой у меня верный слуга был! — Потом и говорит: — Надо это тело из камня вызволить и с честью похоронить.
Послали сейчас же на Мрамор за самым хорошим камнерезом. А там тогда Костоусов на славе был. Привезли его. Барин и спрашивает:
— Можешь ты тело из камня вызволить и чтоб тела не испортить?
Мастер оглядел глыбу и говорит:
— А кому обой будет?
— Это, — говорит барин, — уж в твою пользу, и за работу заплачу, не поскуплюсь.
— Что же, — говорит, — постараться можно. Главное дело — материал шибко хороший. Редко такой и увидишь. Одно горе — дело наше мешкотно. Если сразу до тела обивать, дух, я думаю, смрадный пойдёт. Сперва, видно, надо оболванить, а это малахиту потеря.
Барин даже огневался на эти слова.
— Не о малахите, — говорит, — думай, а как тело моего верного слуги без пороку добыть.
— Это, — отвечает мастер, — кому как.
Он, вишь, вольный, Костоусов-то был. Ну, и разговор у него такой. Стал Костоусов мертвяка добывать. Оболванил сперва, малахит домой увёз. Потом стал до тела добираться. И ведь что? Где тело либо одёжа были, там всё пустая порода, а кругом малахит первосортный.
Барин всё-таки эту пустую породу велел похоронить как человека. А мастер Костоусов жалел:
— Кабы знатьё, — говорит, — так надо бы глыбу сразу на распил пустить. Сколько добра сгибло из-за приказчика, а от него, вишь, что осталось! Одни подошвы.
1936 г.
Медная доля
одная мне дача Сысертского горного округа северной частью вытянутого рукава смыкалась с дачей Ревдинских заводов около горы с необычайным названием — Лабаз. Мне впервые удалось побывать здесь в самом начале столетия. Году так во втором, в третьем. Случилось это неожиданно и, может быть, поэтому запомнилось крепко. С Крылатовского рудника хотел попасть на гору Балабан, но пошёл по просеке в противоположном направлении. Почувствовал ошибку, стал поправляться, «спрямлять» и, как водится, вовсе сбился. По счастью, набрёл на двух парней, которые проряжали сосновый молодняк. Парни, услышав, где я предполагаю Балабан, сначала посмеялись, потом ревностно, перебивая один другого, стали объяснять дорогу. Один, видимо, не очень поверил, что я понял, и посоветовал: — Ты лучше пройди-ка по этой просеке ещё с полверсты. Там старая липа пришлась, а от неё вправо тропка пошла. Заметная тропочка, не ошибёшься. По этой тропке и ступай прямо в гору Лабаз. Там у нас в караульщиках дедушка Мисилов сидит. Он тебе твой Балабан, как на ладошке, покажет. И на Волчиху поглядишь, если охота есть. Старик у нас не скупой на эти штуки. И слов у него с добрый воз напасено, да всё, понимаешь, золотые. С ним посидеть хоть в вёдро, хоть в ненастье не тоскливо.
Предложение показалось заманчивым. Захотелось своим глазом посмотреть на этот удалённый клин заводской дачи, где к обычной сосне и берёзе заметно примешивалась липа. С детских лет, когда ещё жил в Полевском, слыхал от взрослых, что там имеется «заводское объединение для сидки дёгтю, а подале такое же обзаведение от Ревдинских заводов». Из разговоров на Крылатовском узнал, что около этих двух дегтярок, Полевской и Ревдинской, какие-то чужестранные в земле роются, медь ищут, у самого озера Ижбулата.
С вершины Лабаза открывался обычный для нашего края тех лет вид: всхолмлённая лесная пустыня, с правильными квадратами вырубок, бесформенными покосными участками и редкими селениями. К северу, совсем близко, высилась гора Волчиха, к югу, километрах в пятнадцати, тот самый Балабан, куда мне надо было идти.
Старик Мисилов оказался подвижным приветливым человеком, из таких, которые немало видели в своей жизни и любили об этом рассказывать. Новому человеку старик обрадовался и сейчас же подвесил над костерком свой полуведёрный жестяной чайник. Беседа завязалась легко. Говорили о разном, а больше всего, конечно, о безработице, которая гнала рабочих с насиженных мест. Старик, помню, пожаловался:
— Троих сыновей вырастил, дочь замуж отдал, а на старости и в гости сходить не к кому. Все разбрелись. Недавно вон меньшак письмо отписал с военной службы, из городу Чемкенту. Благослови, тятенька, на вторительную остаться, потому как по вашим письмам понял: дома жить не у чего. Большак опять на Абаканские заводы убрался, а средний, Михайло, в слесарке пристроился в Барнауле-городе. И доченьку свою с внучатами проводил. Мужик-то у нее при Дугинской мельнице машинистом поступил. Эти поближе, конечно, а всё не дома.
Помолчав немного, старик стал рассказывать о себе:
— Родом-то я из деревни Казариной, с Сысертской стороны, с медного, значит, боку. У нас там медных рудников не слышно, всё больше железо да другие руды. Да и по деревенскому положению мне бы на земле сидеть, а доля пришлась руднишная, и всё с медного боку. В молодых ещё годах оплошку допустил — барского жеребёнка нечаянно подколол. Ну, барыня меня и угнала в Полевую, а там, известно, в Гумёшевский рудник спустили. Годов пятнадцать эту патоку полной ложкой хлебал. Знаю, сколь она сладка. Как юля объявилась, из рудника выскочил, а привычка эта подземная со мной же увязалась. Сколько не посовался по разным работам, а к тому же пришёл — стал руду добывать. Придумал только других хозяев поискать, поумнее здешних. Вот и походил в ту сторону, — указал он на Волчиху, — не меньше трёх сотен вёрст прошёл. До самых Турьинских рудников доходил. И в эту сторону, — указал на Балабан, — вёрст, поди, сотни две наберётся. Карабаш-гору поглядел довольно. Добрых хозяев, понятно, нигде не нашёл, а на горы пожаловаться не могу. Везде богатство положено: с закатного боку медь, с восходного — железо. Только моя доля, видно, медная пришлась. Всю жизнь на закатной стороне ворочал. Теперь вот на старости в тихое лесное место попал, а доля от меня не уходит. Слышал, поди, что и тут люди появились — в земле дырки вертят, медь щупают, на моё понятие и щупать нечего — бей шахту, непременно медь будет. По уклону вижу. На той же стороне хребтины, как наши Гумёшки, Карабаш, Калата, Турьинские. Как тут меди не быть. Её по здешним местам без меры положено. Вот хоть эта гора, на которой мы с тобой балакаем. Она Лабазом зовётся. А почему так? Может, в ней одной столько богатства, что целыми обозами вывози… Не одна, поди, деревня вроде нашей Кунгурки прокормиться могла бы.
Старик вздохнул:
— Эх-хе-хе. От этакого-то богатства люди не умеют себе крошек наскрести, на сторону бегут! — Потом, указав на горную цепь, добавил: — И везде, понимаешь, такое. Заберёшься на горку повыше и увидишь эту тройную хребтину. Ни конца ей, ни краю. И везде середовину-то «камнем» зовут. Хорош камешек. Только всему народу в подъём. А что Демидовы, Турчаниновы и прочие тут ковырялись, так это пустое. Вроде земельных червяков: прошли в дырки и оставили. Взять хоть наши Гумёшки. Первый по здешним местам рудник. Начало, можно сказать, медному делу. Полтораста годов из него добывали, а думаешь, всё выбрали? Копни да поглубже. Там и внукам и правнукам осталось. Говорю, по всему боку медь, а с того боку опять железо и другие руды. Золотишко тоже, оно, конечно, и по закатному боку есть, да только взять его мудрено, потому — с медью сковано.
Эти рассуждения старого горняка показались забавными, а вышли похожими на пророческое слово. Старик Мисилов ошибся лишь в размерах. Из-под горы Лабаз теперь вывозят медную руду не обозами, а целыми поездными составами. Посёлок около этой горы тоже не походит на деревню. Это городок, считающий своё население десятками тысяч. Не ошибся старик и относительно Гумешевского рудника. Там перед войной уже начались осушительные работы, так как бурение показало огромные запасы медной руды. Может быть, и медный бок не совсем сказка.
1935–1945 г.
Каменный цветок
е одни мраморски на славе были по каменному-то делу. Тоже и в наших заводах, сказывают, это мастерство имели. Та только различна, что наши больше с малахитом вожгались, как его было довольно, и сорт— выше нет. Вот из этого малахиту и выделывали подходяще. Такие, слышь-ко, штучки, что диву дашься: как ему помогло.
Был в ту пору мастер Прокопьич. По этим делам первый. Лучше его никто не мог. В пожилых годах был.
Вот барин и велел приказчику поставить к этому Прокопьичу парнишек на выучку.
— Пущай-де переймут всё до тонкости.
Только Прокопьич, — то ли ему жаль было расставаться со своим мастерством, то ли ещё что, — учил шибко худо. Всё у него с рывка да с тычка.
Насадит парнишке по всей голове шишек, уши чуть не оборвёт да и говорит приказчику:
— Не гож этот… Глаз у него неспособный, рука не несёт. Толку не выйдет. Приказчику, видно, заказано было ублаготворять Прокопьича.
— Не гож, так не гож… Другого дадим… — И нарядит другого парнишку. Ребятишки прослышали про эту науку… Спозаранку ревут, как бы к Прокопьичу не попасть. Отцам-матерям тоже не сладко родного дитёнка на зряшную муку отдавать, — выгораживать стали своих-то, кто как мог. И то сказать, нездорово это мастерство, с малахитом-то. Отрава чистая. Вот и оберегаются люди.
Приказчик всё-таки помнит баринов наказ — ставить Прокопьичу учеников. Тот по своему порядку помытарит парнишку да и сдаст обратно приказчику:
— Не гож этот…
Приказчик взъедаться стал:
— До какой поры это будет? Не гож да не гож, когда гож будет? Учи этого…
Прокопьич, знай, своё:
— Мне что… Хоть десять годов учить буду, а толку из этого парнишки не будет…
— Какого тебе ещё?
— Мне хоть и вовсе не ставь, — об этом не скучаю…
Так вот и перебрали приказчик с Прокопьичем много ребятишек, а толк один: на голове шишки, а в голове — как бы убежать. Нарочно которые портили, чтобы Прокопьич их прогнал.
Вот так-то и дошло дело до Данилки Недокормыша. Сиротка круглый был этот парнишечко. Годов, поди, тогда двенадцати, а то и боле. На ногах высоконький, а худой-расхудой, в чём душа держится. Ну, а с лица чистенький. Волосёнки кудрявеньки, глазёнки голубеньки. Его и взяли сперва в казачки при господском доме: табакерку, платок падать, сбегать куда и протча. Только у этого сиротки дарованья к такому делу не оказалось. Другие парнишки на таких-то местах вьюнами вьются. Чуть что — на вытяжку: что прикажете? А этот Данилко забьётся куда в уголок, уставится глазами на картину какую, а то на украшенье, да и стоит. Его кричат, а он и ухом не ведёт. Били, конечно, по началу-то, потом рукой махнули:
— Блаженный какой-то! Тихоход! Из такого хорошего слуги не выйдет.
На заводскую работу либо в гору всё-таки не отдали — шибко жидко место, на неделю не хватит. Поставил его приказчик в подпаски. И тут Данилко вовсе не гож пришёлся. Парнишечко ровно старательный, а всё у него оплошка выходит. Всё будто думает о чём-то. Уставится глазами на травинку, а коровы-то вон где! Старый пастух ласковый попался, жалел сиротку, и тот временем ругался:
— Что только из тебя, Данилко, выйдет? Погубишь ты себя да и мою старую спину под бой подведёшь. Куда это годится? О чём хоть думка-то у тебя?
— Я и сам, дедко, не знаю… Так… ни о чём… Засмотрелся маленько. Букашка по листочку ползла. Сама сизенька, а из-под крылышек у ней жёлтенько выглядывает: а листок широконький… По краям зубчики, вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает, а серёдка зелёная-презелёная, ровно её сейчас выкрасили… А букашка-то и ползёт…
— Ну, не дурак ли ты, Данилко? Твоё ли дело букашек разбирать? Ползёт она — и ползи, а твоё дело — за коровами глядеть. Смотри у меня, выбрось эту дурь из головы, не то приказчику скажу!
Одно Данилушке далось. На рожке он играть научился — куда старику! Чисто на музыке какой. Вечером, как коров пригонят, девки-бабы просят:
— Сыграй, Данилушко, песенку.
Он и начнёт наигрывать. И песни всё незнакомые. Не то лес шумит, не то ручей журчит, пташки на всякие голоса перекликаются, а хорошо выходит. Шибко за те песенки стали женщины привечать Данилушку. Кто пониточек починит, кто холста на онучи отрежет, рубашонку новую сошьёт… Про кусок и разговору нет, — каждая норовит дать побольше да послаще. Старику пастуху тоже Данилушковы песни по душе пришлись. Только и тут маленько неладно выходило. Начнёт Данилушко наигрывать и всё забудет, ровно и коров нет. На этой игре и пристигла его беда.
Данилушко, видно, заигрался, а старик задремал по малости. Сколько-то коровёнок у них и отбилось. Как стали на выгон собирать, глядят — той нет, другой нет. Искать кинулись, да где тебе. Пасли около Ельничной… Самое тут волчье место, глухое… Одну только коровёнку и нашли. Пригнали стадо домой… Так и так обсказали. Ну, из завода тоже побежали — поехали на розыски, да не нашли.
Расправа тогда, известно, какая была. За всякую вину спину кажи. На грех ещё одна-то корова из приказчичьего двора была. Тут и вовсе спуску не жди. Растянули сперва старика, потом и до Данилушки дошло, а он худенький да тощенький. Господский палач оговорился даже:
— Экой-то, — говорит, — с одного разу сомлеет, а то и вовсе душу выпустит.
Ударил всё-таки — не пожалел, а Данилушка молчит. Палач его вдругорядь — молчит, втретьи — молчит. Палач тут и расстервенился, давай палысать со всего плеча, а сам кричит:
— Я тебя, молчуна, доведу… Дашь голос… Дашь!
Данилушко дрожит весь, слёзы каплют, а молчит. Закусил губёнку-то и укрепился. Так и сомлел, а словечка от него не слыхали. Приказчик, — он тут же, конечно, был, удивился:
— Какой ещё терпеливый выискался! Теперь знаю, куда его поставить, коли живой останется.
Отлежался-таки Данилушко. Бабушка Вихориха его на ноги поставила. Была, сказывают, старушка такая. Заместо лекаря по нашим заводам на большой славе была. Силу в травах знала: которая от зубов, которая от надсады, которая от ломоты… Ну, всё как есть. Сама те травы собирала в самое время, когда какая трава полную силу имела. Из таких трав да корешков настойки готовила, отвары варила да с мазями мешала.
Хорошо Данилушке у этой бабушки Вихорихи пожилось. Старушка, слышь-ко, ласковая да словоохотливая, а трав да корешков, да цветков всяких у ней насушено да навешено по всей избе. Данилушко к травам-то любопытен — как эту зовут? где растёт? какой цветок? Старушка ему и рассказывает.
Раз Данилушко и спрашивает:
— Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь?
— Хвастаться, — говорит, — не буду, а все будто знаю, какие открытые-то.
— А разве, — спрашивает, — ещё неоткрытые бывают?
— Есть, — отвечает — и такие. Папору вот слыхал? Она будто цветёт на Иванов день. Тот цветок колдовской. Клады им открывают. Для человека вредный. На разрыв-траве цветок — бегучий огонёк. Поймай его — и все тебе затворы открыты. Воровской это цветок. А то ещё каменный цветок есть. В малахитовой горе будто растёт. На змеиный праздник полную силу имеет. Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит.
— Чем, бабушка, несчастный?
— А это, дитёнок, я и сама не знаю. Так мне сказывали.
Данилушко у Вихорихи, может, и подольше бы пожил, да приказчиковы вестовщики углядели, что парнишко мало-мало ходить стал, и сейчас к приказчику. Приказчик Данилушку призвал да и говорит:
— Иди-ко теперь к Прокопьичу — малахитному делу обучаться. Самая там по тебе работа.
Ну, что сделаешь, — пошёл Данилушко, а самого ещё ветром качает.
Прокопьич поглядел на него да и говорит:
— Ещё такого недоставало. Здоровым парнишкам здешняя учёба не по силе, а с такого что взыщешь — еле живой стоит.
Пошёл Прокопьич к приказчику:
— Не надо такого. Ещё ненароком убьёшь — отвечать придётся.
Только приказчик — куда тебе, слушать не стал:
— Дано тебе — учи, не рассуждай! Он — этот парнишка — крепкий. Не гляди, что жиденький.
— Ну, дело ваше, — говорит Прокопьич, — было бы сказано. Буду учить, только бы к ответу не потянули.
— Тянуть некому. Одинокий этот парнишка, что хочешь с ним делай, — отвечает приказчик.
Пришёл Прокопьич домой, а Данилушко около станочка стоит, досочку малахитовую оглядывает. На этой досочке зарез сделан — кромку отбить. Вот Данилушко на это место уставился и головёнкой покачивает. Прокопьичу любопытно стало, что это новенький парнишка тут разглядывает. Спросил строго, как по его правилу велось:
— Ты это что? Кто тебя просил поделку в руки брать! Что тут доглядываешь?
Данилушко и отвечает:
— На мой глаз, дедушко, не с этой стороны кромку отбивать надо. Вишь, узор тут, а его срежут.
Прокопьич закричал, конечно:
— Что? Кто ты такой? Мастер? У рук не бывало, а судишь? Что ты понимать можешь?
— То и понимаю, что эту штуку испортили, — отвечает Данилушко.
— Кто испортил? а? Это ты, сопляк, мне — первому мастеру! Да я тебе такую порчу покажу… жив не будешь!
Пошумел так-то, покричал, а Данилушку пальцем не задел. Прокопьич-то, вишь, сам над этой досочкой думал, — с которой стороны кромку срезать. Данилушко своим разговором в самую точку попал. Прокричался Прокопьич и говорит вовсе уж добром:
— Ну-ко, ты, мастер явлёный, покажи, как по-твоему сделать?
Данилушко и стал показывать да рассказывать:
— Вот бы какой узор вышел. А того бы лучше — пустить досочку поуже, по чистому кромку отбить, только бы сверху плетешок малый оставить.
Прокопьич, знай, покрикивает:
— Ну-ну… Как же! Много ты понимаешь. Накопил — не просыпь! — А про себя думает: «Верно парнишка говорит. Из такого, пожалуй, толк будет. Только учить-то его как? Стукни разок — он и ноги протянет».
Подумал так да и спрашивает:
— Ты хоть чей, экий учёный?
Данилушко и рассказал про себя. Дескать, сирота. Матери не помню, а про отца и вовсе не знаю, кто был. Кличут Данилкой Недокормышем, а как отчество и прозванье отцовское — про то не знаю. Рассказал, как он в дворне был и за что его прогнали, как потом лето с коровьим стадом ходил, как под бой попал.
Прокопьич пожалел:
— Не сладко, гляжу, тебе, парень, житьишко-то задалось, а тут ещё ко мне попал. У нас мастерство строгое.
Потом будто рассердился, заворчал:
— Ну, хватит, хватит! Вишь, разговорчивый какой! Языком-то — не руками, — всяк бы работал. Целый вечер лясы да балясы! Ученичок тоже! Погляжу вот завтра, какой у тебя толк. Садись ужинать да и спать пора.
Прокопьич одиночкой жил. Жена-то у него давно умерла. Старушка Митрофановна из соседей с находу у него хозяйство вела. Утрами ходила постряпать, сварить чего, в избе прибрать, а вечерами Прокопьич сам управлял, что ему надо. Поели, Прокопьич и говорит:
— Ложись вон тут на скамеечке!
Данилушко разулся, котомку свою под голову, понитком закрылся, поёжился маленько, — вишь, холодно в избе-то было по осеннему времени, — всё-таки вскорости уснул. Прокопьич тоже лёг, а уснуть не мог: всё у него разговор о малахитовом узоре из головы нейдёт. Ворочался-ворочался, встал, зажёг свечку да и к станку — давай эту малахитову досочку так и сяк примерять. Одну кромку закроет, другую… прибавит поле, убавит. Так поставит, другой стороной повернёт, и всё выходит, что парнишка лучше узор понял.
— Вот тебе и Недокормышек! — дивится Прокопьич. — Ещё ничем-ничего, а старому мастеру указал. Ну и глазок! Ну и глазок!
Пошёл потихоньку в чулан, притащил оттуда подушку да большой овчинный тулуп. Подсунул подушку Данилушке под голову, тулупом накрыл:
— Спи-ко, глазастый!
А тот и не проснулся, повернулся только на другой бочок, растянулся под тулупом-то — тепло ему стало, — и давай насвистывать носом полегоньку. У Прокопьича своих ребят не бывало, этот Данилушко и припал ему к сердцу. Стоит мастер, любуется, а Данилушко, знай, посвистывает, спит себе спокойненько. У Прокопьича забота, — как бы этого парнишку хорошенько на ноги поставить, чтоб не такой тощий да нездоровый был.
— С его ли здоровьишком нашему мастерству учиться. Пыль, отрава, — живо зачахнет. Отдохнуть бы ему сперва, подправиться, потом учить стану. Толк, видать, будет.
На другой день и говорит Данилушке:
— Ты спервоначалу по хозяйству помогать будешь. Такой у меня порядок заведён. Понял? Для первого разу сходи за калиной. Её иньями прихватило, — в самый раз она теперь на пироги. Да, гляди, не ходи далеко-то. Сколь наберёшь — то и ладно. Хлеба возьми полишку, — естся в лесу-то, — да ещё к Митрофановне зайди. Говорил ей, чтоб тебе пару яичек испекла да молока в туесочек плеснула. Понял?
На другой день опять говорит:
— Поймай-ко ты мне щеглёнка поголосистее да чечётку побойчее. Гляди, чтобы к вечеру были. Понял?
Когда Данилушко поймал и принёс, Прокопьич говорит:
— Ладно, да не вовсе. Лови других.
Так и пошло. На каждый день Прокопьич Данилушке работу даёт, а всё забава. Как снег выпал, велел ему с соседом за дровами ездить — пособишь-де. Ну, а какая подмога! Вперед на санях сидит, лошадью правит, а назад за возом пешком идёт. Промнётся так-то, поест дома да спит покрепче. Шубу ему Прокопьич справил, шапку тёплую, рукавицы, пимы на заказ скатали.
Прокопьич, видишь, имел достаток. Хоть крепостной был, а по оброку ходил, зарабатывал маленько. К Данилушке-то он крепко прилип. Прямо сказать, за сына держал. Ну, и не жалел для него, а к делу своему не подпускал до времени.
В хорошем-то житье Данилушко живо поправляться стал и к Прокопьичу тоже прильнул. Ну, как! — понял Прокопьичеву заботу, в первый раз так-то пришлось пожить. Прошла зима. Данилушке и вовсе вольготно стало. То он на пруд, то в лес. Только и к мастерству Данилушко присматривался. Прибежит домой, и сейчас же у них разговор. То, другое Прокопьичу расскажет да и спрашивает — это что да это как? Прокопьич объяснит, на деле покажет. Данилушко примечает. Когда и сам примется. «Ну-ко, я…» — Прокопьич глядит, поправит, когда надо, укажет, как лучше.
Вот как-то раз приказчик и углядел Данилушку на пруду. Спрашивает своих-то вестовщиков:
— Это, чей парнишка? Который день его на пруду вижу… По будням с удочкой балуется, а уж не маленький… Кто-то его от работы прячет…
Узнали вестовщики, говорят приказчику, а он не верит.
— Ну-ко, — говорит — тащите парнишку ко мне, сам дознаюсь.
Привели Данилушку. Приказчик спрашивает:
— Ты чей?
Данилушко и отвечает:
— В ученьи, — дескать, — у мастера по малахитному делу.
Приказчик тогда хвать его за ухо:
— Так-то ты, стервец, учишься! — Да за ухо и повёл к Прокопьичу.
Тот видит— неладно дело, давай выгораживать Данилушку:
— Это я сам его послал окуньков половить. Сильно о свеженьких-то окуньках скучаю. По нездоровью моему другой еды принимать не могу. Вот и велел парнишке половить.
Приказчик не поверил. Смекнул тоже, что Данилушко вовсе другой стал: поправился, рубашонка на нём добрая, штанишки тоже и на ногах сапожнёшки. Вот и давай проверку Данилушке делать:
— Ну-ко, покажи, чему тебя мастер выучил?
Данилушко запончик надел, подошёл к станку и давай рассказывать да показывать. Что приказчик спросит — у него на всё ответ готов. Как околтать камень, как распилить, фасочку снять, чем когда склеить, как полер навести, как на медь присадить, как на дерево. Одним словом, всё как есть.
Пытал-пытал приказчик да и говорит Прокопьичу:
— Этот, видно, гож тебе пришёлся?
— Не жалуюсь, — отвечает Прокопьич.
— То-то, не жалуешься, а баловство разводишь! Тебе его отдали мастерству учиться, а он у пруда с удочкой! Смотри! Таких тебе свежих окуньков отпущу — до смерти не забудешь, да и парнишке невесело станет.
Погрозился так-то, ушёл, а Прокопьич дивуется:
— Когда хоть ты, Данилушко, всё это понял? Ровно я тебя ещё и вовсе не учил.
— Сам же, — говорит Данилушко, — показывал да рассказывал, а я примечал.
У Прокопьича даже слёзы закапали, — до того ему это по сердцу пришлось.
— Сыночек, — говорит, — милый, Данилушко… Что ещё знаю, всё тебе открою. Не потаю.
Только с той поры Данилушке не стало вольготного житья. Приказчик на другой день послал за ним и работу на урок стал давать. Сперва, конечно, попроще что: бляшки, какие женщины носят, шкатулочки. Потом с точкой пошло: подсвечники да украшения разные. Там и до резьбы доехали. Листочки да лепесточки, узорчики да цветочки. У них ведь — у малахитчиков — дело мешкотное. Пустяковая ровно штука, а сколько он над ней сидит! Так Данилушко и вырос за этой работой.
А как выточил зарукавье-змейку из цельного камня, так его и вовсе мастером приказчик признал. Барину об этом отписал:
«Так и так, объявился у нас новый мастер по малахитному делу — Данилко Недокормит. Работает хорошо, только по молодости ещё тихо. Прикажете, — на уроках его оставить али, как и Прокопьича, на оброк отпустить?»
Работал Данилушко вовсе не тихо, а на диво ловко да скоро. Это уж Прокопьич тут сноровку поимел. Задаст приказчик Данилушке какой урок на пять дён, а Прокопьич пойдёт да и говорит:
— Не в силу это. На такую работу полмесяца надо. Учится ведь парень. Поторопится — только камень без пользы изведёт.
Ну, приказчик поспорит сколько, а дней, глядишь, прибавит. Данилушко и работал без натуги. Поучился даже потихоньку от приказчика читать-писать. Так, самую малость, а всё-таки разумел грамоте. Прокопьич ему в этом тоже сноровлял. Когда и сам наладится приказчиковы уроки за Данилушку делать, только Данилушко этого не допускал.
— Что ты! Что ты, дяденька! Твоё ли дело за меня у станка сидеть! Смотри-ка, у тебя борода позеленела от малахиту, здоровьем скудаться стал, а мне что делается?
Данилушко и впрямь к той поре выправился. Хоть по-старинке его Недокормышем звали, а он вон какой! Высокий да румяный, кудрявый да весёлый. Одним словом, сухота девичья. Прокопьич уж стал с ним про невест заговаривать, а Данилушко, знай, головой потряхивает:
— Не уйдёт от нас! Вот мастером настоящим стану, тогда и разговор будет.
Барин на приказчиково известие отписал:
«Пусть тот Прокопьичев выученик Данилко сделает ещё точёную чашу на ножке для моего дому. Тогда погляжу — на оброк отпустить али на уроках держать. Только ты гляди, чтобы Прокопьич тому Данилке не пособлял. Не доглядишь — с тебя взыск будет».
Приказчик получил это письмо, призвал Данилушку да и говорит:
— Тут, у меня, работать будешь. Станок тебе наладят, камню привезут, какой надо.
Прокопьич узнал, запечалился: как так? что за штука? Пошёл к приказчику, да разве он скажет… Закричал только: «Не твоё дело!»
Ну, вот пошёл Данилушко работать на ново место, а Прокопьич ему наказывает:
— Ты, гляди, не торопись, Данилушко! Не оказывай себя.
Данилушко сперва остерегался. Примеривал да прикидывал больше, да тоскливо ему показалось. Делай — не делай, а срок отбывай — сиди у приказчика с утра до ночи. Ну, Данилушко от скуки и сорвался на полную силу. Чаша-то у него живой рукой и вышла из дела. Приказчик поглядел, будто так и надо, да и говорит:
— Ещё такую же делай!
Данилушко сделал другую, потом третью. Вот когда он третью-то кончил, приказчик и говорит:
— Теперь не увернёшься! Поймал я вас с Прокопьичем. Барин тебе, по моему письму, срок для одной чаши дал, а ты три выточил. Знаю твою силу. Не обманешь больше, а тому, старому псу, покажу, как потворствовать! Другим закажет!
Так об этом и барину написал, и чаши все три предоставил. Только барин, — то ли на него умный стих нашёл, то ли он на приказчика за что сердит был, — всё как есть наоборот повернул.
Оброк Данилушке назначил пустяковый, не велел парня от Прокопьича брать — может-де вдвоём скорее придумают что новенькое. При письме чертёж послал. Там тоже чаша нарисована со всякими штуками. По ободку кайма резная, на поясе лента каменная со сквозным узором, на подножке листочки. Одним словом, придумано. А на чертеже барин подписал: «Пусть хоть пять лет просидит, а чтобы такая в точности сделана была».
Пришлось тут приказчику от своего слова отступить. Объявил, что барин написал, отпустил Данилушку к Прокопьичу и чертёж отдал.
Повеселели Данилушко с Прокопьичем, и работа у них бойчее пошла. Данилушко вскоре за ту новую чашу принялся.
Хитрости в ней многое множество. Чуть неладно ударил, — пропала работа, снова начинай. Ну, глаз у Данилушки верный, рука смелая, силы хватит — хорошо идёт дело. Одно ему не по нраву — трудности много, а красоты ровно и вовсе нет. Говорил Прокопьичу, а он только удивился:
— Тебе-то что? Придумали — значит, им надо. Мало ли я всяких штук выточил да вырезал, а куда они — толком и не знаю.
Пробовал с приказчиком поговорить, так куда тебе. Ногами затопал, руками замахал:
— Ты очумел? За чертёж большие деньги плачены. Художник, может, по столице первый его делал, а ты пересуживать выдумал!
Потом, видно, вспомнил, что барин ему заказывал, — не выдумают ли вдвоём-то чего новенького, — и говорит:
— Ты вот что… делай эту чашу по барскому чертежу, а если другую от себя выдумаешь— твоё дело. Мешать не стану. Камня у нас, поди-ко, хватит. Какой надо — такой и дам.
Тут вот Данилушке думка и запала. Не нами сказано: чужое охаять — мудрости немного надо, а своё придумать— не одну ночку с боку на бок повертишься. Вот Данилушко сидит над этой чашей по чертежу-то, а сам про другое думает. Переводит в голове, какой цветок, какой листок к малахитовому камню лучше подойдёт. Задумчивый стал, невесёлый. Прокопьич заметил, спрашивает:
— Ты, Данилушко, здоров ли? Полегче бы с этой чашей. Куда торопиться? Сходил бы в разгулку куда, а то всё сидишь да сидишь.
— И то, — говорит Данилушко, — в лес хоть сходить. Не увижу ли, что мне надо.
С той поры и стал чуть не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, ягодное. Травы все в цвету. Данилушко остановится где на покосе, либо на полянке в лесу и стоит, смотрит. А то опять ходит по покосам да разглядывает траву-то, как ищет что. Людей в ту пору в лесу и на покосах много. Спрашивают Данилушку, — не потерял ли чего? Он улыбнётся этак невесело да и скажет:
— Потерять не потерял, а найти не могу.
Ну, которые и запоговаривали:
— Неладно с парнем.
А он придёт домой и сразу к станку да до утра и сидит, а с солнышком опять в лес да на покосы. Листки да цветки всякие домой притаскивать стал, а всё больше из объеди: черемицу да омег, дурман да багульник, да резуны всякие. С лица спал, глаза беспокойные стали, в руках смелость потерял. Прокопьич вовсе забеспокоился, а Данилушко и говорит:
— Чаша мне покою не даёт. Охота так её сделать, чтобы камень полную силу имел.
Прокопьич давай отговаривать:
— На что она тебе далась? Сыты ведь, чего ещё? Пущай бары тешатся, как им любо. Нас бы только не задевали. Придумают какой узор — сделаем, а навстречу им зачем лезть? Лишний хомут надевать — только и всего.
Ну, Данилушко на своём стоит.
— Не для барина, — говорит, — стараюсь. Не могу из головы выбросить ту чашу. Вижу, поди-ко, какой у нас камень, а мы, что с ним делаем? Точим да режем, да полер наводим и вовсе ни к чему. Вот мне и припало желанье так сделать, чтоб полную силу камня самому поглядеть и людям показать.
По времени отошёл Данилушко, сел опять за ту чашу, по барскому-то чертежу.
Работает, а сам посмеивается:
— Лента каменная с дырками, коёмочка резная…
Потом вдруг забросил эту работу. Другое начал. Без передышки у станка стоит. Прокопьичу сказал:
— По дурман-цветку свою чашу делать буду.
Прокопьич отговаривать принялся. Данилушко сперва и слушать не хотел, потом, дня через три-четыре, как у него какая-то оплошка вышла, и говорит Прокопьичу:
— Ну, ладно. Сперва барскую чашку кончу, потом за свою примусь. Только ты уж тогда меня не отговаривай. Не могу её из головы выбросить.
Прокопьич отвечает:
— Ладно, мешать не стану, — а сам думает: «Уходится парень, забудет. Женить его надо. Вот что! Лишняя дурь из головы вылетит, как семьёй обзаведётся».
Занялся Данилушко чашей. Работы с ней много — в один год не у кладёшь. Работает усердно, про дурман-цветок не поминает. Прокопьич и стал про женитьбу заговаривать:
— Вот хоть бы Катя Летемина— чем не невеста? Хорошая девушка… Похаять нечем.
Это Прокопьич-то от ума говорил. Он, вишь, давно заприметил, что Данилушко на эту девушку сильно поглядывал. Ну, и она не отворачивалась. Вот Прокопьич, будто ненароком, и заводил разговор. А Данилушко своё твердит:
— Погоди! Вот с чашкой управлюсь. Надоела мне она. Того и гляди — молотком стукну, а он про женитьбу! Уговорились мы с Катей. Подождёт она меня.
Ну, сделал Данилушко чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку маленькую придумали сделать. Катя — невеста-то — с родителями пришла, ещё которые… из мастеров же малахитных больше. Катя дивится на чашу.
— Как, — говорит, — только ты ухитрился узор такой вырезать и камня нигде не обломил! До чего всё гладко да чисто обточено!
Мастера тоже одобряют:
— В аккурат-де по чертежу. Придраться не к чему. Чисто сработано. Лучше не сделать, да и скоро. Так-то работать станешь — пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться.
Данилушко слушал-слушал да и говорит:
— То и горе, что похаять нечем. Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу, а красота где? Вон цветок… самый что ни на есть плохонький, а глядишь на него— сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит, всяк, как вон Катенька, подивится, какой-де у мастера глаз да рука, как у него терпенья хватило нигде камень не обломить.
— А где оплошал, — смеются мастера, — там подклеил да полером прикрыл, и концов не найдёшь.
— Вот-вот… А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь да цветочки режешь. На что они тут? Порча ведь это камня. А камень-то какой! Первый камень! Понимаете, первый!
Горячиться стал. Выпил, видно, маленько.
Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопьич не раз говорил:
— Камень — камень и есть. Что с ним сделаешь? Наше дело такое — точить да резать.
Только был тут старичок один. Он ещё Прокопьича и тех — других-то мастеров — учил. Все его дедушком звали. Вовсе ветхий старичонко, а тоже этот разговор понял да и говорит Данилушке:
— Ты, милый сын, по этой половице не ходи! Из головы выбрось! А то попадёшь к Хозяйке в горные мастера…
— Какие мастера, дедушко?
— А такие… в горе живут, никто их не видит… Что Хозяйке понадобится, то они и сделают. Случилось мне раз видеть. Вот работа! От нашей, от здешней, наотличку.
Всем любопытно стало. Спрашивают, — какую поделку видел.
— Да змейку, — говорит, — ту же, какую вы на зарукавье точите.
— Ну, и что? Какая она?
— От здешних, говорю, наотличку. Любой мастер увидит, сразу узнает — не здешняя работа. У наших змейка, сколь чисто ни выточат, каменная, а тут как есть живая. Хребтик чёрненький, глазки… Того и гляди — клюнет. Им ведь что! Они цветок каменный видали, красоту поняли.
Данилушко, как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика. Тот по совести сказал:
— Не знаю, милый сын. Слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет.
Данилушко на это и говорит:
— Я бы поглядел.
Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхалась:
— Что ты, что ты, Данилушко! Неуж тебе белый свет наскучил? — да в слёзы. Прокопьич и другие мастера сметили дело, давай старого мастера на смех подымать.
— Выживаться из ума, дедушко, стал. Сказки сказываешь. Парня зря с пути сбиваешь.
Старик разгорячился, по столу стукнул:
— Есть такой цветок! Парень правду говорит, — камень мы не разумеем. В том цветке красота показана.
Мастера смеются:
— Хлебнул, дедушко, лишка!
А он своё:
— Есть каменный цветок!
Разошлись гости, а у Данилушки тот разговор из головы не выходит. Опять стал в лес бегать да около своего дурман-цветка ходить, а про свадьбу и не поминает.
Прокопьич уже понуждать стал:
— Что ты девушку позоришь? Который год она в невестах ходить будет? Того жди — пересмеивать её станут. Мало смотниц-то?
Данилушко одно своё:
— Погоди ты маленько! Вот только придумаю да камень подходящий подберу.
И повадился на медный рудник — на Гумёшки-то. Когда в шахту спустится, по забоям обойдёт, когда наверху камни перебирает. Раз как-то поворотил камень, оглядел его да и говорит:
— Нет, не тот…
Только это промолвил, кто-то и говорит:
— В другом месте поищи… У Змеиной горки.
Глядит Данилушко, — никого нет. Кто бы это? Шутят, что ли… Будто и спрятаться негде. Поогляделся ещё, пошёл домой, а вслед ему опять.
— Слышишь, Данило-мастер? У Змеиной горки, говорю.
Оглянулся Данилушко, — женщина какая-то чуть видна, как туман голубенький. Потом ничего не стало.
«Что, — думает, — за штука? Неуж сама? А что, если сходить на Змеиную-то?»
Змеиную горку Данилушко хорошо знал. Тут же она была, недалеко от Гумёшек. Теперь её нет, давно всю срыли, а раньше камень поверху брали.
Вот на другой день и пошёл туда Данилушко. Горка хоть небольшая, а крутенькая. С одной стороны и вовсе как срезано. Глядельце тут первосортное. Все пласты видно, лучше некуда.
Подошёл Данилушко к этому глядельцу, а тут малахитина выворочена. Большой камень — на руках не унести, и будто обделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушко эту находку. Всё, как ему надо: цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется… Ну, всё как есть… Обрадовался Данилушко, скорей за лошадью побежал, привёз камень домой, говорит Прокопьичу:
— Гляди-ко, камень какой! Ровно нарочно для моей работы. Теперь живо сделаю. Тогда и жениться. Верно, заждалась меня Катенька. Да и мне это не легко. Вот только эта работа меня и держит. Скорее бы её кончить!
Ну, и принялся Данилушко за тот камень. Ни дня, ни ночи не знает. А Прокопьич помалкивает. Может, угомонится парень, как охотку стешит. Работа ходко идёт. Низ камня отделал. Как есть, слышь-ко, куст дурмана. Листья широкие кучкой, зубчики, прожилки — всё пришлось лучше нельзя. Прокопьич и то говорит — живой цветок-то, хоть рукой пощупать. Ну, а как до верху дошёл — тут заколодило. Стебелёк выточил, боковые листики тонёхоньки — как только держатся! Чашку, как у дурман-цветка, а не то… Не живой стал и красоту потерял. Данилушко тут и сна лишился. Сидит над этой своей чашей, придумывает, как бы поправить, лучше сделать. Прокопьич и другие мастера, кои заходили поглядеть, дивятся, — чего ещё парню надо? Чашка вышла — никто такой не делывал, а ему неладно. Умуется парень, лечить его надо. Катенька слышит, что люди говорят, — поплакивать стала. Это Данилушку и образумило.
— Ладно, — говорит, — больше не буду. Видно, не подняться мне выше-то, не поймать силу камня. — И давай сам торопить со свадьбой. Ну, а что торопить, коли у невесты давным-давно всё готово. Назначили день. Повеселел Данилушко. Про чашу-то приказчику сказал. Тот прибежал, глядит— вот штука какая! Хотел сейчас эту чашу барину отправить, да Данилушко говорит:
— Погоди маленько, доделка есть.
Время осеннее было. Как раз около Змеиного праздника свадьба пришлась. К слову, кто-то и помянул про это — вот-де скоро змеи все в одно место соберутся. Данилушко эти слова на приметку взял. Вспомнил опять разговоры о малахитовом цветке. Так его и потянуло: «Не сходить ли последний раз к Змеиной горке? Не узнаю ли там чего?» — и про камень припомнил: «Ведь как положенный был! И голос на руднике-то… про Змеиную же горку говорил».
Вот и пошёл Данилушко. Земля тогда уже подмерзать стала, и снежок припорашивал. Подошёл Данилушко ко крутику, где камень брал, глядит, а на том месте выбоина большая, будто камень ломали. Данилушко о том не подумал, кто это камень ломал, зашёл в выбоину. «Посижу, — думает, — отдохну за ветром. Потеплее тут». Глядит — у одной стены камень-серовик, вроде стула. Данилушко тут и сел, задумался, в землю глядит, а всё цветок тот каменный из головы нейдёт. «Вот бы поглядеть!» Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушко поднял голову, а напротив, у другой-то стены, сидит медной горы Хозяйка. По красоте-то да по платью малахитову Данилушко сразу её признал. Только и то думает:
«Может, мне это кажется, а на деле никого нет». Сидит — молчит, глядит на то место, где Хозяйка, и будто ничего не видит. Она тоже молчит, вроде как призадумалась. Потом и спрашивает:
— Ну, что, Данило-мастер, не вышла твоя дурман-чаша?
— Не вышла, — отвечает.
— А ты не вешай голову-то! Другое попытай. Камень тебе будет, по твоим мыслям.
— Нет, — отвечает, — не могу больше. Измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок.
— Показать-то, — говорит, — просто, да потом жалеть будешь.
— Не отпустишь из горы?
— Зачем не отпущу! Дорога открыта, да только ко мне же ворочаются.
— Покажи, сделай милость!
Она ещё его уговаривала:
— Может, ещё попытаешь сам добиться! — Про Прокопьича тоже помянула — Он-де тебя пожалел, теперь твой черёд его пожалеть. — Про невесту напомнила — Души в тебе девка не чает, а ты на сторону глядишь.
— Знаю я, — кричит Данилушко, — а только без цветка мне жизни нет. Покажи!
— Когда так, — говорит, — пойдем, Данило-мастер, в мой сад.
Сказала и поднялась. Тут и зашумело что-то, как осыпь земляная. Глядит Данилушко, а стен никаких нет. Деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные. Которые мраморные, которые из змеевика-камня… Ну, всякие… Только живые, с сучьями, с листочками. От ветру-то покачиваются и гол к дают, как галечками кто подбрасывает. Понизу трава, тоже каменная. Лазоревая, красная… разная… Солнышка не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев змейки золотенькие трепыхаются, как пляшут. От них и свет идёт.
И вот подвела та девица Данилушку к большой полянке. Земля тут, как простая глина, а по ней кусты чёрные, как бархат. На этих кустах большие зелёные колокольцы малахитовы и в каждом сурьмяная звёздочка. Огневые пчёлки над теми цветками сверкают, а звёздочки тонёхонько позванивают, ровно поют.
— Ну, Данило-мастер, поглядел? — спрашивает Хозяйка.
— Не найдёшь, — отвечает Данилушко, — камня, чтобы так-то сделать.
— Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а теперь не могу. — Сказала и рукой махнула. Опять зашумело, и Данилушко на том же камне, в ямине-то этой оказался. Ветер так и свистит. Ну, известно, осень.
Пришёл Данилушко домой, а в тот день как раз у невесты вечеринка была. Сначала Данилушко весёлым себя показывал — песни пел, плясал, а потом и затуманился. Невеста даже испугалась.
— Что с тобой? Ровно на похоронах ты!
А он и говорит:
— Голову разломило. В глазах чёрное с зелёный да красным. Света не вижу.
На этом вечеринка и кончилась. По обряду невеста с подружками провожать жениха пошла. А много ли дороги, коли через дом либо через два жили. Вот Катенька и говорит:
— Пойдёмте, девушки, кругом. По нашей улице до конца дойдём, а по Еланской воротимся.
Про себя думает: «Пообдует Данилушку ветром, — не лучше ли ему станет».
А подружкам что… Рады-радёхоньки.
— И то, — кричат, — проводить надо. Шибко он близко живёт — провожальную песню ему по-доброму вовсе не певали.
Ночь-то тихая была, и снежок падал. Самое для разгулки время. Вот они и пошли. Жених с невестой попереду, а подружки невестины с холостяжником, который на вечеринке был, поотстали маленько. Завели девки эту песню провожальную. А она протяжно да жалобно поётся, чисто по покойнику. Катенька видит — вовсе ни к чему это: «И без того Данилушко у меня невесёлый, а они ещё такое причитанье петь придумали».
Старается отвести Данилушку на другие думки. Он разговорился было, да только скоро опять запечалился. Подружки Катенькины тем временем провожальную кончили, за весёлые принялись. Смех у них да беготня, а Данилушко идёт, голову повесил. Сколь Катенька ни старается, не может развеселить. Так и до дому дошли. Подружки с холостяжником стали расходиться — кому куда, а Данилушко без обряду невесту свою проводил и домой пошёл.
Прокопьич давно спал. Данилушко потихоньку зажёг огонь, выволок свои чаши на середину избы и стоит, оглядывает их. В это время Прокопьича кашлем бить стало. Так и надрывается. Он, вишь, к тем годам вовсе нездоровый стал. Кашлем-то этим Данилушку, как ножом по сердцу, резнуло. Всю прежнюю жизнь припомнил. Крепко жаль ему старика стало. А Прокопьич прокашлялся, спрашивает:
— Ты что это с чашами-то?
— Да вот гляжу, не пора ли сдавать?
— Давно, — говорит, — пора. Зря только место занимают. Лучше всё равно не сделаешь.
Ну, поговорили ещё маленько, потом Прокопьич опять уснул. И Данилушко лёг, только сна ему нет и нет. Поворочался-поворочался, опять поднялся, зажёг огонь, поглядел на чаши, подошёл к Прокопьичу. Постоял тут над стариком-то, повздыхал…
Потом взял балодку да как ахнет по дурман-цветку, — только схрупало. А ту чашу, — по барскому-то чертежу, — не пошевелил! Плюнул только в серёдку и выбежал. Так с той поры Данилушки и найти не могли.
Кто говорит, что он ума решился, в лесу загинул, а кто опять сказывал — Хозяйка взяла его в горные мастера.
На деле по-другому вышло. Про то дальше сказ будет.
1937 г.
Малахитовая шкатулка
Настасьи Степановой-то вдовы, шкатулка малахитова осталась. Со всяким женским прибором. Кольца там, серьги и протча по женскому обряду. Сама Хозяйка медной горы одарила Степана этой шкатулкой, как он ещё жениться собирался.
Настасья в сиротстве росла, не привыкла к этому-то богатству да и не шибко любительница была моду выводить. С первых годов, как жили со Степаном, надёвывала, конечно, из этой шкатулки. Только, не к душе ей пришлось. Наденет кольцо… Ровно как раз впору, не жмёт, не скатывается, а пойдёт в церкву или в гости куда — замается. Как закованный палец-от, в конце нали посинеет. Серьги навесит — хуже того. Уши так и оттянет, что мочки распухнут. А на руку взять — не тяжелее тех, какие Настасья всегда носила. Буски в шесть ли семь рядов только раз и примерила. Как лёд кругом шеи-то и не согреваются нисколько. На люди те буски вовсе не показывала. Стыдно было.
— Ишь, скажут, какая царица в Полевой выискалась!
Степан тоже не понуждал жену носить из этой шкатулки. Раз даже как-то сказал:
— Убери-ко куда от греха подальше.
Настасья и поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и протча про запас держат.
Как Степан умер да камешки у него в мёртвой руке оказались, Настасье и причтелось ту шкатулку чужим людям показать. А тот знающий, который про Степановы камешки обсказал, и говорит Настасье потом, как народ схлынул:
— Ты, гляди, не мотни эту шкатулку за пустяк. Больных тысяч она стоит.
Он, этот человек-от, учёной был, тоже из вольных. Ране-то в щегарях ходил, да его отстранили: ослабу-де народу даёт. Ну, и винцом не брезговал. Тоже добра кабацка затычка был, не тем будь помянут, покойна головушка. А так во всём правильный. Прошенье написать, пробу смыть, знаки оглядеть — всё по совести делал, не как иные протчие, абы на полштофа сорвать. Кому-кому, а ему всяк поднесёт стаканушку праздничным делом. Так он на нашем заводе и до смерти дожил. Около народа питался.
Настасья от мужа слыхала, что этот щегарь правильный и в делах смышлёный, даром что к винишку пристрастье поимел. Ну, и послушалась его.
— Ладно, — говорит, — поберегу на чёрный день. — И поставила шкатулку на старо место.
Схоронили Степана, сорочины отправили честь-честью. Настасья — баба в соку да и с достатком, — стали к ней присватываться. А она — женщина умная, говорит всем одно:
— Хоть золотой второй, а всё робятам вотчим.
Ну, отстали по времени.
Степан хорошее обеспечение семье оставил. Дом справный, лошадь, корова, обзаведенье полное. Настасья баба работящая, робятишки пословные, не охтимнеченьки живут. Год живут, два живут, три живут. Ну, забеднели всё-таки. Где же одной женщине с малолетками хозяйство управить! Тоже ведь и копейку добыть где-то надо. На соль хоть. Тут родня и давай Настасье в уши напевать:
— Продай шкатулку-то! На что она тебе? Что впусте добру лежать. Всё едино и Танюшка, как вырастет, носить не будет. Вон там штучки какие! Только барам да купцам впору покупать. С нашим-то ремьём не наденешь эко место. А люди деньги бы дали. Разоставок тебе.
Одним словом, наговаривают. И покупатель, как ворон на кости, налетел. Из купцов всё. Кто сто рублей даёт, кто двести.
— Робят-де твоих жалеем, по вдовьему положению нисхождение делаем.
Ну, оболванить ладят бабу, да не на ту попали.
Настасья хорошо запомнила, что ей старый щегарь говорил, не продаёт за такой пустяк. Тоже и жалко. Как-никак женихово подаренье, мужнина память. А пуще того девчоночка у ней младшенькая слезами улилась, просит:
— Мамонька, не продавай! Мамонька, не продавай! Лучше я в люди пойду, а тятину памятку побереги.
От Степана, вишь, осталось трое ребятишек-то. Двое парнишечки. Робята как робята, а эта, как говорится, ни в мать, ни в отца. Ещё при Степановой бытности, как вовсе маленькая была, на эту девчоночку люди дивовались. Не то что девки-бабы, а и мужики Степану говорили:
— Не иначе эта у тебя, Степан, из кистей выпала. В кого только зародилась! Сама чёрненька да бассенька, и глазки зелёненьки. На наших девчонок будто и вовсе не походит.
Степан пошутит, бывало:
— Это не диво, что чёрненька. Отец-то ведь с малых лет в земле скыркался. А что глазки зелёные — тоже дивить не приходилось. Мало ли я малахиту барину Турчанинову набил. Вот памятка мне и осталась.
Так эту девчоночку Памяткой и звал. — Ну-ко ты, Памятка моя! — И когда случалось ей что покупать, так завсегда голубенького либо зелёного принесёт.
Вот и росла та девчоночка на примете у людей. Ровно и всамделе гарусинка из праздничного пояса выпала — далеко её видно. И хоть она не шибко к чужим людям ластилась, а всяк ей — Танюшка да Танюшка. Самые завидущие бабёшки, и те любовались. Ну, как, — красота! Всякому мило. Одна мать повздыхивала:
— Красота-то — красота, да не наша. Ровно кто подменил мне девчонку.
По Степану шибко эта девчоночка убивалась. Чисто уревелась вся, с лица похудела, одни глаза остались. Мать и придумала дать Танюшке ту шкатулку малахитову — пущай-де позабавится. Хоть маленькая, а девчоночка, — с малых лет им лестно на себя-то навздевать. Танюшка и занялась разбирать эти штучки. И вот диво — которую примеряет, та и по ней. Мать-то иное и не знала к чему, а эта всё знает. Да ещё говорит:
— Мамонька, сколь хорошо тятино-то подаренье! Тепло от него, будто на пригревинке сидишь, да ещё кто тебя мягким гладит.
Настасья сама нашивала, помнит, как у неё пальцы затекали, уши болели, шея не могла согреться. Вот и думает: «Неспроста это. Ой, неспроста!» — да поскорее шкатулку-то опять в сундук. Только Танюшка с той поры нет-нет и запросит:
— Мамонька, дай поиграть тятиным подареньем?
Настасья когда и пристрожит, ну, материнско сердце — пожалеет, достанет шкатулку, только накажет:
— Не изломай чего!
Потом, когда подросла Танюшка, она и сама стала шкатулку доставать. Уедет мать со старшими парнишечками на покос или ещё куда, Танюшка останется домовничать. Сперва, конечно, управит, что мать наказывала. Ну, чашки-ложки перемыть, скатёрку стряхнуть, в избе-сенях веничком подмахнуть, куричёшкам корму дать, в печке поглядеть. Справит всё поскорее, да и за шкатулку. Из верхних-то сундуков к тому времени один остался, да и тот лёгонький стал. Танюшка сдвинет его на табуреточку, достанет шкатулку и перебирает камешки, любуется, на себя примеряет.
Раз к ней и забрался хитник. То ли он в ограде спозаранку прихоронился, то ли потом незаметно где пролез, только из суседей никто не видал, чтобы он по улице проходил. Человек незнамый, а по делу видать — кто-то навёл его, весь порядок обсказал.
Как Настасья уехала, Танюшка побегала много-мало по хозяйству и забралась в избу поиграть отцовскими камешками. Надела наголовник, серьги навесила. В это время и пых в избу этот хитник. Танюшка оглянулась — на пороге мужик незнакомый, с топором. И топор-то ихний. В сенках, в уголочке стоял. Только что Танюшка его переставляла, как в сенках мела. Испугалась Танюшка, сидит, как замерла, а мужик сойкнул, топор выронил и обеими руками глаза захватил, как обожгло их.
Стонет-кричит:
— Ой, батюшки, ослеп я! Ой, ослеп! — а сам глаза трёт.
Танюшка видит — неладно с человеком, стала спрашивать:
— Ты как, дяденька, к нам зашёл, пошто топор взял?
А тот, знай, стонет да глаза свои трёт. Танюшка его и пожалела, — зачерпнула ковшик воды, хотела подать, а мужик так и шарахнулся спиной к двери.
— Ой, не подходи! — Так в сенках и сидел и двери завалил, чтобы Танюшка ненароком не выскочила. Да она нашла ход — выбежала через окошко и к суседям. Ну, пришли. Стали спрашивать, что за человек, каким случаем? Тот промигался маленько, объясняет — проходящий-де, милостинку хотел попросить, да что-то с глазами попритчилось.
— Как солнцем ударило. Думал — вовсе ослепну. От жары, что ли.
Про топор и камешки Танюшка суседям не сказала. Те и думают:
«Пустяшно дело. Может, сама же забыла ворота запереть, вот проходящий и зашел, а тут с ним и случилось что-то. Мало ли бывает».
До Настасьи всё-таки проходящего не отпустили. Когда она с сыновьями приехала, этот человек ей рассказал, что суседям рассказывал. Настасья видит — всё в сохранности, вязаться не стала. Ушёл тот человек, и суседи тоже.
Тогда Танюшка матери и выложила, как дело было. Тут Настасья и поняла, что за шкатулкой приходил, да взять-то её, видно, не просто. А сама думает:
«Оберегать-то ей всё-таки покрепче надо».
Взяла да потихоньку от Танюшки и других ребят и зарыла ту шкатулку в голбец.
Уехали опять все семейные. Танюшка хватилась шкатулки, а её быть-бывало. Горько это показалось Танюшке, а тут вдруг теплом её опахнуло. Что за штука? Откуда? Огляделась, а из-под полу свет. Танюшка испугалась — не пожар ли? Заглянула в голбец, там в одном уголке свет. Схватила ведро, плеснуть хотела — только ведь огня-то нет и дымом не пахнет. Покопалась в том месте, видит — шкатулка. Открыла, а камни-то ровно ещё краше стали. Так и горят разными огоньками, и светло от них, как при солнышке.
Танюшка и в избу не потащила шкатулку. Тут в голбце и наигралась досыта.
Так с той поры и повелось. Мать думает: «Вот хорошо спрятала, никто не знает», а дочь, как домовничать, так и урвёт часок поиграть дорогим отцовским подареньем. Насчёт продажи Настасья и говорить родне не давала.
— По миру впору придёт — тогда продам.
Хоть круто ей приходилось, — а укрепилась. Так ещё сколько-то годов перемогались, дальше на поправу пошло. Старшие ребята стали зарабатывать маленько, да и Танюшка не сложа руки сидела. Она, слышь-ко, научилась шелками да бисером шить. И так научилась, что самолучшие барские мастерицы руками хлопали — откуда узоры берёт, где шелка достаёт?
А тоже случаем вышло. Приходит к ним женщина. Небольшого росту, чернявая, в Настасьиных уж годах, а востроглазая и, по всему видать, шмыгало такое, что только держись. На спине котомочка холщёвая, в руке черёмуховый бадожок, вроде как странница. Просится у Настасьи:
— Нельзя ли, хозяюшка, у тебя денёк-другой отдохнуть? Ноженьки не несут, а идти не близко.
Настасья сперва подумала, не подослана ли опять за шкатулкой, потом всё-таки пустила.
— Места не жалко. Не пролежишь, поди, и с собой не унесёшь. Только вот кусок-от у нас сиротский. Утром — лучок с кваском, вечером — квасок с лучком, вся и перемена. Отощать не боишься, так милости просим, живи, сколь надо.
А странница уж бадожок свой поставила, котомку на припечье положила и обуточки снимает. Настасье это не по нраву пришлось, а смолчала.
«Ишь, неочесливая! Приветить её не успели, а она на-ко — обутки сняла и котомку развязала».
Женщина, и верно, котомочку расстегнула и пальцем манит к себе Танюшку:
— Иди-ко, дитятко, погляди на моё рукоделье. Коли поглянется, и тебя выучу… Видать цепкий глазок-от на это будет!
Танюшка подошла, а женщина и подаёт ей ширинку маленькую, концы шёлком шиты. И такой-то, слышь-ко, жаркий узор на той ширинке, что ровно в избе светлее и теплее стало. Танюшка так глазами и впилась, а женщина посмеивается.
— Поглянулось, знать, доченька, моё рукодельице? Хочешь — выучу?
— Хочу, — говорит.
Настасья так и взъелась:
— И думать забудь! Соли купить не на что, а ты придумала шелками шить! Припасы-то, поди-ка, денег стоят.
— Про то не беспокойся, хозяюшка, — говорит странница. — Будет понятие у доченьки — будут и припасы. За твою хлеб-соль оставлю ей, — надолго хватит. А дальше сама увидишь. За наше-то мастерство денежки платят. Не даром отдаём. Кусок имеем.
Тут Настасье уступить пришлось.
— Коли припасов уделишь, так о чём не поучиться. Пущай поучится, сколь понятия хватит. Спасибо тебе скажу.
Вот эта женщина и занялась Танюшку учить. Скорёхонько Танюшка всё переняла, будто раньше которое знала. Да вот ещё что. Танюшка не то что к чужим, к своим неласковая была, а к этой женщине так и льнёт, так и льнёт. Настасья скоса запоглядывала:
«Нашла себе новую родню. К матери не подойдёт, а к бродяжке прилипла!»
А та ещё ровно дразнит, всё Танюшку дитятком да доченькой зовёт, а крещёное имя ни разочку не помянула. Танюшка видит, что мать в обиде, а не может себя сдержать. До того, слышь-ко, вверилась этой женщине, что ведь сказала ей про шкатулку-то!
— Есть, — говорит, — у нас дорогая тятина памятка — шкатулка малахитова. Вот где каменья! Век бы на них глядел.
— Мне покажешь, доченька? — спрашивает женщина.
Танюшка даже не подумала, что это неладно.
— Покажу, — говорит, — когда дома никого из семейных не будет.
Как вывернулся такой часок, Танюшка и позвала ту женщину в голбец. Достала Танюшка шкатулку, показывает, а женщина поглядела маленько да и говорит:
— Надень-ка на себя — виднее будет.
Ну, Танюшка, — не того слова, — стала надевать, а та, знай, похваливает.
— Ладно, доченька, ладно! Капельку только поправить надо.
Подошла поближе да и давай пальцем в камешки тыкать. Который заденет — тот и загорится по-другому. Танюшке иное видно, иное — нет. После этого женщина и говорит:
— Встань-ко, доченька, пряменько.
Танюшка встала, а женщина и давай её потихоньку гладить по волосам, по спине. Всю огладила, а сама наставляет:
— Заставлю тебя повернуться, так ты, смотри, на меня не оглядывайся. Вперёд гляди, примечай, что будет, а ничего не говори. Ну, поворачивайся!
Повернулась Танюшка — перед ней помещенье, какого она отродясь не видывала. Не то церква, не то что. Потолки высоченные на столбах из чистого малахиту. Стены тоже в рост человека малахитом выложены, а по верхнему карнизу малахитовый узор прошёл. Прямо перед Танюшкой, как вот в зеркале, стоит красавица, про каких только в сказках сказывают. Волосы, как ночь, а глаза зелёные. И вся-то она изукрашена дорогими каменьями, а платье на ней из зелёного бархату с переливом. И так это платье сшито, как вот у цариц на картинках. На чём только держится. Со стыда бы наши заводские сгорели на людях такое надеть, а эта зелёноглазая стоит себе спокойнёшенько, будто так и надо. Народу в том помещеньи полно. По-господски одеты и все в золоте да заслугах. У кого спереду навешано, у кого сзаду нашито, а у кого и со всех сторон. Видать, самое вышнее начальство. И бабы ихние тут же. Тоже голоруки, гологруды, каменьями увешаны. Только где им до зелёноглазой! Ни одна в подмётки не годится.
В ряд с зелёноглазой какой-то белобрысенький. Глаза враскос, уши пенёчками, как есть заяц. А одёжа на нём — уму помраченье. Этому золота-то мало показалось, так он, слышь-ко, на обую камни насадил. Да такие сильные, что, может, в десять лет один такой найдут. Сразу видать — заводчик это.
Лопочет тот заяц зелёноглазой-то, а она хоть бы бровью повела, будто его вовсе нет.
Танюшка глядит на эту барыню, дивится на неё и только тут заметила:
— Ведь каменья-то на ней тятины! — сойкала Танюшка, и ничего не стало.
А женщина та посмеивается:
— Не доглядела, доченька! Не тужи, по времени доглядишь.
Танюшка, конечно, доспрашивается — где это такое помещенье?
— А это, — говорит, — царский дворец. Та самая палата, коя здешним малахитом изукрашена. Твой покойный отец его добывал-то.
— А это кто в тятиных уборах и какой это с ней заяц?
— Ну, этого не скажу, сама скоро узнаешь.
В тот же день, как пришла Настасья домой, эта женщина собираться в дорогу стала. Поклонилась низенько хозяйке, подала Танюшке узелок с шелками да бисером, потом достала пуговку махонькую. То ли она из стекла, то ли из дурмашка на простую грань обделана.
Подаёт её Танюшке да и говорит:
— Прими-ко, доченька, от меня памятку. Как что забудешь по работе либо трудный случай подойдёт, погляди на эту пуговку. Тут тебе ответ и будет.
Сказала так-то и ушла. Только её и видели.
С той поры Танюшка и стала мастерицей, а уж в годы входить стала, вовсе невестой глядит. Заводские парни о Настасьины окошки глаза обмозолили, а подступить к Танюшке боятся. Вишь, неласковая она, невесёлая, да и за крепостного где же вольная пойдёт. Кому охота петлю надевать?
В барском доме тоже проведали про Танюшку из-за мастерства-то её. Подсылать к ней стали. Лакея помоложе да поладнее оденут по-господски, часы с цепкой дадут и пошлют к Танюшке, будто за делом каким. Думают, не обзарится ли девка на экого молодца. Тогда её обратать можно. Толку всё-таки не выходило. Скажет Танюшка что по делу, а другие разговоры того лакея безо внимания. Надоест, так ещё надсмешку подстроит:
— Ступай-ко, любезный, ступай! Ждут ведь. Боятся, поди, как бы у тебя часы потом не изошли и цепка не помедела. Вишь, без привычки-то как ты их мозолишь.
Ну, лакею или другому барскому служке эти слова, как собаке кипяток.
Бежит, как ошпаренный, фырчит про себя:
— Разве это девка? Статуй каменный, зелёноглазый! Такую ли найдём!
Фырчит так-то, а самого уж захлестнуло. Которого пошлют, забыть не может Танюшкину красоту. Как приворожённого к тому месту тянет, — хоть мимо пройти, в окошко поглядеть. По праздникам чуть не всему заводскому холостяжнику дело на той улице. Дорогу у самых окошек проторили, а Танюшка и не глядит.
Суседки уж стали Настасью корить:
— Что это у тебя Татьяна шибко высоко себя повела? Подружек у ней нет, на парней глядеть не хочет. Царевича-королевича ждёт аль в христовы невесты ладится?
Настасья на эти покоры только вздыхает:
— Ой, бабоньки, и сама не ведаю. И так-то у меня девка мудрёная была, а колдунья эта проходящая вконец её извела. Станешь ей говорить, а она уставится на свою колдовскую пуговку и молчит. Так бы и выбросила эту проклятую пуговку, да по делу она ей на пользу. Как шелка переменить или что, так в пуговку и глядит. Казала и мне, да у меня, видно, глаза тупы стали, не вижу. Налупила бы девку, да, вишь, она у нас старательница. Почитай, её работой только и живём. Думаю-думаю так-то и зареву. Ну, тогда она скажет: «Мамонька, ведь знаю я, что тут моей судьбы нет. То никого и не привечаю и на игрища не хожу. Что зря людей в тоску вгонять? А что под окошком сижу, так работа моя того требует. За что на меня приходишь? Что я худого сделала?» Вот и ответь ей!
Ну, жить всё-таки ладно стали. Танюшкино рукоделье на моду пошло. Не то что в заводе аль в нашем городе, по другим местам про него узнали, заказы посылают и деньги платят немалые. Доброму мужику впору столько-то заробить. Только тут беда их и пристигла — пожар случился. А ночью дело было. Пригон, завозня, лошадь, корова, спасть всяка — всё сгорело. С тем только и остались, в чём выскочили. Шкатулку однако Настасья выхватила, успела-таки. На другой день и говорит:
— Видно, край пришёл — придётся продать шкатулку.
Сыновья в один голос:
— Продавай, мамонька. Не продешеви только.
Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там зелёноглазая маячит — пущай продают. Горько стало Танюшке, а что поделаешь? Всё равно уйдёт отцова памятка этой зелёноглазой. Вздохнула и говорит:
— Продавать — так продавать. И даже не стала на прощанье те камни глядеть. И то сказать — у суседей приютились, где тут раскладываться.
Придумали так — продать-то, а купцы уж тут как тут. Кто, может сами поджог-от подстроил, чтобы шкатулкой завладеть. Тоже ведь народишко-то — ноготок — доцарапается! Видят, — робята подросли — больше дают. Пятьсот там, семьсот, один до тысячи дошёл. По заводу деньги немалые, можно на их обзавестись. Ну, Настасья запросила все-таки две тысячи. Ходят, значит, к ней, рядятся. Накидывают помаленьку, а сами друг от друга таятся, сговориться меж собой не могут. Вишь, кусок-от такой — ни одному отступиться неохота. Пока они так-то ходили, в Полевую и приехал новый приказчик.
Когда ведь они — приказчики-то — подолгу сидят, а в те годы им какой-то перевод случился. Душного козла, который при Степане был, старый барин на Крылатовско за вонь отставил. Потом был Жареный Зад. Рабочие его на болванку посадили. Тут заступил Северьян Убойца. Этого опять Хозяйка медной горы в пусту породу перекинула. Там ещё двое ли, трое каких-то были, а потом и приехал этот.
Он, сказывают, из чужестранных земель был, на всяких языках будто говорил, а по-русски похуже. Чисто-то выговаривал одно — пароть. Свысока так, с растяжкой — па-роть. О какой недостаче ему заговорят, одно кричит: пароть! Его Паротей и прозвали.
На деле этот Паротя не шибко худой был. Он хоть кричал, а вовсе народ на пожарну не гонял. Тамощним охлёстышам вовсе и дела не стало. Вздохнул маленько народ при этом Пароте.
Тут, вишь, штука-то в чём. Старый барин к той поре вовсе утлый стал, еле ногами перебирал. Он и придумал сына женить на какой-то там графине ли, что ли. Ну, а у этого молодого барина была полюбовница, и он к ей большую приверженность имел. Как делу быть? Неловко всё-таки. Что новые сватовья скажут? Вот старый барин и стал сговаривать ту женщину — сынову-то полюбовницу — за музыканта. У барина же этот музыкант служил. Робятишек на музыках обучал и так разговору чужестранному, как ведётся по ихнему положению.
— Чем, — говорит, — тебе так-то жить на худой славе, выходи-ко ты замуж. Приданым тебя оделю, а мужа приказчиком в Полевую пошлю. Там дело направлено, пущай только построже народ держит. Хватит, поди, на это толку, что хоть и музыкант. А ты с ним лучше лучшего проживёшь в Полевой-то. Первый человек, можно сказать, будешь. Почёт тебе, уважение от всякого. Чем плохо?
Бабочка сговорчивая оказалась. То ли она в рассорке с молодым барином была, то ли хитрость поимела.
— Давно, — говорит, — об этом мечтанье имела, да сказать не насмелилась.
Ну, музыкант, конечно, сперва упёрся:
— Не желаю, — шибко про неё худа слава, потаскуха вроде.
Только барин — старичонко хитрый. Недаром заводы нажил. Живо обломал этого музыканта. Припугнул чем али улестил, либо подпоил — ихнее дело, только вскорости свадьбу справили, и молодые поехали в Полевую. Так вот Паротя и появился в нашем заводе. Недолго только прожил, а так — что зря говорить — человек не вредный. Потом, как Полторы Хари вместо его заступил — из своих заводских, так жалели даже этого Паротю.
Приехал с женой Паротя как раз в ту пору, как купцы Настасью обхаживали. Паротина баба тоже видная была. Белая да румяная — однем словом, полюбовница.
Небось, худу-то бы не взял барин. Тоже, поди, выбирал! Вот эта Паротина жена и прослышала, — шкатулку продают. «Дай-ко, — думает, — посмотрю, может, всамделе стоющее что». Живёхонько срядилась и прикатила к Настасье. Им ведь лошадки-то заводские завсегда готовы!
— Ну-ко, — говорит, — милая, покажи, какие-такие камешки продаёшь?
Настасья достала шкатулку, показывает. У Паротиной бабы и глаза забегали.
Она, слышь-ко, в Сам-Петербурхе воспитывалась, в заграницах разных с молодым барином бывала, толк в этих нарядах имела. «Что же это, — думает, — такое? У самой царицы эдаких украшениев нет, а тут на-ко — в Полевой, у погорельцев! Как бы только не сорвалась покупочка».
— Сколько, — спрашивает, — просишь?
Настасья говорит:
— Две бы тысячи охота взять.
— Ну, милая, собирайся! Поедем ко мне со шкатулкой. Там деньги сполна получишь.
Настасья, однако, на это не подалась.
— У нас, — говорит, — такого обычая нет, чтобы хлеб за брюхом ходил. Принесёшь деньги — шкатулка твоя.
Барыня видит — вон какая женщина, — живо скрутилась за деньгами, а сама наказывает.
— Ты уж, милая, не продавай шкатулку.
Настасья отвечает:
— Это будь в надежде. От своего слова не отопрусь. До вечера ждать буду, а дальше моя воля.
Уехала Паротина жена, а купцы-то и набежали все разом. Они, вишь, следили. Спрашивают:
— Ну, как?
— Запродала, — отвечает Настасья.
— За сколь?
— За две, как назначила.
— Что ты, — кричит, — ума решилась али что! В чужие руки отдаёшь, а своим отказываешь! — И давай-ко цену набавлять.
Ну, Настасья на эту удочку не клюнула.
— Это, — говорит, — вам привышно дело в словах вертеться, а мне не доводилось. Обнадёжила женщину, и разговору конец!
Паротина баба крутёхонько обернулась. Привезла деньги, передала из ручки в ручку, подхватила шкатулку и айда домой. Только на порог, а навстречу Танюшка. Она, вишь, куда-то ходила, и вся эта продажа без неё была. Видит — барыня какая-то и со шкатулкой. Уставилась на неё Танюшка— дескать, не та ведь, какую тогда видела. А Паротина жена пуще того воззрилась:
— Что за навождение? Чья такая? — спрашивает.
— Дочерью люди зовут, — отвечает Настасья. — Самая как есть наследница шкатулки-то, кою ты купила. Не продала бы, кабы не край пришёл. С малолетства любила этими уборами играть. Играет да нахваливает — как-де от них тепло да хорошо. Да что об этом говорить! Что с возу пало — то пропало!
— Напрасно, милая, так думаешь, — говорит Паротина баба. — Найду я местечко этим каменьям. — А про себя думает: «Хорошо, что эта зелёноглазая силы своей не чует. Покажись такая в Сам-Петербурхе, царями бы вертела. Надо — мой-то дурачок Турчанинов её не увидал».
С тем и разошлись.
Паротина жена, как приехала домой, похвасталась:
— Теперь, друг любезный, я не то, что тобой, и Турчаниновым не понуждаюсь. Чуть что — до свиданья! Уеду в Сам-Петербурх — либо того лучше в заграницу, продам шкатулочку и таких-то мужей, как ты, две дюжины куплю, коли надобность случится.
Похвасталась, а показать на себе новокупку всё-таки охота. Ну, как — женщина! Подбежала к зеркалу и первым делом наголовник пристроила. — Ой, ой, что такое! — Терпенья нет — крутит и дерёт волосы-то. Еле выпростала. А неймётся. Серьги надела — чуть мочки не разорвало. Палец в перстень сунула — заковало — еле с мылом стащила. Муж посмеивается не таким, видно, носить!
А сна думает: «Что за штука? Надо в город ехать, мастеру показать. Подгонит как надо, только бы камни не подменил».
Сказано — сделано. На другой день с утра укатила. На заводской-то тройке ведь недалеко. Узнала, какой самый надёжный мастер, — и к нему. Мастер старый-престарый, а по своему делу дока. Оглядел шкатулку, спрашивает, у кого куплено. Барыня рассказала, что знала. Оглядел ещё раз мастер шкатулку, а на камни и не взглянул.
— Не возьмусь, — говорит, — что хошь давайте. Не здешних это мастеров работа. Нам несподручно с ними тягаться.
Барыня, конечно, не поняла, в чём тут закорючка, фыркнула и побежала к другим мастерам. Только все как сговорились: оглядят шкатулку, полюбуются, а на камни не смотрят и от работы наотрез отказываются. Барыня тогда на хитрости пошла, говорит, что эту шкатулку из Сам-Петербурху привезла. Там всё и делали. Ну, мастер, которому она это плела, только рассмеялся.
— Знаю, — говорит, — в каком месте шкатулка делана, и про мастера много наслышан. Тягаться с ним всем нашим не по плечу. На одного кого тот мастер подгоняет, другому не подойдёт, что хошь делай.
Барыня и тут не поняла всего-то, только то и уразумела — неладно дело, боятся кого-то мастера. Припомнила, что старая хозяйка сказывала, будто дочь любила эти уборы на себя надевать.
«Не по этой ли зелёноглазой подгонялись? Вот беда-то!»
Потом опять переводит в уме:
«Да мне-то что! Продам какой ни есть богатой дуре. Пущай мается, а денежки у меня будут!» С этим и уехала в Полевую.
Приехала, а там новость: весточку получила — старый барин приказал долго жить. Хитренько с Паротей-то устроил, а смерть его, перехитрила — взяла и стукнула. Сына так и не успел женить, и он теперь полным хозяином стал. Через малое время Паротина жена получила писемышко. Так и так, моя любезная, по вешней воде приеду на заводах показаться и тебя увезу, а музыканта твоего куда-нибудь законопатим. Паротя про это как-то узнал, шум-крик поднял. Обидно, вишь, ему перед народом-то. Как-никак приказчик, а тут вон что — жену отбирают. Сильно выпивать стал. Со служащими, конечно. Они рады стараться на даровщинку-то. Вот раз пировали. Кто-то из этих запивох и похвастай:
— Выросла-де у нас в заводе красавица, другую такую не скоро сыщешь.
Паротя и спрашивает:
— Чья такая? В котором месте живёт?
Ну, ему рассказали и про шкатулку помянули — в этой-де семье ваша жена шкатулку покупала.
Паротя и говорит:
— Поглядеть бы, — а у запивох и заделье нашлось.
— Хоть сейчас пойдём — освидетельствовать, ладно ли они новую избу поставили. Семья хоть из вольных, а на заводской земле живут. В случае чего и прижать можно.
Пошли двое ли, трое с этим Паротей. Цепь притащили, давай промер делать, не зарезалась ли Настасья в чужую усадьбу, выходят ли вершки меж столбами. Подыскиваются, одним словом. Потом заходят в избу, а Танюшка как раз одна была. Глянул на неё Паротя и слова потерял. Ну, ни в каких землях такой красоты не видывал. Стоит как дурак, а она сидит — помалкивает, будто её дело не касается. Потом отошёл малость Паротя, стал спрашивать:
— Что поделываете?
Танюшка говорит:
— По заказу шью, — и работу свою показала.
— Мне, — говорит Паротя, — можно заказ сделать?
— Отчего же нет, коли в цене сойдёмся.
— Можете, — спрашивает опять Паротя, — мне с себя патрет шелками вышить?
Танюшка потихоньку на пуговку поглядела, а там зелёноглазая ей знак подаёт — бери заказ! — и на себя пальцем указывает. Танюшка и отвечает:
— Свой патрет не буду, а есть у меня на примете женщина одна в дорогих каменьях, в царицыном платье, эту вышить могу. Только недёшево будет стоить такая работа.
— Об этом, — говорит, — не сумлевайтесь, хоть сто, хоть двести рублей заплачу, лишь бы сходственность с вами была.
— В лице, — отвечает, — сходственность будет, а одёжа другая.
Срядились за сто рублей. Танюшка и срок назначила — через месяц. Только Паротя нет-нет и забежит, будто о заказе узнать, а у самого вовсе не то на уме. Тоже обахмурило его, а Танюшка ровно и вовсе не замечает. Скажет два-три слова, и весь разговор. Запивохи-то Паротины подсмеиваться над ним стали:
— Тут-де не отломится. Зря сапоги треплешь!
Ну, вот, вышила Танюшка тот патрет. Глядит Паротя — фу ты, боже мой! да ведь это она самая и есть, одёжей да каменьями изукрашенная! Подаёт конечно, три сотенных билета, только Танюшка два-то не взяла.
— Не привышны, — говорит, — мы подарки принимать. Трудами кормимся.
Прибежал Паротя домой, любуется на патрет, а от жены впотай держит. Пировать меньше стал, в заводское дело вникать мало-мало начал.
Весной приехал на заводы молодой барин. В Полевую прикатил. Народ согнали, молебен отслужили, и потом в господском доме тонцы-звонцы пошли. Народу тоже две бочки вина выкатили — помянуть старого, проздравить нового барина. Затравку, значит, сделали. На это все Турчаниновы мастера были. Как зальёшь господскую чарку десятком своих, так и нивесть какой праздник покажется, а на поверку выйдет — последние копейки умыл и вовсе ни к чему. На другой день народ на работу, а в господском дому опять пировля. Да так и пошло. Поспят сколько да опять, за гулянку. Ну, там, на лодках катаются, на лошадях в лес ездят, на музыках бренчат, да мало ли. А Паротя всё время пьяной. Нарочно к нему барин самых залихватских питухов поставил — накачивай доотказу! Ну, те и стараются новому барину подслужиться.
Паротя хоть пьяной, а чует, к чему дело клонится. Ему перед гостями неловко. Он и говорит за столом, при всех:
— Это мне безо внимания, что барин Турчанинов хочет у меня жену увезти. Пущай повезёт! Мне такую не надо. У меня вот кто есть! — Да и достаёт из кармана тот шёлковый патрет. Все так и ахнули, а Паротина баба и рот закрыть не может. Барин тоже въелся глазами-то. Любопытно ему стало.
— Кто такая? — спрашивает.
Паротя, знай, похохатывает:
— Полон стол золота насыпь — и то не скажу!
Ну, а как не скажешь, коли заводские сразу Танюшку признали. Один перед другим стараются — барину объясняют. Паротина баба руками-ногами:
— Что вы! Что вы! Околесицу этаку городите! Откуда у заводской девки платье такое да ещё каменья дорогие? А патрет этот муж из-за границы привёз. Еще до свадьбы мне показывал. Теперь с пьяных-то глаз мало ли что сплетёт. Себя скоро помнить не будет. Ишь, опух весь!
Паротя видит, что жене шибко не мило, он и давай чехвостить:
— Страмина ты, страмина! Что ты косоплётки плетёшь, барину в глаза песком бросаешь! Какой я тебе патрет показывал? Здесь мне его шили. Та самая девушка, про которую они вон говорят. Насчёт платья — лгать не буду — не знаю. Платье какое хошь надеть можно. А камни у них были. Теперь у тебя в шкапу заперты. Сама же их купила за две тысячи, да надеть не смогла. Видно, не подходит корове черкасско седло Весь завод про покупку-то знает!
Барин как услышал про камни, так сейчас же:
— Ну ко, покажи!
Он, слышь-ко, малоумненький был, мотоватый. Однем словом, наследник. К камням то сильное пристрастие имел. Щегольнуть ему было нечем, — как говорится, ни росту, ни голосу, — так хоть каменьями. Где ни прослышит про хороший камень, сейчас купить ладится. И толк в камнях знал, даром что не шибко умный.
Паротина баба видит — делать нечего, — принесла шкатулку. Барин взглянул и сразу.
— Сколько?
Та и бухнула вовсе неслыханно. Барин рядиться. На половине сошлись, и заёмную бумагу барин подписал: не было, вишь, денег-то с собой. Поставил барин перед собой шкатулку на стол да и говорит:
— Позовите-ко эту девку, про которую разговор.
Сбегали за Танюшкой. Она ничего, сразу пошла, — думала, заказ какой большой. Приходит в комнату, а там народу полно и посредине тот самый заяц, которого она тогда видела. Перед этим зайцем шкатулка — отцово подаренье. Танюшка сразу признала барина и спрашивает:
— Зачем звали?
Барин и слова сказать не может. Уставился на неё да и всё. Потом всё-таки нашёл разговор:
— Ваши камни?
— Были наши, теперь вон ихние, — и показала на Паротину жену.
— Мои теперь, — похвалился барин.
— Это дело ваше.
— А хошь, подарю обратно?
— Отдаривать нечем.
— Ну, а примерить на себя ты их можешь? Взглянуть мне охота, как эти камни на человеке придутся.
— Это, — отвечает Танюшка, — можно.
Взяла шкатулку, разобрала уборы, — привычно дело, — и живо их к месту пристроила. Барин глядит и только ахает. Ах да ах, больше и речей нет. Танюшка постояла в уборе-то и спрашивает:
— Поглядели? Будет? Мне не от простой поры тут стоять — работа есть.
Барин тут при всех и говорит:
— Выходи за меня замуж. Согласна?
Танюшка только усмехнулась:
— Не подстать бы ровно барину такое говорить, — сняла уборы и ушла. Только барин не отстаёт. На другой день свататься приехал. Просит-молит Настасью-то — отдай за меня дочь.
Настасья говорит:
— Я с неё воли не снимаю, как она хочет, а по-моему — будто не подходит.
Танюшка слушала-слушал а да и молвит:
— Вот что, не то… Слышала я, будто в царском дворе есть палата, малахитом тятиной добычи обделанная. Вот если ты в этой палате царицу мне покажешь— тогда выйду за тебя замуж.
Барин, конечно, на всё согласен. Сейчас же в Сам-Петербурх стал собираться и Танюшку с собой зовёт— лошадей, говорит, тебе предоставляю. А Танюшка отвечает:
— По нашему-то обряду и к венцу на жениховых лошадях невеста не ездит, а мы ведь ещё никто. Потом об этом говорить будем, как ты своё обещанье выполнишь.
— Когда же, — спрашивает, — ты в Сам-Петербурхе будешь?
— К Покрову, — говорит, — непременно буду. Об этом не сумлевайся, а пока уезжай отсюда.
Барин уехал, Паротину жену, конечно, не взял, не глядит даже на неё. Как домой в Сам-Петербурх-от приехал, давай по всему городу славить про камни и про свою невесту. Многим шкатулку-то показывал. Ну, сильно залюбопытствовали невесту посмотреть. К осеням-то барин квартиру Танюшке приготовил, платьев всяких навёз, обую, а она весточку и прислала, — тут она живёт у такой-то вдовы на самой окраине. Барин, конечно, сейчас же туда:
— Что вы! Мысленное ли дело тут проживать? Квартерка приготовлена, первый сорт!
А Танюшка отвечает:
— Мне и тут хорошо.
Слух про каменья да турчаниновску невесту и до царицы дошёл. Она и говорит:
— Пущай-ко Турчанинов покажет мне свою невесту. Что-то много про неё врут.
Барин к Танюшке, — дескать, приготовиться надо. Наряд такой сшить, чтобы во дворец можно, камни из малахитовой шкатулки надеть.
Танюшка отвечает:
— О наряде не твоя печаль, а камни возьму на подержанье. Да, смотри, не вздумай за мной лошадей посылать. На своих буду. Жди только меня у крылечка, во дворце-то.
Барин думает, — откуда у ней лошади? где платье дворцовское? — а спрашивать всё-таки не насмелился.
Вот стали во дворец собираться. На лошадях все подъезжают, в шелках да бархатах. Турчанинов-барин спозаранку у крыльца вертится — невесту свою поджидает. Другим тоже любопытно на неё поглядеть, — тут же остановились. А Танюшка надела каменья, подвязалась платочком по-заводски, шубейку свою накинула и идёт себе потихонечку. Ну, народ — откуда такая? — валом за ней валит. Подошла Танюшка ко дворцу, а царские лакеи не пускают — не дозволено, говорят, заводским-то. Турчанинов-барин издаля Танюшку завидел, только ему перед своими-то стыдно, что его невеста пешком, да ещё в экой шубейке, он взял да и спрятался. Танюшка тут распахнула шубейку, лакеи глядят — платье-то! У царицы такого нет! — сразу пустили. А как Танюшка сняла платочек да шубейку, все кругом сахнули:
— Чья такая? Каких земель царица?
А барин Турчанинов тут как тут.
— Моя невеста, — говорит.
Танюшка этак строго на него поглядела:
— Это ещё вперёд поглядим! Пошто ты меня обманул — у крылечка не дождался?
Барин туда-сюда, — оплошка-де вышла. Извини, пожалуйста.
Пошли они в палаты царские, куда было велено. Глядит Танюшка — не то место. Ещё строже спросила Турчанинова-барина:
— Это ещё что за обман? Сказано тебе, что в той палате, которая малахитом тятиной работы обделана! — И пошла по дворцу-то, как дома. А сенаторы, генералы и протчи за ней.
— Что, дескать, таксе? Видно, туда велено.
Народу набралось полным-полно, и все глаз с Танюшки не сводят, а она стала к самой малахитовой стенке и ждёт. Турчанинов, конечно, тут же. Лопочет ей, что ведь неладно, не в этом помещеньи царица дожидаться велела. А Танюшка стоит спокойнешенько, хоть бы бровью повела, будто барина вовсе нет.
Царица вышла в комнату-то, куда назначено. Глядит — никого нет. Царицыны наушницы и доводят — турчаниновска невеста всех в малахитову палату увела. Царица поворчала, конечно, — что за самовольство! Запотопывала ногами-то. Осердилась, значит, маленько. Приходит царица в палату малахитову. Все ей кланяются, а Танюшка стоит — не шевельнётся.
Царица и кричит:
— Ну-ко, показывайте мне эту самовольницу — турчаниновску невесту!
Танюшка это услышала, вовсе брови свела, говорит барину:
— Это ещё что придумал! Я велела мне царицу показать, а ты подстроил меня ей показывать. Опять обман! Видеть тебя больше не хочу! Получи свои камни!
С этим словом прислонилась к стенке малахитовой и растаяла. Только и осталось, что на стенке камни сверкают, как прилипли к тем местам, где голова была, шея, руки.
Все, конечно, перепугались, а царица в беспамятстве на пол брякнула. Засуетились, поднимать стали. Потом, когда суматоха поулеглась, приятели и говорят Турчанинову:
— Подбери хоть камни-то! Живо разворуют. Не како-нибудь место — дворец! Тут цену знают!
Турчанинов и давай хватать те каменья. Какой схватит, тот у него, и свернётся в капельку. Ина капля чистая, как вот слеза, ина жёлтая, а то опять, как кровь, густая. Так ничего и не собрал. Глядит — на полу пуговка валяется. Из бутылочного стекла, на простую грань. Вовсе пустяковая. С горя он и схватил её. Только взял в руку, а в этой пуговке, как в большом зеркале, зелёноглазая красавица в малахитовом платье, вся дорогими каменьями изукрашенная, хохочет-заливается:
— Эх ты, полоумный косой заяц! Тебе ли меня взять! Разве ты мне пара?
Барин после этого и последний умишко потерял, а пуговку не бросил. Нет-нет и поглядит в неё, а там всё одно: стоит зелёноглазая, хохочет и обидные слова говорит. С горя барин давай-ко пировать, долгов наделал, чуть при нём наши-то заводы с молотка не пошли.
А Паротя, как, его отстранили, по кабакам пошёл. До ремков пропился, а патрет тот шёлковый берёг. Куда этот патрет потом девался — никому не известно.
Не поживилась и Паротина жена: поди-ко, получи по заёмной бумаге, коли всё железо и медь заложены!
Про Танюшку с той поры в нашем заводе ни слуху, ни духу. Как не было.
Погоревала, конечно, Настасья, да тоже не от силы. Танюшка-то, вишь, хоть радетельница для семьи была, а всё Настасье как чужая.
И то сказать, парни у Настасьи к тому времени выросли. Женились оба. Внучата пошли. Народу в избе густенько стало. Знай, поворачивайся — за тем догляди, другому подай… До скуки ли тут!
Холостяжник — тот дольше не забывал. Все под Настасьиными окошками топтался. Поджидали, не появится ли у окошечка Танюшка, да так и не дождались.
Потом, конечно, оженились, а нет-нет и помянут:
— Вот-де какая у нас в заводе девка была! Другой такой в жизнь не увидишь.
Да ещё после этого случайно заметочка вышла. Сказывали, будто Хозяйка медной горы двоиться стала: сразу двух девиц в малахитовых платьях люди видали.
1937 г.
Марков камень
старых владельцев, у Турчаниновых-то, Петро да Марко в роду вперемежку ходили. Отец, например, Петро Маркыч, а сын Марко Петрович. У Демидовых тагильских, у тех, опять Окинтий да Никита. Глянулось, видно. Мода такая была. Нонешнего барчонка, кой в лета не вошёл, тоже, слышь-ко, Марком кличут. Ну, это их дело. Рабочему человеку в том сласти мало. Петро ли, Марко, а всё барин. Не к тому разговор, чтобы их имена разбирать.
А вот есть чуть не в самой серёдке нашей заводской дачи гора одна— Марков камень. Которые заводские и думают, что по Марку Турчанинову гора прозывается. Любил, дескать, который-нибудь туда на охоту ездить либо ещё что. Ну, только это напрасно говорят. Там вовсе, может, ни один Турчанинов и не бывал. Шибко глухое место, в болотах кругом. Не барское дело по эким местам бродить. Ноги промочит, из носу закаплет. И добычи близко никакой нету, кроме как мягкой камень маленько ковыряют.
Название горы по другому Марку поставлено. Тайности тут нету. Побывальщину эту мне покойный дедушко сказывал. Он ещё вовсе маленький был, когда случай тот вышел. Лет, поди, сто, а то и больше тому делу.
Была, слышь-ко, на заводах барыня Колтовская. Она тоже в девках-то Турчанинова была, а вышла замуж за какого-то генерала али там поручика — и стала Колтовская. Почто она в Сысерти жила — овдовела, али с мужем разошлась, про то мне неизвестно. Одно знаю — ни про одну старинную барыню у нас в заводах речей нет, а про эту Колтовчиху помнят. Оставила, значит, следок. Которая девчонка или бабёнка загуляла, про ту и говорят: «Колтовчиху покрасить хочет». Она — эта Колтовчиха-то — до того к мужику жадная была, что удивленье просто. Господишек, конечно, коло её, сколь хочешь. Известно, господское положение. Что им делать? Только этой барыне тех своих мужиков не хватало. Она и нашим братом, рабочим, который побаще да поскладнее, не брезговала. Нет-нет, из Сысерти слышок дойдёт: взяла, дескать, барыня нового кучера, а старого отставила. А уж все знали, в чём тут загвоздка. Взяла и взяла. Дело подневольное, всё-таки не в гору человека нарядили. Посмеются ещё так-то, а то и не подумают, что это, может, похуже горы!
И вот приезжает эта барыня Колтовская к нам в Полевской завод. Как раз о празднике было дело. У нас на Петро-Павла, известно, гулянка. После службы церковной, почитай, весь завод на той вон горке, у старой плотинки, собирался. Сперва ребятишки бороться счунутся, потом и до мужиков дойдёт. Лучше того не знали, как силой похвастаться. Ну, и барам это, видно, к руке шло. Жаловали хороших борцов и всяко нахваливали.
Которые в медной горе робили, шибко ровно худые были, а сила у них в руках и в ногах большая. Фабричным супротив их неохота неустойку оказать. А тоже у них, у фабричных-то, силка была.
Особо у кричных. У которого уж и грыжа от надсады, а подойди к нему, сунься!
Был в ту пору в кричной подмастерье один, Марком его звали. Чипуштанов ли как по фамилии, а прозвище было Береговик. Ох, и парень! Высокий, ловкой, из себя чистяк, а сила в нём медвежья. Даром что молодой, а уж который год круг уносил. Никто против устоять не мог.
Гора, конечно, в обиде, что крична большину берёт. Вот гора и сделала подвод — Онисима своего подставила. А тот Онисим у их, прямо сказать, урод в людях был. Мужик уж в годах и на грудь жаловался, а посмотреть на его страшно. Согнулся, ссутулился, а всё печатна сажень, и руки чуть не до полу, как клешни висят. Двадцать пять лет в горе выробил. Гора его сгрызть не могла. С этим Онисимом давно никто не боролся, да и сам он к этому не охотился. А тут подвели дело. Как, значит, самолучшие борцы выходить стали, Онисим и выкатился. Ну, побросал, конечно, всех, как котят. Маркова очередь подошла. Крична и кричит:
— Невзачёт Онисима! С этим зверем ни один человек не управится. Что его считать!
А гора своё:
— Струсили, жженопятики! Какие у вас борцы после этого!
Одним словом, перекор пошёл. Тут Онисим и говорит:
— Выходи, Маркушко. Охота мне узнать, какая в тебе силка.
— Ну, что же, попытаем не то, дядя Онисим, — отвечает Марко. — Я бы супротив тебя не вышел, кабы не твоя охота.
Вот и вышел Марко-то. Борются у нас, известно, взамок. У кого, значит, спина не хрустнет да ноги выдюжат. Ну, и сноровка тоже требуется. Марко супротив Онисима пожиже кажется, а ведь одолел. Это Марко-то! Из трёх разов только раз под Онисимом побывал, а два раза его бросил. Молодой всё-таки. Куда старому! Крична, конечно, радуется, а гора кричит:
— Неправильно боролись. Сызнова надо. — Пошумели, а до драки не дошло. Сам Онисим это дело утихомирил.
— Чего, — кричит, — зря гаметь. Правильно всё было. Никакой фальши от Марка не видел. И больше я бороться не буду. Попытал — хватит. Немолодое моё дело этим забавляться.
Тем и кончилось. Марко, значит, опять круг унёс. Борцам выдали подарки: кому пояс, кому шапку, а Марку с Онисимом — по кафтану.
После этого пошли, конечно, в кабак. И Марка с собой ведут, а он, вишь, на вино воздержный парень был, да и молодой ещё. Ему охота тут остаться, поглядеть, как девки-бабы хороводы поведут, поплясать с ними, песенок попеть. Ну, опять, как мужикам откажешь, раз круг унёс? Уважить надо. Пошёл с ними, а сам кричит:
— Ты, Татьяна, не уходи. Сейчас оборочусь. — Это он своей бабе. Недавно, слышь-ко, женился. Только первый год жили. Ласковая такая ему бабочка попалась, весёлая. Они и миловались, прямо сказать, у людей на глазах. Другим бабам-девкам завидно было.
Не успели мужики до кабака дойти, подбежал барский казачок — Марка барыня требует. А она, — барыня-то Колтовчиха, — на круг из коляски сшей глядела. Господишки, которые с ней из Сысерти приехали, тут же. И приказчик тут, и всё начальство заводское. Так и не пришлось Марку стаканчик пропустить. Подходит Марко к барыне, а она ему рубль серебряный подаёт.
— На-ко, — говорит, — молодец. Жалую тебя из своих барских рук.
Ну, Марко тоже знал, как ему поступать. Поклонился и говорит:
— Покорнейше благодарю, барыня. Рад стараться.
А барыня так в него глазами и впилась. Прямо сказать, стыда у бабы нисколечко. Всякому видно. Один Марко этого не понял и норовит потихонечку отойти. А барыня видит, что он отодвигается и говорит:
— Подойди ближе, покажи руку.
Марко подошёл, конечно, и руку показывает, ладонью кверху. Барыня засмеялась да и говорит:
— Загни рукав! — Заскать, значит, ему велит рукав-от.
Марко так и сделал, а она хвать его за руку. Щупает, слышь-ко, как ровно лошадь смотрит. Господишки туда же тянутся, бормочут промеж себя не по-русскому. Марку, конечно, обидно, что его так оглядывают, а всё-таки виду не подаёт. Будто так и надо. Барыня велит ворот расстегнуть, грудь, плечо показать, Марко покраснел весь, зло его взяло, а всё исполнил, как она требовала. Колтовчиха схватила его рукой за плечо, похлопывает потихоньку, лотошит с господишками-то, а о чём — не разберёшь. Только и слышно слово какое-то. Вроде как Марку имя даёт. Заводские наши бабёшки, кои поближе стояли, зашушукали и над Татьяной уж насмешки строят:
— Твоего-то барыня в жеребцы выбрала. Кличку, слышь, ему новую придумала.
Татьяна — женщина молодая, совсем сказать, девчонка. Сноровки у ней настоящей нет, как, значит, жить-то. Она возьми и зареви. Так голосом и завыла. Всё одно как по покойнику.
— Ой, да что же это, девоньки, деется…
Марко услышал — ревёт кто-то. Поглядел, а это Татьяна. И барыня углядела, спрашивает приказчика:
— Кто завыл?
Приказчик сказывает, что это Маркова жена.
— Привести сюда, — говорит барыня.
Привели Татьяну, барыня и спрашивает:
— Ты о чём?
А та с простоты и ляпни:
— Бабы сказывают, будто Марка на конный берёшь.
Барыня этак усмехнулась да и говорит:
— Хорошо бабы придумали. На конном, и верно, конюхов надо помоложе да подюжее. Твоего, пожалуй, возьму.
Татьяна думает— и вправду это она сама барыню надоумила, хлоп ей в ноги:
— Помилуй, барыня-сударыня. Не вели у меня Марка брать. Первый годок с ним живём. Да и не умеет он у меня с конями-то.
— Он, гляжу, и с тобой управиться не умеет. Вишь, как ты язык распустила при госпоже своей. Обоих вас поучить надо, — говорит барыня и приказчику наказ даёт: — Ты эту ко мне в горничные доставь. Завтра же с утра чтоб отправлена была. Вон она как щёки наела. Устиньюшка моя живо обобьёт лишнее-то. А ты, молодец, что жену свою не учишь? — спрашивает барыня у Марка.
Тот и без этого изорвался весь. То скраснеет, то побелеет. Стыдно ему перед народом, как его Колтовчиха оглядывала, за голое тело рукой хватала, а тут ещё Татьяна сглупа насмех поставила. Так бы ровно весь свет расшиб. Он и хватил Татьяну-то по уху. Та так и покатилась. А бабёшки, которые Татьяну подстраивали, сейчас заойкали:
— Ой, убил! Ой, убил! — Марко глядит, и верно, лежит Татьяна белёхонька, глаза закрыла и дыханья нет. А барыня на него же:
— Это ещё что за нежности! Разбаловал бабёнку. Ударить её нельзя!
Тут Марко и не стерпел. Сгрёб её, барыню-то Колтовчиху, за волосья да как мякнет на землю. Только каблуки сбрякали. А он ещё в рожу ей ногой-то. Ну, тут суматоха поднялась. Господишки на Марка бросились, стражник шашку вытащил.
А барыня, знай, визжит:
— Живьём берите! Живьём берите!
Господам, конечно, не под силу экого человека живьём захватить. За пожарниками кинулись, а другие опять в кабак побежали за народом. Выбежали пожарники, а народ им наперерез бежит, и Онисим впереди всех. Заздыхался весь, а сам заплотиной машет. Сажени, поди, три заплотина-то.
— Заражу, — кричит, — кто Маркушку пальцем заденет!
Ну, господишки видят, — дело худое, наутёк надо. Только один возьми да и пальни в Онисима. И ведь что ты думаешь? Попал, собачье мясо! В самую жилку угодил. Онисим сразу носом в землю и не встал больше. Экой могутный человек был. Гора его не сжевала, а от пульки сразу кончился.
Народ видит — Онисима убили, пуще того остервенился. За баринком-то тем, который в Онисима стрелял, в сугонь пошли. А тот на лошадь да по Сысертской дороге. Барыня и другие господишки туда же упалили, а приказчик да начальство разбежались. Ну, пожарникам, конечно, бока намяли. Двух вовсе досмерти благословили, а которых изувечили.
Не любил их народ, пожарников-то. Они, вишь, первые прихвостни у начальства были и народ в пожарной пороли. Их за это и помяли.
Через день либо через два суд-расправа в заводе началась. Городское начальство наехало, солдат пригнали. В первую голову стали Марка Береговика искать. Барыня тоже прикатила. Уж как только она ни старалась. И грозилась, и всяко людей улещала, чтоб показали, где Марка искать. Нет, ничего не вышло. Все в один голос говорят:
— Откуда нам знать? Убежал куда-то и Татьяну свою уволок.
Побились-побились так-то, ничего не узнали. С тем и уехали.
Ну, конечно, драли, кого доходя, а Марка с Татьяной в бега списали и по всем местам бумажку дали, — не поймают ли где, значит. А он, Марко-то, в нашей же даче и жил. Многие огневщики про это знали. Только против народа боялись. Сами же, слышь-ко, оповестят Марка.
— На тебя облава собирается. Поберегись!
Марко с Татьяной перейдут куда-нибудь, а как облава кончится, опять на своё место воротятся. У них избушка в полугоре, у ключика, была срублена. Небольшая избушечка, вроде покосного балагашка.
Три зимы тут Марко выжил. Всё ему охота было Колтовчиху где на дороге застукать. Только она тоже умная оказалась. После того случаю вовсе не стала никуда ездить. Когда в город случится, так с ней народу — как в поход какой. А в лес либо на пруду покататься, как раньше бывало, ни-ни. Она, видать, знала, что Марко её подстерегал где-то недалеко. Корила всех:
— Неверные, — дескать, — вы слуги, беглых в лесах укрываете. Где у вас Марко Береговик? Кто его кормит?
Каждый, понятно, отговаривался, как умел, а многие знали.
Потом уж Марко с Татьяной ушли. У них, сказывали, робёночек родился. Ну, где же с дитём в лесу жить. Хлопотно. Они и подались в Сибирь, на вольные земли.
Колтовчихе об этом сказывали, да она не поверила.
— Не заманите, — говорит, — меня в лес! — И тоже убралась куда-то с наших заводов.
Вот гора, где у Марка избушка стояла, и зовётся — Марков камень.
1937 г.
Надпись на камне
з года в год мы со своим школьным товарищем проводили начало летнего отпуска в деревне Воздвиженке. Как покончим с экзаменами, так сейчас же туда, чтоб успеть окунуться в прозрачную тишину горных озёр, пока еще не налетели сюда шумливые люди с ружьями и суматошливыми собаками.
В Воздвиженке, на стекольном заводе, принадлежавшем тогда Злоказову, у моего товарища был дальний родственник, старик-одиночка Иван Никитич. Большую часть своей жизни он проработал столяром-модельщиком при цехе художественного литья в Каслях, но под старость, неожиданно для всех своих знакомых, переселился в Воздвиженку, где и работы ему по специальности не было. О своем переезде старик говорил:
— Не до смерти же мне чугунными игрушками забавляться, пора и около сурьёзного дела походить. А сурьёзнее кабацкого разве найдёшь? Гляди-ко, начисто всех споить желают. На любую деревню по три кабака открыли. И мошенства такого, как здесь, — весь свет обойди, — не найдёшь. Вот и любопытно на такое поближе поглядеть, на кабацких мастеров полюбоваться.
Потом, усмехнувшись, добавлял:
— Ну, и Синарское тут под боком, а оно мне любее всех наших озёр пришлось.
Последнее, надо думать, и было главней причиной переселения. Но имелись и другие, о которых можно было догадываться.
У Ивана Никитича не задалась семейная жизнь. Жена, — говорят, на редкость красавица, — умерла совсем молодой, оставив двух дочерей. Дочери унаследовали редкую красоту матери и ее недуг. Чахоточные красавицы дожили до совершеннолетия и одна за другой умерли, растревожив на всю жизнь не один десяток молодых людей, которых сильно тянуло к окнам дома Никитича.
Это семейное несчастье, видно, и заставило старика покинуть насиженное место в Каслях и уйти в созерцательную жизнь рыбака с удочкой. Раньше, говорят, Никитич к числу рыбаков вовсе не принадлежал.
Сам старик однако об этом никогда не говорил. Держался он весело, бодро и не любил, когда кто-нибудь называл его дедушкой.
— Какой я тебе дедушка! Я ещё молодой. Того и гляди, женюсь. Вот только волосы на маковке отрастить осталось.
Говорилось шутя, но всё же с ним считались, и взрослые обычно звали его кум Никитич, а молодёжь — дядя Ваня.
Слабостью дяди Вани была его привязанность к «учёным из простого народу». Неважно, кто, где учился: в фельдшерской школе или в уральском горном училище, в учительской семинарии или в торговой школе, лишь бы учился и был «из простого звания». Таким Никитич готов был оказывать услуги, а кой-кому и денежную помощь. В его маленьком домике летом бывало немало городской учащейся молодёжи. Стоило побывать раз, и ты получал право приехать «по знакомству» в любое время и располагаться у него, как дома, если даже хозяин был в отлучке. Ставилось лишь два условия. Старик не употреблял ничего спиртного и от посетителей требовал, «чтоб и духу этого в моём доме не было». Кто не удовлетворял этому условию, с тем Никитич «раззнакомливался», очень решительно и навсегда:
— Таких полон дом набить могу, да мне их не надо!
Второе требование было пустяковым: «уходишь — ключ клади на место», то есть затыкай в щель, известную всей деревне, — около первого угла притолоки.
Таков был наш «знакомец» в Воздвиженке.
По дороге от станции Полдневая тогда говорилось:
«Верхом либо пешком — сердцу радость, на колесе — кишкам надрыв». Мы, конечно, предпочитали пешеходный способ. Он же лучше подходил и к нашим финансам. Ноги свои ничего не стоят, а коли ещё и сапоги снять, то и вовсе дешёвка. Поэтому мы не стали обольщаться явно провокационными обещаниями станционных ямщиков «домчать в один часик» и сразу направились к лесу. Там вырезали по хорошей вересовой палке, разулись, вскинули свой багаж вместе с сапогами на концы палок и зашагали по знакомой лесной дороге, богато вышитой фантастическими узорами высунувшихся из земли корней. Идти по такому узору было куда приятнее, чем ехать.
Сначала босые ноги чувствовали много острых углов и всяких шероховатостей, но скоро это прошло. На смену пришли другие ощущения: горячая ласка прогретого солнцем мелкого горного песка, освежающая влажность глины, теплота узорчатых ковриков конотопа на дороге и мягкий подстил белой кашки по обочинам. Доцветали ландыши и лесные орхидеи, во всю силу цвела земляника, по низинам виднелись кольца и петли глазастых незабудок, из сочной густой зелени взлетали «петушки и курочки» лесных лилий. И над всем этим — густой настой горного соснового бора и неуловимая мелодия вершин.
Здоровым заводским парням, просидевшим зиму за учебой, и в возрасте 20 лет доступна ещё радость бегать по траве босиком. Мы и козелковали до самого озера Иткуль. Красивое озеро вовсе разнежило. Даже высунувшаяся из воды серая громада Шайтан-камня в игре светотеней и блеске водной равнины кажется согретой. Как будто старый Шайтан только что окунулся каменным, лицом в воду, по-стариковски добродушно усмехается и говорит:
— Ай-яй-тепло! Старым костям хорошо!
До того разнежил Иткуль, что совсем было собрались остаться здесь на ночь, но потом передумали: завтра праздничный день. Никитич наверняка будет свободен. Надо поторапливаться.
В Воздвиженку пришли как раз в то время, когда возвращалось с пастбища стадо коров. Старик Никитич оказался дома. Он стоял у шестка и подкладывал мелкие дровца под трехногий чугунок, в котором варилась уха.
— Вот и ладно — сразу к ушке, — обрадовался старик. — А я уж который день вас поджидаю. Пора, думаю, этим, а колокольцы не звенят. Едут, да другие, и всё не ко мне.
— Да мы пешком, Иван Никитич.
— Не слепой, поди-ка, вижу, что булашек искупать надо. В ограде под потолком в полубочье вода хорошая. Ополосните ноги-то, а я тем временем на стол соберу. Оголодали, поди, за зиму, стосковались по рыбке?
Когда мы, умывшись и ополоснув ноги, пришли в избу, старик спросил:
— Чуете, сколь хорошо стало? — Потом наставительно добавил:
— А по колокольцам не тужите. Пеший человек больше видит, да и примета одна есть…
— Какая?
— А такая… Кто к колокольцам привык, тот уже не рыболов и не охотник. Не самостоятельный совсем в этом деле. Здешним вон хозяевам уток-то пальцем показывают и чуть рыбу на крючок не насаживают. Разве это охота?
Большая чашка густой, крепко поперченной ухи так быстро усохла, что Никитич спросил:
— Может, ещё чугунок сварим?
Но мы отказались.
— А коли сыты, так сейчас же спать! Часа через три разбужу.
Увидев, что мы вытаскиваем, из дорожных сумок рыбацкие принадлежности, старик замахал руками.
— Ничего этого не надо. На всех у меня приготовлено, и окуней я уж подговорил. Хороших! Ваше дело только спать.
Следующий день, с восхода до заката, мы провели на озере. Погода была чудесная и клёв хороший. По крайней мере таким он казался нам, хотя Никитич, видимо, не разделял этого взгляда.
— Молодь всё идёт. Не таких я подговаривал!
По этому случаю даже несколько раз меняли место остановки. Мы пользовались переездами, чтобы поплавать и понырять в хрустальной воде. Положение с клёвом, однако, не изменилось. Везде он был сильный, даже излишне беспокойный, но шла мелочь.
— Поедем, не то, в дальнюю курейку. Не там ли мои окуни жируют? — решил Никитич, и наша лодка направилась в северо-западную часть озера. Здесь тоже не оказалось того руна, на какое рассчитывал попасть Никитич, зато место тут было исключительной красоты.
Синарское озеро в своей строгой оправе камня и соснового бора все-таки кажется довольно однообразным. И там, где каменная рама даёт трещины, образуя заливы, переходящие в долочки, — там лучшие места. Строгая красота сосновых колоннад здесь разнообразится кудрявой, шумливой зеленью ольховника, черёмушника и прочей «кареньги», как зовут здесь этот вид чернолесья.
Сосны, одна другой краше и ровнее, дойдя до спуска в ложок, как будто нарочито подтянулись, почистились от нижних сучьев. На иглистом скользком подножии только чёрные точки расщеренных шишек да редкие перистые былинки. Зато ниже, в ложке, плетень зелени. Тут и рослая сосна, и «пуховые палки», и круглоголовая желтянка и ребристо-узорные листья папоротника. Кажется даже, что деревьям нелегко пробиться сквозь этот густой ковёр низинных трав.
Смешались и звуки. К торжественному полнозвучному звуку ворона на лету, какой можно слышать только в сосновом бору, примешиваются посвистывание иволги и писк пичужек, не видных в густой зелени. И это смешение звуков красиво в своей пестроте, как узор восточной ткани. Не всегда разберёшь рисунок, а чувствуешь в нём бодрость и радость.
В этом красивом уголке и решили сделать привал. Сначала, как водится, разожгли костёр, варили уху, кипятили чай, купались, валялись по траве, а кончилось всё это рассказом о жуткой были Синарского озера. Рассказчиком оказался Никитич и, можно думать, неожиданно для себя. По крайней мере, потом, когда один из нас хотел ещё о чем-то спросить, старик откровенно сказал:
— Ой, парень, не береди! Не люблю этого разговору. Так уж это, к случаю пришлось.
Дело началось с того, что кто-то из нас углядел на береговом камне не то рисунок, не то орнамент.
На отшлифованном водой ребре камня отчётливо виден был лишь двойной ободок совершенно правильной овальной формы, как будто сделанный по лекалу. В разных местах к овалу примыкал орнамент, образуя ручку и боковые украшения ручного зеркала. Всё вместе давало рисунок озера как раз с того места, где был наш привал. В верхней половине ободка можно было прочитать французские слова… Было ли что-нибудь в нижней половине овала, разобрать нельзя, так всё смылось. Затейливый орнамент, красивое очертание букв и совершенная форма овала — всё это говорило, что рисунок и надпись сделаны опытной рукой гравёра или художника.
— Иван Никитич, не знаешь, чей это рисунок?
— Где?
— Да вот здесь, на камне.
— Этого баловства у нас сколько хочешь. Который побывает, тот и наследит.
— Вырезано это?
— Вырежут, сделай одолженье! В Каслях-то при заводе чеканкой умеют орудовать. Что попросишь, то и сделают. На сходу недавно говорили, нельзя ли как сократить. Да разве углядишь. Мало ли на озере народу перебывает? А купцы вон нарочно нанимают, чтоб через камень про кого сплетню пустить, либо облаять.
— Тут рисунок настоящий. Художником, видать, делан! А надпись по-французски.
— Художников при Каслинском заводе мало ли? Всяких языков люди бывали.
Выходило всё рядовым, обыкновенным, не стоившим внимания. Тут же на камнях были и другие надписи, о которых так неодобрительно говорил Никитич. Инициалы и сердце, инициалы без сердца и прочая обывательская муть, переходившая порой в прямую мерзость.
Немного погодя, Никитич однако спохватился.
— Постой! Где рисунок-то? По-французски, говоришь, написано? Уж не Шарлова ли работа?
Поспешно подошёл и стал рассматривать камень.
— По русскому-то это что будет? Надпись-то эта?
— Зеркало феи Севера. Феи-то у них вроде лесной богини.
— Так, так. Это он, стало быть, про наше озеро и про лешачиху.
Старик ещё посмотрел на рисунок, провел пальцами по внутренней стороне ободка, как будто проверял правильность линии и проговорил:
— Пожалуй, верно, что Шарлова работа.
— Какой Шарлов?
— Да не Шарлов, а Шарло. Художник один был из французов. Убили его тут.
— Кто убил, за что?
— Давнее дело. В Зотовскую ещё пору было. Слыхали про Зотовых? Коли уж царь их сослал за лютость, так ясно, какие были. Только Зотовы не одни лютовали. Кто-то им помогал. Слуги, значит, верные, зотовские псы.
— Вот в это время и жил в Каслях художник Шарло. То ли он от французского нашествия остался, то ли нарочно его выписали, про то не знаю. Только работал он по-вольному и жалованье получал по договору. Был он, сказывают, еще молодой, красивый, только здоровья слабого, а по своему делу мастер. Одному-то молодому тоскливо, он и присмотрел себе девушку из наших каслинских. Ему бы первым делом надо было её из крепости выкупить, да денег, видно, не лишка было и порядков тогдашних не знал. А зотовские приспешники обнадёжили:
— Пустое дело. Потом выкупишь.
Он понадеялся на эти слова да и женился. Зотовским это и надо. Только сперва виду не показали. Живет француз с молодой женой, по прежнему положению жалованье получает, никто их не тревожит. К году-то у них ребёночек родился. С ребёнком мать и вовсе расцвела — кровь с молоком стала. А француз её одевал по-господски. Ну, она и вовсе заметная стала против других-то заводских женщин.
Тут у них беда и пришла. Углядел её, Шарлову-то жену, главный зотовский палач, подозвал и спрашивает:
— Ты чья?
Она уж попривыкла к жизни на воле, спокойненько отвечает: жена де француза-художника. Палач и говорит:
— Ты вот что! Приходи-ка сегодня вечером ко мне. Прибраться надо вдовому человеку. Да, смотри, не забудь, а то велю силой привести.
Незадолго перед тем он, и верно, овдовел. Забил, сказывают, свою жену. Девушкам, которые попригожее, да и молодым мужним женам чистое горе: какую углядит, ту и тащит к себе. Ну, Шарлова жена, конечно, не пошла, мужу сказала. Тот загорячился, к самому Зотову побежал жаловаться.
— Как он смеет, — это палач-то, — моей жене такие слова говорить! Я с ней в церкви закон принял, дитя у нас есть!
Говорил по-нашему-то плохо. Только и можно было разобрать — закон да закон. Зотов слушал-слушал, но ничего. То ли нужен ему был этот художник Шарло, то ли стих добрый нашёл. Погрозил только тростью да и говорит:
— Вот тебе закон! Запомни хорошенько! Никакой у тебя жены нет, а поставлена для услуг крепостная девка. Будешь хорошо по своей работе стараться — пускай живет, а чуть неладно — отберу с ребёнчишком вместе, потому как он тоже крепостной. А что в церкви тебя венчали, так это для потехи. Ты вовсе и веры не нашей, и женитьба твоя в книгах церковных не записана. Понял ли? А пока живи, никто тебя не заденет.
Шарло, конечно, приуныл, а сам думает, — не может того быть, чтоб жену с дитём от живого мужа отобрать. Взял да и написал какому-то своему знакомому в Петербург, посоветоваться с ним хотел. Ну, у Зотова везде куплено было. Письмо это перехватили да Зотову в руки. Хоть по-французски писано, а разобрали. Зотов сейчас же француза к себе потребовал да и говорит:
— Сегодня вечером сведи свою девку приказчику. Ему теперь её в услуженье передал, а ребёнка можешь себе оставить.
Шарло хоть слабый человек, а тут заартачился, крик поднял. Его, понятно, на пожарку сволокли да так ухлестали, что он ни рукой, ни ногой. Потом за женой пришли. Жена у Шарло крепкая попалась, заводский корешок, не сразу её обломаешь, — руками и ногами отбиваться стала. Ну, все-таки её уволокли к приказчику, — к палачу-то этому, который всему делу заводчик оказался.
Как у них там с этим палачом было, не знаю. Совсем с той поры баба как в воду канула. Может, взаперти её держали, голодом морили. Шарло между тем отлежался и сразу в бега пустился. Расчёт имел до Питера добраться, а Зотову это, видно, сильно не с руки: все-таки чужестранный человек, как бы отвечать за него не пришлось. Зотов и велел обложить все леса и дороги. А Шарло далеко-то и не ушёл. В лесу около этого озера жил. Любил он Синарское озеро. Раньше, когда ещё беда не стряслась, часто сюда бегивал. Когда и с женой приезжали. Место тут знал хорошо, вот его и не могли найти. Говорили, что лешачиха глаза отводила, а может просто, кто и видел, да не видел. Худого людям Шарло не делал, кто станет его выдавать? Так бы его и не нашли заводские ищейки, кабы он сам себя не оказал. Увидел своего обидчика да и пальнул в него из пистолета. Ну, а какой он стрелок! Палач живо подмял его, прикрутил верёвками к дереву и скорей в Касли— Зотову сказать, что нашёл беглого художника. Зотов сам поехал поглядеть, точно ли Шарло, не выдумывает ли палач, чтоб заботу отвести от себя. Приехали к месту, а там никого. Палач дивится.
— И впрямь, — говорит, — ему лешачиха помогает!
Ну, Зотов не из таких был, чтоб его лешачихой испугать, настрого наказал своему приспешнику:
— Ты лешачиху-то дуракам оставь, а мне подай Шарло, живого ли мёртвого, а так, чтоб я посмотреть на него мог. Не найдёшь — самого запорю! Ищи хорошенько.
Тут он, по всему видать. Да один-то, смотри, не рыскай по лесу и много людей тоже не бери, чтоб видоков лишних не было.
С этого дня палач с двумя объездчиками и охотился на Шарло, как на зверя. Уследили-таки, поймали. Опять приехал сам Зотов, поглядел и дал приказ кончить так, чтоб узнать человека нельзя было.
Вскоре по заводу и деревням разговор прошёл, что на берегу Синарского нашли неизвестного убитого человека. Следствие приехало, народ согнали, — не признает ли кто убитого? А как признать, коли всё лицо в лепёшку разбито и одёжи никакой. По волосам, говорят, признать можно было. Заметные они были — срыжа-черные. Да разве кто скажет? Боялись, поди-ка.
Кончилось это дело, а тут оба объездчика, которые с палачом Шарла выслеживали, потерялись. Их сильно и не искали. Видно, большой надобности в них не было. Объявили их беглыми, послали, куда надо, разыскные бумажки, только и всего. Ну, а потом и главного зотовского палача не стало. Не стало и не стало, и следов нет. Зотов тогда опять велел весь лес и дороги обыскать. Потом и по озёрам с неводами пошли. Из нашего Синарского всех троих и вытащили. По разным местам с камнями спущены оказались.
Объездчики, видать, убиты нежданным нападом: один ножом в спину против самого сердца, другой — пулей в затылок. Ну, а у этого, доверенного зотовского палача, по-другому. Лицо у него не задето. Сразу признать можно. Зато на спине живого места не осталось. Видно, что прутьями его забивали, и не один либо двое, а навалом хлестали. Кто это сделал конец зотовскому палачу, так и не дознались, за всех ответила Шарлова жена. Её Зотов велел тут, у Синарского, на мертвяке этом кнутьями бить.
— Сказывай, — кричит, — кого подговаривала?
А кого сна могла подговаривать, коли запертой сидела? С той поры, как ее от мужа увезли, она, может, и людей-то посторонних не видала… Как тень, сказывают, стала.
Не выдержала, конечно, женщина, умерла, а девчоночку ихнюю добрые люди воспитали. Выросла она, замуж за нашего заводского вышла, да недолго прожила, и тоже девчоночку после себя оставила. Моей-то покойной жене эта Шарлова дочь бабкой доводилась.
От жены я и слыхал эту побывальщину. Песенку моя покойная певала про Шарла-то, как он на чужой стороне через любовь пострадал. Жалостливые такие слова, нежные, только я их забыл…
Домой возвращались по потёмкам. Зеркало уральской феи под луной отливало холодным, мертвенным блеском. Пугали неожиданные всплески крупной рыбы. В них, в этих всплесках, чудились отголоски той звериной жизни, о которой только что рассказывал старый Никитич. Также вот взметнулась щука, и не стало весёлой рыбки — неведомого французского художника, от которого осталось лишь имя Шарль, и то переделанное на Шарло.
Обратную дорогу молчали. Только Никитич, отвечая, видимо, на свои мысли, проговорил:
— Недолговекие они… Кровь, видно, слабая…
1937 г.
Сочневы камешки
осле Степановой смерти — это который малахитовы-то столбы добыл — много народу на Красногорку потянулось. Охота было тех камешков доступить, которые в мёртвой Степановой руке видели. Дело-то в осенях было, уж перед снегом. Много ли тут настараешься. А как зима прошла, опять в то место набежали. Поскыркались-поскыркались, набили железной руды, видят — пустое дело, — отстали. Только Ванька Сочень остался. Люди-то косить собираются, а он, знай своё, на руднике колотится. И старатель-то был невсамделешный, а так, сбоку припёка. Смолоду-то около господ тёрся, да за провинку выгнали его. Ну, а зараза эта— барские-то блюдья лизать — у него осталась. Всё хотел чем ни на есть себя оказать. Выслужиться, значит. Ну, а чем он себя окажет? Грамота малая. С такой в приказные не возьмут. На огненную работу негож, в горе и недели не выдюжит. Он на прииска и подался. Думал — там мёд пьют. Хлебнул, да солоно. Тогда он и приспособил себе ремесло по рылу — стал у конторы нюхалкой-наушником промеж старателей. Старательского ковшика не бросил. Тоже около песков кышкался, а сам только то и смышлял, где бы что выведать да конторским довести. Конторские видят себе пользу — сноровлять Сочню стали. Хорошие места отводят, деньжонками подавывают, одежонкой, обувкой. Старатели опять свой расчёт с Сочнем ведут: когда по загорбку, когда по уху, когда и по всем местам. Глядя по делу. Только Сочень к битью привыкши был, по лакейскому-то сословию. Отлежится да за старое. Так вот и жил — вертелся промеж тех да этих. И женёшка ему подстать была, не то что гулящая али вовсе плёха, а так… чужой ужной звали: на даровщину любила пожить. Ребят, конечно, у их вовсе не было. Где уж таким-то.
Вот как пошли по заводу разговоры про Степановы камешки да кинулся народ на Красногорку, этот Сочень туда же.
«Поищу-ко, — думает. — Чем я хуже Степана? Небось, такой дурости не допущу, чтоб богатство в руке раздавить».
Старатели знают, где что искать. Поскреблись на Красногорке, видят — порода не та, — отстали. А этот Сочень умнее всех себя кажет, — один остался.
— Не я, — говорит, — буду, коли богатство не возьму! — Вот какой умник выискался!
Хлещется этак раз в забое. Вовсе зря руду разворачивает. Вдруг глыба отвалилась. Пудов, поди, на двадцать, а то и больше. Чуть ноги Сочню не отдавило. Отскочил он, глядит, а в выбоине-то как раз против него два зелёных камня. Обрадовался Сочень, думает — на гнездо попал. Протянул руку выковырнуть камешок, а оттуда как пышкнет — с Ванькой от страху неладно стало. Глядит— из забоя кошка выскочила. Чисто вся бурая, без единой отметины, только глаза зелёные да зубы белеют. Шерсть дыбом, спина горбом, хвост свечкой — вот-вот кинется. Ванька давай-ко от этой кошки бежать. Версты две без оглядки чесал, задохся. Потом уж потише пошёл. Пришёл домой, кричит своей бабе:
— Топи скорей баню! Неладно со мной приключилось.
После бани-то возьми, Дурова голова, и расскажи всё бабе. Та, конечно, сейчас же присоветовала:
— Сходить бы тебе, Ванюшка, к бабушке Колесишке. Покланяться ей. Она те живо на путь наставит.
Была такая, сказывают, старушонка. Родильниц в банях парила, случалось, и девий грех хоронила. Ноги, слышь-ко, у ней шибко кривые были. Как на колесе тулово посажено. За это Колесишкой и прозывали.
Ванька сперва упирался:
— Никуда не пойду, а на рудник и золотом не заманишь. На эки-то страсти! Да ни в жизнь! — За струментишком своим хотел даже человека нарядить. Боялся, вишь. Потом — денька через два, через три — отошёл, а бабёнка ему своё толмит:
— Сходи ты, сходи к Колесишке! Она ведунья. Научит, как те камешки взять. — Тоже, видно, обжаднела Сочнева-то баба на богатство.
Пошёл Ванька к Колесишке. Стал ей рассказывать, а что старуха понимает в земельном богатстве. Сидит да бормочет:
— Дыр-гыр-быр. Змея кошки боится, кошка собаки боится, собака волка боится, волк медведя боится. Дыр-быр-гыр! Чур меня! рассыпься! — Ну, и протчу ведунью дурость, а Ванька думает: «Ишь, какая мудрёная бабка».
Рассказал Ванька, старуха и спрашивает:
— Есть у тебя, сынок, яга собачья?
— Есть, — отвечает, — немудренькая, вся в дырьях!
— Это, — говорит, — всё едино, лишь бы пёсьим духом смердило.
— Смердит, — говорит, — шибко смердит. Из некормных собак собрана.
— Вот и ладно. Ты эту ягу надень и с себя не снимай, пока камешки домой не принесёшь. А ежели ещё опасишься, так я тебе дам волчий хвост на шею повесить либо медвежьего сальца в рубаху зашить. Только та штука денежку стоит, и не малую.
Порядился Сочень с ведуньей, сходил домой, принёс деньги.
— Давай, баушка, хвост и сало! — Старушонке любо: дурака бог дал.
Повесил Сочень хвост на шею, сало ему жена в рубец на вороту рубахи зашила.
Снарядился так-то, надел на себя ягу и пошёл на Красногорку. Кто встретится, всяк дивуется — в Петровки ягу надел. А Сочень пристанывает — лихоманка одолела, — даром что пот ручьями бежит.
Пришёл на рудник. Видит — струментишко его тут валяется. Никто не обзарился. Шалашишко только ветром малость скособочило.
Никто, видать, без него тут не бывал. Огляделся так-то Сочень и давай опять зря руду ворочать. Дело-то к вечеру пошло. Сочень боится на руднике остаться, а намахался. В яге-то летом помаши каёлкой! Кто и покрепче — умается, а Сочень вовсе раскис. Где стоял, тут и лёг. Сон-от не свой брат, — всех ровняет. Который и боязливый, а храпит не хуже смелого.
Выспался Ванька — лучше некуда и вовсе осмелел. Поел — да за работу. Колотился-колотился, и опять, как тот раз, большая глыба отскочила — едва Ванька ноги уберёг. Думает — сейчас кошка выскочит. Нет, никого нету: видно, волчий хвост да медвежье сало помогают. Подошёл к выбоине и видит — выход породы новой обозначился. Пообчистил Ванька кругом, подобрался к тому месту и давай породу расковыривать. Порода сголуба, вроде лазоревки, лёгкая, рохло лежит. Поковырял маленько — на гнёздышко натакался. Целых шесть штук зелёных камешков взял, и все парами в породе сидели. Откуда у Сочня и сила взялась: давай дальше руду ворочать. Только сколь ни бился, ничего больше добыть не мог. Как отрезало. Даже породы той не стало. Ровно кто её на поглядку положил.
Долго Ванька не сдавал. Поглядит на камешки, полюбуется да за кайлу. Толку всё-таки нет. Измаялся, хлебный запас приел, надо домой бежать. Тропка была прямёхонько к ключику, который у мостика через Северушку. Ванька той тропкой и пошёл. Лес тут густой, стоялый, а тропка приметная. Идёт Сочень, барыши считает: сколь ему за камни дадут. Только вдруг сзади-то:
— Мяу! мяу! отдай наши глаза!
Оглянулся Сочень, а на него прямо три кошки бегут. Все бурые и все без глаз. Вот-вот наскочат. Ванька в сторону, в лес. Кошки за ним. Только где им, безглазым-то! Сочень с глазами, и то себе всю рожу раскровянил, ягу в клочья изорвал по чаще-то. Сколь раз падал, в болоте вяз, насилу на дорогу выбился. По счастью, мужики северские ехали на пяти телегах. Видят— выскочил какой-то вовсе не в себе — без слова подсадили и подвезли до Северной, а там Сочень потихоньку сам добрёл. Время ночное. Баба у Сочня спит, а избушка не заперта. Беспелюха тоже добрая была, Сочнева-то женёшка. Ей бы взвалехнуться, а до дому дела нет. Сочень вздул огонька, покрестил все углы и сразу в кошелёк — поглядеть на свои камешки. Хвать-похвать, а в кошельке-то пыли щепоточка. Раздавил! Взвыл тут Сочень и давай с горя Колесишку позаочь материть.
— Не могла, такая-эдакая, от кошек уберегчи. За что я тебе деньги стравил, за что ягу на себе таскал!
Баба пробудилась — ей тычка дал и всяко выкорил. Баба видит, — на себя мужик не походит, — давай-ко к нему ластиться. Он её костерит, а она:
— Ванюшка, не истопить ли баньку?
Знала тоже, с чем подъехать. Ну, Ванька пошумел-пошумел да и отошёл — рассказал бабе всё до капельки. Тут уж она сама заревела. Поглядит на пыль-то в кошельке, на палец возьмёт — лизнёт и опять в слёзы. Поревели так-то оба, потом баба опять советовать стала.
— Видно, — говорит, — Колесишкина сила не берёт. Надо для укрепы к попу сходить.
Сочень сперва и слушать не хотел. Думать боялся, как это он ещё на тот рудник пойдёт. Только ведь баба, как осенний дождь. День долбит, два долбит — додолбила-таки. Ну и сам Ванька отутовел маленько.
«Зря, — думает, — я тогда кошек испужался. Что они без глаз-то!»
Пошёл к попу: так и так, батюшка.
Поп подумал-подумал да и говорит:
— Надо бы тебе, сыне, обещанье дать, что первый камешок из добычи на венчик богородице приложишь, а потом по силе добавление дашь.
— Это, — отвечает Сочень, — можно. Ежели десятка два добуду, пяток не пожалею.
Тогда поп давай над Сочнем читать. Из одной книжки почитал, из другой, из третьей, водой покропил, крестом благословил, получил с Ваньки полтину да и говорит:
— Хорошо бы тебе, сыне, крестик кипарисовый с Афон-горы доступить. Есть у меня такой, да только себе дорого стоит. Тебе, пожалуй, для такого случая уступлю по своей цене, — и назначил вдвое против Колесишки-то. Ну, с попом ведь не рядятся, — сходил Ванька домой, заскребли с бабой последние деньги. Купил Сочень крестик и перед бабой похваляется:
— Теперь никого не боюсь.
На другой день на рудник собрался. Баба ему ту рубаху, с медвежьим-то салом, вымыла, ягу починила сколь можно. Хвост волчий Ванька на шею надел, тут же крестик кипарисовый повесил. Пришёл на Красногорку. Там всё по-старому. Что где лежало, то тут и лежит. Только шалашишко ещё ровно больше скособочило. Ну, Ваньке не до этого. Сразу в забой. Только замахнулся кайлой, кто-то и спрашивает:
— Опять, Ваня, пришёл? Безглазых кошек не боишься?
Ванька оглянулся, а чуть не рядом сама сидит. По платью-то малахитовому Ванька сразу признал её. У Ваньки руки-ноги отнялись, и язык без пути заболтался:
— Как же, как же… Дыр-гыр-быр… Свят… Свят… рассыпься.
Она этак посмеивается:
— Да ты не бойся! Ведь я не кошка безглазая. Скажи-ка лучше, что тебе тут надо?
Ванька, знай, бормочет:
— Как же, как же… Дыр-гыр-быр… — Потом отошел будто маленько: — камешков поискать пришёл… В Степановой руке люди видели…
Она прихмурилась:
— Ты это имя не трожь! А камней я тебе дам. Вижу, какой ты старатель, да и от приисковских про тебя слыхала. Будто ты шибко им полезный.
— Как же, как же… — обрадовался Ванька. — Я завсегда по совести.
— Вот по твоей совести и получишь. Только, чур, уговор. Никому те камни не продавай. Ни единого, смотри! Сразу снеси все приказчику. Он тебя и наградит из своих рук. Потом из казны добавит. На всю жизнь будешь доволен. Столь отсыплет, что самому и домой не донести.
Сказала так-то и повела Сочня под горку. Как спустились, пнула ногой огромадный камень. Камень отвалился, а под ним как тайничок открылся. По голубой породе камешки зелёные сидят. Полным-полнёхонько.
— Нагребай, — говорит, — сколько надо, — а сама тут же стоит, смотрит.
Ванька хоть старатель был маломальный, а кошелёк у него исправный, больше всех. Набил натуго, а всё ему мало. Охота бы в карманы насовать, да боится: Хозяйка сердито глядит, а сама молчит. Делать нечего, — видно, надо спасибо сказать. Глядит, а никого нет. Оглянулся на тайник, и его не стало. Будто не было вовсе. На том месте камень лежит, на медведя походит. Пощупал Ванька кошелёк — полнёхонек, как бы не разошёлся. Поглядел ещё на то место, где камешки брал, да айда-ко поскорее домой. Бежит-бежит да пощупает кошелёк: тут ли. Хвостом волчьим над ним помашет, крестиком потрёт и опять бежит. Прибежал домой задолго до вечера. Баба даже испугалась.
— Баню, — спрашивает, — топить?
А он как дикой.
— Занавесь-ко, — кричит, — окошки на улку! — Ну, баба, конечно, занавесила, чем попало, оба окошечка, а Сочень кошелёк на стол:
— Гляди!
Баба видит — полон кошелёк каких-то зелёных зёрнышек. Обрадовалась сперва-то, закрестилась, потом и говорит:
— А, может, не настоящие?
Ванька даже осердился:
— Дура! В горе, поди, брал. Кто тебе в гору подделку подсунет? — Про то не сказал, что ему Хозяйка сама камни показала, да ещё наказ дала. А Сочнева баба всё-таки сумлевается:
— Ежели ты сразу кошелёк набил, так лошадные мужики узнают— возами привезут. Куда тогда эти камешки? Малым ребятам на игрушки да девкам на буски?
Ванька даже из лица вспыхнул:
— Сейчас узнаешь цену такому камешку!
Отсыпал в горстку пять штук, кошелёк на шею и побежал к щегарю:
— Кузьма Мироныч, погляди камешки.
Щегарь оглядел. Стеколко своё на ножках взял. Ещё оглядел. Кислотой попробовал.
— Где, — говорит, — взял?
Ну, Ванька, конторская нюхалка, сразу и говорит:
— На Красногорке.
— В котором месте?
Тут Ванька схитрил маленько — указал — где сперва-то работал.
— Сумнительно что-то, — говорит щегарь. — По железу медных изумрудов не бывает. А много добыл?
Ванька и вытащил кошелёк на стол. Щегарь взглянул в кошелёк и прямо обомлел. Потом отдышался да и говорит:
— Поздравляю вас, Иван Трифоныч! Счастье вас поискало. Не забудьте при случае нас, маленьких. — А сам Ваньку-то за ручку да всё навеличивает. Известно, деньги чего не делают! — Пойдёмте, — говорит, — сейчас же к приказчику.
Ванька так и сяк:
— Помыться бы сперва, в баню сходить, переоболокчись.
А это ему охота было камешков отсыпать. Только щегарь своё:
— С таким-то кошелём не то что к приказчику, к царю можно итти. Не побрезгует, во всякое время примет.
Ну, делать нечего. Привёл щегарь Ваньку к приказчику. А там сборище како-то было. И сам старый барин тут же, только что приехал. Сидит осередь комнаты и рожок при ухе держит, а приказчик ему: «ду-ду», наговаривает всяку штуку.
Зашёл щегарь в ту комнату, обсказал, что надо, а приказчик сейчас же в рожок барину задудел:
— Нашли-таки мы медные изумруды. Один верный человек расстарался. Надо его наградить как следует.
Привели Сочня в комнату.
Достал он свой кошелёк, подал барину да ещё и руку ему чмокнул. Барин даже удивился:
— Откуда такой? Весь порядок знает.
— В лакеях раньше-то состоял, — задудел приказчик.
— То-то и есть, — говорит барин, — сразу видать. А ещё толкуют, что из дворовых плохие работники. Вон этот сколько добыл.
Сам эдак подкидывает кошелёк на руке-то. Кругом вся заводская знать собралась. Барыни, кои поважнее, тут же трутся. Барин стал кошелёк развязывать, да сноровки нет, он и подал Сочню — развяжи-де. Сочень рад стараться: дёрнул ремешок, растянул устьице.
— Пожалуйте!
И тут такой, слышь-ко, дух пошёл, — терпеть нельзя. Ровно палую лошадь либо корову затащили. Барыни, которые поближе стояли, платочками рты-носы захватили, а барин на приказчика накинулся:
— Э-та что? Надсмешки надо мной строишь?
Приказчик хвать рукой в кошелёк, а там ничем-ничегошеньки, только дух того гуще пошёл. Барин захватил рот рукой да из комнаты. Остальные — кто куда. Один приказчик да Сочень остались. Сочень побелел весь, а приказчик от злости трясётся.
— Ты это что? А? Откуда столь вони насобирал? Кто научил?
Сочень видит — дело плохо, давай рассказывать всё начистоту. Ничего не утаил. Приказчик слушал-слушал да и спрашивает:
— Награду, говоришь, сулила?
— Сулила, — вздохнул Сочень.
— От меня сулила?
— Так и сказала: наградит из своей руки да ещё из казны добавит.
— Получай тогда, — заревел приказчик да как двинет Сочня по зубам — чуть он угол башкой не прошиб.
— Это, — кричит, — тебе задаток. Награду на пожарной получишь. До веку её не забудешь.
И верно. На другой день отсыпали Сочню столько, что на своих ногах донести не смог — на рогожке в лазарет стащили. Даже те, кому не раз случалось Сочня колачивать, пожалели маленько.
— Достукался, конторская нюхалка!
Только и приказчику не сладко поелось. В тот же день барин давай его допекать.
— Как ты смел такую штуку подстроить?
Приказчик, понятно, финти-винти:
— Не причастен этому делу. Старателишко меня подвёл.
— А кто, — спрашивает, — этого старателишка ко мне допустил да ещё с этаким кошельком?
Приказчику податься некуда, сознался:
— Моя оплошка.
— Вот и получи. По заслуге. Ступай-ка из приказчиков надзирателем на Крылатовско, — говорит барин да ещё своим подручникам, кои при разговоре случились, объясняет:
— Пущай, дескать, на вольном воздухе пробыгается. И так-то от него дух тяжёлый. Недаром козлом дразнят, а теперь и вовсе его видеть не могу. С души воротит, после вчерашнего-то.
На Крылатовском тот приказчик и в доски ушёл. После прежнего-то житья не сладко тоже пришлось.
Насмеялась, видно, и над ним Хозяйка.
1937 г.
Змеиный след
е ребята, Левонтьевы-то, коим Полоз богатство показал, стали поправляться житьишком. Даром, что отец вскоре помер, они год от году лучше да лучше живут. Избу себе поставили. Не то, чтобы дом затейливой, а так — избушечка справная. Коровёнку купили, лошадь завели, овечек до трёх голов в зиму пускать стали. Мать-то нарадоваться не может, что хоть в старости свет увидела.
А всё тот старичок — Семёныч-то настовал. Он тут всему делу голова. Научил ребят, как с золотом обходиться, чтобы и контора не шибко примечала и другие старатели не больно зарились. Хитро ведь с золотишком-то! На все стороны оглядывайся. Свой брат-старатель подглядывает, купец как коршун зорит, и конторско начальство в глазу держит. Вот и поворачивайся! Одним-то малолетам где с таким делом управиться! Семёныч всё им и показал. Одним словом, обучил.
Живут ребята. В годы входить стали, а всё на старом месте стараются. И другие старатели не уходят. Хоть некорыстно, а намывают, видно… Ну, а у ребят тех и вовсе ладно. Про запас золотишко оставлять стали.
Только заводское начальство углядело — неплохо сироты живут. В праздник какой-то, как мать из печки рыбный пирог доставала, к ним и пых заводской рассылка:
— К приказчику ступайте! Велел немедля.
Пришли, а приказчик на них накинулся:
— Вы до которой поры шалыганить будете? Гляди-ко — в версту вымыхал каждый, а на барина единого дня не рабатывал! По каким таким правам? Под красну шапку захотели али как?
Ребята объясняют, конечно:
— Тятеньку, дескать, покойного, как он вовсе из сил выбился, сам барин на волю отпустил. Ну, мы и думали…
— А вы, — кричит, — не думайте, а кажите актову бумагу, по коей вам воля прописана.
У ребят, конечно, никакой такой бумаги не бывало, они и не знают, что сказать. Приказчик тогда и объявил:
— По пяти сотен несите — дам бумагу.
Это он, видно, испытывал, не объявят ли ребята деньги. Ну, те укрепились.
— Если, — говорит младший, — всё наше хозяйство до ниточки продать, так и то половины не набежит.
— Когда так, выходите с утра на работу. Нарядчик скажет, куда. Да, глядите, не опаздывать к разнарядке! В случае — выпорю для первого разу!
Приуныли наши ребятушки. Матери сказали, та и вовсе вой подняла:
— Ой, да что же это, детоньки, подеялось! Да как мы теперь жить станем!.
Родня-соседи набежали. Кто советует прошенье барину писать, кто велит в город к горному начальству итти, кто прикидывает, на сколь всё хозяйство вытянет, ежели его продать. Кто опять пужает:
— Пока, дескать, то да сё, приказчиковы подлокотники живо схватят, выпорют да и в гору. Прикуют там цепями, тогда ищи управу!
Так вот и удумывали всяк по-своему, а того никто не домекнул, что у ребят, может, впятеро есть против приказчикова запросу, только объявить боятся. Про это, слышь-ко, и мать у них не знала. Семёныч, как еще в живых был, часто им твердил:
— Про золото в запасе никому не сказывай, особливо женщине. Мать ли, жена, невеста — всё едино помалкивай. Мало ли случай какой. Набежит, примерно, горная стража, обыскивать станут; страстей всяких насулят. Женщина иная и крепкая на слово, а тут забоится, как бы сыну либо мужу худа не вышло, возьмёт да и укажет место, а стражникам того и надо. Золото возьмут и человека загубят. И женщина та, глядишь, за свою неустойку головой в воду либо петлю на шею. Бывалое это дело. Остерегайтесь! Как потом в годы войдете да женитесь — не забывайте про это, а матери своей и намёку не давайте. Слабая она у вас на языке-то, — похвастать своими детоньками любит.
Ребята это Семёнычево наставленье крепко помнили и про свой запас никому не сказывали. Подозревали, конечно, другие старатели, что должен быть у ребят запасец, только много ли и в котором месте хранят — не знали.
Посудачили соседи, потужили да с тем и разошлись, что утречком, видно, ребятам на разнарядку выходить.
— Без этого не миновать.
Как не стало чужих, младший брат и говорит:
— Пойдём-ко, братко, на прииск! Простимся хоть…
Старший понимает, к чему разговор.
— И то, — говорит, — пойдём. Не легче ли на ветерке голове станет.
Собрала им мать постряпенек праздничных да огурцов положила. Они, конечно, бутылку взяли и пошли на Рябиновку.
Идут — молчат. Как дорога лесом пошла, старший и говорит:
— Прихоронимся маленько.
За крутым поворотом свернули в сторону да тут у дороги и легли за шиповником. Выпили по стакашку, полежали маленько, слышат — идёт кто-то. Поглядели, а это Ванька Сочень с ковшом и прочим струментом по дороге шлёпает. Будто спозаранку на прииск пошёл. Старанье на него накатило, косушку не допил! А этот Сочень у конторских в собачках ходил: где что вынюхать — его подсылали. Давно на заметке был. Не один раз его бивали, а всё не попускался своему ремеслу. Самый вредный мужичонко. Хозяйка Медной горы уж сама его потом так наградила, что в скорости он и ноги протянул. Ну, не о том разговор… Прошёл этот Сочень, братья перемигнулись. Мало погодя щегарь верхом на лошадке проехал. Ещё полежали, — сам Пименов на своём Ершике выкатил. Коробчишечко лёгонький, к дрогам удочки привязаны. На рыбалку, видно, поехал.
Этот Пименов по тому времени в Полевой самый отчаянный был —.по тайному золоту. И Ершика у него все знали. Степнячок-лошадка, собой невеличка, а от любой тройки уйдёт. Где только добыл такую! Она, сказывают, двухколодешная была, с двойным дыхом. Хоть пятьдесят вёрст на мах могла… Догони её! Самая воровская лошадка. Много про неё рассказывали. Ну, и хозяин тоже намятыш добрый был, — один на один с таким не встречайся. Не то что, нынешние наследники, которые вон в том двухэтажном доме живут.
Ребята, как увидели этого рыболова, так и засмеялись. Младший поднялся из-за кустов да и говорит, негромко всё-таки:
— Иван Васильич, весы-то с тобой?
Купец видит — смеётся парень, и тоже шуткой отвечает:
— В эком-то лесу да не найти! Было бы что весить.
Потом придержал Ершика и говорит:
— Коли дело есть, садись — подвезу.
Такая у него, слышь-ко, повадка была — золотишко на лошади принимать. Надеялся на своего Ершика. Чуть что: «Ершик, ударю»! — и только пыль столбом либо брызги во все стороны.
Ребята отвечают: «Нет с собой», — а сами спрашивают:
— Где тебя, Иван Васильич, искать утром на свету?
— Какое, — спрашивает, — дело? Большое али пустяк?
— Будто сам не ведаешь…
— Ведать-то, — отвечает, — ведаю, да не всё. Не знаю, то ли оба откупаться собрались, то ли один сперва.
Потом помолчал да и говорит, как упреждает:
— Глядите, ребята, — зорят за вами. Сочня-то видели?
— Ну, как же.
— А щегаря?
— Тоже видели.
— Ещё поди, послали кого за вами доглядывать. Может, кто и охотой. Знают, вишь, что вам к утру деньги нужны, вот и караулят. И то поехал вас упредить.
— За то спасибо, а только мы тоже поглядываем.
— Вижу, что понаторели, а всё остерегайтесь!
— Боишься, как бы от тебя не ушло?
— Ну, моё-то вернее. Другой не купит, — побоится.
— А почём?
Пименов прижал, конечно, в цене-то. Ястребок ведь. От живого мяса такого не оторвёшь!
— Больше, — говорит, — не дам. Потому — дело заметное.
Срядились. Пименов тогда и шепнул.
— На брезгу по Плотнике проезжать буду, — подсажу…
Пошевелил вожжами: «Ступай, Ершик, догоняй щегаря!» На прощанье ещё спросил:
— На двоих али на одного готовить?
— Сами не знаем — сколь наскребётся. Полишку всё-таки бери, — ответил младший.
Отъехал купец.
Братья помолчали маленько, потом младший и говорит:
— Братко, а ведь это Пименов от ума говорил. Неладно нам большие деньги сразу оказать. Худо может выйти. Отберут — и только.
— Тоже и я думаю, да быть-то как?
— Может, так сделаем? Сходим ещё к приказчику, покланяемся, не скинет ли маленько. Потом и скажем, — больше четырёх сотен не наскрести, коли всё хозяйство продать. Одного-то, поди, за четыре сотни выпустит, и люди будут думать, что мы из последнего собрали.
— Так-то ладно бы, — отвечает старший, — да кому в крепости оставаться? Жеребьёвкой, видно, придётся.
Тут младший и давай лебезить;
— Жеребьёвка, дескать, чего бы лучше! Без обиды… Про это что говорить… Только вот у тебя изъян… глаз повреждённый… В случае оплошки, тебя в солдаты не возьмут, а меня чем обракуешь? Чуть что — сдадут. Тогда уж воли не увидишь. А ты бы пострадал маленько, я бы тебя живо выкупил. Году не пройдёт — к приказчику пойду. Сколь ни запросит — отдам. В этом не сумлевайся! Неуж у меня совести нет? Вместе, поди-ко, зарабатывали. Разве мне жалко!
Старшего-то у них Пантелеем звали. Он пантюхой и вышел. Простяга парень. Скажи, — рубаху сымет, другого выручит. Ну, а изъян, что окривел-то он, вовсе парня к земле прижал. Тихий стал, — ровно все-то его больше да умнее. Слова при других сказать не умеет. Помалкивает всё.
Меньший-то, Костька, вовсе не на эту стать. Даром что в бедности с детства рос, выправился, хоть на выставку. Рослый да ядрёный… Одно худо — рыжий, скрасна даже. Позаглаза-то его все так и звали Костька Рыжий. И хитрый тоже был. У кого с ним дело случалось, говаривали: «У Костьки не всякому слову верь. Иное он и вовсе проглотит». А подсыпаться к кому — первый мастер. Чисто лиса, так и метёт, таки метёт хвостом…
Пантюху-то Костька и оболтал живёхонько. Так всё по Костькиному и вышло. Приказчик сотню скинул, и Костька на другой день вольную бумагу получил, а брату будто нисхождение выхлопотал. Ему приказчик на Крылатовский прииск велел отправляться.
— Верно, — говорит, — твой-то брат сказывает. Там тебе знакомее будет. Тоже с песками больше дело. А людей, всё едино, что здесь, что там, недохватка. Ладно уж, сделаю тебе нисхождение. Ступай на Крылатовско.
Так Костька и подвёл дело. Сам на вольном положении укрепился, а брата на дальний прииск столкал. Избу и хозяйство он, конечно, и не думал продавать. Так только вид делал.
Как Пантелея угнали, Костька тоже стал на Рябиновку сряжаться. Одному-то как? Чужого человека не миновать наймовать, а боится, — узнают через него другие, полезут к тому месту. Нашёл всё-таки недоумка одного. Мужик большой, а умишко маленький — до десятка счёту не знал. Костьке такого и надо.
Стал с этим недоумком стараться, видит — отощал песок. Костька, конечно, заметался: повыше, пониже, в тот бок, в другой — всё одно, нет золота. Так мельтешит чуть-чуть, — стараться не стоит. Вот Костька и придумал на другой берег податься, — ударить под той берёзой, где Полоз останавливался. Получше пошло, а всё не то, как при Пантелее было. Костька и тому рад да ещё думает, — перехитрил я Полоза.
На Костьку глядя, и другие старатели на этом берегу пытать счастья стали. Тоже, видно, поглянулось. Месяца не прошло, — полно народу набилось. Пришлые какие-то появились.
В одной артёлке увидел Костька девчонку. Тоже рыженькая, собой тончава, а подходященька. С такой по ненастью солнышко светеет. А Костька по женской стороне шибко пакостник был. Чисто приказчик какой, а то и сам барин. Из отецких не одна девка за того Костьку слезами умывалась, а тут что… приисковска девчонка. Костька и разлетелся, только его сразу обожгло.
Девчоночка ровно вовсе молоденькая, справа у ней некорыстна, а подступить непросто. Бойкая! Ты ей слово, она тебе — два, да все на издевку. А руками чтобы это и думать забудь. Вот Костька и клюнул тут, как язь на колобок.
Жизни не рад стал, сна-спокою решился. Она и давай его водить и давай водить.
Есть ведь из ихней сестры мастерицы. Откуда только научатся? Глядишь, — ровно вовсе ещё от малолетков недалеко ушла, а все ухватки знает. Костька сам оплести кого хочешь мог, а тут другое запел.
— Замуж, — спрашивает, — пойдёшь за меня? Чтоб, значит, не как-нибудь, а честно-благородно, по закону… Из крепости тебя выкуплю.
Она, знай, посмеивается;
— Кабы ты не рыжий был!
Костьке это нож вострый! — не глянулось, как его рыжим звали, — а на шутку поворачивает:
— Сама-то какая?
— То, — отвечает, — и боюсь за тебя выходить. Сама рыжая, ты — красный, ребятишки пойдут — вовсе опалёныши будут.
Когда ещё примется Пантелея хвалить. Знала как-то его. На Крылатовском будто встретила.
— Ежели бы вот Пантелей присватался, без слова бы пошла. На примете он у меня остался. Любой парень. Хоть один глазок, да хорошо глядит.
Это она нарочно — Костьку поддразнить, — а он верит. Зубом скрипит на Пантелея-то, так бы и разорвал его, а она ещё спрашивает:
— Ты что же брата не выкупишь? Вместе, поди, наживали, а теперь сам на воле, а его забил в самое худое место.
— Нету, — говорит, — у меня денег для него. Пусть сам зарабатывает!
— Эх, ты, — говорит, — шалыган бесстыжий! Меньше тебя, что ли, Пантелей работал? Глаз-то он потерял в забое, поди?
Доведёт так-то Костьку до того, что закричит он:
— Убью стерву!
Она хоть бы што.
— Не знаю, — говорит, — как тогда будет, только живая за рыжего не пойду. Рыжий да шатоватый — нет того хуже!
Отшибёт так Костьку, а он того больше льнёт. Всё бы ей отдал, лишь бы рыжим не звала да поласковенько поглядела. Ну, подарков она не брала… Даже самой малости. Кольнёт ещё, ровно иголкой ткнёт:
— Ты бы это Пантелею на выкуп поберёг.
Костька тогда и придумал на прииске гулянку наладить. Сам смекает:
«Как все-то перепьются, разбирайся тогда, кто что наработал. Заманю её куда, поглядим, что на другой день запоёт…»
Люди, конечно, примечают:
— Что-то наш Рыжий распыхался. Видно, хорошо попадать стало. Надо в его сторону удариться.
Думают так-то, а испировать на даровщинку кто отопрётся? Она — эта девчонка— тоже ничего. Плясать против Костьки вышла. На пляску, сказывают, шибко ловкая была. Костьку тут и вовсе за нутро взяло.
Думки своей всё-таки Костька не оставил. Как понапились все, он и ухватил эту девчонку, а она уставилась глазами-то, у Костьки и руки опустились, ноги задрожали, страшно ему чего-то стало. Тогда она и говорит:
— Ты, рыжий-бесстыжий, будешь Пантелея выкупать?
Костьку как обварило этими словами. Разозлился он.
— И не подумаю, — кричит. — Лучше всё до копейки пропью.
— Ну, — говорит, — твоё дело. Было бы сказано. Пропивать пособим.
И пошла от него плясом. Чисто змея извивается, а глазами упёрлась — не смигнёт.
С той поры и стал Костька такие гулянки чуть не каждую неделю заводить. А оно ведь не шибко доходно — полсотни человек допьяна поить. Приисковый народ на это жоркий. Пустяком не отойдёшь, а то ещё на смех поднимут:
— Хлебнул-де из пустой посудины на Костькиной гулянке — неделю голова болела. Другой раз позовёт, две бутылки с собой возьму. Не легче ли будет?
Костька, значит, и старался, чтоб вино и там протча в достатке было. Деньжонки, какие на руках были, скорёхонько умыл, а выработка вовсе пустяк. Опять отощал песок, хоть бросай. Недоумок, с которым работал, и тот говорит:
— Что-то, хозяин, ровно вовсе не блестит на смывке-то.
Ну, а та девчонка, знай, подзуживает:
— Что, Рыжий, приуныл? Каблуки стоптал, на починку не хватает?
Костька давно видит, — неладно у него выходит, а совладать с собой не может. «Погоди, — думает, — я тебе покажу, как у меня на починку не хватает».
Золотишка-то у них с Пантелеем порядком было. В земле, известно, хранили. В своём же огороде, во втором слою. Сковырнут лопатки две сверху, а там песок с глиной… Тут и бросали. Ну, место хорошо запримечено было, до вершков все вымерено. В случае, и горной страже прискаться нельзя. Ответ тут бывалый: «Самородное, дескать. Не знали, что эдак близко. Вон какую даль отшагивали, а оно вон где — в огороде!».
Кладовуха эта земляная, что говорить, самая верная, только вот брать-то из неё хлопотно, да и оглядываться приходится. Это у них тоже хорошо подогнано было. Кустики за банёшкой посажены были, камни кучкой подобраны. Одним словом, загорожено.
Вот Костька выбрал ночку потемнее и пошёл в свою кладовуху. Снял, где надо, верхний слой, нагрёб бадью песку и в баню. Там у него вода заготовлена. Закрыл окошко, зажёг фонарь, стал смывать, и ничем-ничего — ни единой крупинки. Что, думает, такое? Неуж ошибся? Пошёл опять. Всё перемерял. Нагрёб другую бадью, — даже виду не показало. Тут Костька и остерегаться забыл, — с фонарём выскочил. Оглядел ещё раз согнём. Всё правильно. В самом том месте верхушка снята. Давай ещё нагребать. Может, думает, высоко взял. Маленько показалось, только самый пустяк. Костька ещё глубже взял — та же штука: чуть блестит. Костька тут вовсе себя потерял. Давай дудку, как на прииске, бить. Только недолго ему вглубь-то податься пришлось: камень-сплошняк оказался. Обрадовался Костька, через камень, небось, иПолозу золото не увести. Тут оно где-нибудь, близко. Потом вдруг хватился: «Ведь это Пантюшка украл!»
Только подумал, а девчонка та, приисковая-то, и появилась. Потёмки ещё, а её всю до капельки видно. Высоконькая да пряменькая стоит у самого крайчика и на Костьку глазами уставилась:
— Что, Рыжий, потерял, видно? На брата приходишь? Он и возьмёт, а тебе поглядеть осталось.
— Тебя кто звал, стерва пучешарая?
Схватил ту девчонку за ноги да что есть силы и дёрнул на себя, в яму. Девчонка от земли отстала, а всё пряменько стоит. Потом ещё вытянулась, потончала, медяницей стала, перегнулась Костьке через плечо да поползла по спине. Костька испугался, змеиный хвост из рук выпустил. Упёрлась змея головой в камень, так искры и посыпались, светло стало, глаза слепит.
Прошла змея через камень, и по всему её следу золото горит, где каплями, где целыми кусками. Много его. Как увидел Костька, так и брякнулся головой о камень.
На другой день мать его в дудке нашла. Лоб ровно и не сильно разбил, а умер от чего-то Костька.
На похороны с Крылатовского Пантелей пришёл. Отпустили его. Увидел в огороде дудку, сразу смекнул, — с золотом что-то случилось. Беспокойно Пантелею стало. Надеялся, вишь, он через то золото на волю выйти. Хоть слышал про Костьку нехорошо, а всё верил — выкупит брат. Пошёл поглядеть. Нагнулся над дудкой, а снизу ему ровно посветил кто. Видит, — на дне-то, как окно круглое из толстого-претолстого стекла и в этом стекле золотая дорожка вьётся. Снизу на Пантелея какая-то девчонка смотрит. Сама рыженькая, на глаза чернёхоньки, да такие, слышь-ко, что и глядеть в них страшно. Только девчонка та ухмыляется, пальцем в золоту дорожку тычет: «Дескать, вот твоё золото, возьми себе. Не бойся!» Ласково вроде говорит, а слов не слышно. Тут и свет потух.
Пантелей испугался сперва: наваждение, думает. Потом насмелился, спустился в яму. Стекла там никакого не оказалось, а белый камень — скварец. На казённом прииске Пантелею приходилось с камнем-то этим биться. Попривык к нему. Знал, как его берут. Вот и думает:
«Дай-ко попытаю. Может, и всамделе золото тут».
Притащил, что подходящее, и давай камень дробить в том самом месте, где золотую дорожку видел. И верно — в камне золото, и не то что искорками, а большими каплями да гнёздами сидит. Богатимая жилка оказалась. До вечера-то Пантелей чистым золотом фунтов пять либо шесть набил. Сходил потихоньку к Пименову, а потом и приказчику объявился.
— Так и так, желаю на волю откупиться.
Приказчик отвечает:
— Хорошее дело, только мне теперь недосуг. Приходи утречком. На прохладе об этом поговорим.
Приказчик по костькиному-то житью, понятно, догадался, что деньги у него были немалые. Вот и придумывал, как бы Пантелея покрепче давнуть, чтоб побольше выжать. Только тут, на Пантелеево счастье, рассылка из конторы прибежал и сказывает:
— Нарочный приехал. Завтра барин из Сысерти будет. Велел все мостки на Полдневную хорошенько уладить.
Приказчик, видно, испугался, как бы все у него из рук не уплыло, и говорит Пантелею.
— Давай пять сотенных, а по бумаге четыре запишу.
Сорвал-таки сотнягу. Ну, Пантелей рядиться не стал.
«Рви, — думает, — собака, когда-нибудь подавишься».
Вышел Пантелей на волю. Поковырялся ещё сколько-то в ямке на огороде. После и вовсе золотишком заниматься перестал.
«Без него, — думает, — спокойнее проживу».
Так и вышло. Хозяйство себе завёл, не сильно большое, а биться можно. Раз только с ним случай вышел. Это ещё когда он женился.
Ну, он кривенькой был. Невесту без затей выбрал, смирёную девушку из бедного житья. Свадьбу попросту справили.
На другой день после венца-то молодая поглядела на своё обручальное кольцо и думает:
— Как его носить-то. Вон оно какое толстое да красивое. Дорогое, поди. Ещё потеряешь.
Потом и говорит мужу:
— Ты что же, Пантюша, зря тратишься? Сколько кольцо стоит?
Пантелей и отвечает:
— Какая трата, коли обряд того требует. Полтора рубля за колечко платил.
— Ни в жизнь, — говорит жена, — этому не поверю.
Пантелей поглядел и видит — не то ведь кольцо-то. Поглядел на свою руку — и там вовсе другое кольцо да еще в серединке-то два чёрных камешка, как глаза горят.
Пантелей, конечно, по этим камешкам сразу припомнил девчонку, которая ему золотую дорожку в камне показывала, только жене об этом не сказал.
«Зачем, дескать, ее зря тревожить».
Молодая всё-таки не стала то кольцо носить, купила себе простенькое. А мужику куда с кольцом? Только и поносил Пантелей, пока свадебные дни не прошли.
После Костькиной смерти на прииске хватились:
— Где у нас плясунья-то?
А её и нет. Спрашивать один другого стали — откуда хоть она? Кто говорил — с Кунгурки пристала, кто — с Мраморских разрезов пришла. Ну, разное… Известно, приисковый народ, набеглый… Досуг ему разбирать, кто ты да каких родов. Так и бросили об этом разговор.
А золотишко ещё долго на Рябиновке держалось.
1938 г.
Горный мастер
атя, — Данилова-то невеста, — незамужницей осталась. Года два либо три прошло, как Данило потерялся, — она и вовсе из невестинской поры вышла. За двадцать-то годов, по-нашему по-заводскому, перестарок считается. Парни таких редко сватают, вдовцы больше. Ну, а эта Катя, видно, пригожая была, к ней всё женихи лезут, а у ней только и слов:
— Данилу обещалась.
Её уговаривают:
— Что поделаешь! Обещалась, да не вышла. Теперь об этом и поминать не к чему. Давно человек изгиб.
Катя на своём стоит:
— Данилу обещалась. Может, и придёт ещё он.
Ей толкуют:
— Нет его в живых. Верное дело.
А она упёрлась на своём:
— Никто его мёртвым не видал, а для меня он и подавно живой.
Видят — не в себе девка, — отстали. Иные на смех ещё подымать стали: прозвали её мертвяковой невестой. Ей это прильнуло. Катя Мертвякова да Катя Мертвякова, ровно другого прозвания не было.
Тут какой-то мор на людей случился, и у Кати старики-то оба умерли. Родство у неё большое. Три брата женатых да сестёр замужних сколько-то. Рассорка промеж ними и вышла — кому на отцовском месте оставаться. Катя видит, — бестолковщина пошла, и говорит:
— Пойду-ко я в Данилушкову избу жить. Вовсе Прокопьич старый стал. Хоть за ним похожу.
Братья-сёстры уговаривать, конечно:
— Не подходит это, сестра. Прокопьич хоть старый человек, а мало ли что про тебя сказать могут.
— Мне-то, — отвечает, — что? Не я сплетницей стану. Прокопьич, поди-ко, мне не чужой. Приёмный отец моему Данилу. Тятенькой его звать буду.
Так и ушла. Оно и то сказать: семейные не крепко вязались. Про себя думали: лишний из семьи — шуму меньше. А Прокопьич что? Ему это по душе пришлось.
— Спасибо, — говорит, — Катенька, что про меня вспомнила.
Вот и стали они поживать. Прокопьич за станком сидит, а Катя по хозяйству бегает — в огороде там, сварить-постряпать и протча. Хозяйство невелико, конечно, на двоих-то… Катя — девушка проворная, долго ли ей!.. Управится и садится за какое рукоделье: сшить-связать, мало ли. Сперва у них гладенько катилось, только Прокопьичу всё хуже да хуже. День сидит, два лежит. Изробился, старый стал. Катя и заподумывала, как они дальше-то жить станут.
«Рукодельем женским не прокормишься, а другого ремесла не знаю». Вот и говорит Прокопьичу:
— Тятенька! Ты бы хоть научил меня чему попроще.
Прокопьичу даже смешно стало.
— Что ты это! Девичье ли дело за малахитом сидеть! Отродясь такого не слыхал.
Ну, она всё-таки присматриваться к Прокопьичеву ремеслу стала. Помогала ему, где можно. Распилить там, пошлифовать. Прокопьич и стал ей то-другое показывать. Не то, чтобы настояще. Бляшку обточить, ручки к вилкам-ножам сделать и протча, что в ходу было. Пустяшно, конечно, дело, копеечно, а всё разоставок при случае.
Прокопьич недолго зажился. Тут братья-сёстры уж понуждать Катю стали:
— Теперь тебе заневолю надо замуж выходить. Как ты одна жить будешь?
Катя их обрезала:
— Не ваша печаль. Никакого мне вашего жениха не надо. Придёт Данилушко. Выучится в горе и придёт.
Братья-сёстры руками на неё машут:
— В уме ли ты, Катерина? Эдакое и говорить грех! Давно умер человек, а она его ждёт! Гляди, ещё блазнить станет.
— Не боюсь, — отвечает, — этого.
Тогда родные спрашивают:
— Чем ты хоть жить-то станешь?
— Об этом, — отвечает, — тоже не заботьтесь. Продержусь одна.
Братья-сёстры так поняли, что от Прокопьича деньжонки остались, и опять за своё.
— Вот и вышла дура! Коли деньги есть, мужика, беспременно, в доме надо. Неровен час, — поохотится кто за деньгами. Свернут тебе башку, как курёнку. Только и свету видела.
— Сколько, — отвечает, — на мою долю положено, столько и увижу.
Братья-сёстры долго ещё шумели. Кто кричит, кто уговаривает, кто плачет, а Катя заколодила своё:
— Продержусь одна. Никакого вашего жениха не надо. Давно у меня есть.
Осердились, конечно, родные:
— В случае, к нам и глаз не показывай!
— Спасибо, — отвечает, — братцы милые, сестрицы любезные! Помнить буду. Сами-то не забудьте — мимо похаживайте!
Смеётся, значит. Ну, родня и дверями хлоп.
Осталась Катя одна-одинёшенька. Поплакала, конечно, сперва, потом и говорит:
— Врёшь! Не поддамся!
Вытерла слёзы и по хозяйству занялась. Мыть да скоблить — чистоту наводить. Управилась — и сразу к станку села. Тут тоже свой порядок наводить стала. Что ей не нужно, то подальше, а что постоянно требуется, то под руку. Навела так-то порядок и хотела за работу садиться:
«Попробую сама хоть одну бляшку обточить».
Хватилась, а камня подходящего нет. Обломки Данилушковой дурман-чашки остались, да Катя берегла их. В особом узле они были завязаны. У Прокопьича камня, конечно, много было. Только Прокопьич до смерти на больших работах сидел. Ну, и камень всё крупный. Обломышки да кусочки всё подобрались — порасходовались на мелкую поделку. Вот Катя и думает:
«Надо, видно, сходить, на руднишных отвалах поискать. Не попадёт ли подходящий камешок».
От Данилы да и от Прокопьича она слыхала, что они у Змеиной горки брали. Вот туда и пошла.
На Гумёшках, конечно, всегда народ: кто руду разбирает, кто возит. Глядят на Катю-то, — куда она с корзиной пошла. Кате это нелюбо, что на неё зря глаза пялят. Она и не стала на отвалах с этой стороны искать, обошла горку-то. А там ещё лес рос. Вот Катя по этому лесу и забралась на самую Змеиную горку да тут и села. Горько ей стало — Данилушку вспомнила. Сидит на камне, а слёзы так и бегут. Людей нет, лес кругом, — она и не сторожится. Так слёзы на землю и каплют. Поплакала, глядит— у самой ноги малахит-камень обозначился, только весь в земле сидит. Чем его возьмёшь, коли ни кайлы, ни лома? Катя всё-таки пошевелила его рукой. Показалось, что камень не крепко сидит. Вот она и давай прутиком каким-то землю отгребать от камня. Отгребла, сколько можно, стала вышатывать. Камень и подался. Как хрупнуло снизу, — ровно сучок обломился. Камешок небольшой, вроде плитки. Толщиной пальца в три, шириной в ладонь, а длиной не больше двух четвертей.
Катя даже подивилась:
— Как раз по моим мыслям. Распилю его, так сколько бляшек выйдет. И потери самый пустяк.
Принесла камень домой и сразу занялась распиливать. Работа не быстрая, а Кате ещё надо по домашности управляться. Глядишь, весь день в работе и скучать некогда. Только как за ставок садиться, всё про Данилушку вспомнит:
— Поглядел бы он, какой тут новый мастер объявился. На его-то да Прокопьичевом месте сидит!
Нашлись, конечно, охальники. Как без этого… Ночью под какой-то праздник засиделась Катя за работой, а трое парней и перелезли к ней в ограду. Попугать хотели али еще что — их дело, только все выпивши. Катя ширкает пилой-то и не слышит, что у ней в сенках люди. Услышала, когда уже в избу ломиться стали:
— Отворяй, мертвякова невеста! Принимай живых гостей!
Катя сперва уговаривала их:
— Уходите, ребята!
Ну, им это ничего! Ломятся в дверь, того и гляди — сорвут. Тут Катя скинула крючок, расхлобыснула двери и кричит:
— Заходи, не то. Кого первого лобанить?
Парни глядят, а она с топором.
— Ты, — говорят, — без шуток!
— Какие, — отвечает, — шутки! Кто за порог, того и по лбу.
Парни, хоть пьяные, а видят — дело не шуточное. Девка возрастная, оплечье крутое, глаз решительный, и топор, видать, в руках бывал. Не посмели ведь войти-то. Пошумели, пошумели, убрались да ещё сами же про это рассказали. Парней и стали дразнить, что они трое от одной девки убежали. Им это не полюбилось, конечно, они и сплели, будто Катя не одна была, а за ней мертвяк стоял.
— Да такой страшный, что заневолю убежишь.
Парням поверили — не поверили, а по народу с той поры пошло:
— Нечисто в этом доме. Недаром она одна-одинёшенька живёт.
До Кати это донеслось, да она печалиться не стала. Ещё подумала: «Пущай плетут. Мне так-то и лучше, если побаиваться станут. Другой раз, глядишь, не полезут».
Соседи и на то дивятся, что Катя за станком сидит. На смех её подняли:
— За мужичье ремесло принялась! Что у неё выйдет!
Это Кате солонее пришлось. Она и сама подумывала: «Выйдет ли у меня у одной-то?» Ну, всё-таки с собой совладала: «Базарский товар! Много ли надо? Лишь бы гладко было… Неуж и того не осилю?»
Распилила Катя камешок. Видит — узор на редкость пришёлся, и как намечено, в котором месте поперёк отпилить. Подивилась Катя, как ловко всё пришлось. Поделила по-готовому, обтачивать стала. Дело не особо хитрое, а без привычки тоже не сделаешь. Помаялась сперва, потом научилась. Хоть куда бляшки вышли, а потери и вовсе нет. Только и в брос, что на сточку пришлось. Наделала Катя бляшек, ещё раз подивилась, какой выходной камешок оказался, и стала смекать, куда сбыть поделку. Прокопьич такую мелочь в город, случалось, возил и там всё в одну лавку сдавал. Катя много раз про эту лавку слыхала. Вот она и придумала сходить в город.
— Спрошу там, будут ли напредки мою поделку принимать.
Затворила избушку и пошла пешочком. В Полевой и не заметили, что она в город убралась. Узнала Катя, где тот хозяин, который у Прокопьича поделку принимал, и заявилась прямо в лавку. Глядит — полно тут всякого камня, а малахитовых бляшек целый шкап за стеклом. Народу в лавке много. Кто покупает, кто поделку сдаёт. Хозяин строгий да важный такой.
Катя сперва и поступить боялась, потом насмелилась и спрашивает:
— Не надо ли малахитовых бляшек?
Хозяин пальцем на шкап указал:
— Не видишь, сколь у меня добра этого?
Мастера, которые работу сдавали, припевают ему:
— Много ноне на эту поделку мастеров развелось. Только камень переводят. Того не понимают, что для бляшки узор хороший требуется.
Один-то мастер из полевских. Он и говорит хозяину потихоньку:
— Недоумок эта девка. Видели её соседи за станком-то. Вот, поди, настряпала.
Хозяин тогда и говорит:
— Ну-ко, покажи, с чем пришла?
Катя и подала ему бляшку. Поглядел хозяин, потом на Катю уставился и говорит:
— У кого украла?
Кате, конечно, это обидно показалось. По-другому она заговорила:
— Какое твоё право, не знаючи человека, эдак про него говорить? Гляди вот, если не слепой! У кого можно столько бляшек на один узор украсть? Ну-ко, скажи! — и высыпала на прилавок всю поделку.
Хозяин и мастера видят— верно, на один узор. И узор редкостный. Будто из середины-то дерево выступает, а на ветке птица сидит и внизу тоже птица. Явственно видно и сделано чисто. Покупатели слышали этот разговор, потянулись тоже поглядеть, только хозяин сразу все бляшки прикрыл. Нашёл заделье.
— Не видно кучей-то. Сейчас я их под стекло разложу. Тогда и выбирайте, что кому любо. — А сам Кате говорит: — Иди вон в ту дверь. Сейчас деньги получишь.
Пошла Катя, и хозяин за ней. Затворил дверку, спрашивает:
— Почём сдаёшь?
Катя слыхала от Прокопьича цены. Так и сказала, а хозяин давай хохотать:
— Что ты! Что ты! Такую-то цену я одному полевскому мастеру Прокопьичу платил да ещё его приёмышу Данилу. Да ведь то мастера были!
— Я, — отвечает, — от них и слыхала. Из той же семьи буду.
— Вот что! — удивился хозяин. — Так это, видно, у тебя Данилова работа осталась?
— Нет, — отвечает, — моя.
— Камень, может, от него остался?
— И камень сама добывала.
Хозяин, видать, не верит, а только рядиться не стал. Рассчитался по-честному да ещё говорит:
— Вперёд случится такое сделать, неси. Безотказно принимать буду и цену положу настоящую.
Ушла Катя, радуется, — сколько денег получила! А хозяин те бляшки под стекло выставил. Покупатели набежали:
— Сколько?
Он, конечно, не ошибся, — в десять раз против купленного назначил да и наговаривает:
— Такого узора ещё не бывало. Полевского мастера Данилы работа. Лучше его не сделать.
Пришла Катя домой, а сама всё дивится:
— Вот штука какая! Лучше всех мои бляшки оказались! Хорош камешок попался. Случай, видно, счастливый подошёл. — Потом и хватилась: — А не Данилушка ли это мне весточку подал?
Подумала так, скрутилась и побежала на Змеиную горку.
А тот малахитчик, который хотел Катю перед городским купцом оконфузить, тоже домой воротился. Завидно ему, что у Кати такой редкостный узор получился. Он и придумал:
— Надо поглядеть, где она камень берёт. Не новое ли какое место ей Прокопьич либо Данило указали?
Увидел, что Катя куда-то побежала, он и пошёл за ней. Видит — Гумёшки она обошла стороной и куда-то за Змеиную горку пошла. Мастер туда же, а сам думает: «Там лес. По лесу-то к самой ямке прокрадусь».
Зашли в лес. Катя вовсе близко и нисколько не сторожится, не оглядывается, не прислушивается. Мастер радуется, что ему так легонько достанется новое место. Вдруг в сторонке что-то зашумело да так, что мастер даже испугался. Остановился. Что такое? Пока он так-то разбирался, Кати и не стало. Бегал он, бегал по лесу. Еле выбрался к Северскому пруду, — версты, поди, за две от Гумёшек.
Катя сном дела не знала, что за ней подглядывают. Забралась на горку, к тому самому месту, где первый камешок брала. Ямка будто побольше стала, а сбоку опять такой же камешек видно. Пошатала его Катя, он и отстал. Опять, как сучок, хрупнул. Взяла Катя камешок и заплакала-запричитала. Ну, как девки-бабы по покойнику ревут, всякие слова собирают:
— На кого ты меня, мил сердечный друг, покинул, — и протча тако…
Наревелась, будто полегче стало, стоит — задумалась в руднишную сторону глядит. Место тут вроде полянки. Кругом лес густой да высокий, а в руднишную сторону помельче. Туда солнышко пришлось. Так и горит это место, и все камешки на нём блестят.
Кате это любопытно показалось. Хотела поближе подойти. Шагнула, а под ногой и схрупало. Отдёрнула она ногу, глядит — земли-то под ногами нет. Стоит она на каком-то высоком дереве, на самой вершине. Со всех сторон такие же вершины подошли. В прогалы меж деревьями внизу видно траву да цветы, и вовсе они на здешние не походят. Другая бы на Катином месте перепугалась, крик-визг подняла, а она вовсе о другом подумала:
«Вот она, гора, раскрылась! Хоть бы на Данилушку взглянуть!»
Только подумала, и видит через прогалы — идёт кто-то внизу, на Данилушку походит и руки вверх тянет, будто сказать что хочет. Катя свету невзвидела, так и кинулась к нему… с дерева-то! Ну, а пала тут же на землю, где стояла. Образумилась да и говорит себе:
— Верно, что блазнить мне стало. Надо поскорее домой итти.
Итти надо, а сама сидит да сидит, всё ждёт, не вскроется ли ещё гора, не покажется ли опять Данилушко. Так до потёмок и просидела. Тогда только и домой пошла, а сама думает: «Повидала всё-таки Данилушку».
Тот мастер, который за Катей подглядывал, домой к этому времени выбежал. Поглядел — избушка у Кати заперта. Он и притаился, — посмотрю, что она притащила. Видит, — идёт Катя, он и встал поперёк дороги:
— Ты куда это ходила?
— На Змеиную, — отвечает.
— Ночью-то? Что там делать?
— Данилу повидать…
Мастер так и шарахнулся, а на другой день по заводу шопотки поползли:
— Вовсе рехнулась мертвякова невеста. По ночам на Змеиную ходит, покойника ждёт. Как бы ещё завод не подожгла, с малого-то ума.
Братья-сёстры прослышали, опять прибежали, давай строжить да уговаривать Катю. Только она и слушать не стала. Показала им деньги и говорит:
— Это думаете, откуда у меня? У хороших мастеров не берут, а мне за перводелку столько отвалили! Почему так?
Братья слышали про её-то удачу и говорят:
— Случай счастливый вышел. О чём тут говорить.
— Таких, — отвечает, — случаев не бывало. Это мне Данило сам такой камень подложил и узор вывел.
Братья смеются, сёстры руками машут:
— И впрямь рехнулась! Надо приказчику сказать. Как бы всамделе завод не подожгла!
Не сказали, конечно. Постыдились сестру-то выдавать. Только вышли да и сговорились:
— Надо за Катериной глядеть. Куда пойдёт — сейчас же за ней бежать.
А Катя проводила родню, двери заперла да принялась новый-то камешок распиливать. Пилит да загадывает:
— Коли такой же издастся, значит, не поблазнило мне, — видала я Данилушку.
Вот она и торопится распилить. Поглядеть-то ей поскорее охота, как по-настоящему узор выйдет. Ночь уж давно, а Катя всё за станком сидит. Одна сестра проснулась в эту пору, увидела огонь в избе, подбежала к окошку, смотрит сквозь щелку в ставне и дивится:
— И сон её не берёт! Наказанье с девкой!
Отпилила Катя досочку, узор и обозначился. Ещё лучше того-то. Птица с дерева книзу полетела, крылья расправила, а снизу навстречу другая летит. Пять раз этот узор на досочке. Из точки в точку намечено, как поперёк распилить. Катя тут и думать не стала. Схватилась да и побежала куда-то. Сестра за ней. Дорогой-то постучалась к братьям — бегите, дескать, скорей! Выбежали братья, ещё народ сбили. А уже светленько стало. Глядят, — Катя мимо Гумёшек бежит. Туда все и кинулись, а она, видно, и не чует, что народ за ней. Пробежала рудник, потише пошла в обход Змеиной горки. Народ тоже призадержался — посмотрим, дескать, что она делать будет.
Катя идёт, как ей привычно, на горку. Взглянула, а лес кругом какой-то небывалый. Пощупала рукой дерево, а оно холодное да гладкое, как камень шлифованный. И трава понизу тоже каменная оказалась, и темно еще тут. Катя и думает:
«Видно, я в гору попала».
Родня да народ той порой переполошились:
— Куда она девалась? Сейчас близко была, а не стало!
Бегают, суетятся. Кто на горку, кто кругом горки. Перекликаются друг с дружкой: — Там не видно?
А Катя ходит в каменном лесу и думает, как ей Данилу найти. Походила-походила да и закричала:
— Данило, отзовись!
По лесу голк пошёл. Сучья запостукивали: — Нет его! Нет его! Нет его! Только Катя не унялась: — Данило, отзовись! По лесу опять: — Нет его! Нет его! Нет его! Катя снова:
— Данило, отзовись!
Тут Хозяйка горы перед Катей и показалась.
— Ты зачем, — спрашивает, — в мой лес забралась? Чего тебе? Камень, что-ли, хороший ищешь? Любой бери да уходи поскорее!
Катя тут и говорит:
— Не надо мне твоего мёртвого камня! Подавай мне живого Данилушку. Где он у тебя запрятан? Какое твоё право чужих женихов сманивать?
Ну, смелая девка. Прямо на горло наступать стала. Это Хозяйке-то! А та ничего, стоит спокойненько:
— Ещё что скажешь?
— А то и скажу — подавай Данилу! У тебя он…
Хозяйка расхохоталась, да и говорит:
— Ты, дура-девка, знаешь ли, с кем говоришь?
— Не слепая, — кричит, — вижу. Только не боюсь тебя, разлучница! Нисколечко не боюсь! Сколь ни хитро у тебя, а ко мне Данило тянется. Сама видала. Что, взяла?
Хозяйка тогда и говорит:
— А вот послушаем, что он сам скажет.
До того в лесу темненько было, а тут сразу ровно он ожил. Светло стало. Трава снизу разными огнями загорелась, деревья одно другого краше. В прогалы полянку видно, а на ней цветы каменные, и пчёлки золотые, как искорки, над теми цветами. Ну, такая, слышь-ко, красота, что век бы не нагляделся. И видит Катя, — бежит по этому лесу Данило. Прямо к ней. Катя навстречу кинулась: — Данилушко!
— Подожди, — говорит Хозяйка, — и спрашивает — Ну, Данило-мастер, выбирай, — как быть? С ней пойдёшь — всё моё забудешь, здесь останешься — её и людей забыть надо.
— Не могу, — отвечает, — людей забыть, а её каждую минуту помню.
Тут Хозяйка улыбнулась светленько и говорит:
— Твоя взяла, Катерина! Бери своего мастера. За удалость да твёрдость твою вот тебе подарок: пусть у Данилы всё моё в памяти останется. Только вот это пусть накрепко забудет! — И полянка с диковинными цветами сразу потухла. — Теперь ступайте в ту сторону, — указала Хозяйка да ещё упредила: — Ты, Данило, про гору людям не сказывай. Говори, что на выучку к дальнему мастеру ходил. А ты, Катерина, и думать забудь, что я у тебя жениха сманивала. Сам он пришёл за тем, что теперь забыл.
Поклонилась тут Катя: — Прости на худом слове!
— Ладно, — отвечает, — что каменной сделается! Для тебя говорю, чтоб остуды у вас не было.
Пошла Катя с Данилой по лесу, а он всё темней да темней и под ногами неровно — бугры да ямки. Огляделись, а они на руднике — на Гумёшках. Время ещё раннее, и людей на руднике нет. Они потихоньку и пробрались домой. А те, что за Катей побежали, всё ещё по лесу бродят да перекликаются: — Там не видно?
Искали-искали, не нашли. Прибежали домой, а Данило у окошка сидит.
Испугались, конечно. Чураются, заклятья разные говорят. Потом видят, — трубку Данило набивать стал. Ну, и отошли.
«Не станет же, — думают, — мертвяк трубку курить».
Подходить стали один по одному. Глядят, — и Катя в избе. У печки толкошится, а сама веселёхонька. Давно её такой не видали. Тут и вовсе осмелели, в избу вошли, спрашивать стали: — Где это тебя, Данило, давно не видно?
— В Колывань, — отвечает, — ходил. Прослышал про тамошнего мастера по каменному делу, будто лучше его нет по работе. Вот и заохотило поучиться маленько. Тятенька покойный отговаривал. Ну, а я посамовольничал — тайком ушёл, Кате вон только сказался.
— Пошто, — спрашивают, — чашу свою разбил?
— Ну, мало ли… С вечорки пришёл… Может, выпил лишка… Не по мыслям пришлась, вот и ахнул. У всякого мастера такое, поди, случалось. О чём говорить.
Тут братья-сёстры к Кате приступать стали, почему не сказала про Колывань-то. Только от Кати тоже немного добились. Сразу отрезала:
— Чья бы корова мычала, моя бы молчала. Мало я вам сказывала, что Данило живой. А вы что? Женихов мне подсовывали да с пути сбивали! Садитесь-ко лучше за стол. Испеклась у меня чирла-то.
На том дело и кончилось. Посидела родня, поговорила о том-другом, разошлась. Вечером пошёл Данило к приказчику объявиться. Тот пошумел, конечно. Ну, всё-таки уладили дело.
Вот и стали Данило с Катей в своей избушке жить. Хорошо, сказывают, жили, согласно. По работе-то Данилу все горным мастером звали. Против него никто не мог сделать. И достаток у них появился. Только нет-нет и задумается Данило. Катя понимала, конечно, — о чём, да помалкивала.
1938 г.
Золотой волос
ыло это в давних годах. Наших русских в здешних местах тогда и в помине не было. Башкиры тоже не близко жили. Им, видишь, для скота приволье требуется, где еланки да степочки. На Нязях там, по Ураиму, а тут где же? Теперь лес — в небо дыра, а в ту пору и вовсе ни пройти — ни проехать. В лес только те и ходили, кто зверя промышлял.
И был, сказывают, в башкирах охотник один, Айлыпом прозывался. Удалее его не было. Медведя с одной стрелы бил, сохатого за рога схватит да через себя бросит — тут зверю и конец. Про волков и протча говорить не осталось. Ни один не уйдёт, лишь бы Айлып его увидел.
Вот раз едет этот Айлып на своём коне по открытому месту и видит — лисичка бежит.
Для такого охотника лиса — добыча малая. Ну, всё-таки думает: «Дай позабавлюсь, плёткой пришибу». Пустил Айлып коня, а лисичку догнать не может. Приловчился стрелу пустить, а лисички быть-бывало.
Ну что? Ушла, так ушла, — её счастье. Только подумал, а лисичка, вон она за пенёчком сидит да ещё потявкивает, будто смеётся: «Где тебе!»
Приловчился Айлып стрелу пустить, — опять не стало лисички. Опустил стрелу — лисичка на глазах да потявкивает: «Где тебе»!
Вошёл в задор Айлып: «Погоди, рыжая!»
Еланки кончились, пошёл густой-прегустой лес, только это Айлыпа не остановило. Слез он с коня да за лисичкой пешком, а удачи всё нет. Тут она, близко, а стрелу пустить не может. Отступиться тоже неохота. Ну, как — этакий охотник, а лису забить не смел! Так-то и зашёл Айлып вовсе в неведомое место. И лисички не стало. Искал, искал — нет.
«Дай, — думает, — огляжусь, где хоть я».
Выбрал листвянку повыше да и залез на самый шатёр. Глядит — недалечко от той листвянки речка с горы бежит. Небольшая речка, весёлая, с камешками разговаривает и в одном месте так блестит, что глаза не терпят. «Что, — думает, — такое?» Глядит, а за кустиком, на белом камешке девица сидит красоты невиданной, неслыханной, косу через плечо перекинула и по воде конец пустила. А коса-то у ней золотая и длиной десять сажен. Речка от той косы так горит, что глаза не терпят.
Загляделся Айлып на девицу, а она подняла голову, да и говорит:
— Здравствуй, Айлып! Давно я от своей нянюшки-лисички про тебя наслышала. Будто ты всех больше да краше, всех сильнее да удачливее. Не возьмёшь ли меня замуж.
— А какой, — спрашивает, — за тебя калым платить?
— Какой, — отвечает, — калым, коли мой тятенька всему золоту хозяин. Да и не отдаст он меня добром. Убегом надо, коли смелости да ума хватит.
Айлып рад-радёхонек. Соскочил с листвянки, подбежал к тому месту, где девица сидела, да и говорит:
— Коли твоё желанье такое, так про меня и слов нет. На руках унесу, никому отбить не дам.
В это время лисичка у самого камня тявкнула, ткнулась носом в землю, поднялась старушонкой сухонькой да и говорит:
— Эх, Айлып, Айлып, пустые слова говоришь! Силой да удачей похваляешься. А не мог вот в меня стрелу пустить.
— Правда твоя, — отвечает. — В первый раз со мной такая оплошка случилась.
— То-то и есть! А тут дело похитрее будет. Эта девица — Полозова дочь, прозывается Золотой Волос. Волосы у неё из чистого золота. Ими она к месту и прикована. Сидит да косу полощет, а весу не убывает. Попытай вот, подыми её косыньку, — узнаешь, впору ли тебе её снести.
Айлып, — ну, он из людей на отличку, — вытащил косу и давай её на себя наматывать. Намотал сколько-то рядов да и говорит той девице:
— Теперь, милая моя невестушка Золотой Волос, мы накрепко твоей косой связаны. Никому нас не разлучить!
С этими словами подхватил девицу на руки да и пошёл. Старушонка ему ножницы в руку суёт.
— Возьми-ко ты, скороумный, хоть это.
— На что мне? Разве у меня ножа нет?
Так бы и не взял Айлып, да невеста его Золотой Волос говорит:
— Возьми — пригодятся, не тебе, так мне.
Вот пошёл Айлып лесом. С листвянки-то он понял маленько, куда правиться. Сперва бойко шёл, только и ему тяжело, даром что сила была — с людьми не сравнишь. Невеста видит, — Айлып притомился, — и говорит:
— Давай, я сама пойду, а ты косу понесёшь. Легче всё-таки будет. Дальше уйдём, а то хватится меня тятенька, живо притянет.
— Как, — спрашивает, — притянет?
— Сила, — отвечает, — ему такая дана: золото, какое он пожелает, к себе в землю притягивать. Пожелает вот взять мои волосы, и уж тут никому против не устоять.
— Это ещё поглядим! — отвечает Айлып, а невеста его Золотой Волос только усмехнулась.
Разговаривают так-то, а сами идут да идут. Золотой Волос ещё и поторапливает:
— Подальше бы нам выбраться. Может, тогда тятенькиной силы нехватит.
Шли-шли, невмоготу стало.
— Отдохнём маленько, — говорит Айлып. И только они сели на траву, так их в землю и потянуло. Золотой Волос успела-таки, ухватила ножницы да и перестригла волосы, какие Айлып на себя намотал. Тем только он и ухранился. Волосы в землю ушли, а он поверх остался. Вдавило всё-таки его, а невесты не стало. Не стало и не стало, будто вовсе не было. Выбился Айлып из ямины и думает: «Это что же? Невесту из рук отняли и неведомо кто! Ведь это стыд моей голове. Никогда тому не бывать! Живой не буду, а найду её».
И давай он в том месте, где девица та сидела, землю копать. День копает, два копает, а толку мало. Силы, вишь, у Айлыпа много, а струменту — нож да шапка. Много ли ими сделаешь. «Надо, — думает, — заметку положить да домой сходить, лопату и протча притащить».
Только подумал, а лисичка, которая его в те места завела, тут как тут. Сунулась носом в землю, старушонкой сухонькой поднялась да и говорит:
— Эх ты, скороум, скороум! Ты золото добывать собрался али что?
— Нет, — отвечает, — невесту свою отыскать хочу.
— Невеста твоя, — говорит, — давным-давно на старом месте сидит, слёзы точит да косу в речке мочит. А коса у ней стала двадцать сажен. Теперь тебе не в силу будет ту косу поднять.
— Как же быть, тётушка? — спросил Айлып.
— Давно бы, — говорит, — так. Сперва спроси да узнай, потом за дело берись. А дело твоё будет такое. Ступай ты домой да и живи так, как до этого жил. Если в три года невесту свою Золотой Волос не забудешь, опять за тобой приду. Один побежишь искать, тогда вовсе её больше не увидишь.
Не привык Айлып так-то ждать, ему бы схвату да сразу, а ничего не поделаешь— надо. Пригорюнился и пошёл домой.
Ох, только и потянулись эти три годочка! Весна придёт и той не рад, — скорее бы она проходила. Люди примечать стали — что-то подеялось с нашим Айлыпом. На себя не походит. Родня, та прямо приступает:
— Ты здоров ли?
Айлып ухватит человек пять подюжее на одну руку, поднимет кверху, покрутит да и скажет:
— Ещё про здоровье спроси — вон за ту горку всех побросаю.
Свою невесту Золотой Волос из головы не выпускает. Так и сидит она у него перед глазами. Охота хоть сдалека поглядеть на неё, да наказ той старушонки помнит, не смеет.
Только вот когда третий год пошёл, увидал Айлып девчонку одну. Молоденькая девчонка, из себя чернявенькая и весёлая, вот как птичка-синичка. Всё бы ей подскакивать да хвостиком помахивать. Эта девчонка мысли у Айлыпа и перешибла. Заподумывал он:
«Все, дескать, люди в моих-то годах давным-давно семьями обзавелись, а я нашёл невесту да и ту из рук упустил. Хорошо, что никто об этом не знает. Засмеяли бы! Не жениться ли мне на этой чернявенькой? Там-то ещё выйдет либо нет, а тут калым заплатил и бери жену. Отец с матерью рады будут её отдать, да и она, по всему видать, плакать не станет».
Подумает так, потом опять свою невесту Золотой Волос вспомнит, только уж не по-старому. Не столько её жалко, сколь обидно — из рук вырвали. Нельзя тому попускаться!
Как кончился третий год, увидел Айлып ту лисичку. Стрелу про неё не готовил, а пошёл, куда та лисичка повела, только дорогу примечать стал: где лесину затешет, где на камне свою тамгу выбьет, где ещё какой знак поставит. Пришли к той же речке. Сидит тут девица, а коса у неё вдвое дольше стала. Подошёл Айлып, поклонился:
— Здравствуй, невеста моя любезная, Золотой Волос!
— Здравствуй, — отвечает, — Айлып! Не кручинься, что коса у меня больше стала. Она много полегчала. Видно, крепко обо мне помнил. Каждый день чуяла — легче да легче стаёт. Напоследок только заминка вышла. Не забывать ли стал? А то, может, кто другой помешал?
Спрашивает, а сама усмехается, вроде как знает. Айлыпу стыдно сперва сказать-то было, потом решился, начистоту всё выложил — на девчонку-де чернявенькую заглядываться стал, жениться подумывал.
Золотой Волос на это и говорит:
— Это хорошо, что ты по совести всё сказал. Верю тебе. Пойдём поскорее. Может, удастся нам на этот раз убежать, где тятенькина сила не возьмёт.
Вытащил Айлып косу из речки, намотал о себя, взял у няни-лисички ножницы, и пошли они лесом домой. Дорожка-то у Айлыпа меченая. Ходко идут. До ночи шли. Как вовсе темно стало, Айлып и говорит:
— Давай полезем на дерево. Может, сила твоего отца не достанет нас с дерева-то.
— И то правда, — отвечает Золотой Волос.
Ну, а как двоим на дерево залезать, коли они косой-то как верёвкой связаны. Золотой Волос и говорит:
— Отстригнуть надо. Зря эку тягость на себе таскаем. Хватит если до пят хоть оставить.
Ну, Айлыпу жалко.
— Нет — говорит, — лучше так сохранить. Волосы-то, вишь, какие мягкие да тонкие! Рукой погладить любо.
Вот размотал с себя Айлып косу. Полезла сперва на дерево Золотой Волос. Ну, женщина — непривычно дело — не может. Айлып ей так-сяк подсобляет — взлепилась-таки до сучков. Айлып за ней живёхонько и косу её всю с земли поднял. По сучкам ещё взмостились сколько да в самом том месте, где вовсе густой плетень, останов и сделали.
— Тут и переждём до свету, — говорит Айлып, а сам давай свою невесту косой-то к сучкам припутывать — не свалилась бы, коли задремать случится. Привязал хорошо да ещё похвалился: — Ай-яй крепко! Теперь сосни маленько, а я покараулю. Как свет, так и разбужу.
Золотой Волос, и верно, скорёхонько уснула, да и сам Айлып заподремывал. Такой, слышь-ко, сон навалился, никак отогнать не может. Глаза протрёт, головой повертит, так-сяк поворочается — нет, не может тот сон одолеть. Так вот голову-то и клонит. Птица-филин у самого дерева вьётся, беспокойно кричит — фубу! фубу! — ровно упреждает: берегись, дескать. Только Айлыпу хоть бы что — спит себе, похрапывает и сон видит, будто подъезжает он к своему кошу, а из коша его жена Золотой Волос навстречу выходит. И всех-то она краше да милее, а коса у ней так золотой змеёй и бежит, будто живая.
В самую полночь вдруг сучья затрещали — загорели. Айлыпа обожгло и на землю сбросило. Видел только, что из земли большое огненное кольцо засверкало и невеста его Золотой Волос стала как облачко из мелких-мелких золотых искорок. Подлетели искорки к тому кольцу и потухли. Подбежал Айлып — ничем-ничего, и потёмки опять, хоть глаз выколи. Шарит руками по земле… Ну, трава да камешки, да сор лесной, в одном месте нашарил-таки конец косы. Сажени две, а то и больше. Повеселел маленько Айлып:
«Памятку оставила и знак подала. Можно, видно, добиться, что не возьмёт отцова сила её косу».
Подумал так, а лисичка уж под ногами потявкивает. Сунулась носом в землю, поднялась старушонкой сухонькой да и говорит:
— Эх ты, Айлып скороумный! Тебе что надо: косу али невесту?
— Мне, — отвечает, — невесту мою надо с золотой косой на двадцать сажен.
— Опоздал, — говорит, — коса-то теперь стала тридцать сажен.
— Это, — отвечает Айлып, — дело второе. Мне бы невесту мою любезную достать.
— Так бы и говорил. Вот тебе мой последний сказ. Ступай домой и жди три года. За тобой больше не приду, сам дорогу ищи. Приходи, смотри, час в час, не раньше и не позже. Покланяйся ещё дедку Филину, не прибавит ли тебе ума.
Сказала — и нет её. Как светло стало, пошёл Айлып домой, а сам думает:
«Про какого это она филина сказывала? Мало ли их в лесу. Которому кланяться?»
Думал-думал, да и вспомнил, — как на дереве сидел, так вился один у самого носу и всё ещё кричал — фубу! фубу! — будто упреждал: берегись, дескать.
«Беспременно про этого говорила», — решил Айлып и воротился к тому месту. Просидел до вечера и давай кричать:
— Дедко Филин! Научи уму-разуму! Укажи дорогу.
Кричал-кричал — никто не отозвался. Только Айлып терпеливый стал. Ещё день переждал и опять кричит. И на этот раз никто не отозвался. Айлып третий день переждал.
Вечером только крикнул:
— Дедко Филин! — а с дерева-то сейчас:
— Фубу! Тут я. Кому надо?
Рассказал Айлып про свою незадачу, просит пособить, коли можно, а Филин и говорит:
— Фубу! Трудно, сынок, трудно!
— Это, — отвечает Айлып, — не горе, что трудно. Сколь силы да терпенья хватит, всё положу, только бы мне невесту мою добыть.
— Фубу! Дорогу скажу! Слушай!
И тут Филин рассказал по порядку:
— Полозу в здешних местах большая сила дана. Он тут всему золоту полный хозяин: у кого хочешь отберёт. И может, Полоз всё место, где золото родится, в своё кольцо взять. Три дня на коне скачи, и то из этого кольца не уйдёшь. Только есть всё-таки в наших краях одно место, где Полозова сила не берёт. Ежели со сноровкой, так можно и с золотом от Полоза уйти. Ну, недёшево это стоит, — обратного ходу не будет.
Айлып и давай просить:
— Сделай милость, покажи это место.
— Показать-то, — отвечает, — не смогу, потому глазами с тобой разошлись: днём я не вижу, а ночью тебе не углядеть, куда полечу.
— Как же, — спрашивает, — быть?
Дедко Филин тогда и говорит:
— Приметку надёжную скажу. Побегай, погляди по озёрам и увидишь, — в одном посерёдке камень тычком стоит, вроде горки. С одной стороны сосны есть, а с трёх — голым-голо, как стены выложены. Вот это место и есть. Кто с золотом доберётся до этого камня, тому ход откроется вниз, под озеро. Тут уж Полозу не взять.
Айлып перевёл всё это в голове, — и смекнул, — на озеро Иткуль приходится Обрадовался, кричит:
— Знаю это место.
Филин своё толмит:
— А ты побегай, всё-таки, погляди, чтоб оплошки не случилось.
— Ладно, — говорит, — погляжу. А Филин напоследок ещё добавил:
— Фубу! Про то не забудь: от Полоза уйдёшь, обратного хода не будет.
Поблагодарил Айлып дедку Филина и пошёл домой. Вскорости нашёл он то озеро с камнем в середине и сразу смекнул: «В день до этого места не добежать, беспременно надо конскую дорогу наладить».
Вот и принялся Айлып дорогу прорубать. Лёгкое ли место одному-то да по густому лесу на сотню вёрст с лишком! Когда и вовсе из сил выбьется. Вытащит тогда косу — конец-то ему достался, — посмотрит, полюбуется, рукой погладит и ровно силы наберёт да опять за работу. Так у него три-то года незаметно и промелькнули, только-только успел всё сготовить.
Час в час пришёл Айлып за своей невестой. Вытащил её косу из речки, намотал на себя, и побежали они бегом по лесу. Добежали до прорубленной дорожки, а там шесть лошадей приготовлено. Сел Айлып на коня, невесту свою посадил на другого, четвёрку на повода взял, да и припустили, сколько конской силы хватило. Притомится пара — на другую пересядут да опять гнать. А лисичка впереди. Так и стелет, так и стелет, коней задорит — не догнать-де. К вечеру успели-таки до озера добраться. Айлып сразу на челночок да и перевёз невесту свою с лисичкой к озёрному камню. Только подплыли, — в камне ход открылся; они туда, а в это время как раз и солнышко закатилось.
Ох, что только тут, сказывают, было! Что только было!
Как солнышко село, Полоз всё то озеро в три ряда огненными кольцами опоясал. По воде-то во все стороны золотые искры так и побежали. Дочь свою всё-таки вытащить не мог. Филин Полозу вредил Сел на озёрный камень да и заладил одно:
— Фубу! фубу! фубу.
Прокричит этак-три раза, огненные кольца и потускнеют маленько, — вроде остывать станут. А как разгорятся снова да золотые искры шибко по воде побегут, Филин опять закричит.
Не одну ночь Полоз тут старался. Ну, не мог. Сила не взяла.
С той поры на заплесках озера золото и появилось. Где речек старых и следа нет, а золото есть. И всё, слышь-ко, чешуйкой да ниточкой, а жужелкой либо крупным самородком вовсе нет. Откуда ему тут, золоту, быть? Вот и сказывают, что из золотой косы Полозовой дочки натянуло. И много ведь золота. Потом, уж на моих памятях, сколько за эти заплески ссоры было у башкир с каслинскими заводчиками.
А тот Айлып со своей женой Золотой Волос так под озером и остался. Луга у них там, табуны конские, овечьи. Одним словом, приволье.
Выходит, сказывают, Золотой Волос на камень. Видали люди. На заре будто выйдет и сидит, а коса у ней золотой змеёй по камню вьётся. Красота будто! Ох, и красота!
Ну, я не видал. Не случалось. Лгать не стану.
1938 г.
Две ящерки
ашу-то Полевую, сказывают, казна ставила. Никаких ещё заводов тогда в здешних местах не было. С боем шли. Ну, казна, известно. Солдат послали. Деревню-то Горный Щит нарочно построили, чтоб дорога без опаски была. На Гумёшках, видишь, в ту пору видимое богатство поверху лежало, — к нему и подбирались. Добрались, конечно. Народу нагнали, завод установили, немцев каких-то навезли, а не пошло дело. Не пошло и не пошло. То ли немцы показать не хотели, то ли сами не знали — не могу объяснить, только Гумёшки-то у них безо внимания оказались. С другого рудника брали, а он вовсе работы не стоил. Вовсе зряшный рудничишко, тощенький. На таком доброго завода не поставишь. Вот тогда наша Полевая и попала Турчанинову. До того он, — этот Турчанинов, — солью промышлял да торговал на строгановских землях и медным делом тоже маленько занимался. Завод у него был. Так себе заводишко. Мало чем от мужичьих самоделок отошёл. В кучах руду-то обжигали, потом варили, переваривали, да ещё хозяину барыш был. Турчанинову, видно, этот барыш поглянулся.
Как услышал, что у казны медный завод плохо идёт, так и подъехал, — нельзя ли такой завод получить. — Мы, дескать, к медному делу привышны, — у нас пойдёт.
Демидовы и другие заводчики, кои побогаче да поименитее, ни один не повязался. У немцев, — думают, — толку не вышло — на что такой завод? Убыток один. Так Турчанинову наш завод и отдали да ещё Сысерть на придачу. Эко-то богатство и вовсе даром!
Приехал Турчанинов в Полевую и мастеров своих привёз. Насулил им, конечно, того-другого. Купец, — умел с народом обходиться! Кого хочешь, обвести мог.
— Постарайтесь, — говорит, — старички, а уж я вам по гроб жизни…
Ну, ласковый язычок, — напел! Смолоду на этом деле, — понаторел! Про немцев тоже ввернул словечко:
— Неуж против их не выдюжите?
Старикам большой охоты переселяться со своих мест не было, а это слово насчёт немцев-то задело. Неохота себя ниже немцев показать. Те ещё сами нос задрали, свысока на наших мастеров глядят, будто и за людей их не считают. Старикам и вовсе обидно стало. Оглядели они завод. Видят, хорошо устроено против ихнего-то. Ну, казна строила. Потом на Гумёшки походили, руду тамошнюю поглядели да и говорят прямо:
— Дураки тут сидели. Из такой-то руды да в этаких печах половина на половину выгнать можно. Только, конечно, соли чтобы безотказно было, как по нашим местам.
Они, слышь-ко, хитрость одну знали — руду с солью варить. На это и надеялись. Турчанинов уверился на своих мастеров и всем немцам отказал:
— Больше ваших нам не требуется.
Немцам что делать, коли хозяин отказал? Стали собираться, кто домой, кто на другие заводы. Только им всё-таки удивительно, как одни мужики управляться с таким делом станут.
Немцы и подговорили человек трёх из пришлых, кои у немцев при заводе работали.
— Поглядите, — говорят, — нет ли у этих мужиков хитрости какой. На что они надеются, — за такое дело берутся? Коли узнаете, весточку нам подайте, а уж мы вам отплатим.
Один из этих, кого немцы подбивали, добрый парень оказался. Он всё нашим мастерам и рассказал. Ну, мастера тогда и говорят Турчанинову:
— Лучше бы ты всех рабочих на медный завод из наших краёв набрал, а то видишь, что выходит. Поставишь незнамого человека, а он, может, от немцев подосланный. Тебе же выгода, чтобы нашу хитрость с медью другие не знали.
Турчанинов, конечно, согласился, да у него ещё и своя хитрость была. Про неё мастерам не сказал, а сам думает: «К руке мне это».
Тогда, видишь, Демидовы и другие заводчики здешние всяких беглых принимали, башкир тоже, староверов там и протча. Эти, дескать, подешевле и ответу за них нет, — что хошь делай. Ну, а Турчанинов по-другому, видно, считал:
— Наберёшь таких-то, с бору да сосенки, потом не управишься, себе не рад станешь. Беглые — народ бывалый, — один другого подучать станут. У башкир опять язык свой и вера другая, — не углядишь за ними. Переманю-ко лучше из дальних мест зазнамо да перевезу их с семьями. Куда тогда он убежит от семьи-то? Спокойно будет, а как зажму в руке, так ещё поглядим, у кого выгоды больше закаплет. А беглых да башкир либо ещё каких вовсе и к заводам близко подпускать не надо.
Так оно, слышь-ко, и вышло потом. По нашим заводам, известно, все одного закону. У тагильских вон мне случалось бывать, так у их этих вер-то не пересчитать, а у нас и слыхом не слыхали, чтобы кто по какой другой вере ходил. Ну, из других народов тоже нет, окромя начальства. Однем словом, подогнано.
Тогда те речи плавильных мастеров Турчанинову шибко к сличью пришлись. Он и давай наговаривать:
— Спасибо, старички, что надоумили. Век того не забуду… Всё как есть по вашему наученью устрою. Завод в наших местах прикрою и весь народ сюда перевезу. А вы ещё подглядите каких людей понадёжнее, я их выкуплю, либо на срока заподряжу. Потрудитесь уж, сделайте такую милость, а я вам…
И опять, значит, насулил свыше головы. Не жалко ему! Вином их поит, угощенье поставил, сам за всяко просто пирует с ними, песни поёт, пляшет. Ну, обошёл стариков.
Те приехали домой и давай расхваливать:
— Места привольные, угодья всякие, медь богатимая, заработки, по всему видать, добрые будут. Хозяин простяга. С нами пил-гулял, не гнушался. С таким жить можно.
А турчаниновские служки тут как тут. На те слова людей ловят. Так и набрали народу не то что для медного заводу, а на все работы хватит. Изоброчили больше, а кого и вовсе откупили. Крепость, вишь, была. Продавали людей-то, как вот скот какой.
Мешкать не стали, в то же лето перевезли всех с семьями на новые места — в Полевую нашу. Назад дорогу, конечно, начисто отломили. Не говоря о купленных, оброчным и то обратно податься нельзя. Насчитали им за перевозку столько, что до смерти не выплатишь. А бежать от семьи кто согласен? Своя кровь, жалко.
Так и посадил этих людей Турчанинов. Всё едино, как цепью приковал.
Из старых рабочих на медном заводе только того парнюгу оставили, который про немецкую подлость мастерам сказал. Турчанинов и его хотел в гору загнать, да один мастер усовестил:
— Что ты это! Парень полезное нам сделал. Надо его к делу приспособить — смышлёный, видать.
Потом и спрашивает у парня:
— Ты что при немцах делал?
— Стенбухарем, — отвечает, — был.
— Это по-нашему что же будет?
— По нашему, около пестов ходил, — руду толчи да сеять.
— Это, — говорит мастер, — дело малое — в стенку бухать. А засыпку немецкую знаешь?
— Нет, — отвечает, — не допущали наших. Свой у них был. Наши только подтаскивали, кому сколько велит. По этой подноске я и примечал маленько. Понять было охота. За карнахарем тоже примечать случалось. Это который у них медь чистил, а к плавке вовсе допуску не было.
Мастер послушал-послушал и сказал твёрдое слою:
— Возьму тебя подручным. Учить буду по совести, а ты обратно мне говори, что полезное у немцев видел.
Так этого парня — Андрюхсй его звали — при печах и оставили. Он живо к делу приобык и скоро сам не хуже того мастера стал, который его учил-то.
Вот прошло годика два. Вовсе не так в Полевой стало, как при немцах. Меди во много раз больше пошло. Загремели наши Гумёшки. По всей земле про них слава прошла. Народу, конечно, большое увеличенье сделалось, и всё из тех краёв, где у Турчанинова раньше заводишко был. У печей полно, а в горе и того больше. У Турчанинова на это большая охота проявилась — деньги-то огребать. Ему сколь хошь подай — находил место. Навидячу богател. На что Строгановы и тех завидки взяли. Жалобу подали, что Гумёшки на их землях приходятся и Турчанинову зря попали. Надо, дескать, их отобрать да им — Строгановым — отдать. Только Турчанинов в те годы вовсе в силу вошёл. С князьями да сенаторами попросту. Отбился от Строгановых. При деньгах-то долго ли!
Ну, народу, конечно, тяжело приходилось, а мастерам плавильным ещё и обидно, что обманул их.
Сперва, как дело направлялось, мяконько похаживал перед этими мастерами:
— Потерпите, старички! Не вдруг Москва строилась. Вот обладим завод по-хорошему, тогда вам большое облегченье выйдет.
А какое облегченье? Чем дальше, тем хуже да хуже. На руднике вовсе людей насмерть забивают, и у печей начальство лютовать стало. Самолучших мастеров по зубам бьют да ещё приговаривают:
— На то не надейтесь, что хитрость с медью показали. Теперь лучше плавень знаем. Скажем вот барину, так он покажет!
Турчанинова тогда уж все барином звали. Барин да барин, имени другого не стало. На завод он вовсе и дорожку забыл. Некогда, вишь, ему, — денег много, считать надо.
Вот мастера, которые подбивали народ переселяться в здешние места, и говорят:
— Надо к самому сходить. Он, конечно, барином стал, а всё-таки обходительный мужик, понимает дело. Не забыл, поди, как с нами пировал? Обскажем ему начистоту.
Вот и пошли всем народом, а их и не допустили.
— Барин, — говорят, — кофею напился и спать лёг. Ступайте-ко на свои места к печам да работайте хорошенько.
Народ зашумел:
— Какой такой сон не к месту пришёл! Время о полдни, а он спать! Разбуди! Пущай к народу выходит!
На те слова барин и вылетел. Выспался, видно. С ним оборужённых сколько хошь. А подручный тот — Андрюха-то — человек молодой, горячий, не испугался, громче всех кричит, корит барина всяко. В конце концов и говорит:
— Ты про соль-то помнишь? Что бы ты без неё был?
— Как, — отвечает барин, — не помнить! Схватить этого, выпороть да посолить хорошенько! Память крепче будет.
Ну, и других тоже хватать стали, на кого барин указывал. Только он, сказывают, страсть хитрый был, — не так распорядился, как казённо начальство. Не зря людей хватал, а со сноровкой: чтоб изъян своему карману не сделать. На завод хоть не ходил, а через наушников до тонкости про всякого знал, кто чем дышит. Тех мастеров, кои побойчее да поразговорчивее, всех охлестали, а которые потишае, — тех не задел. Погрозил только им:
— Глядите у меня! То же вам будет, коли стараться не станете!
Ну, те испугались, за двоих отвечают, за всяким местом глядят, — порухи бы не вышло. Только всё-таки людей недохватка — как урону не быть? Стали один по одному старых мастеров принимать, а этого, который Андрюху учил, вовсе в живых не оказалось. Захлестали старика. Вот Андрюху и взяли на его место. Он сперва ничего— хорошим мастером себя показал. Всех лучше у него дело пошло. Турчаниновски прислужники думают — так и есть, подшучивают ещё над парнем, Солёным его прозвали. Он без обиды к этому. Когда и сам пошутит:
— Солёно-то мяско крепче.
Ну вот, так и уверились в него, а он тогда исхитрился да и посадил козлов сразу в две печи. Да так, слышь-ко, ловко заморозил, что крепче нельзя. Со сноровкой сделал.
Его, конечно, схватили да в гору на цепь. Руднишные про Андрюху наслышаны были, всяко старались его вызволить, а не вышло. Стража понаставлена, людей на строгом счету держат… Ну, никак…
Человеку долго ли на цепи здоровье потерять? Хоть того крепче будь, не выдюжит. Кормёжка, вишь, худая, а воды когда принесут, когда и вовсе нет— пей руднишную! А руднишная для сердца шибко вредная.
Помаялся так-то Андрюха с полгода ли, с год — вовсе из сил выбился. Тень-тенью стал, не с кого работу спрашивать.
Руднишный надзиратель, и тот говорит:
— Погоди, скоро тебе облегчение выйдет. Тут в случае и закопаем, без хлопот.
Хоронить, значит, ладится да и сам Андрюха видит — плохо дело. А молодой, — умирать неохота.
«Эх, — думает, — зря люди про Хозяйку горы сказывают. Будто помогает она. Коли бы такая была, неуж мне не пособила бы? Видела, поди, как человека в горе замордовали. Какая она Хозяйка! Пустое люди плетут, себя тешат».
Подумал так да и свалился, где стоял. Так в руднишную мокреть и мякнулся, только брызнуло. Холодная она — руднишная-то вода, а ему всё равно — не чует. Конец пришёл.
Сколько он пролежал тут — и сам не знает, только тепло ему стало. Лежит будто на травке, ветерком его обдувает, а солнышко так и припекает, так и припекает. Как вот в покосную пору.
Лежит Андрюха, а в голове думка:
«Это мне перед смертью солнышко приснилось».
Только ему всё жарче да жарче. Он и открыл глаза. Себе не поверил сперва. Не в забое он, а на какой-то лесной горушечке. Сосны высоченные, на горушке трава негустая и камешки мелконькие — плитнячок чёрный. Справа у самой руки камень большой, как стена ровный, выше сосен.
Андрюха давай-ко себя руками ощупывать — не спит ли. Камень заденет, травку сорвёт, ноги принялся скоблить — изъедены ведь грязью-то… Выходит, — не спит, и грязь самая руднишная, а цепей на ногах нет.
«Видно, — думает, — мертвяком меня выволокли, расковали да и положили тут, а я отлежался. Как теперь быть? В бега кинуться, али подождать, что будет? Кто хоть меня в это место притащил?»
Огляделся и видит, — у камня туесочек стоит, а на нём хлеб, ломтями нарезанный. Ну, Андрюха и повеселел: «Свои, значит, вытащили и за мёртвого не считали. Вишь, хлеба поставили да ещё с питьём! По потёмкам, поди, навестить придут. Тогда всё и узнаю».
Съел Андрюха хлеб до крошки, из туеска до капельки всё выпил и подивился, — не разобрал, что за питьё. Не хмелит будто, а так силы и прибавляет. После еды-то вовсе ему хорошо стало. Век бы с этого места не ушёл. Только и то думает:
«Как дальше? Хорошо, если свои навестят, а вдруг вперёд начальство набежит? Надо оглядеться хоть, в котором это месте. Тоже вот в баню попасть бы! Одежонку какую добыть!»
Однем словом, пришла забота. Известно, живой о живом и думает. Забрался он на камень, видит — тут они, Гумёшки-то, и завод близко, даже людей видно, — как мухи ползают. Андрюхе даже боязно стало, — вдруг оттуда его тоже увидят. Слез с камня, сел на старое место, раздумывает, а перед ним ящерки бегают. Много их. Всякого цвету. А две на отличку. Обе зелёные. Одна побольше, другая поменьше.
Вот бегают ящерки. Так и мелькают по траве-то, как ровно играют. Тоже, видно, весело им на солнышке. Загляделся на них Андрюха и не заметил, как облачко набежало. Запокапывало, и ящерки враз попрятались. Только те две зелёные-то не угомонились, всё друг за дружкой бегают и вовсе близко от Андрюхи. Как посильнее дождичек пошёл, и они под камешки спрятались. Сунули головёнки, — и нет их. Андрюхе это забавно показалось. Сам-то он от дождя прятаться не стал. Тёплый да, видать, и ненадолго. Андрюха взял и разделся.
«Хоть, — думает, — которую грязь смоет», — и ремки свои под этот дождик разостлал.
Прошёл дождик, опять ящерки появились. Туда-сюда шныряют и сухоньки все. Ну, а ему холодно стало. К вечеру пошло, — у солнышка сила не та. Андрюха тут и подумал:
«Вот бы человеку так же. Сунулся под камень — тут тебе и дом».
Сам рукой и упёрся в большой камень, с которого на завод и Гумёшки глядел. Не то чтобы в силу упёрся, а так легохонько толкнул в самый низ. Только вдруг камень качнулся, как повалился на него. Андрюха отскочил, а камень опять на место стал.
«Что, — думает, — за диво? Вон какой камень, а еле держится. Чуть меня не задавил».
Подошёл всё-таки поближе, оглядел камень со всех сторон. Никаких щелей нет, глубоко в землю ушёл. Упёрся руками в одном месте, в другом. Ну, скала и скала. Разве она пошевелится?
«Видно, у меня в голове круженье от нездоровья. Почудилось мне», — подумал Андрюха и сел опять на старо место.
Те две ящерки тут же бегают. Одна ткнула головёнкой в том же месте, какое Андрюха сперва задевал, камень и качнулся. По всей стороне щель прошла. Ящерка туда юркнула, и щели не стало. Другая ящерка пробежала до конца камня да тут и притаилась, сторожит будто, а сама на Андрюху поглядывает:
— Тут, дескать, выйдет. Некуда больше.
Подождал маленько Андрюха, — опять по низу камня чутешная щелка прошла, потом раздаваться стала. В другом-то конце из-под камня ящерка головёнку высунула, оглядывается, где та — другая-то, а та прижалась, не шевелится. Выскочила ящерка, другая и скок ей на хребётик — поймала, дескать! — и глазёнками блестит, радуется.
Потом обе убежали. Только их и видел. Как показали Андрюхе, в котором месте заходить, в котором выходить.
Оглядел ещё раз камень. Целёхонек он, даже званья нет, чтобы где тут трещинка была.
«Ну-ко, — думает, — попытаю ещё раз».
Упёрся опять в том же месте в камень, он и повалился на Андрюху. Только Андрюха на это безо внимания — вниз глядит. Там лестница открылась, и хорошо, слышь-ко, улаженная, как вот в новом барском доме. Ступил Андрюха на первую ступеньку, а обе ящерки шмыг вперёд, как дорогу показывают. Спустился ещё ступеньки на две, а сам всё за камень держится, думает:
«Отпущусь — закроет меня. Как тогда в потёмках-то?»
Стоит, и обе ящерки остановились, на него смотрят, будто ждут. Тут Андрюха и смекнул:
«Видно, Хозяйка горы смелость мою пытает. Это, говорят, у ней первое дело».
Ну, тут он и решился. Смело пошёл, и как голова ниже щели пришлась, отпустился рукой от камня. Закрылся камень, а внизу как солнышко взошло — всё до капельки видно стало.
Глядит Андрюха, а перед ним двери створные каменные, все узорами изукрашенные, а вправо-то однополотная дверочка. Ящерки к ней подошли — в это, дескать, место. Андрюха отворил дверку, а там — баня. Честь-честью устроена, только всё каменное. Полок там, колода, ковшик и протча. Один веничек берёзовый. И жарко страсть — уши береги. Андрюха обрадовался. Хотел первым делом ремки свои выжарить над каменкой. Только снял их — они куда-то и пропали, как не было. Оглянулся, а по лавкам рубахи новые разложены и одёжи на спицах сколь хошь навешано. Всякая одёжа: барская, купецкая, рабочая. Тут Андрюха и думать не стал, залез на полок и отвёл душеньку, — весь веник измочалил. Выпарился лучше нельзя, сел — отдышался. Оделся потом по-рабочему, как ему привычно. Вышел из баньки, а ящерки его у большой двери ждут.
Отворил он — что такое? Палата перед ним, каких он и во сне не видал. Стены-то все каменным узором изукрашены, а посерёдке — стол. Всякой еды и питья на нём наставлено. Ну, Андрюха уж давно проголодался. Раздумывать не стал, за стол сел. Еда обыкновенная, питьё не разберешь. На то походит, какое он из туесочка-то пил. Сильное питьё, а не хмелит.
Наелся-напился Андрюха, как на самом большом празднике либо на свадьбе, ящеркам поклонился:
— На угощеньи, хозяюшки!
А они сидят обе на скамеечке высоконькой, головёнками помахивают:
— На здоровье, гостенёк! На здоровье!
Потом одна ящерка — поменьше-то — соскочила со скамеечки и побежала. Андрюха за ней пошёл. Подбежала она ко кровати — остановилась — ложись, дескать, спать теперь! Кровать до того убранная, что и задеть то её боязно. Ну, всё-таки Андрюха насмелился. Лёг на кровать и сразу уснул. Тут и свет потух.
А на Гумёшках тем временем руднишный надзиратель переполошился. Заглянул утром в забой, — жив ли прикованный, — а там одна цепь. Забеспокоился надзиратель, запобегивал:
— Куда девался! Как теперь быть?
Пометался-пометался, никаких знаков нет, и на кого подумать — не знает. Сказать начальству боится— самому отвечать придётся. Скажут — плохо глядел. Вот этот руднишный надзиратель и придумал обрушить кровлю над тем местом. Не шибко это просто, а исхитрился всё-таки, — кое с боков подгрёб, кое сверху наковырял. Тогда и по начальству сказал. Начальство, видно, не крепко в деле понимало, поверило.
— И то, — говорит, — обвал. Вишь, как его задавило, чуть цепь видно.
Надзиратель, конечно, поёт:
— Отрывать тут не к чему. Кровля вон какая ненадёжная, руды настоящей давно нет, а мёртвому не всё ли равно, где лежать.
Руднишные видели, конечно, — подстроено тут, а молчали.
«Отмаялся, — думают, — человек. Чем ему поможешь?»
Так начальство и барину сказало:
— Задавило, дескать, того, Солёного-то, который нарочно в печи козлов посадил.
Барии и тут свою выгоду не забыл:
— Это, — говорит, — его сам бог наказал. Надо про эту штуку попам сказать. Пущай народ наставляют, как барину супротивничать.
Попы и зашумели. Весь народ про Андрюху узнал, что его кровлей задавило. Пожалели, конечно:
— Хороший парень был. Немного таких осталось.
А он что? После бани-то спит да спит. Тепло ему, мягко. День проспал, два проспал, на другой бок перевернулся да пуще того. Выспался всё-таки и вовсе здоровый стал, будто не хворал и в руднике не бывал. Глядит — стол опять полнёхонек, и обе ящерки на скамейке сидят, поглядывают.
Наелся-напился Андрюха, ящеркам поклонился да и говорит:
— Теперь не худо бы барину Турчанинову за соль спасибо сказать. Подарочек сделать, чтоб до слёз чихнул.
Одна ящерка — поменьше-то — сейчас соскочила со скамейки и побежала. Андрюха за ней. Привела его ящерка к другой двери. Отворил, а там тоже лестница, в потолок идёт. На потолке скобочка медная, как ручка. Андрюха, понятно, догадался, к чему она. Поднялся по лестнице, повёл эту скобочку, выход и открылся. Вышел Андрюха на горушечку, а время, глядит, к вечеру — солнышко на закате.
«Это, — думает, — мне и надо. Схожу по потёмкам на рудник. Может, повидаю кого, узнаю, как у них там и в заводе что».
Пошёл потихоньку. Сторожится, конечно, как бы его не увидели, кому не надо. Подобрался к руднику, за вересовым кустом притаился. Людей у руды много, а подходящего случаю не выходит. Либо грудками копошатся, либо не те люди. Темненько уж стало. Тут и отбился один, близко подошёл. Парень простоватый, а так надёжный. Вместе с Андрюхой у печей ходил, да тоже на Гумёшки попал. Андрюха и говорит ему негромко:
— Михайло! Иди-ко поближе.
Тот сперва пошёл на голос, потом остановился, спрашивает:
— Кому надо?
— Иди, говорю, ближе.
Михайло ещё подался, а уж, видать, боится чего-то. Андрюха тогда и выглянул из-за куста, показаться хотел, чтоб он не сомневался. Михайло сойкнул да бежать. Как нарочно в ту пору ещё бабёночку одну к тому месту занесло. Она тоже Андрюху-то увидала. Визг подняла — уши затыкай.
— Ой, батюшки, покойник! Ой, покойник!
Михайло тоже кричит:
— Андрюху Солёного видел! Как есть такой показался, как до рудника был! Вон за тем кустом вересовым!
В народе беспокойство пошло. Побежали которые с рудника, а начальство вперёд всех. Другие говорят:
— Надо поглядеть, что за штука!
Пошли тулаем, а так Андрюхе неладно.
«Покажись, — думает, — зря-то, а мало ли кто в народе случится».
Он отошёл подальше в лес. Те побоялись глубоко-то заходить, потолкались около куста, расходиться стали.
Андрюха тут и удумал. Обошёл Гумёшки лесом да ночью прямо на медный завод. Увидели его там— перепугались. Побросали всё, да кто куда. Надзиратель ночной с перепугу на крышу залез. На другой день уж его сняли— обеспамятел вовсе… Андрюха и походил у печей-то… Опять всё наглухо заморозил да к барину.
Тот, конечно, прослышал о покойнике, попов велел нарядить, только их на ту пору найти не могли. Тогда барин накрепко запёрся в доме и не велел никому отворять. Андрюха видит — не добудешь, ушёл на своё место — в узорчату палату. Сам думает:
«Погоди! Ещё я тебе соль попомню!»
На другой день в заводе суматоха. Шутка ли во всех печах козлы. Барин слезами ревёт. На Гумёшках тоже толкошатся. Им велел отрыть задавленного и попам отдать, — пущай, дескать, хорошенько захоронят, по всем правилам, чтоб не встал больше.
Разобрали обвал, а там тела-то и нет. Одна цепь осталась и кольца ножные целехоньки, не надпилены даже. Тут руднишного надзирателя потянули. Он еще вертелся, на рабочих хотел свалить, потом уж рассказал, как было дело. Сказали барину — сейчас перемена вышла. Рвёт и мечет:
— Поймать, коли живой!
Всех своих стражников-прислужников нарядил лес обыскивать.
Андрюха этого не знал и вечером опять на горушечку вышел. Сколько видно, ни хорошо в подземной палате, а на горушечке лучше. Сидит у камня и раздумывает, как бы ему со своими друзьями повидаться. Ну, девушка тоже одна на уме была.
«Небось, и она поверила, что умер. Поплакала, поди, сколь-нибудь?»
Как на грех, в ту пору женщины по лесу шли. С покосу ворочались али так, ягодницы припозднились… Ну, мало ли по лесу народу летом проходит. От той горушечки близенько шли. Сначала Андрюха слышал, как песни пели, потом и разговор разбирать стал.
Вот одна-то и говорит:
— Заподумывала, поди, Тасютка, как про Андрюху услыхала. Живой ведь, сказывают, он.
Другая отвечает:
— Как не живой, коли все печи заморозил!
— Ну, а Тасютка-то что? Искать, поди, собралась?
— Дура она, Тасютка-то. Вчера сколь ей говорила, а она старухам своим верит. Боится, как бы Андрюха к ней под окошко не пришёл, а сама ревёт.
— Дура и есть. Не стоит такого парня. Вот бы у меня такой был — мёртвого бы не побоялась.
Слышит это Андрюха, и потянуло его поглядеть, кто это Тасютку осудил. Сам думает: «Нельзя ли через них весточку послать?»
Пошёл на голоса. Видит — знакомые девчонки, только никак объявиться нельзя. Много, видишь, народу-то идёт да ещё ребятишки есть. Ну, как объявишься? Поглядел-поглядел, не показался. Пошёл обратно.
Сел на старое место, пригорюнился. А пока он ходил, его, видно, какой-то барский пёс и углядел да потихоньку другим весточку подал. Окружили горушечку. Радуются все. Самоглавный закричал:
— Бери его!
Андрюха видит — со всех сторон бегут… Нажал на камень да и туда. Стражники-прислужники подбежали, — никого нет. Куда девался? Давай на тот камень напирать. Пыхтят— стараются. Ну, разве его сдвинешь? Одумались маленько, страх опять на них напал:
— Всамделе, видно, покойник, коли через камень ушёл.
Побежали к барину, обсказали ему. Того и запотряхивало с перепугу-то.
— В Сысерть, — говорит, — мне надо. Дело спешное там. Вы тут без меня ловите. В случае не поймаете — строго взыщу с вас.
Погрозил — и на лошадь да в Сысерть и угнал. Прислужники не знают, что им делать. Ну, на то вывели — надо горушку караулить. Андрюха там, под камнем-то, тоже заподумывал: как быть? Сидеть без дела непривычно, а выходить не приходится.
«Ночью, — думает, — попытаю. Но удастся ли по потёмкам выбраться, а там видно будет».
Надумал эдак-то, хотел еды маленько на дорогу в узелок навязать, а ящерок нету. Ему как-то без них неловко стало, вроде крадучись возьмёт.
«Ладно, — думает, — и без этого обойдусь. Живой буду — хлеба добуду».
Поглядел на узорчату палату, полюбовался, как всё устроено, и говорит:
— Спасибо этому дому — пойду к другому.
Тут Хозяйка и показалась ему, как быть должно. Остолбенел парень — красота какая! А Хозяйка говорит:
— Наверх больше ходу нет. Другой дорогой пойдёшь. Об еде не беспокойся. Будет тебе, как захочешь, — заслужил. Выведет тебя дорога, куда надо. Иди вон в те двери, только, чур, не оглядывайся. Не забудешь?
— Не забуду, — отвечает, — спасибо тебе за всё доброе.
Поклонился ей и пошёл к дверям, а там точь-в-точь такая же девица стоит, только ещё ровно краше. Андрюха не вытерпел, оглянулся, — где та-то? А она пальцем грозит:
— Забыл обещанье своё?
— Забыл, — отвечает, — ума в голове не стало.
— Эх, ты, — говорит, — а ещё Солёный! По всем статьям парень вышел, а как девок разбирать, так и неустойку показал. Что мне теперь с тобой делать-то?
— Твоя, — говорит, — воля.
— Ну, ладно. На первый раз прощается, другой раз не оглянись. Худо тогда будет.
Пошёл Андрюха, а та, другая-то, сама ему двери отворила. Там штольня пошла. Светло в ней, и конца не видно.
Оглянулся ли другой раз Андрей и куда его штольня вывела, — про то мне старики не сказывали. Стой только поры в наших местах этого парня больше не видали, а на памяти держали.
Посолил он Турчанинову-то!
А те — прислужники-то турчаниновски — долго, слышь-ко, камень караулили. Днём и ночью кругом камня стояли. Нарочно народ ходил поглядеть на эких дураков. Потом, видно, им самим надоело. Давай тот камень порохом рвать. Руднишных нагнали. Ну, разломали, конечно, а барин к той поре отутовел, — отошёл от страху да их же ругать.
— Пока, — кричит, — вы пустой камень караулили, мало ли в заводе и на Гумёшках урону вышло. Вон у приказчика-то зад сожгли. Куда годится?
1938 г.
Тяжелая витушка
то про мою-то витушку? Как я богатым был да денежки профурил? Слыхали, видно, от отцов? Посмеяться, гляжу, над старичком охота? Эх вы, пересмешники! А ведь было. Вправду было. И ровно недавно, а как сон осталось. Иное, поди, и вовсе забыл. Шибко, вишь, память-то свою промывал в ту пору… Чуть с головой не умыл. Где всё помнить!
С воли это, слышь-ко, началось.
Её — волю эту — у нас на прииске начальство прикрыть хотело. По деревням разговор прошёл, а мы и слыхом не слыхали. Только та заметка и была, что в завод на побывку отпускать не стали. Хоть того нужнее человеку, — один ответ — нельзя. И пришлых на прииск принимать не стали.
Что, думаем, за притча?
Раньше сколь хочешь со стороны брали, а теперь не надо? И вас что-то крепко держат?
А прииск в глухом месте был. Под Васькиной горой в лесу. Давно тот прииск бросили. Там. сказывали, не то дикий огонь, не то синюха объявилась. Это уж не знаю. Дикому огню по здешним местам ровно бы не должно быть, а синюха — это бывает. Ну, не в том дело… Прикрыли, говорю, тот прииск под Васькиной горой, а тогда бойко работали, и золотишко шло вовсе ладно. Народу, конечно, порядком нагнано было, и всё из наших заводских. Вот приисковско начальство, видно, и думало:
«Откуда им узнать, коли никого домой не отпущать и со стороны народ не брать. Пусть-ко по-старому работают. Нам так-то привычнее».
Только разве народ не дойдёт? Узнали и зашумели:
— Как так? Всем воля, а нам нет!
Начальство нашло отговорку:
— В церквах, — говорят, — волю читают, а у нас где? У бочки, что ли?
Кабака, вишь, настоящего на прииске не было, а винну бочку казна держала.
Заботилась, значит, как бы кто копейку домой не унёс. У этой винной бочки, конечно, всякого бывало… На то и намекали. На смех повернуть им охота пришла. Только народу какой смех! Шумят, таку беду, кричат:
— Читай сейчас, а то все с прииска уйдём в завод волю слушать.
Начальству делать нечего — притащили бумагу, давай вычитывать. Да разве поймёшь у них, что нагорожено? Дознаваться стали, что да как? Про пашню первым делом, про леса, про пески тоже — как с ними? Начальство и говорит — пашни по нашим местам взять неоткуда, леса и пески за владельцем, а за избы свои да за огородишки вам платить причтётся.
Так и удумано было, только никто тому не поверил.
Я тогда уж мужик вовсе на возрасте был, а про волю-то услышал, шумлю больше всех.
— Мошенство, — кричу, — это! Не может такого быть! Айда, ребята, в Полеву. Там разберём, как надо. Что этих слушать-то!
Другие тоже не молчат. Приисковский смотритель — ох, язва был, а ласкобай! — тогда и говорит:
— Ваше дело, ребятушки, ваше дело. Вольные вы теперь. Куда захотели — туда и пошли. Нас не обессудьте — обратно принимать не станем. Дружкам своим тоже весточку подадим, чтобы остерегались вас на работу брать. Мы ведь тоже, поди-ка, вольные — не всякого примать станем, а кого нам любо. В этом не обессудьте!
Это он, конечно, с хитростью так-то говорил. По закону другое выходило. Заводская земля, поди-ко, не навовсе барам отдавалась, а по условию, чтоб, значит, всякому заводскому жителю какая ни на есть заводская работа была предоставлена. Только разве кто про эту штуку знал по тому времени? Вот смотритель и припугнул, — работы, дескать, давать не будем, чем тогда жить станете?
Тут иные посмякли, а кто помоложе да погорячее — на своём остались: ушли с прииска. И я в том числе. Пришли домой и первым делом про юлю спрашивать стали. Ну, нам и обсказали:
— Это, дескать, царская юля, как, напримерно, у человека на голове плешь, — блестит, а уколупнуть нечего.
Мы видим — верно, вроде того выходит. Всё-таки испировали маленько. «Хоть, — думаем, — спина не так отвечать будет». Того и не смекнули, что брюхо погонит, так за неволю спину подставишь.
Пропились, конечно, до крошки, а кусать всякому надо. Что делать, коли у тебя ни скота, ни живота, а ремесло одно — землю перебуторивать. Мне это смолоду досталось. В наши-то годы я вон там на Гумёшках руду разбирал. Порядок такой был — чуть в какой семье парнишко от земли подымется, так его и гонят на Гумёшки.
— Самое, — сказывают, — ребячье дело камешки разбирать. Заместо игры!
Вот и попал я на эти игрушки. По времени и в гору спустили. Руднишный надзиратель рассудил:
— Подрос парнишко. Пора ему с тачкой побегать.
Счастье моё, что к добрым бергалам попадал. Ни одного не похаю. Жалели нашего брата, молоденьких. Сколь можно, конечно, по тем временам. Колотушки там либо волосянки — это вместо пряников считалось, а под плеть ни разу не подводили. И за то им спасибо.
Ещё подрос — дали кайлу да лом, клинья да молот, долота разные.
— Поиграй-ко, позабавься.
И довольно я позабавился. Медну Хозяйку хоть видеть не довелось, а духу её сладкого нанюхался, наглотался. В Гумёшках-то дух такой был — поначалу будто сластит, а глотнёшь — продыхнуть не можешь. Ну, как от серянки. Там, вишь, серы-то много в руде было. От этого духу да от игрушек у меня нездоровье сделалось. Тут уж покойный отец стал руднишное начальство упрашивать:
— Приставьте вы моего-то парня куда полегче. Вовсе он нездоровый стал. Того и гляди — умрёт, а двадцати трёх ему нету.
С той поры меня по рудникам да приискам и стали гонять.
Тут, дескать, привольно. Дождичком вымочит — солнышком высушит, а солнышка не случится — тоже не развалится.
В наших местах, известно, руду вразнос добывают, сверху берут. Так-то человеку вольготнее, только мне не часто это приходилось. Больше в землю же загоняли. Такая, видно, моя доля пришлась.
— Ты, — говорят, — к этому привычный. На Гумёшках вон сколь глубоко, а здесь что! Самая по тебе работа.
Так я всю жизнь в земле и скрёбся, как крот какой. Ну, в этом деле понимать стал, а больше-то и нет ничего. Вот и думаю: «Некуда мне податься, кроме как в землю».
Только приисковому смотрителю тоже покориться неохота — на старое-то место итти, а в гору и вовсе желанья нет. С молодых лет наигрался там, да гляжу, — и другие из горы повыскакивали. Куда вовсе несвычно лезут, лишь бы не в гору. Вот она какая сладкая была! Никому неохота туда по воле спуститься. Выработка-то сразу убавилась. Зовут туда, заработок обещают получше, а люди в сторону глядят.
Потом один по одному собираться стали на Гумёшки и в гору полезли. Сказывают — еще там хуже стало, потому — вода силу взяла. В откачке-то, видишь, большая остановка случилась, ну, вода и взяла юлю. Только на заработок не жалуются. Против других-то мест вовсе ладно приходится. Иной в кабаке и прихвастнёт. Сыпнет на стойку пятаков да и приговаривает:
— Хоть из мокрого места добыта, а денежки сухонькие да звонкие!
Гумёшки, известно, для барского кармана самым прибыльным местом считались.
Их и старались сохранить. Всяко туда народ заманивали и на плату не скупились.
Ну, я все-таки крепился.
— Нахлебался сладкого. Не пойду в гору, хоть золотом осыпь! Не пойду и не пойду!
И жена меня к этому не понуждала, попутные слова говорила:
— Не ребятишки у нас. Без горы проживем как-нибудь.
Только говорить-то это легко, а как поесть нечего, так всякому невесело станет. Продержал этак-то с месяц, вижу — вовсе туго пришлось: работы никакой, и куска нет. Что делать? Либо поклониться приисковому смотрителю, от которого ушёл, либо — в гору спускаться. Думал-думал, на то решился:
— Пойду в гору.
Тут и навернулся ко мне кособродский один, Максимко Зюзев. Дружок не дружок, а знакомец. Случалось, в одном месте рабатывали. Тоже мужик вовсе возрастной, седой волос пускать стал. Ну, те разговоры, други разговоры, потом он и говорит:
— Давай-ко, Василий, станем на себя стараться. Не вспучишь их — казну-то! А нам, может, фартнёт. Струментишко нехитрый. Не обробим себя — и то не беда. Попытаем, давай!
Понимал я, к чему это гласит. Про меня, вишь, люди-то говорили — этот, дескать, сроду в земле роется, знает, что где положено. То, видно, Зюзева и заохотило со мной искать. Подумал-подумал я да и говорю:
— Ладно, нето. Попытаем, в котором месте наш фарт лежит.
Указал, конечно, местичко, заявку в конторе сделали, стали дудку бить. Песок пошёл подходящий… Вовсе биться можно, даром что в контору за самый пустяк золото сдавали. Только Зюзеву всё мало. Он, вишь, из скоробогатых. Покажи ему место, чтобы сразу разбогатеть. Я ему сперва по совести:
— Это, мол, и есть доброе место. Надо только не всё золото конторе сдавать, а часть купцам. Тогда и вовсе ладно будет.
Зюзев про это и слышать не хочет, — боится. Да ещё дался ему какой-то серебряный олень. Всё меня спрашивает — не видал ли? Он будто ходит близко, видели его люди. Там вот и надо копать, где тот олень ходил. Я уговаривал Максимка не один раз:
— Какой олень по нашим местам? Тут только козлы да сохаты.
Максимко всё-таки мне не верит, думает, — не сказываю. А я всамделе оленя за пустяк считал. На змею, на ту надеялся маленько, на иней тоже. Примечал змеиные гнёзда, места тоже, на коих иней не держится. Это было, а на оленя вовсе не надеялся. На этом мы и разъехались. Максимко своё кричит, я своё. Рассорка вышла. Тут он меня и укорил.
— Мой хлеб ешь!
Я не стерпел, конечно:
— Как твой, коли с утра до ночи в земле колочусь!
Он и давай высчитывать, и всё на кривой аршин. Сколь мы от конторы за золото получили — от половины отпёрся, а сколь мне давал — то вдвое выросло. Плюну., я тут:
— Оставайся, лавка с товаром!
Взял лопату и пошёл, а он кричит, всяко хает моё место:
— Часу не останусь! Кому нужно пустое место!
Тогда я и говорю:
— Коли так, сам тут останусь.
Максимко давай надо мной смеяться:
— Чем ты без меня держаться будешь? Своё-то я сейчас увезу. Других дураков, кои бы тебя кормить стали, не найдёшь. Всем скажу, какое тут богатство. Сиди один на голой дудке.
«Погоди, — думаю, — кошкин сын, докажу я тебе!»
Пришли домой, побегал по своим дружкам, перехватил того-другого, говорю жене:
— Собирайся на прииск. Подымать будешь.
Нонешняя-то старуха у меня другая. Так уж, для домашности её взял, а тогда у меня жена настоящая была. Смолоду женился, вместе горе мыкали. Славная она у меня была и в руднишном деле бывалая.
— Ладно, — отвечает.
Пришли мы к дудке, а Максимко вовсе её оголил. Скажи, жердник был… я же и рубил… Так он и этот жердник уволок. Подивился я, до чего вредный человечишко. Ну, наладил, мало-мало. Стали ковыряться. Промыли — ладно. А Максимко наславил, видно, что пустое место. Оленя своего искать стал! Наше место и обегают. Двоём с женой тут и скрёбся. Нам это на-руку. Да ещё из-за этого Максимка укрепился я — в кабак ни ногой. Покориться-то было неохота, что единого дня не продержусь. И место новенькое нашёл, куда золотишко сдавать.
Орлёным-то, слышь-ко, устребкам, кои тайной продажей промышляли, с опаской сдавать приходилось. Они понимали сорт. Углядят — ладно мужик несёт, сами на то место заявку сделают, либо обрежут со всех сторон, а то и вовсе выживут. Вот я и нашёл нового купца. Шибко он жадный был, а сил настоящих ещё не было. Кабак, конечно, содержал, — тесть у него там сидел, — при доме амбар со всякой мелочью, тут же и мясом торговал и по ярмаркам ездил. Одним словом, свет бы захватил, кабы руки подольше. К этому купцу я и стал понашивать. Он понимал, как золото от припою отличить, а настояще сорт понять где же! Привычку на это надо иметь и глаз не такой. Тут нутряной глаз требуется, который в нутро глядит, а у этого купца верховой глаз — во все стороны. Где такому сорт золота узнать! Да и побаивался он.
— Ты, — говорит, — Василий, не скажи кому, что мне золото сдаёшь. Не привык я к этому. Сибирью такие дела пахнут.
Про то не сказывал, чем барыши пахли, а, видать, неплохо. Разохотило его. Никогда отказы не было, и в цене без большой прижимки, и расчёт без мошенства. Это всё мне подходило, — сдавал ему помаленьку. Так бы, может, мы с женой и вовсе жителями стали, не хуже других век прожили, да тут эта витушка и подвернулась.
Как сейчас помню. Накануне Здвиженья было. Баба кричит мне в дудку:
— Будет тебе, Василий. Праздник, поди-ко, завтра. Прибраться надо. Пойдем домой поскорее.
Песок у меня вовсе крепкий, часто камень. Намахался я и думаю: «Верно, хватит». Размахнулся для последнего разу покрепче, а кайло-то у меня и задержалось, — как под камень попало. Вышатывать стал, — не выходит. Рванул во всю силу на себя, мне в праву ногу и стукнуло, да так, что хоть криком кричи. Как отошла маленько боль, я и полюбопытствовал — «что за камень такой?» Взял в руку. Мать ты моя! Золото! Как вот витушка праздничная, только против хлебной много тяжелее. Сверху вроде завитками вышло, а исподка гладкая, только чутешные опупышки на ней, как рукой оглажены. Сколь его тут?
Про ногу сразу забыл. Кричу: «Подымай, Маринша!» Она, не того слова, вымахнула, а я вовсе как дурак стал. Смеюсь это да давай-ко её обнимать — это жену-то!
Она спрашивает:
— Что ты, Алексеич?
Я тогда и показал:
— Гляди!
— Ну, что? Вижу — камень какой-то…
— Держи!
Она думала — небольшой камешок, не сторожится, а как подал, так у ней рука вниз и поехала. Побелела тут моя Маринушка и, даром что кругом лес, шопотом спросила:
— Неуж золото?
— Оно, — говорю.
Смывку песку делать не стали. Домой скорее.
И вот диво, — бежим, всю дорогу оглядываемся, будто мы что украли. Прибежали домой. Запрятал я витушечку, наказываю Марине:
— Гляди, не сболтни кому!
Она обратно меня уговаривает:
— В кабак не зайди ненароком, пока золото не сдал.
В контору такую штуку нести и думать нечего. Ещё отберут! А уж место захватят — про то и говорить не осталось. Вечерком и пошёл я к своему-то купцу. Будто мяска для праздника купить. Улучил минутку, говорю — дело есть.
— Обожди, — говорит, — маленько. Скоро амбар прикрою.
Вот ладно. Отошёл покупатель, запер купец двери и говорит:
— Ну, давай.
Это и раньше бывало, — в амбаре-то сдавать. У него, вишь, весов-то настоящих не было, а кислоту да царску водку на полке скрыто держал, будто для торговли. Просто тогда с этим было, кому доходя продавали. Я и говорю:
— Запри-ко ты и в ограду двери.
— Зря, — отвечает, — беспокоишься. Из своих никто не зайдёт, — не велено, а чужих не пустят.
А я своё:
— Запри всё-таки!
Он тогда и забеспокоился:
— Уж не узнал ли кто, зачем ты ко мне ходишь? Может, сказал кому?
— Про это, — говорю, — не думай. Никому и в мысли не падёт, зачем к тебе хожу. Только много у меня.
— Это, — отвечает, — не беда, что много. Лишь бы не мало. Сколь хочешь приму. — Двери, однако, запер в ограду-то. — Ну, — говорит, — кажи!
Взял я тут для случаю топор с мясной колодки, подал ему свою витушку в тряпице:
— Ну-ко, прикинуть сперва это.
Он — купец: по руке-то сразу почуял, — тяжело.
Спрашивает:
— Что это у тебя?
— Прикинь, — говорю.
Бросил он на ходовые весы. Вывешал, как следует, говорит:
— Восемнадцать с малым походом.
— Вот и бери.
— Что брать-то? Где оно у тебя?
— А в тряпице-то…
— Восемнадцать фунтов?
— Сам вешал. Коли силы нехватит, в контору снесу.
Это про контору-то я так, для хитрости, помянул. С чего бы я туда потащил? Развернул мой купец тряпицу, давай витушку кислотой да царской водкой пробовать. Ну, золото и золото. Тут, — гляжу, — в пот купца бросило. Так с носу и закапало, а молчит, только на меня уставился. Потом и говорит:
— Поди, сверху только золото-то?
Вишь, какое понятие у него! В самородке, думал, серёдка чугунная! Ну, не дурак ли? Я ему растолковываю, что вот опупышки-то и есть самородная печать, а он, видать, не верит. Отговорку нашёл:
— Эко-то место мне не откупить. Денег не хватит. Разрубить придётся. Не в контору же тебе сдавать.
Уговаривает, значит, меня. Я и сам вижу — без этого не обойдётся, а жалко рубить-то. Ну, всё-таки взял витушку да тут же на мясной колодке и обрубил крайчики. Купец опять давай пробовать. Тут уж, видно, настояще уверился, побежал в дом за деньгами. Прибежал со шкатулкой, а самого так и трясёт. Боится, видно, и жадность одолела. Тоже ему кусок! Не знаю, почём они сдавали, а мне этот купец на рубль дороже против конторского платил.
Вывешал купец на ходовых весах середину особо, крайчики особо. Выгреб из шкатулки, из-за пазухи выворотил пачки бумажек покрупнее. Ну, выручку в это же место… На крайчики денег довольно, а ему серединку купить охота. Она потяжелее вышла.
— Поверь, — говорит, — в долг. Через день, много через два, отдам.
Ну, объясняю, конечно, что в таких делах долгов не бывает. Тогда он и говорит:
— Пойдём ко мне, посиди маленько. В кабак за выручкой сбегаю, — и подвигает ко мне деньги-то. Сосчитал я. Вижу, — ладно будто, пустяка не хватает. Подождать можно. Как у купца видел, тоже крупные-то деньги за пазуху забил, а помельче в карман, крайчики в сапог спрятал. Пошли мы с купцом в дом, а там, — гляжу, — угощенье выставлено. Хозяйка, таку беду, суетится, хлопочет.
Убежал купец в кабак, а она ко мне и подъезжает:
— Выкушай, гостенёк! Не почванься на моей хлеб-соли. Не изготовилась, как следует. Не ждала гостя.
А чего не изготовилась — полон стол наставлено! Ну, я креплюсь, конечно, — не пью вина. Так ей и сказал:
— При деньгах. Нельзя мне.
Она это вьётся всяко да наговаривает:
— Красненького хоть, нето, выпей, — и подаёт мне в руку стаканчик. Так небольшой стаканчик, с половину чайного. — Я, — говорит, — и сама этого-то выпью, — и наливает себе такой же стаканчик.
«Что, — думаю, — мне с одного сделается? Неуж перед женщиной неустойку покажу?» Взял да и хлебнул. Ох, и вино! Такого отродясь пить не доводилось. Крепкое будто да густое, а дух от него! Век бы нюхал. Потом я узнал — ром называется. Шибко мне поглянулось, а бабёнка эта — купчиха-то — уж успела, другой стаканчик налила. Я и другой хватил, а дальше, известно, — полетели мелки пташечки…
Всё-таки я тогда убрался от купца. Деньги и крайчики в целости донёс домой. Вместо додачи, за которой купец в кабак бегал, мешок гостинцев приволок. Еды там всякой, жене шаль, конечно, и протча тако. И тут же, слышь-ко, ромку этого бутылок пять либо шесть. Купчиха-то, вишь, удобрилась, говорит мужу:
— Поглянулось человеку — что нам жалеть? Отдай ему, Платоша, всё. Из города потом привезёшь.
Купец рад стараться:
— Да я… ему-то?… неуж пожалею… Пущай на здоровье выкушает стаканчик и супружницу свою попотчует. Не пивала, поди, она такого вина? Попотчуй её, не забудь! Я тебе ещё привезу. Так привезу… не за деньги!.. Для хорошего человека мне не жалко… Попотчуй жену-то, не скупись!
Пришёл я домой, показал Марине кучу денег, захоронил крайчики и давай жену потчевать. Она сперва отнекивалась — крепко будто, потом похваливать стала — какой дух баской!
Пьяные-то мы зашумели, конечно. Песни запели, пляска на нас нашла. Знакомцы разные понабились. Видят — фартнуло, поздравлять стали:
— Со счастливой находочкой!
Ну, припили, приели, что дома было, в кабак пошли. А купец этот тестя в амбар — сам за стойку и всяко мне сноровляет. Приятелей у меня тут объявилось — ни пройти, ни проехать! И покатилось колеско по гладенькой дорожке. Бабёнки появились, прилипать ко мне стали. Маринушке моей это обидно, конечно… Она тогда на ромок налегать стала. Купец и ей угождает и так, слышь-ко, втравил, что и от простого не стала отворачиваться. На две-то руки у нас и пошла работа, а купец, знай, обсчитывает да обсчитывает.
Проспимся когда, себя потешим:
— Крайчики у нас остались.
Только и крайчики, даром что с рванинкой были, тоже, как по маслу, в купецкий карман ушли. Чисто мы отработались.
Это бы ничего, да то худо — захворала моя Маринушка. От жизни-то этой худой. Помаялась маленько да и умерла. Схоронил её, потужил, погоревал — и на прииск. Куда больше-то?
На том месте, где мы нашли эту перепечённую витушку, Максимко Зюзев со всей роднёй. Место-то, вишь, на него было писано. Он и припал тут. Не стая, видно, за оленем своим бегать. Раздобрел — фу-ты, ну-ты! шапка с бантом, сапоги с рантом! В Косом Броду сыновьям дома поставил. По воротам бляшки набил. Знай наших! Одним словом, разбогател.
Поглядел я, поглядел да и пошёл на Бесштанку. Там у меня тоже было примечено. Охочих со мной стараться — хоть колом отбивайся. Думают — не попаду ли опять на витушку, а то и на целый калач.
Только, видно, не испекли больше про меня. Так золотишко нахаживал… Себе и людям хватало… А чтоб такую же дурь выколупнуть — этого больше не случалось.
Может, оно и лучше. Хоть свой век доживу да с горки на людей погляжу, а то где бы дотянуть! Наш старательский фарт ведь что? Сперва человек с перепою опухнет, а там, глядишь, и ноги протянет.
Так-то… Думали мы с женой — счастье нашли, а оно в беду ей перекинулось. Подвели люди. Ну, и меня поучили. Хорошо поучили. Знаю теперь, куда наше счастье уходит…
Вон те дома да каменные лавки Барышевские на нашей с Маринушкой доле и поставлены. Bo-время мне тогда Барышиха стаканчик поддодонила. Сумела, змея. Этим стаканчиком посейчас меня люди дразнят. А мне что? Дурость, конечно, а всё-таки пропил — не украл. И своё — не чужое.
Вот бы их — купцов-то — спросили, как они меня пьяного обворовывали, как жену-покойницу к могиле толкали. А ведь спросят по времени. Ещё как спросят-то! Тогда, поди, и наша с Мариной витушечка в счёт пойдёт.
Ну, что? Не шибко, гляжу, вам смешно? Веселее бы сказал, да мало такого видал.
1938 г.
Серебряное копытце
ил в нашем заводе старик один, по прозвищу Кокованя, Семьи у Коковани не осталось, он и придумал взять в дети сиротку. Спросил у соседей, — не знают ли кого, а соседи и говорят:
— Недавно на Глинке осиротела семья Григорья Потопаева. Старших-то девчонок приказчик велел в барскую рукодельню взять, а одну девчоночку по шестому году никому не надо. Вот ты и возьми её.
— Несподручно мне с девчонкой-то. Парнишечко бы лучше. Обучил бы его своему делу, пособника бы растить стал. А с девчонкой как? Чему я её учить-то стану?
Потом подумал-подумал и говорит:
— Знавал я Григорья да и жену его тоже. Оба весёлые да ловкие были. Если девчоночка по родителям пойдет, не тоскливо с ней в избе будет. Возьму её. Только пойдёт ли?
Соседи объясняют:
— Плохое житьё у неё. Приказчик избу Григорьеву отдал какому-то горюну и велел за это сиротку кормить, пока не подрастёт. А у того своя семья больше десятка. Сами не досыта едят. Вот хозяйка и взъедается на сиротку, попрекает её куском-то. Та хоть маленькая, а понимает. Обидно ей. Как не пойдёт от такого житья. Да и уговоришь, поди-ка.
Старик был мастер сказки сказывать. Дарёнка любила те сказки слушать, а кошка Мурёнка лежит да мурлычет:
— Пр-равильно говорит. Пр-равильно.
Только после всякой сказки Дарёнка напомнит:
— Дедо, про козла-то скажи. Какой он?
Кокованя отговаривался сперва, потом и рассказал:
— Тот козёл особенный. У него на правой передней ноге серебряное копытце. В каком месте топнет этим копытцем — там и появится дорогой камень. Раз топнет — один камень, два топнет — два камня, а где ножкой бить станет — там груда дорогих камней.
Сказал это да и не рад стал. Стой поры у Дарёнки только и разговору, что об этом козле.
— Дедо, а он большой?
Рассказал ей Кокованя, что ростом козёл не выше стола, ножки тоненькие, головка лёгонькая.
А Дарёнка опять спрашивает:
— Дедо, а рожки у него есть?
— Рожки-то, — отвечает, — у него отменные. У простых козлов на две веточки, а у него на пять веток.
— Дедо, а он кого ест?
— Никого, — отвечает, — не ест. Травой да листом кормится. Ну, сено тоже зимой в стожках подъедает.
— Дедо, а шерстка у него какая?
— Летом, — отвечает, — буренькая, как вот у Мурёнки нашей, а зимой серенькая.
— Дедо, а он душной?
Кокованя даже рассердился:
— Какой же душной! Это домашние козлы такие бывают, а лесной козёл, он лесом и пахнет.
Стал осенью Кокованя в лес собираться. Надо было ему поглядеть, в которой стороне козлов больше пасётся. Дарёнка и давай проситься:
— Возьми меня, дедо, с собой. Может, я хоть сдалека того козлика увижу.
Кокованя и объясняет ей:
— Сдалека-то его не разглядишь. У всех козлов осенью рожки есть. Не разберёшь, сколько на них веток. Зимой вот — дело другое. Простые козлы безрогие ходят, а этот, Серебряное копытце, всегда с рожками, хоть летом, хоть зимой. Тогда его сдалека признать можно.
Этим и отговорился. Осталась Дарёнка дома, а Кокованя в лес ушёл.
Дней через пять воротился Кокованя домой, рассказывает Дарёнке:
— Нынче в Полдневской стороне много козлов пасётся. Туда и пойду зимой.
— А как же, — спрашивает Дарёнка, — зимой-то в лесу ночевать станешь?
— Там, — отвечает, — у меня зимний балаган у покосных ложков поставлен. Хороший балаган, с очагом, с окошечком. Хорошо там.
Дарёнка опять спрашивает:
— Серебряное копытце в той же стороне пасётся?
— Кто его знает. Может, и он там.
Дарёнка- тут и давай проситься:
— Возьми меня, дедо, с собой. Я в балагане сидеть буду. Может, Серебряное копытце близко подойдет, — я и погляжу.
Старик сперва руками замахал:
— Что ты! Что ты! Статочное ли дело зимой по лесу маленькой девчонке ходить! На лыжах ведь надо, а ты не умеешь. Угрузнешь в снегу-то. Как я с тобой буду. Замёрзнешь ещё.
Только Дарёнка никак не остаётся.
— Возьми, дедо! На лыжах-то я маленько умею.
Кокованя отговаривал-отговаривал, потом и подумал про себя: «Сводить разве? Раз побывает, в другой не запросится».
Вот он и говорит:
— Ладно, возьму. Только, чур, в лесу не реветь и домой до времени не проситься. Как зима в полную силу вошла, стали они в лес собираться. Уложил Кокованя на ручные санки сухарей два мешка, припас охотничий и другое, что ему надо. Дарёнка тоже узелок себе навязала. Лоскуточков взяла кукле платье шить, ниток клубок, иголку да ещё верёвку.
«Нельзя ли, — думает, — этой верёвкой Серебряное копытце поймать?»
Жаль Дарёнке кошку свою оставлять, да что поделаешь. Гладит кошку-то, на прощанье, разговаривает с ней:
— Мы, Мурёнка, с дедом в лес пойдём, а ты дома сиди, мышей лови. Как увидим Серебряное копытце, так и воротимся. Я тебе тогда всё расскажу.
Кошка лукаво посматривает, а сама мурлычет:
— Пр-равильно придумала. Пр-равильно.
Пошли Кокованя с Дарёнкой. Все соседи дивуются:
— Из ума выжился старик! Такую маленькую девчонку в лес зимой повёл!
Как стали Кокованя с Дарёнкой из заводу выходить, слышат — собачонки что-то сильно забеспокоились. Такой лай да визг подняли, будто зверя на улицах увидали. Оглянулись, — а это Мурёнка серединой улицы бежит, от собак отбивается. Мурёнка к той поре поправилась. Большая да здоровая стала. Собачонки к ней и подступиться не смеют.
Хотела Дарёнка кошку поймать да домой унести, только где тебе! Добежала Мурёнка до лесу да и на сосну. Пойди поймай.
Покричала Дарёнка, не могла кошку приманить. Что делать? Пошли дальше. Глядят, — Мурёнка стороной бежит. Так и до балагана добралась.
Вот и стало их в балагане трое. Дарёнка хвалится:
— Веселее так-то.
Кокованя поддакивает:
— Известно, веселее.
А кошка Мурёнка свернулась клубочком у печки и звонко мурлычет:
— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.
Козлов в ту зиму много было. Это простых-то. Кокованя каждый день то одного, то двух к балагану притаскивал. Шкурок у них накопилось, козлиного мяса насолили — на ручных санках не увезти. Надо бы в завод за лошадью сходить, да как Дарёнку с кошкой в лесу оставить!
А Дарёнка попривыкла в лесу-то. Сама говорит старику:
— Дедо, сходил бы ты в завод за лошадью. Надо ведь солонину домой перевезти.
Кокованя даже удивился:
— Какая ты у меня разумница, Дарья Григорьевна. Как большая рассудила. Только забоишься, поди, одна-то.
— Чего, — отвечает, — бояться. Балаган у нас крепкий, волкам не добиться. И Мурёнка со мной. Не забоюсь. А ты поскорее ворочайся всё-таки!
Ушёл Кокованя. Осталась Дарёнка с Мурёнкой. Днём-то привычно было без Коковани сидеть, пока он козлов выслеживал. Как темнеть стало, запобаивалась. Только глядит — Мурёнка лежит спокойнёхонько. Дарёнка и повеселела. Села к окошечку, смотрит в сторону покосных ложков и видит — от лесу какой-то комочек катится. Как ближе подкатился, разглядела, — это козёл бежит. Ножки тоненькие, головка лёгонькая, а на рожках по пяти веточек. Выбежала Дарёнка поглядеть, а никого нет. Воротилась да и говорит:
— Видно, задремала я. Мне и показалось.
Мурёнка мурлычет: — Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.
Легла Дарёнка рядом с кошкой да и уснула до утра.
Другой день прошёл. Не воротился Кокованя. Скучненько стало Дарёнке, а не плачет. Гладит Мурёнку да приговаривает:
— Не скучай, Мурёнушка! Завтра дедо непременно придёт.
Муренка свою песенку поёт:
— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.
Посидела опять Дарёнушка у окошка, полюбовалась на звёзды. Хотела спать ложиться, вдруг по стенке топоток прошёл. Испугалась Дарёнка, а топоток по другой стене, потом по той, где окошечко, потом — где дверка, а там и сверху запостукивало. Не громко, будто кто лёгонький да быстрый ходит. Дарёнка и думает:
«Не козел ли тот вчерашний прибежал?»
И до того ей захотелось поглядеть, что и страх не держит. Отворила дверку, глядит, а козёл — тут, вовсе близко. Правую переднюю ножку поднял — вот топнет, а на ней серебряное копытце блестит, и рожки у козла о пяти ветках. Дарёнка не знает, что ей делать, да и манит его как домашнего:
— Me-ка! Ме-ка!
Козёл на это как рассмеялся. Повернулся и побежал.
Пришла Дарёнушка в балаган, рассказывает Мурёнке:
— Поглядела я на Серебряное копытце. И рожки видела, и копытце видела. Не видела только, как тот козлик ножкой дорогие камни выбивает. Другой раз, видно, покажет.
Мурёнка, знай, свою песенку поёт:
— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.
Третий день прошёл, а всё Коковани нет. Вовсе затуманилась Дарёнка. Слёзки запокапывали. Хотела с Мурёнкой поговорить, а её нет. Тут вовсе испугалась Дарёнушка, из балагана выбежала кошку искать.
Ночь месячная, светлая, далеко видно. Глядит Дарёнка — кошка близко на покосном ложке сидит, а перед ней козёл. Стоит, ножку поднял, а на ней серебряное копытце блестит.
Мурёнка головой покачивает, и козёл тоже. Будто разговаривают. Потом стали по покосным ложкам бегать. Бежит-бежит козёл, остановится и давай копытцем бить. Мурёнка подбежит, козёл дальше отскочит и опять копытцем бьёт. Долго они так-то по покосным ложкам бегали. Не видно их стало. Потом опять к самому балагану воротились.
Тут вспрыгнул козёл на крышу и давай по ней серебряным копытцем бить. Как искры из-под ножки-то камешки посыпались. Красные, голубые, зелёные, бирюзовые — всякие.
К этой поре как раз Кокованя и вернулся. Узнать своего балагана не может. Весь он как ворох дорогих камней стал. Так и горит-переливается разными огнями. Наверху козёл стоит — и всё бьёт да бьёт серебряным копытцем, а камни сыплются да сыплются. Вдруг Мурёнка скок туда же. Встала рядом с козлом, громко мяукнула, и ни Мурёнки, ни Серебряного копытца не стало. Кокованя сразу полшапки камней нагрёб, да Дарёнка запросила:
— Не тронь, дедо! Завтра днём ещё на это поглядим.
Кокованя и послушался. Только к утру-то снег большой выпал… Все камни и засыпало. Перегребали потом снег-то, да ничего не нашли. Ну, им и того хватило, сколько Кокованя в шапку нагрёб.
Всё бы хорошо, да Мурёнки жалко. Больше её так и не видали, да и Серебряное копытце тоже не показался. Потешил раз, — и будет.
А по тем покосным ложкам, где козёл скакал, люди камешки находить стали. Зелёненькие больше. Хризолитами называются. Видали?
1938 г.
Кошачьи уши
те годы Верхнего да Ильинского в помине не было. Только наша Полевая да Сысерть. Ну, в Северной тоже железком побрякивали. Так, самую малость. Сысерть-то светлее всех жила. Она, вишь, на дороге пришлась в казачью сторону. Народ туда-сюда проходил да проезжал. Сами на пристань под Ревду с железом ездили. Мало ли в дороге с кем встретишься, чего наслушаешься. И деревень кругом много.
У нас в Полевой против сысертского-то житья вовсе глухо было. Железа в ту пору мало делали, больше медь плавили. А её караваном к пристани-то возили. Не так вольготно было народу в дороге с тем, с другим поговорить, спросить. Под караулом-то попробуй! И деревень в нашей стороне — один Косой Брод. Кругом лес, да горы, да болота. Прямо сказать, — в яме наши старики сидели, ничего не видели. Барину, понятное дело, того и надо.
Спокойно тут, а в Сысерти поглядывать приходилось.
Туда он и перебрался. Сысерть главный у него завод стал. Нашим старикам только стражи прибавил да настрого наказал прислужникам:
— Глядите, чтобы народ со стороны не шлялся, и своих покрепче держите.
А какой тут пришлый народ, коли вовсе на устороньи наш завод стоит. В Сысерть дорогу прорубили, конечно, только она в те годы, сказывают, шибко худая была. По болотам пришлась. Слани вёрстами. Заневолю брюхо заболит, коли по жерднику протрясёт. Да и мало тогда ездили по этой дороге. Не то, что в нонешнее время — взад да вперёд. Только барские прислужники да стража и ездили. Эти верхами больше, — им и горюшка мало, что дорога худая. Сам барин в Полевую только на полозу ездил. Как санная дорога установится, он и давай навёрстывать, что летом пропустил. И всё норовил нежданно-негаданно налететь. Уедет, примерно, вечером, а к обеду на другой день уж опять в Полевой. Видно, подловить-то ему кого-нибудь охота было. Так все и знали, что зимой барина на каждый час жди. Зато по колёсной дороге вовсе не ездил. Нелюбо ему по сланям-то трястись, а верхом, видно, неспособно. В годах, сказывают, был. Какой уж верховой! Народу до зимы-то и полегче было. Сколь ведь приказчик не лютует, а барин приедет, — ещё вину выищет.
Только вот приехал барин по самой осенней распутице. Приехал не к заводу, либо к руднику, как ему привычно было, а к приказчику. Из конторы сейчас же туда всех приказных потребовал и попов тоже. До вечера приказные пробыли, а на другой день барин уехал в Северну. Оттуда в тот же день в город поволокся. По самой-то грязи приспичило ему. И обережных с ним что-то вовсе много. В народе и пошёл разговор: «Что за штука? Как бы дознаться?»
По теперешним временам это просто — взял да сбегал либо съездил в Сысерть, а при крепости как? Заделье надо найти, да и то не отпустят. И тайком тоже не уйдёшь, — все люди на счету, в руке зажаты. Ну, всё-таки выискался один парень.
— Я, — говорит, — вечером в субботу, как из горы поднимут, в Сысерть убегу, а в воскресенье вечером прибегу. Знакомцы там у меня. Живо всё разузнаю.
Ушёл, да и не воротился. Мало погодя приказчику сказали, а он и ухом не повёл искать парня-то. Тут и вовсе любопытно стало, — что творится? Ещё двое ушли и тоже с концом.
В заводе только то и нового, что по три раза на дню стала стража по домам ходить, мужиков считать, все ли дома. В лес кому понадобится за дровами либо за сеном на покос, — тоже спросись. Отпускать стали грудками и со стражей.
— Нельзя, — говорит приказчик, — поодиночке-то. Вон уж трое сбежали.
И семейным в лес ходу не стало. На дорогах заставы приказчик поставил. А стража у него на подбор — ни от одного толку не добьёшься. Тут уж, как в рот положено стало, что в Сысертской стороне что-то деется, и шибко им — барским-то приставникам — не по ноздре. Зашептались люди в заводе и на руднике:
— Что хочешь, а узнать надо.
Одна девчонка из руднишных и говорит:
— Давайте, дяденька, я схожу. Баб-то ведь не считают по домам. К нам вон с баушкой вовсе не заходят. Знают, что в нашей избе мужика нет. Может, и в Сысерти эдак же. Способнее мне узнать-то.
Девчонка бойконькая… Ну, руднишная, бывалая… Всё-таки мужикам это не в обычае.
— Как ты, — говорят, — птаха-Дуняха, одна по лесу сорок вёрст пройдёшь? Осень ведь — волков полно. Костей не оставят.
— В воскресенье днём, — говорит, — убегу. Днём-то, поди, не посмеют волки на дорогу выбежать. Ну, и топор на случай возьму.
— В Сысерти-то, — спрашивают, — знаешь кого?
— Баб-то, — отвечает, — мало ли. Через них и узнаю, что надо.
Иные из мужиков сомневаются:
— Что баба знает?
— То, — отвечает, — и знает, что мужику ведомо, а когда и больше.
Поспорили маленько мужики, потом и говорят:
— Верно, птаха-Дуняха, тебе сподручнее итти, да только стыд нам одну девку на экое дело посылать. Загрызут тебя волки.
Тут парень и подбежал. Узнал, о чём разговор, да и говорит:
— Я с ней пойду.
Дуняха скраснела маленько, а отпираться не стала.
— Вдвоём-то, конечно, веселее, да только как бы тебя в Сысерти не поймали.
— Не поймают, — отвечает.
Вот и ушли Дуняха с тем парнем. Из завода не по дороге, конечно, выбрались, а задворками, потом тоже лесом шли, чтобы их с дороги не видно было. Дошли так спокойно до Косого Броду. Глядят — на мосту трое стоят. По всему видать — караул. Чусовая ещё не замёрзла, и вплавь её где-нибудь повыше либо пониже тоже не возьмёшь — холодно. Поглядела из лесочка Дуняха и говорит:
— Нет, видно, мил дружок Матюша, не приводится тебе со мной итти. Зря тут себя загубишь и меня подведёшь. Ступай-ка скорее домой, пока тебя начальство не хватилось, а я одна попытаюсь на женскую хитрость пройти.
Матюха, конечно, её уговаривать стал, а она на своём упёрлась. Поспорили да на том и решили. Будет он из лесочка глядеть. Коли не остановят её на мосту — домой пойдёт, а остановят — выбежит, отбивать станет. Подобралась тут Дуняха поближе, спрятала покрепче топор, да и выбежала из лесу. Прямо на мужиков бежит, а сама визжит-кричит:
— Ой, дяденька, волк! Ой, волк!
Мужики видят — женщина испугалась, — смеются. Один-то ногу ещё ей подставил, только, видать, Дуняха в оба глядела, пролетела мимо, а сама всё кричит:
— Ой, дяденька, волк! Ой, волк!
Мужики ей вдогонку:
— За подол схватил! За подол схватил! Беги — не стой!
Поглядел Матюха и говорит:
— Пролетела птаха! Вот девка! Сама не пропадёт и дружка не подведёт! Дальше-то влеготку пройдёт сторонкой. Как бы только не припозднилась, волков не дождалась!
Воротился Матвей домой до обхода. Всё у него и обошлось гладко — не заметили. На другой день руднишным рассказал. Тогда и поняли, что тех — первых-то — в Косом Броду захватили.
— Там, поди, сидят заперты да ещё в цепях. То приказчик их и не ищет, — знает, видно, где они. Как бы туда же наша птаха не попалась, как обратно пойдёт!
Поговорили так, разошлись. А Дуняха что? Спокойно сторонкой по лесу до Сысерти дошла. Раз только и видела на дороге полевских стражников. Домой из Сысерти ехали. Прихоронилась она, а как разминовались, опять пошла. Притомилась, конечно, а на свету ещё успела до Сысерти добраться. На дороге тоже стража оказалась, да только обойти-то её тут вовсе просто было. Свернула в лес и вышла на огороды, а там близко колодец оказался. Тут женщины были, Дуняху и незаметно на людях стало. Одна старушка спросила её.
— Ты чья же, девушка, будешь? Ровно не из нашего конца?
Дуняха и доверилась этой старушке.
— Полевская, — говорит.
Старушка дивилась:
— Как ты это прошла? Стража ведь везде наставлена. Мужики не могут к вашим попасть. Который уйдёт — того и потеряют.
Дуняха ей сказала.
Тогда старушка и говорит:
— Пойдём-ко, девонька, ко мне. Одна живу. Ко мне и с обыском не ходят. А пройдут — так скажешься моей зареченской внучкой. Находит она на тебя. Только ты будто покорпуснее будешь. Зовут-то как?
— Дуняхой, — говорит.
— Вот и ладно. Мою-то тоже Дуней звать.
У этой старушки Дуняха и узнала всё. Барин, оказывается, куда-то вовсе далеко убежал, а нарочные от него и к нему каждую неделю ездят. Всё какие-то наставления барин посылает, и приказчик Ванька Шварев те наставления народу вычитывает. Железный завод вовсе прикрыт, а мужики на Щелкунской дороге канавы глубоченные копают да валы насыпают. Ждут с той стороны прихода. Говорят, — башкирцы бунтуются, а на деле вовсе не то. По дальним заводам, по деревням и в казаках народ поднялся, и башкиры с ними же. Заводчиков да бар за горло берут, и главный начальник у народа Омельян Иваныч прозывается. Кто говорит — он царь, кто— из простых людей, только народу от него воля, а заводчикам да барам — смерть! То наш-то хитряга и убежал подальше. Испугался!
Узнала, что в Сысерти тоже обход по домам и работам мужиков проверяет по три раза в день. Только у них ещё ровно строже. Чуть кого не случится, сейчас всех семейных в цепи да и в каталажку. Человек прибежит:
— Тут я, — по работе опоздал маленько!
А ему отвечают:
— Вперёд не опаздывай! — да и держат семейных-то дня два либо три.
Вовсе замордовали народ, а приказчик хуже цепной собаки.
Всё-таки, как вечерний обход прошёл, сбежались к той старушке мужики. Давай Дуняху расспрашивать, что да как у них. Рассказала Дуняха.
— А мы, — говорят, — сколько человек к вашим отправляли — ни один не воротился.
— То же, — отвечает, — и у нас. Кто ушёл — того и потеряли! Видно, на Чусовой их всех перехватывают.
Поговорили-поговорили, потом стали о том думать, как Дуняхе в Полевую воротиться. Наверняка, её в Косом Броду поджидают, а как мимо пройдёшь?
Один тут и говорит:
— Через Терсутско болото бы да на Гальян. Ладно бы вышло, да мест этих она не знает, а проводить некому…
— Неуж у нас смелых девок не найдётся? — говорит тут хозяйка. — Тоже, поди-ка, их не пересчитывают по домам, и на Терсутском за клюквой многие бывали.
Проводят! Ты только дальше-то расскажи ей дорогу, чтоб не заблудилась да и не опоздала. А то волкам на добычу угодит.
Ну, тот и рассказал про дорогу. Сначала, дескать, по Терсутскому болоту, потом по речке Мочаловке на болото Гальян, а оно к самой Чусовой подходит. Место тут узкое. Переберётся как-нибудь, а дальше полевские рудники пойдут.
— Если, — говорит, — случится опоздниться, тут опаски меньше. По тем местам от Гальяна до самой Думной горы земляная кошка похаживает. Нашему брату она не вредная, а волки её побаиваются, если уши покажет. Не шибко к тем местам льнут. Только на это тоже не надейся, побойче беги, чтобы засветло к заводу добраться. Может, про кошку-то — разговор пустой. Кто её видал?
Нашлись, конечно, смелые девки. Взялись проводить до Мочаловки. Утром ещё потемну за завод прокрались мимо охраны.
— Не сожрут нас волки кучей-то. Побоятся, поди. Пораньше домой воротимся, и ей — гостье-то нашей — так лучше будет.
Идёт эта девичья команда, разговаривает так-то. Мало погодя и песенки запели. Дорога бывалая, хаживали на Терсутско за клюквой — что им не петь-то?
Дошли до Мочаловки, прощаться с Дуняхой стали. Время ещё не позднее. День солнечный выдался. Вовсе ладно. Тот мужик-от говорил, что от Мочаловки через Гальян не больше пятнадцати вёрст до Полевой. Дойдёт засветло, и волков никаких нет. Зря боялись.
Простились. Пошла Дуняха одна. Сразу хуже стало. Места незнакомые, лес страшенный. Хоть не боязливая, а запооглядывалась. Ну, и сбилась маленько.
Пока путалась да направлялась, глядишь — и к потёмкам дело подошло. Во всех сторонах заповывали. Много ведь в те годы волков-то по нашим местам было. Теперь вон по осеням под самым заводом воют, а тогда их было — сила! Видит Дуняха — плохо дело. Столько узнала и даже весточки не донесёт! И жизнь свою молодую тоже жалко. Про парня того — про Матвея-то — вспомнила. А волки вовсе близко. Что делать? Бежать — сразу налетят, в клочья разорвут. На сосну залезть — всё едино дождутся, пока не свалишься.
По уклону, видит, к Чусовой болото спускаться стало. Так мужик-от объяснял.
Вот и думает: «Хоть бы до Чусовой добраться!»
Идёт потихоньку, а волки по пятам. Да и много их. Топор, конечно, в руке, да что в нём!
Только вдруг два синеньких огня вспыхнуло. Ни дать, ни взять — кошачьи уши. Снизу пошире, кверху на-нет сошли. Впереди от Дуняхи шагов, поди, до полсотни.
Дуняха раздумывать не стала, откуда огни — сразу к ним кинулась. Знала, что волки огня боятся.
Подбежала — точно, два огня горят, а между ними горка маленькая, вроде кошачьей головы. Дуняха тут и остановилась, меж тех огней.
Видит — волки поотстали, а огни всё больше да больше, и горка будто выше. Дивится Дуняха, как они горят, коли дров никаких не видно. Насмелилась, протянула руку, а жару не чует. Дуняха ещё поближе руку подвела. Огонь метнулся в сторону, как кошка ухом тряхнула, и опять ровно горит.
Дуняхе маленько боязно стало, только не на волков же бежать. Стоит меж огнями, а они ещё кверху подались. Вовсе большие стали. Подняла Дуняха камешок с земли. Серой он пахнет. Тут она и вспомнила про земляную кошку, про которую мужик сысертский сказывал. Дуняха и раньше слышала, что по пескам, где медь с золотыми крапинками, живёт кошка с огненными ушами. Уши люди много раз видали, а кошку никому не доводилось. Под землёй она ходит.
Стоит Дуняха промеж тех кошачьих ушей и думает: как дальше-то? Волки отбежали, да надолго ли? Только отойди от огней, — опять набегут. Тут стоять, — холодно, до утра не выдюжить.
Только подумала, — огни и пропали. Осталась Дуняха в потёмках. Оглянулась, нет ли опять волков? Нет, не видно. Только куда итти в потёмках-то! А тут опять впереди огоньки вспыхнули. Дуняха на них и побежала.
Бежит-бежит, а догнать не может. Так и добежала до Чусовой-реки, а уши уж на том берегу горят.
Ледок, конечно, тоненький, ненадёжный, да разбирать не станешь. Свалила две жердинки лёгоньких, с ними и стала перебираться. Переползла с грехом пополам, ни разу не провалилась, хоть шибко потрескивало. Жердинки-то ей пособили.
Стоять не стала. Побежала за кошачьими ушами. Пригляделась всё-таки к месту, — узнала. Песошное это. Рудник был. Случалось ей тут на работе бывать. Дорогу одна бы ночью нашла, а всё за ушами бежит. Сама думает: «Уж если они меня из такой беды вызволили, так неуж неладно заведут!»
Подумала, а огни и выметнуло. Ярко загорели. Так и переливаются. Будто знак подают: «Так, девушка, так! Хорошо рассудила!»
Вывели кошачьи уши Дуняху на Поваренский рудник, а он у самой Думной горы. Вон в том месте был. Прямо сказать, в заводе.
Время ночное. Пошла Дуняха к своей избушке. С опаской, конечно, пробирается. Чуть где люди, — прихоронится: то за воротный столб притаится, а то и через огород махнёт. Подобралась так к избушке и слышит — разговаривают.
Послушала она, поняла, — караулят кого-то. А её и караулили. Старуху-баушку приказчик велел в её избушке за постоянным караулом держать. «Сюда, — думает, — Дуняха явится, коли ей обратно прокрасться посчастливит». Сам этот караул проверял, чтобы ни днём, ни ночью не отходили.
Дуняха этого не поняла. Только слышит — чужой кто-то у баушки сидит. Побоялась показаться. А сама замёрзла, невтерпёж прямо. Вот она и прокралась проулком к тому парню-то Матвею, с которым до Косого Броду шла. Стукнула тихонько в окошко, а сама притаилась. Тот выбежал за ворота:
— Кто?
— Ну, она и сказалась. Обрадовался парень.
— Иди, — говорит, — скорее в баню. Топлена она. Там тебя и прихороню, а завтра понадёжнее место найдём.
Запер Дуняху в тёплой бане, сам побежал надёжным людям сказать:
— Воротилась Дуняха, прилетела птаха.
Живо сбежались, расспрашивать стали. Дуняха всё им рассказала. В конце и про кошачьи уши помянула:
— Кабы не они, сожрали бы меня волки.
Мужики это мимо пропустили. Притомилась, думают, наша птаха, вот и помстилось ей.
— Давай-ко, — говорят, — поешь да ложись спать! Мы покараулим тебя до утра и то обмозгуем, куда лучше запрятать.
Дуне того и надо. В тепле-то её разморило, еле сидит.
Поела маленько да и уснула. Матюха да ещё человек пять парней на карауле остались. Только время ночное, тихое, а Дуня вон какие вести принесла. Парни, видно, и запоговаривали громко. Ну, и другие люди, которые слушать приходили, тоже не утерпели: тому-другому сказать, посоветовать, что делать. Однем словом, беспокойство пошло. Обходчики и заметили. Сразу проверку давай делать. Того нет, другого нет, а у Матвея пятеро чужих оказалось.
— Зачем пришли?
Те отговариваются, конечно, кому что на ум пришло. Не поверили обходчики, обыскивать кинулись. Парням делать нечего — за колья взялись. Обходчики, конечно, оборужённые, только в потёмках колом-то способнее. Парни и ухайдакали их. Только на место тех обходчиков другие набежали. Втрое либо вчетверо больше. Парням, значит, поворот вышел. Одного застрелили обходчики, а другие отбиваются всё-таки.
Дуняха давно соскочила. Выбежала из бани, глядит, — над Думной горой два страшных синих огня поднялись, ровно кошка за горой притаилась, уши выставила. Вот-вот на завод кинется. Дуняха и кричит:
— Наши огни-то! Руднишные! На их, ребята, правьтесь!
И сама туда побежала. В заводе сполох поднялся. На колокольне в набат ударили. Народ повыскакивал. Думают — за горой пожар. Побежали туда. Кто поближе подбежит, тот и остановится. Боятся этих огней. Одна Дуняха прямо на них летит. Добежала, остановилась меж огнями и кричит:
— Хватай барских-то! Прошло их время! По другим заводам давно таких-то кончили!
Тут обходчикам и всяким стражникам туго пришлось. Известно, народ грудкой собрался. Стража побежала — кто куда. Только далеко ли от народа уйдёшь? Многих похватали, а приказчик угнал-таки по городской дороге. Упустили — оплошка вышла. Кто в цепях сидел, тех высвободили, конечно. Тут и огни погасли.
На другой день весь народ на Думной горе собрался. Дуняха и обсказала, что в Сысерти слышала. Тут иные, из стариков больше, сумлеваться стали:
— Кто его знает, — что ещё выйдет! Зря ты нас вечор обнадёжила.
Другие опять за Дуняху горой:
— Правильная девка! Так и надо! Чего ещё ждать-то? Надо самим к тем людям податься, у коих этот Омельян Иваныч объявился.
Которые опять кричат:
— В Косой Брод сбегать надо. Там, поди, наши-то сидят. Забыли их?
Ватажка парней сейчас и побежала. Сбили там стражу, вызволили своих да ещё человек пять сысертских. Ну, и народ в Косом Броду весь подняли. Рассказали им, что у людей деется.
Прибежали парни домой, а на Думной горе всё ещё спорят. Старики без молодых-то вовсе силу забрали, запугали народ. Только и твердят:
— Ладно ли мы вечор наделали, стражников насмерть побили?
Молодые кричат:
— Так им и надо!
Сидельцы тюремные из Косого-то Броду на этой же стороне, конечно. Говорят старикам:
— Коли вы испугались, так тут и оставайтесь, а мы пойдём свою правильную долю добывать.
На этом и разошлись. Старики, на свою беду, остались, да и других под кнут подвели. Вскорости приказчик с солдатами из города пришёл, из Сысерти тоже стражи нагнали. Живо зажали народ. Хуже старого приказчик лютовать стал, да скоро осекся. Видно, прослышал что неладное для себя. Стал стариков тех, кои с пути народ сбили, задабривать всяко. Только у тех спины-то не зажили, помнят, что оплошку сделали. Приказчик видит, косо поглядывают, — сбежал ведь! Так его с той поры в наших заводах и не видали. Крепко, видно, запрятался, а может, и попал в руки добрым людям — свернули башку.
А молодые тогда с Думной-то горы в леса ушли. Матвей у них вожаком стал.
И птаха-Дуняха с ним улетела.
Про эту пташку удалую много ещё сказывали, да я не помню…
Одно в памяти засело — про Дуняхину плётку.
Дуняха, сказывают, в наших местах жила и после того, как Омельяна Иваныча бары сбили и казнить увезли. Заводское начальство сильно охотилось поймать Дуняху, да все не выходило это дело. А она нет-нет и объявится в открытую где-нибудь на дороге, либо на руднике каком. И всегда, понимаешь, на соловеньком коньке, а конёк такой, что его не догонишь. Налетит этак нежданно-негаданно, отвозит кого ей надо башкирской камчой — и нет её. Начальство переполошится, опять примутся искать Дуняху, а она, глядишь, в другом месте объявится и там какого-нибудь рудничного начальника плёткой уму-разуму учит, как, значит, с народом обходиться. Иного до того огладит, что долго встать не может.
Камчой с лошади, известно, не то что человека свалить, волка насмерть забить можно, если кто умеет, конечно. Дуняха, видать, понавыкла камчой орудовать, надолго свои памятки ставила. И всё, сказывают, по делу. А пуще всего тем рудничным доставалось, кои молоденьких девчонок утесняли. Этих вовсе не щадила.
На рудниках таким, случалось, грозили:
— Гляди, как бы тебя Дуняха камчой не погладила.
Стреляли, конечно, в Дуняху не один раз, да она, видно, на это счастливая уродилась, а в народе ещё сказывали, будто перед стрелком кошачьи уши огнями замелькают, и Дуняхи не видно станет.
Сколько в тех словах правды, про то никто не скажет, потому — сам не видал, а стрелку как поверить?
Всякому, поди-ко, не мило, коли он пульку в белый свет выпустит. Всегда какую-нибудь отговорку на этот случай придумает. Против, дескать, солнышка пришлось, мошка в глаз попала, потемнение в мозгах случилось, комар в нос забился и в причинную жилку как раз на ту пору уколол. Ну, мало ли как ещё говорят. Может, какой стрелок и приплёл огненные уши, чтоб свою неустойку прикрыть. Всё-таки не столь стыдно. С этих слов, видно, разговор и пошёл.
А то, может, и впрямь Дуняха счастливая на пулю была. Тоже ведь недаром старики говорили:
— Смелому случится на горке стоять, пули мимо летят, боязливый в кустах захоронится, а пуля его найдёт.
Так и не могло заводское начальство от Дуняхиной плётки свою спину наверняка отгородить. Сам барин, сказывают, боялся, как бы Дуняха где его не огрела. Только она тоже не без смекалки орудовала.
Зачем она с одной плёткой кинется, коли при барине завсегда обережных сила, и каждый оборужён.
1938 г.
Синюшкин колодец
ил в нашем заводе парень Илья. Вовсе бобылём остался, — всю родню схоронил. И от всех ему наследство досталось.
От отца — руки да плечи, от матери — зубы да речи, от деда Игната — кайла да лопата, от бабки Лукерьи — особый поминок. Об этом и разговор сперва.
Она, видишь, эта бабка, хитрая была — по улицам перья собирала, подушку внучку готовила, да не успела. Как пришло время умирать, позвала бабка Лукерья внука и говорит:
— Гляди-ка, друг Илюшенька, сколь твоя бабка пера накопила! Чуть не полное решето! Да и пёрышки какие! Одно к одному — мелконькие да пёстренькие, глядеть любо! Прими в поминок — пригодится!
— Как женишься да принесёт жена подушку, тебе и незазорно будет: не в диковинку-де мне, — свои пёрышки есть, ещё от бабки остались.
— Только ты за этим не гонись, за подушкой-то! Принесёт — ладно, не принесёт — не тужи. Ходи веселенько, работай крутенько, и на соломке не худо поспишь, сладкий сон увидишь. Как худых думок в голове держать не станешь, так и всё у тебя ладно пойдет, гладко покатится. И белый день взвеселит, и тёмна ноченька приголубит, и красное солнышко обрадует. Ну, а худые думки заведёшь, тут хоть в пень головой — всё немило станет.
— Про какие, — спрашивает Илья, — ты, бабушка, худые думки сказываешь?
— А это, — отвечает, — про деньги да про богатство. Хуже их нету. Человеку от таких думок одно расстройство да маята напрасная. Чисто да по совести и пера на подушку не наскрести, не то что богатство получить.
— Как же тогда, — спрашивает Илья, — про земельное богатство понимать? Неуж, ни за что считаешь? Бывает ведь…
— Бывает-то бывает, только ненадёжно дело: комочками приходит, пылью уходит, на человека тоску наводит. Про это и не думай, себя не беспокой! Из земельного богатства, сказывают, одно чисто да крепко — это, когда бабка Синюшка красной девкой обернётся да сама своими рученьками человеку подаст. А даёт Синюшка богатство гораздому да удалому да простой душе. Больше никому. Вот ты и попомни, друг Илюшенька, этот мой последний наказ.
Поклонился тут Илья бабке.
— Спасибо тебе, бабка Лукерья, за перья, а пуще того за наставленье. Век его не забуду.
Вскорости умерла бабка… Остался Илюха один. — одинёшенек, сам большой, сам маленький. Тут, конечно, похоронные старушонки набежали, покойницу обмыть, обрядить, на погост проводить. Они — эти старушонки — тоже не от сладкого житья по покойникам бегают. Одно выпрашивают, другое выглядывают. Живо всё бабкино обзаведенье по рукам расхватали. Воротился Илья с могильника, а в избе у него голым-голёхонько. Только то и есть, что сам сейчас на спицу повесил: зипун да шапка. Кто-то и бабкиным пером покорыстовался: начисто выгреб из решета. Только три пёрышка в решётке зацепились. Одно беленькое, одно чёрненькое, одно рыженькое.
Пожалел Илья, что не уберёг бабкин поминок.
«Надо, — думает, — хоть эти пёрышки к месту прибрать, а то нехорошо как-то. Бабка от всей души старалась, а мне будто и дела нет».
Подобрал с полу каку-то синюю ниточку, перевязал эти пёрышки натуго да и пристроил себе на шапку.
«Тут, — думает, — самое им место. Как надевать, либо снимать шапку, так и вспомнишь бабкин наказ. А он, видать, для жизни полезный. Всегда его в памяти держать надо».
Надел потом шапку да зипун и пошёл на прииск. Избушку свою и запирать не стал, потому в ней — ничем-ничего. Одно пустое решето, да и то с дороги никто не подберёт.
Илья возрастной парень был, давно в женихах считался. На прииске-то он годов шесть либо семь робил. Тогда ведь, при крепости-то, с малолетства людей на работу загоняли. До женитьбы иной, глядишь, больше десятка годов уж на барина отхлещет. И этот Илья, прямо сказать, вырос на прииске.
Места тут он знал вдоль и поперёк. Дорога на прииск неблизкая. На Гремихе, сказывают, тогда добывали чуть не у Белого камня. Вот Илюха и придумал:
«Пойду-ко я через Зюзельско болотце. Вишь, жарынь какая стоит. Подсохло, поди, оно, — пустит перебраться. Глядишь, и выгадаю версты три, а то и все четыре…».
Сказано — сделано. Пошёл Илья лесом напрямую, как по осеням с прииска и на прииск бегали. Сперва ходко шёл, потом намаялся и с пути сбился. По кочкам-то ведь не по прямой дороге. Тебе надо туда, а кочки ведут вовсе не в ту сторону. Скакал-скакал, до поту наскакался. Ну, выбрался в какой-то ложок. Посредине место пониже. Тут трава растёт — горчик да метлика. А с боков взгорочки, а на них сосна жаровая. Вовсе, значит, сухое место пошло. Одно плохо — не знает Илья, куда дальше итти. Сколько раз по этим местам бывал, а такого ложочка не видывал.
Вот Илья и пошёл серединой, меж взгорочков-то. Шёл-шёл, видит — на полянке окошко круглое, а в нём вода, как в ключе, только дна не видно. Вода будто чистая, только сверху синенькой тенёткой подёрнулась и посредине паучок сидит, тоже синий.
Илюха обрадовался воде, отпахнул рукой тенётку и хотел напиться. Тут у него голову и обнесло, — чуть в воду не сунулся и сразу спать захотел.
«Вишь, — думает, — как притомило меня болото. Отдохнуть, видно, надо часок».
Хотел на ноги подняться, а не может. Отполз всё-таки сажени две ко взгорочку, шапку под голову да и растянулся. Глядит, — а из того водяного окошка старушонка вышла. Ростом не больше трёх четвертей. Платьишко на ней синее, платок на голове синий и сама вся синёхонька, да такая тощая, что вот подует ветерок — и разнесёт старушонку. Однако глаза у ней молодые, синие да такие большие, будто им тут вовсе и не место.
Уставилась старушонка на парня и руки к нему протянула, а руки всё растут да растут. Того и гляди, до головы парню дотянутся. Руки ровно жиденькие, как туман синий, силы в них не видно, и когтей нет, а страшно. Хотел Илья подальше отползти, да силы вовсе не стало.
«Дай, — думает, — отвернусь, — всё не так страшно».
Отвернулся да носом-то как раз в пёрышки и ткнулся. Тут на Илью почихота нашла. Чихал-чихал, кровь носом пошла, а всё конца-краю нет. Только чует — голове-то много легче стало. Подхватил тут Илья шапку и на ноги поднялся. Видит — стоит старушонка на том же месте, от злости трясётся. Руки у неё до ног Илье дотянулись, а выше-то от земли поднять их не может. Смекнул Илья, что у старухи оплошка вышла — сила не берёт, прочихался, высморкался да и говорит с усмешкой:
— Что, взяла, старая? Не по тебе, видно, кусок!
Плюнул ей на руки-то да и пошёл дальше. Старушонка тут и заговорила, да звонко так, вовсе по-молодому:
— Погоди, — не радуйся! Другой раз придёшь — головы не унесёшь!
— А я и не приду, — отвечает Илья.
— Ага! испугался! испугался! — зарадовалась старушонка.
Илюхе это за обиду показалось. Остановился он да и говорит:
— Коли на то пошло, так нарочно приду— воды из твоего колодца вычерпнуть.
Старушонка засмеялась и давай подзадоривать парня:
— Хвастун ты, хвастун! Говорил бы спасибо своей бабке Лукерье, что ноги унёс, а он ещё похваляется! Да не родился ещё такой человек, чтоб из здешнего колодца воду добыть.
— А вот поглядим, родился ли, не родился, — отвечает Илья.
Старушонка, знай, своё твердит:
— Пустомеля ты, пустомеля! Тебе ли воду добыть, коли подойти боишься. Пустые твои слова! Разве других людей приведёшь. Посмелее себя!
— Этого, — кричит Илья, — от меня не дождёшься, чтоб я стал других людей тебе подводить. Слыхал, поди-ка, какая ты вредная и чем людей обманываешь.
Старушонка одно заладила:
— Не придёшь, не придёшь! Где тебе! Такому-то!
Тогда Илья и говорит:
— Ладно, нето. Как в воскресный день ветер хороший случится, так и жди в гости.
— Ветер тебе на что? — спрашивает старушонка.
— Там видно будет, — отвечает Илья. — Ты только плевок-от с руки смой. Не забудь, смотри!
— Тебе, — кричит старушонка, — не всё равно, какой рукой тебя на дно потяну? Хоть ты, вижу, и гораздый, а всё едино, мой будешь. На ветер да бабкины перья не надейся! Не помогут!
Ну, поругались так-то. Пошёл Илья дальше, сам дорогу примечает и про себя думает:
«Вот она какая бабка Синюшка. Ровно еле живая, а глаза девичьи, погибельные и голос, как у молоденькой, — так и звенит. Поглядел бы, как она красной девкой оборачивается».
Про Синюшку Илья много слыхал. На прииске не раз об этом говаривали. Вот дескать, по глухим болотным местам, а то и по старым шахтам набегали люди на Синюшку. Где она сидит, тут и богатство положено. Сживи Синюшку с места, — и откроется полный колодец золота да дорогих каменьев. Тогда и греби, сколь рука взяла. Многие будто ходили искать, да либо ни с чем воротились, либо с концом загинули.
К вечеру выбрался Илюха на прииск. Смотритель приисковский напустился конечно, на Илюху:
— Что долго?
Илья объяснил — так и так, бабку Лукерью хоронил. Смотрителю маленько стыдно стало, а всё нашёл придирку:
— Что это у тебя за перья на шапке? С какой радости нацепил?
— Это, — отвечает Илья, — бабкино наследство. Для памяти его тут пристроил.
Смотритель да и другие, кто близко случился, давай смеяться над таким наследством, а Илья и говорит:
— Да, может, я эти перья навесь господский прииск не променяю. Потому — не простые они, а наговоренные. Белое вот — на весёлый день, чёрное — на спокойную ночь, а рыженькое — на красное солнышко.
Шутит, конечно. Только тут парень был — Кузька Двоерылко. Он Илюхе-то ровесником приходился, в одном месяцу именинниками были, а по всем статьям на Илюху не походил. Он, этот Двоерылко, вовсе со справного двора. По-доброму такому парню и мимо прииска ходить не надо — полегче бы работа дома нашлась. Ну Кузька давно около золота околачивался, своё смышлял, — не попадёт ли штучка хорошая, а унести её сумею. И верно насчёт того, чтобы чужое в свой карман прибрать, Двоерылко мастак был. Чуть кто не доглядел, — Двоерылко уже унёс, и найти не могут. Одним словом, ворина. По этому ремеслу у него и заметка была. Его, вишь, один старатель лопаткой черканул. Скользом пришлось, а всё же зарубка на память осталась — нос да губы пополам развалило. По этой приметке Кузьку и величали Двоерылком.
Этот Кузька крепко завидовал Илюхе. Тот, видишь, парень ядрёный да могутный, крутой да весёлый, — работа у него и шла податно. Кончил работу, — поел да песню запел, а то и в пляс пошёл. На артёлке ведь и это бывает. Против такого парня где же равняться Двоерылому, коли у него ни силы, ни охоты, да и на уме вовсе другое. Только Кузька по-своему об этом понимал.
«Не иначе, знает Илюшка какую-то словинку, — то он и удачливый и по работе ему устатка нет».
Как про пёрышки-то Илья сказал, Кузька и смекнул про себя: «Вот она — Илюшкина словинка».
Ну, известно, в ту же ночь и украл эти пёрышки.
На другой день хватился Илья, — где пёрышки? Думает, — обронил. Давай искать по прииску-то. Над Ильёй подсмеиваться стали:
— Ты в уме ли, парень! Столько ног тут топчется, а ты какие-то махонькие пёрышки ищешь! В пыль, поди, их стоптали. Да и на что они тебе?
— Как, — отвечает, — на что, коли это бабкина памятка?
— Памятку, — говорят, — надо в крепком месте, либо в голове держать, а не на шапке таскать.
Илья и думает — правду говорят, — и перестал те пёрышки искать. Того ему и на мысли не пало, что они худыми руками взяты.
У Кузьки своя забота — за Илюхой доглядывать, как у него теперь дело пойдёт, без бабкиных пёрышек. Вот и узорил, что Илья ковш старательский взял да к лесу пошёл. Двоерылко за Ильёй, — думает, не смывку ли где наладил. Ну, никакой смывки не оказалось, а стал Илья тот ковш на жердинку насаживать. Сажени четыре жердинка. Вовсе для смывки несподручно. К чему бы это? Ещё пуще Кузька насторожился.
Дело-то к осени пошло, крепко подувать стало. В субботу, как рабочих с прииска домой отпускали, Илья тоже домой запросился. Смотритель сперва покочевряжился, ты, дескать, недавно ходил да и незачем тебе — семейства нет, а хозяйство своё пёрышки-то — на прииске потерял. Ну, отпустил. А Кузька разве такой случай пропустит? Он спозаранку к тому месту пробрался, где ковш на жердинке припрятан был. Долго Кузьке ждать-то пришлось, да ведь воровская сноровка известна. Не нами сказано — вор собаку переждёт, не то что хозяина.
На утре подошёл Илья, достал ковш да и говорит:
— Эх, пёрышек-то нету! А ветер добрый. С утра так свистит, — к полдню вовсе разгуляется.
Впрямь, ветер такой, что в лесу стон стоит. Пошёл Илья по своим приметкам, а Двоерылко за ним крадётся да радуется:
«Вот они, пёрышки-то! К богатству, знать-то, дорожку кажут!»
Долгонько пришлось Илье по приметам-то пробираться, а ветер всё тише да тише. Как на ложок выйти, так вовсе тихо стало, — ни одна веточка не пошевельнётся. Глядит Илья, — старушонка у колодца стоит, дожидается и звонко так кричит:
— Вояка пришёл! Бабкины перья потерял и на ветре прогадал. Что теперь делать-то станешь? Беги-ко домой да ветра жди! Может, и дождёшься!
Сама в сторонке стоит, к Илье рук не тянет, а над колодцем туман, как шапка синяя, густым-густёхонько.
Илья разбежался да со взгорочка ковшом-то на жердине прямо в ту синюю шапку и сунул да ещё кричит:
— Ну-ко, ты, убогая, поберегись! Не зашибить бы ненароком.
Зачерпнул из колодца и чует — тяжело. Еле выволок. Старушонка смеётся, молодые зубы кажет.
— Погляжу я, погляжу, как ты ковш до себя дотянешь. Много ли моей водицы испить доведётся!
Задорит, значит, парня. Илья видит — верно, тяжело, — вовсе озлился.
— Пей, — кричит, — сама!
Усилился, поднял маленько ковшик да и норовит опрокинуть на старушонку. Та отодвинулась. Илья за ней. Она дальше. Тут жердинка и переломилась, и вода разлилась. Старушонка опять смеётся:
— Ты бы ковшик-то на бревно насадил… Надёжнее бы!
Илья в ответ грозится:
— Погоди, убогая! Искупаю ещё!
Тут старушонка и говорит:
— Ну, ладно. Побаловали — и хватит. Вижу, что ты парень гораздый да удалый. Приходи в месячную ночь, когда вздумаешь. Всяких богатств тебе покажу. Бери, сколько унесёшь. Если меня сверху не случится, скажись: «Без ковша пришёл» и всё тебе будет.
— Мне, — отвечает Илья, — и на то охота поглядеть, как ты красной девкой оборачиваешься.
— По делу видно будет, — усмехнулась старушонка, опять молодые зубы показала.
Двоерылко всё это до капельки видел и до слова слышал.
«Надо, — думает, — поскорее на прииск бежать да кошели наготовлять. Как бы только Илюшка меня не опередил!»
Убежал Двоерылко. А Илья взгорочком к дому пошёл. Перебрался по кочкам через болотце, домой пришёл, а там одна новость — бабкиного решета не стало.
Подивился Илья — кому такое понадобилось? Сходил к своим заводским дружкам, поговорил с тем, с другим и обратно на прииск пошёл, только не через болото, а дорогой, как все ходили.
Прошло так дней пяток, а случай тот у Илюхи из головы не выходит — на работе помнится и сну мешать стал. Нет-нет и увидит он те синие глаза, а то и голос звонкий услышит:
«Приходи в месячную ночь, когда вздумаешь».
Вот Илюха и порешил: «Схожу. Погляжу хоть, какое богатство бывает. Может, и сама она мне красной девкой покажется».
В ту пору как раз молодой месяц народился, ночи посветлее стали. Вдруг на прииске разговор— Двоерылко потерялся. Сбегали в завод — нету. Смотритель велел по лесу искать — тоже не оказалось. И то сказать, искали — не надсажались. Всяк про себя думал: «От того убытку нет, коли вор потерялся». На том и кончилось.
Как месяц на полный кружок обозначился, Илюха и пошёл. Добрался до места. Глядит — никого нет, Илья все же со взгорочка не спустился и тихонько молвил:
— Без ковша пришёл.
Только сказал, сейчас старушонка объявилась и ласково говорит:
— Милости просим, гостенёк дорогой! Давно поджидаю. Подходи, да бери, сколько унесёшь.
Сама руками-то как крышку над колодцем подняла, а там и открылось богатства всякого. Доверху набито. Илье любопытно на такое богатство поглядеть, а со взгорочка не спускается. Старушонка поторапливать стала:
— Ну, чего стоишь? Бери, говорю, сколько в кошель уйдёт.
— Кошеля-то, — отвечает, — у меня нету, да и от бабки Лукерьи я другое слыхал. Будто только то богатство чисто да крепко, какое ты сама человеку подашь.
— Вишь ты, привередник какой! Ему еще подноси! Ну, будь по-твоему!
Как сказала это старушонка, так из колодца синий столб выметнуло. И выходит из этого столба девица-красавица, как царица снаряжена, а ростом до половины доброй сосны. В руках у этой девицы золотой поднос, а на нём груда всякого богатства. Песок золотой, каменья дорогие, самородки чуть не по ковриге. Подходит эта девица к Илюхе и с поклоном подаёт ему поднос:
— Прими-ко, молодец!
Илья на прииске вырос, в золотовеске тоже бывал, знал, как его — золото-то— весят. Посмотрел на поднос и говорит старушонке:
— Для смеху это придумано. Ни одному человеку не в силу столько поднять.
— Не возьмёшь? — спрашивает старушонка.
— И не подумаю, — отвечает Илья.
— Ну, будь по-твоему! Другой подарок дам, — говорит старушонка.
И сейчас же той девицы— с золотым-то подносом — не стало. Из колодца опять синий столб выметнуло. Вышла другая девица. Ростом поменьше. Тоже красавица и наряжена по-купецки. В руках у этой девицы серебряный поднос, на нём груда богатства. Илья и от этого подноса отказался, говорит старушонке:
— Не в силу человеку столько поднять, да и не своими руками ты подаёшь.
Тут старушонка вовсе по-девичьи рассмеялась:
— Ладно, будь по-твоему! Тебя и себя потешу. Потом, чур, не жалеть. Ну, жди!
Сказала, и сразу не стало ни той девицы с серебряным подносом, ни самой старушонки. Стоял-стоял Илюха — никого нет. Надоело уж ему ждать-то, тут сбоку и зашуршала трава. Поворотился Илюха в ту сторону. Видит — девчонка подходит. Простая девчонка, в обыкновенный человечий рост. Годов так восемнадцати. Платьишко на ней синее, платок на голове синий и на ногах бареточки синие. А пригожая эта девчонка — и сказать нельзя. Глаза звездой, брови дугой, губы — малина и руса коса трубчатая через плечо перекинута, а в косе лента синяя.
Подошла девчонка к Илюхе и говорит:
— Прими-ко, мил друг Илюшенька, подарочек от чистого сердца.
И подаёт ему своими белыми рученьками старое бабки Лукерьи решето с ягодами. Тут тебе и земляника, тут тебе и княженика, и жёлтая морошка, и чёрная смородина с голубикой. Ну, всяких сортов ягода. Полнёхонько решето. А сверху три пёрышка. Одно беленькое, одно чёрненькое, одно рыженькое, натуго синей ниточкой перевязаны.
Принял Илюха решето, а сам как дурак стоит, никак домекнуть не может, откуда эта девчонка появилась, где она осенью всяких ягод набрала. Вот и спрашивает:
— Ты, чья красна девица? Скажись, как тебя звать-величать?
Девчонка усмехнулась и говорит:
— Бабкой Синюшкой люди зовут, а гораздому да удалому да простой душе и такой кажусь, какой видишь. Редко только так-то бывает.
Тогда уж Илюха понял, с кем разговор, и спрашивает:
— Пёрышки-то у тебя откуда?
— Да вот, — отвечает, — Двоерылко за богатством приходил. Сам в колодец угодил и кошели свои утопил, а твои-то пёрышки выплыли. Простой, видно, ты души парень.
Дальше Илья и не знает, о чём говорить. И она стоит, молчит, ленту в косе перебирает. Потом промолвила:
— Так-то, мил друг Илюшенька! Синюшка я. Всегда старая, всегда молодая. К здешним богатствам навеки приставлена.
Тут помолчала маленько да спрашивает:
— Ну, нагляделся? Хватит, поди, а то как бы во сне не привиделась.
И сама вздохнула, как ножом по сердцу парня полыснула. Всё бы отдал, лишь бы она настоящая живая девчонка стала, а её и вовсе нет.
Долго ещё стоял Илья. Синий туман из колодца по всему ложочку пополз, тогда только стал к дому пробираться. На свету уж пришёл. Только заходит в избу, а решето с ягодами и потяжелело, дно оборвалось, и на пол самородки да дорогие каменья посыпались.
С таким-то богатством Илья сразу от барина откупился, на волю вышел, дом себе хороший справил, лошадь завёл, а вот жениться никак не может. Всё та девчонка из памяти не выходит. Сна-покою из-за этого решился. И бабки Лукерьи пёрышки не помогают. Не один раз говаривал:
— Эх, бабка Лукерья, бабка Лукерья! Научила ты, как Синюшкино богатство добыть, а как тоску избыть — не сказала. Видно, сама не знала.
Маялся-маялся так-то и надумал:
«Лучше в тот колодец нырнуть, чем такую муку переносить».
Пошёл к Зюзельскому болотцу, а бабкины пёрышки всё же с собой захватил. Тогда ягодная пора пришлась. Землянику таскать стали.
Только подошёл Илья к лесу, навстречу ему девичья артёлка. Человек с десяток, с полными корзинками. Одна девчонка на отшибе идёт, годов так восемнадцати. Платьишко на ней синее, платок на голове синий… И пригожая — сказать нельзя. Брови дугой, глаза звездой, губы — малина, руса коса трубчатая через плечо перекинута, а в ней лента синяя. Ну, вылитая та. Одна приметочка разнится: на той баретки синие были, а эта вовсе босиком.
Остолбенел Илья. Глядит на девчонку, а она синими-то глазами зырк да зырк и усмехается — зубы кажет. Прочухался маленько Илюха и говорит:
— Как это я тебя никогда не видал?
— Вот, — отвечает, — и погляди, коли охота. На это я проста — копейки не возьму.
— Где, — спрашивает, — ты живёшь?
— Ступай, — говорит, — прямо, повороти направо. Тут — будет пень большой. Ты разбегись да треснись башкой. Как искры из глаз посыплются — тут меня и увидишь…
Ну, зубоскальничает, конечно, как по девичьему обряду ведётся. Потом сказалась, — чья такая, по которой улице живёт и как зовут.
Всё честь-честью. А сама глазами так и тянет, так и тянет.
С этой девчонкой Илюха и свою долю нашёл. Только не надолго. Она, вишь, из мраморских была. То её Илюха и не видал раньше-то. Ну, а про мраморских дело известное. Краше тамошних девок по нашему краю нет, а женись на такой — овдовеешь. С малых лет около камню бьются, — чахотка у них.
Илюха и сам долго не зажился. Наглотался, может, от этой да и от той нездоровья-то. А по Зюзельке вскорости большой прииск открыли.
Илюха, видишь, не потаил, где богатство взял. Ну, рыться по тем местам стали, да и натакались по Зюзельке на богатимое золото.
На моих ещё памятях тут хорошо добывали. А колодца того так и не нашли. Туман синий, — тот и посейчас на тех местах держится, богатство кажет.
Мы ведь что! Сверху поковыряли маленько, а копни-ко поглубже… Глубокий, сказывают, тот Синюшкин колодец. Страсть глубокий. Ещё добытчиков ждёт.
1938 г.
Демидовские кафтаны
т нашей заводской грани на полдень озеро есть. Иткуль называется. Слыхали, поди?
Кому на той стороне на рудниках да приисках мытариться доводилось, тот, небось, не раз на том озере бывал. Близко тут, и рыбёшки на том озере полным-полно. Который и вовсе не рыболов, а праздничным делом, глядишь, бежит на Иткуль; хоть разок в неделю, — думает, — ушки похлебаю. На приисках-то ведь еда известная. Скучают люди по доброму приварку.
Ну, кому золотая жужелка нечаянно в карман залетела, тому тоже на Иткуль дорога. Это озеро, вишь, не в нашей заводской даче, у здешнего начальства тут уж сила не берёт. И деревнёшечки при озере есть. Башкирские деревнёшечки бедные, а всё-таки того-другого достать можно, ежели у кого гулянка случится. Вина там, мяска и протча, про рыбу не говоря. Одно плохо — стряпать по русскому обычаю не привычны. Ну, да это старателю полбеды. Ему бы хлебнуть было. Зато место тут для гулянки — лучше не надо.
В нашей-то заводской даче свои озерки есть, да что в них! Стоялая вода в низменном месте, берега резуном затянуло, — не подойдёшь. А Иткуль-озеро на высоком местичке пришлось. Берега — песок да камень, сухим-сухохоньки, а кругом сосна жаровая. Как свечки поставлены. Глядеть любо. Вода как стёклышко — все камни на дне сосчитай. Только скрасна маленько. Как вот ровно мясо в ней полоскали. Дно, вишь, песок-мясника, к нему этак и отливает. Оттого будто озеро Иткулем и прозывается. По-башкирскому говядину зовут «ит», а «куль» — по-ихнему озеро, вот и вышло мясно озеро — Иткуль.
Другие опять говорят, будто первый, кто людей на это озеро привёл, похвалялся:
— Вон сколь тут живности в воде-то! Всё озеро мясом набито.
А ещё про это посказулька сложена. Наши старики сказывали. Они, вишь, ране-то, как чугунки не было, медь, железо на Чусову-реку возили и тамошние дела до тонкости знали. И про это наслышались.
Причинку тут на Демидовых кладут. Не на тагильских, а на тех, кои Шайтанский завод да Касли строили. Этого же колена Демидовы, только хозяйство у них разное. В том и загвоздка.
Вишь, как вышло. Царь отдал Демидову в здешних местах казённый завод и земли отвёл — строй, дескать, сколько сможешь. Демидов и послал в наши места сына Акинтия. Акинтий и начал тут поворачивать — заводы строить: Шуралу, там, Быньги, оба Тагила и протча. Старик Демидов и сам в наши края перебрался, только он, сказывают, больше по заводскому действию старался, а этот Акинтий всё строил да строил. Десятка, поди, два заводов-то настроил.
К нашим Сысертским заводам из Акинтьевых ближе всех Ревда подоткнулась. Вот из-за этой самой Ревды, как она ещё строилась, узелок и завязался.
Разбогател Акинтий Демидов — дальше некуда. Руда, вишь, тут добрая, лес под боком, за работу платил — только бы не умер человек. Как не разбогатеть! А у старика Демидова, кроме Акинтия, были и другие сыновья. Тоже заводчики, только не по здешним местам. У одного из этих сыновей — Никитой же его, как и старика, звали — Брынский завод был. Ну, и другие какие-то. Тоже сильно богатый был, только где же против Акинтия! Вот этот брынский заводчик Никита и удумал податься в наши же места.
— Братско, — дескать, — дело, — отведёт мне Акинтий местечко!
А сам уж давно облюбовал, где теперь Ревда-завод стоит. Тут на Волчихе да и по другим горам и руду обыскал. Ну, только Акинтий сразу братцу любезному оглобли заворотил.
— У моего-то, — говорит, — кармана братьев нету. Сам на том месте завод строить буду.
Никите неохота попуститься.
— Ещё, — говорит, — покойный родитель мне про то место говаривал. Обещал, можно сказать.
Акинтий, знай, посмеивается.
— На мёртвого-то что хошь скажи! А только родитель-покойничек не дурак был, чтоб эдакое место, с которого весь сплав по реке зачинается, из своих рук выпустить.
Ну, тогда Никита видит — не идёт дело, суд завёл с Акинтием из-за рудников. Дескать, я обыскал, а он собирается завод строить. Да где же с Акинтием тягаться, коли цари с ним за ручку! Только и высудил Никита, что ему разрешили теми рудниками пользоваться, если где-нибудь близко завод поставит. А где его поставишь, коли земля кругом обрезана.
Тут, слышь-ко, ещё такая штука вышла. С левого-то берега к Чусовой-реке строгановские земли подошли. Строгановы раньше железными заводами не от силы занимались, а тут и им приспичило, — на Акинтьевы богатства глядючи. Как раз недалеко от тех мест Билимбай-завод строили. С Акинтьем тоже суд завели, — дескать, Ревда-то на строгановской земле приходится. Ну, Никита видит — при таком деле у Строгановых ему земли ни за что не добыть. Стал искаться на правом берегу Чусовой. А там, слышь-ко, в диком месте, в Шайтан-логу, деревнёшечка башкирская стояла, и она как-то ещё никому из заводчиков не отдана была.
Вот Никита и подсыпался к этим башкирам, давай их улещать.
— Отдайте, — дескать, — мне это место. Я тут завод поставлю, а вас своим коштом перевезу, куда выберете. Избы новые поставлю, денег дам на обзаведенье, старикам на каждый год по красному кафтану… К праздникам мясо у вас будет: ешь — не хочу. А то какие вы жители! Мясо-то у вас когда бывает?
Деревнёшечка, и верно, шибко бедная была. Пряменько сказать, на одной кобыле по три семьи ездило. Только тем и питались, что в речках добудут. Всё рыба да рыба. Ну, их и потянуло на мяско. Старикам тоже охота в красных кафтанах погулять. Так и сладились и бумаги припечатали.
Стал на том месте, в Шайтан-логу, Демидов строить завод, а башкир перевёз на дальнее озеро, чуть не за сто вёрст от старого жилья. Не всех, конечно, перевёз.
Помоложе-то у себя оставил, на рудниках работу им дал. Молодому, известно, на людях охота пожить.
Сперва всё как по маслу катилось. Рыбой на новом месте башкиры довольнёхоньки, к праздникам им от Демидова мяса привозят: конины, баранины. Кафтаны тоже каждый год выдают. Всё, как выряжено.
Видишь, завод-от строит не сам Никита, а его сын Василий. Оттого будто Шайтанку и зовут ещё Васильевским. Этот Василий тогда, слышь-ко, молодой был, злостью да хитростью ещё не настоялся. Он и выполнял всё по уговору. Ну, и то сказать, велико ли дело для Демидовых столько-то возов конины да баранины отправить!
Только вот приехал на завод сам Никита. А у него, сказывают, в ту пору жена сбежала, денег много утащила, а больше того долгов оставила, — заплати, муженёк любезный, а жить с тобой я не согласна. Ну, Никита и лютовал по этому случаю и подковыривался ко всякому месту. Увидел, что башкирам мясо направляют, зверем на сына накинулся:
— Ты что это? По материной дорожке, знать, собираешься? Мастерица была моты мотать, добро разбрасывать!
Сын говорит:
— Что ты, батюшка, из-за пустяков себя расстраиваешь. Я ведь негодных лошадей режу. Чем на падинник везти, так мы им в гостинцы. Много если двух-трёх баранов подкину.
Старик не унимается:
— Тому барана, другому барана, сам с чем останешься?
Тогда Василий напомнил, — дескать, уговор такой был.
— На всякий уговор, — кричит, — ум иметь надо, а у тебя башка песком набита!
Потом позвал своего подручного да и сказал ему, как надо сделать.
Подручный, конечно, рад стараться. Таких-то ведь хлебом не корми, только бы людям какую ни на есть издёвку подстроить.
— Слушаю, — говорит, — Никита Никитич. Будьте без сумленья, в лучшем виде устроим. Угостим так, что внукам закажут, как на демидовски гостинцы рот разевать.
Вот ладно. Снарядился этот демидовский подручный с возами в дорогу. Человек пяток объездных с собой прихватил, с ружьями. Дорога-де не ближняя. Мало ли что может случиться.
Приезжают туда, а башкиры их уж ждут. Обрадовались старики:
— Ай, хорош Демид! Якши-бай, спасиба ему! Спасиба!
Велят котлы под мясо готовить. Только раскрывают рогожи, а там свинина. Цельными тушами свиньи лежат и пятачки свои уставили.
Старики, конечно, в сторону:
— Ай-яй! Дунгыз-ите наш закон ашать не велит… Ошибку Демид давал. Ай-яй-яй!
Ну, а какая ошибка, коли назгал сделано. Подручный, знай, покрикивает:
— Привезено — ешь! Какой разговор об этом. Мясо хорошее. Если такого не примете, давайте бумагу хозяину с отказом на предбудущее время.
Тут руднишные башкиры случились. На побывку, видно, к своим пришли. Эти руднишные около русских-то уж околтались. Руднишному где разбирать, какой кусок в хлёбове попался — свинина ли, конина ли, лишь бы червей поменьше. Ну, видят — тут подстроено. Взялись в это дело. Шире-дале, к драке ближе. Подручный демидовский ружьями пригрожать стал, а те не отстают. На них глядя, и другие осмелели, за колья да топоры взялись, телеги окружили. Подручный видит — дело плохо, велел поворачивать с возами. Башкиры ещё покричали, всё-таки выпустили. А подручный отъехал маленькой велел свинину на куски рубить да в озеро кидать. Башкиры видят, на зло воду поганят, тулаем за ними кинулись, а подручный демидовский стрелять велел. Ранили которых. Только всё-таки башкиры одну телегу захватили и людей сколько-то. Давай их бить. С концом, конечно, потому расстервенился народ. А подручный успел угнать.
Ну, дальше, известно, суд да кнут.
Приехало к башкирам начальство и давай в первую голову руднишных искать, только их нигде не оказалось, и семейные от них отперлись.
— Вовсе, — говорят, — нездешние были. Проходящий народ.
Тогда стариков увезли, которые от Демидова кафтаны получали. Этих стариков и судили как за бунт и присудили — у озера, на том самом месте, где драка была, кнутьями бить. Били, конечно, нещадно, спина в кровь и мясо клочьями. А тот, сукин сын, который драку подстроил, тут же перед всем народом похваляется:
— Помнить-де меня будут. Не хотели в демидовских красных кафтанах гулять, походите в моих! По росту, небось, пришлись. Только носить сладко ли?
Тут ему из народу и погрозились:
— Погоди, собака! Сошьём и тебе кафтан по росту! Без единого шва будет!
Так и вышло. Вскорости тот демидовский подручник потерялся. Искали-искали, найти не могли. Потом Демидову записку подбросили. Русскими буквами писано.
Оказался-де на Иткульском Шайтан-камне какой-то человек в красном кафтане, ни с кем не разговаривает, а, по всему, видать, из ваших.
Послал Демидов поглядеть, — что за штука?
На озере-то камень тычком из воды высунулся. Большой камень, далеко его видно. Вот на этом Шайтан-камне и оказался какой-то человек. Стоит ровно живой, руки растопырил. Одёжа на нём красным отливает. Подъехали демидовские доглядчики к камню, глядят, а это мёртвый подручный-то. У него вся кожа от шеи до коленок содрана да ему же к шее и привязана.
С той поры вот будто озеро Иткулем и прозывается.
Пострадала, конечно, деревнёшечка. Иных в тюрьме сгноили, кого забили, кто в Нерчинско на вечну каторгу ушёл. Ну, а оставшийся народ вовсе изверился в Демидове и во всех заводчиках. Только о том и думали, как бы чем заводам насолить.
Когда Пугачёв подымался, так эти иткульские из первых к нему приклонились. Даром что деревня махонькая, в глухом месте стоит — живо дознались!
Наш-от барин в ту пору, говорят, только то и наказывал:
— Берегись иткульских! За иткульскими гляди! Самый это отчаянный народ и заводам первые ненавистники.
А когда опять ворчать примется:
— Тоже, видно, и в Демидовых дураки водятся: гляди-ко, до чего народишко расстервенили. Не подойдёшь к нему. А из-за чего? Корысть-то какая? Палых лошадей жалко стало. Смекали тоже! Стыд в люди сказать.
Сам-от этот барин куда хитрее был. Этот, небось, за палую лошадь вязаться бы не стал. По-другому с народом обходиться умел. Не углядишь, с которой стороны подъедет. Прямо, сказать, петля.
Из купцов вышел. К мошенству, стало быть, с малых лет навык.
Вот этому барину, видно, и казалось дивом, что Демидовы не смогли маленькую башкирскую деревнёшечку круг пальца обвести.
Из-за этих барских разговоров, сказывают, потом большая рассорка с ревдинским начальством случилась. Не раз оно наших водой прижимало. Это когда караван спустить по Чусовой приходилось. Только это уж другой разговор пошёл, а иткульцы, точно, самые заядлые супротивники заводским барам в те годы были.
Как уж Пугачёво дело по другим местам вовсе на-нет сошло, в этой деревнёшечке его не забыли. Нет-нет, оттуда и выбежит человек пяток-десяток, на лошадках, конечно. А дорога у них хоть и в разные стороны случалась, а всегда на одно выходила: какого-нибудь заводского барина за горло взять. За эго и звали их барскими подорожниками, потому — простой народ и даже торгашей не задевали, а барам да большому заводскому начальству сильно оберегаться приходилось.
На дороге поймают — не пощадят, случалось, и по домам тревожили.
1939 г.
Огневушка-Поскакушка
идели раз старатели круг огонька в лесу. Четверо больших, а пятый парнишечко. Лет так восьми. Не больше. Федюнькой его звали.
Давно всем спать пора, да разговор занятный пришёлся. В артёлке, видишь, один старик был. Дедко Ефим. С молодых годов он из земли золотую крупку выбирал. Мало ли каких случаев у него бывало. Он и рассказывал, а старатели слушали Отец уж сколько раз говорил Федюньке:
— Ложился бы ты, Тюньша, спать!
Парнишечку охота послушать.
— Погоди, тятенька! Я маленечко ещё посижу.
Ну, вот… Кончил дедко Ефим рассказ. На месте костерка одни угольки остались, а старатели всё сидят да на эти угольки глядят.
Вдруг из самой середины вынырнула девчоночка махонькая. Вроде куклёнки, а живая. Волосёнки рыженькие, сарафанчик голубенький и в руке платочек, тоже сголуба.
Поглядела девчонка весёлыми глазками, блеснула зубёнками, подбоченилась, платочком махнула и пошла плясать. И так у ней легко да ловко выходит, что и сказать нельзя. У старателей дух захватило. Глядят — не наглядятся, а сами молчат, будто задумались.
Девчонка сперва по уголькам круги давала, потом, — видно ей тесно стало, — пошире пошла. Старатели отодвигаются, дорогу дают, а девчонка, как круг пройдёт, так и подрастёт маленько. Старатели дальше отодвинутся. Она ещё круг даст и опять подрастёт. Когда вовсе далеко отодвинулись, девчонка по промежуткам в охват людей пошла, — с петлями у ней круги стали. Потом и вовсе за людей вышла и опять ровненько закружилась, а сама уже ростом с Федюньку. У большой сосны остановилась, топнула ножкой, зубёнками блеснула, платочком махнула, как свистнула:
— Фи-ть-ть! й-ю-ю-у…
Тут филин заухал, захохотал, и никакой девчонки не стало.
Кабы одни большие сидели, так, может, ничего бы дальше и не случилось. Каждый, видишь, подумал:
«Вот до чего на огонь загляделся! В глазах зарябило… Неведомо, что померещится, с устатку-то!»
Один Федюнька этого не подумал и спрашивает у отца:
— Тятя, это кто?
Отец отвечает:
— Филин. Кому больше-то? Неуж не слыхал, как он ухает?
— Да не про филина я! Его-то, поди-ка, знаю и ни капельки не боюсь. Ты мне про девчонку скажи.
— Про какую девчонку?
— А вот которая на углях плясала. Ещё ты и все отодвигались, как она широким кругом пошла.
Тут отец и другие старатели давай допрашивать Федюньку, что он видел. Парнишечко рассказал.
Один старатель ещё спросил:
— Ну-ко, скажи, какого она росту была?
— Сперва-то не больше моей ладошки, а под конец чуть не с меня стала.
Старатель тогда и говорит:
— А ведь я, Тюньша, точь-в-точь такое же диво видел.
Федюнькин отец и ещё один старатель это же сказали. Один дед Ефим трубочку сосёт и помалкивает. Старатели приступать к нему стали.
— Ты, дедко Ефим, что скажешь?
— А то и скажу, что это же видел, да думал — померещилось мне, а выходит — и впрямь Огневушка-Поскакушка приходила.
— Какая Поскакушка?
Дедко Ефим тогда и объяснил:
— Слыхал, — дескать, — от стариков, что есть такой знак на золото — вроде маленькой девчонки, которая пляшет. Где такая Поскакушка покажется, там и золото. Не сильное золото, зато грудное, и не пластом лежит, а вроде редьки посажено. Сверху, значит, пошире круг, а дальше всё меньше да меньше и на-нет сойдёт. Выроешь эту редьку золотого песку — и больше на том месте делать нечего. Только вот забыл, в котором месте ту редьку искать: то ли где Поскакушка вынырнет, то ли где она в землю уйдет.
Старатели и говорят:
— Это дело в наших руках. Завтра пробьём дудку сперва на месте костерка, а потом и под сосной испробуем. Тогда и увидим, пустяшный твой разговор или всамделе что на пользу есть.
С этим и спать легли. Федюнька тоже калачиком свернулся, а сам думает:
«Над чем это филин хохотал?»
Хотел у дедка Ефима спросить, да он уже похрапывать принялся.
Проснулся Федюнька на другой день поздненько и видит — на вчерашнем огневище большая дудка вырыта, а старатели стоят у четырёх больших сосен и все говорят одно:
— На этом самом месте в землю ушла.
Федюнька закричал:
— Что вы! Что вы, дяденьки! Забыли, видно! Вовсе Поскакушка под этой вот сосной остановилась… Тут и ножкой притопнула.
На старателей тут сомненье пришло.
— Пятый пробудился — пятое место говорит. Был бы десятый — десятое бы указал. Пустое, видать, дело. Бросить надо.
Всё-таки на всех местах испытали, а удачи не вышло. Дедка Ефим и говорит Федюньке:
— Обманное, видно, твоё счастье.
Федюньке это нелюбо показалось. Он и говорит:
— Это, дедо, филин помешал. Он наше счастье обухал да обхохотал.
Дед Ефим своё говорит:
— Филин тут — не причина.
— А вот и причина!
— Нет, не причина!
— А вот и причина!
Спорят так-то вовсе без толку, а другие старатели над ними да и над собой смеются:
— Старый да малый оба не знают, а мы, дураки, их слушаем да дни теряем.
С той поры старика и прозвали Ефим Золотая редька, а Федюньку — Тюнькой Поскакушкой.
Ребятишки заводские узнали, проходу не дают. Как увидят на улице, так и заведут:
— Тюнька Поскакушка! Тюнька Поскакушка! Про девчонку скажи! Скажи про девчонку!
Старику от прозвища какая беда? Хоть горшком назови, только в печку не ставь. Ну, а Федюньке по малолетству обидно показалось. Он и дрался, и ругался, и ревел не раз, а ребятишки пуще того дразнят. Хоть домой с прииска не ходи. Тут ещё перемена жизни у Федюньки вышла. Отец-то у него на второй женился. Мачеха попалась, прямо сказать, медведица. Федюньку и вовсе от дома отшибло.
Дедко Ефим тоже не часто домой с прииска бегал. Намается за неделю, ему и неохота итти, старые ноги колотить. Да и не к кому было. Один жил.
Вот у них и повелось. Как суббота, старатели домой, а дедко Ефим с Федюнькой на прииске останутся.
Что делать-то? Разговаривают о том, о другом. Дедко Ефим рассказывал побывальщины разные, учил Федюньку, по каким логам золото искать, и протча тако.
Случалось, и про Поскакушку вспомнят. И всё у них гладко да дружно. В одном сговориться не могут. Федюнька говорит, что филин всей неудаче причина, а дедко Ефим говорит — вовсе не причина.
Раз так-то заспорили. Дело ещё на свету было, при солнышке. У балагана всё-таки огонёк был — от комаров курево. Огонь чуть видно, а дыму много. Глядят, — в дыму появилась махонькая девчонка. Точь-в-точь такая же, как тот раз, только сарафанчик потемнее и платок тоже. Поглядела весёлыми глазками, зубёнками блеснула, платочком махнула, ножкой притопнула и давай плясать.
Сперва круги маленькие давала, потом — больше да больше, и сама подрастать стала. Балаган на пути пришёлся, только это ей не помеха. Идёт, будто балагана и нет. Кружилась — кружилась, а как ростом с Федюньку стала, так и остановилась у большой сосны. Усмехнулась, ножкой притопнула, платочком махнула, как свистнула:
— Фи-т-ть! й-ю-ю-у…
И сейчас же филин заухал, захохотал. Дедко Ефим подивился.
— Откуда филину быть, коли солнышко ещё не закатилось?
Федюнька отвечает:
— Видишь вот! Опять филин наше счастье спугнул. Поскакушка-то, может, от этого филина и убежала.
— А ты разве видел Поскакушку?
— А ты разве не видел?
Начали они тут друг дружку расспрашивать, кто что видел. Всё сошлось, только место, где девчонка в землю ушла, у разных сосен указывают.
Как до этого договорились, так дедко Ефим и вздохнул:
— О-хо-хо! Видно, нет ничего. Одна это наша думка.
Только сказал, а из-под дерна по балагану дым повалил. Кинулись, а там жердник под деревом затлел. По счастью, вода близко была. Живо залили. Всё в сохранности осталось. Одне дедовы рукавицы обгорели. Схватил Федюнька рукавицы и видит, — дырки на них, как следочки от маленьких ног. Показал это чудо дедке Ефиму и спрашивает:
— Это, по-твоему, тоже думка?
Ну, Ефиму податься некуда, сознался:
— Правда твоя, Тюньша. Знак верный — Поскакушка была. Придётся, видно, завтра опять ямы бить — счастье пытать.
В воскресенье и занялись этим с утра. Три ямы вырыли — ничего не нашли. Дедко Ефим жаловаться стал:
— Наше-то счастье — людям смех.
Федюнька опять вину на филина кладёт.
— Это он, пучеглазый, наше счастье обухал да обхохотал! Вот бы его палкой!
В понедельник старатели прибежали из заводу. Видят, — свежие ямы у самого балагана. Сразу догадались, в чём дело. Смеются над стариком-то:
— Редька редьку искал…
Потом увидели, что в балагане пожар начинался, давай их ругать обоих. Федюнькин отец зверем на парнишку накинулся, чуть не поколотил, да дедко Ефим застоял:
— Постыдился бы мальчонку строжить! Без того он у тебя боится домой ходить. Задразнили да загрызли парнишка. Да и какая его вина? Я, поди-ко, оставался, — с меня и спрашивай, коли у тебя урон какой случился. Золу, видно, из трубки высыпал с огоньком — вот и загорелось. Моя оплошка — мой и ответ.
Отчитал так-то Федюнькиного отца, потом и говорит парнишку, как никого из больших близко не было:
— Эх Тюньша, Тюньша! Смеётся над нами Поскакушка. Другой раз случится увидеть, так ей в глаза надо плюнуть. Пускай людей с пути не сбивает да на смех не ставит!
Федюнька своё заладил:
— Дедо, она не со зла. Филин ей вредит.
— Твоё дело, — говорит Ефим, — а только я больше ямы бить не стану. Побаловался — и хватит. Немолодые мои годы — за Поскакушкой скакать.
Ну, разворчался старик, а Федюньше всё Поскакушки жаль.
— Ты, дедо, не сердись на неё! Вон она какая весёлая да хорошая. Счастье бы нам открыла, кабы не филин.
Про филина дедко Ефим промолчал, а на Поскакушку всё ворчит:
— То-то она счастье тебе открыла! Хоть домой не ходи!
Сколько ни ворчит дедко Ефим, а Федюнька своё:
— А как она, дедо, ловко пляшет!
— Пляшет-то ловко, да нам от этого не жарко — не холодно, и глядеть неохота.
— А я бы хоть сейчас поглядел! — вздохнул Федюнька. Потом и спрашивает: — А ты, дедо, отворотишься? И поглядеть тебе не любо?
— Как не любо? — проговорился дедко, да спохватился и давай опять строжить Федюньку: — Ох, и упорный ты парнишко! Ох, и упорный! Что в головёнку попало, то и засело! Будешь вот, что моё же дело, — всю жизнь мыкаться, за счастьем гоняться, а его, может, вовсе и нету.
— Как нету, коли я своими глазами видел.
— Ну, как знаешь, я тебе не попутчик! Набегался. Ноги заболели.
Поспорили, а дружбу вести не перестали. Дедко Ефим по работе сноровлял Федюньке, показывал, а в свободный час о всяких случаях рассказывал. Учил, значит, как жить-то надо. И самые весёлые у них те дни были, как они вдвоём на прииске оставались.
Зима загнала старателей по домам. Рассовал их приказчик по работам, куда пришлось, а Федюнька по малолетству дома остался. Только ему дома-то несладко. Тут ещё новая беда пришла: отца на заводе покалечило. В больничную казарму его унесли. Ни жив, ни мертв лежит. Мачеха и вовсе медведицей стала, — загрызла Федюньку. Терпел он, терпел да и говорит:
— Пойду, нето, я к дедку Ефиму жить.
А мачехе что?
— Провались ты, — кричит, — хоть к Поскакушке своей!
Надел тут Федюня пимишки, шубейку-ветродуйку покромкой покрепче затянул. Хотел отцовскую шапку надеть, да мачеха не дала. Натянул тогда свою, из которой давно вырос, и пошёл.
На улице первым делом парнишки налетели, дразниться стали:
— Тюнька Поскакушка! Тюнька Поскакушка! Скажи про девчонку!
Федюня, знай, идет своей дорогой. Только и сказал:
— Эй вы! Несмыслёныши!
Ребятам что-то стыдно стало. Они уж вовсе по-доброму спрашивают:
— Ты куда это?
— К дедку Ефиму.
— К Золотой редьке?
— Кому Редька — мне дедко.
— Далеко ведь! Ещё заблудишься.
— Знаю, поди-ко, дорогу.
— Ну, замёрзнешь. Вишь стужа какая, а у тебя и рукавиц нет.
— Рукавиц нет, да руки есть, и рукава не отпали. Засуну руки в рукава — только и дела. Не догадались!
Ребятам занятно показалось, как Федюнька разговаривает, они и стали спрашивать по-хорошему:
— Тюньша! Ты, правда, Поскакушку в огне видел?
— И в огне видел, и в дыму видел. Может, ещё где увижу, да рассказывать недосуг, — сказал Федюнька да и зашагал дальше.
Дедко Ефим то ли в Косом Броду, то ли в Северной жил. На самом выезде, сказывают, избушка стояла. Ещё перед окошком сосна бортевая росла. Далеконько всё-таки, а время холоднее — самая середина зимы. Подзамёрз наш Федюнюшка. Ну, дошагал всё-таки. Только ему за дверную скобку взяться, вдруг слышит:
— Фи-т-ть! й-ю-ю-у…
Оглянулся — на дороге снежок крутится, а в нём чуть метлесит клубочек, и похож тот клубочек на Поскакушку. Побежал Федюня поближе разглядеть, а клубочек уж далеко. Федюня за ним, он того дальше. Бежал-бежал за клубочком да и забрался в незнакомое место. Глядит — пустоплесье какое-то, а кругом лес густой. Посредине пустоплесья берёза старая, будто и вовсе неживая. Снегу около неё намело гора-горой. Клубочек подкатился к этой берёзе да вокруг неё и кружится.
Федюнька в азарте-то не поглядел, что тут и тропочки нет, полез по цельному снегу.
«Столько, — думает, — бежал, неуж спятиться!»
Добрался-таки до берёзы, а клубочек и рассыпался. Снеговой пылью Федюньке в глаза брызнул.
Чуть не заревел от обиды Федюнька. Вдруг у самой его ноги снег воронкой до земли протаял. Видит Федюнька — на дне-то воронки Поскакушка. Веселенько поглядела, усмехнулась ласково, платочком махнула и пошла плясать, а снег-от от неё бегом побежал. Где ей ножку поставить, там трава зелёная да цветки лесные.
Обошла круг — тепло Федюньке стало, а Поскакушка шире да шире круг берёт, — сама подрастает, и полянка в снегу всё больше да больше. На берёзе уж листочки зашумели. Поскакушка того больше старается, припевать стала:
У меня тепло. У меня светло! Красно летичко!А сама волчком да волчком — сарафанчик пузырём.
Когда ростом с Федюнькой выровнялась, полянка в снегу вовсе большая стала, а на берёзе птички запели. Жарынь, как в самый горячий день летом. У Федюньки с носу пот каплет. Шапчонку свою Федюнька давно снял, хотел и шубёнку сбросить, Поскакушка и говорит:
— Ты, парень, побереги тепло-то! Лучше о том подумай, как назад выберешься!
Федюнька на это и отвечает:
— Сама завела — сама выведешь!
Девчонка смеется:
— Ловкий какой! А если мне недосуг?
— Найдёшь время! Я подожду!
Девчонка тогда и говорит:
— Возьми-ко лучше лопатку. Она тебя в снегу согреет и домой выведет.
Поглядел Федюнька — у берёзы лопатка старая валяется. Изоржавела вся, и черенок расколотый.
Взял Федюнька лопатку, а Поскакушка наказывает:
— Гляди, из рук не выпусти! Крепче держи! Да дорогу-то примечай! Назад тебя лопата не поведёт. А ведь придёшь весной-то?
— А как же? Непременно прибежим с дедком Ефимом. Как весна — так мы и тут. Ты тоже приходи поплясать.
— Не время мне. Сам уж пляши, а дедко Ефим пусть притопывает.
— Какая у тебя работа?
— Не видишь? Зимой лето делаю да таких, как ты, работничков забавляю. Думаешь — легко?
Сама засмеялась, вернулась волчком и платочком махнула, как свистнула:
— Фи-т-ть! й-ю-ю-у…
И девчонки нет, и полянки нет, и береза стоит голым-голёшенька, как неживая. На вершине филин сидит. Кричать — не кричит, а башкой ворочает. Вокруг берёзы снегу намело гора-горой. В снегу чуть не по горло провалился Федюнька и лопаткой на филина машет. От Поскакушкина лета только то и осталось, что черенок у Федюньки в руках вовсе тёплый, даже горячий. А рукам тепло — и всему телу весело.
Потянула тут лопата Федюньку и сразу из снега выволокла. Сперва Федюнька чуть не выпустил лопату из рук, потом наловчился, и дело гладко пошло. Где пешком за лопатой идёт, где волоком тащится. Забавно это Федюньке, а приметки ставить не забывает. Это ему тоже легонько далось. Чуть подумает засечку сделать, лопатка сейчас тюк-тюк, — и две ровнёшеньких зарубочки готовы.
Привела лопатка Федюню к деду Ефиму затемно. Рассказал Федюнька про случай, а старик не верит. Тогда Федюнька и говорит:
— Посмотри вон лопатку-то! В сенках она поставлена.
Принёс дедко Ефим лопатку да и углядел — по ржавчине-то золотые таракашки посажены. Целых шесть штук.
Тут дедко поверил маленько и спрашивает: — А место найдёшь?
— Как, — отвечает, — не найти, коли дорога замечена.
На другой день дедко Ефим раздобыл лыжи у знакомого охотника.
Сходили честь-честью. По зарубкам-то ловко до места добрались. Вовсе повеселел дедко Ефим. Сдал он золотых таракашков тайному купцу, и прожили ту зиму безбедно.
Как весна пришла, побежали к старой берёзе. Ну, и что? С первой лопатки такой песок пошёл, что хоть не промывай, а прямо руками золотины выбирай. Дедко Ефим даже поплясал на радостях.
Прихранить богатство не сумели, конечно. Федюнька — малолеток, а Ефим хоть старик, а тоже — простота.
Народ со всех сторон кинулся. Потом, понятно, всех согнали начисто, и барин за себя это место перевёл. Недаром, видно, филин башкой-то ворочал.
Всё-таки дедко Ефим с Федюнькой хлебнули маленько из первого ковшичка. Годов с пяток в достатке пожили. Вспомнили Поскакушку.
— Ещё бы показалась разок!
Ну, не случилось больше. А прииск тот и посейчас зовётся Поскакушкинский.
1939 г.
Травяная западёнка
то не при нашем заводе было, а на Сысертской половине. И не вовсе в давних годах. Мои-то старики уж в подлетках в заводе бегали. Кто на шаровке, кто на подсыпке, а то в слесарке либо в кузне. Ну, мало ли куда малолетков при крепости загоняли.
Тогда этот разговор про травяную западёнку и прошёл.
Так, сказывают, дело-то было.
Турчаниновские наследники промотались и половину заводов продали барину Саломирскову. Тут у них неразбериха и пошла. Продать продали, а деньги с завода Турчаниновым охота получать по-старому.
Саломирсков опять, наоборот, говорит:
— Я главный хозяин, — мне и получка вся! А вам — сколь выделю.
Спорили-спорили, сговорились нанять главного приказчика. — Пущай, дескать, хозяйствует, как умеет, а нам бы деньги выдавал, сколько кому по частям причтётся.
Так-то, видно, им вольготнее показалось! Оно и то сказать: Турчаниновски наследники сроду в заводском деле не мерекали, да и новый барин, видать, не мудренее достался. Он, сказывают, из каких-то царских ли княжеских незаконных родов вышел. То ему и заводы купили и заслуг всяких надавали.
Завсегда будто в белых штанах в обтяжку ходил, а на шапке от бусой лошади хвост.
В экой-то одёже в кричну либо сварочну не пойдёшь! Под домну и вовсе не суйся. Да новый барин об этом и не скучал. По своему понятию другое ремесло придумал: жеребцов по кругу на верёвке гонять.
У Турчаниновских в ту пору барыня одна в головах ходила. Самая, сказать, умойная баба. Ей гору золота насыпь, — и от той пыли не оставит. Увидела эта барыня, — Саломирсков жеребцами забавляется.
— Чем, — думает, — я хуже? Почище заведу!
И точно, цельный конский завод на Щербаковке поставила и тоже давай жеребцов гонять.
Главный приказчик у них из нездешних случился. Паном почто-то его в глаза звали.
Ну, этот пан сперва барам семячек подсыпал. Поманил, значит. Которое продаст, которое заложит, руду под самым заводом брать велел, уголь чуть не на улицах жгут— глядишь, — и наскребёт деньжонок. Барам этого и надо. Разговорами себя тешат:
— Это по началу так-то. Дальше лучше пойдёт.
Приказчик видит — уверились в него бары, взял да и жогнул их, сколь мог. Наглухо, сукин сын, заводы в долги посадил, весь народ обездолил, а сам шапочку надел да и в сторону.
— Прощайте-ко! Век бы на ваших жеребчиков да кобылок глядел, да недосуг мне. Два поместья купил, — хозяевать надо.
Тут промеж бар чуть не драчишка случилась. Один другого винят, ни в чём сговориться не могут, суд завели. Вот тогда они и придумали с глупого-то ума у одних печей нарозно хозяйство вести. Одна половина одного приказчика поставила, другая — другого. И мелкое начальство эдак же. Один так велит, другой на своё поворачивает. Путали-путали народ, потом и народ поделили. Одни, значит, стали Турчаниновски, други — Саломирсковски. Одним словом, беспутица. А хуже всего это по земельному богатству пришлось.
Не о том забота, как бы найти да добыть, а как бы что новенькое другому хозяину не показать. Всяк про себя смекал:
— Присудят в мою пользу, тогда и буду добывать из нового места.
У барина Саломирскова на ту пору главным щегарем был Санко Масличко. Мужичонко плутяга, до всего донюхается, и в делах понимал. Для приисковых и руднишных самый зловредный. А у Турчаниновских щегарем был Яшка Зорко.
Этот вовсе зря на такое место угадал. Он, конечно, тоже смолоду по рудникам да приискам околачивался. Ну, на смеху был.
Мужичище бык-быком, а рожа у него ровно нарошно придумана. Как свёкла краснёхонька, а по ней волосёшки белые кустичками. Ровно извёсткой наляпано по тем местам, где у людей волос растёт. И по голове эки же кустики прошли. За это и звали его Облезлым.
По-доброму-то пустяк это. Мало ли у человека какой изъян случится. Только Яшка шибко перед народом гордился. Дескать, я — приказный, а ты кто еси? Ну, Яшку и не любили. Да он ещё похвалялся перед руднишными.
— Меня, — кричит, — не проведёшь. Сдалека всяку вашу плутню разгляжу!
Даром что слепыш-слепышом. Еле мизюкал. Носом по чернилу водил, как писать случалось. Рудобои за эту похвальбу-то и стали звать его ещё Зорком. Нет-нет — и поддёрнут.
— Наш Зорко, небось, рукавицу с шапкой не смешат. На аршин в землю видит.
Кто-то возьми да и дунь это слово барыне Турчаниновой в ухо. Та, известно, заполошная, — схватилась:
— Где такой объявился?
Ей сказали, — в обмерщиках, дескать, на таком-то руднике.
Барыня призвала тут Яшку и спрашивает:
— Ты, верно, на аршин в землю видишь?
Яшке неохота перед барыней свою неустойку по глазам сказать, он и отвечает:
— Пониже наклонюсь, так всяк камешок разгляжу.
Барыня обрадовалась.
— Такого, — кричит, — мне и надо. Будешь главным щегарем на моей половине.
Яшке с малого-то ума это лестно.
— Рад, — отвечает, — стараться.
Барыня своё наказывает:
— Гляди, чтоб Саломирскову чего не донеслось, коли новое найдёшь!
Яшка, понятно, хвостом завилял.
— Будьте в спокое! Будьте в спокое! Которое я открою, то ни единой саломирсковской собачонке не унюхать!
Таким случаем, значит, и стал Яшка главным щегарем на Турчаниновской половине.
Сперва-то маленько побаивался. Нет-нет и притащит барыне мешочек с камешками с какого-нибудь старого рудника. Вот, дескать, какую штуку обыскал. Только у барыни один разговор:
— Гляди, как бы Саломирсковски про это не узнали. Вот суд кончится, тогда и покажешь это место.
Ну, а суд когда кончится! Яшка видит, — спокойное дело, вовсе осмелел Покатывается на лошадке в седёлышке по всей заводской даче — и всё. Рожу наел — как не лопнет, а глаза всё на прищур держит, будто надаля глядит. Какие знакомые руднишные встречаются, завсегда Яшке кукишку покажут, а сами наговаривают:
— Наше почтенье Яков Иванычу! Всю, поди, дачу вызнал, — эдак-то далёко глядишь!
Яшка, конечно, нос кверху. Пятнышки свои на губах погладит да и говорит:
— Вкруте эко дело не поворотишь. Знаете, поди-ко, меня, — пустяком займоваться не стану!
Рудобои тут и примутся для смеху Яшке места сказывать:
— Поглядел бы ты по Габеевке. На пятой версте. Мне дедушко сказывал.
Другой опять на Берёзовый увал приметки говорит. Ну, разное… Кто куда придумает.
Яшка тоже, как вытный, порядок ведёт. Вовсе будто к этому безо внимания, а сам, глядишь, и начнёт поезживать по тем местам. Руднишным это и забавно.
Раз в таком-то разговоре один рудобой и говорит:
— Что всамделе, ребята, вы к Якову Иванычу с пустяком липнете. Ему богатство открыть всё едино, что нам с вами плюнуть. Женится вот на вдове Шаврихе да укажет она ему мужеву ямку с малахитом, — только и всего. Будет тогда на нашей половине медный рудник, почище полевских Гумёшек. Яковлевским его, поди, звать будут, а то, может, Зорковским? Как тебе больше глянется, Яков Иваныч?
Яшка, как ему в обычае, будто и не приметил разговору, а сам думает:
— Верно. Был слушок, что покойный Шаврин где-то ямку с малахитом имел. Может, и впрямь вдова про это знает.
Яшка, видишь, в годах был, а неженатый. Девки его обегали, он и ладил жениться на какой ни на есть вдове. К Шаврихе-то он шибко приглядывался. Совсем дело к свадьбе шло, да как раз барыня Яшку главным щегарем назначила. Ему и низко показалось на вдове из бедного житья жениться. Сразу дорожку в ту улицу забыл, где эта Шавриха жила. Года два, а то и больше, не бывал, а тут, значит, и вспомнил. Стал на лошадке подъезжать. Дескать, знай наших! Не кто-нибудь, а главный щегарь!
У вдовы к той поре дочь Устя поспела. Самые ей те годы, как замуж отдают. Яшка слепыш-слепыш, а тоже разглядел эту деваху и давай удочки под этот бережок закидывать. Мать видит, какой поворот вышел, — не супорствует этому. Ещё и радуется.
— Вишь, дескать, Усте счастье какое! Глядишь, — и я за Яков Иванычевой спиной в покое проживу, никто тревожить не станет. Вон он какой начальник! Пешком-то и ходить забыл. Всё на лошадке да на лошадке.
У Шаврихи тоже своя причинка была. Мужик-от у ней, покойна головушка, самостоятельного характеру был. Кремешок. Из-за этого, сказывают, и в доски ушёл. Он, видишь, малахитом занимался, и слушок шёл, будто свою ямку имел где-то вовсе близко от заводу. Ну, барские нюхалки и подкарауливали. Один раз чуть не поймали, да Шаврин ухитрился — в болоте отсиделся. Тут нездоровье и получил. А как умер, жену и стали теснить.
— Сказывай, где малахитовая ямка!
Шавриха — женщина смирная, про мужевы дела, может, вовсе не знала— что она скажет? Говорит по совести, а на неё пуще того наступают:
— Сказывай, такая-сякая!
Пригрожали всяко, улещали тоже, в каталажку садили, плетями били. Одним словом, мытарили. Еле она отбилась. С той поры она и стала шибко бояться всяких барских ухачей.
Устя у той вдовы, как говорится, ни в мать, ни в отца издалась.
Ровно с утра до ночи девка в работе, одежонка у ней сиротская, а всё с песней. Веселее этой девки по заводу нет. На гулянках первое запевало. Так её и звали — Устья-Соловьишна. Плясать тоже — редкий ей в пару сгодится. И пошутить мастерица была, а насчёт чего протчего — это не допускала. В строгости себя держала. Одним словом, живой цветик, утеха.
За такой девкой и при бедном житье женихи табунятся, а тут нако — выкатил млад ясен месяц на буланом мерине — Яшка Зорко Облезлый!
Устенька, конечно, сразу хотела отворотить ему оглобли — на смех его подняла. Только Яшка на это шибко простой. Ему, как говорится, плюнь в глаза, а он утрётся да скажет: божья роса.
Устюха всё-таки не унывает.
— Подожди, — думает, — устрою я тебе штуку. Другой раз не поманит ко мне ездить.
Узнала, когда Яшка будет, спровадила куда-то мать, нагнала полную избу подружек да и пристроила около порогу верёвку. Как Яшке в избу заходить, Устя натянула верёвку, он и чебурахнулся носом в пол, аж посуда на середе забренчала. Подружки смеху до потолка подняли, а Яшку не проняло. Поднялся да и говорит.
— Не обессудьте, девушки, не доглядел вашей шутки. Привык, вишь, на-даля глядеть, под ногами-то не заметил.
Что вот с таким сделаешь?
Другой раз Устенька шиповых колючек под седло яшкину мерину насовала. Мерин хоть вовсе смирный был, а тут с дичал, — сбросил Яшку башкой на чьи-то ворота. Только Яшке хоть бы что.
Подружки Устины вовсе приуныли.
— Как ты, Устенька, отобьёшься! Стыда у Яшки ни капельки, а башка — чугунная. Гляди-ко, чуть ворота не проломил, а хоть бы что.
И Устенька тоже пригорюнилась.
Тут парни забеспокоились, как бы девку из беды вызволить. Первым делом, конечно, подкараулили Яшку в тихом месте да и отмутузили. Кулаков, понятно, не жалели. Только Яшка и тут отлежался, а народу большое беспокойство вышло.
Бары хоть друг дружке не на глаза, а при таком случае, небось, в одну дуду задудели.
— Немедля разыскать, кто смел приказного бить! Эдак-то разохотятся, так — чего доброго, — и барам неспокойно будет!
Занюхтили барские собачонки с обеих сторон. Виноватых, конечно, не нашли, а многим, кто на заметке у начальства был, пришлось спину показывать. На Саломирсковской стороне палками тогда хлестали, а на Турчаниновской — плетью. Которое слаще — им бы самим отведать.
Много народу отхлестали, а одному чернявому парню, — забыл его прозванье, — так ему с обеих сторон насыпали. Виноватее всех почто-то оказался.
Зато Яшка вовсе нос задрал. Барыня, вишь, придумала, что на Яшку озлобились за работу на барскую руку. Ну, хвалит, понятно, потом спрашивает:
— Не надо ли тебе чего?
Яшка не будь плох и говорит:
— Жениться хочу. На девахе из вашего владения. Шаврихи-вдовы дочь — Устинья.
— Это можно. — И велела Шавриху позвать. Та прибежала, объясняет барыне — дескать, сама-то всей душой, да деваха супротивничает.
— Старый, — говорит, — да облезлый.
Барыня завизжала, заухала:
— Да как она смеет! Её ли дело разбирать, кого в мужья дадут! Чтоб завтра же под венец!
По счастью, пост случился. По церковному правилу венчать нельзя. Осечка у барыни вышла.
Призвала всё-таки попа и говорит:
— Как можно станет, сейчас же окрути эту девку! Без поблажки, смотри!
Наказала так-то и укатила в Щербаковку жеребцов гонять.
Пришла Шавриха домой, объявила Усте барынину волю, а Устя ничего.
— Ладно, — говорит.
Задушевные подружки прибежали, болезнуют:
— Приходится, видно, за облезлого выходить.
Устя им отвечает:
— Что поделаешь! И с облезлыми люди живут.
Подивились подружки, — что с девкой сделалось! — убежали. Тут и сам женишок прикатил, а Устя его всяко привечает. Яшка и обрадовался:
«Поняла, знать, девка своё счастье. Теперь уж малахитовая яма моя будет».
Только подумал, Устюха и говорит ему навстречу:
— Спрашивают меня люди, не знаю ли про отцовскую малахитовую ямку, да я не сказываю.
Яшка башкой заболтал:
— Так и надо! Так и надо! Никому не сказывай! Мне только укажи!
— Тебе-то, — отвечает Устенька, — и подавно боюсь сказать. Ещё откажешься тогда от меня. Засмеют меня люди.
Яшка заклялся-забожился:
— Никогда не откажусь! И барыня так велела. Разве можно против барынина приказу итти?
Устенька ещё помялась маленько да и говорит:
— Страшное это дело, Яков Иваныч! Как бы худа тебе не вышло.
Яшка расхрабрился:
— Никого не боюсь. Укажи место!
— То-то и есть, — отвечает Устенька, — что место, где богатство открывается, никому неизвестно. А могу я сказать, в которое время и где голос слушать.
— Какой, — спрашивает, — голос?
— А тот, который богатство-то указывает.
Тут Устенька и рассказала:
— Покойный тятенька так мне про это сказывал. Есть, дескать, близ Климинского рудника берёза приметная. Всю её губой-слезомойкой изъело, она и согнулась дугой. Только три прута здоровых остались, как три тычка по дуге поставлены.
Вот под этой берёзой надо стать ночью как раз в эту пору, когда травы наливаются. От Андрея Наливы до Иванова дня. В руках надо держать веник — банный опарыш и стоять крепко, не ворочаться, не оглядываться.
Тут и услышишь голос женский, — песню поёт. Потом этот голос тебя спросит, кто ты такой да зачем пришёл. А как ты скажешь, полетят в тебя камни да песок, а голос опять спросит:
— Которое тебе надо?
Ты, как узнаешь на руку, что тебе надобно, так и кричи скорее:
— Вот это.
Голос тебе и укажет место. А там уже дело простое. Потяни в этом месте за траву, — и откроется тебе западёнка, как ход в гору, а там этого песку либо руды, сколько хочешь, хоть возами греби.
Только под берёзу надо пешком итти. На лошади поедешь — ничего не услышишь. И банный опарыш, смотри, из рук не выпускай! Да коли какой камешок в тебя угодит, потерпи как-нибудь, не закричи!
Выслушал Яшка этот разговор и в тот же день уехал берёзу искать. Нашёл ловко. Все приметы сошлись.
Вечером взял Яшка мешок, спрятал в него банный опарыш да и пошёл на примеченное место.
Ночью в лесу, хоть и летом, одному без огонька скучненько. Ну Яшка об этом не думал, спозаранку считал, сколько ему из богатства урвать достанется. Стоит, как пень, — не пошевельнётся и банный опарыш в руках держит.
Как вовсе глухая ночь настала, слышит, — голос женский запел. Тихонько и где-то совсем близко. Песня незнакомая. Яшка только и разобрал:
«Милый друг, ясны глазыньки».
Потом голос спрашивает:
— Ты, молодец, кто такой будешь и зачем пришёл?
Яшка назвал-звеличал себя да и объясняет:
— Малахитовой руды доступить желаю.
— А ты, — спрашивает голос, — женатый али холостой?
— Холостой, — говорит Яшка.
— То-то! Женатым я не пособляю! — говорит голос. Потом опять спрашивает:
— Ты камнерез али рудобой?
— Я главный щегарь!
— Вон что! — вроде как удивилась та женщина. — Тебе, значит, всякой породы камни подойдут? Получай, нето, да выбирай, какое любее!
Тут посыпались в Яшку камни да песок. До того порно бьют, что едва на ногах Яшка держится, даром что мужик здоровенный. Не до того ему, чтобы породу выбирать, да и где такому в потёмках на руку понять камень. Одна плитка садчее других пришлась. Яшка ухватил её да и кричит недоладом:
— Эта вот самая! Эта!
Тогда женщина и говорит:
— Ладно. Приходи завтра в это же время к Карасьей горе. Там скажу тебе, что надо. — И объяснила, в котором месте дожидаться. После этого голоса не стало.
Яшка постоял ещё сколько-то, потом давай по земле руками шарить, камни подбирать. Полон мешок нагрёб и поволок его домой, как светать стало. Еле доволок, даром что чуть не половина камней по дороге через дырки в мешке высыпалась. Яшка и не заметил. Говорит ещё:
— Вишь, как утряслось!
Стал дома камни разглядывать. Разное оказалось. Котора руда железная, которое — просто галька. Ну, и малахит есть. Та плитка, которую Яшка сперва ухватил и за пазуху спрятал, тоже малахитовая оказалась. Да и малахит-то поделочный, самого высокого сорту.
Обрадовался Яшка, про синяки и раны свои сразу забыл.
— Как бы думает, не сорвалось! Что это она про женатых говорила? Ладно ли, что я жениться собираюсь?
Раздумывать Яшке всё-таки не время. Засветло надо сперва оглядеться, а Карасья гора не близкое место. Запрятал мешок с породой, поел да и поехал. Того и не думает, что за ним подглядывают.
Утром-то, как Яшка под мешком кряхтел, его видели саломирсковски прислужники и камешок — один или два — подобрали. У собачонок, известно, завычка, — как бы друг дружку подкусить. Сейчас же, значит, эти камешки своему барину представили:
— Вот-де, с чем турчаниновский щегарь по городской дороге шёл, а наш щегарь куда глядит?
Барин, как ему втолковали, чем эти камешки пахнут, не хуже жеребца на дыбы поднялся. Своему-то щегарю Санку Масличку малахитиной в зубы:
— Погложи-ко!
Санко завертелся:
— Буду стараться.
У барина свой разговор:
— Три дня сроку! Коли не узнаешь, из-под палок не встанешь!
Тут Масличко и заповорачивался. Первым делом погнал по городской дороге, — не оставил ли Яшка ещё следочка, а дружкам своим наказал:
— Глядите за Яшкой!
На городской дороге ничего не нашёл. Приехал домой, дружки и сказывают, — туда-то Яшка проехал. Масличко в ту же сторону кинулся да и подкараулил Яшку, а тот сослепу и не приметил.
К вечеру Яшка опять захватил мешок с банным опарышем да и зашагал к Карасьей горе, а Масличко за ним крадётся.
Добрался Яшка до большого камня и тут остановился. Достал что-то из мешка, перед носом держит, а сам стоит, не пошевелится. И Масличко недалеко от того места притаился.
Как ночь глухая наступила, близенько от Яшки на траве светлячок загорелся. За ним другой, третий, да и насыпало их. Как западёнку на траве обвели, и кольцо посерёдке. Только-только поднять, а тут женский голос и спрашивает:
— Это у тебя, молодец, на что банный опарыш!
Яшка, видно, вкруте не смекнул, как ответить, да и ляпнул:
— Невеста мне так велела.
Женщина вроде как осердилась:
— Как ты смел тогда ко мне являться! Сказано тебе — женатым не пособляв, а женихам и подавно!
Яшка тут и давай изворачиваться:
— Не сердись, сделай милость! Подневольный человек — что поделаешь! Барыня это мне велела. Сам-то я только о том и думаю, как бы от этой невесты отбиться.
— Вот, — отвечает женщина, — сперва отбейся, тогда и ко мне приходи! Только не на это место, а на Полевскую дорогу. Знаешь Григорьевский рудник? Вот там найди такую же берёзу, под какой первый раз стоял. Под этой берёзой и будет тебе западёнка. Поднимешь её за траву и бери, сколько окажется.
Замолчала женщина. Яшка постоял ещё, а, как светать стало, побежал домой. Ну, а Масличко остался. Хотел, видно, при свете то место хорошенько оглядеть.
Прибежал Яшка домой. Схватил мешок с камнями да айда-ко к барыне, в Щербаковку. Рассказал ей, вот-де штука какая выходит, и камни показал.
Барыня, как поняла, сейчас закричала.
— Не сметь у меня и заикаться о женитьбе! Надо о барской выгоде стараться, а не о пустяках думать! А попу да приказчику скажи, чтоб ту негодную девку обвенчали, как приказано. Пущай приказчик найдёт ей жениха да такого, чтоб хуже его не было!
Приехал Яшка домой, передал приказчику да попу барынин наказ насчёт Устеньки, а сам ко Григорьевскому руднику побежал. До ночи искал берёзу — не мог найти. На другой день тоже. Так и пошло. Ходит около рудника с утра до вечера. Про то и думать забыл, что Иванов день давно прошёл. Отстрадовали люди, к зиме дело пошло, а Яшка всё около рудника топчется, — кривую берёзу ищет. Берёзы реденько попадаются да всё прямые. Какая Яшке со-слепу кривой покажется, под той он до ночи стоит, а ночью примется траву драть. Начисто кругом опашет. Нет, не открывается западёнка.
Одним словом, ума решился. Вовсе дурак стал. Из-за жадности-то своей. Барыня, конечно, пробовала лечить Яшку плетями, — будто он богатство Саломирскову продал, — да тоже ничего не вышло. Так, сказывают, и замёрз Яшка на Григорьевском руднике, под берёзой.
А Санка Масличка у Карасьей горы мёртвого нашли. И стяжок берёзовый рядом оставлен. Стяжок ровно лёгонький, да рука, видать, тяжёлая пришлась. Может, Масличко близко к месту подошёл али ещё какая опаска от него вышла, — его, значит, и стукнули. А может, и за другое. Тоже ведь было за что.
Барин Саломирсков по этому случаю жалобу подал, — Турчаниновски моего главного щегаря убили и богатство спрятали. Турчаниновски опять наоборот, — Саломирсков нашего главного щегаря с ума свёл и богатство украл. Потом, конечно, на каждой половине других щегарей назначили, а наказ их всё тот же:
— Гляди у меня! Как бы другая половина чего не нашла!
Ну, те и давай стараться волчьим обычаем. Только о том и думают, как бы свой кусок ухранить, а чужой из зубов вырвать. Дорогие пески пустяком заваливают, в пустые пески золотом стреляют, породу где не надо подбрасывают и протча тако. Мало сказать, путают, — начисто нитки рвут.
Какому старателю посчастливит на новое место натакаться, того сейчас к приказчику волокут, а там один разговор:
— Зарой и забудь, а нето!.. Понял?
А как не поймёшь, коли дело бывалое? Чуть кто заартачится, того с семьёй на дальние прииска сгонят, а то и в солдаты сдадут либо вовсе с кондом в Сибирь упеткают. Ну, а кто не упирается, — тому стакан вина да рублёвка серебра. Просто понять-то.
Так вот и зарывали да забывали. Иное, поди, и вовсе зарыли да забыли. И не найдёшь!
Про травяную западёнку всё-таки разговор не заглох. Нет-нет да и пройдёт.
Ягодницы либо ещё кто видели… Вовсе на гладком покосном месте подъехал мужик на телеге. Потянул за траву, и открылась ему западёнка. Спустился он в эту западёнку и давай оттуда малахитовые камни таскать да на телегу складывать. Закрыл потом пологом и поехал потихоньку, и западёнки не стало.
Насчёт места только путают. Кто говорит — у городской дороги это было, где сперва малахитины-то нашли, кто у Григорьевского рудника, где Зорко замёрз.
Другие опять сказывают, что у Карасьей горы, близко от того места, где Масличка нашли. Одним словом, путанка. Крепконько, видно, ту западёнку травой затянуло…
А об Устеньке что сказать? Её, как Петровки прошли, замуж отдали. Приказчик вовсе и думать не стал, кого ей в мужья, сразу попу сказал:
— Виноватее такого-то у меня нет. Совсем от рук парень отбился. Кабы не хороший камнерез был, давно бы его под красную шапку поставил!
И указал попу на того чернявого парня, которого с двух-то сторон за Яшку хлестали.
Попу не всё едино, с кого деньги сорвать? Обвенчал, как указано, да Устенька и не супротивничала. Веселенько замуж выходила и потом, слышно, не каялась. До старости не покинула девичьей своей привычки. Где по заводу песня завелась, — так и знай — непременно тут Устя-Соловьишна.
С мужиком-то своим они складненько жили. Камнерез он у ней был и ребята по этому же делу пошли. Нынешний сысертский малахитчик Железко из этой же семьи. Устинье-то он нето внучком, нето правнучком приходится.
Кто вот слыхал про Соловьишну да Зорка, те и думают, что это Железко про травяную западёнку знает. Спрашивают у него, — скажи, дескать, в котором месте. Только Железко железко и есть: немного из него соку добудешь.
Подпоить сколько раз пробовали, — тоже не выходит. Железка-то, сказывают, поить, как песок поливать. Сами упарятся: ноги врозь, язык на губу, а Железко сухим-сухохонек да ещё посмеивается:
— Не сказать ли вам, друзья, побасёнку про травяную западёнку? В каком месте её искать, с которой стороны отворять, чтобы барам не видать?
Вот он какой — Устиньин-то внучек! Да и как его винить, коли у него дело такое. Ведь только обмолвись, — сейчас на том месте рудник разведут, а где камень на поделку брать? Железко, значит, и укрепился.
— Ищите сами!
Ну, найти не просто. Барским-то щегарям тут, видно, кто-то и с умом пособил следок запутать. С умом и разбирать надо. А по всему видать, есть она — травяная-то западёнка. Берут из неё люди по малости. Берут.
Вот кому из вас случится по тем местам у земляного богатства ходить, вы это и посмекайте. А на мой глаз, ровно ниточки-то больше к Карасьей горе клонят. У этой горы да Карасьего озера и поглядеть бы! А? Как, по-вашему?
1939 г.
Xрупкая веточка
Данилы с Катей, — это которая своего жениха у Хозяйки горы вызволила, — ребятишек многонько народилось. Восемь, слышь-ко, человек, и всё парнишечки. Мать-то не раз ревливала: хоть бы одна девчонка на поглядку. А отец, знай, похохатывает:
— Такое, видно, наше с тобой положенье.
Робятки здоровеньки росли. Только одному не посчастливилось. То ли с крылечка, то ли ещё откуда свалился и себя повредил: горбик у него расти стал. Бабушки правили, понятно, да толку не вышло. Так горбатенькому и пришлось на белом свете маяться.
Другие ребятишки, — я так замечал, — злые выходят при таком-то случае, а этот ничего — весёленький рос и на выдумки мастер. Он третьим в семье-то приходился, а все братья слушались его да спрашивали:
— Ты, Митя, как думаешь? — По-твоему, Митя, к чему это?
Отец с матерью и те частенько покрикивали:
— Митюшка! Погляди-ко! Ладно, на твой глаз?
— Митяйко, не приметил, куда я воробы поставила?
И то Митюньке далось, что отец смолоду ловко на рожке играл. Этот тоже пикульку смастерит, так она у него ровно сама песню выговаривает.
Данило по своему мастерству всё-таки зарабатывал ладно. Ну, и Катя без дела не сиживала. Вот, значит, и поднимали семью, — за куском в люди не ходили. И об одежонке ребячьей Катя заботилась. Чтоб всем справа была: пимёшки там, шубейки и протча. Летом-то, понятно, и босиком ладно: своя кожа, не куплена. А Митюньке, как он всех жальчее, и сапожнёшки были. Старшие братья этому не завидовали, а малые сами матери говорили:
— Мамонька, пора, поди, Мите новые сапоги заводить. Гляди — ему на ногу не лезут, а мне бы как раз пришлись.
Свою, видишь, ребячью хитрость имели, как бы поскорее Митины сапожнёшки себе пристроить. Так у них всё гладенько и катилось. Соседки издивовались прямо.
— Что это у Катерины за робята! Никогда у них и драчишки меж собой не случится.
А это всё Митюнька — главная причина. Он. в семье-то ровно огонёк в лесу: кого развеселит, кого обогреет, кого на думки наведёт.
К ремеслу своему Данило не допускал ребятишек до времени.
— Пускай, — говорит, — подрастут сперва. Успеют ещё малахитовой-то пыли наглотаться.
Катя тоже с мужем в полном согласье — рано ещё за ремесло садить. Да ещё придумали поучить ребятишек, чтоб, значит, читать-писать, цифру понимать. Школы по тогдашнему положению не было, и стали старшие-то братья бегать к какой-то мастерице. И Митюнька с ними. Те ребята понятливые, хвалила их мастерица, а этот вовсе на отличку. В те годы по-мудрёному учили, а он с лёту берёт. Не успеет мастерица показать — он обмозговал. Братья ещё склады толмили, а он уж читал, знай, слова лови. Мастерица не раз говаривала.
— Не бывало у меня такого выученика.
Тут отец с матерью возьми и погордись маленько: завели Митюньке сапожки поформеннее. Вот с этих сапожек у них полный переворот жизни и вышел.
В тот год, слышь-ко, барин на заводе жил. Пропикнул, видно, денежки в Сам-Петербурхе, вот и приехал на завод — не выскребу ли, дескать, ещё сколь-нибудь.
При таком-то деле, понятно, как денег не найти, ежели с умом распорядиться. Одни приказные да приказчик сколько воровали. Только барин вовсе в эту сторону и глядеть не умел.
Едет это он по улице и углядел — у одной избы трое робятишек играют, и все в сапогах. Барин им и маячит рукой-то, — идите сюда.
Митюньке хоть не приводилось до той поры барина видать, а признал, небось. Лошади, вишь, отменные, кучер по форме, коляска под лаком и седок гора-горой, жиром заплыл, еле ворочается, а перед брюхом палку держит с золотым набалдашником.
Митюнька оробел маленько, всё-таки ухватил братишек за руки и подвёл поближе к коляске, а барин хрипит:
— Чьи такие?
Митюнька, как старший, объясняет спокойненько:
— Камнереза Данилы сыновья. Я вот Митрий, а это мои братики малые.
Барин аж посинел от этого разговору, чуть не задохся, только пристаныват:
— Ох, ох! что делают! что делают! Ох, ох.
Потом, видно, провздыхался и заревел медведем:
— Это что? А? — А сам палкой-то на ноги ребятам показывает. Малые, понятно, испужались, к воротам кинулись, а Митюнька стоит и никак в толк взять не может, о чём его барин спрашивает.
Тот заладил своё, недоладом орёт:
— Это что?
Митюнька вовсе оробел да и говорит:
— Земля.
Барина тут как параличом хватило, захрипел вовсе:
— Хр-р, хр-р. До чего дошло! До чего дошло! Хр-р, хр-р.
Тут Данило сам из избы выбежал, только барин не стал с ним разговаривать, ткнул кучера набалдашником в шею — поезжай!
Этот барин не твёрдого ума был. Смолоду за ним такое замечалось, к старости и вовсе несамостоятельной стал. Напустится на человека, а потом и сам объяснить не умеет, что ему надо. Ну, Данило с Катериной и подумали — может, обойдётся дело, — забудет про ребятишек, пока домой доедет. Только не тут-то было: не забыл барин ребячьих сапожишек. Первым делом на приказчика насел.
— Ты куда глядишь? У барина башмаков купить не на что, а крепостные своих ребятишек в сапогах водят? Какой ты после этого приказчик?
Тот объясняет:
— Вашей, дескать, барской милостью Данило на оброк отпущен и сколько брать с него — тоже указано, а как платит он исправно, я и думал…
— А ты, — кричит, — не думай, а гляди в оба. Вон у него что завелось! Где это видано? Вчетверо ему оброк назначить.
Потом призвал Данилу и сам объяснил ему новый оброк.
Данило видит — вовсе несуразица и говорит:
— Из воли барской уйти не могу, а только оброк такой тоже платить не в силу. Буду работать, как другие, по вашему барскому приказу.
Барину, видать, это не по губе. Денег и без того нехватка, — не до каменной поделки. В пору и ту продать, коя от старых годов осталась. На другую какую работу камнереза поставить тоже не подходит. Ну, и давай рядиться. Сколько всё-таки ни отбивался Данила, оброк ему вдвое барин назначил, а не хошь — в гору. Вот куда загнулось!
Понятное дело, худо Данилу с Катей пришлось. Всех прижало, а робятам хуже всего: до возрасту за работу сели. Так и доучиться им не довелось. Митюнька — тот виноватее всех себя считал — сам так и лезет на работу. Помогать, дескать, отцу с матерью буду, а те опять своё думают:
— И так-то он у нас нездоровый, а посади его за малахит — вовсе изведётся. Потому — кругом в этом деле худо. Присадочный вар готовить— пыли не продохнёшь, щебёнку колотить — глаза береги, а олово крепкой водкой на полер разводить — парами задушит. Думали-думали и придумали отдать Митюньку по гранильному делу учиться.
Глаз, дескать, хваткий, пальцы гибкие и силы большой не надо — самая по нему работа.
Гранильщик, конечно, у них в родстве был. К нему и пристроили, а он рад-радёшенек, потому знал — парнишечко смышлёный и к работе не ленив. Гранильщик этот так себе средненький был, второй, а то и третьей цены камешок делал. Всё-таки Митюнька перенял от него, что тот умел. Потом этот мастер и говорит Данилу:
— Надо твоего парнишка в город отправить. Пущай там дойдёт до настоящей точки. Шибко рука у него ловкая.
Так и сделали. У Данилы в городе мало ли знакомства было по каменному-то делу. Нашёл кого надо и пристроил Митюньку. Попал он тут к старому мастеру по каменной ягоде. Мода, видишь, была из камней ягоды делать. Виноград там, смородину, малину и протча. И на всё установ имелся. Чёрну, скажем, смородину из агату делали, белу — из дурмашков, клубнику — из сургучной яшмы, княженику — из мелких шерловых шаричков клеили. Одним словом, всякой ягоде свой камень. Для корешков да листочков тоже свой порядок был: кое из офата, кое из малахита либо из орлеца и там ещё из какого-нибудь камня.
Митюнька весь этот установ перенять перенял, а нет-нет и придумает по-своему. Мастер сперва ворчал, потом похваливать стал:
— Пожалуй, так-то живее выходит.
Напоследок прямо объявил:
— Гляжу, я, парень, шибко большое твоё дарование к этому делу. Впору мне, старику, у тебя учиться. Вовсе ты мастером стал да ещё с выдумкой.
Потом помолчал маленько да и наказывает:
— Только ты, гляди, ходу ей не давай! Выдумке-то! Как бы за неё руки не отбили. Бывали такие случаи.
Митюнька, известно, молодой — безо внимания к этому. Ещё посмеивается:
— Была бы выдумка хорошая. Кто за неё руки отбивать станет?
Так вот и стал Митюха мастером, а ещё вовсе молодой: только-только ус пробиваться стал. По заказам он не скучал, всегда у него работы полно. Лавочники по каменному делу смекнули живо, что от этого парня большим барышом пахнет, — один перед другим заказы ему дают, успевай только. Митюха тут и придумал:
— Пойду-ко я домой. Коли мою работу надо, так меня и дома найдут. Дорога недалёкая, и груз не велик — материал привезти да поделку забрать.
Так и сделал. Семейные обрадовались, понятно: — Митя пришёл. Он тоже повеселить всех желает, а самому не сладко. Дома-то чуть не цельная малахитовая мастерская стала. Отец и двое старших братьев за станками в малухе сидят и младшие братья тут же: кто на распиловке, кто на шлифовке. У матери на руках долгожданная девчушка-годовушка трепещется, а радости в семье нет. Данило уж вовсе стариком глядит, старшие братья покашливают, да и на малых смотреть невесело. Бьются-бьются, а всё в барский оброк уходит.
Митюха тут и заподумывал: всё, дескать, из-за тех сапожнёшек вышло.
Давай скорее своё дело налаживать. Оно хоть мелкое, а станков к нему не один, струментишко тоже требуется. Мелочь всё, а место и ей надо.
Пристроился в избе против окошка и припал к работе, а про себя думает:
— Как бы добиться, чтоб из здешнего камня ягоды точить. Тогда и младших братишек можно было бы к этому делу пристроить. — Думает-думает, а пути не видит. В наших краях, известно, хризолит да малахит больше попадаются. Хризолит тоже дёшево не добудешь, да и не подходит он, а малахит только на листочки и то не во все годится: оправки либо подклейки требует.
Вот раз сидит за работой. Окошко перед станком по летнему времени открыто. В избе никого больше нет. Мать по своим делам куда-то ушла, малыши разбежались, отец со старшими в малухе сидят. Не слышно их. Известно, над малахитом-то песни не запоёшь и на разговор не тянет.
Сидит Митюха, обтачивает свои ягоды из купецкого материала, а сам всё о том же думает:
— Из какого бы вовсе дешёвого здешнего камня такую же поделку гнать?
Вдруг просунулась в окошко какая-то не то женская, не то девичья рука, — с кольцом на пальце и в зарукавье, — и ставит прямо на станок Митюньке большую плитку змеевика, а на ней, как на подносе, соковина дорожная.
Кинулся Митюха к окошку — нет никого, улица пустёхонька, ровно никто и не прохаживал.
Что такое? Шутки кто шутит али наваждение какое? Оглядел плитку да соковину и чуть не заскакал от радости: такого материала возами вози, и сделать из него, видать, можно, если со сноровкой выбрать да постараться. Что только?
Стал тут смекать, какая ягода больше подойдёт, а сам на то место уставился, где рука-то была. И вот опять она появилась и кладёт на станок репейный листок, а на нём три ягодных веточки: черёмуховая, вишнёвая и спелого-спелого крыжовника.
Тут Митюха не удержался, на улицу выбежал дознаться, кто это над ним шутки строит. Оглядел всё— никого, как вымерло. Время — самая жарынь. Кому в эту пору на улице быть?
Постоял-постоял, подошёл к окошечку, взял со станка листок с веточками и разглядывать стал. Ягоды настоящие, живые, только то диво — откуда вишня взялась. С черёмухой просто, крыжовнику тоже в господском саду довольно, а эта откуда, коли в наших краях такая ягода не растёт, а будто сейчас сорвана?
Полюбовался так на вишни, а всё-таки крыжовник ему милее пришёлся и к матерьялу ровно больше подходит. Только подумал — рука-то его по плечу и погладила:
— Молодец, — дескать, — понимаешь дело!
Тут уж слепому ясно, чья это рука. Митюха в Полевой вырос, сколько-нибудь раз слыхал про Хозяйку горы. Вот он и подумал — хоть бы сама показалась. Ну, не вышло. Пожалела, видно, горбатенького парня растревожить своей красотой — не показалась.
Занялся тут Митюха соком да змеевиком. Немало перебрал. Ну, выбрал, и сделал со смекалкой. Попотел. Ягодки-то крыжовника сперва половинками обточил, потом внутре-то выемки наладил да ещё, где надо, желобочки прошёл, где опять узелочки оставил, склеил половинки да тогда их начисто и обточил. Живая ягодка-то вышла. Листочки тоже тонко из змеёвки выточил, а на корешок ухитрился колючки тонёхонькие пристроить. Одним словом, сортовая работа. В каждой ягодке ровно зёрнышки видно и листочки живые, даже маленько с изъянами: на одном дырки жучком будто проколоты, на другом опять ржавые пятнышки пришлись. Ну, как есть настоящие.
Данило с сыновьями хоть по другому камню работали, а тоже в этом деле понимали. И мать по камню рабатывала. Все налюбоваться не могут на Митюхину работу. И то им диво, что из простого змеевика да дорожного соку такая штука вышла. Мите и самому любо. Ну, как — работа! Тонкость. Ежели кто понимает, конечно.
Из соку да змеевику Митя много потом делал. Семье-то шибко помог. Купцы, видишь, не обегали этой поделки, как за настоящий камень платили, и покупатель в первую голову Митюхину работу выхватывал, потому — на отличку. Митюха, значит, и гнал ягоду. И черёмуху делал, и вишню, и спелый крыжовник, а первую веточку не продавал — себе оставил. Посыкался отдать девчонке одной, да всё сумленье брало.
Девчонки, видишь, не отворачивались от Митюхина окошка. Он хоть горбатенький, а парень с разговором да выдумкой и ремесло у него занятное, и не скупой: шаричков для бусок, бывало, горстью давал. Ну, девчонки нет-нет и подбегут, а у этой чаще всех заделье находилось перед окошком — зубами поблестеть, косой поиграть. Митюха и хотел отдать ей свою веточку, да всё боялся:
— Еще на смех девчонку поднимут, а то и сама за обиду почтёт.
А тот барин, из-за которого поворот жизни случился, всё ещё на земле пыхтел да отдувался. В том году он дочь свою просватал за какого-то там князя ли купца и придано ей собирал. Полевской приказчик и вздумал подслужиться. Митину-то веточку он видал и тоже, видно, понял, какая это штука. Вот и послал своих охлёстов с наказом:
— Если отдавать не будет, отберите силой.
Тем что? Дело привычное. Отобрали у Мити веточку, принесли, а приказчик её в бархатну коробушечку. Как барин приехал в Полевую, приказчик сейчас:
— Получите, сделайте милость, подарочек для невесты. Подходящая штучка.
Барин поглядел, тоже похвалил сперва-то, потом и спрашивает:
— Из каких камней делано и сколько камни стоят?
Приказчик и отвечает:
— То и удивительно, что из самого простого материалу: из змеевику да шлаку.
Тут барин сразу задохся:
— Что? Как? Из шлаку? Моей дочери?
Приказчик видит— неладно выходит, на мастера всё поворотил:
— Это он, шельмец, мне подсунул, да еще насказал четвергов с неделю, а то бы разве я посмел.
Барин, знай, хрипит:
— Мастера тащи! Тащи мастера!
Приволокли, понятно, Митюху, и, понимаешь, узнал ведь его барин.
— Это тот… в сапогах-то который…
С палкой на Митюху кинулся.
— Как ты смел?
Митюха сперва и понять не может, потом раскумекал и прямо говорит:
— Приказчик у меня силом отобрал, пускай он и отвечает.
Только с барином какой разговор, всё своё хрипит:
— Я тебе покажу…
Потом схватил со стола веточку, хлоп её на пол и давай-ко топтать. В пыль, понятно, раздавил.
Тут уж Митюху за живое взяло, затрясло даже. Оно и то сказать, — кому полюбится, коли твою дорогую выдумку диким мясом раздавят.
Митюха схватил баринову палку за тонкий конец да как хряснет набалдашником по лбу, так барин на пол и сел и глаза выкатил.
И вот диво — в комнате приказчик был и прислужников сколько хочешь, а все как окаменели, — Митюха вышел и куда-то девался. Так и найти не могли, а поделку его и потом люди видали. Кто понимающий, те узнавали её.
И ещё заметочка вышла. Та девчонка, которая зубы-то мыла перед Митюхиным окошком, тоже потерялася, и тоже с концом.
Долго искали эту девчонку. Видно, рассудили по-своему-то, что ее найти легче, потому — далёко женщина от своих мест уходить не привычна. На родителей её наступали:
— Указывай место!
А толку всё-таки не добились.
Данилу с сыновьями прижимали, конечно, да, видно, оброку большого пожалели, — отступили? А барин ещё сколько-то задыхался, всё-таки вскорости его жиром задавило.
1940 г.
Ермаковы лебеди
ак говоришь, из донских казаков Ермак был? Приплыл в наши края и сразу в сибирскую сторону дорогу нашёл? Куда никто из наших не бывал, туда со своим войском по рекам проплыл?
Ловко бы так-то! Сел на Каме, попотел на вёслах да и выбрался на Туру, а там гуляй по сибирским рекам, куда тебе любо. По Иртышу-то, вон, сказывают, до самого Китаю плыви — не тряхнёт!
На словах-то вовсе легко, а попробуй на деле — не то запоёшь! До первого разводья доплыл, тут тебе и спотычка. Столбов не поставлено и на воде не написано: то ли тут протока, то ли старица подошла, то ли другая река выпала. Вот и гадай, — направо плыть али налево правиться? У куличков береговых, небось, не спросишь и по солнышку не смекнёшь, потому — у всякой реки свои петли да загибы, и никак их не угадаешь.
Нет, друг, не думай, что по воде дорожка гладкая. На деле по незнакомой реке плыть похитрее будет, чем по самому дикому лесу пробираться.
Главная причина — приметок нет, да и не сам идёшь, а река тебя ведёт. Коли ты вперёд её пути не узнал, так только себя и других намаешь, а можешь и вовсе с головами загубить.
Это по нынешним временам так-то, а в Ермакову пору и того мудренее было. Тогда, поди-ко, не то что в Сибири, а и по нашим местам ни единого русского человека не жило. Из здешних рек одну Каму знали да Чусовую маленько, а про Туру да Иртыш слыхом не слыхали. Вот и рассуди, как при таком положении заезжий человек пути-дороги по рекам разберёт. Листов-то, на коих всяка речка-горочка обозначены, тогда и в помине не было, и вожака не найдёшь, потому — никто из наших в той стороне не бывал.
Нет, брат, зряшный твой разговор выходит! Чусовские старики об этом складнее сказывают.
Так будто дело-то было.
Когда ещё по нашим местам ни одного города, ни одного завода либо села русского не было, у Строгановых на Чусовой реке сельцо было поставлено. Сельцо малое, а городом называлось, потому — крепко было огорожено. Канавы кругом, вал земляной, а по валу тын из высоких брёвен-стояков. С двух сторон ворота надёжные поставлены, да ещё башни срублены. На случай чтоб оттуда стрелять либо камнями бросать, а то и кипятком поливать, коли кто непрошеный ломиться станет. И ратные люди в этом Чусовском городке жили. Ну, и крестьяне тоже.
В тем числе был Тимофей Алёнин. По доброй воле он туда пришёл али ссылкой попал — это сказать не умею, только жил семейно И было у него, ровно в сказке, три сына, только дурака ни одного. Все ребята ладные да разумные, а младший Васютка из всех на отличку. И лицом пригож, и речами боек, и силёнкой не по годам вышел.
Хоть говорится, что атаманами люди не родятся, а всё-таки смолоду угадать можно, кому потом кашу варить, кому передом ходить.
Своей-то ровней этот Васютка с малых лет верховодил, а любимая забава у него была в развед ходить.
У ворот-то, дескать, стоять — не много увидишь, вот он и сбил из своих ровесников ватажку копейщиков с саженными, значит, палками. Караульным при воротах, конечно, сказано было, чтобы одних мальцов без большого за городской тын не выпускать, только этот Васютка нашёл дорогу. Он что придумал? Подойдёт к тыну с верёвкой, прислонит свою палку-копьё к стене, захлестнёт верхушку столба петлей, взлепится по узлам верёвки на тын, перекинет первым делом своё копьё на другую сторону, спустится туда же сам и палкой петлю снимет да и покрикивает:
— Ну, кто так же!
Кому из ребят это сделать не под силу, того сейчас же из игры долой.
— Нам таких копейщиков со слабиной не надо!
За такую игру Васютке да и другим ребятам не раз доставалось от больших, да только ребятам всё неймётся. Нет-нет — и утянутся за городской тын.
Вот раз убрались в лес далеконько да и потеряли друг дружку из виду. Кто побоязливее, те сразу крик подняли и живо сбежались. Одного Васютки нет. Что делать? Хотели сперва домой бежать, да постыдились: как мы своего вожака оставим.
Стоят, значит, у какой-то речки да кричат, сколько голосу есть. Потом насмелились, вверх по речке пошли, а сами, знай, свистят да ухают.
А с Васюткой такой случай вышел. Он по этой же речке вверх далеко зашёл. Вдруг слышит — шум какой-то. Васютка хотел поворотиться, да спохватился:
— Так-то меня скорее услышат.
Он и прижался в кустах. Сидит, слушает. Шум близко, а понять не может, кто шумит. Васютка тогда взмостился потихоньку на сосну, огляделся и увидал… Выше-то речка надвое расходится. Островок тут пришёлся. Островок высоконький, полой водой его не зальёт. Поближе к воде таловый куст, а из него лебедь шею вытянул да и шипит по-гусиному, вроде как сердится. По речке, прямо к тому месту, медведь шлёпает. Мокрёхонек весь. Башкой мотает, а сам рычит, огрызается. На него другой лебедь налетает, крыльями бьёт, клювом сналёту долбит. Лебедь, конечно, птица большая. Крылья распахнет, так шире сажени. Понимай, какая в них сила! И ноготок на носу, хоть красный, а не из клюквы. Долбанёт им, так медведь завизжит, завертится, как собака. Ну, всё-таки где же лебедю с медведем сладить? Изловчился Мишка, загрёб лебедя лапами, и только перья по речке поплыли. Тут другой лебедь с гнезда снялся и тоже на медведя налетел. Только медведь и этому голову свернул и поволок на бережок, а сам ревёт, будто жалуется, — вот как меня лебеди отделали! И лапой по глазам трёт.
Вытащил убитого лебедя на травку береговую, почавкал маленько, да не до того, видно, ему. Нет-нет, и начнёт возить лапой под глазами. Потом что-то насторожился, уши поднял и морду вытянул. Постоял так-то, затряс башкой.
— Фу ты, пакость какая!
Забросал лебедя сушняком, прихлопнул ворох лапой да в лес. Только сучья затрещали.
Как стихло, Васютка слез с дерева и пошёл ко гнезду, — что там? Оказались лебединые яйца. Они на гусиные походят, только много больше и позеленее кажутся. Пощупал рукой, — они вовсе тёплые, нисколько не остудились.
Васютке жалко лебедей-то, он и подумал:
— А что если эти яички под бабушкину гусишку подсунуть? Выведутся, поди-ко. Как бы только их в целости донести да не остудить?
Вытряхнул из своего мешка хлеб, надрал сухого моху, набил им мешок да туда и пристроил три яичка. Больше-то взять побоялся, как бы не разбить. И то подумал, — много-то взять, бабушка скорее заметит.
Устроил всё да и пошёл вниз по реке. Про то и не подумал, что заблудился. Знает, что речка к Чусовой выведет. Подошёл маленько, слышит — ребята кричат да свистят! Тут Васютка и догадался, почему медведь убежал. Известно, зверь и ухом, и носом дальше нашего чует, и человечьего голосу не любит. Услышал, видно, ребят-то да и убежал.
Откликнулся Васютка на ребячьи голоса. Скоро все сошлись, и Васютка рассказал ребятам, что с ним случилось. Ребята как услышали про медведя, так и заоглядывались, — вдруг выскочит, — поскорей зашагали к дому. В другой раз Васютка настыдил бы за это своих копейщиков, а тут не до того ему. Об одном забота — как бы в сохранности свою ношу донести.
У Васютки матери в живых давно не было. Всем хозяйством правила баушка Ульяна. Старуха строгая, поблажки внучатам не давала да и на отца частенько поварчивала.
Первым делом на Васютку накинулась: где шатался? Ну, он отговорился.
— За мохом в лес ходил. Угол у конюшенки законопатить. Помнишь, сама тяте говорила, да он всё забывает. Я вот и притащил полный мешок. Только мокрый мох-то, подсушить его надо на печке.
И сейчас же на печь залез.
Баушка ещё поворчала маленько, спросила, с кем ходил да почему не сказался, потом и наказывает:
— Ты потоньше расстели! По всей печке!
Васютке того и надо. Забился подальше на печь, вытащил лебединые яички, завернул их в тряпки, положил на самое тёплое место, а мох по всей печке раструсил.
Как темно стало, шапку зимнюю надел, взял яички и полез к гусишке, которая на гнезде сидела. Та, понятно, беспокоится, клюёт Васютку в голову, в руки, а он своё делает. Вытащил из гнезда три гусиных яйца и подложил лебединые.
Гусишка и на другой день беспокоилась, перекатывала лапами яйца, а всё-таки чужие не выбросила. Баушка подходила поглядеть, да тоже не разглядела, подивилась только:
— Какие-то яйца неровные. Которые больше, которые меньше! К чему бы это?
Васютка, знай, помалкивает, а чтоб улики не было, он вытащенные из гнезда яйца за городской тын выбросил.
Так оно и прошло незаметно. В одном не сошлось: гусиные яйца ещё ничем-ничего, а лебедята уж проклюнулись, запопискивали. Баушка Ульяна всполошилась:
— Что за штука? До времени гусята вылупились! Беспременно это к мору либо к войне!
Гусь этих новых детей к себе не подпускает, и гусишка, как виноватая, ходит, а всё-таки лебедят не бросила. Зато Васютка больше всех старается. Прямо не отходит, поит их, кормит во-время. Баушка, на что строгая, и та похвалила Васютку перед старшими братьями.
— Вы, лбы, учились бы у малого, как баушке пособлять! Гляди-ко, вон он и моху притащил и за гусятами ходит, а вы что? Из чашки ложкой только и есть вашей работы!
Братья знали, в чём штука, посмеиваются:
— Осенью, баушка, по-другому не заговори!
Баушка пуще того сердится, ухватом грозится, — уходи, значит, а не то попадёт.
К осени, и верно, обозначилось, что у Алёниных лебеди растут. Соседки подсмеиваются над баушкой Ульяной: не доглядела, вырастила лебедей, а куда их, коли колоть за грех считалось. Баушка — старуха нравная, ей неохота свою оплошку на людях показать, она и говорит:
— Нарочно так сделала. Принёс внучонок лебединые яйца, вот и захотела узнать, улетят лебеди али нет, если гусишка их выведет.
На Васютку всё-таки косо запоглядывала:
— Вон ты какой! Ещё от земли невысоко поднялся, а какие штуки вытворять придумал!
У Васютки своё горе. Два-то лебедёнка стали каждый день драться. Прямо насмерть бьются, и не подходи — сшибут, не заметят. А третий лебедёнок в драку никогда не ввязывается, в сторонке ходит.
Кто-то из больших и объяснил Васютке:
— Это, беспременно, лебёдка, а те, видно, лебеди. Пока один другого совсем не отгонит, всегда у них драка будет. Как бы насмерть друг дружку не забили!
Баушка, на эту драку глядючи, вовсе взъедаться на Васютку стала, а он и так сам не свой, не придумает, как быть? Кончилось всё-таки тем, что один лебедёнок с реки не вернулся. Остались двое, — и драки не стало.
Утихомирилось ровно дело, а баушка Ульяна пуще того взъедаться стала. Видишь, дело к зиме пошло, она и думает, сколько корму этой птице понадобится, а толку от неё никакого, если колоть нельзя. Ну, баушка и давай лебедей отгонять. С метлой да палками за ними бегает. Лебеди тоже её невзлюбили: не тот, так другой налетит, с ног собьет да ещё клювом стукнет.
Тут старуха и говорит сыну решительно:
— Что хочешь, Тимофей, делай, а убирай эту птицу со двора, не то сама уйду, — нравься, как знаешь, с хозяйством!
Васютка видит, — вовсе плохое дело выходит, приуныл. Дай, думает, хоть заметочку какую-нибудь сделаю: может, когда и увижу своих лебедей. Взял и привязал на крепкой ниточке каждому на шею по бусинке: лебедю — красненькую, лебёдушке синенькую. Те будто тоже разлуку чуют, так — и льнут к Васютке, а он со слезами на глазах ходит. Ватажка — копейщики-то — подсмеиваться даже стала:
— Завял наш вожачок!
Только Васютка вовсе и не стыдится.
— До слёз, — говорит, — жалко с лебедями расставаться. Улетят ведь и забудут про меня!
Лебеди ровно понимают этот разговор. Подбегут к Васютке, шеи свои ему под руки подсунут, будто поднять собираются, головами прижимаются да потихоньку и переговариваются:
— Клип-анг, клип-анг!
— Дескать, будь спокоен — не забудем, не забудем!
Как вовсе холодно стало да потянулась вольная птица в полуденную сторону, так и эти лебеди улетели. Всю зиму их было не видно, а весной опять в этих местах появились. Только к Тимофею на двор больше не заходили, а где увидят Васютку, тут к нему и подлетят, поласкаются.
Да ещё баушку Ульяну подшибли, как она на гору с вёдрами шла. Не сильно всё-таки, а так только попугали, да водой оплеснули, вроде пошутили. Помним, дескать, Васюткину ласку и твою палку не забыли. Такой тебе от нас и ответ!
Дальше так и повелось. Как зима — лебедей не видно, а весной и летом хоть раз да к Васютке подлетят. Потом он сам научился их подманивать.
Выйдет на открытое место да крикнет, как они:
— Клип-анг, клип-анг!
Вскорости который-нибудь, а то и оба прилетят, только крылья свистят, будто тревожатся, — не обидел ли кто Васютку. Если близко человек случится, его так сналёту шарахнут, что сразу на землю кувыркнётся. А к Васютке заковыляют, шеи чуть не по земле вытянут, крыльями взмахивают, шипят, да подпрыгивают, как домашние гуси, когда к корму идут, — радуются.
Ну вот… за летом зима, за зимой лето… Сколько их пошло, не считал, а только из Васютки такой парень выправился, что заглядеться впору. И речист, и плечист, умом и ухваткой взял и лицом не подгадил: бровь широкая, волос мягкий, глаз весёлый да пронзительный.
Из тысячи один, а то и реже такой парень выходит, и должность себе хорошую доступил. Парень приметливый да памятливый и новые места поглядеть охотник. Хлебом его не корми, только дай сплавать, где ещё не бывал. Вот он и узнал лучше всех речные дороги. Всех стариков, которые при этом деле стояли, обогнал.
Строгановы, понятно, приметили такого парня, кормщиком его поставили и похваливать стали:
— Хоть молодой, а с ним отправить любой груз надёжно.
Скоро Тимофеича по всем строгановским пристаням узнали. Удачливее его кормщика не было. Как дорогой груз да дорога мало ведома, так его и наряжают.
И с народом у Василья обхождение лучше нельзя. Любили парня за это. С ребячьих лет кличка ему ласковая осталась — наш Лебедь.
С женитьбой у Василия заминка вышла. Все его товарищи давно семьями обзавелись, а он в холостых ходил, и отец его не неволил: как сам знаешь. Ну, вот видит Василий — пора, и стал себе лебёдушку подсматривать.
Такому парню невесту найти какая хитрость! Любая бы девка из своей ровни за него с радостью пошла, да он, видно, занёсся маленько. Тут у него оплошка и случилась.
В Чусовском городке, конечно, начальник был. Воеводой ли как его звали.
А у этого воеводы дочь в самой невестиной поре. Василий и стал на ту деваху заглядываться.
Родня да приятели не раз Василию говаривали:
— Ты бы на эти окошки вовсе не глядел. Не по пути ведь! А то, гляди, ещё бока намнут.
Только в таком деле разве сговоришь с кем, коли к сердцу припало. Не зря сказано: полюбится сова, не надо райской пташки. Зубами скрипнет Василий:
— Не ваше дело!
А сам думает:
«Кто мне бока намнёт, коли у самого плечо две четверти и кулак полпуда».
Деваха та, воеводина-то дочь, по всему видать, из обманных девок пришлась. Бывает ведь, — лицом цветок, а нутром — головёшка чёрная. Эта деваха хоть ласково на Василия поглядывала, а на уме своё держала. Раз и говорит ему из окошка тихонько, будто сторожится, чтоб другие не услышали:
— Приходи утром пораньше в наш сад. Перемолвиться с тобой надо.
Василий, понятно, обрадовался. На заре, чуть свет, забрался в воеводский сад, а тут его пятеро воеводских слуг давно ждали, а мужики здоровенные на подбор. Сам воевода тут же объявился, распорядок ведёт.
— Вяжи холопа! Волоки на расправу!!
Тимофеичу что делать? Он развернулся и давай гостинцы сыпать: кому — в ухо, кому — в брюхо. Всех разметал, как котят, а сам через загородку перемахнул. Шум, понятно, вышел. Ещё люди набежали, а воевода, знай, кричит:
— Хватай живьём!
Василий видит, — туго приходится, к Чусовой кинулся. Ворота городские по ранней поре ещё заперты, да ему что! Сорвал с себя пояс, на бегу петлю сделал, захлестнул за стояк да старым обычаем и перекинулся за городской тын. Выбежал на берег, выбрал лодочку полегче да шест покрепче и пошёл по Чусовой кверху.
Время, видишь, вешнее. Чусовая в полную силу шумела. На вёслах вверх не выгребешь и с шестом умеючи надо, чтоб, значит, все гривки-опупышки на дне хорошо знать. Василий и понадеялся на свою силу да сноровку.
— Ну, кому, дескать, по такой воде меня догнать.
Только не так вышло.
Сколь ведь силы ни будь у человека и хоть как он реку ни знай, а не уйти ему против воды от погони, коли там шесту вёслами помогают, и смена есть. Как на грех, в одном месте промахнулся, ткнул шестом, а не маячит: дна не достаёт. Лодку и закружило. Пока Василий справлялся, погоня — тут она. На трёх лодках человек, может, сорок, а то и больше. Одно Василию осталось — в воду и на берег, а там что будет. Только тоже дело ненадёжное: чует, что из сил выбился, да и весной в лесу мудрено прятаться, — потому след сдалека видно.
Воевода на задней лодке на корму взмостился, будто сам правит. Увидел Васильеву неустойку — радуется:
— А, попался, холопья душа!
Василий оглянулся, хотел ответным словцом воеводу стегнуть и видит — высоко в небе над рекой два лебедя летят. И от солнышка видно, что на шеях у них, как искорки, посверкивают.
Обрадовался Василий, куда и усталость ушла, во весь голос закричал по-лебединому:
— Клип-анг, клип-анг!
А лебеди знают своё дело. Сверху-то, видно, всё разглядели.
Налетел один на заднюю лодку и так крылом воеводу шибанул, что тог вниз головой в воду бултыхнул. Другой лебедь на передней лодке двух шестовых опрокинул да и весловых успел погладить: у кого нос в крови, у кого на лбу шишка.
Большая у погони заминка вышла: воеводу из воды добывать пришлось. Мужик сырой да тяжёлый, а вешняя вода, известно: лёгкая да игривая. Любо ей со всякой колодиной побаловаться. Подхватила она воеводу и давай крутить — вот-вот пузыри пустит. Поймали всё-таки, выволокли. Чуть живой с перепугу, зуб на зуб не попадает, а своё не забыл.
— Живьём хватайте! Не уйти ему.
А чего не уйти, коли Василья давно не видно. Лебеди сполоху погоне наделали, сели на воду, подплыли к Васильевой лодочке, один справа, другой слева кормы, как зажали лодку-то да и повели так, что лес на берегу бегом побежал. Известно, против лебедя на воде птицы нет. Сдаля поглядеть — будто не шевельнётся, а попробуй — поровняйся с ним!
Так и потерялся Василий. Сколько воевода ни гонял людей, даже следа не видали. И то сказать, побаивались воеводские посланцы далеко по реке заходить, а Василий с лебедями всю Чусовую до краю прошёл. Все речки-старицы изведал да и в окружности поглядел. Любопытствовал к этому.
Вот тогда ему, может, первому из наших и довелось сибирской водицы из Тагила-реки испить. Дошёл, видишь, до какой-то неведомой речки и по уклону понял, что она на восход солнца пошла. Василия и потянуло, — что там, дальше-то, да лебеди заартачились, крыльями замахали: не выдумывай! Василий их и послушался, не пошёл по Тагилу.
Эти лебеди в то лето и гнезда себе не вили, всё около Василия старались. Мало что от воеводы ухранили да речные дороги показали, они ещё открыли ему всё здешнее богатство.
Поднимет лебедь правое крыло, как покажет на горку какую-либо, на ложок, поглядит Василий на то место и увидит насквозь: где какая руда лежит, где золото да каменья. Поднимет лебедь левое крыло, и Василию весь лес на берегу на многие вёрсты откроется: где какой зверь живёт, какая птица гнездится. Ну, как есть всё.
При таких лебедях, понятно, об еде да питье Василию и заботы не было. Подведут лебеди лодочку к какому-нибудь крутику, похлопают крыльями, и откроется в том крутике ходок, как проточка малая. Заведут лебеди лодку в эту проточку, а там как пещера выкопана и в ней поесть и попить приготовлено.
Всё бы ладно, да без людей тоскливо. И то Василию покою не даёт, — воеводина дочь из мыслей не выходит. Думает, что она не своей волей его подвела, а кто-нибудь разговор подслушал. Ну, Василий и жалел эту деваху.
— Теперь, поди, взаперти сидит да слёзы льёт, моя горюшенька!
Тосковал-тосковал и надумал:
— Жив не буду, а вызволю её!
Лебеди видят — к дому Василья потянуло, головами покачивают.
— Ни к чему придумал! Ой, ни к чему!
Дорогу всё-таки не загораживают:
— Воли, дескать, с тебя не снимаем, — как хочешь!
Когда Василий лодку в домашнюю сторону повернул, лебеди даже пособили ему. В один день лодку с самого верху до Чусового городка довели. Посчитай, сколько на час придётся!
Довели Василия до знакомых ему мест, поласкались маленько, как простились, а сами одно наговаривают:
— Клип-анг, клип-анг!
Вроде наказ дают:
— Когда тебе надо, кричи нам!
Поднялись лебеди, улетели. Остался Василий один. Гребтится ему поскорее в город пробраться. Еле-еле потёмок дождался, даром что время к осени, и темнеть рано стало.
В городок попасть, чтобы караульные не видели, Василью привычно. Переметнулся через тын, где сподручнее, и пошёл по городку. Идёт спокойно, ни одна собачонка не гавкнет. Недаром, видно, говорится — на смелого и собаки не лают.
Хотел сперва Василий понаведываться к кому-нибудь из старых своих ватажников-приятелей, разузнать про здешние дела, да мимо родного дома как пройдешь. Любопытно Василью хоть через прясло поглядеть. Остановился он, постоял и чует — не так будто стало, не по-старому, а в чём перемена — понять не может.
«Дай, — думает, — погляжу поближе».
Перелез тихонько в ограду, походил в потёмках-то — живым вовсе не пахнет. Сунулся к дверям в сенки, там крестовина набита — никто, значит, не живёт.
— Что за беда стряслась? Куда все подевались?
Сел Василий на крылечко, задумался. В городке вовсе тихо. Только всё-таки ещё копошатся люди. То двери скрипнут, то кашлянет кто, слово какое долетит. И вот слышит Василий — близенько кто-то не то поёт, не то причитает:
Лебедь ты, мой Васенька! Где летаешь ты, где плаваешь? Поглядеть одним бы глазоньком Перемолвиться словечушком!Поёт эдак, собирает разные девичьи жалостливые слова про кручину свою лютую да про злу-разлучницу, как она насмеялася, угнала лебедя милого, загубила его батюшку родимого, милых братцев в беду завела.
Слушает Василий — про него песня сложена, голос густой да ласковый, а кто поёт — домекнуть не может.
Тут другой голос слышно стало. Вроде как мать заворчала:
— Опять ты за своё! Добры люди спать легли, а ей всё угомону нет! Про лебедя своего воет! Возьму бот за косу! Не погляжу, что в сажень вымахала! Бесстыдница!
Тут только Василий понял, кто песню пел. В близком соседстве росла долгоногая да глазастая девчушка-хохотушка, Алёнкой звали. Года на четыре, а то и на пять помоложе Василья. Он и считал её маленькой, а того не приметил, как из неё выровнялась девица — голову отдай — и то мало! Да ещё вон какие песни складывает.
Затихли голоса, и песни не стало, а все-таки Василий чует — не ушла Алёнка из ограды, на крылечке сидит.
Василья и потянуло на ласковый девичий голос. Выбрался из своей ограды, подошёл к соседней избушке и окликнул потихоньку:
— Алёнушка!
Та ровно давно этого ждала, сейчас же отозвалась:
— Что скажешь, Василий Тимофеевич?
Удивился Василий:
— Как ты в потёмках меня разглядела?
Она усмехнулась:
— Глаз у меня кошачий. Тебя вижу ночью, как днём, а то и лучше.
Потом без шутки сказала:
— С вечера твоих лебедей углядела и подумала — скоро ты должен в городке объявиться. Вот и сидела, караулила да голос подавала, чтоб упредить тебя.
Тут Алёна и рассказала всё по порядку.
Баушка Ульяна с весны померла. Воевода хоть лютовал, а семейных у Василья сперва не задевал. Да на беду сам Строганов приехал. Как узнал про побег, так принародно на воеводу медведем заревел:
— Бревно ты еловое, а не воевода! Гоняешь людей без толку, будто им другого дела найти нельзя. Ты мне так сделай, чтобы утеклец сам повинную принёс и чтоб другим неповадно было в бега кинуться! Поленом тут кормить надо, а не калачами.
И сейчас же велел привести Тимофея с сыновьями, под батоги их поставил. Пусть, дескать, другие казнятся, что их семьям будет, ежели кто бежать удумает. Потом велел Тимофея и всю семью, от старого до малого, отправить на самую тяжёлую работу — соль в кулях перетаскивать к пристаням, а дом и всё добро на себя перевёл.
Дознался тоже Строганов, какие люди в карауле стояли, когда Василий ушёл, и велел их батожьём бить и на солетаску нарядить с той только разницей, что семейных у этих людей в своих избах оставил.
Как поехать из города, велел Строганов народ собрать и погрозился:
— Кто увидит утеклеца Ваську да не доведёт мне, тому это же будет!
Сказывали потом, что Тимофей после батогов-то недолго проработал, а братья живы. Ну, а воеводина дочь вскорости за строгановского приказчика замуж вышла. На свадьбе перед подружками своими, сказывают, похвалялась — вот-де я какая, глазом мигну, так любого парня вокруг пальца оберну! Головы не пожалеет, прибежит по моему зову. Вон по весне позвала в сад кормщика Василья, а сама батюшке сказала, чтоб хорошенько этого холопа проучил. Пусть своё место помнит!
Выслушал всё это Василий да и говорит:
— Спасибо тебе, Алёнушка, осветила мне дорогу. Теперь знаю, что делать. Коли Строганов придумал кормить моих поленом, так и от меня ему мягких не будет! А ту змею ногой раздавлю! Эх, не знал, не ведал, что моя лебёдушка верная через двор живёт.
Алёна и отвечает:
— Слово скажи — за тобой пойду.
Василий подумал-подумал и говорит:
— Нет, Алёнушка, не подходит это. Вижу, вовсе трудная у меня дорога пойдёт. Семейно по ней не пройдёшь.
— Коли, — отвечает, — так тебе сподручнее, вязать не стану. Иди один!
Василий притуманился:
— Ты, Алёнушка, всё-таки подожди меня годок-другой.
Алёна так и вскинулась:
— Об этом не говори, Василий Тимофеич! Один ты у меня. Другого лебедя в моих мыслях весь век не будет.
Тут наслезилась она девичьим делом и подаёт ему узелок.
— Возьми-ко, лебедь мой, Васенька! Не погнушайся хлебушком с родной стороны да малым моим гостинчиком. Рубахи тут да поясок бранный. Носи— не забывай!
Подивился Василий вещему девичьему сердцу, как она вперёд угадала, что придёт, сам чуть не прослезился и говорит:
— Не ссуди, моя лебёдушка, коли худо про меня сказывать будут.
— Худому про тебя, — отвечает, — не поверю. Сам тот худой для меня станет, кто такое о тебе скажет. Ясным ты мне к сердцу припал, ясным на весь век останешься.
На том они и расстались. Ушёл Василий, никому больше не показался. Вскорости слух прошёл: появились на строгановских землях вольные люди. В одном месте соленосов увели, в другом — приказчика убили, его молодую жену из верхнего окошка выбросили, а дом сожгли. Дальше заговорили, — поселились будто эти вольные люди в береговой пещере пониже Белой реки, и строгановским караванам проходу не дают. И вожаком будто у этих вольных людей Василий Кормщик.
Строгановы, понятно, забеспокоились. Чуть не целое войско снарядили. Тем людям, видно, трудно пришлось, — они и ушли, а куда — неизвестно. Слуху о них не стало.
О Василье в городке и поминать перестали. Одна Алёнушка не забыла:
— Где-то лебедь мой летает? Где он плавает?
Сколь отец с матерью ни бились, не пошла Алёна замуж. Да и женихов у ней не много было. Она, видишь, хоть пригожая и на доброй славе была, а сильно рослая. Редкий из парней подходит ей в пару, а она ещё подсмеивалась:
— Какой это мне жених! Ненароком сшибёшь его локтем, — на весь городок опозоришь.
Так и осталась Алёна одна век вековать. Как обыкновенно рукодельницей стала, — ткальей да пряльей. По всему городу лучше её по этому делу не было. Да ещё любила с ребятишками водиться. Всегда около неё много мелочи бегало. Алёна умела всякого обласкать. Кого покормит, кого позабавит, кому песню споёт, сказку скажет. Любили её ребята, а матери прозвали Алёнушку — Ребячья Радость и, как могли, ей сноровляли.
Годы, конечно, всякого заденут: малому прибавят, у старого из остатков отберут, не пощадят. Отцвела и наша Алёнушка. Присекаться волос стал, чёрную косу белые ниточки перевили, только глаза ровно ещё больше да краше стали.
К этой поре старые хозяева Строгановы все перемерли. На их место сыновья заступили. Народу на Чусовой умножилось. Сибирского хана сын с войском нежданно-негаданно на Чусовской городок набежал. Еле отбились горожане. По этому случаю старики про Василия вспоминали:
— Вот бы был наш Тимофеич дома, не то бы было. Спозаранок бы он разведал про незваных гостей и гостинцев бы им припас не столько. Напредки забыли бы дорогу к нашему городу! Дорогой человек по этому делу был. Зря его загубили!
Вскорости после этого слух прошёл — к Строгановым поволжские вольные казаки плывут, а ведёт их атаман Ермак Тимофеич.
— По всей Волге на большой славе тот человек. Не то что бухарские, и других земель купцы его боятся, и царские слуги сторонкой обходят те места, где атаман объявится. И ватага у того атамана наотбор.
У него, видишь, не было той атаманской повадки, чтоб на свою руку побольше хапнуть. Он и других к тому не допускал. По этому правилу и ватагу составил. Чуть кто неустойку окажет, такого сейчас из ватаги долой.
— Нам, — скажет атаман, — с такой слабиной людей не надо! Как тебе ватага поверит, коли ты о себе одном стараешься. Иди на все стороны да со мной, гляди, напредки не встречайся, а то худой разговор выйдет!
И крепко то атаманское слово было. Не помилует и того, кто надумает поблажку в таком деле дать да и отговаривается, — не доглядел этого пустяка.
— Это, — отвечает атаман, — не пустяк, потому — может раздор в артели сделать. В первую голову всяк за этим гляди, чтоб у нас всё шло на артель, в одну казну, в один котёл!
За это будто атамана и прозвали Ермаком, как это слово по-татарски, сказывают, котёл обозначает на всю артель. А Тимофеичем, видно, по отцу величают, как обыкновенно у нас ведётся. И ещё сказывали, — не любит атаман Ермак, чтоб ватажники себя семьями вязали. Сам одиночкой живёт и других к тому склоняет:
— Трудная наша дорога. Не по такой дороге семейно ходить да детей ростить.
Слушает эти разговоры Алёна и дивится:
— Его слова. И Тимофеичем величают. Не он ли? Лебедь мой, Васенька?
К осени спять слух донёсся:
— К Строгановым на Каму приплыл атаман Ермак с войском. По осенней воде пойдут на стругах вверх по Чусовой сибирского хана воевать. Скоро атаман с казаками в Чусовском городке будет.
Все, понятно, ждут. Как пришла весточка, в какой день будут, весь народ из городка на берег высыпал, и Алёнушка туда же прибежала.
Завиднелись струги. Легко против осенней воды на вёслах идут. Песни казаки поют. Поближе подходить стали, в народе говорок пошёл, как диво какое увидели.
Глядит Алёна, а у переднего струга два лебедя плывут и на шеях у них, как искорки, посверкивают: у одного красненькая, у другого синенькая.
Как стали струги к берегу подваливать, лебеди поднялись с воды, покружились над городком и на восход солнца улетели.
Первым на берег атаман вышел. Годов за полсотни ему. По кучерявой бороде серебряные струйки пробежали, а поглядеть любо. Высок да статен, в плечах широк, бровь густая, глаз весёлый да пронзительный.
Одет ровно попросту, — не лучше других казаков. Только сабля в серебре да дорогих каменьях.
Глядит Алёна — он ведь! Он самый! А всё признать не насмелится. Да тут и углядела — рубаха-то у атамана пояском её работы опоясана. Чуть не сомлела Алёнушка, всё-таки на ногах устояла и слова не выронила. Стоит белёхонька да с атамана глаз не сводит.
А он своим зорким глазом ещё со струга Алёнушку приметил и по девичьему убору догадался, что незамужницей осталась.
Поздоровался атаман с народом, потом подошёл к Алёнушке, поклонился ей, рукой до земли, да и говорит:
— Поклон тебе низкий от вольного казацкого атамана Ермака, а как его по-другому звать — сама ведаешь.
— Не обессудь, моя лебёдушка, что в пути запозднился. Не своей волей по низу до седых волос плавал, когда смолоду охота была против верховой воды плыть. И на тем в обиде не будь: не забывал тебя и поясок твой ни в бою, ни в пиру с себя не снимал.
Поговорили они тут. Понял тогда народ, кто есть донской казак атаман Ермак, какого он роду-племени, в каком месте его лебёдушка ко гнезду ждала.
Два дня, а то и три простоял Ермак с своим войском в Чусовском городке. Не один раз за те дни с Алёнушкой побеседовал. Всю свою жизнь ей рассказал. Как он братьев да друзей своих из неволи вызволил, как с ними строгановские караваны топил, как потом на Дону казачил да по Волге гулял. Ну, всё, как есть. И про то объяснил, почему на Чусовую пришёл.
— Много, — говорит, — в нашу казну богатства добывали, а нет против того, какое мне лебеди по нашей реке в горах показывали. Вот и надумал тем богатством себе и всей ватаге головы откупить, а кому не случится голову свою вынести — тому добрую память в людях оставить. Лебеди как подслушали мою думу. Давно их не видал, а тут оба появились и будто манят плыть, куда надумал. Всю дорогу с нами плывут, а где остановка — улетают, и всегда в ту сторону, куда дальше путь идёт…
В осенний праздник, в Семёнов день, собрался атаман дальше плыть. Из Чусовского городка народу в войско прибыло. Ну, и проводы вышли вроде как семейные, потому — с заезжими казаками своих отправляли. На берег многие так семьями и шли, — кто брата, кто сына провожал.
Алёнушка рядом с атаманом шла. Она, конечно, годами на другую половину жизни клонилась, а красоту свою не вовсе потеряла. Принарядится праздничным делом, так ещё заглядишься.
Атаман тоже для такого случая приоделся. Верховик на шапке малиновый, кафтан цветной парчи, рубаха дорогого шёлку, а сабля и протчая орудия — глаза зажмурь. И то углядели люди — новый у атамана поясок. Широкий такой, небывалого узору: по голубой воде белые лебеди плывут. Это, видно, Алёнушка опоясала своего лебедя на незнамую дальнюю дорогу.
И вот идут они, как лебедин да лебёдушка. Оба высокие да статные, красивые да приветные, как погожий день в осени. Далеко их в народе видно. А кругом ребятишки-мелочь вьются. Это Алёнушкины прикормленники да приспешники со всего города сбежались. Известно, большому лестно, а малому и подавно охота близко такого атамана поглядеть, рядом по улице пройти.
Как атаман на берег, так лебеди — на воду, сразу кверху поплыли, оглядываются да покрикивают:
— Клип-анг! Клип-анг!
Вроде поторапливают:
— Пора, атаман! Пора, атаман!
Тут атаман простился с народом, с Алёнушкой на особицу, сам на струг— и велел отваливать.
Отплыл — и концы в воду.
Сперва добрые вести доходили, как Ермак с войском сибирского хана покорил и все города побрал, как Грозный царь за это всем казакам старые вины простил и подаренье своё царское отправил. И про то сказывали, будто велел Грозный царь сковать атаману для бою кольчатую рубаху серебряную с золотыми орлами. Дивились царёвы бронники, как Ермаковы посланцы стали про атаманов рост сказывать. Сильно сомневались в том бронники, а всё-таки сковали рубаху, как было указано, от вороту до подолу два аршина, а в плечах — аршин с четвертью, и золотых орлов посадили.
Прикинь-ка, какой силы и росту человек был, коли мог эку тягость на себе в бою носить!
Радовалась Алёнушка этим вестям. Всем ребятишкам, какие около неё вились, рассказывала — вот, дескать, какой атаман удачливый да смелый.
Года два такими вестями Алёнушка тешилась, потом перемена вышла: вовсе не слышно стало о казацком войске, как снегом путь замело.
Долго ждала Алёнушка да и дождалась: в осенях приползла в городок чёрная молва.
— Мало в живых казаков осталось, и сам атаман загиб. Изменой заманили его с малым войском да ночью, как все казаки спали в лодках, и навалились многолюдством. Атаману, видно, надо было с одной лодки на другую перескочить, да опрометился он и попал в воду на глубокое место. В кольчатой-то рубахе царского подаренья и не смог выплыть. И лебеди не могли атамана ухранить, потому — ночью дело вышло, а эта птица, известно, ночью не видит.
Выслушала всё это Алёнушка, слова не выронила и ушла в свою избу, а вскоре ребятишки по всему городу заревели — умерла Алёнушка.
Отцы-матери побежали поглядеть. Верно — умерла Алёнушка, Ребячья Радость. Лежит на скамейке у окошечка, и руки на смерть сложены, а сарафан и весь убор на ней тот самый, в каком она атамана в поход провожала. Поплакали тут которые, вспоминаючи тот день, пожалели:
— Вот пара была, да гнезда не свила.
От какой причины нежданная смерть Алёнушке пришла, так никто и не узнал. На том решили:
— По лебединому умерла наша Алёнушка. У них ведь, известно, как ведётся: один загиб — другому не жить.
Так вот оно как дело-то было! Приплыл донской казак на родиму сторонку — на реку Чусовую. Это присловье про Ермака и сложено. В прежни-то годы, сказывают, такое часто случалось. Набродно на Дону было, — со всех сторон туда люди сбегались, кому дома невмоготу пришлось. Ну, а этот из Чусовского городка был, Васильем Тимофеичем Алёниным звали, а на Дону да по Волге он стал Ермак Тимофеич.
Здешние-то реки он с молодых годов знал. Ему, брат, вожака не надо было! Сам первый вожак по речным дорогам был! И то ни в жизнь бы ему в сибирскую воду проход не найти, кабы лебеди не пособили.
Куда потом эти лебеди улетели — сказать не умею.
По нашим местам эту птицу сильно уважают. Кто ненароком лебедя подшибёт, добра себе не жди: беспременно нежданное горе тому человеку случится. А хуже того, коли оплошает охотник из старателей. Такому и вовсе своё земельное ремесло бросать надо, потому удачи на золото после того не станет. Что хочешь делай, а даже золотины в ковшике не увидишь. Испытанное дело. Да вот еще штука какая у стариков велась — ставили деревянных лебедей на воротах.
А это в ту честь, что лебеди первые нашему русскому человеку земельное богатство в здешних краях показали. За это им и почёт, и Василью Тимофеичу с Алёнушкой память. Это — что парой-то!
Вот в чём тут загвоздка.
1940 г.
Жабреев ходок
косом-то броду, на котором месте школа стоит, пустырь был. Пустополье болыненькое, у всех на виду, а не зарились. Нагорье, видишь. Огород тут разводить хлопотно, — поту много, а толку мало. Ну, люди и обегали. Всяк выбирал себе полегче да посподручнее.
А раньше-то, сказывают, тут жильё было. Так стрень-брень избушечка на два оконца, передом напрочапилась, ровно собралась вперевёртышки под гору скакать. Огородишко тоже, банёшка.
Одним словом обзаведенье. Не от силы завидное, а на примете у людей было. По всей округе эту избушку знали.
Жил тут старатель один. Никита Жабрей прозывался. Мужик в годах. Как говорится, детинка с сединкой. Молодым впору такого дедком звать, а ещё в полной силе. На работе редкий против него выдюжит. Из себя был старик видный, только такой молчун, будто вовсе говорить не умеет, и характером — не задень. Никого близко к себе не подпускал. Недаром, видно, его Жабреем звали.
Этот Жабрей в одиночку больше старался, места новые искал и, случалось, находил. Придёт тогда в деревню и сам скажет:
— Вот, мужики, там-то попадать золотишко стало.
И верно, стараться можно. Когда и вовсе ладно. Только за Жабреем ещё одну тайность знали. Не один раз он при больших деньгах бывал.
Никто, понятно, не видал, откуда те деньги Никите приходили, а по народу разговор шёл, что он тайным купцам по золотому делу самородки сдавал. И будто все самородки на одну стать, — как лапоточки, ростом махонькие, а веские. И то ещё диво, — как по ступенькам на прибыль шли: сперва были по фунтику, потом больше да больше, а стать одна — лапоток.
Тайные купцы да и старатели тоже сильно охотились поглядеть, в каком месте Жабрей такие лапоточки добывает, да толку не выходило. Никита, видишь, знал, что за ним досматривают, и свою сноровку имел. Водит-водит за собой этих доглядчиков, а как темно станет — он в лес. Найди-ко, в какое место за ночь он по лесу уберётся.
К Жабреевой жене подсыл делали, а тоже зря. Жабреиха, видишь, как раз мужу подстать. Старуха, прямо сказать, колючая, без рукавиц к ней не подходи, и на разговор крутая. Кто без заделья придёт, так она дальше порогу и в избу не пустит. Не успеет человек усы расправить да вымолвить:
— Здравствуй, бабушка!
А она его торопит:
— Ещё что скажешь? По какому делу пришёл?
Тот, понятно, курлыкает:
— Как, мол, живёте-можете со старичком-то? Всё ли по-хорошему?
— А так, — отвечает, — и живём: в люди не ходим, к себе не зовём, а незваного по рылу помелом.
Поговори вот с такой!
Какие бабёночки с задельем подбегали, будто взаймы перехватить того-другого по хозяйству, с теми по-разному обходилась. Иной раз отрежет:
— Не припасла про тебя и напредки ко мне не ходи!
Другой без отказу даёт, что попросит. Мучки там, маслица, картошки либо ещё чего и про отдачу никогда не спросит, а лишнего слова всё равно не скажет. Только гостьюшка пристроится посудачить, Жабреиха таз да вехотку в руки и говорит:
— Беги-ко, Степаня, домой! Ребята ведь у тебя. Дела-то побольше моего. Я вон и то мыть собралась, а ты сидишь, будто от простой поры!
Так и жили Жабрей с Жабреихой от людей на отшибе.
Случалось, конечно, Жабрею и в артёлках стараться. Это когда он новое место укажет. С почтеньем его принимали. Работник без укору, не то что за двоих, за троих ворочает и по золоту знающий — кто такому откажет. Только не подолгу он на людях жил. Чуть что выйдет — сейчас в сторону. На артели, известно, мало ли бывает. Перекоры по работе пойдут, мошенство какое откроется, поучить, может кого требуется, а Жабрею это невперенос. Послушает, как народ загамит, да и выронит своё словечушко:
— Загудело комарино болото! Слушай, кому охота, а мне не с руки!
Скажет так-то, плюнет, подхватит кайлу да лопатку, ковш да мешок за спину — и пошёл. Коли получка есть, — и то не покажется.
Раз так-то ушёл — и надолго. В живых его считать перестали, а он и объявился. По самой-то троицкой воде, как все ручейки на полную силу играют, выплыл.
Год тогда, сказывают, худой издался. С золотишком заминка вышла. Ну, старателям и вовсе невесело было. Большой праздник, а им и погулять не на что. Толкуют об этом, жалуются, смекают, к кому бы припаяться на стаканчик, да тут и увидели — по полевской дороге идёт Жабрей, и всё на нём новёшенькое. Примета ясная — при деньгах он, и сейчас на всю деревню гулянка будет.
Так и вышло. Первым делом зашёл Никита в кабак, сыпнул на стойку рублей и говорит целовальничихе:
— Цеди, Ульяна, всем допьяна! Пускай ни один комар не гудит, что Никита Жабрей свою долю в кошельке зажал, людям не показал. Гляди — вот она!
А сам сыплет да сыплет рубли.
Народ знал, что Никита начистоту гуляет, до последнего рубля и без покору, — живо со всей деревни сбежались. Иные, конечно, с простоты: почему-де не выпить, коли наливают, а больше того с хитрости: про себя думают, не распояшется ли Жабрей, не проговорится ли о местичке, где золотые лапоточки плетут. Только Жабрей свою меру знал. Выпьет, сколько ему надо, сыпнет ещё на стойку и накажет целовальничихе:
— Гляди, Ульяна, наливай безотказно. Мужикам простого, девкам, бабам — красненького. Кто сколько поднять может. Коли перепьют — доплачу, не допьют — твой барыш. С утра по другому расчёту пойдёт.
Целовальничиха рада-радёхонька, на четыре стороны развёртывается: одной рукой наливает, другой — рубли загребает, Жабрею кланяется: дескать, всё сделано будет, а сама мужу шепчет:
— Гони-ко, Иван, на винокурню, вези хоть две бочки, а то не хватит.
Из кабака Жабрей по своему обычаю в лавку, а там его давно ждут. Торгаш тоже дошлый был. Деревнёшка хоть маленькая, а на случай старательского фарту всегда в лавке дорогой товар был, из того числа, что деревенскому человеку вовсе ни к чему.
Никита из этого товару обнов наберёт своей старухе. Ну, шаль ковровую, как полагается, башмаки с пряжкой, шёлку цельный кусок, ещё что поглянется. Себе тоже обнов накупит и говорит торгашу:
— Снеси моей старухе, Никита, мол, Евсеич кланялся и велел сказать: жив-здоров, скоро домой придёт. Пущай капустных пельмешков настряпает да кваску наготовит. Не меньше двух жбанов.
Торгаш убежит, а Никита в лавке сидит, дожидается. Потом спрашивает:
— Ну, что?
— Да ничего, — отвечает, — отдал.
— Что старуха говорит?
— Взяла, — отвечает, — обновы, в угол бросила, а ничего не сказала. Никита смеётся.
— Не может этого быть, чтоб мужнино подаренье без слов приняла.
Торгаш тогда и говорит:
— Три только слова и было.
— Какие, — спрашивает, — слова?
— А как приняла обновы, вздохнула и молвила: «Ох, старый дурак!»
Никита не верит:
— Верно говоришь! Старухин обычай. Всё, значит, в добром здоровье. Торопиться некуда. Давай ребят потешим маленько. Тащи решётку!
Торгаш уж знает дело. Притаскивает рудничную решётку и спрашивает:
— Сколько велишь навешать и каких?
— Сыпь на-глазок, с верхом! Всякого сорту, только в бумажках, гляди, а голых не надо!
Торгаш, конечно, без мошенства не может. Какие конфетки подешевле, тех сыплет больше, а которые подороже — тех самую малость, а считает наоборот. Ну, Никита к тому не вяжется. Отдаёт деньги и выходит с решёткой на крылечко, а ребята со всей деревни сбежались. Только у крылечка не стоят, а поблизости игры завели: кто — в бабки, кто — шариком, девчонки — опять в свои игры. Они, видишь, знали Жабрееву повадку: коли увидит, что его ждут, назад решётку унесёт. Ребята и прихитрятся, будто ничем-ничего не знают, а просто играть сбежались.
Никита видит — не ждут его и давай горстями во все стороны конфетки швырять. Ребята, конечно, конфетку не часто видали, — кинутся подхватывать — свалка тут пойдёт. Коли по нечаянности кого сшибут либо лбами стукнутся — Жабрей ничего, — смешно ему, а коли расстервенятся и до драчишки дело дойдёт, — тут зубами скрипнет, бросит решётку и вымолвит:
— От комаров, видно, комарята и родятся!
Потемнеет весь — и домой. Заберётся на свою горушку, пристроится на завалинке и заведёт голосянку. И тут к нему не подходи: всякого сшибёт. Одной старухе свободно.
В деревне по случаю Жабреевой гулянки шум да гам, песни поют, пляски заведут, а Жабрей сидит на горушечке да тянет одно:
— Комары вы, комары, комарино царство.
Ночью уж старуха уведёт его в избу, а проспится — с утра всё по порядку. Сперва в кабак, потом обновы старухе покупать и ребятам конфетки разбрасывать. У старухи, бывало дело, полный угол обнов накопится. Потом, как денег не станет, тому же торгашу за десятую копейку сдавала. За которое плачено полсотни — зато пятёрку, за которое десятка сорвана — за то рубль.
Когда у ребят делёжка без драки пройдёт, в тот день Жабрей до вечера по деревне гуляет. С другими старателями песни поёт, пляшет тоже, а домой всё-таки один идёт, никого ему не надо. Если кто и вовсе подладится к Жабрею, всё равно откажет:
— Друг ты мне, а на горушку ко мне не ходи! Не люблю.
Так и шла гулянка, пока все деньги не выйдут. Только на этот раз с первого дня другой поворот вышел.
Вынес Никита решётку с конфетками, стал разбрасывать. А в ребятах случился парнишко один. Дениско Сирота его звали. Годами ещё молоденький, а долговязый. Другие парнишки, его-то ровня, дразнили:
— Дениско, переломись-ко, вровень пойдём!
По сиротству этот парнишко давно в песковозах ходил и по росту за большого считался. Ну, всё-таки молодой умок — ему любопытно поглядеть на Жабрееву гулянку. Дениско и подобрался поближе к лавочному крылечку и тоже будто с ребятами играет. Как все кинулись на подхват конфетки ловить, Дениско стоит и смотрит. Никита увидел, кричит ему:
— Ты, долган, что не ловишь?
И бросает ему целую горсть. Другие ребята налетели, Дениско отодвинулся маленько, чтоб его с ног не сшибли. Никита тогда и спрашивает:
— У тебя, Дениско, что? Спина болит?
— Нет, — отвечает — спина не болит, а не к чему мне это. Я, поди-ко, большой.
— А коли большой, — говорит Никита, — ступай в кабак. Выпей за моё здоровье хоть красного!
— Мне, — отвечает, — мамонька перед смертью наказывала: «До полной бороды в рот капли вина не бери, а дальше, как знаешь».
Никита удивился:
— Вон ты какой! На, нето! — и бросает ему сколько-то серебряных рублёвиков. Только Дениско их не поднимает да ещё говорит:
— Милостинку теперь не собираю. Вырос — свой хлеб ем.
Никита, конечно, разгорячился. Заревел на других ребятишек:
— Отойди в сторонку! Сейчас погляжу, какая у этого гордыбаки сила!
Выхватил из-за пазухи пачку крупных денег и хвать ими перед Дениском. А тот, видно, тоже парнишко с норовом, говорит:
— Сказал — милостинку не собираю, а с собачьего бросу и подавно.
Никита от таких слов себя потерял: стоит — уставился на Дениска. Потом полез рукой за голенище, выволок тряпицу, вывернул самородку, — фунтов, сказывают, на пять, — и хлоп эту самородку под ноги Дениску, а сам кричит:
— Не хвастай через силу! Это ты у меня подымешь!
Ну, Дениско, — то ли он такой упорный пришёлся, то ли цены настоящей самородку не понимал, — не поднял. Поглядел только да сказал:
— Такой бы лапоток самому добыть лестно, а чужого мне не надо.
Повернулся и пошёл. Никита опамятовался, подбежал, подобрал деньги и самородку и кричит Дениску:
— Тебе хоть что надо?
— Ничего, — отвечает, — не надо. Поглядеть приходил, как ты перед народом удачей хвастаешь.
Никите обидно, что парнишко его укорил, а смолчал. Маленько погодя кричит вдогонку:
— Дениско, воротись-ко!
А ребята подхватили:
— Дениско, переломись-ко! Дениско, переломись-ко!
Дениско ничего, подошёл спокойно. Тогда Никита и говорит ему потихоньку, чтоб другие не слышали:
— Ты, парень, прибеги-ко ко мне утречком, как вовсе трезвый буду. Может, я тебе скажу про мурашину тропку, а дальше сам за себя отвечай. Коли пустят тебя каменны губы, так салку нехитро на горячую либо на мокрую отворотить. Тогда и лапотков добудешь.
— Ладно, — отвечает, — дядя Никита. Спасибо скажу, коли дорогу укажешь.
— Это, — говорит Никита, — не за спасибо, а за то, что жадности в тебе не видно. Давно такого присматриваю.
Поговорили так и разошлись, а больше им свидеться не довелось.
Жабрей после этого случаю сразу к себе на горушку уплёлся. Потихоньку шёл, вроде крепко задумался и про комаров в этот день голосянку не тянул. Видели люди, — он со старухой на завалинке сидел. Долго сидели, как молодожёны какие, и о чем-то судили да дружно так. Деревенские прямо диву дались.
— Глядите-ко, Жабрей с Жабреихой наговориться не могут. Не иначе, перед смертью.
Шутили, конечно, а так оно и вышло. Наутро прибежал Дениско к Жабрею и видит — все двери полёхоньки, а в сенках и в избе всё в полном разбросе: кое опрокинуто, кое перевёрнуто, кое в щепы разбито. Посерёдке избы тяжеленный лом-черёмуха, а людей никого нет.
Дениско забеспокоился, побежал в деревню, рассказал, так и так, неладно у Жабреев. Народ, хоть с похмелья, сразу побежал на горушку. Стали разглядывать, как да что. По начальству дали знать. Ну, разобрать толком не могли. Одно видно — воевали тут крепко, впотёмках почём зря хлестали и в голбце рылись, а одёжу не пошевелили и обновы, как бросила их старуха в угол, тут и лежат. Крови не оказалось, и следов на земле около избы не видно. Место, видишь, плотик да камень, следов оно не держит. И то сказать, вся деревня сбежалась, что и было, всё затоптали.
Начальство, понятно, караул к пустому месту поставило и давай народ доспрашивать, кто что сказать мог.
На то выходило, что из деревенских завинить некого: кто в ту ночь вовсе без гач пьяный лежал, кто у других на глазах был. И на то намекали, что хитники из Кунгурки приходили, потому — тамошнего тайного купца подручников в деревне видели. Многие на того купца доказывали, как он не раз людей подговаривал за Никитой подглядывать. Только разве такого завинят, коли всё начальство им задарено!? На то повернули, что Дениско Сирота первый тому был подводчик. Ему, дескать, Никита деньги и самородку показывал, и не зря этот парнишко утром тут оказался.
Подлость конечно, а взяли парнишка в острог да и мытарили там сколько-то годов. Купца, значит, тем выгородили и будто своё дело сделали — виноватого нашли. Привычно им так-то вертеться было.
В деревне про Дениска скорёхонько забыли. Приисковый народ, известно, не больно на людей памятлив. Мало ли с кем случается сбегаться. Своих у Дениска не было, — кто о нём печалиться станет. А он сидит в остроге да думает — вот найдут Жабреев, и всё по правде откроется.
Ну, всё-таки Дениска выпустили. Вовсе большим он в деревню пришёл. Первым делом ему охота узнать, что про Никиту с женой слышно и кто в их избушке живёт. Спросил, а никто не знает, и на горушке званья от жилья не осталось. Известно, бесхозяйственный дом недолго стоит, живо его разнесут, а тут ещё припомнили, что хитники в голбце чего-то искали. Ну, и давай тоже рыться. Всё перерыли, и на месте Жабреева обзаведенья стал пустырь с ямами.
Дениску это обидно показалось. Вот, дескать, знающий по золоту человек был. Богатства не нажил, всё людям раструсил. Места новые показывал. И старуха худого людям не делала, а только и осталось, что пусторожнее место с ямами.
Пошёл на горушку, сидит там да раздумывает. И то ему на память пришло, что Никита говорил, когда к себе звал.
«Про какую это мурашину тропку он сказывал? И что это за каменны губы?»
Думал-думал, на том решил:
«Мурашиных тропок мало ли. Кто их разберёт, которую надо, а каменные губы поискать можно. Не набегу ли ненароком?»
Надумал так да тут и углядел, — у самой мурашиной тропки сидит. Тропка как тропка. Мурашики по ней ползут, только все в одну сторону, а встречных не видно. Дениску это любопытно показалось. «Дай, — думает, — погляжу, в каком месте у них хозяйство». Пошёл около этой тропки, а она куда-то вовсе далеко ведёт. И то диво — мурашики будто больше стают, и как где место пооткрытее, там видно, что на лапках у них вроде искорок. Что за штука? Взял одного, другого, посмотрел. Нет, ничего не видно. Глаз не берёт. Пошёл дальше и опять примечает: растут мураши на ходу. Опять возьмёт которого в руку и давай разглядывать. Видно стало, что на каждой лапке как капелька маленькая прильнула.
Дениску это вовсе удивительно, он и шагает вдоль тропки. Так и вышел на полянку, а там из земли два камня высунулись, ровно ковриги исподками сложены: одна снизу, другая сверху. Ни дать, ни взять — губы.
Мурашиная тропка как раз к этим губам и ведёт, а мураши, как на полянку выйдут, так на глазах и пухнут. Их боязно и в руку взять: такие они большие стали. А на лапках явственно разглядеть можно, как лапотки надеты. Подойдут к каменным губам — и туда. Ходок, видно, есть.
Денис подошёл поближе поглядеть, и каменны губы широко раскрылись, дескать, ам! Денис испугался, понятно, отскочил, а губы не закрываются, будто ждут, и мураши идут своей дорогой прямо в эти губы, ровно ничего не случилось. Денис осмелел маленько, подошёл поближе, заглянул, что там, и видит — место туда скатом крутым идёт, вроде катушки, только самой вязкой глины. Прямо сказать, плывун, чистая салка. По этому плывуну мураши и то еле пробираются. Нет-нет, и лапотки свои оставляют, только не одинаково. У иных салка сразу их снимает, и дальше тот мураш легонько идёт. Другой ниже спускается и прямо на виду в росте прибывает. Вошёл, скажем, в каменны губы ростом с большого жука, а шагнул дальше — вырос с ягнёнка, ещё ниже подался — стал с барана, с телёнка, с быка. Дальше и вовсе гора-горой ползёт, и лапти у него, может, по пуду, а то больше. Пока лапти в салке не оставит, потихоньку идёт, а как снимет все до одного, так и пойдёт скользить не хуже плавунца, и в росте больше не прибывает.
Денис понял тогда, из какого места золотые лапотки приходили, только то ему невдомёк, как Никита этой страсти — больших-то мурашей — не боялся. Подумал так, а мураши и стали один по одному уходить и новых к каменным губам больше не подходит.
«Вон, — думает, — что! Перемежка, видно, тоже бывает, а вот надолго ли?»
Про лапотки он так понял, что их можно прямо рукой из салки добыть. Дениса и потянуло попытать свою долю, — хоть сверху маленько порыться. Только и то смекает, как по такому крутику без каёлки обратно выбраться. Он и стал искать, нет ли поблизости каряжинки либо жердинки суковатой, да и углядел в кусте бадейку. Небольшая бадейка, а широконькая. Тут дровца наготовлены, около них каёлка да две лопатки: одна железная, другая деревянная.
Денис по приискам с малых лет мытарился, понял, — к чему это. Забрал лопатки, кайлу, бадейку, дровец тоже охапочку на поясе прихватил, подошёл к каменным тубам, а они и закрылись. Как два камня один на другом лежат, и никакого ходу тут не бывало.
Запечалился Денис, а что сделаешь? Кайлой такие камни не разворотить. Хотел он обратно в кусты всё составить, да губы опять и открылись. Широко так и будто пошевеливаются — ам! ам! Ну, Денис не струсил, раздумывать не стал — сразу вниз полез. В салке, конечно, лапотков золотых не оказалось, они ниже, в песках загрузли, только добраться до них, кто умеет, недолго. Салку, известно, у нас на горячую железную лопату берут, а того лучше на мокрую деревянную — так блином и поддевай. Денис живо привесился, очистил место и давай из песка золотые лапотки выковыривать. Много нарыл, больших и маленьких. Только глядит — темней да темней стаёт, — губы закрываются. Денис и смекает:
— Видно, я пожадничал, куда мне столько? Возьму две штуки. Одну Никите на помин, другую себе — и хватит.
Надумался так — губы и раскрылись — выходи, дескать.
С каёлкой по какому хочешь скату вылезти просто.
Прихватится, подтянется — и дальше. Вылез Денис и всю орудию на старо место поставил. Один лапоток, который поменьше, в сапог запрятал, а другой, точь-в-точь такой, как у Никиты видел, за пазуху сунул и сразу в Кунгурку пошёл.
Нашёл там тайного купца, про которого разговор был, подкараулил в тихом месте и спрашивает:
— Хочешь к паре купить!
Достал из-за пазухи лапоток да и показывает из своей руки. Купец, понятно, обрадовался:
— Почём золотник!
Денис и говорит:
— Даром отдам, коли укажешь, куда Никиту со старухой запрятал.
Купца, видно, жадность одолела, не поостерёгся и говорит:
— У Мраморского разреза, в старый шурф сбросили.
— Показывай! — говорит Денис.
Пошли. Указал купец:
— Это место!
— Получай тогда! — Денис развернулся и хлоп купца самородкой по лбу.
Самородка-то — она фунтов на пять была. Понимай, что выйдет, коли такой штукой по лбу свистнуть да ещё с полной охотой.
Вскорости этого купца нашли, и золотой лапоток рядом положен — дескать, этой печатью приложено.
Потом из-за этой золотой печатки чуть всех судей не засудили. Каждый, видишь, хотел её себе прикарманить, а другие не давали, жаловались по начальству: такой-то, дескать, вор, грабитель, его по всей строгости судить надо. До той поры это дело тянули, пока до главного судьи не дошли. Тот, понятно, сразу решил:
— Надо, — говорит, — мне эту печатку домой свозить, кислотой опробовать, — точно ли золотая?
Увёз золотой лапоток и сразу его в потайной сундук, а сам взял от старого подсвечника обломок, почистил его маленько, привёз обратно и говорит:
— И рядом с золотом эта штука не лежала.
Все, конечно, видят, — на глазах мошенство сделано, да жаловаться на главного судью не посмели. А он радуется, про себя похваляется:
— Ловко я их обставил! Недаром, видно, меня главным судьёй поставили.
Приехал домой и первым делом полез в потайной сундучок, а его, видно, проел червячок: ничего нет. Хвать-похвать — найти не может. Был золотой лапоток, а стала сквозная дырка. В горсть её не возьмёшь.
И Дениса тоже, сколько ни искали, найти не могли. Он, видно, в Сибирь либо куда в другое место подался.
О каменных губах маленько разговаривали, в котором то-есть месте искать их. На то намекали, что близко Денисовского рудника, только настояще не знаю.
Чего не знаю, того не знаю, выдумывать не согласен. Привычки к этому нет.
1941 г.
Таюткино зеркальце
ыл еще на руднике такой случай.
В одном забое пошла руда со шлифом. Отобьют кусок, а у него, глядишь, какой-нибудь уголышек гладёхонек. Как зеркало блестит, глядись в него — кому любо.
Ну, рудобоям не до забавы. Всяк от стариков слыхал, что эта примета вовсе худая.
— Пойдёт такое — берегись! Это Хозяйка горы зеркало расколотила. Сердится. Без обвалу дело не пройдёт.
Люди, понятно, и сторожатся, кто как может, а начальство — в перву голову. Рудничный смотритель, как услышал про эту штуку, сразу в ту сторону и ходить перестал, а своему подручному надзирателю наказывает:
— Распорядись подпереть проход двойным перекладом из лежаков да вели очистить до надёжного потолка забой. Тогда сам погляжу.
Надзирателем на ту пору пришёлся Ераско Поспешай. Егозливый такой старичонко. На глазах у начальства всегда рысью бегал. Чуть ему скажут, со всех ног кинется и без толку народ полошит, как на пожар.
— Поспешай, робятушки, поспешай! Руднично дело тихого ходу не любит. Одна нога здесь, другая нога — там.
За суматошливость-то его Поспешаем и прозвали.
Только в этом деле и у Поспешая ноги заболели. В глазах свету не стало, норовит чужими поглядеть. Подзывает бергала-плотника да и говорит:
— Сбегай-ко, Иван, огляди хорошенько да смекни, сколько брёвен подтаскивать, и начинайте благословись. Руднично дело, сам знаешь, мешкоты не любит, а у меня, как на грех, в боку колотьё поднялось и поясница отнялась. Еле живой стою. К погоде, видно. Так вы уж без меня постарайтесь! Чтоб завтра к вечеру готово было!
Бергалу податься некуда, — пошёл, а тоже не торопится. Сколь ведь в руднике ни тошно, а в могилу до своего часу всё же никому неохота. Ераско даже пригрозил:
— Поспешай, братец, поспешай! Не оглядывайся! Ленивых-то, сам знаешь, у нас хорошо на пожарной бодрят. Видал, поди?
Он — этот Ераско Поспешай — лисьей повадки человечишко. Говорил сладенько, а на деле самый зловредный был. Никто больше его народу под плети не подводил. Боялись его.
На другой день к вечеру поставили переклады. Крепь надёжная, что говорить, только ведь гора! Бревном не удержишь, коли она осадку даёт. Жамкнет, так стояки-брёвна, как лучинки, хрустнут, и лежакам не вытерпеть: в блин их сдавит. Бывалое дело.
Ераско Поспешай всё же осмелел маленько. Хоть пристанывает и на колотьё в боку жалуется, а у перекладов ходит и забой оглядел. Видит — дело тут прямо смертное, плетями в тот забой не всякого загонишь. Вот Ераско и перебирает про себя, кого бы на это дело нарядить.
Под рукой у Ераска много народу ходило, только смирнее Гани Зари не было. На диво безответный мужик выдался. То ли его смолоду заколотили, то ли такой уродился, — никогда поперёк слова не молвит. А как у него семейная беда приключилась, он и вовсе слова потерял. У Гани, видишь, жена зимним делом на пруду рубахи полоскала да и соскользнула под лёд. Вытащить её вытащили и отводились, да, видно, застудилась и к весне свечкой стаяла. Оставила Гане сына да дочку. Как говорится, красных деток на чёрное житьё.
Сынишко не зажился на свете, вскорости за матерью в землю ушёл, а девчоночка ничего, востроглазенькая да здоровенькая. Таюткой звали. Годов четырёх она от матери осталась, а в своей ровне уж на примете была, — на всякие игры первая выдумщица. Не раз и доставалось ей за это.
Поссорятся девчонки на игре, разревутся да и бегут к матерям жаловаться:
— Это всё Тайка Заря придумала.
Матери, известно, своих всегда пожалеют да приголубят, а Таютке грозят:
— Ах, она, вострошарая! Поймаем вот её, да вицей! Ещё отцу скажем! Узнает тогда, в котором месте заря с зарёй сходится. Узнает!
Таютка, понятно, отца не боялась. Чуяла, поди-ко, что она ему, как порошинка в глазу, — только об ней и думал. Придёт с рудника домой, одна ему услада — на забавницу свою полюбоваться да послушать, как она лепечет о том, о другом. А у Таютки повадки не было, чтобы на обиды свои жаловаться, о весёлом больше помнила.
Ганя с покойной женой дружно жил, жениться второй раз ему неохота, а надо. Без женщины в доме с малым ребёнком, конечно, трудно. Иной раз Ганя и надумает: беспременно женюсь, а как послушает Таютку, так и мысли врозь.
— Вот она у меня какая забавуха растёт, а мачеха придёт — всё веселье погасит.
Так без жены и маялся. Хлеб стряпать соседям отдавал и варево, какое случалось, в тех же печах ставили. Пойдёт на работу, непременно соседским старухам накажет:
— Доглядите вы, сделайте милость, за моей-то.
Те понятно:
— Ладно, ладно. Не беспокойся!
Уйдёт на рудник, а они и не подумают. У всякой ведь дела хоть отбавляй. За своими внучатами доглядеть не успевают, про чужую и подавно не вспомнят.
Хуже всего зимой приходилось. Избушка, видишь, худенькая, теплуху подтапливать надо. Не малой же девчонке это дело доверить. Старухи во-время не заглянут. Таютка и мёрзнет до вечера, пока отец с рудника не придёт да печь не натопит. Вот Ганя и придумал:
— Стану брать Таютку с собой. В шахте у нас тепло. И на глазах будет. Хоть сухой кусок, да во-время съест.
Так и стал делать. А чтобы от начальства привязки не было, что, дескать, женскому полу в шахту спускаться нельзя, он стал обряжать Таютку парнишком. Наденет на неё братнюю одежонку да и ведёт с собой. Рудобои, которые по соседству жили, знали, понятно, что у Гани не парнишко, а девчонка, да им-то что. Видят, — по горькой нужде мужик с собой ребёнка в рудник таскает, жалеют его и Таютку позабавить стараются. Известно, ребёнок! Всякому охота, чтоб ему повеселее было. Берегут её в шахте, потешают, кто как умеет. То на порожней тачке подвезут, то камешков узорчатых подкинут. Кто опять ухватит на руки, подымет выше головы да и наговаривает:
— Ну-ко, снизу погляжу, сколь Натал Гаврилыч руды себе в нос набил. Не пора ли каёлкой выворачивать?
Подшучивали, значит. И прозвище ей дали — Натал Гаврилыч. Как увидят, сейчас разговор:
— А, Натал Гаврилыч!
— Как житьишком, Натал Гаврилыч?
— Отцу пособлять пришёл, Натал Гаврилыч? Дело, друг, дело. Давно пора, а то где же ему одному управиться.
Не каждый, конечно, раз таскал Ганя Таютку с собой, а всё-таки частенько. Она и сама к тому привыкла, чуть не всех рудобоев, с которыми отцу приходилось близко стоять, знала.
Вот на этого-то Ганю Ераско и нацелился. С вечера говорит ему ласковенько:
— Ты, Ганя, утре ступай-ко к новым перекладам. Очисти там забой до надёжного потолка!
Ганя и тут отговариваться не стал, а как пошёл домой, заподумывал, что с Таюткой будет, коли гора его не пощадит.
Пришёл домой, — у Таютки нос от рёву припух, ручонки расцарапаны, под глазом синяк и платьишко всё порвано. Кто-то, видно, пообидел. Про обиду свою Таютка всё-таки сказывать не стала, а только сразу запросилась:
— Возьми меня, тятя, завтра на рудник с собой.
У Гани руки задрожали, а сам подумал:
«Верно, не лучше ли её с собой взять. Какое её житьё, коли живым не выйду!»
Прибрал он свою девчушку, сходил к соседям за похлёбкой, поужинали, Таютка сейчас же свернулась на скамеечке, а сама наказывает:
— Тятя, смотри, не забудь меня разбудить! С тобой пойду.
Уснула Таютка, а отцу, конечно, не до этого. До свету просидел, всю свою жизнь в голове перевёл, в конце концов решил:
— Возьму! Коли погибнуть доведётся, так вместе.
Утром разбудил Таютку, обрядил её по обычаю парнишком, поели маленько и пошли на рудник.
Только видит Таютка, что-то не так: знакомые дяденьки как незнакомые стали. На кого она поглядит, тот и глаза отведёт, будто не видит. И Натал Гаврилычем никто её не зовёт. Как осердились все. Один рудобой заворчал на Ганю:
— Ты бы, Гаврило, этого не выдумывал — ребёнка с собой таскать. Неровен час, — какой случай выйдет.
Потом парень-одиночка подошёл. Сам сбычился, в землю глядит и говорит тихонько:
— Давай, дядя Гаврило, поменяемся. Ты с Таюткой на моё место ступай, а я на твоё.
Тут другие зашумели:
— Чего там! По жеребьёвке надо! Давай Поспешая! Пущай жеребьёвку делает, коли такое дело!
Только Поспешая нет и нет. Рассылка от него прибежал: велел, дескать, спускаться, его не дожидаючись. Хворь приключилась, с постели подняться не может.
Хотели без Поспешая жеребьёвку провести, да один старичок ввязался. Он — этот старичонко — на доброй славе ходил. Бывальцем считали и всегда по отчеству звали, только как он низенького росту был, так маленько с шуткой — Полукарпыч.
Этот Полукарпыч мысли и повернул.
— Постойте-ко, — говорит, — постойте! Что зря горячиться! Может, Ганя умнее нашего придумал. Хозяйка горы наверняка его с дитёй-то помилует. Податная на это, — будьте покойны! Гляди, ещё девчонку к себе в гости сводит. Помяните моё слово.
Этим разговором Полукарпыч и погасил у людей стыд. Всяк подумал: «на что лучше, коли без меня обойдётся», и стали поскорее расходиться по своим местам.
Таютка не поняла, конечно, о чём спор был, а про Хозяйку приметила. И то ей диво, что в шахте всё по-другому стало. Раньше, случалось, всегда на людях была, кругом огоньки мелькали, и людей видно. Кто руду бьёт, кто нагребает, кто на тачках возит. А на этот раз все куда-то разошлись, а они с отцом по пустому месту вдвоём шагают, да ещё Полукарпыч увязался за ними же.
— Мне, — говорит, — в той же стороне работа, провожу до места. Шли-шли, Таютке тоскливо стало, она и давай спрашивать отца:
— Тятя, мы куда пошли? К Хозяйке в гости?
Гаврило вздохнул и говорит:
— Как придётся. Может, и попадём.
Таютка опять:
— Она далёко живёт?
Гаврило, конечно, молчит, не знает, что сказать, а Полукарпыч и говорит:
— В горе-то у ней во всяком месте дверки есть, да только нам не видно.
— А она — сердитая? — спрашивает опять Таютка, а Полукарпыч и давай тут насказывать про Хозяйку, ровно он ей родня либо свойственник. И такая, и сякая, немазаная-сухая. Платье зелёное, коса чёрная, в одной руке— каёлка махонькая, в другой— цветок. И горит этот цветок, как хорошая охапка смолья, а дыму нет. Кто Хозяйке поглянется, тому она этот цветок и отдаст, а у самой сейчас же в руке другой появится.
Таютке это любопытно. Она и говорит:
— Вот бы мне такой цветочек!
Старичонко и на это согласен:
— А что ты думаешь? Может, и отдаст, коли пугаться да реветь не будешь. Очень даже просто.
Так и заговорил ребёнка. Таютка только о том и думает, как бы поскорее Хозяйку поглядеть да цветочек получить. Говорит старику-то:
— Дедо, я ни за что, ну вот, ни за что не испугаюсь и реветь не буду.
Вот пришли к новым перекладам. Верно, крепь надёжная поставлена, и смольё тут наготовлено. Ганя со стариком занялись смольё разжигать. Дело, видишь, такое — осветиться хорошенько надо, одних блёндочек мало, а огонь развести в таком месте тоже без оглядки нельзя.
Пока они тут место подходящее для огнища устроили да с разжогом возились, Таютка стоит да оглядывает кругом, нет ли тут дверки, чтоб к Хозяйке горы в гости пойти.
Глазёнки, известно, молодые, вострые. Таютка и углядела ими — в одном месте, невысоко от земли, вроде ямки кругленькой, а в ямке что-то блестит. Таютка, не того слова, подобралась к тому месту да и поглядела в ямку, а ничего нет. Тогда она давай пальчишком щупать. Чует — гладко, а края отстают, как старая замазка. Таютка и давай то место расколупывать, дескать, пошире ямку сделаю. Живо очистила место с банное окошечко да тут и заревела во всю голову:
— Тятя, дедо! Большой парень из горы царапается!
Гаврило со стариком подбежали, видят — как зеркало в породу вдавлено, шатром глядит и до того человека большим кажет, что и признать нельзя. Сперва-то они и сами испугались, потом поняли, и старик стал над Таюткой подсмеиваться:
— Наш Натал Гаврилыч себя не признал! Гляди-ко, — я нисколь не боюсь того вон старика, даром что он такой большой. Что хоть заставлю его сделать. Потяну за нос — он себя потянет, дёрну за бороду — он тоже. Гляди, — я высунул язык, и он свой ротище раззявил и язык выкатил! Как бревно!
Таютка поглядела из-за дедушкина плеча. Точно — это он и есть, только сильно большой. Забавно ей показалось, как дедушка дразнится. Сама вперёд высунулась и тоже давай всяки штуки строить.
Скоро ей охота стало на свои ноги посмотреть, пониже, значит, зеркало спустить. Она и начала с нижнего конца руду отколупывать. Отец с Полукарпычем глядят — руда под таюткиными ручонками так книзу и поползла, — мелкими камешками под ноги сыплется. Испугались: думали — обвал. Ганя подхватил Таютку на руки, отбежал подальше да и говорит:
— Посиди тут. Мы с дедушкой место очистим. Тогда тебя позовём. Без зову, смотри, не ходи — осержусь!
Таютке горько показалось, что не дали перед зеркалом позабавиться. Накуксилась маленько, губёнки надула, а не заревела. Знала, поди-ко, что большим на работе мешать нельзя. Сидит, нахохлилась, да от скуки перебирает камешки, какие под руку пришлись. Тут и попался ей один занятный. Величиной с ладошку. Исподка у него руда-рудой, а повернёшь — там вроде маленькой чашечки, либо блюдца. Гладко-гладко выкатано и блестит, а на закрайках, как листочки прилипли. А пуще того занятно, что из этой чашечки на Таютку тот же большой парень глядит. Таютка и занялась этой игрушкой.
А тем временем отец со стариком в забое старались. Сперва-то сторожились, а потом на-машок у них работа пошла. Подведут каёлки от гладкого места да и отворачивают породу, а она сыплется мелким куском. Верхушка только потруднее пришлась… Высоко да и боязно, как бы порода большими кусками не посыпалась. Старик велел Гане у забоя стоять, чтоб Таютка на ту пору не подошла, а сам взмостился на чурбаках и живой рукой верх очистил. И вышло у них в забое, как большая чаша в наклон поставлена, а кругом порода узором легла и до того крепкая, что каёлка её не берёт.
Старик, для верности, и по самой чаше не раз каёлкой стукал. Сперва по низу да с оглядкой, а потом начал базгать со всего плеча да ещё приговаривает:
— Дай-ко хвачу по носу старика — пусть на меня не замахивается!
— Хлестал-хлестал, чаша гудит, как литая медь, а от каёлки даже малой чатинки не остаётся. Тут оба уверились — крепко. Побежал отец за Таюткой. Она пришла, поглядела и говорит:
— У меня такое есть! — и показывает свой камешок.
Большие видят, — верно, на камешке чаша и весь ободок из точки в точку. Ну, как есть — только маленькое. Старик тут и говорит:
— Это, Таютка, тебе Хозяйка горы, может, на забаву, а может, и на счастье дала.
— Нет, дедо, я сама нашла.
Гаврило тоже посомневался:
— Мало ли какой случай бывает.
На спор у них дело пошло. Стали в том месте, где Таютка сидела, все камешки перебирать. Даже сходства не обозначилось. Тогда старик и говорит:
— Вот видите, какой камешок! Другого такого в жизнь не найти! Береги его, Таютка, и никому не показывай, а то узнает начальство — отберут.
Таютка от таких слов голосом закричала:
— Не отдам! Никому не отдам!
А сама поскорее камешок за пазуху и ручонкой прижала, — дескать, так-то надёжнее.
К вечеру по руднику слух прошёл:
— Обошлось у Гани по-хорошему. Вдвоем с Полукарпычем они гору руды набили да ещё зеркало вырыли. Цельное, без единой чатинки, и ободок узорчатый.
Всякому, конечно, любопытно. Как к подъёму объявили, народ и кинулся сперва поглядеть. Прибежали, видят — верно, над забоем зеркало наклонилось, и кругом из породы явственно рама обозначилась, как руками высечена. Зеркало не доской, а чашей: в середине поглубже, а по краям на-нет сошло. Кто поближе подойдёт, тот и шарахнется сперва, а потом засмеётся. Зеркало-то, видишь, человека вовсе несообразно кажет. Нос с большой угор, волос на усах как дрова разбросали. Даже глядеть страшно, и смешно тоже. Народу тут и набилось густо. Старики, понятно, оговаривают: не до смеху, дескать, тут дело вовсе сурьёзное. А молодых разве угомонишь, коли на них смех напал. Шум подняли, друг над дружкой подшучивают. Таютку кто-то подтащил к самому зеркалу да и кричит:
— Это вот тот большой парень зеркало открыл!
Другие отзываются:
— И впрямь так! Не будь Таютки, не смеяться бы тут. Таюткино зеркало и есть!
А Таютка помалкивает да ручонкой крепче своё маленькое зеркальце прижимает.
Ераско Поспешай, конечно, тоже услышал про этот случай — сразу выздоровел, спустился в шахту и пошёл к Ганиному забою. Вперёд шёл, так ещё про хворь помнил, а как оглядел место да увидел, что народ не боится, сразу рысью забегал и закричал своим обычаем:
— Поспешай, ребятушки, к подъёму! Не до ночи вас ждать! Руднично дело мешкоты не любит. Эка невидаль — гладкое место в забое пришлось!
А сам, по собачьему положению, другое смекает:
— Рудничному смотрителю не скажу, а побегу к приказчику. Обскажу ему, как моим распорядком в забое такую диковину отрыли. Тогда мне, а не смотрителю, награда будет.
Прибежал к приказчику, а смотритель уж там сидит да ещё над Ераском насмехается:
— Вон что! Выздоровел, Ерастушко! А я думал, тебе и не поглядеть, какую штуку без тебя на руднике откопали.
Ераско завертелся: дескать, за этим и бежал, чтоб тебе сказать.
А смотритель, знай, подзуживает:
— Худые, гляжу, у тебя ноги стали. За всяким делом самому глядеть доводится.
Ераску с горя не лук же тереть. Он думал-думал и придумал:
«Напишу-ко я грамотку заграничной барыне. Тогда еще поглядим, куда дело повернётся».
Ну, и написал. Так, мол, и так, стараньем надзирателя такого-то отрыли в руднике диковинное зеркало. Не иначе — самой Хозяйки горы. Не желаете ли поглядеть?
Ераско это с хитростью подвёл. Он так понял. Приказчик непременно барину о таком случае доведёт, только это ни к чему будет. Барин на ту пору из таких случился, что ни до чего ему дела не было, одно требовал — давай денег больше! А жена у этого из заграничных земель была.
У бар, известно, заведено было по всяким заграницам таскаться. Сысертский барин это же придумал:
«Чем, дескать, я хуже других заводчиков. Поеду, — людей посмотрю, себя покажу».
Ну, поездил у тёплых морей, поразбросал рублей, и домой его потянуло.
Только дорога-то шла через немецки земли, а немцы, видишь, на это дело, чтоб к чужим деньгам подобраться, больно смекалистые.
Видят — барин ума малого, а деньгами ворочает большими, они и давай его обхаживать. Вызнали, что он холостой и пристроились на живца ловить. Подставили, значит, ему немку посытее да повиднее, — из таких всё-таки, коих свои немецкие женихи браковали, и вперебой стали ту немку нахваливать:
— Вот невеста, так невеста! По всем землям объезди, такой не сыщешь. Домой привезёшь, у соседей в глазах зарябит.
Барин всю эту немецкую подлость за правду принял, взял да и женился на той немке. И то ему лестно показалось, что невеста перед свадьбой только о том и говорила, как будет ей хорошо на новом месте жить. Ну, а как обзаконились да подписал барин бумажки, какие ему подсунули, так и поворот этому разговору. Молодая жена сразу объявила:
— Неохота мне что-то, мил любезный друг, на край света забираться. Тут привычнее, да и тебе для здоровья полезно.
Барин, понятно, закипятился:
— Как так? Почему до свадьбы другое говорила? Где твоя совесть?
А немка, знай, посмеивается.
— По нашим — говорит, — обычаям невесте совести не полагается. С совестью-то век в девках просидишь, а это невесело.
Барин горячится, корит жену всякими словами, а ей хоть бы что. Своё твердит:
— Надо было перед свадьбой уговор подписать, а теперь и разговаривать не к чему. Коли тебе надобно, поезжай в свои места один. Сколь хочешь там живи, хоть и вовсе сюда не ворочайся, скучать не стану. Мне бы только деньги посылал во-время. А не будешь посылать — судом взыщу, потому — законом обязан ты жену содержать, да и подпись твоя на это у меня имеется.
Что делать? Одному домой ехать барин поопасался: на-смех, дескать, поднимут, он и остался в немецкой земле. Долгонько там жил, всю заводскую выручку немцам просаживал. Потом, видно, начётисто показалось али другая какая причина вышла, привёз-таки свою немку в Сысерть и говорит:
— Сиди тут.
Ну, ей тоскливо, она и вытворяла, что только удумает. На Азов-горе вон теперь дом с вышкой стоит, а до него, там, сказывают, и не разберёшь что было нагорожено: не то монастырь, не то мельница. И называлась эта строянка Раззор. Этот Раззор при той заграничной барыне и поставлен был. Приедет будто туда с целой оравой, да и гарцуют недели две. Народу от этой барской гулянки не сладко приходилось. То овечек да телят затравят, то кострами палы по лесу пустят. Им забава, а народу маята. За счастье считали, коли в какое лето барыня в наши края не приедет. Ераску, понятно, до этого дела нет, ему бы свою выгоду не упустить, он и послал грамотку с нарочным. И не ошибся, подлая душа. На другой же день на семи ли восьми тройках приехала барыня со своей оравой и первым делом потребовала к себе Ераску.
— Показывай, какое зеркало нашёл!
Приказчик, смотритель и другое начальство прибежали. Узнали дело, отговаривают: никак невозможно женщине в шахту. Только сговорить не могут. Заладила своё:
— Пойду и пойду!
Тут ещё баринок из заграничных бодрится. При ней был. За брата или там за какую родню выдавала и завсегда с собой возила. Этот с грехом пополам балакает:
— Мы, дескать, с ней в заграничной шахте бывали, а это что!
Делать нечего, стали их спускать. Начальство всё в беспокойстве, один Ераско радуется, рысит перед барыней, в две блёндочки ей светит. Довёл-таки до места. Оглядела барыня зеркало. Тоже посмеялась с заграничным баринком, какими оно людей показывает, потом барыня и говорит Ераску:
— Ты мне это зеркало целиком вырежь да в Раззор доставь!
Ераско давай ей втолковывать, что сделать это никак нельзя, а барыня своё:
— Хочу, чтоб это зеркало у меня стояло, потому, как я — хозяйка этой горы! Только проговорила, вдруг из зеркала рудой плюнуло. Барыня завизжала и без памяти повалилась.
Суматоха поднялась. Начальство подхватило барыню да поскорее к выходу. Один Ераско в забое остался. Его, видишь, тем плевком с ног сбило и до половины мелкой рудой засыпало. Вытащить его вытащили, да только ноги ему по-настоящему отшибло, больше не поспешал и народ зря не полошил.
Заграничная барыня жива осталась, только с той поры всё дураков рожала. И не то что недоумков каких, а полных дураков, кои ложку в ухо несут и никак их ничему не научишь.
Заграничному баринку, который хвалился: мы да мы, самый наконешничок носу сшибло. Как ножом срезало, ноздри на волю глядеть стали — не задавайся, не мыкай до времени!
А зеркала в горе не стало: всё осыпалось.
Зато у Таютки зеркальце сохранилось. Большого счастья оно не принесло, а всё-таки свою жизнь она не хуже других прожила. Зеркальце-то, сказывают, своей внучке передала. И сейчас будто оно хранится, только неизвестно, — у кого.
1941 г.
Ключ-камнь
этом ремеслу — камешки-то искать — приверженности не было. Случалось, конечно, нахаживал, да только так… без понятия. Углядишь на смывке галечку с огоньком, ну, и приберёшь, а потом у верного человека спрашиваешь, — похранить али выбросить?
С золотом-то куда проще. Понятно, и у золота сорт есть, да не на ту стать, как у камешков. По росту да по весу их вовсе не разберёшь. Иной, глядишь, большенький, другой много меньше, оба ровно по-хорошему блестят, а на поверку выходит разница. Большой-то за пятак не берут, а к маленькому тянутся: он, дескать, небывалой воды, тут игра будет.
Когда и того смешнее. Купят у тебя камешок и при тебе же половину отшибут и в сор бросят. Это, — говорят, — только делу помеха: куст темнит. Из остатка ещё половину сточат да и хвалятся: теперь в самый раз вода обозначилась и при огне тухнуть не станет. И верно, камешок вышел махонький, а вовсе живенький, ровно смеётся. Ну, и цена у него тоже переливается: услышишь — ахнешь.
Вот и пойми в этом деле!
А разговоры эти, какой камень здоровье хранит, какой сон оберегает, либо там тоску отводит и протча, это всё, по моим мыслям, от безделья рукоделье, при пустой беседе язык почесать, и больше ничего. Только один сказ о камешках от своих стариков перенял. Этот, видать, орешек с добрым ядрышком. Кому по зубам — тот и раскусит.
Есть сказывают, в земле камень-одинец: другого такого нет. Не то что по нашим землям, и у других народов никто такого камня не нахаживал, а слух про него везде идёт. Ну, всё-таки этот камешок в нашей земле. Это уж старики дознались. Неизвестно только, в котором месте, да это по делу и ни к чему, потому — этот камешок сам в руки придёт, кому надо. В том и особинка. Через девчонку одну про это узнали. Так, сказывают, дело-то было.
То ли под Мурзинкой, то ли в другом месте был большой рудник. Золото и дорогие каменья тут выбирали. При казённом ещё положении работы вели. Начальство в чинах да ясных пуговках, палачи при полной форме, по барабану народ на работу гоняли, под барабан сквозь строй водили, прутьями захлёстывали. Одним словом, мука-мученская.
И вот промеж этой муки моталась девчушка Васёнка. Она на том руднике и родилась, тут и росла, и зимы зимовала. Мать-то у ней вроде стряпухи при щегарской казарме была приставлена, а про отца Васёнка вовсе не знала.
Таким ребятам, известно, какое житьё. Кому бы и вовсе помолчать надо, и тот от маяты-то своей, глядишь, кольнёт, а то и колотушку даст: было бы на ком злость сорвать. Прямо сказать, самой горькой жизни девчонка. Хуже сироты круглой. И от работы ущитить её некому. Ребёнок ещё, вожжи держать не под силу, а её уж к таратайке нарядили: «Чем под ногами вертеться, вози-ко песок!»
Как подрастать стала, — пехло в руки да с другими девками-бабами на разборку песков выгонять стали. И вот, понимаешь, открылся у этой Васёнки большой талан на камни. Чаще всех выхватывала, и камешок самый ловкий, вовсе дорогой.
Девчонка без сноровки: найдет и сразу начальству отдаёт. Те, понятно, рады стараться: который камешок в банку, который себе в карман, а то и за щеку. Недаром говорится: что большой начальник в кармане унесёт, то маленькому подальше прятать надо. А Васёнку все похваливают, как сговорились. Прозвище ей придумали— Счастливый Глазок. Какой начальник подойдёт, тот первым делом и спрашивает:
— Ну, как, Счастливый Глазок? Обыскали что?
Подаст Васёнка находку, а начальник и затакает, как гусь на отлёте:
— Так-так. Так-так. Старайся, девушка, старайся!
Васёнка, значит, и старается, да ей это и самой любопытно.
Раз обыскала камешок в палец ростом, так всё начальство сбежалось. Украсть даже никому нельзя стало, поневоле в казённую банку запечатали. Потом уж, сказывают, из царской казны этот камешок в котору-то заграницу ушёл. Ну не о том разговор…
От Васёнкиной удачи другим девкам-бабам не сладко. От начальства прижимка.
— Почему у ней много, а у вас один пустяк да и того мало? Видно, глядите плохо.
Бабёшки, чем бы добром подучить Васёнку, давай её клевать. Вовсе житья девчонке не стало. Тут еще пёс выискался — главный щегарь. Польстился, видно, на Васёнкино счастье да и объявил:
— Женюсь на этой девчонке.
Даром что сам давно зубы съел и ближе пяти шагов к нему не подходи: пропастиной разит, — из нутра протух, а тоже гнусит:
— Я те, девонька, благородьем сделаю. Понимай это и все камешки мне одному сдавай! Другим не показывай вовсе.
Васёнка хоть высоконькая на ногах была, а ещё далеко до невест не дотянула. Подлеток ещё, годов, может тринадцати, много четырнадцати. Да разве на это поглядят, коли начальство велит. Сколь хочешь годов попы по книгам накинут. Ну, Васёнка, значит, и испужалась. Руки-ноги задрожат, как увидит этого протухлого жениха. Поскорее подаёт ему, какие камешки нашла, а он бормочет:
— Старайся, Васёна, старайся! Зимой-то на мягкой перине спать будешь.
Как отойдёт, бабёнки и давай Васёнку шпынять, на-смех поднимут, а она и без того на части бы разорвалась, кабы можно было. После барабана к матери в казарму забежит — того хуже. Мать-то, конечно, жалела девчушку, всяко её выгораживала, да велика ли сила у казарменной стряпухи, коли щегарь ей начальник и всякий день может бабу под прутья поставить. До зимы всё-таки Васёнка провертелась, а дальше невмоготу стало. Каждый день этот щегарь на мать наступать стал:
— Отдавай дочь добром, а то худо будет!
Про малолетство ему и не поминай — бумажку от попов в нос тычет:
— Ещё что сплетёшь? По книгам-то, небось, шестнадцать лет обозначено. Самые законные годы. Коли упрямство своё не бросишь, пороть тебя завтра велю.
Тут мать-то и подалась:
— Не уйдёшь, видно, доченька, от своей доли!
А доченька что? Руки-ноги отнялись, слова сказать не может. К ночи всё-таки отошла и с рудника побежала. Вовсе и не сторожится, прямо по дороге зашагала, а куда, — о том и не подумала. Лишь бы от рудника подальше.
Погода-то тихая да тёплая издалась, и с вечера снег пошёл. Ласковый такой снежок, ровно мелкие пёрышки просыпались. Дорога лесом пошла. Там, конечно, волки и другой зверь. Только Васёнка никого не боится. На то решилась:
— Пускай лучше волки загрызут, лишь бы не за протухлого замуж.
Вот она, значит, и шлёпает да шлёпает. Сперва-то вовсе ходко шла. Вёрст, поди, пятнадцать, а то и все двадцать отхватила. Одежонка у ней не больно справная, а итти не холодно, жарко даже: снегу-то насыпало, почитай, на две четверти, еле ноги вытаскивает, — вот и согрелась. А снег-то всё идёт да идёт. Ещё ровно дружнее стал. Богатство прямо. Васёнка и притомилась, из сил выбилась да на дороге и села.
«Дай, — думает, — отдохну маленько», — а того понятия нет, что в такую погоду садиться на открытом месте хуже всего.
Сидит это, на снежок любуется, а он к ней липнет да липнет. Посидела, а подняться и не может. Только не испугалась, про себя подумала:
«Ещё, ей дно, посидеть надо. Отдохнуть как следует».
Ну, и отдохнула. Снегом-то её совсем завалило. Как копёшка среди дороги оказалась. И вовсе от деревни близко.
По счастью, наутро какому-то деревенскому, — он тоже летами маленько камешками да золотом занимался, — случилось в ту сторону на лошади дорогу торить. Лошадь и насторожилась, зафыркала, не подходит к копёшке. Старатель и разглядел, что человека засыпало. Подошёл поближе, видит — ровно ещё не вовсе охолодал, руки гнутся. Подхватил Васёнку да в сани, прикрыл своим верхним тулупом и домой. Там с женой занялись отхаживать Васёнку. И ведь отутовела! Глаза открыла и пальцы на руках разжала. Глядят, а у ней в руке-то камешок большой блестит, чистой голубой воды. Старатель даже испугался, — ещё в острог за такой посадят, — и спрашивает:
— Где взяла?
Васёнка и отвечает:
— Сам в руку залетел.
— Как так?
Тогда Васёнка и рассказала, как дело было.
Когда её уж вовсе стало засыпать снегом, вдруг открылся перед ней ходок в землю. Неширокий ходок, и темненько тут, а итти можно: ступеньки видать и тепло. Васёнка и обрадовалась.
«Вот где, — думает, — никому из руднишных меня не найти», — и стала спускаться по ступенькам. Долго спускалась и вышла на большое-большое поле. Конца-краю ему не видно. Трава на этом поле кустиками и деревья реденько, — всё пожелтело, как осенью. Поперёк поля река. Черным-чернёхонька, и не пошевельнётся, как окаменела. За рекой, прямо перед Васёнкой, горочка небольшая, а на верхушке камни-голыши: посредине — как стол, а кругом — как табуреточки. Не по человечьему росту, а много больше. Холодно тут и чего-то боязно.
Хотела уж Васёнка обратно податься, только вдруг за горкой искры посыпались. Глядит, — на каменном-то столе ворох дорогих' камней оказался. Разными огоньками горят, и река от них повеселее стала. Глядеть любо. Тут кто-то и спрашивает:
— Это на кого?
Снизу ему кричат:
— На простоту.
И сейчас же камешки искорками во все стороны разлетелись. Потом за горкой опять огнём полыхнуло и на каменный стол камни выбросило. Много их. Не меньше, поди, сенного воза. И камешки покрупнее. Кто-то опять спрашивает:
— Это на кого?
Снизу кричат:
— На терпеливого.
И, как тот раз, камешки полетели во все стороны. Ровно облако жучков поднялось. Та только различка, что блестят по-другому. Одни красным отливают, другие зелёными огоньками посверкивают, голубенькие тоже, жёлтенькие… всякие. И тоже на лету жужжат. Загляделась Васёнка на тех жучков, а за горкой опять огнём полыхнуло, и на каменном столе новый ворошок камней. На этот раз вовсе маленький, зато камни всё крупные и красоты редкой. Снизу кричат:
— Это на удалого да на счастливый глаз.
И сейчас же камешки, как мелкие пташечки, заныряли-полетели во все стороны. Над полем ровно фонарики запокачивались. Эти тихонько летят, не торопятся. Один камешок к Васёне подлетел да, как котёнок головёнкой, в руку и ткнулся — тут, дескать, я, возьми!
Разлетелись каменные птички, тихо да темно стало. Ждёт Васёнка, что дальше будет, и видит — появился на каменном столе один камешок. Ровно вовсе простенький, на пять граней: три продольных да две поперечных. И тут сразу тепло да светло стало, трава и деревья зазеленели, птички запели, и река заблестела, засверкала, запоплескивала. Где голый песок был, там хлеба густые да рослые. И людей появилось многое-множество. Да все весёлые. Кто будто и с работы идёт, а тоже песню поёт.
Васёнушка тут сама закричала:
— Этот кому, дяденьки?
Снизу ей и ответили:
— Тому, кто верной дорогой народ поведёт. Этим ключом-камнем человек землю отворит, и тогда будет, как сейчас видела.
Тут свет потух, и ничего не стало.
Старатель с женой сперва посомневались, потом думают, — откуда у девчонки в руке камешок оказался. Стали спрашивать, чья она да откуда. Васёнка и это без утайки рассказала, а сама просит:
— Тётенька, дяденька! Не сказывайте про меня руднишным!
Муж с женой подумали-подумали да и говорят:
— Ладно, живи у нас… Ухраним как-нибудь, только звать станем Феней. На это имя ты и откликайся.
У них, видишь, своя девчонка недавно умерла, — Феней звали. Как раз в тех же годах. И на то надеялись, что деревня не на казённых, а на демидовских землях пришлась.
Так оно и вышло. Барский староста, понятно, сразу прибылую заметил, да ему что? Не от него, поди-ко, сбежала. Лишний работник не убыток. Стал её на работу наряжать.
Конечно, и в демидовской деревне сладкого было мало, а всё не на ту стать, как на казённом руднике. Ну, и камешок, который в руке у Васёнки оказался, помог. Старатель сбыл-таки потихоньку этот камешок. Понятно, не за настоящую цену, а всё-таки хорошие деньги взял. Маленько и вздохнули.
Как в полный возраст Васёнка пришла, так в этой же деревне и замуж за хорошего парня вышла. С ним и до старости прожила, детей и внуков вырастила.
Старое своё имя да прозвище Счастливый Глазок бабка Федосья, может, и сама забыла, про рудник никогда не вспоминала. Только вот, когда о счастливых находках заговорят, всегда ввяжется.
— Это, — говорит, — хитрости мало — хорошие камешки обыскать, да немного они нашему брату счастья дают. Лучше о том надо заботиться, как ключ земли поскорее вызволить.
И тут расскажет:
— Есть, дескать, камень — ключ земли. До времени его никому не добыть: ни простому, ни терпеливому, ни удалому, ни счастливому. А вот когда народ по правильному пути за своей долей пойдёт, тогда тому, который передом идёт и народу путь кажет, этот ключ земли сам в руки дастся.
Тогда все богатства земли откроются, и полная перемена жизни будет. На то надейтесь!
1941 г.
Провальное место
ашу-то Полевую, сказывают, казна ставила. Никаких ещё заводов тогда в здешних местах не было. С боем шли. Ну, казна, известно. Солдат послали. Деревню-то Горный Щит нарочно построили, чтоб дорога без опаски была. На Гумёшках, видишь, в ту пору видимое богатство поверху лежало, — к нему и подбирались. Добрались, конечно. Народу нагнали, завод устроили, немцев каких-то навезли, они, дескать, первые пособники. А не пошло дело. Не пошло и не пошло. То ли немцы показать не хотели, то ли сами не знали — не могу объяснить, только Гумёшки-то у них безо внимания оказались. Так немцы и объявили — провально это место. С другого рудника брали, а он вовсе и работы не стоил. Вовсе зряшний рудничёшко, тощенький. На таком доброго завода не поставишь. Вот тогда наша Полевая и попала Турчанинову.
До того он, — этот Турчанинов, — солью промышлял да торговал на Строгановских землях, и медным делом тоже маленько занимался. Завод у него был. Так себе заводишко. Мало чем от мужичьих самоделок отошел. В кучах руду-то обжигали, потом варили, переваривали да доваривали. Глядишь — и доводили, да ещё хозяину барыш был. Турчанинову, видно, этот барыш поглянулся.
Как услышал, что у казны медный завод плохо идет, так и подъехал — нельзя ли такой завод получить. Мы, дескать, к медному делу привышны, — у нас пойдёт.
Демидовы и другие заводчики, кои побогаче да поименитее, ни один не повязался. У немцев, думают, толку не вышло — на что такой завод? Убыток один. Так Турчанинову наш завод и отдали, да ещё Сысерть на придачу. Эко-то богатство и вовсе даром!
Приехал Турчанинов в Полевую и мастеров своих со старого места привёз. Насулил им, конечно, того-другого. Купец умел с народом обходиться! Кого хочешь обвести мог.
— Постарайтесь, — говорит, — старички, а уж я вам по гроб жизни.
Ну, ласковый язычок, напал! Смолоду на этом деле понаторел! Про немцев тоже ввернул словечко:
— Неуж против их не выдюжите?
Старикам большой охоты переселяться со своих мест не было, а это слово насчёт немцев-то их задело. Неохота себя ниже немцев показать. Те ещё сами нос задрали, свысока на наших мастеров глядят, будто и за людей их не считают. Старикам и вовсе обидно стало. Оглядели они завод. Видят, хорошо устроено против ихнего-то. Ну, казна строила. Потом на Гумёшки походили, руду тамошнюю поглядели да и говорят прямо:
— Либо тут меднолобые сидят, у коих понятие на руду слабое, либо хуже того: нарочно подстраивают — медь в отвалы перегонять. Коли этих немецких пособников сгонишь, наладим дело. В этом будь без опасенья. Из такой-то руды да в здешних печах половина на половину добыть можно. Только, конечно, соли чтоб безотказно было, как по нашим местам.
Они, слышь-ко, хитрость одну знали — руду с солью варить. На это и надеялись.
Турчанинов уверился на своих мастеров и всем немцам отказал:
— Больше ваших нам не требуется.
Немцам что делать, коли хозяин отказал? Стали собираться кто домой, кто на другие заводы. Только им всё-таки удивительно, как одни мужики управляться с таким делом станут. Немцы и подговорили человек трех из пришлых, кои у немцев при заводе работали.
— Поглядите, — говорят, — нет ли у этих мужиков хитрости какой. На что они надеются — за такое дело берутся? Коли узнаете, весточку нам подайте, а уже мы вам отплатим.
Один из этих, кого немцы подбивали, добрый парень оказался. Он все нашим мастерам и рассказал. Ну, мастера тогда и говорят Турчанинову:
— Лучше бы ты всех рабочих на медный завод из наших краёв набрал, а то видишь, что выходит. Поставишь незнакомого человека, а он, может, от немцев подосланный. Тебе же выгода, чтобы нашу хитрость с медью другие не знали.
Тогда те речи плавильных мастеров Турчанинову шибко к сличью и пришлись. Он и давай наговаривать.
— Спасибо, старички, что надоумили. Век того не забуду. Всё как есть по вашему наученью устрою. Завод в наших местах прикрою и весь народ сюда перевезу. А вы еще подглядите каких людей понадёжнее, я их либо выкуплю, либо на срока заподряжу. Потрудитесь уж, сделайте такую милость, а я вам…
И опять, значит, насулил свыше головы. Не жалко ему! Вином их поит, угощенье поставил, сам за всяко просто пирует с ними, песни поёт, пляшет. Ну, обошёл стариков.
Те приехали домой и давай расхваливать:
— Места привольные, угодья всякие, медь богатимая, заработки по всему видать, добрые будут. Хозяин простяга. С нами пил-гулял, не гнушался. С таким жить можно.
А турчаниновски служки тут как тут. На те слова людей ловят. Так и набрали народу — не то, что для медного заводу, а на все работы хватит. Изоброчили больше, а кого и вовсе откупили. Крепость, вишь, была. Продавали людей-то, как вот скот какой.
Мешкать не стали, в то же лето перевезли всех с семьями на новые места — в Полевую нашу. Назад дорогу, конечно, начисто отломили. Не говоря окупленных оброчным и то обратно податься нельзя. Насчитали им за перевозку столько, что до смерти не выплатишь. А бежать от семьи кто согласён? Своя кровь — жалко. Так и посадил этих людей Турчанинов. Всё едино, как цепью приковал.
Из старых рабочих на медном заводе только того парнюгу оставили, который про немецкую подлость мастерам сказал. Турчанинов и его хотел в гору загнать, да один мастер усовестил.
— Что ты это! Парень полезное нам сделал. Надо его к делу приспособить — смышленый, видать, и родное продавать не согласен.
Потом и спрашивает у парня:
— Ты что при немцах делал?
— Стенбухарем, — отвечает, — был.
— Это, по-нашему, что же будет?
— По-нашему, — отвечает, — около пестов ходить, руду толчи да сеять.
— Это, — говорит мастер, — дело малое — в стенку бухать. А засыпку немецкую знаешь?
— Нет, — отвечает, — не допущали наших. Свой у них был. Наши только подтаскивали, кому сколько велит. По этой подноске я и примечал маленько. Понять была охота. За карнахарем тоже примечать случилось. Это который у них медь чистил, а к плавке вовсе допуску не было.
Мастер послушал-послушал и сказал твёрдое слово:
— Возьму тебя подручным. Учить буду по совести, а ты обратно мне говори, что полезное видел.
Так этого парня — Андрюхой его звали — при печах и оставили. Он живо к делу приобык и скоро сам не хуже того мастера стал, который его учил-то.
Как потом у этого парня житьё обернулось, особый сказ есть, «Две ящерки» прозывается. Ну, не о том дело. А с провальными немцами так и кончилось.
Как прогнал их Турчанинов, так перемена и вышла. Меди во много раз больше пошло. Загремели наши Гумёшки. По всей земле о них слава пошла. На что Строгановы, и тех завидки взяли. Жалобу подали, что Гумёшки на их земле приходятся и Турчанинову зря попали. Надо, дескать, их отобрать да им, Строгановым, отдать.
Чуешь — какое богатство? А немцы из него провально место норовили сделать, потому — на кормежку охочи, а к делу одно раденье, абы видимость была. Вот они какие пособники были! Самое, сказать, провально место.
1942 г.
Тараканье мыло
наших-то правителях дураков всё-таки многонько было. Иной удумает, так сразу голова заболит, как услышишь. А хуже всего с немцами приходилось. Другого хоть урезонить можно, а немца никак. Своё твердит:
— О! Я ошень понималь!
Одному такому — не то он в министрах служил, не то ещё выше — и пришло в башку наших горщиков уму-разуму учить. По немецкому положению первым делом учёного немца в здешние места привёз. Он, дескать, новые места покажет, где какой камень искать, да ещё такие камни отыщет, про которые никто и не слыхивал.
Вот приехал этот немец. Из себя худощавый, а видный. Ходит форсисто, говорит с растяжкой. В очках.
Стал этот приезжий немец по нашим горочкам расхаживать. По старым, конечно, разработкам норовит. Так-то, видно, ему сподручнее показалось.
Подберёт какой камешок, оглядит, подымет руку вверх и скажет с важностью:
— Это есть желесный рута!
— Это есть метный рута!
Или ещё там что.
Скажет так-то и на всех свысока поглядывает: вот, дескать, я какой понимающий. Потом начнёт по-своему, по-немецкому наговаривать. Когда с полчаса долдонит, а сам головой мотает, руками размахивает. Прямо сказать, до поту старался. Известно, деньги плачены — он, значит, видимость и оказывал.
Горное начальство, может, половину того немецкого пустоговорья не понимало, а только про себя смекало: раз этот немец от вышнего начальства присланный, не прекословить же ему. Начальство, значит, слушает немца, спины гнёт да приговаривает:
— Так точно, ваше немецкое благородие. Истинную правду изволите говорить. Такой камешок тут и добывался.
Старым горщикам это немцево похождение за обиду пришлось:
— Как так? Все горы-ложки исходили, исползали, всякий следок-поводок к камню понимать можем, а тут на-ко — привезли незнамого человека, и будто он больше нашего в наших местах понимает. Зря деньги бросили.
Ну, нашлись и такие, кто на немецкую руку потянул. Известно, начальству угодить желают. Разговор повели: он-де шибко учёный, в генеральских чинах да ещё из самой серёдки немецкой земли, а там, сказывают, народ вовсе дошлый: с тараканов сало сымают да мыло варят.
За спор у стариков дело пошло, а тут на это время случился Афоня Хрусталёк. Мужичонка ещё не старый, а на славе. Он из гранильщиков был. Места, где дорогой камешок родится, до пятнышка знал. И Хрустальном его недаром прозвали. Он, видишь, из горных хрусталей, а то и вовсе из стекла дорогие камешки выгонял. И так ловко сделает, что кто и понимающий не сразу в этой Афониной подделке разберётся. Вот за это и прозвали его Хрустальном.
Ну, Афоня на то не обижался.
— Что ж, — говорит, — хрусталёк не простая галька: рядом с дорогим камнем растёт, а когда солнышко ловко придётся, так и вовсе заиграет, не хуже настоящего.
Послушал это Афоня насчёт тараканьего мыла да и говорит:
— Пущай немец сам тем мылом моется. У нас лучше того придумано.
— Как так? — спрашивают.
— Очень, — отвечает, — просто: выпарился в бане докрасна да окатился полной шайкой— и ходи всю неделю, как новенький.
Старики, которые на немца обнадёживались, слышат, к чему Афоня клонит, говорят ему:
— Ты, Афоня, немецкую науку не опровергай.
— Я, — отвечает, — и не опровергаю, а про то говорю, что и мы не без науки живём, и ещё никто не смерил, чья наука выше. В том хитрости мало, что на старых отвалах руду узнать. А ты попробуй новое место показать либо в огранке разобраться, тогда видно будет, сколько ты в деле понятия имеешь. Пусть-ко твой немец ко мне зайдёт. Погляжу я, как он в камнях разбирается.
Про этот Афонин разговор потом вспомнили, как немец захотел на память про здешние места топазову печатку заказать. Кто-то возьми и надоумь:
— Лучше Афони Хрусталька ни у кого теперь печаточных камней не найдёшь.
Старики, которые на немецку руку, стали отговаривать:
— Не было бы тут подделки! Тоже ведь Хрусталёк! Мастак на эти дела.
А немец хвалится:
— О, мой это карашо знайт! Натураль-камень лютше всех объяснять могу.
Раз так хвалит, что сделаешь, — свели к Афоне а тот и показал немцу камешки своей чистой работы.
Не разобрал ведь немец! Две топазовые печатки в свою немецкую сторону увёз да там и показывает: вот, дескать, какой настоящий топаз бывает. А Хрусталёк всё-таки написал ему письмецо.
— Так и так, ваше немецкое благородие. Надо бы тебе сперва очки тараканьим мылом промыть, а то плохо видишь. Печатки-то из жареного стекла тебе проданы.
Горный начальник, как прослышал про это письмецо, накинулся на Афоню:
— Как ты смел, такой-сякой, учёного немца конфузить!
Ну, Хрусталёк не из пужливых был. На эти слова и говорит:
— Он сам себя, поди-ко, сконфузил. Взялся здешним горщикам камни показывать, а у самого толку нет, чтобы камень от бутылочного стекла отличить.
Загнали всё-таки Афоню в каталажку. Посидел он сколько-то, а немец так и не откликнулся. Тоже, видно, стыд поимел. А наши прозвали этого немца — Тараканье мыло.
1942 г.
Живинка в деле
то еще мои старики сказывали. Годков-то, значит, порядком прошло. Ну, всё-таки после крепости было.
Жил в те годы в нашем заводе Тимоха Малоручко. Прозванье такое ему на старости лет дали.
На деле руки у него в полной исправности были. Как говорится, дай бог всякому. При таких руках на медведя с ножом ходить можно. И в остальном изъяну не замечалось: плечо широкое, грудь крутая, ноги дюжие, шею оглоблей не сразу согнешь. Таких людей по старине, как праздничным делом стенку на стенку ходили, звали стукачами: где стукнет, так и пролом. Самолучшие бойцы от этого Тимохи сторонились, — как бы он в азарт не вошел. Хорошо, что он на эти штуки не зарный был.
Недаром, видно, слово молвлено: который силён, тот драчлив не живёт.
По работе Тимоха вовсе ёмкий был, много поднимал и смекалку имел большую. Только покажи, живо переймёт и не хуже тебя сделает.
По нашим местам ремесло, известно, разное.
Кто руду добывает, кто её до дела доводит. Золото моют, платинёшку выковыривают, бутовой да горновой камень ломают, цветной выволакивают. Кто опять весёлые галечки выискивает да в огранку пускает. Лесу валить да плавить приходится немалое число. Уголь тоже для заводского дела жгут, зверем промышляют, рыбой занимаются. Случалось и так, что в одной избе у печки ножи да вилки в узор разделывают, у окошка камень точат да шлифуют, а под полатями рогожи ткут. От хлебушка да скотинки тоже не отворачивались. Где гора дозволяла, там непременно либо покос, либо пашня. Одним словом, пёстренькое дело, и ко всякому сноровка требуется да еще и своя живинка полагается.
Про эту живинку и посейчас не все толком разумеют, а с Тимохой занятный случай в житье вышел. На примету людям.
Он — этот Тимоха, — то ли от молодого ума, то ли червоточина какая в мозгах завелась, — придумал всякое здешнее мастерство своей рукой опробовать да ещё похваляется:
— В каждом до точки дойду.
Семейные и свои дружки-ровня стали отговаривать:
— Ни к чему это. Лучше одно знать до тонкости. Да и житья не хватит, чтобы всякое мастерство своей рукой изведать.
Тимоха на своём стоит, спорит да по-своему считает:
— На лесовала — две зимы, на сплавщика — две весны, на старателя — два лета, на рудобоя — год, на фабричное дело — годов десяток. А там пойдут углежоги да пахари, охотники да рыбаки. Это вроде забавы одолеть. К пожилым годам камешками заняться можно, али модельщиком каким поступить, либо в шорники на пожарной пристроиться. Сиди в тепле да крути колеско, фуганочком пофуркивай, либо шильцом колупайся. Старики, понятно, смеются:
— Не хвастай, голенастый! Сперва тело изведи.
Тимохе неймётся. — На всякое, — кричит, — дерево влезу и за вершинку подержусь.
Старики ещё хотели его урезонить. — Вершинка, дескать, мера не надёжная: была вершинкой, а станет серединкой, да и разные они бывают— одна ниже, другая выше.
Только видят, — не понимает парень. Отступились. — Твоё дело. Чур, на нас не пенять, что во-время не отговорили.
Вот и стал Тимоха ремёсла здешние своей рукой пробовать.
Парень ядрёный, к работе усерден — кто такому откажет. Хоть лес валить, хоть руду дробить — милости просим. И к тонкому делу допуск без отказу, потому — парень со смекалкой, и пальцы у него не деревянные, а с большим понятием.
Много Тимоха перепробовал заводского мастерства и нигде, понимаешь, не оплошал. Не хуже людей у него выходило.
Женатый уж был, ребятишек полон угол с женой накопили, а своему обычаю не попускался. Дойдёт до мастера по одному делу и сейчас же поступит в выученики по другому. Убыточно это, а терпел, будто так и надо. По заводу к этому привыкли, при встречах подшучивали:
— Ну, как, Тимофей Иваныч, всё ещё в слесарях при механической ходишь, али в шорники на пожарную подался?
Тимоха к этому без обиды. Отшучивается:
— Придёт срок — ни одно ремесло наших рук не минует.
В эти вот годы Тимоха и объявил жене: хочу в углежоги податься. Жена чуть не в голос взвыла:
— Что ты, мужик! Неуж ничего хуже придумать не мог? Всю избу прокоптишь! Рубах у тебя не достираешься. Да и какое это дело! Чему тут учиться?
Это она, конечно, без понятия говорила. По нонешним временам, при печах-то, с этим попроще стало, а раньше, как уголь в кучах томили, вовсе мудрёное это дело было. Иной всю жизнь колотится, а до настоящего сорта уголь довести не может. Домашние поварчивают:
— Наш тятенька всех на работе замордовал, передышки не даёт, а всё у него трухляк да мертвяк выходит. У соседей вон песенки попевают, а уголь звон-звоном. Ни недогару, ни перегару у них нет и квёлого самая малость.
Сколько ни причитала Тимохина жена, уговорить не могла. В одном обнадёжил:
— Недолго, поди-ко, замазанным ходить буду.
Тимоха, конечно, цену себе знал. И как случится ремесло менять, первым делом о том заботился, чтоб было у кого поучиться. Выбирал, значит, мастера.
По угольному делу тогда на большой славе считался дедушко Нефёд. Лучше всех уголь доводил. Так и назывался — Нефёдовский уголь. В сараях этот уголёк отдельно ссыпали. На самую тонкую работу выдача была.
К этому дедушке Нефёду Тимоха и заявился. Тот, конечно, про Тимохино чудачество слыхал и говорит:
— Принять в выученики могу, без утайки всё показывать стану, только с уговором. От меня тогда уйдёшь, как лучше моего уголь доводить навыкнешь.
Тимоха понадеялся на свою удачливость и говорит:
— Даю в том крепкое слово.
На этом, значит, порешили и вскорости в курень поехали.
Дедушко Нефёд — он, видишь, из таких был… обо всяком деле думал, как его лучше сделать. На что просто чурак на плахи расколоть, а у него и тут разговор.
— Гляди-ко! Сила у меня стариковская, совсем на исходе, а колю не хуже твоего. Почему, думаешь, так-то?
Тимоха отвечает: топор направлен и рука привычная.
— Не в одном, — отвечает, — топоре да привычке тут дело, а я ловкие точечки выискиваю.
Тимоха тоже стал эти ловкие точечки искать. Видит— правда в Нефёдовых словах есть, да и самому забавно. Иной чурак так разлетится, что любо станет, а думка всё же останется, — может ещё бы лучше по другой точечке стукнуть.
Так Тимоха сперва на эти ловкие точечки и поймался.
Как стали плахи в кучи устанавливать, дело вовсе хитрое пошло. Мало того, что всякое дерево по-своему ставить доводится, а и с одним деревом случаев не сосчитаешь. С мокрого места сосна — один наклон, с сухого — другой. Раньше рублена — так, позже — иначе. Потолще плахи — продухи такие, пожиже — другие, жердевому расколу — особо. Вот и разбирайся. И в засыпке землёй тоже.
Дедушка Нефёд всё это объясняет по совести, — да и то вспоминает, у кого чему научился.
— Охотник один научил к дымку принюхиваться. Они — охотники-то — на это дошлые. А польза сказалась. Как учую — кислым потянуло, сейчас тягу посильнее пущу. Оно и ладно.
Набег лая женщина надоумила. Остановилась как-то около кучи погреться да и говорит: «С этого боку жарче горит».
— Как, — спрашиваю, — узнала?
— А вся обойди, — говорит, — кругом, сам почуешь.
Обошёл я, чую — верно сказала. Ну, подсыпку сделал, поправил дело. С той поры этого бабьего совету никогда не забываю. Она, по бабьему положению, весь век у печки толкошится, привычку имеет жар разбирать.
Рассказывает так-то, а сам нет-нет про живинку напомнит:
— По этим вот ходочкам в полных потёмочках наша живинка-палёнушка и поскакивает, а ты угадывай, чтоб она огнёвкой не перекинулась, либо пустодымкой не обернулась. Чуть не доглядел, — либо перегар, либо недогар будет. А коли все дорожки ловко улажены, уголь выйдет звон-звоном.
Тимохе всё это любопытно. Видит — дело не простое, попотеть придётся, а про живинку всё-таки не думает.
Уголь у них с дедушкой Нефёдом, конечно, первосортный выходил, а всё же, как станут разбирать угольные кучи, одна в одну никогда не придётся.
— А почему так? — спрашивает дедушка Нефёд, а Тимоха и сам это же думает: в каком месте оплошку сделал?
Научился Тимоха и один всю работу доводить. Не раз случалось, что уголь у него и лучше Нефёдова бывал, а всё-таки это ремесло не бросил. Старик посмеивался:
— Теперь, брат, никуда не уйдёшь: поймала тебя живинка, до смерти не отпустит.
Тимоха и сам дивился — почему раньше такого с ним никогда не случалось.
— А потому, — объясняет дедушка Нефёд, — что ты книзу глядел, — на то значит, что сделано, а как кверху поглядел, — как лучше делать надо, тут живинка тебя и подцепила. Она, понимаешь, во всяком деле есть, впереди мастерства бежит и человека за собой тянет. Так-то, друг!
По этому слову и вышло. Остался Тимоха углежогом, да ещё и прозвище себе придумал. Он, видишь, любил молодых наставлять и всё про себя рассказывал, как он хотел смолоду все ремёсла одолеть, да в углежогах застрял.
— Никак, — говорит, — не могу в своём деле живинку поймать. Шустрая она у нас. Руки, понимаешь, малы.
А сам ручинами-то своими разводит. Людям, понятно, смех. Вот Тимоху и прозвали Малоручком. В шутку, конечно, а так мужик вовсе на доброй славе по заводу был.
Как дедушко Нефёд умер, так Малоручков уголь в первых стал. Тоже его отдельно в сараях ссыпали. Прямо сказать, мастер в своём деле был.
Его-то внуки-правнуки посейчас в наших местах живут. Тоже которые живинку, — всяк в своём деле, — ищут только на руки не жалуются. Понимают, поди-ко, что наукой можно человечьи руки наростить выше облака.
1942 г.
Хрустальный лак
аши старики по Тагилу да по Невьянску тайность одну знали. Не то чтоб сильно по важному делу, а так, для домашности да для веселья глазу они рисовку в железо вгоняли.
Ремесло занятное и себе не в убыток, а вовсе напротив. Прибыльное, можно сказать, мастерство. Поделка, видишь, из дешёвых, спрос на неё большой, а знающих ту хитрость мало. Семей, поди, с десяток по Тагилу да столько же, может, по Невьянску. Они и кормились от этого ремесла. И неплохо, сказать, кормились.
Дело по видимости простое. Нарисуют кому что любо на железном подносе, либо того проще — вырежут с печатного картинку какую, наклеят её и покроют лаком. А лак такой, что через него всё до капельки видно, и станет та рисовка либо картинка как влитая в железо. Глядишь и не поймёшь, как она туда попала. И держится крепко. Ни жаром, ни морозом её не берёт. Коли случится какую домашнюю кислоту на поднос пролить либо вино сплеснуть — вреда подносу нет. На что едучие настойки в старину бывали, от тех даже пятна не оставалось. Паяльную кислоту, коей железо к железу крепят, и ту, сказывают, доброго мастерства подносы выдерживали. Ну, конечно, ежели царской водкой либо купоросным маслом капнуть — дырка будет. Тут не заспоришь, потому как против них не то что лак, а чугун и железо выстоять не могут.
Сила мастерства, значит, в этом лаке и состояла.
Такой лачок, понятно, не в лавках покупали, а сами варили. А как да из чего, про то одни главные мастера знали и тайность эту крепко держали.
Назывался этот лак, глядя по месту, либо тагильским, либо невьянским, а больше того — хрустальным.
Слух об этом хрустальном лаке далеко прошёл и до немцев, видно, докатился. И вот объявился в здешних местах, вроде сказать, проезжающий барин из немцев. Птаха, видать, из больших. От заводского начальства ему всё устроено, а урядник да стражники чуть не стелют солому под ноги тому немцу.
Стал этот проезжающий будто заводы да рудники осматривать. Глядит легонько, с пятого на десятое, а мастерские, в коих подносы делали, небось, ни одну не пропустил. Да ещё та заметка вышла, что в провожатых в этом разе завсегда урядник ходил.
В мастерских покупал немец поделку, всяко её нахваливал, а больше того допытывался, как такой лак варят.
Мастера, как на подбор, из староверов были. Сердить урядника им не с руки, потому — он может прижимку по вере подстроить. Мастера, значит, и старались мяконько отойти: со всяким обхождением плели немцу околесицу. И так надо понимать, — спозаранку сговорились, потому — в одно слово у них выходило.
Дескать, так и так, варим на постном масле шеллак да сандарак. На ведро берём одного столько-то, другого — столько да ещё голландской сажи с пригоршни подкидываем. Можно и побольше — это делу не помеха. А время так замечать надо. Как появится на масле первый пузырь, читай от этого пузыря молитву исусову три раза да снимай с огня. Коли ловко угадаешь, выйдет лак слеза-слезой, коли запозднишься либо заторопишься — станет сажа-сажей.
Немец все составы записал, а про время мало любопытствовал. Рассудил, видно, про себя: были бы составы ведомы, а время по минутам подогнать можно.
С тем и уехал. Какой хрусталь у него вышел, про то не сказывал. Только вскорости объявился в Тагиле опять немец. Этот вовсе другой статьи. Вроде как из лавочных сидельцев, кои навыкли всякого покупателя оболтать да облапошить. Смолоду, видно, на нашей земле топчется, потому — говорит чётко. Из себя пухлявый, а ходу лёгкого: как порховка по заводу летает. На немца будто и не походит, и прозванье ему самое простое — Фёдор Фёдорыч. Только глаза у этого немецкого Двоефеди белесые, вовсе бесстыжие, и руки короткопалые. Самая, значит, та примета, которая вора кажет. Да ещё приметливые люди углядели: на правой руке рванинка. Накосо через всю ладонь прошла. Похоже, либо за нож хватался, либо рубанули по этому месту, да скользом пришлось. Одним словом, из таких бывальцев, с коими один на один спать остерегайся.
Вот живёт этот короткопалый Двоефедя в заводе неделю, другую. Живёт месяц. Со всеми торгашами снюхался, к начальству вхож, с заводскими служаками знакомство свёл. Попить-погулять в кабаке не чурается и денег, видать, не жалеет: не столь у других угощается, сколько сам угощает. Одно слово, простягу из себя строит. Только и то замечают люди. Дела у него никакого нет, а разговор к одному клонит: про подносных мастеров расспрашивает, кто чем дышит, у кого какая семейственность да какой норов. Ну, всё до тонкости. И то, как говорится, ему скажи, у кого, в котором месте спина свербит, у кого ноги мокнут.
Расспрашивает этак-то, а сам по мастерским не ходит, будто к этому без интересу. Ну, заводские, понятно, видят, о чём немец хлопочет, меж собой пересмеиваются:
— Ходит кошка, воробья не видит, а тот близенько поскакивает, да сам зорко поглядывает.
Любопытствуют, что дальше будет. Через какую подворотню короткопалый за хрустальным лаком подлезать станет.
Дело, конечно, не из лёгоньких. Староверы, известно, народ трудный. Без уставной молитвы к ним и в избы не попадёшь. На чужое угощенье не больно зарны. Когда, случается, винишком забавляются, так своим кругом. С чужаками в таком разе не якшаются, за грех даже такое почитают. Вот и подойди к ним!
За деньги тоже никого купить невозможно, потому — видать, что за эту тайность у всех мастеров головы позаложены. В случае чего остальные артелью убить могут.
Ну, всё-таки немец нашёл подход.
В числе прочих мастеров по подносному делу был в Тагиле Артюха Сергач. Он, конечно, тоже из староверов вышел, да от веры давно откачнулся. С молодых лет, сказывают, слюбился с одной девчонкой. Старики давай его усовещать: негоже дело, потому она из церковных, а он упёрся: хочу с этой девахой в закон вступить. Тут, понятно, всего было. Только Артюха на своём устоял и от старой веры отшатился. А как мужик задорный, он ещё придумал серёжку себе в ухо пристроить. Нате-ко, мол, поглядите! За это Артюху и прозвали Сергачом.
К той поре Артюха уж в пожилых ходил. Вовсе густобородый мужик, а задору не потерял. Нет-нет и придумает что-нибудь новенькое: либо какую неугодную начальству картинку в поднос вгонит. Из-за этого Артюхина поделка на большой славе была.
Тайность с лаком он, конечно, не хуже других мастеров знал.
Вот к этому Артюхе Сергачу и стал немецкий Двоефедя подъезжать с разговорами, а тот, можно сказать, сам навстречу идёт. Не хуже немца на пустом месте разводы разводит.
Кто настояще понимал Артюху, те переговариваются:
— Мужик с выдумкой — покажет он короткопалому коку с сокой.
А мастера, кои тайность с лаком знали, забеспокоились, грозятся:
— Гляди, Артемий! Выболтаешь — худо будет.
Сергач на это и говорит по-хорошему:
— Что вы, старики. Неуж у меня совесть подымется своё родное немцу продать. Другой, поди-ко, интерес имею. Того немца обманно тележным лаком спровадили, а этого мне охота в таком виде домой пустить, чтоб в башке угар, а в кошельке хрусталь. Тогда, небось, другим неповадно будет своим нюхтилом в наши дела соваться.
Мастера всё-таки своё твердят:
— Дело твоё, а в случае — не пощадим!
— Какая, — отвечает, — может быть пощада за такие дела! Только будьте в надежде — не прошибусь. И о деньгах не беспокойтесь. Сколь выжму из немца, на всех разделю, потому лак не мой, а наш тагильский да невьянский.
Мастера недолюбливали Артюху за старое, а всё-таки знали, — в словах он не вёрткий, что скажет, то и сделает. Поверили маленько, ушли, а Сергач после этого разговору в открытую по кабакам с немцем пошёл да ещё сам стал о хрустальном лаке заговаривать.
Немец, понятно, рад-радёхонек, словами Артюху всяко подталкивает. Ну, ясное дело, договорились.
— Хошь — продам?
И сразу цену сказал. С большим, конечно, запросом.
Немец сперва хитрил: дескать, раденья к такому делу не имею. Мало погодя рядиться стал. Столковались за сколько-то там тысяч, только немец уговаривается.
— За одну словесность ни копейки не дам. Сперва ты мне всё покажи: как варят, как им железо кроют. Когда всё своими глазами увижу да своей рукой опробую, тогда получай сполна.
Артюха на это смеётся:
— Наша, — говорит, — земля таких дураков не рожает, чтоб сперва тайность открыть, а потом расчёт выхаживать. Тут, — говорит, — заведено наоборот: сперва деньги на кон, потом показ будет.
Немец, понятно, жмётся, — боится деньги просадить.
— Не согласен, — говорит, — на это.
Тогда Артюха вроде как на уступку пошёл.
— Коли, — говорит, — ты такой боязливый, вот моё последнее слою. Тысячу рублей задаток отдаёшь сейчас, остальные деньги надёжному заручнику. Ежели я что сделаю неправильно— получай эти деньги обратно, ежели у тебя понятия либо духу не хватит — мои деньги.
Этот разговор о заручнике пришёлся по нраву немцу, он и давай перебирать своих знакомцев. Этого, дескать, можно бы, либо вон того. Хорошие люди, самостоятельные. И всё, понятно, торгашей выставляет. Послушал Артюха и отрезал прямиком.
— Не труди-ко язык! Таких мне и близко не надо. Заручником ставлю дедушка Мирона Саватеича из Литейной. Он хоть старой веры, а правильной тропой ходит. Кого хочешь спроси. Самая подлая душа не насмелится худое про него сказать. Ему и деньги отдашь. А коли надобно свидетелей, ставь двоих, каких тебе любо, только с уговором, чтоб при показе они своих носов не совали. К этому не допускаю.
Немцу делать нечего — согласился. Вечером сходили к дедушке Мирону. Он по началу заартачился. Строго так стал доспрашивать Артюху:
— Какое твоё право тайность продавать, коли ей другие мастера тоже кормятся!
Артюха на это говорит:
— Наши мастера не без глаз ходят, и я свою голову не в рубле ставлю. Одна серёжка, поди-ко, дороже стоит, потому — золотая да ещё с камнем. А только, знаешь, в игре на каждую сторону заводило полагается.
Немец, понятно, не уразумел этого разговору, а дедушко Мирон понял, — мастерам дело известно, с немцем игра на смекалку идёт, а заводилом с нашей стороны поставлен Артюха Сергач.
Дедушко ещё подумал маленько. Перевёл, видно, в голове, почему Артюху заводилом ставят. И то прикинул, — мужик с причудой, а надёжный — говорит твёрдо.
— Ладно. Приму деньги при двух свидетелях. А какой уговор будет?
Артюха и спрашивает:
— Знаешь наше ремесло?
— Как, — отвечает, — не знать, коли в этом заводе век живу. Видал, как подносы выгибают да рисовку на них выводят, либо картинки наклеивают, а потом в горячих банях ту поделку лаком кроют. А какого составу тот лак — это ведомо только мастерам.
— Ну, так вот, — говорит Артюха, — берусь я на глазах этого приезжего сварить лак, и может он мерой и весом записать составы. А когда лак доспеет, берусь при этом же приезжем покрыть дюжину подносов, какие он выберет. И может он, коли пожелает и силы хватит, своей рукой ту работу попробовать. Коли после этого поделка окажется хорошей, отдашь деньги мне, коли что не выйдет — деньги обратно ему.
Немец своё выговаривает: сварить лаку не меньше четвертной бутыли, до дела лак хранить за печатью, и остаток может немец взять с собой.
Артюха на это согласен, одно оговорил:
— Хранить за печатью в стеклянной посуде, чтоб отстой во-время углядеть.
Столковались на этом. Дедушко Мирон тогда и говорит немецкому Двоефеде:
— Тащи деньги. Зови своих свидетелей. Надо при них уговор сказать, чтоб потом пустых разговоров не вышло.
Сбегал немец за деньгами, привёл двух своих знакомцев. Артюха вдругорядь сказал уговор, а немец своё выставляет да ещё то выряжает, чтобы дюжину подносов, кои при пробе выйдут, ему получить бесплатно.
Артюха усмехнулся и промолвил:
— Тринадцатый на придачу получишь!
Немец после этого поёжился, похинькал, что денег много закладывать надо, да дедушко Мирон заворчал:
— Коли денег жалко, на что тогда людей беспокоишь. Не от безделья мне с тобой балясничать! Либо отдавай деньги, либо ступай домой!..
Отдал тогда немец деньги, а Сергач и говорит:
— С утра приходи, — лак варить буду.
На другой день немец прибежал с весами да какими-то трубочками и четвертную бутыль приволок.
Артюха, конечно, стал лак варить из тех сортов, про кои проезжему немецкому барину сказывалось. Короткопалый Двоефедя, видать, сомневается, а сперва молчал. Ну, как стал Артюха горстями сажу подкидывать, не утерпел, проговорился:
— Чёрный лак из этого выйдет!
Артюха прицепился к этому слову:
— Ты как узнал? Видно, сам варить пробовал?
Немец отговаривается: по книжкам, дескать, составы знаю, а самому варить не доводилось. Артюха своё твердит:
— А я вижу — сам варил!
Немец тут строгость на себя напустил:
— Что, дескать, за шутки такие! Собрались по делу, а не для пустых разговоров!
Под эти перекоры лак и сварился. Снял Артюха с огня казанок, а как он чуть поостудился, немец всю варю слил в четвертину и наладился домой тащить, да Артюха не допустил.
— Припечатывать, — говорит, — припечатывай, а место лаку в моей малухе должно быть.
Немец тут давай улещать Артюху. То да сё насказывает, а в конце концов говорит:
— По какой причине мне не веришь?
— А по той, — отвечает, — причине, коя у тебя на ладошке обозначена.
Немцу это вроде не по губе пришлось. Сразу ладонь книзу и говорит:
— Это делу не касательно.
Только Артюха не сдаёт:
— Человечья рука, — говорит, — ко всякому касательна. По руке о делах дознаться можно.
Короткопалый тут вовсе осердился, запыхтел, зафыркал, припечатал бутыль своей немецкой печатью и погрозил:
— Перед делом при свидетелях печать огляжу!
— Это, — отвечает Артюха, — как тебе угодно. Хоть всех своих знакомцев зови.
С тем и разошлись. Немец, понятно, каждый день наведывался, — не пора ли?
Только Артюха одно говорил: рано. Мастера тоже приходили лак поглядеть. Поглядят, ухмыльнутся и уйдут. Дней так через пяток, как в бутыли отстой обозначаться стал, объявил: можно лакировать.
На другой день немец свидетелей привёл и дедушко Мирон тоже пришёл. Оглядел печать, подносы немец выбрал, в бане тоже всё досмотрели, нет ли какой фальши.
Дедушко Мирон для верности спросил немца, дескать, всё ли в порядке? Немец сперва зафинтил, — может, что не доглядели, а дедушко ему навстречу:
— А ты догляди! Не торопим.
Немец потоптался-потоптался, признал:
— Фальши не замечаю, а только сильно тут жарко. При работе надо двери отворить.
Артюха на это замялся и говорит:
— Жар ещё весь впереди, как на каменку поддавать буду.
Дедушко Мирон и те другие-то свидетели, даром что из торгашей, это же сказали:
— Всем, дескать, известно, что лак наводят по баням в самом горячем пару, — как только может человек выдюжить.
На этом разговор кончился. Ушли свидетели и дедушко Мирон с ними. Остался Артюха один на один с немецким Двоефедей и говорит:
— Давай разболокаться станем. Без этого на нашей работе не вытерпеть. И тебе надёжнее, что ничего с собой не пронесу.
А сам посмеивается да бороду поглаживает.
Баня, и верно, вовсе жарко натоплена была. Дров для такого случаю Артюха не пожалел, на натурность свою понадеялся. Немец ещё в предбаннике раскис, в баню зашёл — вовсе туго стало, а как стал Артюха полной шайкой на каменку плескать, немец на пол лёг и слова вымолвить не может, только кряхтит да керкает.
Артюха кричит:
— Полезай на полок! Там, поди-ко, у нас всё наготовлено.
А куда немец полезет, коли к полу еле жив прижался, головы поднять не может. Артюха на что привычен и то чует— перехватил малость. Усилился всё-таки, забрался на полок и давай там подносы перебирать, а сам покрикивает:
— Вот гляди! Лаком плесну, кисточкой размахну — и готов поднос. Понял?
Немец ползёт поближе к дверям да бормочет:
— Ох, понял.
Артюха, конечно, живо перебрал подносы, соскочил на пол и давай окачиваться холодной водой. Баня, известно, не вовсе раздольное место: брызги на немца летят. Поросёнком завизжал и выскочил из бани. Следом Артюха выбежал, баню на замок запер и говорит:
— Шесть часов для просушки.
Немец, как отдышался, припечатал двери своей печатью. Как время пришло, опять при дедушке Мироне и обоих свидетелях стал Артюха поделку сдавать. Всё, конечно, оказалось в полной исправности, и лаку издержано самая малость. Дедушко Мирон тогда и говорит:
— Ну, дело кончено. Получай, Артемий, деньги.
И подаёт ему пачку. Свидетели тоже помалкивают, а немец ещё придирку строит.
— Тринадцатый, — говорит, — поднос где?
Артюха отвечает:
— За этим дело не станет. В уговоре не было, чтоб на этот поднос в той же партии лак заводить. Я и сделал его особо. Сейчас принесу. Сразу узнаешь, что для тебя готовлено.
И вот, понимаешь, приносит поднос, а на нём короткопалая рука ладонью вверх. На ладони рванинка обозначена. И лежит на этой ладошке семишник, а сверху чёткими буковками подписано:
«Испить кваску после баньки».
Покрыт поднос самым первосортным хрустальным лаком. Как влита рука-то в железо.
Немец, понятно, зафыркал, заругался, судом грозил да так ни с чем и отъехал.
А Сергач после того собрал всех мастеров по подносному делу, которые в Тагиле жили, и невьянских тоже. Дедушко Мирон к этому случаю подошёл. Артюха тогда и рассказал всё по порядку, — как он с немцем хороводился и что из этого вышло. Потом выложил на стол деньги, которые через дедушку Мирона получил, и свою тысячу, какую в задаток от Двоефеди выморщил, туда же прибавил да и говорит:
— Вот разделите без обиды.
Мастерам стыдно ни за что, ни про что деньги брать, отговариваются, — мы, дескать, к этому не причастны, а сами на пачку поглядывают. Потом разговор к тому клонить стали, чтоб Артюхе двойную долю выделить, только он наотрез отказался.
— С меня, — говорит, — и того хватит, что позабавился над этим немецким Двоефедей.
Пузырёк с хрустальным лаком Артюха, конечно, в бороде тогда прятал.
1942 г.
Иванко-Крылатко
ро наших Златоустовских сдавна сплётка пущена, будто они мастерству у немцев учились. Привезли, дескать, в завод сколько-то немцев. От них здешние заводские и переняли, как булатную сталь варить, как рисовку и насечку делать, как позолоту наводить. И в книжках будто бы так записано.
Только этот разговор в половинку уха слушать надо, а в другую половинку то лови, что наши старики сказывают. Вот тогда и поймёшь, как дело было, — кто у кого учился.
То правда, что наш завод под немецким правлением бывал. Года два ли, три вовсе за немцем-хозяином числился. И потом, как обратно в казну отошёл, немцы долго тут толкошились. Не дом, не два, а полных две улицы набилось. Так и звались Большая немецкая — это которая меж горой Бутыловкой да Богданкой, — и Малая немецкая. Церковь у немцев своя была, школа тоже, и даже судились немцы своим судом.
Только и то надо сказать, что других жителей в заводе довольно было. Демидовкой не зря один конец назывался. Там демидовские мастера жили, а они, известно, булат с давних годов варить умели.
Про башкир тоже забывать не след. Эти и вовсе задолго до наших в здешних местах поселились.
Народ, конечно, небогатый, а конь да булат у них такие случались, что век не забудешь. Иной раз такой узор старинного мастерства на ноже либо сабле покажут, что по ночам тот узор тебе долго снится.
Вот и выходит — нашим и без навозного немца было у кого поучиться. И сами, понятно, не без смекалки были, к чужому своё добавляли. По старым поделкам это въявь видно. Кто и мало в деле понимает, итог по этим поделкам разберёт, походит ли баран на беркута, — немецкая, то-есть, работа на здешнюю.
Мне вот дедушко покойный про один случай сказывал. При крепостном ещё положении было. Годов, поди, за сто. Немца в ту пору жировало на наших хлебах довольно, и в начальстве всё немцы ходили. Только уж пошёл разговор — зря, дескать, такую ораву кормим, ничему немцы наших научить не могут, потому сами мало дело понимают. Может, и до высокого начальства такой разговор дошёл. Немцы и забеспокоились. Привезли из своей земли какого-то Вурму ли Мумру. Этот, дескать, покажет, как булат варить. Только ничего у Мумры не вышло. Денег проварил уйму, а булату и плиточки не получил. Немецкому начальству вовсе конфуз. Только вскорости опять слушок по заводу пустили: едет из немецкой земли самолучший мастер. Рисовку да позолоту покажет, про какие тут и слыхом не слыхали. Заводские после Мумры-то к этой немецкой хвастне безо внимания. Меж собой одно судят:
— Язык без костей. Мели, что хочешь, коли юля дана.
Только верно— приехал немец. Из себя видный, а кличка ему Штоф. Наши, понятно, позубоскальничали маленько.
— Штоф не чекушка. Двоём усидишь, и то песни запоёшь. Выйдет, значит, дело у этого Штофа.
Шутка шуткой, а на деле оказалось — понимающий мужик. Глаз хоть на выкате, а верный, руке с инструментом полный хозяин и на работу не ленив. Прямо сказать, мастер. Одно не поглянулось: шибко здыморыльничал и на всё здешнее фуйкал. Что ему ни покажут из заводской работы, у него одно слою: фуй да фуй. Его за это и прозвали Фуйко Штоф.
Работал этот Фуйко по украшению жалованного оружия. Как один, у него золотые кони на саблях выходили, и позолота без пятна. Ровно лежит, крепко. И рисовка чистая. Всё честь-честью выведено. Копытца стаканчиками, ушки пенёчками, чолку видно, глазок-точечка на месте поставлена, а в гриве да хвосте тоже силышки считай. Стоит золотой конёк, а над ним золотая коронка. Тоже тонко вырисована. Все жички-цепочки разобрать можно. Одно не поймёшь — к чему она тут над коньком пристроилась.
Отделает Фуйко саблю и похваляется:
— Это есть немецкий рапота.
Начальство ему поддувает:
— О, та. Такой тонкий рапота руски понимайт не может.
Нашим мастерам, понятно, это в обиду. Заподумывали, кого бы к немцу подставить, чтобы не хуже сделал. Говорят начальству, — так и так, надо Штофу на выучку из здешних кого определить. Положение такое есть, а начальство руками машет, своё твердит:
— Это есть ошень тонкий рапота. Руски понимайт не может.
Наши мастера на своём стоят, а сами думают, кого поставить. Всех хороших рисовщиков и позолотчиков, конечно, наперечёт знали, да ведь не всякий подходит.
Иной уж в годах. Такого в подручные нельзя, коли он сам давно мастер. Надо кого помоложе, чтобы вроде ученика пришёлся.
Тут в цех и пришёл дедушко Бушуев. Он раньше по украшению же работал, да с немцами разаркался и своё дело завёл. Поставил, как у нас водится, в избе чугунную боковушку кусинской работы и стал по заказу металл в синь да в серебро разделывать. Ну, и от позолоты не отказывался. И был у этого дедушки Бушуева подходящий паренёк, не то племянник, не то внучонок — Иванко, той же фамилии— Бушуев. Смышлёный по рисовке. Давно его в завод сманивали, да дедушко не отпускал.
— Не допущу, — кричит, — чтоб Иванко с немцами якшался. Руку испортят и глаз замутят.
Поглядел дедушко Бушуев на фуйкину саблю, аж крякнул и похвалил:
— Чистая работа!
Потом, мало погодя, похвастался:
— А всё-таки у моего Ванятки рука смелее и глаз веселее.
Мастера за эти слова и схватились:
— Отпусти к нам на завод. Может, он всамделе немца обыграет.
Ну, старик ни в какую.
Все знали, — старик неподатливый, самостоятельного характеру. Правду сказать, вовсе поперёшный. А всё-таки думка об Иванке запала в головы. Как дедушко ушёл, мастера и переговариваются меж собой:
— Верно, попытать бы!
Другие опять отговаривают:
— Впусте время терять. Парень из рук дедушки не вышел, а того ни крестом, ни пестом с дороги не своротишь.
Кто опять придумывает:
— Может, хитрость какую в этом деле подвести?
А то им не в догадку, что старик из цеха сумный пошёл.
Ну, как — русский человек! Разве ему охота ниже немца ходить? Никогда этого не бывало!
Всё-таки два дня крепился. Молчал. Потом, ровно его прорвало, заорал;
— Иванко, айда на завод!
Парень удивился:
— Зачем?
— А затем, — кричит, — что надобно этого немецкого Фуйку обставить. Да так обогнать, чтоб и спору не было.
Ванюшка, конечно, про этого вновь приезжего слышал. И то знал, что дедушко недавно в цех ходил, только Иванко об этом помалкивал, а старик расходился:
— Коли, — говорит, — немца работой обгонишь, женись на Оксютке. Не препятствую!
У парня, видишь, на примете девушка была, а старик никак не соглашался:
— Не могу допустить к себе в дом эку босоту, бесприданницу.
Иванку лестно показалось, что дедушко по-другому заговорил, — живо побежал на завод. Поговорил с мастерами, — так и так, дедушко согласен, а я и подавно. Сам желание имею с немцем в рисовке потягаться. Ну, мастера тогда и стали на немецкое начальство наседать, чтоб по положению к Фуйке русского ученика поставить, Иванка, значит. А он парень не вовсе рослый. Лёгкой статьи. В жениховской поре, а парнишком глядит. Как весенняя байга у башкир бывает, так на трёхлетках его пускали. И коней он знал до косточки.
Немецкое начальство сперва поартачилось, потом глядит — парнишко замухрышистый, согласилось: ничего, думает, у такого не выйдет. Так Иванко и попал к немцу в подручные. Присмотрелся к работе, а про себя думает — хорошо у немца конёк выходит, только живым не пахнет. Надо так приспособиться, чтоб коня на полном бегу рисовать. Так, думает, а из себя дурака строит, дивится, как у немца, ловко каждая чёрточка приходится. Немец, знай, брюхо поглаживает да приговаривает:
— Это есть немецкий рапота.
Прошло так сколько-то времени, Фуйко и говорит по начальству:
— Пора этот мальшик проба ставить, — а сам подмигивает, вот-де смеху то будет. Начальство сразу согласилось. Дали Иванку пробу, как полагалось. Выдали булатную саблю, назначили срок и велели рисовать коня и корону, где и как сумеет.
Ну, Иванко и принялся за работу. Дело ему, по-настоящему сказать, знакомое. Одно беспокоит — надо в чистоте от немца не отстать и выдумкой перешагнуть. На том давно решил, — буду рисовать коня на полном бегу. Только как тогда с коронкой? Думал-думал и давай рисовать пару коней. Коньков покрыл лентой, а на ней коронку вырисовал. Тоже все жички-веточки разберёшь, и маленько эта коронка назад напрочапилась, как башкир на лошади, когда на весь мах гонит.
Поглядел Иванко, чует — ловко рисовка к волновому булату пришлась. Живыми коньки вышли, и коронка делу не мешает, — будто несут её кони.
Подумал-подумал Иванко и вспомнил, как накануне вечером Оксютка шептала:
— Ты уж постарайся, Ваня! Крылышки, что ли, приделай коньку, чтобы он лучше фуйкина вышел.
Вспомнил это и говорит:
— Э, была не была! Может, так лучше!
Взял да и приделал тем конькам крылышки, и видит — точно, ещё лучше к булатному узору рисовка легла. Эту рисовку закрепил и по дедушкиному секрету вызолотил.
К сроку изготовил. Отполировал старательно, все чатинки загладил, глядеть любо. Объявил, — сдаю пробу. Ну, люди сходиться стали.
Первым дедушко Бушуев приплёлся. Долго на саблю глядел. Рубал ей и по-казацки, и по-башкирски. На крепость тоже пробовал, а больше того на коньков золотых любовался. До слезы смотрел. Потом и говорит:
— Спасибо, Иванушко, утешил старика!.. Полагался на тебя, а такой выдумки не чаял. В чиковку к узору твоя рисовка подошла. И то хорошо, что от эфесу ближе к рубальному месту коньков передвинул.
Наши мастера тоже хвалят. А немцы разве поймут такое? Как пришли, так шум подняли.
— Какой глюпость! Кто видель коня с крильом! Пошему корона сбок лежаль? Это есть поношений на коронованный особ!
Прямо сказать, затакали парня, чуть не в тюрьму его загоняют. Тут дедушко Бушуев разгорячился.
— Псы вы, — кричит, — бессмысленные! Взять вот эту саблю да порубать вам осиновые башки. Что вы в таком деле понимаете?
Старика, конечно, свои же вытолкали; чтоб всамделе немцы до худого не довели. А немецкое начальство Ванятку прогнало. Визжит вдогонку:
— Такой глюпый мальчишка завод не пускайть! Штраф платить будет! Штраф!
Иванко от этого визгу приуныл было, да дедушко подбодрил:
— Не тужи, Иванко! Без немцев жили и дальше проживём. И штраф им выбросим. Пускай подавятся. Женись на своей Оксютке. Сказал — не препятствую, — и не препятствую.
Иванко повеселел маленько да и обмолвился:
— Это она надоумила крылышки-то конькам приделать.
Дедушко удивился:
— Неуж такая смышлёная девка?
Потом помолчал малость да и закричал на всю улицу:
— Лошадь продам, а свадьбу вашу справлю, чтоб весь завод знал. А насчёт крылатых коньков не беспокойся. Не всё немцы верховодить у нас в заводе будут. Найдутся люди с понятием. Найдутся! Ещё гляди, награду тебе дадут! Помяни моё слово.
Люди, конечно, посмеиваются над стариком, а по его слову и вышло.
Вскорости после Иванковой свадьбы к нам в завод царский поезд приехал. Тройках, поди, на двадцати. С этим поездом один казацкий генерал случился. Ещё из кутузовских. Немало он супостата покрошил и немецкие, сказывают, города брал.
Этот генерал ехал в сибирскую сторону по своим делам, да царский поезд его нагнал. Ну, человек заслуженный. Царь и взял его для почёту в свою свиту. Только глядит, — у старика заслуг-то на груди небогато.
У ближних царских холуев, которые платок поднимают да кресло подставляют, — куда больше. Вот царь и придумал наградить этого генерала жалованной саблей.
На другой день, как приехали в Златоуст, пошли все в украшенный цех. Царь и говорит генералу:
— Жалую тебя саблей. Выбирай самолучшую.
Немцы, понятно, спозаранку всю фуйкину работу на самых видных местах разложили. А один наш мастер возьми и подсунь в то число Иванковых коньков. Генерал, как углядел эту саблю, сразу её ухватил. Долго на коньков любовался, заточку осмотрел, все винтики опробовал и говорит:
— Много я на своём веку украшенного оружия видел, а такой рисовки не случалось. Видать, мастер с полётом. Крылатый человек. Хочу его поглядеть.
Ну, немцам делать нечего, пришлось за Иванком послать. Пришёл тот, а генерал его благодарит. Выгреб сколько было денег в кармане и говорит:
— Извини, друг, больше не осталось: поиздержалсй в дороге. Давай хоть я тебя поцелую за твоё мастерство. Оно к доброму казацкому удару ведёт.
Тут генерал так саблей жикнул, что царской свите холодно стало, а немцев пот прошиб. Не знаю, — правда ли, будто немец при страхе первым делом кругом отсыреет. Потому, видишь, — пивом наливается. Наши старики так сказывали, а им случалось по зауголкам немца бивать.
С той вот поры Ивана Бушуева и стали по заводу Крылатым звать. Через год ли больше за эту саблю награду выслали, только немецкое начальство, понятно, ту награду зажилило. А Фуйко после того случая в свою сторону уехал. Он, видишь, не в пример прочим всё-таки мастерство имел, ему и обидно показалось, что его работу ниже поставили.
Иван Бушуев, конечно, в завод воротился, когда немецких приставников да нахлебников всех повыгнали, а одни настоящие мастера остались. Ну, это не один год тянулось, потому у немецкого начальства при царе рука была и своей хитрости не занимать.
Оксюткой дедушко Бушуев крепко доволен был. Всем соседям нахваливал:
— Отменная бабочка издалась. Как пара коньков с Иванком в житье веселенько бегут. Ребят хорошо ростят. В одном оплошка. Не принесла Оксютка мне такого правнучка, чтоб сразу крылышки знатко было. Ну, может, принесёт ещё, а может, у этих ребят крылья отрастут. Как думаете? Не может того быть, чтобы Крылатковы дети без крыльев были. Правда?
1942 г.
Про главного вора
Сказ дегтярского горняка
ак мне здешние места не знать! В этой самой деревне Кунгурке родился, около неё всю жизнь по рудникам да приискам кайлой долбил да лопаткой ширкал. Все, можно сказать, тропки оттоптал, всякий ложок обыскал, каждую горушечку обстукал, — не пахнет ли где золотишком, не звенит ли серебро, не бренчат ли хоть медяшки. Найти немного нашёл, а людей-таки повидал, кого — с головы, кого — с пяток.
И про старину слыхал. Много старики сказывали, да память у меня на эти штуки тупая. Всё забыл, сколь ни занятно казалось. Про одного вот только старинного немца в голове засело. Это помню. Недаром его прозвали «главный вор». Главный и есть! Про такого не забудешь.
Немецких воров тоже и живых немало видать случалось. Одного такого фон-барона с поличным ловить доводилось. Бревером звали, а прозвище ему было Усатик.
Старались мы тогда артелкой недалеко от Горного щита, а этот фон-барон Усатик держал прииск рядом, на казённой земле. И что ты думаешь? Стал он у нас песок ортами воровать. Зароются, значит, в нашу сторону и таскают из нашего пласта. Ну, поймали мы этого Усатика на таком деле, а он, прусачье мясо, хоть бы что.
— Фуй, какой, — говорит, — малый слёф! Бутилка фотки такой слёф не стоит.
Этим пустяком и отъехал. Другой раз поймали, опять отговорку нашёл. Рабочие, дескать, прошиблись маленько. Да ещё и жалуется.
— Руски рабочий ошень плёх слюшит. Говориль ему — пери зюд-вест, фсегда пери зюд-вест, а он перёт ост. Штраф такая работа надо!
И хоть бы покраснел. А сам важной такой. Усы по четверти, брюхо на аршин вперёд, одёжа, как полагается по барскому званью. Кабы не поймали с поличным, ввек бы никто не подумал, что такой барин придумал эку пакость — песок воровать. А горнощитские старатели, которые на немцевом прииске колотились, в одно слово сказывали — только о том и наказывал:
— Ост пери! Фсегда ост пери! Там песок ошень лютший.
Да ведь еще что придумал? Как сорвала с него наша артёлка четвертной билет за воровство, так он хотел эти деньги со своих рабочих высорщить: вы, дескать виноваты. Ну, те не дались, понятно. Объявили — в суд пойдём, коли такая прижимка случится.
Тоже и в здешних местах немцев видал. В те годы Дегтярского рудника и в помине не было. Один Крылатовский гремел. На три чаши там работу вели. По старому это немало считалось. Ну, старатели тоже кругом копошились. Поводок к нашей Дегтярке обозначаться стал. То один, то другой, глядишь, найдет занятный камешек. Разведывать помаленьку стали. Немец и объявился. Он хоть толстоносый, а нюх на эти дела у него не хуже самой чутьистой собаки. И на то не гляди, что немец любит брюхо нажить. Он на такую штуку, чтоб к чужому подобраться, вовсе лёгкий. Вроде пушинки прильнёт и не заметишь. А доверься ему, так не то что кошелёк с добычей — ложку из-за голенища стянет. Не побрезгует! Нагляделся я на таких-то. Знаю.
Сысертские владельцы большой приверженности к немцам не имели, а немцы всё-таки подобрались как-то, — мы, дескать, тут шахту бить станем. Ну, сговорились, заложили шахту, Берлином её прозвали для важности. Знай, дескать, наших! А сами вовсе мелкодушные ворюги. Пустяк какой, — и тот прикарманят и штрафами народ донимают невмочь. Недаром рабочих больше из башкир нанимали. Наши, известно, хоть маленько за себя постоять могли, а башкирам при старом-то положении вовсе туго приходилось. Немцы этим и пользовались. Потому у этой шахты в посёлке больше башкиры да чуваши живут.
Эту немецкую шахту, конечно, теперь по-другому зовут. В скорости после революции ей новое имя дали. При моих это глазах было. Как сейчас помню. Собрались это перед началом работы. Ну, тут и говорят, какое бы новое имя придумать, чтоб немецкий этот Берлин без остатка покрыло. Тут и вышел на круг башкирец один — дедушко Ирхуша Телекаев. В недавних годах он помер, а тогда ещё в силах был. Ну, все-таки старенький и видел плоховато, а руками дюжий. Все, понятно, удивлялись, как он к разговору вышел, подбадривают:
— Говори, дедушко Ирхуша! Сказывай, что придумал.
Старик и отвечает:
— Знаю таксе слово. Оно всё перекрыть может.
— Какое? — спрашивают.
— Большевик, — говорит, — такое слово будет.
Все, конечно, захлопали в ладоши.
— Правильно сказал, дедушко Ирхуша!
С той поры эту шахту и стали так звать. На прежнюю она, понятно, нисколько не походит. По-новому всё устроено. Ну, да ладно. Не про это разговор. Про другого немца в голове держу.
Этот был на особу стать. Такой ворина, что другого, может, по всем землям не сыскать. Он все здешние заводы у казны украл и целую гору заглотил. И не подавился. Вот какой брюхан!
Так, сказывают, дело вышло. По нашим местам только и было заводчиков, что казна да Демидовы. Демидовы из кузнецов вышли. В заводском деле они понятие имели. Немцы им ни к чему, своим народом обходились. А при казённых заводах в ту пору немцев порядком сидело. Пособлять делу будто их навезли. Они, значит, и пособляли левой рукой из правого кармана. Может, и не все на одну колодку были, а всё-таки дело у них не шло. От всех заводов казне убыток. Кому это поглянется? А тут ещё Демидовы, как тесто на хорошей опаре, на глазах у всех подымались — богатели дальше некуда. Вот и пошёл разговор, какую перемену сделать, чтоб казне от заводов тоже прибыль шла.
У немцев в ту пору при царице которой-то большая сила была. Как на собачью свадьбу их сбежалось, и все в чинах. Этот — генерал, другой — министр, а у третьего должность того выше — при царице вроде мужа ходит. Ну, и мелких немчиков большая стая. Вот и стали эти царицыны немцы подвывать.
— Надо, дескать, из немецкой земли такого умного добыть, чтоб он всё дело о казённых заводах распутал.
Так и сделали. Привезли ещё какого-то немца. Для начала ему всяких чинов надавали. Стал он называться обергер, над герами голова, а на поверку вышел несусветный вор, ненасытно брюхо.
Привели этого немца к царице, нахваливают его всяко.
— Этот, дескать, может всякий убыток в прибыль обернуть.
Царица обрадовалась, говорит:
— Давно такого нам надо. Осмотри, сделай милость, казённые заводы и дай полное тому делу решение.
— Хорошо, — отвечает, — только надо сперва все до тонкости разобрать, а на это время потребуется.
— Об этом, — говорит царица, — не беспокойся. Жалованье положим подходящее, прогон генеральский. Поезди, погляди своими глазами.
Приехал этот немец в здешние места. Поразнюхал дело. А в те годы самый большой разговор был о горе Благодати, что она вся из самой первосортной руды. Казна при этой горе заводы строила. Вовсе по-хорошему дело завели. Демидовы тоже к этой рудной горе руки протягивали. Ещё один заводчик кружился, тоже свою долю в этой горе искал. Одним словом, кусок.
Немец это понял, не стал больше по заводам трястись, сразу к царице уехал.
— Так и так, — говорит, — оглядел я все заводы и вижу: самое прибыльное— эти заводы по рукам раздать. Без хлопот тогда будет. А мне за такой совет отдать гору Благодать. По крайности, тогда никакого спору не будет. Ну, и заводы, которые при горе строятся, мне же отдать придется, чтоб из-за них беспокойства не случилось. Уж потружусь как-нибудь.
Остальные немцы, которые при этом разговоре случились, радуются, похваливают.
— Ай, малатец какой! Ай, малатец! Всё сразу понималь.
Из русских бар тоже мошенников нашлось. Стали тому немцу поддувать.
— Мы-де на это согласны. Можем любой завод за себя перевести, особливо ежели бесплатно, либо в долг на многие годы.
Царице и думать нечего. Да у ней только три слова грамоты и было: сослать да повесить, да быть по сему. Живо немцу бумажку нужным словом подмахнула.
С той поры вот все казённые заводы и расползлись по барским рукам, а немец тот— главный-то вор— больше всех захватил. Ему Гороблагодатские заводы достались да ещё царица сделала его главным над всеми здешними заводами. Он и давай хапать, что углядит.
Другие, коим по заводу из казны попало, хоть в должниках числились, а этот немец как раз наоборот. Сам не платил, а новые долги делал и так ловко подводил, что все эти долги на казну переписывал. Я, дескать, тружусь, дураков ловлю да деньги с них вытягиваю, а казна пусть платит. Тогда и выйдет без обиды.
Мало этого показалось, так стал железо с казённых заводов, которое раньше было сделано, от себя продавать.
До той поры хозяйничал, пока та царица ноги не протянула. Тут, понятно, взяли кота поперёк живота, а он отговаривается, дескать, человек немецкий, по здешним законам судить невозможно. Ну, говорят, сослали все-таки, а воровскую выдумку, чтоб казённые заводы по рукам расхватывать, не забросили. Это, видно, по душе пришлось.
Вот про этого старинного немца памятка по заводам и держится. Так и зовут его: обер-гер — главный вор, — гору проглотил и заводы у казны украл.
1942 г.
Солнечный камень
ротив нашей Ильменской каменной кладовухи, конечно, по всей земле места не найдёшь. Тут и спорить нечего, потому на всех языках про это записано. На что немцы самохвалы да завистники, и в тех нашлись люди, по совести сказали: так и так, в Ильменских горах камни со всего света.
Такое место, понятно, мимо ленинского глазу никак пройти не могло. В 20-м году Владимир Ильич самоличным декретом объявил здешние места заповедными. Чтоб, значит, промышленников и хитников всяких по загривку, а сберегать эти горы для научности, на предбудущие времена.
Дело будет простое. Известно, ленинский глаз не то что по земле, под землёй видел. Ну, и эти горы предусмотрел. Только наши старики-горщики всё-таки этому не совсем верят. Не может, дескать, так быть. Война тогда на полную силу шла. Товарищу Сталину с фронта на фронт поспешать приходилось, а тут вдруг камешки выплыли. Без случая это дело не прошло. И по-своему рассказывают так.
Жили два артельных брата: Максим Вахоня да Садык Узеев, по прозвищу Сандугач. Один, значит, русский, другой из башкирцев, а дело у них одно — с малых лет по приискам да рудникам колотились и всегда вместе. Большая, сказывают, меж ними дружба велась, на удивленье людям. А сами друг на дружку нисколько не походили. Вахоня — мужик тяжелый, борода до пупа, плечи ровно с подставышем, кулак — глядеть страшно, нога медвежья и разговор густой, буторовый. Потихоньку загудит — и то мух в сторону на полсажени относит, а характеру мягкого. По пьяному делу когда какой заноза раздразнит, так только пригрозит:
— Отойди, парень, от греха. Как бы я тебя ненароком не стукнул.
Садык ростом не вышел, из себя тончавый, вместо бородёнки семь волосков и те не на месте, а жилу имел крепкую. Забойщик, можно сказать, тоже первой статьи. Бывает ведь как-то. Ровно и поглядеть не на кого, а в работе податен. Характера был весёлого. Попеть и поплясать, и на курае подудеть большой охотник. Недаром ему прозвище дали Сандугач — по-нашему, соловей.
Вот эти Максим Вахоня да Садык Сандугач и сошлись в житье на одной тропе. Не всё, конечно, на казну да хозяев добывали. Бывало и сам-друг пески перелопачивали, — свою долю искали. Случалось и находили, да в карманах не залежалось. Известно, старательскому счастью одна дорога была показана. Прогуляют всё, как полагается, и опять на работу, только куда-нибудь на новое место: там, может, веселее.
Оба бессемейные. Что им на одном месте сидеть? Собрали котомки, инструмент прихватили — и айда. Вахоня гудит:
— Пойдем, поглядим, в коем месте люди хорошо живут.
Садык веселенько шагает да посмеивается.
— Шагай, Максимка, шагай. Новым мистам золотой писок сама руками липнит. Дорогой каминь барадам скачит. Один раз твой барада полпуда станит.
— У тебя, небось, ни один не задержится, — отшучивается Вахоня и лешачиным обычаем гогочет: хо-хо-хо.
Так вот и жили два артельных брата. Хлебнули сладкого досыта: Садык в работе правый глаз потерял, Вахоня на левое ухо совсем не слышал.
На Ильменских горах они, конечно, не раз бывали.
Как гражданская война началась, оба старика в этих же местах оказались. По горняцкому положению, конечно, оба по винтовке взяли и пошли воевать за советскую власть. Потом, как Колчака в Сибирь отогнали, политрук и говорит:
— Пламенное, дескать, вам спасибо, товарищи старики, от лица советской власти, а только теперь, как вы есть инвалиды подземного труда, подавайтесь на трудовой фронт. К тому же, — говорит, — фронтовую видимость нарушаете, как один кривой, а другой глухой.
Старикам это обидно, а что поделаешь? Правильно политрук сказал — надо поглядеть, что на приисках делается. Пошли сразу к Ильменям, а там народу порядком набилось, и всё хита самая последняя. Этой ничего не жаль, лишь бы рублей побольше зашибить. Все ямы, шахты живо засыплет, коли выгодно покажется. За хитой, понятно, купец стоит, только себя не оказывает, прячется. Заподумывали наши старики — как быть? Сбегали в Миасс, в Златоуст, обсказали, а толку не выходит. Отмахиваются:
— Не до этого теперь, да и на то главки есть.
Стали спрашивать про эти главки, в голове муть пошла. По медному делу — одна главка, по золотому — другая, по каменному — третья. А как быть, коли на Ильменских горах всё есть. Старики тогда и порешили:
— Подадимся до самого товарища Ленина. Он, небось, найдёт время.
Стали собираться. Только тут у стариков рассорка случилась. Вахоня говорит: для показу надо брать один дорогой камень, который в огранку принимают. Ну, и золотой песок тоже. А Садык свое заладил: всякого камня образец взять, потому дело научное.
Спорили, спорили, на том и договорились: каждый соберёт свой мешок, как ему лучше кажется.
Вахоня расстарался насчет цирконов да фенакитов. В Кочкарь сбегал, спроворил там эвклазиков синеньких да розовых топазиков. Золотого песку тоже. Мешочек у него аккуратный вышел и камень всё самоцвет. А Садык наворотил, что и поднять не в силах. Вахоня грохочет:
— Хо-хо-хо! Ты бы все горы в мешок забил! Разберись, дескать, товарищ Ленин, которое к делу, которое никому не надо.
Садык на это в обиде.
— Глупый, — говорит, — ты, Максимка, человек, коли так бачку Ленина понимаешь. Ему научность надо, а базарная цена камню — наплевать.
Поехали в Москву. Без ошибки в дороге, конечно, не обошлось. В одном месте Вахоня от поезда отстал. Садык хоть и всердцах на него был, сильно запечалился, захворал даже. Как-никак всегда вместе были, а тут при таком важном деле разлучились. И с двумя мешками камней одному хлопотно. Ходят, спрашивают, не соль ли в мешках для спекуляции везёшь? А как покажешь камни, сейчас пойдут расспросы, к чему такие камни, для личного обогащения али для музея какого? Одним словом, беспокойство.
Вахоня все-таки как-то исхитрился, догнал поезд под самой Москвой. До того друг другу обрадовались, что всю вагонную публику до слёз насмешили: обниматься стали. Потом опять о камнях заспорили, который мешок нужнее, только уж помягче, с шуткой. Как к Москве подъезжать стали, Вахоня и говорит:
— Я твой мешок таскать буду. Мне сподручнее и не столь смешно. Ты поменьше, и мешок у тебя будет поменьше. Москва, поди-ко, а не Миасс. Тут порядок требуется.
Первую ночь, понятно, на вокзале перебились, а с утра пошли по Москве товарища Ленина искать.
Скоренько нашли и прямо в Совнарком с мешками ввалились. Там спрашивают, что за люди, откуда, по какому делу. Садык отвечает:
— Бачка Ленин желаим каминь казать.
Вахоня тут же гудит:
— Места богатые. От хиты ухранить надо. Дома толку не добились. Беспременно товарища Ленина видеть требуется.
Ну, провели их к Владимиру Ильичу. Стали они дело обсказывать, торопятся, друг дружку перебивают. Владимир Ильич послушал, послушал и говорит:
— Давайте, други, поодиночке. Дело, гляжу, у вас государственное, его понять надо.
Тут Вахоня, откуда и прыть взялась, давай свои дорогие камешки выкладывать, а сам гудит: из такой ямы, из такой шахты камень взял, и сколько он на рубли стоит.
Владимир Ильич и спрашивает:
— Куда эти камни идут?
Вахоня отвечает — для украшения больше. Ну, там перстни, серьги, буски и всякая такая штука. Владимир Ильич задумался, полюбовался маленько камешками и сказал:
— С этим погодить можно.
Тут очередь до Садыка дошла. Развязал он свой мешок и давай камни на стол выбрасывать, а сам приговаривает:
— Амазон-каминь, калумбит-каминь, лабрадор-каминь…
Владимир Ильич удивился:
— У вас, смотрю, из разных стран камни.
— Так, бачка Ленин! Правда говоришь. Со всякой стороны каминь сбежался. Каменный мозга-каминь, и тот есть. В Еремеевской яме солничный каминь находили.
Владимир Ильич тут улыбнулся и говорит:
— Каменный мозг нам, пожалуй, ни к чему. Этого добра и без горы найдётся. А вот солнечный камень нам нужен. Веселее с ним жить.
Садык слышит этот разговор и дальше старается.
— Потому, бачка Ленин, наш каминь хорош, что его солнышком крепко прогревает. В том месте горы поворот дают и в степь выходят.
— Это, — говорит Владимир Ильич, — всего дороже, что горы к солнышку повернулись и от степи не отгораживают.
Тут Владимир Ильич и велел все камни переписать и самый строгий декрет изготовить, чтобы на Ильменских горах всю хиту прекратить и место это заповедным сделать. Потом поднялся на ноги и говорит:
— Спасибо вам, старики, за заботу. Большое вы дело сделали. Государственное! — И руки им, понимаешь, пожал.
Ну те, понятно, вне ума стоят. У Вахони вся борода слезами как росой покрылась, а Садык бородёнкой трясет да приговаривает:
— Ай, бачка Ленин! Ай, бачка Ленин!
Тут Владимир Ильич написал записку, чтоб определить стариков сторожами в заповедник и пенсии им назначить.
Только наши старики так и не доехали до дому. По дорогам в ту пору, известно, как возили. Поехали в одно место, а угадали в другое. Война там, видно, кипела, и, хотя один был глухой, а другой кривой, оба снова воевать пошли.
С той поры об этих стариках и слуху не было, а декрет о заповеднике вскорости пришел. Теперь этот заповедник Ленинским зовётся.
1942 г.
Железковы покрышки
ело это было вскорости после пятого году. Перед тем как войне с немцами начаться.
В те годы у мастеров по каменному делу заминка случилась. Особо у малахитчиков. С материалом, видишь, вовсе туго стало. Гумёшевский рудник, где самолучший малахит добывался, в полном забросе стоял, и отвалы там не по одному разу перебраны были. На Тагильском медном, случалось, находили кусочки, да тоже не часто. Кому надо, охотились за этими кусочками, всё едино, как за дорогим зверем. В городе по такому случаю заграничную контору держали, чтоб такую редкость скупать. А контора, понятно, не для здешних мастеров старалась. Так и выходило: что найдут, то и уплывёт за границу.
Ну, может, и то сказалось, что мода на малахит прошла. Это в каменном деле тоже бывает: над каким камнем деды всю жизнь стараются, на тот при внуках никто глядеть не хочет. Только для церквей и разных дворцовских украшений больше орлец да яшму спрашивали, а в лавках по каменным поделкам вовсе дешёвкой торговали. Так пустой камешок на немецкий лад гнали: было бы пестренько да оправа с высокой пробой.
Прямо сказать, доброму мастеру никакой утехи. Кончил поделку, покурил да сплюнул и принимайся за другую. Одно слово, пустяковина, базарский товар.
Глядеть тошно, кто в том деле понимает.
Ну, все-таки старики, коих смолоду малахитовым узором ушибло, своего дела не бросали. Исхитрялись как-то: и камешок добывали и покупателя с понятием находили.
Один такой в нашем заводе жил, Евлахой Железком его звали. Ещё слух шёл, что этот Евлаха свою потайную ямку с малахитом имел. Правда ли это, сказать не берусь, а только и про такой случай рассказывали.
Вот будто подошёл какой-то большой царицын праздник. Не просто именины али родины, а, сказать по-теперешнему, вроде как юбилей. Ну, может, седьмую дочь родила или ещё что. Не в этом дело, а только придумали на семейном царском совете сделать царице по этому случаю подарок позанятнее.
У царей, известно, положение было: про всякий чих платок наготовлен. Захотел выпить — один поставщик волокёт, закусить придумал — другой поставщик старается. По подарочным делам у них был француз Фабержей. В своём деле понимающий. Большую фабрику по драгоценным и узорным каменьям содержал, на обе столицы широкую торговлю вёл, и мастера у него были первостатейные.
Призывает этого Фабержея царь и говорит: так и так, надо царице к такому-то дню приготовить дорогой подарок, чтоб всем на удивленье. Фабержей, понятно, кланяется да приговаривает: «будет сготовлено», а сам думает: «вот так загвоздка!» Он, конечно, до тонкости понимал, кому чем угодить, только тут дело вышло не простое. Брильянтами да изумрудами и другими дорогими камнями царицу не удивишь, коли у ней таких камней полнёхонек сундук набит, и камни самого высокого сорту. Тонкой гранью либо узором тоже не проймёшь, потому — люди без понятия. И то французу было ведомо, что царица после пятого году камень с краснинкой видеть не могла. То ли ей тут красные флаги мерещились, то ли чем другим память бередило. Ну, может, те картинки вспоминала, какие на тайных листах печатали, как она с царём кровавыми руками по земле шарила. Не знаю это, да и разбирать не к чему, а только с пятого году к царице с красным камнем и не подходи — во всю голову завизжит, все русские слова потеряет и по-немецки заругается. А дальше, известно, спросы да допросы, с каким умыслом царице такой камень показывали, какие советчики да пособники были? Тоже кому охота в такое дело вляпаться!
Француз этот Фабержей и маялся, придумывал, чем царицу удивить, и чтоб красненького в подарке и званья не было. Думал-думал, пошёл со своими мастерами посоветоваться. Обсказал начистоту и спрашивает:
— Как располагаете?
Мастера, понятно, всяк от своего, по-разному судят, а один старик и говорит:
— На моё понятие, тут больше малахит подходит. Радостный камень и широкой силы: самому вислоносому дураку покажи, и тому весело станет.
Хозяин, конечно, оговорил старика: не к чему, дескать, о вислоносых дураках поминать, коли разговор идёт о царском подарке, за это и подтянуть могут, а насчёт камня согласился:
— Верно говоришь. Малахит, пожалуй, к такому случаю подойдёт.
Другие мастера сомневаются:
— Не найдёшь по нынешним временам доброго камня.
Ну, хозяин на деньги обнадёжился.
— Коли, говорит, в цене не постоять, так любой камешок достать можно.
На этом и сговорились: будем делать альбом для царской семьи с малахитовыми крышками. И украшения, какие полагаются, тут же придумали.
Сказано — сделано. В тот же день Фабержей своего доверенного в наши края послал и наказ ему дал.
— Денег не жалей. Только бы камень настоящий, и спокойного цвету!
Приехал этот фабержеев доверенный, и давай искаться. Первым делом, конечно, на Гумёшки. Тамошние камнерезы наотрез отказали — нету доброго камня. В Тагил сунулся — есть кусочки, да не того сорту. В заграничной конторе через подставного человека наведался. Только разве там продадут, коли сами крохами собирали. Совсем приуныл доверенный, да спасибо, один горщик надоумил:
— Поезжай-ко ты к Евлахе Железку. У этого беспременно камень имеется. Недавно он на руки одному такую поделочку сдал, што все здешние купцы по каменному делу да и в заграничной конторе неделю кулаками махали, ногами топали да грозились:
— После этого пусть Евлаха со своей поделкой и на глаза не показывается. За пятак не примем!
А Евлаха посмеивается да ответный поклончик послал:
— Рад стараться с жульём не вязаться. Теперь ещё, поди-ко, не забыл, как таким кланяться доводилось. Больше этого не будет. Кому надо, пускай сам ко мне за камешком волокётся, а я еще погляжу — кому удружить, кому оглобли заворотить. А самолично вашему брату и беспокоиться не след. Я хоть остарел, а ещё так могу по загривку дать, что который и с каменной десятипудовой совестью, а лёгкой пташкой за ворота вылетит.
Фабержеев доверенный, как услышал это, забеспокоился, спрашивает:
— Видно, этот Евлаха в деньгах не нуждается? Богатый сильно?
— Нет, — отвечают, — богатства особого не видно, а просто уважает человек своё мастерство. Дороже денег его ставит. Коли не захочет, рублём не сманишь, а коли интерес поимеет, так недорого сделает. И поделка будет хоть на выставку, а то и в царский дворец поставь. Нигде себя не уронит.
Доверенному полегче стало. «Есть, — думает, — чем Евлаху сманить. Скажу, что для царского дворца камни требуются». И не ошибся в расчёте. Евлаха, как узнал, для чего камни, без слова согласился, спросил только:
— Какой величины камни и какой узор надо?
Доверенный объяснил, что крышки по дольнику должны быть не меньше двух четвертей, поперёк — четверть с малым походом, а камни желательно со своим узором. С таким, значит, чтоб на обои ничуть не походило. Евлаха говорит:
— Ладно. Найдётся такой камень. Приезжай через неделю.
И цену назначил — по две сотни за штуку. Доверенный, понятно, и рядиться не стал. Хотел ещё поразговаривать, да Евлаха на это не больно охочий был, сразу обрезал:
— Сказал — приезжай через неделю, тогда и разговор будет, а то о чём нам у пустого места судить.
Приехал доверенный через неделю— готовы крышки, и не две, а четыре штуки. Все, понимаешь, как вешняя трава под солнышком, когда ветерком её колышет. Так волны по зелени-то и ходят. И у каждой крышки свой узор. Ни один завиток-плетешок полной сходственности не имеет, а всё-таки подобрано так, что и бестолковому понятно, какие крышки парой приходятся. Одним словом, мастерство.
Разложил Евлаха свою поделку.
— Выбирай любую пару!
Фабержеев доверенный, конечно, знал толк в камне. Оглядел крышки, не нашёл никакого изъяну, полюбовался узором и говорит:
— Покупаю все.
— Что-ж, — отвечает, — бери, коли надо. Плати деньги.
Доверенный поскорее рассчитался по уговору и — домой. Мастера фабержеевы похвалили покупку, только тот старик, который посоветовал насчёт малахиту, посомневался маленько.
— Вроде, — говорит, — деланный камень, а не натурный. Ну, руками делан.
Другие мастера засмеялись — выдумывает старик, хочет себя выше всех поставить, а хозяин прямо объявил:
— Ежели и деланный, так не хуже настоящего, а это в мастерстве ещё дороже.
Ну вот, изготовили альбом на удивленье. Царь, как узнал, что другая пара крышек есть, настрого запретил до его приказу эти крышки в дело пускать. Так они и лежали у Фабержея в запасе и долежали до того году, как самое высокое французское начальство к царю в гости приехало. И приехал с этим начальством мастер, который по брильянтовой плавке отличался. Петергофским мастерам по гранильному и камнерезному делу да и фабержеевым тоже охота было этого приезжего кое о чём поспрошать. Вот они ходили за ним, всё едино, как женихи за невестой, угодить старались. Кто-то придумал показать каменные поделки в царском дворце. Разрешили им. И вот в числе тех поделок увидел приезжий мастер Евлахины крышки. Подивился красоте камня, вздохнул да и говорит в том смысле:
— Ловко, дескать вашим-то! Режь камень без всякой выдумки, и вон какое диво само выходит.
Наши мастера объясняют, что дело не столь простое, потому — камень из кусочков складывают.
— Про это, — отвечает, — знаю. Дело, конечно, мешкотное, а всё-таки хитрости тут нет, коли под рукой любого узору камешок имеется.
Один мастер на это возьми и скажи:
— У нас на фабрике насчёт этих крышек ещё спор был: из природного они камня али из сделанного.
Французского мастера такими словами будто подстегнуло: всю степенность потерял, забегал, засуетился, спрашивает: кто так говорил? почему? какие приметки сказывал? чем дело решилось? А пуще того добивался, где тот мастер живёт, который крышки делал. Дивился, понятно, что никто об этом толком сказать не умеет. Одно говорят доверенный привёз с какого-то заводу. Сказывал, что мастер мужик с пружинкой: не по месту заденешь, так и по лбу стукнуть может, а как прозванье мастеру не говорил. Надо, дескать, у этого доверенного и спросить, только он в отлучке по хозяйским делам.
На другой день приезжий мастер прибежал к Фабержею на фабрику и давай опять про крышки спрашивать. Старый малахитчик не потаился, сказал, в чём сумленье поимел. Другие мастера опять заспорили, всяк своё доказать желает. Тут сам Фабержей прибежал, послушал, пострекотал с приезжим по-своему, по-французскому, и велел принести запасные крышки.
— Чем, — говорит, — попусту время терять, давай-ко отпилим у крышек правые уголышки, которые на волю, да опробуем их, как следует. Крышкам от того изъяну не будет, потому как можно на тех местах закругленье дать либо их украшеньем прикрыть, зато в точности узнаем, какой это камень: природный али сделанный!
Живо опилили уголышки и давай пробовать на кислоту, на размол, по весу. Одним словом, всяко старались, а до дела не дошли. На то вышло, что состав малахитовый, а полностью сходства нет. К тому всё-таки склонились — не зря старик-малахитчик сомневался: что-то не так.
Французский мастер в этом деле больше всех старался и книжки какие-то притащил, по ним глядел. А как вышло это решенье, что камень сделанный, сейчас в контору побежал. Там, дескать, беспременно фамилия мастера должна быть. В конторе, верно, расписка оказалась: получено-де за четыре малахитовые доски такой-то меры две тысячи рублей, и крючок вроде подписи поставлен, даром что Евлаха грамоте не разумел, а ниже писарь подписался, и волостной печатью шлёпнуто. Доверенный, известно, по правилу воровал: Евлахе заплатил восемь сотен, писарю сунул одну либо две, остаток себе в карман.
Послали этому доверенному телеграмму, чтобы полное имя и местожительство мастера дал, который крышки на царский альбом делал. Доверенный, видно, испугался, не открылось ли мошенство — не отвечает. Другую телеграмму подали, третью всё молчит. Тогда хозяин сам ему строгое письмо написал, дескать, что такое? Как ты смеешь меня перед приезжим гостем конфузить? Тогда уж доверенный отписал — завод такой-то, мастера там все знают, а как его полное имя — не упомнит — заводские больше зовут его Евлахой.
Как получили это письмо, француз живенько собрался — и на поезд. Из городу прикатил на тройке, остановился на ямской квартире и первым делом спрашивает, где мастер по малахиту живёт. Ему сразу сказали — в Пеньковке, пятые или там девятые ворота от большого заулка направо.
На другой день этот приезжий пошёл, куда ему сказывали. Одёжа, конечно, французского покрою, ботинки жёлтые, перчатки по летнему времени зелёные, на голове шляпа ведёрком, а вся белая, только лента по ней чёрного атласу. В нашем заводе отродясь такой не видали. Ребята, понятно, сбежались, дивятся на этого барина в белой шляпе.
Вот дошёл француз до Пеньковки. Видит — улица не из тех, где добрые дома стоят. Посомневался, спрашивает:
— Где тут мастер живёт, который по малахиту работает?
Ребята рады стараться, наперебой кричат, пальцами показывают — вон де в той избе дедушко Евлампий проживает.
Француз поглядел, вроде как удивился, всё-таки в ограду зашёл. Видит — на крылечке сидит старик: из себя рослый, на лицо тончавый и похоже — хворый. Седая борода лопатою, и маленько она зелёным отливает. Одет, конечно, по-домашнему: в тиковых подштанниках, в калошах на босу ногу, а поверх рубахи жилетчонка старенька, вся в пятнах от кислоты.
Сидит этот старик и ножичком вырезывает из сосновой коры что-то, а парнишко, видно, внучонок, наговаривает:
— Ты, дедо, сделай, чтобы лучше Митюнькиного наплавочек был. Ладно?
Домашние, какие в ограде на то время случились, забеспокоились, а Евлаха сидит себе, будто его дело не касается. У него, видишь, повадки не было перед городскими заказчиками лебезить, в строгости их держал.
Заграничный мастер постоял у ворот, поогляделся, подошёл ко крылечку, снял свою белую шляпу и спрашивает по всей французской вежливости. Дескать, дозвольте спросить, можно ли видеть «каспадин мастер Ефляк, который делает из малякит».
Евлаха слышит по разговору, — чужеземный какой-то пришёл и говорит дружественно:
— Гляди, коли надобность имеется. Я вот и есть мастер по малахиту. На весь завод один остался. Старики, видишь, поумирали, а молодые ещё не дошли. Только, конечно, меня не Фляком зовут, а попросту Евлампий Петрович, прозваньем Железко, а по книгам пишусь Медведев.
Француз, конечно, понял с пятого на десятое, а всё-таки головой замотал, перчатку зелёную сдёрнул, здоровается с Евлахой за руку, а сам наговаривает в том смысле, что напредки, дескать, будем знакомы. Простите-извините, не знал, как назвать, звеличать. И про себя тоже объяснил, что он мастер по брильянтовому делу.
Евлаха похвалил это.
— Что ж, — говорит, — камешок ничем не похаешь. Недаром он самой высокой цены, потому — глаз веселит. Известно, всякому камню своё дано. Наш вон много дешевле, а в сердце весну делает, радость человеку даёт.
Француз опять головой мотает и по-своему лепечет: рад-де побеседовать. Нарочно для того из французской стороны приехал. А Евлаха пошутил:
— Милости просим, коли с добрым словом, а ежели с худым, так ворота у меня не заперты, выйти свободно.
Повёл Евлаха приезжего в избу. Велел снохе самоварчик сгоношить, полштофа на стол поставил. Одним словом, принял гостя по-хорошему. Побалакали они тут, только заграничный мастер ту линию гнёт, чтобы мастерскую у Евлахи поглядеть. Евлахе это подозрительно показалось, только он виду не подал и говорит:
— Отчего не поглядеть? Не фальшивы монетики, поди-ко, делаю. Поглядеть можно.
Ну, вот. Повёл Евлаха приезжего мастера на огород. Там у него малуха была. Избушка, известно, небольшая. Дверцы хоть широконькие, а без наклону не пройдёшь. Ну, француза это не держит: не боится свою белую шляпу замарать, вперёд хозяина лезет. Евлахе это не поглянулось.
«Вишь, скачет! Думает, — так ему и скажу»!
В малухе, как полагается, станок с кругами, печка-железянка. Чистоты, конечно, большой нет, а всё-таки в порядке разложено, где камень, где молотая зелёная руда, шлак битый, тоже уголь сеяный и протча. Французский мастер оглядел всё, рукой попробовал и, видать чего-то найти не может, а Евлаха навстречу ему усмехается:
— Цементу нет. Не употребляем.
Посовался-посовался французский мастер, видит, на-глаз дела не понять, а Евлаха подошёл к станочку, достал сундучок, высыпал из него не меньше сотни малахитовых досочек и говорит:
— Вот погляди, барин, что из этой грязи делаю.
Французский мастер стал досочки перебирать и видит, все они цветом разнятся и узором не сходятся. Француз подивился, как это так выходит, а Евлаха усмехается:
— Я из окошечка на ту вон полянку гляжу. Она мне цвет и узор кажет. Под солнышком одно видишь, под дождиком другое. Весной так, летом иначе, осенью по-своему, а всё красота. И конца краю той красоте не видится.
Приезжий тут давай доспрашиваться, как составлять камень. Ну, Евлаха на это не пошёл, пустыми словами загородился.
— Составы, дескать, разные бывают. Когда одного больше берёшь, когда другого. Иное спекаешь, иное свариваешь, а которое и просто смешать можно.
— Каким, — спрашивает, — инструментом работаете?
А Евлаха и отвечает:
— Инструмент известный — руки.
Заграничный на это головой заболтал, заухмылялся, нахваливать Евлаху стал:
— Волшебные руки, Ефляк Петрош! Волшебные руки!
— Волшебства, — отвечает, — нет, а не жалуюсь.
Заграничный мастер видит — ни хитростью, ни лаской не возьмёшь, вынимает из кармана два петровских билета, тысячу, значит, рублей, кладёт на верстак и говорит:
— Плачу тысячу, если всё по совести расскажешь, а коли научишь натурально, ещё столько доплачиваю.
Евлаха поглядел на петровский портрет и говорит:
— Хороший государь был! Не чета протчим, а только он тому не учил, чтоб мы нутром своим торговали. Бери-ко, барин, свои деньги да ступай, откуда пришёл.
Тот, конечно, завертелся — что такое? в чём обида?
Ну, Железко тут свой характер показал, отчитал гостя.
— Эх, ты, — говорит, — белошляпый, а ещё мастером называешься! Скажи тебе, а ты за шляпу-то да за перчатки кому хочешь продашь. До немцев дойдёт, а эти дуболобы любой камень испоганят. Харчок в золотой оправе станут за малахит по пятишке продавать. Понимаешь и это? Харчок за наш родной камень, в коем радость земли собрана. Да никогда этого не будет! Нам самим этот камешок пригодится. Не то что покрышки на царский альбом, а такую красоту сделаем, что со всего свету съезжаться будут, чтобы хоть глазком поглядеть. И будет это наша работа! Вот такими же руками делана!
Так заграничный мастер и ушёл от Железки ни с чем. А крышки от Фабержея всё-таки увёз. Через своё начальство улестил царя, чтоб подарок такой сделали.
А Железко умер уж в гражданскую войну. Тогда еще которые сомневались, как да что будет, а Железко одно говорил:
— Не беспокойтесь — рабочие руки всё могут! Кое в порошок сомнут, кое по крупинкам соберут да мяконько прогладят — вот и выйдет цельный камень небывалой радости. Всему миру на диво. И на поученье — тоже.
1942 г.
Веселухин ложок
нас за прудом одна логотинка с давних годов на славе. Весёлое местичко Ложок широконький. Весной тут маленько мокреть держится, зато трава кудреватее растёт и цветков большая сила. Кругом лес всякой породы. Поглядеть любо. И приставать с пруда к той логотинке сподручно: берег не крутой и не пологий, а в самый, сказать, раз — как нароком улажено, и дно — песок с рябчиком. Вовсе крепкое дно, а ногу не колет. Одним словом, всё как придумано.
Само место к себе тянет: вот-де хорошо тут на бережке посидеть, трубочку-другую выкурить, костерок запалить да на свой завод сдаля поглядеть, — не лучше ли наше житьишко покажется.
К этому ложку здешний народ спокон веку приучен. Ещё при Мосоловых эта мода завелась.
Они — эти братья Мосоловы, при коих наш завод строением зачинался, из плотницкого звания вышли. По-нонешнему сказать, из подрядчиков, видно, были да сильно разбогатели и давай свой завод ставить. На большую воду, значит, выплыли. От богатства отяжелели, понятно. По стропилам с ватерпасом да отвесом все три брата ходить забыли. В одно слово твердят:
— Что-то у меня ноне голову обносить стало. Годы, видно, подошли.
Про то, небось, не поминали, что каждый брюхо наростил, еле в дверь протолкнуться. Ну, всё-таки Мосоловы до полной барской статьи не дошли. Попросту жили и от народа шибко не отворачивались. Летом, под большой праздник, а то и просто под воскресный день нет-нет и объявят по народу:
— Эй, кому досуг да охота, приезжай утре на ложок за прудом. Попить, погулять, себя потешить! За полный хозяйский счет!
И верно, сказывают, в угощеньи не скалдырничали. Вина, пирогов и другой всякой закуски без прижиму ставили. Пей, ешь, сколько нутро вытерпеть может.
Известно, подрядчичья повадка: год на работе мают, день вином угощают да словами улещают.
— Уж мы вам, всё едино, как отцы детям, ничего не жалеем. Вы обратно для нас постарайтесь.
А чего постарайтесь, коли и так все кишки на работе вымотаны.
От этих мосоловских гулянок привычка к весёлому ложку и зародилась.
Хозяйское угощенье, понятно, не в частом бываньи, а за свои, за родные хоть каждый летний праздник езди. Запрету нет. Народ, значит, и приучился по малости. Как время посвободнее, глядишь, — чуть не все заводские лодчонки и батишки к весёлому ложку правятся. С винишком, понятно, с пивом. Ну, и закусить чем тоже прихватывали. Кто, как говорится, баранью лытку, кто — пирог с молитвой, а кто и луковку побольше да погорчее. Всяк по своей силе-возможности.
Ну, выпьют, зашумят. По-хорошему сперва: песни поют, пляшут, игры разные затевают. Одно слово, весело людям. Случалось, понятно, и разаркаются на артели. Не без этого. Иной раз и драку разведут, да такую, что охти-мне. На другой день всякому стыдно, а себя винить всё-таки охотников нет. Вот и придумали отговорку:
— Место там такое. Шибко драчливое.
К этому живо добавили:
— Веселуха там, сказывают, живёт. Это она всё и подстраивает: сперва людей весельем поманит, а потом лбами столкнёт.
Нашлись и такие, кто эту самую Веселуху своими глазами видел, стакан из её рук принимал и сразу после того в драку кинулся. Известно, ежели человек выпивши, ему всякое показаться может. И столь явственно, что поневоле поверишь, как сказывать станет.
— Стоим это мы с Матвеичем на бережке, у большой сосны. Разговариваем, как обыкновенно, про разное житейское. И видим, — идёт не то девка, не то молодуха. Сарафан на ней перепёстрый, цветастый. На голове платочек, тоже с узорными разводами. Из себя приглядистая; глаза весёлые, а зубы да губы будто на заказ сработаны. Одним словом, приметная. Мимо такая пройдёт — на годы её запомнишь. В одной руке у этой бабочки стакан гранёного хрусталя, в другой — рифчатая бутылка зелёного стекла, — цельный штоф. Ну, вот… Подходит эта молодуха к нам, наливает полнёхонек стакан, подаёт Матвеичу и говорит:
— Тряхни-ка, дедушко, для веселья!
У Матвеича, конечно, нет той привычки, чтоб от вина отказываться. Принял стакан, поглядел к свету, как вино в хрустале-то играет, и плеснул себе на каменку. Крякнул, конечно, да и говорит:
— Видать, от желанья поднесла. Легонько прокатилось, душу обогрело.
Бабёнка, знай, посмеивается. Наливает опять стакан, подаёт мне:
— Не отстанешь, поди, от старика-то?
— Зачем, — говорю, — отставать. Довольно смешной даже разговор. Таких-то, как Матвеич, на одну руку по три штуки — и то уберу!
Матвеич, понятно, в обиде на такие слова. Своё бормочет:
— Стар, да петух, а и молод, да протух.
Ну, и другое, что в покор молодым говорится.
— Нос, дескать, в аккурате держать не навыкли, а тоже с нами, стариками, равняться придумали!
Слово за слово, — разодрались ведь мы. Да ещё как разодрались! Вдолги уж на мировую полштофа распили и всё дивовались, как это промеж нас такая оплошка случилась и куда та бабёнка сгинула, коя нам по стакану наливала.
Только и другое говорили.
В нашем заводе, видишь, рисовщики по делу требуются. Иной с малых лет с карандашом. Ну, и расцветка тоже для тех, кто ножи в синь разделывает, дорогого стоит. Так вот от этих рисовщиков другое про Веселуху слышно было. И тоже будто кто-то въявь её видел.
Лежит это парень на травке, на небо глядит, а сам думает, — вот бы эту красоту в узор перевести.
Вдруг ему кто-то говорит:
— А это тебе не подойдёт?
Оглянулся парень, а в головах на пенёчке сидит Веселуха и подаёт ему какой-то листочек. Поглядел, а на листке точь-в-точь тот самый узор и расцветка показаны, о каких он думал. Вот от этих разговоров и повелось, — как появится новый хороший узор либо расцветка, так про Веселуху и помянут.
— Это, беспременно, она показала. Без неё не обошлось. Самому бы ни в жизнь не придумать!
Да вот ещё какая заметка была. Самые что ни есть крепкие заводские питухи дивовались:
— Ровно мы с кумом оба на вино дюжие. Хоть кого спроси. А тут конфуз вышел: охмелели, как несмыслёныши, еле домой доползли. Вспомнить стыд. И ведь выпили самую малость. Отчего бы такое? Не иначе, — Веселуха над нами подшутила. Вишь, лукавка! Кому вон хоть по стакану подносит, а нас и без этого пьяными сделала.
На деле-то, может, проще было. После заводской копоти да кислых паров разморило их на травке под солнышком, а вину на Веселуху сваливают.
Заводские девчонки да бабёнки тоже по-разному Веселуху поминали. Кои слезы лили да причитали:
— Обманула меня Веселуха! Обманула! На всю жизнь погубила.
Кто опять хвалил:
— Хоть не сладко живу, да муж по мыслям. Доброго мне тогда Веселуха парня подвела. С таким и в бедном житье не тоскливо. Дружно живём, Веселухе спасибо говорим.
Такая вот смешица и шла в народе. Кто ругал Веселуху: она людей пьянит да мутит, кто наоборот, хвалил: она, дескать, самую высокую красоту показывает. А про то, есть ли она, и разговору не было. Всяк про неё так рассказывал, будто сам видел её не один раз. Такая-сякая, молодая да весёлая. И про то помянуть не забудут, больно цветисто ходит. А девчонки да и молодые бабёнки сами норовят попестрее снарядиться, как за пруд собираются. Вот и разбери тут, которая из них Веселуха. А место это так и прозвали — Веселухин ложок. Ну, а кто всердцах на это место, те ругали:
— Веселухино болото. Чтоб ему провалиться!
От Мосоловых наш завод Лугинину перешёл. Этот, сказывают, вовсе барского покрою был. Веселухин ложок ему приглянулся. Сразу стал там какое-то заведение строить, да незадачливо вышло. Раз построил— сгорел, другой раз строянку развёл — опять сгорело. На третий раз самую надёжную свою стражу к строянке поставил, а до дела всё-таки не довели. Построить-то построили, только как последний гвоздь забили, ночью опять всё сгорело, и верные барские слуги изжарились.
Какая в том причина была, настояще сказать не умею, а только на Веселуху показывали, будто она не допустила. Про Лугинина старики сказывали, что был он какой-то особой барской веры и от народу скрытничал. Ну, а барская вера. — это уж сдавна примечено, — завсегда девчонкам да молодухам, кои попригожее, горе-горькое.
После третьего пожара больше уж Лугинин не строился. Потом его самого за что-то судили, а завод в казну перешёл. А тут чья-то Дурова голова придумала немцев к нам на завод навезти, и опять с Веселухиным ложком поворот вышел.
Приехали немцы. Зовутся мастера, а по делу одно мастерство видно, — брюхо набивают да пивом наливаются. Живо раздобрели на казённых харчах и от безделья да сытости стали смышлять себе какую по мыслям потеху. Заприметили — народ по воскресным дням за пруд ездит. Поглядели. Место, видно, поглянулось, только постройки никакой нет. Разузнали, что зовут это место Веселухин ложок. И про то им сказали, что строенье тут заводилось три раза, да Веселуха не допустила: всё сожгла. Немцы, понятно, спрашивают:
— Кто есть этот Веселюк?
А в те годы на заводе был мастер Панкрат. Человек не то, чтобы в больших летах, а и не вовсе молодой. Давно бы ему, по заводским обычаям, пора семьёй обзавестись, а он всё в неженатиках ходил. Его уж поддразнивать стали: старый парень! Только Панкрату это нипочём.
— Что ж такого! Хоть старый, а всё-таки парень. Хуже, коли молодой в стариках числится. То и не женюсь, что боюсь молодость окоротить, веселье потерять. Пойдут хлопоты да заботы, не успеешь оглянуться, — в доски забьют, а тут всё-таки туда-сюда поглядишь, сердце порадуешь.
— Не до седых волос, — говорят ему, — за весельем гоняться!
У Панкрата и на это ответ припасён:
— Молодому-то веселью цена пяташная, а старому — рублёвая.
Побалагурить, песенок попеть, поплясать охотник был. Наперебой Панкрата на свадьбы звали. С ним, дескать, и тоскливому весело станет. Панкрат и не отказывался, веселил людей до той поры, пока бутылочное веселье верх возьмёт. Как зашумят вовсе по-пьяному, Панкрата и след простыл. Он, конечно, и сам от выпивки не чурался, только большой приверженности не имел, потому и уходил, как начнётся бестолковщина по пьяному делу. Если случится — задерживать станут, у Панкрата одна отговорка:
— Недосуг мне. На Веселухине ложке дело поспело. Никак пропустить нельзя.
Ружьишко у Панкрата было, рыболовный снаряд тоже имел, только заправским охотником либо рыболовом его не считали. Иные даже подсмеивались:
— Больше всех на охоту да на рыбалку бегаешь, а ни в сумке, ни в корзинке не видно.
— Ружьё у меня жалостливое, — отвечает Панкрат, — и крючочки незадевистые. Да и несподручно мне тяжело носить: руку для рисовки берегу. Ещё, пожалуй, сумку прорвёшь и у корзинки дно продавишь. То ли дело, когда в голове несёшь: ногам легко и рукам свободно.
Которые люди постепеннее, те Панкрата вовсе за пустого человека считали. Ну, и они не спорили, что по рисовке и расцветке он в головах идёт.
— Этого у него не отнимешь. Что правда, то правда.
Про дело в Веселухином ложке Панкрат не зря говорил. Там у него не то что весной да летом, а и в осеннее ненастье и в зимнюю пору какое-то дело. Чуть свободный час выдастся, он непременно туда. Когда спросят: зачем? — ответит шуткой:
— Пенёчки у меня там облюбованы. До того ловко на них сидится, что и сказать не могу. Пойдём, уступлю на подержанье. Посидишь, — сам увидишь, сколь хорошо.
За эту приверженность к Веселухину ложку Панкрата и прозвали Веселухин брат.
Вот как немцы стали дознаваться о Веселухе, им, шутки ради, и говорят:
— Про то лучше всех знает Панкрат, Веселухин брат.
Немецкое начальство сейчас же велело позвать Панкрата. Тот пришёл. Видит, — сидят за столом четверо брюхастых да один пожиже. Тот, что в середине сидит, строго так спрашивает:
— Твой есть сестра Веселюк?
Панкрату это забавно показалось, он и ответил свадебным обычаем по-балагурному:
— Сестра не сестра, а сродни приходится. Обоих нас со слезливого мутит, с тоскливого вовсе тошнит. Нам подавай песни да пляски, смех да веселье и прочее такое рукоделье.
Немцы, ясное дело, шутки не поняли, спрашивают, что за Веселуха, какая она собой?
Панкрат тоже не стал обычая менять, говорит шуткой:
— Бабёнка приметная: рот нарастопашку, зубы наружу, язык на плече. В избу войдет, — скамейки заскачут, табуретки в пляс пойдут. А коли ещё хмельного хлебнёт, выше всех станет, только ногами жидка: во все стороны покачивается.
Немцы даже испугались:
— Какой ушасни шеньщин! Такой песпорятки делайт. Тюрьма такой брать надо.
— Найти, — отвечает Панкрат, — мудрено: зимой из-под снегу не выгребешь, летом — в траве не найдёшь.
Немцы все-таки добиваются, — скажи, в каком месте живёт и чем она занимается. Панкрат и говорит:
— Живёт, сказывают, в ложке, за прудом, а под которым кустом, — это каждому самому глядеть надо, да не просто так, а на весёлый глаз. В ком весёлости мало, можно из бутылки прибавить.
Это немцам по нраву пришлось:
— О, из бутилка можно!
— А ремесло у Веселухи, — говорит Панкрат, — такое. С весны до осени весь народ радует сплошь, а дальше по выбору. Только тех, у кого брюхо в подборе, дых лёгкий, ноги дюжие, волос мягкий, глаз с зацепкой и ухо с прихваткой.
Немцы про дых да брюхо мимо ушей пропустили, потому каждый успел брюхо наростить и задыхался, как запалёная лошадь. Про мягкий волос им не по губе пришлось, потому — у всех наподбор головы ржавой проволокой утыканы. Зато, ногами похвалились. Хлопают себя по ляжкам, притопывают:
— Это есть крепкий нога. Как дуб! На такой нога стоять много.
— Не такие, — объясняет Панкрат, — требуются, чтоб много стоять. Дюжими у нас такие ноги зовут, что сорок вёрст пройдут, вприсядку плясать пойдут да ещё мелкую дробь выколачивают.
Насчёт глаза да уха немцы заспорили:
— Такой бывайть не может.
Панкрат на своём стоит:
— В вашей стороне, может, не бывает, а у нас случается.
Тут немцы давай спрашивать, какой это глаз с прицепкой и ухо с прихваткой.
— Глаз, — отвечает, — такой, что на всяком месте что-нибудь зацепить может: хоть на сорочьем хвосте, хоть на палом листке. А ухо, которое прихватывает и держит всё, что ему полюбится. Ну, мало ли: как ронжа звенит, как трава шуршит, как сосна шумит.
Немцы, конечно, ничего из этого не поняли. Спрашивают, почему надо на сорочий хвост смотреть, какая польза от палого листа, коли ты не садовник и не огородник. Панкрат хотел им втолковать, да видит, — ни на порошинку не понимают, махнул рукой и говорит прямо:
— Коли такое ваше разумение, никогда вам нашей Веселухи не повидать!
Немцы с этим не согласны, своё твердят: — все, дескать, кусты повыдергаем, корни выворотим, а найдём. Без этого нам никак нельзя.
— Этот Веселюк ошень фретный шеньщин. Она делает пожар.
Панкрат видит, — вон куда дело пошло. От этих дубоносых всего жди. Могут хорошее место испортить. Тогда Панкрат и говорит:
— Да ведь это я с вами шуткой разговаривал. Никакой Веселухи нет. Одна выдумка это.
Ну, немцы не верят:
— Какой выдумка? Пожар есть — Веселюк есть.
— Что ж, — отвечает, — пожар всегда случиться может. Не доглядели с огнём, — вот и пожар. Последний вон раз, сказывают, вся барская стража пьянёхонька была.
Немцы к этому и прицепились: — откуда, дескать, знаешь? Панкрат объясняет: — в народе такой разговор идёт. Немцы своё: — скажи, кто говорил? Панкрат подумал, — не подвести бы кого ненароком, и говорит: — не упомню.
Немцам это, видно, подозрительно показалось. Долго меж собой долдонили: не то спорили, не то сговаривались. Потом опять стали спрашивать о приметах Веселухи. Панкрат ещё раз сказал, что это выдумка. Ну, всё-таки объяснил, как про Веселуху сказывают. Немцы вроде обрадовались, закричали: — попался, дескать. Теперь видим, что знаешь, где Веселуха живёт. Показывай её квартиру!
Панкрат тут вовсе осерчал и говорит:
— Коли вы такие чурки с глазами, не о чём мне с вами разговаривать! Делайте со мной, что придумаете, а от меня слова не дождётесь.
Время тогда крепостное было. Немецкое начальство и давай Панкрата мытарить. Чуть не каждый день спросы да расспросы и всё с пригрозью. Других людей тоже потянули. Кто-то возьми и сболтни, что про Веселуху ещё такое сказывают, будто она узоры да расцветку показывает. И про Панкрата упомянули, — сам-де сказывал, будто ходовую расцветку на ноже с Веселухина ложка принёс. Немцы давай и об этом доискиваться. По счастью ещё, Панкратова расцветка им вовсе не глянулась. Всё-таки спрашивают:
— Сколько платиль за такой глюпый расцветка?
Панкрат на допросах давно отмалчивался, а тут за живое взяло.
— Эх, вы, — говорит, — слепыши! Разве можно такое дело рублём мерить! Столько и платил, сколько маялся. Только вам этого не понять, и зря я с вами разговаривать стал.
Сказал это и замолчал. Сколько немцы ни бились, не могли больше от Панкрата слова добыть. Стоит белёхонек, глаза вприщур, ухмыляется и ни слова не говорит. Немцы по столу кулаками молотят, ноги оттопали, грозятся всяко, а он молчит.
Ну, всё-таки на том, видно, решили, что никакой Веселухи нет, и зимой стали подвозить в ложок брёвна и другой материал. Как только обтаяло, завели постройку. Место от кустов и деревьев широко очистили, траву тоже подрезали, а чтоб она больше тут не росла, песком речным засыпали. Коротенько сказать, попортили ложок, сколько разуменья хватило. Народу на постройку довольно нагнали и живёхонько построили большущий сарай на столбах. Пол настлали из толстенных плах, столы, скамейки и табуретки такие понаделали, что, не пообедавши, с места не сдвинешь. На случай, видно, чтоб не заскакали, если Веселуха заявится в этот сарай. В заводе тоже по этому делу старались: лодки готовили. Большие такие. Человек на сорок каждая.
Ну, вот… Как поспело, немцы всей оравой и поплыли на лодках к Веселухину ложку. Дело было в какой-то праздник, — не то в троицу, не то в семик. Нашего народу в ложке немало было. Песни поют, пляшут. Девчонки хоровод завели. Одним словом, весна. Увидели, что немцы плывут, сбежались поглядеть, как у них будет.
Подъехали немцы, скучились на берегу и давай истошным голосом какое-то своё слово кричать. По-нашему похоже на «Дритатай». Прокричали это своё «Дритатай» и убрались в сарай. Что там делается, народу не видно, потому— сарай хоть с окошками, да они высоко. Неохота, видно, немцам своё веселье показывать.
Наши всё-таки исхитрились, пристроились к этим сарайным окошечкам, глядели и другим сказывали. Сперва, дескать, немцы-мужики пиво пили да трубки курили, а бабы да девки немецкие кофеем наливались. Потом, как все надоволились, плясать вроде стали. Смешно против нашего-то. Известно, в немце ловкости, как в пятипудовой гире, а баба немецкая вроде перекислой квашни: вот-вот тесто поползёт. Ну, толкутся друг против дружки, аж половицы стонут. Мужики стараются один другого перетопнуть, стукнуть, то-есть, ногой покрепче. У баб своя забота, как бы от поту хоть маленько ухраниться. Все, конечно гологруды, голоруки, а комар своё дело знает. По весенней поре набилось этого гнуса полнёхонек сарай, и давай комар немок донимать. Наши от гнуса куревом спасаются, да и на воле-то его меньше бывает, потому — ветерком относит. Ну, а тут комару раздолье вышло. Тоже и одёжа наша куда способнее. Весной, небось, никто голошеим да голоруким в лес не пойдёт, а тут на-ка — приехали наполовину нагишом. Туго немцам пришлось, а они всё-таки крепятся, желают доказать, что комар им — тьфу. Только недаром говорится, что вешний гнус не то что человека, — животину одолеет. Невтерпёж и немцам стало. Кинулись к своим лодкам, а там воды полно. Принялись откачивать, да не убывает. Оказалось, все донья решетом сделаны. Какой-то добрый человек потрудился, — по всем лодкам напарьей дыр навертел. Вот-те и Дритатай!
Пришлось немцам кругом пруда пешком плестись. Закутались, кто чем мог, да разве от вешнего гнуса ухранишься. А на дороге-то ещё болотина приходится. Молодяжник заводский тоже маленько потешился, — добавил иным немцам шишек на башках.
Только немцы, конечно, не сразу отступились от своей затеи. Не раз ещё всем скопом пробирались на Веселухин ложок. И на лошадях приезжали, и на лодках приплывали, а конец один: то лошадей угонят, то лодки прорешетят, и немцам обратная дорога солоно придётся. Панкрата к ответу тянули, других мастеров тоже всяко застращивали, иных опять подговаривали сказать, кто это им ходу в Веселухином ложке не даёт. Ну, ничего не добились. Так и пришлось немцам забросить свой сарай.
На память об этом немецком веселье в народе только и осталось одно слою, какое они кричали, как в первый раз приплыли. Теперь ещё заводские старики нет-нет и скажут:
— Это ещё в ту пору было, как немцы хотели в Веселухином ложке свой Дритатай устроить, да Веселуха не допустила.
А сарай немецкий долгонько место поганил. Потом его растащили потихоньку. Опять хороший ложок стал. Без вина людей пьянит, а иным и самую высокую красоту даёт поглядеть.
1943 г.
Богатырева рукавица
Из уральских сказов о Ленине
здешних-то местах раньше простому человеку никак бы не удержаться: зверь бы заел, либо гнус одолел. Вот сперва эти места и обживали богатыри. Они, конечно, на людей походили, только сильно большие и каменные. Такому, понятно, легче: зверь его не загрызёт, от оводу вовсе спокойно, жаром да стужей не проймёшь, и домов не надо.
За старшего у этих каменных богатырей ходил один, по названью Денежкин. У него, видишь, на ответе был стакан с мелкими денежками из всяких здешних камней да руды. По этим рудяным да каменным денежкам тому богатырю и прозванье было.
Стакан, понятно, богатырский — выше человеческого росту, много больше сорокаведёрной бочки. Сделан тот стакан из самолучшего золотистого топаза и до того тонко да чисто выточен, что дальше некуда. Рудяные да каменные денежки насквозь видно, а сила у этих денежек такая, что они место показывают.
Возьмёт богатырь такую денежку, потрёт с одной стороны, — и сразу место, с какого та руда либо камень взяты, на глазах появится. Со всеми пригорочками, ложками, болотцами, — примечай, знай. Оглядит богатырь, всё ли в порядке, потрёт другую сторону денежки, — и станет то место просвечивать. До капельки видно, в котором месте руда залегла и много ли её. А другие руды либо камни сплошняком кажет. Чтоб их разглядеть, надо другие денежки с того же места брать.
Для догляду да посылу была у Денежкина-богатыря каменная птица. Росту большого, нравом бойкая, на лету лёгкая, а обличье у ней сорочье — пёстрое. Не разберёшь, чего больше намешано: белого, чёрного али голубого. Про хвостовое перо говорить не осталось, — как радуга в смоле, а глаз агатовый в весёлом зелёном ободке. И сторожкая та каменная сорока была. Чуть кого чужого заслышит, сейчас заскачет, застрекочет, богатырю весть подаёт.
Смолоду каменные богатыри крутенько пошевеливались. Немало они троп протоптали, иные речки отвели, болота подсушили, вредного зверя поубивали. Им ведь ловко: стукнет такую зверюгу каменным кулаком, либо двинет ногой — и дыханья нет. Одним словом, поработали.
Старший богатырь нет-нет и гаркнет на всю округу:
— Здоровеньки, богатыри?
А они подымутся враз да и загрохочут:
— Здоровы, дядя Денежкин, здоровы!
Долго так-то богатыри жили, потом стареть стали. Покличет их старший, а они с места сдвинуться не могут. Кто сидит, кто лежмя лежит, вовсе камнями стали, богатырского оклику не слышат. И сам Денежкин отяжелел, мохом обрастать стал. Чует, стоять на ногах не может. Сел на землю, лицом к полуденному солнышку, присугорбился, бородой в коленки упёрся, да и задремал. Ну, всё-таки заботы не потерял. Как заворошится каменная сорока, так он глаза и откроет. Только и сорока не такая резвая стала. Тоже, видно, состарилась.
К этой поре и люди стали появляться. Первыми, понятно, охотники забегать стали, как тут вовсе приволье было. За охотниками пахарь пришёл. Стал деревья валить да деревни ставить. Вскорости и такие объявились, кои по горам да ложкам землю ковырять принялись, не положено ли тут чего на пользу. Эти живо прослышали насчёт топазового стакана с денежками и стали к нему подбираться.
Первый-то, кто на это диво набрёл, видать, из простодушных случился. Он только на весёлые камешки польстился. Набрал их всяких: желтеньких, зелёных, вишнёвых. Ну, и открыл места, где такие камешки водятся.
За этим добытчиком другие потянулись. Больше норовят тайком один от другого. Известно, жадность людская: охота всё богатство на себя одного перевести.
Прибегут такие, видят — старый богатырь вовсе утлый, чуть живой сидит, а всё-таки вполглаза посматривает. Топазовый стакан полнёхонек рудяными да каменными денежками и закрыт богатырёвой рукавицей, а на ней каменная сорока поскакивает, беспокоится. Добытчикам, понятно, страшно, они и давай старого богатыря словами обхаживать.
— Дозволь, родимый, маленько денежек взаймы взять. Как справлюсь с делом, непременно отдам. Убери свою сороку.
Старик на эти речи ухмыльнётся и пробурчит, как гром по далеким горам:
— Бери, сколь надобно, только с уговором, чтоб народу на пользу.
И сейчас своей птице знак подаёт.
— Посторонись, Стрекотуха.
Каменная сорока легонько подскочит, крыльями взмахнёт и на левое плечо богатыря усядется да оттуда и уставится на добытчика.
Добытчики хоть оглядываются на сороку, а всё-таки рады, что с места улетела. Про рукавицу, чтобы богатырь снял ее, просить не осмеливаются: сами, дескать, как-нибудь одолеем это дело. Только она — эта богатырёва рукавица — людям невподъём. Вагами да ломами её отворачивать примутся. В поту бьются, ничего не щадят. Хорошо, что топазовый стакан навеки сделан — его никак не пробьёшь.
Ну, всё-таки сперва и на старика поглядывают, и на сороку озираются, а как маленько сдвинут рукавицу да запустят руки в стакан, так последний стыд потеряют. Всяк наровит ухватить побольше, да такие денежки выбирают, кои подороже кажутся. Иной столько нахапает, что унести не в силу. Так со своей ношей и загибнет.
Старый Денежкин эту повадку давно на примету взял. Нет-нет и пошлёт свою сороку.
— Погляди-ка, Стрекотуха, далече ли тот ушел, который два пестеря денежек нагрёб.
Сорока слетает, притащит обратно оба пестеря, ссыплет рудяные денежки в топазовый стакан, пестери около бросит да и стрекочет:
— На дороге лежит, кости волками оглоданы.
Богатырь-Денежкин на это и говорит:
— Вот и хорошо, что принесла. Не на то нас с тобой тут поставили, чтоб дорогое по дорогам таскалось. А того скоробогатка не жалко. Всё бы нутро земли себе уволок, да кишка порвалась.
Были, конечно, и удачливые добытчики. Немало они рудников да приисков пооткрывали. Ну, тоже не совсем складно, потому — одно добывали, а дороже того в отвалы сбрасывали.
Неудачливых всё-таки много больше пришлось. С годами все тропки к Денежкину-богатырю по человечьим костям приметны стали. И около топазового стакана хламу много развелось. Добытчики, видишь, как дорвутся до богатства, так первым делом свой инструментишко наполовину оставят, чтоб побольше рудяных денег с собой унести. А там, глядишь, каменная сорока их сумки-котомки, пестери да коробья обратно притащит, деньги в стакан ссыплет, а сумки около стакана бросит. Старик Денежкин на это косился, ворчал.
— Вишь, захламили место. Стакана вовсе не видно стало. Не сразу доберешься к нему. И тропки тоже в нашу сторону все испоганили. Настоящему человеку по таким и ходить-то, поди, муторно.
Убирать кости по дороге и хлам у стакана всё-таки не велел. Говорил сороке:
— Может, кто и образумится, на это глядя. С понятием к богатству подступит.
Только перемены всё не было.
Старик Денежкин иной раз жаловался:
— Заждались мы с тобой, Стрекотуха, а все настоящий человек не приходит.
Когда опять уговаривать сороку примется.
— Ты не сомневайся, придёт он. Без этого быть невозможно. Крепись как-нибудь.
Сорока на это головой скоренько запокачивает:
— Верное слово говоришь. Придёт!
А старик тогда и вздохнёт:
— Передадим ему всё по порядку — и на спокой.
Раз как-то судят, вдруг сорока забеспокоилась, с места слетела и засуетилась, как хозяйка, когда она гостей ждёт. Оттащила всё старательское барахло в сторону от стакана, очистила место, чтобы человеку подойти, и сама без зову на левое плечо богатырю взлетела да и прихорашивается.
Денежкин-богатырь от этой пыли чихнул. Ну, понял, к чему это, и хоть разогнуться не в силах, всё-таки маленько подбодрился, в полный глаз глядеть стал и видит.
Идёт по тропе человек, и никакого при нём снаряду: ни каёлки, то есть, ни лопатки, ни ковша, ни лома. И не охотник, потому — без ружья. На таких, кои по горам с молотками да сумками ходить стали, тоже не походит. Вроде как просто любопытствует, ко всему приглядывается, а глаз быстрый. Идёт скоренько. Одет по-простому, только на городской лад. Подошёл поближе, приподнял свою кепочку и говорит ласково:
— Здравствуй, дедушка-богатырь!
Старик загрохотал по-своему:
— Здравствуй, мил-любезный человек. Откуда, зачем ко мне пожаловал?
— Да вот, — отвечает, — хожу по земле, гляжу, что где полезное народу впусте лежит и как это полезное лучше взять.
— Давно, — говорит Денежкин, — такого жду, а то лезут скоробогатки. Одна у них забота, как бы побольше себе захватить. За золотишком больше охотятся, а того соображения нет, что у меня много дороже золота есть. Как мухи из-за своей повадки гинут, и делу помеха.
— А ты, — спрашивает, — при каком деле, дедушка, приставлен?
Старый богатырь тут и объяснил всё: — какая, значит, сила рудяных да каменных денежек. Человек это выслушал и спрашивает:
— Поглядеть из какой руки можно?
— Сделай, — отвечает, — милость, погляди.
И сейчас же сбросил свою рукавицу на землю.
Человек взял горсть денежек, поглядел, как они место показывают, ссыпал в стакан и говорит:
— Умственно придумано. Ежели с толком эти знаки разобрать, всю здешнюю землю наперёд узнать можно. Тогда и разбирай по порядку.
Слушает это Денежкин-богатырь и радуется, гладит сороку на плече и говорит тихонько:
— Дождались, Стрекотуха, настоящего, с понятием. Дождались! Спи теперь спокойно, а я сдачу объявлю.
Усилился и загрохотал вовсе по-молодому на всю округу:
— Слушай, понимающий, последнее слово старых каменных гор. Бери наше дорогое на свой ответ. И то не забудь. Под верховым стаканом в земле изумрудный зарыт. Много больше этого. Там низовое богатство показано. Может, когда и оно народу понадобится.
Человек на это отвечает:
— Не беспокойся, старина. Разберём как полагается. Коли при своей живности не успею, надёжному человеку передам. Он не забудет и всё устроит на пользу народу. В том не сомневайся. Спасибо за службу да за добрый совет.
— Тебе спасибо на ласковом слове. Утешил ты меня, утешил, — говорит старый богатырь, а сам глаза закрыл и стал гора горой. Кто его раньше не знал, те просто зовут Денежкин камень. На левом скате горы рудный выход обозначился. Это где сорока окаменела. Пёстренькое место. Не разберёшь, чего там больше: черного ли, али белого, голубого. Где хвостовое перо пришлось, там вовсе радуга см алой побрызгана, а чёрного глаза в весёлом зелёном ободке не видно, — крепко закрыт. И зовётся то место — урочище Сорочье.
Человек постоял ещё, на сумки-пестери, ломы да лопаты покосился и берёт с земли богатырёву рукавицу, а она каменная, конечно, тяжелая, в три либо четыре человечьих роста. Только человек и сам на глазах растёт. Легонько, двумя перстами поднял богатырёву рукавицу, положил на топазовый стакан и промолвил:
— Пусть полежит вместо крышки. Всё-таки баловства меньше, а приниматься за работу тут давно пора. Забывать старика не след. Послужил немало и ещё пригодится.
Сказал и пошёл своей дорогой прямо на полночь. Далеконько ушёл, а его всё видно. Ни горы, ни леса заслонить не могут. Ровно, чем дальше уходит, тем больше кажется.
1944 г.
Круговой фонарь
ену человеку тоже смаху не поставишь. Мудрёное это дело! Ох, мудрёное. Недаром пословица сложена: «Человека узнать — пуд соли с ним съесть!»
Только этак-то узнавать, на мое разуменье, больно солёно обойдется, в годах затяжно, да и опаска тут есть. За пудом-то соли ты, беспременно, с тем человеком либо приятство заведёшь, либо наглухо рассоришься. Глядишь, и выйдет неустойка: не то по дружбе скинешь, не то по насердке зубом натянешь.
Мои вот старики по-другому советовали.
— Обойди, — говорит, человека раз десяток да разузнай, каков он в работе, каков в гульбе, ловок ли по суседству, какой по хозяйству да по семейности. Одним словом, без пропуску.
Да еще наказывали старики:
— Гляди, не смаргивай, — это-де соринка, то пушинка, это пустяки, а это просто так. А ты всё прибирай: соринку в примету, пушинку в память, пустяк за пазуху и так в карман. Помни: невелика зверинка комар, а бывает, что и от него оберучь не отмашешься.
И про то старики забывать не велели, чтоб со всякой стороны человека на полный вершок мерить. А то ведь случается, иной, как говорится, и поёт и пляшет, да никому охоты нет ни поглядеть и ни послушать. Бывает и наоборот. По всем статьям человек в нетуваях, а то и вовсе в дураках ходит, а с одной стороны светит не хуже рудничной блендочки. Навеска немалая. Против лампёшки, коя кверху коптит, а в боке подмигивает, такая бленда куда больше вытянет. Ну, а та же бленда — мизюкалка мизюкалкой против шахтного фонаря.
Про нонешний рудничный свет моим старикам, понятно, и во снах не снилось, а все-таки был у них на больших подземных работах, у главного ствола, особый фонарь. Круговым назывался. Он, конечно, был много больше рудничной блендочки и светильня у него потолще, да ещё какие-то угольчатые стёклышки вставлялись. И не просто, а круговой лесенкой. Главная сила в этих стёклышках да лесенке и состояла. Чуть лесенка прогиб дала, либо какое стёклышко посбилось, сразу на шахтном дворе темно станет. А коли всё в исправности, фонарь гонит свет ровно, сильно и большой круг захватывает.
Силу фонаря видишь, разгадать не хитро сказалось, а вот по какой причине люди по-разному светят, — это ещё понимать и понимать надо. Стёклышек, поди-ко, ни у кого нет. У всякого две руки, две ноги и в голове начинка не из гнилой соломы, а разница выходит большая. Один от всех печеней пыхтит, старается, а никому от него ни свету, ни радости. Другой опять к одному какому-нибудь делу сроден, а в остальном бревно-бревном. Ну, есть и такие, что вроде играючи живут, и во всём у них удача. Лошадь такой купит — она и воз везёт, и на бегу от рысака не отстаёт. Женится — ребята пойдут мост мостом, как груздочки после тёплого дождя, один другого ядрёней, и жена не чахнет. Всякая работа у такого удачника спорится, и на праздничном лугу ни от песенников, ни от плясунов он не отстаёт. Вот и пойми эту штуку!
Старики про такой приметный случай сказывали.
Не помню, в котором заводе был подмастерье при прокатном стане, прозваньем Гриньша-Рыбка. Парень не то, чтоб сильно могутный. Ну, всё-таки здоровый и на работу ловкий. Известно, при прокатке медвежьим обычаем топтаться не годится, пошевеливаться надо. Он и пошевеливался веселенько, со стороны поглядеть любо. Другие, которые при прокатке, тоже, конечно, народ складных статей. Были в них и помогутнее и порослее Гриньши, а выстоять в работе против него не могли. Податней всех у него прокатка шла, и браку нет.
При таком-то положении, понятное дело, без завистников не обойдётся, а тут ещё, как на грех, стоял он у одного стана с Михалком Гвоздем. Мужик в одних годах с Гриньшей, и по работе его ничем не похаешь. Тоже в самолучших прокатчиках считался. Лицом чистяк, ус богатый, глаз горячий. Прямо сказать, из таких, на кого девчонки да молодые бабёнки поглядеть любят.
Против этого Михалка Гвоздя у Гриньши одна неустойка случилась по житейскому делу. Они, видишь, как неженатиками ходили, на одну девушку нацеливались. Не то чтоб богатая какая невеста, а из того девьего слою, про который говорится: «Не разберёшь, чем берёт: весёлым обычаем, густой бровью, али крутым плечом».
Михалко Гвоздь сперва опередил Гриньшу. Посватался. Рукобитье сделали. Ну, Гриньша не отстаёт, своё девушке нашёптывает:
— Неуж, Аганюшка, ты своей судьбы не чуешь!
Аганюшка послушала-послушала да и учуяла свою судьбу: убегом за Гриньку выскочила.
Родня Аганина, понятно, шум подняла, грозиться стали.
— Мы этого Вьюна-рыбу изловим, на поганой сковородке изжарим и собакам выбросим.
Гриньша, знай, посмеивается.
— Может, — говорит, — вьюна изжарить просто, да поймать нелегко.
Ну, потом Аганина родня утихомирилась. Видят, — хорошо молодые живут, себе на радость, соседям на погляденье. По работе друг от дружки не отстают и от весёлого не чураются. Близко к первым родинам свадьбу справили, отгуляли честь честью, сколь достатку хватило.
Обошлось этак-то дело по-хорошему, только Гвоздь своей обиды не забыл. Он, конечно, тоже женился. Добрую девушку взял, а против Гриньши злобу имел. По работе не раз подвести посыкался, да Гриньша поглядывал и слёту всякий подвох узнавал.
С первых годов, случалось, Михалко и драку затевал, на кулак свой надеялся. Мужик, и верно, могутный, того и гляди расшибёт, а на деле окажется, — Гриньша сверху сидит да Михалку гвозди заколачивает. На другой день в прокатном сойдутся. Гринька ничем ничего, веселёшенек, а у Михалки кругом синяки да шишки понасажены.
С годами, ясное дело, это прошло. Оба самолучшими прокатчиками стали, настоящими, сказать, мастерами, а разница меж ними большая. У Михайла и ус завял и глаз потускнел, а Гринына похаживает, как в молодые годы, и жена у него, как ребёнка принесёт, так ровно, цвету себе добавит. Вот Михайло и придумал.
— Неспроста это. Беспременно тут тайность есть. Жив не буду, а разузнаю до тонкости.
Ну, мужик въедливый. Недаром Гвоздём звали. Не только сам тем делом занялся, — других к тому подбил. Поглядывать да разузнавать стали.
Время тогда тёмное было. Пустякам разным верили. Сперва пошли разговоры о тайных родинках на теле да о счастливой рубашке. Только бабка, которая Гриньшу принимала, не дала ходу таким разговорам.
— Никаких, — говорит, — тайных родинок нет и счастливой рубашки не бывало.
Потом сплели, будто Гринька каждое лето на Иванову ночь в лес ходит за какой-то тайной травкой. Не по один год в эту ночь подкарауливали, куда пойдёт Гриньша, а он себе похрапывает на холодке под сарайчиком.
Тут ещё что-то придумали. Ну, видят — пустое дело. Живёт мужик в открытую, от людей не таится, худого другим не делает, а кому и помогает по своей силе-возможности. Тогда и решили: спросим у самого. Выбрали часок, собрались где-то да и говорят:
— Скажи, Григорий Зотеич, по какой причине у тебя во всяких делах удача? По работе спорина, по семейности порядок и по домашности гладенько катится. Нет ли в том какой тайности?
А Ефим Задор ещё полюбопытствовал:
— Дело, конечно, прошлое, а всё-таки недалеко ушло, помним. Случалось тебе и не один раз драться с Михайлом Гвоздём. Всем нам ведомо, что Михайло покрепче тебя и в развороте не уступит, а почему ты всегда долбил Гвоздя, а ему не довелось тебя поколотить?
Гриньша и объяснил по совести.
— Никакой, — говорит, — тайности нет, а только я приметливый и ни одно дело ниже другого не считаю. По-моему, хоть железо катать, хоть петли метать, траву косить, али бревна возить — всё выучка требуется, и не как-нибудь, а по-настоящему. Потому, ежели какое дело не знаю, за то не возьмусь, а коли надобность неминучая, так сперва поищу, у кого перенять, чтоб по-хорошему вышло. Чего, скажем, проще— литовку отбить, либо пилу наточить. Всяк будто умеет, а на поверку выходит, что далеко не каждый умеет это сделать, а, может, из сотни один. Вот я и гляжу, у кого литовка самоходом идёт и морхов не оставляет, у кого пила сама режет, только над-неси, у тех, значит, и учусь. И ладно выходит. Ну, кругом себя тоже смотреть не забываю. Без этого нельзя. Ежели, к примеру, ты семью завёл, так днём и ночью о том помнить должен. Последнее дело, коли себя в исправности содержать станешь, а ребят балуками да неслухами вырастишь. Большого догляду да заботы это дело требует.
Рассказал этак-то и говорит:
— Вот и вся моя удача, что всякое дело пустым не считаю и кругом себя поглядывать не забываю. И касательно драчишек с Михайлом это же самое. К такому делу у меня большой охоты не было. Ну, знал, — без этого не проживёшь, вот и примечал с малолетства, в какую косточку в случае больнее стукнуть. Этим и брал Михайлу. Только и дела.
Всё-таки не все поверили Гриньше, при своём остались, — счастливым, дескать, уродился. А ведь Гриньша правду говорил.
По теперешним временам это виднее стало, как, то-есть, человека ценить, потому — приходится часто такое разбирать до косточки. Значит и понавыкли.
Недавно вон одного вальцовщика на нашем заводе в книгу Почета записывали, так его со всякой стороны поглядели, а на одно вышло. По работе лучше всех сказался, и ребята у него отличники, и для своей учебы время находит, и даже по огороду среди своих заводских на первое место вышел. Полностью круговой фонарь. Только как это слово теперь позабыто, и он в партии состоит, так по другому его похвалили:
— С которой стороны ни поверни, — всё коммунист.
1944 г.
Чугунная бабушка
ротив наших каслинских мастеров по фигурному литью никто выстоять не мог. Сколько заводов кругом, а ни один вровень не поставишь.
Другим заводчикам это не вовсе по нраву приходилось. Многие охотились своим литьём каслинцев обогнать, да не вышло.
Демидовы тагильские сильно косились. Ну, как, — первый, можно сказать, по здешним местам завод считался, а тут на-ко, — по литью оплошка. Связываться всё-таки не стали, отговорку придумали:
— Мы бы легонько каслинцев перешагнули да заниматься не стоит: выгоды мало.
С Шуваловыми лысьвенскими смешнее вышло. Те, понимаешь, врезались в это дело. У себя, на Кусье-Александровском заводе, сказывают, придумали тоже фигурным литьем заняться. Мастеров с разных мест понавезли, художников наняли. Не один год этак-то пыжились и денег, говорят, не жалели, а только видят — в ряд с каслинским это литьё не поставишь. Махнули рукой да и говорят, как Демидовы:
— Пускай они своими игрушками тешатся, у нас дело посурьёзнее найдётся.
Наши мастера меж собой пересмеиваются:
— То-то! Займитесь-ко чем посподручнее, а с нами не спорьте. Наше литьё, поди-ко, по всему свету на отличку идёт. Одним словом, каслинское.
В чем тут главная точка была, сказать не умею. Кто говорил — чугун здешний особенный, только на мой глаз, чугун-чугуном, а руки-руками. Про это ни в каком деле забывать не след.
В Каслях, видишь, это фигурное литьё с давних годов укоренилось. Еще при бытности Зотовых, когда они тут над народом изгальничали, художники в Каслях живали. Народ, значит, и приобык.
Тоже ведь фигурка, сколь хорошо ее ни слепит художник, сама в чугун не заскочит. Умелыми да ловкими руками ее переводить доводится.
Формовщик хоть и по готовому ведет, а его рука много значит. Чуть оплошал— уродец родится.
Дальше чеканка пойдёт. Тоже не всякому глазу да руке впору. При отливке, известно, всегда какой ни на есть изъян случится. Ну, наплывчик выбежит, шадринки высыплет, вмятины тоже бывают, а чаще всего путцы под рукой путаются. Это плёночки так по-нашему зовутся. Чеканщику и приходится все эти изъяны подправить: наплывчики загладить, шадринки сбить, путцы срубить. Со стороны глядя, и то видишь — вовсе тонкое это дело, не всякой руке доступно.
Бронзировка да покраска проще кажутся, а изведай — узнаешь, что и тут всяких хитростей-тонкостей многонько.
А ведь всё это к одному шло. Оно и выходит, что около каслинского фигурного литья, кроме художников, немало народу ходило. И набирался этот народ из того десятка, какой не от всякой сотни поставишь. Многие конечно, по тем временам вовсе неграмотные были, а дарованье к этому делу имели.
Фигурки, по коим литьё велось, не всё заводские художники готовили.
Больше того их со стороны привозили. Которое, как говорится, из столицы, которое — из-за границы, а то и просто с толчка. Ну, мало ли, — приглянется заводским барам какая вещичка, они и посылают её в Касли с наказом:
— Отлейте по этому образцу, к такому-то сроку.
Заводские мастера отольют, а сами про всякую отливку посудачат.
— Это, не иначе, француз придумал. У них, знаешь, всегда так: либо весёленький узорчик пустят, либо выдумку почудней. Вроде вон парня с крылышками на пятках. Кузьмич из красильной ещё его торгованом Меркушкой зовёт.
— Немецкую работу, друг, тоже без ошибки узнать можно. Как лошадка поглаже да посытее, либо бык пудов этак на сорок, а то барыня погрузнее в полном снаряде да ещё с собакой, так и знай — без немецкой руки тут не обошлось. Потому — немец первым делом о сытости думает.
Ну вот. В числе прочих литейщиков был в те годы Торокин Василий Фёдорыч. В пожилых считался. Дядей Васей в литейном его звали.
Этот дядя Вася с малых лет на формовке работал, — и, видно, талан к этому делу имел. Даром что неграмотный, а лучше всех доводил. Самые тонкие работы ему доверяли.
За свою-то жизнь дядя Вася не одну тысячу отливок сделал, а сам дивится:
— Придумывают тоже! Всё какие-то Еркулесы да Лукавоны! А нет того, чтобы понятное показать.
С этой думкой стал захаживать по вечерам в мастерскую, где главный заводский художник учил молодых ребят рисунку и лепке тоже.
Формовочное дело, известно, с лепкой-то по соседству живёт: тоже приметливого глаза да ловких пальцев требует.
Поглядел дядя Вася на занятия да и думает про себя: «А ну-ко, попробую сам».
Только человек возрастной, свои ребята уж большенькие стают — ему и стыдно в таких годах ученьем заниматься. Так он что придумал? Вкрадче от своих-то семейных этим делом занялся. Как уснут все, он и садится за работу. Одна жена знала. От неё, понятно, не ухоронишься. Углядела, что мужик засиживаться стал, спрашивает:
— Ты что, отец, полуночничаешь?
Он сперва отговаривался:
— Работа, дескать, больно тонкая пришлась, а пальцы одубели, вот и разминаю их.
Жена всё-таки доспрашивает, да его и самого тянет сказать про свою затею. Не зря, поди-ко, сказано: сперва подумай с подушкой, потом с женой. Ну, он и рассказал:
— Так и так… Придумал свой образец для отливки сготовить.
Жена посомневалась:
— Барское, поди-ко, это дело. Они к тому учёные, а ты что?
— Вот то-то, — отвечает, — и горе, что бары придумывают непонятное, а мне охота простое показать. Самое, значит, житейское. Скажем, бабку Анисью вылепить, как она прядёт. Видела?
— Как, — отвечает, — не видела, коли чуть не каждый день к ним забегаю.
А по соседству с ними Безкрёсновы жили. У них в семье бабушка была, вовсе преклонных лет. Внучата у ней выросли, работы по дому сама хозяйка справляла, и у этой бабки досуг был. Только она — рабочая косточка — разве может без дела? Она и сидела день-деньской за пряжей, и всё, понимаешь, на одном месте, у кадушки с водой. Дядя Вася эту бабку и заприметил. Нет-нет и зайдёт к соседям будто за делом, а сам на бабку смотрит. Жене, видно, поглянулась мужнина затея.
— Что ж, — говорит, — старушка стоющая. Век прожила, худого о ней никто не скажет. Работающая, характером уветливая, на разговор не скупая. Только примут ли на заводе?
— Это, — отвечает, — полбеды, потому — глина не купленная и руки свои.
Вот и стал дядя Вася лепить бабку Анисью, со всем, сказать по-нонешнему, рабочим местом. Тут тебе и кадушка, и ковшичек сбоку привешен, и бабка сидит, сухонькими пальцами нитку подкручивает, а сама маленько на улыбке, вот-вот ласковое слово скажет.
Лепил, конечно, по памяти. Старуха об этом и не знала, а Васина жена сильно любопытствовала. Каждую ночь подойдёт и свою заметочку скажет:
— Потуже ровно надо её подвязать. Не любит бабка распустихой ходить, да и не по-старушечьи эдак-то платок носить.
— Ковшик у них будет поменьше. Нарочно давеча поглядела.
Ну, и прочее такое. Дядя Вася о котором поспорит, которое на приметку берёт.
Ну, вылепил фигурку. Тут на него раздумье нашло — показать ли? Ещё на смех подымут!
Он — управляющий этот — с характером мужик был, вовсе ершистый. Чуть не по нему, сейчас:
— Живите, не тужите, обо мне не скучайте! Я по вам и подавно тосковать не стану по тему владельцев много, а настояще знающих по заводскому делу нехватка. Найду место, где дураков поменьше, толку побольше.
Скажет так и вскорости на другое место уедет. По многим заводам хорошо знали его. Рабочие везде одобряли, да и владельцы хватались. Сманивали даже.
Все, понятно, знали — человек неспокойный, не любит, чтоб его под локоть толкали, зато умеет много лишних рублей находить на таких местах, где другие ровным счётом ничего не видят.
Владельцев заводских это и приманивало.
Перед Каслями-то этот управляющий на Омутинских заводах служил, у купцов Пастуховых. Разругался из-за купецкой прижимки в копейках. Думал, в Каслях попроще с этим будет, а вон что вышло: управляющий целым округом не может на свой глаз модельку выбрать. Кому это по нраву придётся?
Управляющий и обижался, а уж, видно, остарел, посмяк характером-то, побаиваться стал. Вот он и наказывал дяде Васе, чтоб тот помалкивал.
Дяде Васе как быть? Передал всё-таки потихоньку эти слова товарищам. Те видят— не тут началось, не тут и кончится. Стали доискиваться да разузнали всё до тонкости.
Каслинские заводы, видишь, за наследниками купцов Расторгуевых значились. А это уж так повелось, — где богатое купецкое наследство, там непременно какой-нибудь немец пристроился. К расторгуевскому подобрался фон-барон Меллер да еще Закомельский. Чуешь, — какой коршун? После пятого году на всё государство прославился палачом да вешателем.
В ту пору этот Меллер-Закомельский ещё молодым жеребчиком ходил. Только что на Расторгуевой женился и вроде как главным хозяином стал.
Их ведь — наследников-то расторгуевский — не один десяток считался, а весили они по-разному. У кого частей мало, тот мало и значил. Меллер больше всех частей получил, — вот и вышел в главного.
У этого Меллера была в родне какая-то тётка Каролина. Она будто Меллера и воспитала. Выростила, значит, дубину на рабочую спину. Тоже, сказывают, важная барыня — баронша. Приезжала она к нам на завод. Кто видел, говорили — сильно сытая, вроде стоячей перины, ежели сдаля поглядеть.
И почему-то эта тётка Каролина считалась понимающей в фигурном литье. Как новую модель выбирать, так Меллер завсегда с этой тёткой совет держал. Случалось она и одна выбирала. В литейном подсмеивались:
— Подобрано на немецкой тётки глаз — нашему брату не понять.
Ну, так вот… Уехала немецкая тётка Каролина куда-то заграницу. Долго там ползала: Кто говорит — лечилась, кто говорит — забавлялась на старости лет. Это её дело. Только в ту пору как раз Торокинская чугунная бабушка и выскочила, а за ней и другие такие штучки воробушками вылетать стали и ходко по рукам пошли.
Меллеру, видно, не до этого было, либо он на барыш позарился, только облегчение нашим мастерам и случилось. А как приехала немецкая тётка домой, так сразу перемена делу вышла.
Всё-таки решился, пошёл сразу к управляющему. На счастье дяди Васи, управляющий тогда из добрых пришёлся, не плохую память о себе в заводе оставил. Поглядел на торокинскую работу, понял, видно, да и говорит.
— Подожди маленько, — придётся мне посоветоваться.
Ну, прошло сколько-то времени, пришёл дядя Вася домой, подаёт жене деньги.
— Гляди-ко, мать, деньги за модельку выдали! Да ещё бумажку написали, чтоб вперёд выдумывал, только никому, кроме своего завода, не продавал.
Так и пошла Торокинская бабка по свету гулять. Сам же дядя Вася ее формовал и отливал. И, понимаешь, оказалась ходким товаром. Против других-то заводских поделок её вовсе бойко разбирать стали. Дядя Вася перестал в работе таиться. Придёт из литейного и при всех с глиной вожгается. Придумал на этот раз углевоза слепить, с коробом, с лошадью, всё как на деле бывает.
На дядю Васю глядя, другие заводские мастера осмелели — тоже принялись лепить да резать, кому что любо. Подставку, скажем, для карандашей вроде рабочего бахила, пепельницу на манер капустного листка. Кто опять придумал вырезать девчушку с корзинкой груздей, кто свою собачонку Шарика лепит — старается. Одним словом, пошло-поехало, живым потянуло.
Радуются все. Торокинскую бабку добром поминают:
— Это она всем нам дорожку показала.
Только не долго так-то было. Вдруг полный поворот вышел. Вызвал управляющий дядю Васю и говорит:
— Вот что, Торокин… Считаю я тебя самолучшим мастером, потому от работы в заводе не отказываю. Только больше лепить не смей. Оконфузил ты меня своей моделькой.
А прочих, которые по торокинской дорожке пошли — лепить да резать стали, — тех всех до одного с завода прогнал.
Люди, понятно, как очумелые стали: за что, про что такая напасть? Кинулись к дяде Васе:
— Что такое? О чем с тобой управляющий разговаривал?
Дядя Вася не потаил, рассказал, как было. На другой день его опять к управляющему потянули. Не в себе вышел, в глаза не глядит, говорит срыву:
— Ты, Торокин, лишних слов не говори! Велено мне тебя в первую голову с завода вышвырнуть. Так и в бумаге написано. Только семью твою жалеючи, оставляю.
— Коли так, — отвечает дядя Вася, — могу и сам уйти. Прокормлюсь как-нибудь на стороне.
Управляющему, видно, вовсе стыдно стало.
— Не могу, — говорит, — этого допустить, потому как сам тебя, можно сказать, в это дело втравил. Подожди, — может, еще переменится. Только об этом разговоре никому не сказывай.
Управляющий-то, видишь, сам в этом деле по-другому думал.
Которые поближе к нему стояли, те сказывали, — за большую себе обиду этот барский приказ принял, при других жаловался:
— Кабы не старость, дня бы тут лишнего не прожил.
Визгом да слюной чуть не изошлась, как увидела чугунную бабушку. На племянничка своего поднялась, корит его всяко, в том смысле:
— Скоро, дескать, до того дойдёшь, что своего кучера либо дворника себе на стол поставишь. Позор на весь свет!
Меллер, видно, умишком небогат был, забеспокоился:
— Простите-извините, любезная тётушка, — не доглядел. Сейчас дело поправим.
И пишет выговор управляющему со строгим предписаньем, — всех нововыявленных заводских художников немедленно с завода долой, а модели их навсегда запретить.
Так вот и плюнула немецкая тётка Каролинка со своим дорогим племянничком нашим каслинским мастерам в самую душу. Ну, только чугунная бабушка за всё отплатила.
Пришла раз Каролинка к важному начальнику, с которым ей говорить-то с поклоном надо. И видит, — на столе у этого начальника, на самом видном месте, торокинская работа, стоит. Каролинка, понятно, смолчала бы, да хозяин сам спросил:
— Ваших заводов литьё?
— Наших, — отвечает.
— Хорошая, — говорит, — вещица. Живым от неё пахнет.
Пришлось Каролинке поддакивать:
— О, та! Ошень превосходный рапот.
Другой раз случай за границей вышел. Чуть ли не в Париже. Увидела Каролинка торокинскую работу и давай всякую пустяковину молоть.
— По недогляду, дескать, эта отливка прошла. Ничем эта старушка не замечательна.
Каролинке на это вежливенько говорят:
— Видать вы, мадама, без понятия в этом деле. Тут живое мастерство ценится, а оно всякому понимающему сразу видно.
Пришлось Каролинке и это проглотить. Приехала домой, а там любезный племянничек пеняет:
— Что же вы, дорогая тётушка, меня конфузите да в убыток вводите. Отливки-то, которые по вашему выбору, вовсе никто не берёт. Совладельцы даже обижаются да ив газетах нехорошо пишут.
И подаёт ей газетку, а там прописано про наше каслинское фигурное литьё. Отливка, дескать, лучше нельзя, а модели выбраны — никуда. К тому подведено, что выбор доверен не тому, кому надо.
— Либо, — говорит, — в Каслях на этом деле сидит какой чудак с чугунными мозгами, либо оно доверено старой барыне немецких кровей.
Кто-то, видно, прямо метил в немецкую Каролинку. Может, заводские художники дотолкали.
Меллер-Закомельский сильно старался узнать, кто написал, да не добился. А Каролинку после того случаю пришлось всё-таки отстранить от заводского дела. Другие владельцы настояли. Так она — эта Каролинка — с той поры прямо тряслась от злости, как случится где увидеть торокинскую работу.
Да еще что? Стала эта чугунная бабушка мерещиться Каролинке.
Как останется в комнате одна, так в дверях и появится эта фигурка и сразу начнёт расти. Жаром от неё несёт, как от неостывшего литья, а она ещё упреждает:
— Ну-ко, ты, перекисло тесто, поберегись, кабы не изжарить.
Каролинка в угол забьётся, визг на весь дом подымет, а прибегут — никого нет.
От этого перепугу будто и убралась к чортовой бабушке немецкая тётушка. Памятник-то ей в нашем заводе отливали. Немецкой, понятно, выдумки: крылья большие, а лёгкости нет. Старый Кузьмич перед бронзировкой поглядел на памятник, поразбирал мудрёную надпись да и говорит:
— Ангел яичко снёс да и думает: то ли садиться, то ли подождать?
После революции в ту же чортову дыру замели каролинкину родню — всех Меллеров-Закомельских, которые убежать не успели.
Полсотни годов прошло, как ушёл из жизни с большой обидой неграмотный художник Василий Фёдорыч Торокин, а работа его и теперь живёт.
В разных странах на письменных столах и музейных полках сидит себе чугунная бабушка, сухонькими пальцами нитку подкручивает, а сама маленько на улыбе, вот-вот, ласковое слою скажет:
— Погляди-ко, погляди, дружок, на бабку Анисью. Давно жила. Косточки мои, поди, в пыль рассыпались, а нитка моя, может, и посейчас внукам-правнукам служит. Глядишь, кто и помянет добрым словом. Честно, дескать, жизнь прожила и по старости, сложа руки, не сидела. Али взять хоть Васю Торокина. С пелёнок его знала, потому в родстве мы да и по суседству. Мальчонком стал в литейную бегать. Добрый мастер вышел. С дорогим глазом, с золотой рукой. Изобидели его немцы, хотели его мастерство испоганить, а что вышло? Как живая, поди-ко, сижу, с тобой разговариваю, памятку о мастере даю — о Василье Фёдорыче Торокине.
— Так-то, милачок! Работа — она штука долговекая. Человек умрёт, а дело его останется. Вот ты и смекай, как жить-то.
1944 г.
Орлиное перо
деревне Сарапулке это началось. В недавних годах. Вскорости после гражданской войны. Деревенский народ в те годы не больно грамотен был. Ну, всё-таки каждый, кто за советскую власть, придумывал, чем бы ей пособить.
В Сарапулке, известно, от дедов-прадедов привычка осталась — в камешках разбираться. В междуцарье, али ещё когда свободное время окажется, старики непременно этими камешками занимались. Про это вот вспомнили и тоже артёлку устроили. Стали графит добывать. Вроде и ладно пошло. На тысячи пудов добычу считали, только вскоре забросили. Какая тому причина: то ли графит плохой, то ли цена неподходящая, этого растолковать не умею. Бросили и бросили, за другое принялись — на Адуй наметились.
Адуйское место всякому здешнему хоть маленько ведомо. Там главная приманка — аквамаринчики да аметистики. Ну и другое попадается. Кто-то из артёлки похвастал: знаю в старой яме щелку с большой надеждой. — Артельщики на это и поддались. Сперва у них гладко пошло. Два-три зёрнышка нашли. Решёточных! Решётками камень считали. На их удачу глядя, и другие из Сарапулки на Адуй кинулись: нельзя ли, дескать, и нам к тому припаиться. Яма большая — не запретишь. Тут, видно, и вышла не то фальшь, не то оплошка. Артёлка, которая сперва старалась, Жилку потеряла. Это с камешками часто случается. Искали, искали, не нашли. Что делать?
А в Берёзовске в ту пору жил горщик один. В больших уж годах, а на славе держался. Артельщики к нему и приехали. Обсказали, в каком месте старались, — и просят:
— Сделай милость, Кондрат Маркелыч, поищи жилку!
Угощенье, понятно, поставили, словами старика всяко задобривают, на обещанья не скупятся. Тут ещё берёзовские старатели подошли, выхваляют своего горщика:
— У нас Маркелыч на эти штуки дошлый. По всей округе такого не найдёшь!
Приезжие, конечно, и сами это знают, только помалкивают. Им на руку такая похвальба: не расшевелит ли она старика. Старик всё-таки наотрез отказывается:
— Знаю я эти пережимы на Адуе! Глаз у меня теперь их не возьмёт!
Артельщики свой порядок ведут. Угощают старика да наговаривают: одна надежда на тебя. Коли тебе не в силу, к кому пойти? Старику лестно такое слушать, да и стаканчиками зарядился. Запошевеливал плечами-то, сам хвалиться стал: это нашёл, другое нашёл, там место открыл, там показал. Одним словом, дотолкали старика. Разгорячился, по столу стукнул:
— Не гляди, что старый, я ещё покажу, как жилки искать!
Артельщикам того и надо:
— Покажи, Кондрат Маркелыч, покажи, а мы в долгу не останемся. От первого занорыша половина в твою пользу.
Кондрат от этого в отпор:
— Не из-за этого стараюсь! Желаю доказать, какие горщики бывают, ежели с понятием который.
Правильно слово сказано: пьяный похвалился, а трезвому отвечать. Пришлось Маркелычу на Адуй идти. Расспросил на месте, как жилка шла, стал сам постукивать да смекать, где потерю искать, а удачи нет. Артельщики, которые старика в это дело втравили, видят — толку нет, живо от работы отстали. Рассудили по своему:
— Коли Кондрат найти не может, так нечего и время терять.
Другие старатели, которые около той же ямы колотились, тоже один за другим отставать стали. Да и время подошло покосное. Всякому охота впору сенца поставить. На Адуйских-то ямах людей, как корова языком слизнула: никого не видно. Один Кондрат у ямы бьётся. Старик, видишь, самондравный. Сперва-то он для артельщиков старался, а как увидел, что камень упирается, не хочет себя показать, старик в азарт вошёл.
— Добьюсь своего! Добьюсь!
Не одну неделю тут старался в одиночку. Из сил выбиваться стал, а толку не видит. Давно бы отстать, надо, а ему это зазорно. Ну, как! Первый по нашим местам горщик не мог жилку найти! Куда годится? Люди засмеют. Кондрат тогда и придумал:
— Не попытать ли по старинке?
В старину, сказывают, места искали рудознатной лозой да притягательной стрелой. Лоза для всякой руды шла, а притягательная стрела — для камешков. Кондрат про это сызмала слыхал, да не больно к тому приверженность оказывал, — за пустяк считал. Иной раз и посмеивался, а тут решил попробовать:
— Коли не выйдет, больше тут и топтаться не стану.
Ан правило такое было. Надо наконечник стрелы сперва магнит-камнем потереть, потом поисковым. Тем, значит, на который охотишься. Слова какие-то требовалось сказать. Эту заговорённую стрелу пускали из простого лучка, только надо было глаза зажмурить и трижды повернуться, перед тем как стрелу пустить.
Кондрат знал все эти слова и правила, только ему вроде стыдно показалось этим заниматься, он и придумал пристроить к этому своего не то внучонка, не то правнучка. Не поленился, сходил домой. Там, конечно, виду не показал, что по работе незадача. Какие из берёзовских старателей подходили с разговором, всех обнадёживал: на недельку ещё сходить придётся.
Сходил, как полагается, в баню, попарился: полежал денёк дома, а как стал собираться, говорит внучонку:
— Пойдёшь, Мишунька, со мной камешки искать?
Мальчонку, понятно, лестно с дедушком пойти.
— Пойду, — отвечает.
Вот и привёл Кондрат своего внучонка на Адуй. Сделал ему лучок, стрелу по всем старинным правилам изготовил, велел Мишуньке зажмуриться, покрутиться и стрелять, куда придётся. Мальчонка рад стараться. Всё исполнил, как требовалось. До трёх раз стрелял. Только видит Кондрат — ничего путного не выходит. Первый раз стрела в пенёк угодила, второй — в траву пала, третий — около камня ткнулась и ниже скатилась. Старик по всем местам поковырялся маленько. Так, для порядка больше, чтоб выполнить всё по старинке. Мишунька, понятно, тем лучком да стрелой играть стал. Набегался, наигрался. Дедушка покормил его и спать устроил в балагашке, а самому не до сна. Обидно. На старости лет опозорился. Вышел из балагашка, сидит, раздумывает, нельзя ли ещё как попытать. Тут ему и пришло в голову: потому, может, стрела не подействовала, что не той рукой пущена.
— Мальчонко, конечно, несмышлёныш. Самый вроде к тому делу подходящий, а всё-таки не он искал, потому и показа нет. Придётся, видно, самому испробовать.
Заговорил стрелу, приготовил все, как требовалось, зажмурил глаза, покрутился и спустил стрелу. Полетела она не в ту сторону, где яма была, а на тропке оказался какой-то проходящий. Идет налегке. На руке только корзинка корневая, в каких у нас ягоды носят. Подхватил прохожий стрелу, которая близко от него упала, и говорит с усмешкой:
— Не по годам тебе, дедушка, ребячьей забавой тешиться. Не по годам!
Кондрату неловко, что его за таким делом застали, говорит всердцах:
— Проходи своей дорогой! Тебя не касаемо.
Прохожий смеётся:
— Как не касаемо, коли чуть стрелой мне в ногу не угодил!
Подошёл к старику, подал стрелу и говорит укорительно, а то со смешком:
— Эх, дед, дед, много прожил, а присловья не знаешь: то не стрела, коя орлиным пером не оперена.
Маркелычу этот разговор не по нраву. Сердито отвечает:
— Нет по нашим местам такой птицы! Неоткуда и перо брать.
— Неправильно, — говорит, — твоё слово. Орлиное перо везде есть, да только искать-то его надо под высоким светом.
Кондрат посомневался:
— Мудришь ты! Над стариком, гляжу, посмеяться надумал, а я ведь в своём деле не хуже людей разумею.
— Какое, — спрашивает, — дело?
Старик тут и распоясался. Всю свою жизнь этому человеку рассказал. Сам себе дивится, а рассказывает. Прохожий сидит на камешке, слушает да подгоняет:
— Так, так, дедушка, дальше что?
Кончил старик свой рассказ. Прохожий похвалил:
— Честно, дед, поработал. Много полезного добыл, а стрелу зачем пускал?
Кондрат и это не потаил. Прохожий поглядел эдак вприщур да и говорит:
— То-то и есть. Орлиного пера твоей стреле не хватает.
Кондрат тут вовсе рассердился. Обидно показалось. Всю, можно сказать, жизнь выложил, а он с пером своим лезет. Закричал этак сердито:
— Говорю, нет по нашим местам такой птицы! Не найдёшь пера! Глухой ты, что ли?
Прохожий усмехнулся да и спрашивает:
— Хочешь, покажу?
Кондрат, понятно, не поверил, а всё-таки говорит:
— Покажи, коли умеешь, да не шутишь.
Прохожий тут достал из корзинки камешек кубастенький. Ростом кулака на два. Сверху и снизу ровнёхонько срезано, а с боков обделано на пять граней. В потёмках не разберёшь, какого цвету камень, а по гладкой шлифовке — орлец. На верхней стороне чуть видны беленькие пятнышки, против каждой грани.
Поставил прохожий этот камешек рядом с собой, задел пальцем одно пятнышко, и вдруг их светом накрыло, как большим колоколом. Свет яркий-яркий, с голубым отливом, а что горит — не видно. Световой колокол не больно высок. Так в три либо четыре человечьих роста. В свету мошкары вьётся видимо-невидимо, летучие мыши шныряют, а вверху пташки пролетают, и каждая по перышку роняет. Перышки кружатся, на землю падать не торопятся.
— Видишь, — спрашивает, — перья?
— Вижу, — отвечает, — только это вовсе не орлиные.
— Правильно, не орлиные, а больше воробьиные, — говорит прохожий и объясняет: — Это твоя жизнь, дед, показана. Трудился много, а крылышки маленькие, слабые, на таких высоко не подняться. Мошкара глаза забивает, да ещё всякая нечисть мешает. А вот гляди, как дальше будет.
Задел опять пальцем которое-то пятнышко, и световой колокол во много раз больше стал. К голубому отливу зелёный примешался. Под ногами будто первый пласт земли сняли, а сверху птицы пролетают. Пониже утки да гуси, повыше— журавли, ещё выше — лебеди. Каждая птица по перу сбрасывает, и эти перья книзу ровнее летят, потому — вес другой.
Прохожий ещё задел пальцем пятнышко, и световой колокол раздался и ввысь взлетел. Свет такой, что глаза слепит. Голубым, зелёным и красным отливает. На земле на две сажени в глубину всё видно, а вверху птицы плывут. Каждая в свету перо роняет. Те перья к земле, как стрелы, летят и у самого того места, где камешек поставлен, падают. Прохожий глядит на Кондрата, улыбается светленько и говорит:
— И выше орла, дед, птицы есть, да показать опасаюсь: глаза у тебя не выдержат. А пока попытай свою стрелу!
Подобрал с земли столько-то перьев, живо пристроил, будто век таким делом занимался, и наказывает старику:
— Опускай в то место, где жилку ждёшь, а зажмуривать глаза да крутиться не надо.
Кондрат послушался. Полетела стрела, а яма навстречу ей раскрылась. Не то что все каменные жилки-ходочки, а и занорыши видно. Один вовсе большой. Аквамаринов в нем чуть не воз набито, и они как смеются. Старик, понятно, расстревожился, побежал поближе посмотреть, а свет и погас. Маркелыч кричит:
— Прохожий, где ты?
А тот отвечает:
— Дальше пошёл.
— Куда ты в темь такую? Хитники пообидеть могут. Неровен час, ещё отберут у тебя эту штуку! — кричит Маркелыч, а прохожий отвечает:
— Не беспокойся, дед! Эта штука только в моих руках действует, да у того, кому сам отдам.
А прохожий уже далеко. Едва слышно донеслось.
— Ты хоть кто такой? — спрашивает Маркелыч.
— У внучка спроси. Он знает.
Мишунька весь этот ночной случай не проспал. Светом-то его разбудило, он и глядел из балаганчика. Как дедушка пришёл, Мишунька и говорит:
— А ведь это, дедушка, у тебя был Ленин!
Старик всё-таки не удивился.
— Верно, Мишунька, он. Не зря люди сказывают — ходит он по нашим местам. Ходит! Уму-разуму учит. Чтоб не больно гордились своими крылышками, а к высокому свету тянулись. К орлиному, значит, перу.
1945 г.
Коренная тайность
а память людскую надеяться нельзя, только и дела тоже разной мерки бывают. Иное, как мокрый снег не по времени. Идёт он — видишь, а прошёл — и званья не осталось. А есть и такие дела, что крепко лежат, как камешок да ещё с переливом. Износу такому нет и далёко видно. Сто годов пройдёт, а о нём всё разговор. Бывает и так, что через много лет оглядят такой камешок и подивятся:
— Вон оно как сделано было, а мы думали по-другому.
Такое вот самое и случилось с нашей Златоустовской булатной сталью.
Больше сотни годов прошло с той поры, как в нашем заводе сварили такую булатную сталь, перед которой все тогдашние булаты в полном конфузе оказались. В те года на заводе в начальстве и мастерах ещё много немцев сидело. Им, понятно, охота было такую штуку присвоить: мы, мол, придумали и русских рабочих обучили. Только инженер Аносов этого не допустил. Он в книжках напечатал, что сталь сварили без немцев. Те ещё плели: по нашим составам. Аносов и на это отворот полный дал и к тому подвёл, что Златоустовская булатная сталь и рядом с немецкими не лежала. Да ещё добавил: коли непременно надо родню искать Златоустовскому булату, так она в тех старинных ножах и саблях, кои иной раз попадаются у башкир, казахов и прочих народов той стороны. И закалка такая же, и нисколь она на немецкую не походит. Немцы видят, — сорвалась их выдумка, за другое принялись: подхватили разговор о старинном оружии и давай в ту сторону дудеть. Им, видишь, всего дороже было, чтоб и думки такой не завелось, будто русские мастера сами могут что путное сделать. Вот немцы и старались. Да и у наших к той поре ещё мода не прошла верить, будто всё, что позанятнее, принесли к нам из какой-нибудь чужой стороны. Вот и пошёл разговор, что Аносов много лет по разным кибиточным кузнецам ходил да ездил, и у одного такого и научился булат варить. Которые пословоохотливее, те и вовсе огородов нагородили, будто Аносов у того кибиточного кузнеца сколько-то годов в подручных жил и не то собирался, не то женился на его дочери. Тем будто и взял мастера и тайность с булатом разведал.
Вот и вышла немецкого шитья безрукавка: Аносов не сам до дела дошёл, а перенял чужую тайность, и то вроде как обманом. Про мастеров заводских и помину нет. Им привезли готовенькое, — они и стали делать. Никакой тут ни выдумки, ни заботы. Да и что они могут тёмные да слепые, если кто со стороны не покажет.
Только безрукавка безрукавка и есть: руки видны. И диво, что и теперь есть, кто этому верит. До сих пор рассказывают да ещё с поучением: вот какой Аносов человек был! Пять годов своей жизни не пожалел, по степям бродяжкой шатался, за молотобойца ворочал, а тайность с булатом разведал. Того в толк не возьмут, походит ли это на правду. Всё-таки Аносов горного корпуса инженер был. Таких в ту пору не сотнями, а десятками считали. При заводе он тоже не без дела состоял. Выехать такому на месяц, на два, и то надо было у главного начальства спроситься. А тут, на-ка, убрался в степи на пять годов! Кто этому поверит? Да и кто бы отпустил к кибиточным кузнецам, коли тогда вовсе не по тем выкройкам шили. Если кого посылали учить, в чужие края, так не в ту сторону.
Ну, всё-таки это разговор на два конца: кому досуг да охота, тот спорить может, — так ли не так было. А вот есть другая зацепка, понадёжнее. С неё уж не сорвёшься. Сколько ни крутись, ни упирайся, а на нашем берегу будешь, на Златоустовском. Сам скажешь:
— Верное дело. Тут она, эта булатная сталь, на этом заводе родилась, тут и захоронена.
Которые Златоустовские старики это понимают, они вот как рассказывали.
Приехал инженер Аносов на завод в те года, когда ещё немцев довольно сидело. Ну, а этот свой, русский человек. Про немцев он на людях худого не говорил, а по всему видно, что не больно ему любы. Заметно, что и не боится их. рабочие, понятно, и обрадовались. Кто помоложе, те в большой надежде говорят:
— Этот покажет немцам! Покажет! Того и гляди, к выгонке их подведёт. Молодой, а в чинах! Силу, значит, имеет.
Другие опять на то надеются:
— Покажет — не покажет, а заступа нашему брату будет, потому — свой человек и по заводскому делу вроде как понимает. Понатужиться надо, чтоб работа без изъяну шла.
Старики, конечно, сомневаются. Время тогда крепостное было, старики-то всякого натерпелись. Они и твердят своё:
— Постараться можно, а только сперва приглядеться надо. Помни присловье: с барином одной дорожкой иди, а того не забывай, что в концах разойдёшься: он в палаты, а ты на полати, да и то не всякий раз.
Молодые оговаривают стариков:
— Что придумали! Да не такой он человек, чтоб так-то сторожиться.
— Лучше бы не надо, кабы не такой, — отвечают старики, — а всё опаска требуется. Кто по мастерству коренную тайность имеет, ту открывать не след. Погодить надо.
Молодые этого слушать не хотят, руками машут, кричат:
— Как вам, старики, не совестно! — А те упёрлись:
— Больше, поди, вашего учёны! Знаем, что барин тебя может под плети положить, под палки поставить, по зелёной улице провести, а ты его никогда.
На том всё же сошлись, что надо стараться, чтоб лучше прежнего дело шло. Аносов, и верно, оказался человек обходительный. Не то что с мастерами, а и с простыми рабочими разговаривает, о том, о другом спрашивает, и по разговору видно, — заводское дело понимает и ко многому любопытствует.
Сталь в ту пору по мелочам варили. И был в числе сталеваров дедушка Швецов. Он в те годы уж вовсе утлый стал, еле ноги передвигал. Варил он с подручным парнем из своей же семьи Швецовых, как обычай такой держался, чтобы отец сыну, дед внуку своё мастерство передавал. Старик всегда варил хорошую сталь, только маленько разных статей. Вроде искал чего-то. Немецкие начальники это подметили и первым делом нашли придирки, чтоб убрать у старика своего подручного. Загнали парня в дальний курень, а на его место поставили какого-то немецкого Вилю-Филю. Старик на это свою хитрость поимел: стал варить, лишь бы с рук сбыть. Было это до приезда Аносова. Вот этот Швецов и приглядывался к Аносову, потом и говорит:
— Коли твоей милости угодно, могу хорошую сталь сварить, только надо мне подручного, которому могу верить на полную силу, а этого немецкого Вилю-Филю мне никак не надо.
И рассказал, как было. Аносов выслушал и говорит:
— Ладно, дед, будь в надежде, охлопочу тебе внучонка, а этого немца пусть сами учат, чему умеют.
Вскорости шум поднял с немецким начальством. — Почему у вас порядок вверх ногами? Вас сюда не на то привезли, чтоб у наших мастеров своих ребят учили. — Немцы отбиваются, что у старика учиться нечему. Ну, всё-таки уступили. Старик Швецов рад-радёхонек, а молодой пуще того, оба во всю силу стараются. Сталь пошла не в пример лучше. Аносов похваливает:
— Старайся, дедушка!
А старик в задор вошёл:
— Дай. срок, я тебе такую сварю, как в старинных башкирских ножах бывает. Видал?
С этого и началось. Аносову этот разговор в самую точку попал, потому как он ножами да саблями старинной работы давно занимался. Обрадовался он и объявил:
— Коли сваришь такую, рассчитывай, что тебя и внучка твоего на волю охлопочу.
Что и говорить, как при таком обещании люди старались. Дедушка Швецов из заветного сундучка какие-то камешки достал, растолок их в ступке и стал подсыпать в каждую плавку. Норовит сделать всё-таки без Аносова. Внучек спрашивает:
— Что это ты, дедушка, подсыпаешь?
А дед ему в ответ:
— Помалкивай до поры. Это тайность коренная, про неё сказать не могу.
Парень давай уговаривать старика, чтоб он не таился от Аносова, а старик объясняет:
— Верно, парень! Мне и самому вроде это стыдно, а не могу. Тятя покойный с меня заклятье взял, чтоб сохранить эту тайность до своего смертного часу. В смертный час велено другому надёжному человеку передать из крепостных же, а больше никому. Хоть золотой будь!
Так они и работали, с потайкой от Аносова. Старик на верную дорожку вышел, да не дотянул. Сварил как-то и говорит внуку:
— Пойдём поскорее домой. Не выварил, видно, я своей воли, крепостным умирать привелось.
Пришли домой. Старик первым делом заклятье с внука взял. Такое же, как с него отец брал. Одно прибавил:
— Коли на волю выйдешь, тогда как знаешь действуй. Этого сказать не умею.
Потом старик открыл свой сундучок заветный, а там у него всякая руда. Объяснил, где какую искать, коли не хватит, и то. рассказал, от какой руды крепости прибавляется, от какой — гибкость. Одним словом, всё по порядку, а дальше и говорит:
— Теперь мне этими делами заниматься не годится, беги за попом!
Внук так и сделал, и старик не задержался, — в тот же вечер умер. Похоронили старика Швецова, а молодой на его место стал. Парень могутный, в полной силе, без подручного обходится, а сам по дедушкиной дорожке всё вперёд да вперёд идёт. Аносов тоже не без дела сидел. Он опять над тем бился, как лучше закалять поделку из швецовских плавок. Долго не выходило. Ну, попал-таки в точку. Заводский же кузнец надоумил. Вот тогда и вышел тот самый булат, коим наш завод на весь свет прославился. Аносов, может, и не заметил, что плавка-то уж после старика доведена. Всё-таки слово своё не забыл, стал хлопотать вольную молодому мастеру Швецову. Нескоро дали, да ещё Аносову пришлось сперва взять обещание, что ни на какой другой завод Швецов не пойдёт. Тот, разумеется, такое обещание дал, а сам думает: — какая-то воля особая, без выходу. Тут ещё спотычка случилась.
Он, этот молодой Швецов, частенько по делу бывал у Аносова в доме. Аносов в ту пору уж семейный был. Детишки у него бегали. И была у них в услужении девушка Луша. С собой её Аносовы привезли. Вот эта девушка и приглянулась Швецову. Домашние, понятно, отговаривали парня:
— В уме ли ты? Она, поди-ка, крепостная Аносовых. С чего они её отдадут? Да и на что тебе нездешняя? Мало ли своих заводских девок?
Разговаривать о таком всё равно, что воду неводом черпать. Сколько ни работай, тачку не будет. Не родился, видно, ещё мастер, который бы эту тайность понял, почему человека к этому тянет, а к другому нет. Не послушался Швецов своих семейных, сам свататься пошёл. Аносов помялся и говорит:
— Это как барыня скажет, а я не могу.
Барыня поблизости случилась, услышала, зафыркала:
— Это ещё что за выдумки! Чтоб я свою Лушу ему отдала? Да она у меня в приданое приведена. С девчонок мне служит, и дети к ней привыкли.
И на мужа накинулась — Чему ты потворствуешь? Как он смеет к тебе с таким делом приходить?
Аносов объясняет, — мастер, дескать, такой, он немалое дело сделал, только барыня своё:
— Что ж такое? Сталь сварил! Завтра другого поставишь, — он сварит! А Лушке я покажу, как парней приманивать!
Тут вот Швецов и понял, что и вольному коренную тайность для себя похранить надо. Он и хранил всю жизнь. А жизнь ему долгая досталась. Без малого не дотянул до пятого года. Много на его глазах прошло.
Аносов отстоял Златоустовский булат от немецкой прихватки, будто они научили. В книжках до тонкости рассказал, как этому булату закалку вести. С той поры эта булатная сталь и прозванье получила — аносовская, а варил её один мастер — Швецов.
Потом Аносовы уехали и Лушу с собой увезли. Говорили, что это немецкое начальство подстроило, но и Аносов себя не уронил: вскорости генеральский чин получил и томским губернатором сделался. А тут всем заводским немцам полная выгонка пришла, и Аносов будто в этом большую подмогу дал. Из старинных начальников про него больше всех заводские старики поминают, и всегда добрым словом:
— Каким он губернатором был, — это нам не ведомо, а по нашему заводу на редкость начальник был и много полезного сделал.
Аносов недолговеким оказался. При крепостной ещё поре умер. Плетешок этот, что тайность с булатом он у кибиточного кузнеца выведал, при жизни Аносова начался. Тому, может, лестно показалось, как его расписывали, он и поддакнул: «Было дело, скупал старинное оружие и на те базары ездил, где его больше достать можно». На эти слова и намотали всякой небылицы, а пуще всего немцы старались. После выгонки-то с завода им это до краю понадобилось. Ну, как же! На том заводе сколько годов сидели, а самую знаменитую сталь сварить не умеют. Немцы в тех разговорах и нашли отворотку.
— Мы, — говорят, — старинным оружием не занимались, а коли надо, таки лучше сварим.
И верно, стали делать ножи да сабли вроде наших Златоустовских, по отделке-то. Только в таком деле с фальшью недалеко уедешь, немцам и пришлось в большой конфуз попасть.
Была, сказывают, выставка в какой-то не нашей стороне. Все народы работу свою показывали и оружие в том числе. Наш Златоустовский булат такого места не миновал. А, немцы рядом с нашими свою подделку поставили да и хвалятся: «наши лучше». Понятно, спор поднялся. Народу около того места со всей выставки набежало. Тогда наши выкатили станочек, на коем гибкость пробуют, поставили саблю вверх острием, захватили в зажим рукоятку и говорят:
— А, ну, руби вашими по нашей! Поглядим, сколько ваших целыми останется!
Немцы увиливать стали, а нос кверху держат:
— Дикость какая! Тут, поди, не ярмарка, не базар, а выставка! Какая может быть проба? Повешано — гляди!
Тут, спасибо, другие народы ввязались, особливо из военного слою.
— Причем, — кричат, — ярмарка? Сталь не зеркало. В неё не глядеться! Русские дело говорят. Давай испытывать!
Немцы посовались, посовались, сбегали куда-то и говорят:
— Сейчас придёт наш человек. Он и будет рубить русскую саблю.
Над этим, понятно, все засмеялись.
— Такого, — говорят, — порядка не слыхано, чтоб хозяева при споре сами свою работу пробовали. Ни вас, ни русских к этому делу не допустим. Своих судей выберем и найдём, кому рубить.
Так и сделали.
Выбрали от всех народов, какие тут были, по человеку в судьи, а на рубку доброволец нашёлся. Вышел какой-то военный человек, вроде барина, с сединой уж. Ростом не велик, а кряжист и говорит: — Я булаты знаю и рубить понавык. И показывает судьям какие-то бумаги. Те поглядели, головами закивали — Лучше быть не возможно. Потрудись, пожалуйста!
Подали этому чужестранному человеку немецкую саблю. Хватил он с расчетом концы испытать. Глядь, а у немецкой сабли кончика и не осталось.
— Подай, — кричит, — другую! Эта не годится.
Подали другую. На этот раз приноровился серединки испробовать и опять с первого же разу у немецкой сабли половина напрочь.
— Подавай, — кричит, — новую! Подали третью. Эту направил так, чтобы сабли близко рукояток сошлись, а конец такой же: от немецкой сабли у него в руке одна рукоятка и осталась.
Все хохочут, кричат: — вот так немецкий булат! Дальше и пробовать не надо. Без судей всякому видно.
Наши всё-таки настояли, чтоб до конца довели. Укрепили немецкую саблю в станок, и тот же человек стал по ней нашей Златоустовской саблей рубить. Рубнул раз — кончика не стало, два — половины нет, три — одна рукоятка в станке, а на нашей сабельке и знаков нет. Тут все шумят, в ладоши хлопают, на разных языках вроде как ура кричат, а этот рубака вытащил кинжал старинной работы, с золотой насечкой, укрепил в станке и спрашивает: — А можно мне по такому ударить? Наши отвечают: — Сделай милость, коли кинжала не жалко. Он и хватил со всего плеча, — и что ты думаешь? На кинжале зазубрина до самого перехвата, а наша сабелька, какой была, такой и осталась. Тут ещё натащили оружия, а толк один: либо напрочь наш булат то оружие рубит, либо около того. Тут рубака-то оглядел саблю, поцеловал ее, покрутил над головой и стал по-своему говорить что-то. Нашим перевели: он, дескать, в своей стороне самый знаменитый по оружию человек и накоплено у него множество всякого, а такого булату и видеть не доводилось. Нельзя ли эту саблю купить? Денег он не пожалеет. Наши, понятно, не поскупились.
— Прими, — говорят, — за труды, в памятку о нашем заводе. Хоть эту возьми, хоть другую выбери. У нас без обману. Один мастер варит, только в отделке различка есть.
Ножны ему тоже подарили, с выкладкой под старое серебро. Он благодарит со всякой тамошней обходительностью, а наши ему втолмливают: — Златоустовский завод, Златоустовские мастера. Чужестранный человек, хоть рубака первостепенный, а по-нашему не может. Бормочет, а смешно выходит. Так он взял да выкладку на ножнах тоже поцеловал, — очень, дескать, превосходно. На том и расстались. Немцы в ту же ночь свой позор спрятали, вовсе другое выставили и людей не тех поставили, будто ничего и не было. Только это им не прошло. В народе на выставке долго об испытании разговор держался.
Мастеру Швецову сказывали, как аносовский булат по всему свету гремит. Швецов посмеивался и работал, как смолоду, одиночкой. Тут, как у нас говорится, волю объявили, за усадьбы, за покос, за лесные делянки деньги потребовали. Швецову к той поре далеко за полсотни перевалило, а всё ещё в полной силе. Семью он, конечно, давно завёл, да не задалось ему это. Видно, Маша не Луша, и ребята не те. Приглядывается мастер Швецов, как жизнь при новом положении пойдёт, а хорошего не видит. Барская сила иструхла, зато деньги большую силу взяли, и жадность на них появилась. Мастерством не дорожат, лишь бы денег побольше добыть. В своей семье раздор из-за этого пошёл. Который-то из сыновей из литейной в объездные перешёл, говорит: — тут дороже платят и сорвать можно. Швецов из-за этого даже от семьи отделился, ушёл в малуху жить. Тут немцы полезли. Они хоть про степных кузнецов много рассказывали, а видать, понимали, в каком месте тайность с булатной сталью искать. Подсылать стали к Швецову, когда немцев, когда русских, а повадка у всех одна. Набросают на стол горку денег и говорят: «Деньги твои, тайность наша». Швецов только посмеивается:
— Кабы на эту горку петуха поставить, так он бы хоть закричал: караул! А мне что делать? Не красным же товаром торговать, коли я смолоду к мастерству прирос. Забирай-ка своё, да убирайся с моего. Так и разделимся, чтоб другой раз не встретиться.
Прошло ещё годов близко сорока, а всё мастер Швецов булатную сталь варит. Остарел, понятно, подручные у него есть, да не может приглядеть надёжного. Был один хороший паренёк да его в тюрьму загнали. Книжки, говорят, не те читал. Ходил старик по начальству, просил, чтобы похлопотали, так куда тебе, крик даже подняли:
— Вперёд такого и говорить не смей!
Тут и самого старика изобидели: дедушкину ещё росчисть отобрали. Тебе, — говорят, — другой покос отведём. Росчисть не больно завидная, так в доброе лето на одну коровёнку сена поставить, только привык к ней старик с малых своих лет. Он и пошёл опять по начальству хлопотать. Там и помянул: семь десятков лет на заводе работаю и не на каком-нибудь малом месте, а варю аносовский булат, про который всему свету известно. Да еще добавил: — И мои, поди, капельки в том булате есть.
Начальство эти слова на смех подняло:
— Зря, дед, гордишься. Твоего в том деле одна привычка. Всё остальное в книжках написано, да у нас в заводском секрете еще запись аносовская есть. Кто хочешь по ней эту сталь сварит.
Старика это вовсе задело. Прямо спросил:
— Неуж вы меня ни во что ставите?
— Во столько, — отвечает, — и ставим, сколько подённо получаешь.
— Коли так, — говорит Швецов, — варите по бумагам, а только аносовского булату вам больше не видать.
С тем и ушёл. Начальство ещё посмеялось:
— Вишь, разгорячился старикан! Тоже птица! Как о себе думает!
Потом хватились, конечно. Кого ни поставят на это место, а толку нет. Выходит, как говорится, дальняя родня, с которой век не видались, и прозванье другое.
Главный заводский начальник говорит:
— Послать за стариком! А тот ответил: — Неохота мне, да и ноги болят.
— Привезти на моей паре, — распорядился начальник, а сам посмеивается. — Пусть старик потешится.
У Швецова и на это свой ответ:
— Начальнику привычнее на лошадках кататься. Пусть сам ко мне приедет, тогда и поговорим.
Начальнику это низко показалось. Закричал, забегал:
— Чтоб я к нему на поклон поехал! Да кто он и кто я? Таких-то у меня по заводу тысячи, а я им буду кланяться! Никогда такого не дождётся!
Начали опять пробовать. Бумаги снова перебрали. Сам начальник тут постоянно вертится, а всё то же; выходит сталь, да не на ту стать. А уж пошёл разговор, что в Златоусте разучились булатную сталь варить. Начальник вовсе посмяк, стал подлаживаться к мастеру Швецову, пенсию ему хорошую назначил, сам пришёл к старику, деньги большие сулит, а Швецов на это:
— Всё-то у вас деньги да деньги! Да я этими деньгами мог бы весь угол завалить, кабы захотел. Только тайность моя коренная. Её не продают, а добром отдают, только не всякому. Вот если выручишь из тюрьмы моего подручного, так будет он вам аносовский булат по швецовскому составу варить, а я вам не слуга.
Хлопотал ли начальник за этого парня, про то неизвестно, только Швецов так никому и не сказал свою тайность. Томился, сказывают, этим, а всё-таки в заветном сундучке у него пусто оказалось, пыль даже выколотил, чтоб следов не осталось. Берёг, значит, свою тайность от тех, кто его мастерство поденщиной мерил и работу его жизни ни во что ставил. Так и унёс с собой тайну знаменитого булата, который аносовским назывался. Обидно, может быть, а как осудишь старика. Наверняка бы ведь продали по тому времени. Вздохнёшь только: «Эх, не дожил старик до настоящих своих дней!»
Ныне вон многие народы дивятся, какую силу показало в войне наше государство, а того не поймут, что советский человек теперь полностью раскрылся. Ему нет надобности своё самое дорогое в тайниках держать. Никто не боится, что его труд будет забыт, либо не оценен в полную меру. Каждый и несёт на пользу общую, кто что умеет и знает. Вот и вышла сила, какой ещё не бывало в мире. И тайны уральского булата эта сила найдёт.
1945 г.
Голубая змейка
осли в нашем заводе два парнишечка, по близкому соседству: Ланко Пужанко да Лейко Шапочка.
Кто и за что им такие прозванья придумал, это сказать не умею. Меж собой эти ребята дружно жили. Подстать подобрались. Умишком вровень, силёнкой вровень, ростом и годами тоже. И в житье большой различии не было. У Ланка отец рудобоем был, а у Лейка на золотых песках горевал, а матери, известно, по хозяйству мытарились. Ребятам и нечем было друг перед дружкой погордиться. Одно у них не сходилось: Ланко своё прозвище за обиду считал, а Лейку лестно казалось, что его этак ласково зовут — Шапочка. Не раз у матери припрашивал:
— Ты бы, маменька, сшила мне новую шапку! Слышишь — люди меня Шапочкой зовут, а у меня тятин малахай, да и тот старый.
Дружбе ребячьей это не мешало. Лейко первый в драку лез, коли кто обзовёт Ланка Пужанком:
— Какой он тебе Пужанко? Кого испугался?
Так вот и росли парнишечки рядком да ладком. Рассорки, понятно, случались, да не надолго.
И то у ребят вровень пришлось, что оба последними в семьях росли. Повольготнее таким-то. С малыми не водиться. От снегу до снегу домой только поесть да поспать прибегут. Мало ли в ту пору у ребят всякого дела: в бабки поиграть, в городки, шариком, порыбачить тоже, покупаться, за ягодами, за грибами сбегать, все горочки облазить, пенёчки на одной ноге обскакать. Утянутся из дому с утра — ищи их! Как вечером прибегут домой, так на них поварчивали:
— Пришёл, наше шатало! Корми-ко его!
Зимой по-другому приходилось. Зима, известно, всякому зверю хвост подожмёт и людей не обойдёт. Ланка с Лейком зима по избам загоняла. Одежонка, видишь, слабая, обувка жиденькая — недалеко в них ускочишь. Только и хватало тепла из избы в избу перебежать.
Чтобы большим под руку не подвёртываться, забьются оба на полати, да там и посиживают. Двоим-то всё-таки веселее. Когда и поиграют, когда про лето вспоминают, когда просто слушают, о чём большие говорят.
Вот раз сидят этак-то, а к Лейковой сестре Марьюшке подружки набежали. Время к Новому году подвигалось, а по девичьему обряду в ту пору про женихов ворожат. Девчонки и затеяли такую ворожбу. Ребятам любопытно поглядеть, да разве подступишься! Близко не пускают, а Марьюшка по-свойски ещё подзатыльников надавала:
— Уходите на своё место!
Она, видишь, эта Марьюшка, из сердитеньких была. Который год в невестах, а женихов не было. Девушка будто и вовсе хорошая, да маленько косоротенька. Изъян вроде и не велик, а парни всё же браковали её из-за этого. Ну, она и сердилась.
Забились ребята на полати, пыхтят да помалкивают, а девчонкам весело. Золу сеют, муку по столешнице раскатывают, угли перекидывают, в воде брызгаются. Перемазались все, с визгом хохочут одна над другой.
Только Марьюшке невесело. Она, видно, изверилась во всякой ворожбе, говорит.
— Пустяк это. Одна забава.
Одна подружка на это и скажи:
— По-доброму-то ворожить боязно.
— А как? — спрашивает Марьюшка.
Подружка и рассказала:
— От бабушки слыхала, самое правильное гаданье будто такое. Надо вечером, когда все уснут, свой гребешок на ниточке повесить на сеновале, а на другой день, когда ещё никто не пробудится, снять этот гребешок — тут всё и увидишь.
Все любопытствуют — как? А девчонка объясняет:
— Коли в гребешке волос окажется — в тот год замуж выйдешь. Не окажется волоса — нет твоей судьбы. И про то догадаться можно, какой волосом муж будет.
Ланко с Лейком приметили этот разговор и то смекнули, что Марьюшка непременно так ворожить станет. А оба в обиде на неё за подзатыльники-то.
— Подожди! Мы тебе припомним!
Ланко в тот вечер домой ночевать не пошёл, у Лейка на полатях остался. Лежат, будто похрапывают, а сами друг дружку кулачонками в бока: гляди не усни!
Как большие все уснули, ребята слышат — Марьюшка в сенки вышла. Ребята за ней — и углядели, как она на сеновал залезла и в котором месте там возилась. Углядели и поскорее в избу. За ними следом Марьюшка прибежала. Дрожит, зубами чакает. То ли ей холодно, то ли боязно. Потом легла, поёжилась маленько и, слышно стало, уснула. Ребятам того и надо. Слезли с полатей, оделись, как пришлось, и тихонько вышли из избы. Что делать, об этом они уже сговорились.
У Ланка, видишь, мерин был, не то чалый, не то бурый, звали его Голубко. Ребята и придумали этого мерина Марьюшкиным гребешком вычесать. На сеновале ночью-то боязно, только ребята один перед другим храбрятся. Нашли на поветях гребешок, начесали с Голубка шерсти и гребешок на место повесили. После этого в избу пробрались и крепко-накрепко заснули.
Пока ребята спали, тут вот что случилось. Марьюшка утром поднялась раньше всех и достала свой гребешок. Видит — волосу много. Обрадовалась, жених кудрявый будет. Побежала к подружкам похвастаться. Те глядят — что-то не вовсе ладно. Дивятся, какой волос чудной. Потом одна разглядела в гребешке волос из конского хвоста. Подружки и давай хохотать над Марьюшкой:
— У тебя женихом-то Голубко оказался!
Марьюшке это за большую обиду. Она разругалась с подружками, а те знай хохочут. Кличку ей объявили: Голубкова невеста. Прибежала Марьюшка домой, жалуется — вот какое горе приключилось, а ребята помнят вчерашние подзатыльники и с полатей поддразнивают:
— Голубкова невеста, Голубкова невеста!
Марьюшка тут вовсе разревелась, а мать смекнула, чьих это рук дело, закричала на ребят:
— Что вы, бесстыдники, наделали! Без того у нас девку женихи обходят, а вы её на смех поставили.
Ребята поняли — вовсе неладно вышло, давай перекоряться:
— Это ты придумал!
— Нет, ты?
Марьюшка из этих перекоров тоже поняла, что ребята ей такую штуку подстроили, кричит им:
— Чтоб вам самим голубая змейка привиделась!
Тут опять на Марьюшку мать напустилась:
— Замолчи, дура! Разве можно такое говорить? На весь дом беду накличешь!
Марьюшка в ответ на это своё говорит:
— Мне что до этого! Не глядела бы на белый свет!
Хлопнула дверью, выбежала в ограду и давай там снеговой лопатой Голубка гонять, будто он в чём провинился. Мать вышла, сперва пристрожила девку, потом в избу увела, уговаривать стала. Ребята видят — не до них тут, утянулись к Ланку. Забились там на полати и посиживают смирнёхонько. Жалко им Марьюшку, а чем теперь поможешь? И голубая змейка в головёнках застряла. Шопотом спрашивают один у другого:
— Лейко, ты не слыхал про голубую змейку?
— Нет, а ты?
— Тоже не слыхивал.
Шептали-шептали, решили у больших спросить, когда дело маленько призамнётся. Так и сделали. Как Марьюшкина обида позабылась, ребята и давай разузнавать про голубую змейку. Кого ни спросят, те отмахиваются: «Не знаю!», да еще грозятся:
— Возьму вот прут да отвожу обоих! Забудете о таком спрашивать!
Ребятам от этого ещё любопытнее стало: что за змейка такая, про которую и спрашивать нельзя?
Нашли-таки случай. По праздничному делу, у Ланка отец пришёл домой порядком выпивши и сел у избушки на завалинке. А ребята знали, что он в такое время поговорить больно охоч. Ланко и подкатился:
— Тятя, ты видал голубую змейку?
Отец, хоть сильно выпивши был, даже отшатнулся, потрезвел и заклятье сделал:
— Чур, чур, чур! Не слушай, наша избушка-хороминка! Не тут слово сказано!
Пристрожил ребят, чтоб напредки такого не говорили, а сам всё-таки выпивши, поговорить-то ему охота. Посидел так, помолчал, потом и говорит:
— Пойдёмте на бережок. Там свободнее про всякое сказывать.
Пришли на бережок, закурил Ланков отец трубку, оглянулся во все стороны и говорит:
— Так и быть, скажу вам, а то ещё беды наделаете своими разговорами… Вот, слушайте!
Есть в наших краях маленькая голубенькая змейка. Ростом не больше четверти и до того лёгонькая, будто в ней вовсе никакого весу нет. По траве идёт, так ни одна былинка не погнётся. Змейка эта не ползает, как другие, а свернётся колечком, головёнку выставит, а хвостиком упирается и подскакивает, да так бойко, что и не догонишь её. Когда она этак-то бежит, вправо золотая струя сыплется, а влево чёрная-пречёрная.
Одному увидеть голубую змейку — прямо счастье. Наверняка верховое золото окажется, где золотая струя прошла. И много его поверху большими кусками лежит. Только оно тоже с подводом. Если лишку захватишь да хоть капельку сбросишь, всё в простой камень повернётся. Второй раз тоже не придёшь, потому место сразу забудешь. Ну, а когда змейка двоим-троим либо целой артелке покажется, тогда вовсе верная беда. Все перессорятся и такими ненавистниками друг дружке станут, что до смертоубийства дело дойдёт. У меня отец на каторгу ушёл из-за этой голубой змейки. Сидели как-то артелью и разговаривали, а она и покажись. Тут у них и пошла неразбериха. Двоих насмерть в драке убили, остальных пятерых на каторгу угнали. И золота никакого не оказалось. Потому вот про голубую змейку и не говорят: боятся, как бы она не показалась при двоих либо троих. А показаться она везде может: в лесу и в поле, в избе и на улице.
Да ещё сказывают, будто голубая змейка иной раз человеком прикидывается, только узнать её всё-таки можно. Как идёт, так даже на самом мелком песке следов не оставляет. Трава, и та под ней не гнётся. Это первая примета, а вторая такая: из правого рукава золотая струя бежит, из левого чёрная пыль сыплется.
Наговорил этак-то Ланков отец и наказывает:
— Смотрите, никому об этом не говорите и вдвоём про голубую змейку вовсе даже не поминайте. Когда в одиночку случится быть и кругом людей не видно, тогда хоть криком кричи.
— А как её звать? — спрашивают ребята.
— Этого, — отвечает, — не знаю. А если бы знал, то же бы не сказал, потому опасное это дело.
На том разговор и кончился. Ланков отец ещё раз настрого наказал ребятам помалкивать и вдвоём про голубую змейку даже не поминать. Ребята сперва сторожились, один другому напоминали:
— Ты гляди про эту штуку не говори и не думай как со мной вместе. В одиночку надо.
Только как быть, когда они всегда вместе и голубая змейка ни у того, ни у другого с ума нейдёт?
Время к теплу подвинулось. Ручейки побежали. Первая весенняя забава — около живой воды повозиться: лодочки пускать, запруды строить, меленки водой крутить. Улица, по которой ребята жили, крутиком к пруду спускалась. Весенние ручейки тут скоро сбежали, а ребята в эту игру не наигрались. Что делать? Они взяли по лопатке, да и побежали на завод. Там, дескать, из лесу ещё долго ручейки бежать будут, на любом поиграть можно. Так оно и было. Выбрали ребята подходящее место и давай запруду делать, да поспорили, кто лучше умеет. Решили на деле проверить, каждому в одиночку плотнику сделать. Вот и разошлись по ручью-то. Лейко пониже, Ланко повыше шагов, поди, на полсотни. Сперва перекликались:
— У меня — смотри-ко!
— А у меня! Хоть завод строй!
Ну, всё-таки работа. Оба крепко занялись, помалкивают, стараются, как лучше сделать. У Лейка привычка была что-нибудь припевать за работой. Он и подбирает разные слова, чтобы складно вышло:
Эй-ка, эй-ка, голубая змейка! Объявись, покажись, колеском покрутись!Только пропел, видит — на него с горки голубенькое колеско катится.
До того лёгонько, что сухие былинки, и те под ним не сгибаются. Как ближе подкатилось, Лейко разглядел — это змейка: колечком свернулась, головёнку вперёд уставила да ка хвостике и подскакивает. От змейки в одну сторону золотые искры летят, в другую чёрные струйки брызжут. Глядит на это Лейко, а Ланко ему кричит:
— Лейко, гляди-ко, вон она, голубая змейка!
Оказалось, что Ланко это же самое видел, только змейка к нему из-под горки поднималась. Как Ланко закричал, так голубая змейка и потерялась куда-то. Сбежались ребята, рассказывают друг другу, хвалятся:
— Я и глазки разглядел!
— А я хвостик видел. Она им упрётся и подскочит.
— Думаешь, я не видел? Из колечка-то чуть высунулся.
Лейко, как он всё-таки поживее был, побежал к своему прудику за лопаткой.
— Сейчас, — кричит, — золото добудем!
Прибежал с лопаткой и только хотел ковырнуть землю с той стороны, где золотая струя прошла, Ланко на него налетел:
— Что ты делаешь? Загубишь себя. Тут, поди-ко, чёрная беда рассыпана!
Подбежал к Лейку и давай его отталкивать. Тот своё кричит, упирается. Ну и разодрались ребята. Ланку с горки сподручнее, он и оттолкал Лейка подальше, а сам кричит:
— Не допущу в том месте рыться! Себя загубишь. Надо с другой стороны.
Тут Лейко опять набросился:
— Никогда этого не будет! Загинешь там. Сам видел, как в ту сторону чёрная пыль сыпалась.
Так вот и дрались. Один другого остерегают, а сами тумаки дают. До рёву дрались. Потом разбираться стали и поняли, в чём штука: видели змейку с разных сторон, потому правая с левой и не сходятся. Подивились ребята.
— Как она нам головы закружила. Обоим навстречу показалась. Насмеялась над нами, до драки довела, а к месту и не подступишься. В другой раз, не прогневайся, не позовём. Умеем, а не позовём.
Решили так, а сами только о том и думают, чтоб ещё раз поглядеть на голубую змейку. У каждого на уме и то было, не попытать ли в одиночку. Ну, боязно, да и перед дружком как-то нескладно. Недели две, а то и больше всё-таки о голубой змейке не разговаривали. Лейко начал:
— А что, если нам ещё раз голубую змейку позвать. Только чтоб с одной стороны глядеть.
Ланко добавил:
— И чтоб не драться, а сперва разобрать, нет ли тут обмана какого.
Сговорились так, захватили из дому по кусочку хлеба да по лопатке и пошли на старое место.
Весна в том году дружная стояла. Прошлогоднюю ветошь всю зелёной травой закрыло. Весенние ручейки давно пересохли… Цветов много появилось. Пришли ребята к старым своим запрудам, остановились у Лейкиной и начали припевать:
Эй-ка, эй-ка, голубая змейка! Объявись, покажись, колеском покрутись!Стоят, конечно, плечо в плечо, как уговорились. Оба босиком, по тёплому времени. Не успели кончить припевку, от Лейковой запруды показалась голубая змейка. По молодой-то траве скоренько поскакивает. Направо от неё густое облачко золотой искры, налево — такое же густое — чёрной пыли. Катит змейка прямо к ребятам. Они уже разбегаться хотели, да Лейко смекнул, ухватил Ланка за пояс, поставил перед собой и шепчет:
— Негоже на чёрной стороне оставаться!
Змейка всё же их перехитрила — меж ног у ребят прокатила. У каждого одна штанина золочёной оказалась, другая как дёгтем вымазана. Ребята это и не заметили, смотрят, что дальше будет. Голубая змейка докатила до большого пня и тут куда-то подевалась. Подбежали, видят— пень с одной стороны золотой стал, с другой черным-чернёхонек, и тоже твёрдый, как камень. Около пня дорожка из камней — направо жёлтые, налево чёрные.
Ланко сгоряча ухватил один золотой камень и чует — ой, тяжело, не донести такой, а бросить боится. Помнит, что отец говорил: сбросишь хоть капельку, всё в простой камень перекинется.
Он и кричит Лейку:
— Поменьше выбирай, поменьше! Этот тяжёлый!
Лейко послушался, взял поменьше, а он тоже тяжёлым показался. Тут он понял, что у Ланка камень вовсе не под силу, и говорит:
— Брось, а то надорвёшься!
Ланко отвечает:
— Если брошу, всё в простой камень обернётся.
— Брось, говорю! — кричит Лейко.
— Нельзя!
Ну, опять дракой кончилось. Подрались, наревелись, подошли ещё раз посмотреть на пенёк да на каменную дорожку, а ничего не оказалось. Пень как пень, а никаких камней, ни золотых, ни простых, вовсе нет. Ребята и судят:
— Обман один — эта змейка. Никогда больше думать о ней не будем.
Пришли домой, там им за штаны попало. Матери отмутузили того и другого, а сами дивятся:
— Как-то им пособит и вымазаться на один лад! Одна штанина в глине, другая — в дегтю! Ухитриться тоже надо.
Ребята вовсе на голубую змейку осердились:
— Не будем о ней говорить!
И слово своё твёрдо держали. Ни разу с той поры у них и разговору о голубой змейке не было. Даже в то место, где её видели, ходить перестали.
Раз ребята ходили за ягодами. Набрали по полной корзиночке, вышли на покосное место и сели тут отдохнуть. Сидят в густой траве, разговаривают, у кого больше набрано да у кого ягода крупнее. Ни тот, ни другой о голубой змейке и не подумал. Только видят — прямо к ним через покосную лужайку идёт женщина. Ребята сперва этого в примету не взяли. Мало ли женщин в лесу в эту пору: кто за ягодами, кто по покосным делам. Одно показалось им непривычным: идёт, как плывёт, совсем легко. Поближе подходить стала, ребята разглядели — ни один цветок, ни одна травинка под ней не согнутся. И то углядели, что с правой стороны от неё золотое облачко колышется, а с левой — чёрное.
Ребята и уговорились.
— Отвернёмся, не будем смотреть! А то опять до драки доведёт.
Так и сделали: повернулись спинами к женщине, сидят и глаза зажмурили. Вдруг их подняло. Открыли глаза, видят — сидят на том же месте, только примятая трава поднялась, а кругом два широких обруча, один золотой, другой чёрнокаменный. Видно женщина обошла их кругом, да из рукавов и насыпала. Ребята кинулись бежать, да золотой обруч не пускает; как перешагивать — он и поднимется и поднырнуть тоже не даёт.
— Из моих кругов никто не выйдет, если сама не уберу, — смеётся женщина.
Тут Лейко с Ланком взмолились:
— Тётенька, мы тебя не звали!
— А я, — отвечает, — сама пришла поглядеть на охотников добыть золото без работы.
Ребята просят:
— Отпусти, тётенька, мы больше не будем. И без того мы два раза подрались из-за тебя!
— Не всякая, — говорит, — драка человеку в покор, за иную и наградить можно. Вы по-хорошему дрались. Не из-за корысти либо жадности, а друг дружку охраняли. Недаром золотым обручем от чёрной беды вас отгородила. Хочу её испытать.
Насыпала из правого рукава золотого песку, из левого — чёрной пыли, смешала на ладони, и стала у неё плитка чёрно-золотого камня. Женщина эту плитку прочертила ногтем, и она распалась на две ровнёшенькие половинки. Подала половинки ребятам и говорит:
— Коли который хорошее другому задумает, у того плиточка золотой станет, коли пустяк — выйдет бросовый камешок.
У ребят давно на совести лежало, что они Марьюшку сильно обидели. Она хоть с той поры ничего им не говаривала, а ребята видели — стала она вовсе невесёлая. Теперь ребята про это и вспомнили, и каждый пожелал: «Хоть бы поскорее прозвище Голубкова невеста забылось и вышла бы Марьюшка замуж!».
Пожелали так, и плиточки у обоих стали золотые. Женщина улыбнулась:
— Хорошо подумали! Вот вам за это награда.
И подаёт им по маленькому кожаному кошельку с ремённой завязкой.
— Тут, — говорит, — золотой песок. Если большие станут спрашивать, где взяли, скажите прямо: «Голубая змейка дала да больше ходить за этим не велела». Не посмеют дальше разузнавать.
Поставила женщина обручи на ребро, облокотилась на золотой правой рукой, на чёрный — левой и покатила по покосной лужайке. Ребята глядят — не женщина это, а голубая змейка, и обручи в пыль перешли: правый — в золотую левый — в чёрную. Постояли ребята, запрятали свои золотые плиточки да кошелёчки по карманам и пошли домой. Только Ланко промолвил:
— Не жирно всё-таки отвалила нам золотого песку!
Лейко на это и говорит:
— Столько, видно, заслужили.
Дорогой Лейко чует — сильно потяжелело у него в кармане. Еле вытащил свой кошелёк, до того он вырос. Спрашивает у Ланка:
— У тебя тоже кошелёк вырос?
— Нет, — отвечает, — такой же, как был.
Лейку неловко показалось перед дружком, что леску у них не поровну, он и говорит:
— Давай отсыплю тебе.
— Ну, что ж, — отвечает, — отсыпь, если не жалко.
Сели ребята близ дороги, развязали свои кошельки, хотели выровнять, да не вышло. Возьмёт Лейко из своего кошелька горсточку золотого песку, а он в чёрную пыль перекинется. Ланко тогда и говорит:
— Может, все-то опять обман!
Взял щепотку из своего кошелёчка. Песок как песок, настоящий золотой. Высыпал щепотку Лейку в кошелёк — перемены не вышло. Тогда Ланко и понял: обделила его голубая змейка за то, что пожадничал на даровщину. Сказал об этом Лейку, и кошелёк на глазах стал прибывать. Домой пришли оба с полнёхонькими кошельками, отдали свой песок и золотые плиточки семейным и рассказали, как голубая змейка велела.
Все, понятно, радуются, а у Лейка в доме ещё новость: к Марьюшке приехали сваты из другого села. Марьюшка веселёхонько бегает, и рот у неё в полной исправе. От радости, что ли? Жених, верно, какой-то чубарый волосом, а парень весёлый, к ребятам ласковый. Скоренько с ним сдружились.
Голубую змейку с той поры ребята никогда не вызывали. Поняли, что она сама наградой прикатит, если заслужишь, и оба удачливы в своих делах были. Видно, помнила их и змейка и чёрный свой обруч от них золотым отделяла.
1945 г.
Алмазная спичка
ело с пустяков началось — с пороховой спички. Она ведь не ахти сколь давно придумана. С малым сотня лет наберётся ли? По началу, как пороховушка в ход пошла, много над ней мудрили. Которое и вовсе зря. Кто, скажем, придумал точёную соломку делать, другой опять стал смазывать спички таким составом, чтоб горели они разными огоньками. Малиновым, зелёным, ещё каким. С укупоркой тоже немало чудили. Пряменько сказать, на большой моде тогда пороховая спичка была.
Одного нашего заводского мастера эта спичечная мода и задела. А он сталь варил. Власычем звали. По своему делу первостатейный.
Этот Власыч придумал сварить такую сталь, чтоб сразу трут брала, ежели той сталью рядом по кремню черкнуть.
Сварил сталь — крепче не бывало — и наделал из неё спичечек по полной форме. Понятно, искра не от всякой руки трут поджигала. Тут, поди-ко, и кремешок надо хорошо подобрать, и трут в исправности содержать, а главное — большую твёрдость и сноровку в руке иметь. У самого Власыча, сказывают, спичка ловко действовала, а другим редко давалась. Зато во всяких руках эта спичка не хуже алмаза стекло резала. Власычеву спичку и подхватили по заводу. Прозвали её алмазной. Токари заводские выточили Власычу под спички форменную коробушечку и по стали надпись вывели: «алмазные спички».
Власыч эту штуку на заводе делал. Сторожился, конечно, чтоб на глаза начальству не попасть, а тут сплошал. В самый неурочный час принесло одного немца. Обер-мастером назывался, а в деле мало смыслил. Об одном заботился, чтоб всё по уставу велось. Хоть того лучше придумай, ни за что не допустит, если раньше того не было. Звали этого немца Устав Уставыч, а по фамилии Шпиль. Заводские дивились, до чего кличка ловко пришлась. Тонкий да долгий, а головастый, и нос вроде спицы — зипуны вешать. Ни дать, ни взять, барочный шпиль, коим кокоры к бортам пришивают. И ума не больше, чем в деревянном шпиле. Меж своими немцами и то в дураках считался.
Увидел Шпиль у Власыча стальную коробушечку и напустился:
— Какой твой праф игральки делайть? С казённи материаль? Ф казённи фремя? По устаф восьмёшь сто палька.
Власыч хотел объяснить, да разве такой поймет? А время тогда ещё крепостное было, Власыч и пожалел свою спину — смирился.
— Помилосердствуй, — говорит, — Устав Уставыч, напредки того никогда не будет.
Шпилю, конечно, любо, что самолучший мастер ему кланяется. И то, видно, в понятие взял, что Власычевым мастерством сам держится. Вот Шпиль задрал свою спину выше некуда и говорит:
— Снай, Флясыч, какоф я есть добри начальник. Фсегда меня слушай. Первый фина прощай. Фторой фина поймаль — сто пальки.
Потом стал допытываться, кто коробушечку делал, да Власыч это на себя принял.
— Сам смастерил, в домашние часы. А надпись иконный мастер нанёс. Я по готовому и выскоблил, как это смолоду знал.
Смекнул тоже, на кого повернуть. Иконник-то из приезжих да ещё дворянского сословия. Такому заводское начальство, как пузыри в ложке: хоть один, хоть два, хоть и вовсе не будь.
Коробушечку со спичками немец отобрал и домой унёс, а остатки Власыч себе прибрал.
Пришёл Шпиль домой, поставил коробушечку на стол и хвалится перед женой, — какой, дескать, он приметливый: все сразу увидит, поймёт и конец сделает. Жена в таком разе, как, поди, у всех народов водится, поддакивает да похваливает:
— Ты у меня что! Маслом мазаный, сахарной крошкой посыпаный. Недаром за тебя вышла.
Шпиль разнежился, рассказывает ей по порядку, а она давай его точить, что человека под палки не поставил. Шпиль объясняет: мастер-де такой, им только и держусь.
А жена своё скрипит:
— Какой ни будь, а ты начальник. На то поставлен, чтоб тебя боялись. Без палки уважения не будет.
Известно, у немцев, не как у других людей, баба лютей мужика живёт. На том вырощена, чтоб палку за бога почитать. Скрипела, скрипела, до того мужа довела, что схватил он коробушечку и пошёл на завод, да тут его к главному заводскому управителю позвали. Испугался сперва, подумал, не донёс ли кто об этом случае. Прибежал, а у главного управителя кабинетская бумага. Спрашивают про алмазную сталь: кто её сварил и почему не донесли?
Власычевы-то спички давненько по заводу ходили. Не столько ими огонь добывали, сколько стекло резали. Ну, может, со стекольщиками и по большим дорогам пошли да там на какого-нибудь большого начальника и набежали. Не все же дураки были из начальства-то. Увидел — небывалая сталь, начал дознаваться, — откуда? Ему сказали, вот бумага и пришла. Вроде не строгая, только с малым укором. Шпиль перевёл это в своей дурной башке: заставлю Власыча сварить ещё такую сталь, а скажу на себя и награду за это получу. Вытащил из кармана коробушечку, подал управителю и говорит в таком смысле. Управитель из немцев же был. Обрадовался. Ну, как же! Большая подпорка всем немцам, чтоб подольше на хлебном месте, — в нашем, то есть заводе, удержаться. Похвалил Шпиля:
— Молодец! Показал русским, что без нас им обойтись никак невозможно.
И тут же состряпал ответную бумагу. Моим, дескать, старанием обер-мастер Шпиль сварил алмазную сталь, а не доносили потому, что готовили форменную укупорку. Делал её русский мастер, оттого и задержка. Известно, немец не может без того, чтоб не наплести худого на русского человека.
Велел это письмо начисто переписать и с нарочным отправить в Сам-Петербург. И Власычеву коробушечку туда же.
Шпиль от управителя именинником пошёл, чуть не приплясывает. Вечером пирушку устроил. Все заводские немцы сбежались. Завидуют, конечно, дивятся, как такому дураку этакая штука, а всё-таки поздравляют. Понимают, что всем большая выгода.
На другой день Шпиль пришёл на завод и как ни в чём не бывало говорит Власычу:
— Фчера глядель тфой игральки. Ошень сапафни. Ошень сапафни. Сфари такой шталь польни тигель. Я расрешай. Сафтра.
А Власычу уже всё ведомо. Копиист, который бумагу перебелил, себе копийку снял и показал кому надо. И Власычу о том сказали. Только Власыч виду не подает, говорит немцу:
— То и горе, Устав Уставыч, — не могу добиться такой стали.
У немца дальше хитрости не хватило. Всполошился, ногами затопал, закричал:
— Как смель шутк начальник кафарийть?
— Какие, — отвечает, — шутки. Рад бы всей душой, да не могу. Спички-то, поди, из той стали деланы, кою, помнишь, сам варить пособлял. Ещё из бумажки-то подсыпал, как главное начальство из Сам-Петербургу наезжало.
И верно, был такой случай. Шпиль, видно, хотел себя знающим показать, всё время суетился при варке, а Власычу в тигель ещё и подсыпал чего-то из бумажки. Мастера смеялись потом: понимает тоже пёс, кому подсыпать. Знает, что у Власыча всегда хорошо выйдет. Теперь Власыч и закрылся этим случаем. Шпиль, как он и в немцах дураком считался, поверил этому разговору. Обрадовался сперва, потом образумился маленько: как быть? Помнит, — точно высыпал в варку аптечный порошок. Так, для важности, будто он какую тайность ведёт. А порошок, оказывается, вон какую силу имеет. Только как узнать, который это порошок был? Шпиль больше и разговаривать не стал, побежал домой, собрал все порошки, какие в доме оказались, и давай их разглядывать. Мерекал-мерекал и решил — буду пробовать по порядку. Так и сделал. Заставил Власыча варить сталь, а сам тут же толкошится и каждый раз какой-нибудь порошок в варку подсыпает. Ну, от колотья в грудях, от рвоты, от удушья, от почечуя, либо от кашлю.
Да мало ли всякого снадобья. Власыч свою сноровку имеет: одно сварит покрепче, другое пожиже да и сулит:
— Видно, другой порошок был, а поглядеть, — будто одинаковые!
Этими разговорами с последнего умишка Шпиля сбил. Окончательно он уверился в силе аптечных порошков. Тем временем из Сам-то Петербургу новая бумага пришла. Управителю, конечно, одобренье, Шпилю — награжденье, а заводу — заказ: сварить столько-то пудов алмазной стали и пустить её всю в передел для самого наследника. Сделать саблю, кинжал, столовый прибор, линейки да треугольники. Ну, разное, и всё с рисовкой да позолотой. И велено всякую вещь опробовать, чтоб она могла стекло резать.
Управитель обрадовался, велел собрать всех к господскому дому и вычитал там бумагу. Пусть, дескать, русские знают, как немецкий мастер отличился. Немцы, ясное дело, радуются да похваляются, а русские посмеиваются, потому — знают всё, как Шпиль еже день свою дурость с порошками показывает.
Сталь по тем временам малым весом считалась. Заказ да с переделом вовсе большим казался. Переделочные и потребовали сразу — подавай алмазную сталь. Шпиль вовсе в пот, бьётся. Порошки, которые от поносу, давно ему в нутро потребовались. Сам управитель рысью забегал. Этот, видать, посмышлённее. Сразу понял, что тут Власыч водит, а что поделаешь, коли принародно объявлено, что алмазная сталь Шпилевой выдумки и работы. На том только настоял, чтобы Шпиль один варил, никого близко не подпускал. А что Шпиль один сделает? Смех только вышел. Переделочные между тем крепче наступать на управителя стали:
— Заказ царский. За канитель к ответу потянут. Подавай сталь либо пиши бумагу, что зряшняя хвастня была, никакой стали Шпиль не варивал и сварить не может.
Управитель видит, — круто поворачивается, нашел-таки лазейку. Велел Шпилю нездоровым прикинуться и написал начальству. Прошу отсрочить заказ, потому обер-мастер, который эту сталь варит, крепко занедужил, при смерти лежит. А сам за Власыча принялся. Грозил, конечно, уламывал тоже, а Власыч упёрся:
— Не показал мне Устав Уставыч своей тайности, не умею. Вот вылежится сам и сварит.
Тогда управитель другое придумал.
У Власыча все ребята в отделе жили, всяк в своей семейственности. При отце один последний оставался, а он некудыка вышел. От матери, видишь, вовсе маленьким остался и рос без догляду. Старшие братья-сестры, известно, матери не замена, а отец с утра до вечера за заводе. Парнишко с молодым умишком и пошёл по кривым дорожкам. К картишкам пристрастился, винишко до времени похватывать стал. Не раз Власыч колачивал парня, да разве поправишь, коли время пропущено. А так парень приглядный. Что называется, и броваст, и глазаст, и волосом кудряв. Власыч говаривал:
— На моего Микешку поглядеть — сокол соколом, а до работы коснись — хуже кривой вороны: сам дела не видит, а натолкнёшь, так его куда-то в сторону отбросит.
Ну, всё-таки своя кровь, куда денешь? Власыч и пристроил Микешку себе подручным. Тайность со сталью такому, разумеется, не показывал. Женить даже его не насмеливался: загубишь, дескать, чужой век, да и в доме содом пойдёт.
Через этого Микешку немецкий управитель и придумал Власычеву тайность разведать и велел перевести парня на работу в господский сад. Микешке по началу это поглянулось: дела никакого, а кормят вдосталь. Одно худо, — винишка не дают, и то сумнительно, — зачем его тут поставили, коли остальные все из немцев? Потом глядит — Шпилева девка, Мамальей ли Манильей ее звали — в сад запобегивала. Вертится около Микешки, разговаривает. По-русскому-то она хоть смешненько, а бойко говорила, как в заводе выросла. Микешка видит — заигрывает немка, сам вид делает — всё бы отдал за один погляд. Девка, понятно, красоты немецкой: сытая да белобрысая, и одета по-господски. Манилье этой лестно, что парень голову потерял, а тот и сам глазом заиграл и ус подкручивает.
Шпилева девка умом-то в отца издалась. С первых слов выболтала, что ей надо. Микешка своё соображение поимел и говорит — тайность со сталью даже очень хорошо знаю. И время теперь подходящее. Как по болотам пуховые палки кудрявиться станут, так по Таганаю алмазные палки найти можно. Если такую растолочь в ступке да того порошку по рюмке подсыпать на каждый пуд, то беспременно, алмазная сталь выйдет.
Манилья спрашивает: где такие палки растут?
— Места, — отвечает, — знаю. Для тебя могу постараться, только чтоб без постороннего глазу. Да еще уговор. Ходьбы будет много, так чтобы на каждый раз брать с собой по бутылке простого да по бутылке наливки какой, — послаще да покрепче. И закусить было бы чем.
— Что ж, — говорит, — это можно. Наливок-то у мамаши полон чулан, а простого добыть и того легче.
Вот и стали они на Таганай похаживать. Чуть не все лето там путались, да, видно, не по тем местам. Шпилям что-то крепко не взлюбилось. Слышно, Манилью-то в две руки своими любезными немецкими палками дубасили да наговаривали:
— Мы тебе наказывали: себя не потеряй, а ты что? Хвалилась, — в неделю круг пальца оберну и всю тайность выведаю, а что вышло?
Управитель опять Микешку под суд подвёл, как за провинность по садовому делу. К палкам же его присудили, так отхлестали, что смотреть страшно. Еле живого домой приволокли.
Успели-таки немцы, а вскоре им всем решенье вышло. В Сам-то Петербурге, видно, разобрали всю немецкую подлость и послали к нам нового управителя. Он первым делом велел Власычу сварить алмазную сталь. Тот, конечно, без отговорок сделал как лучше. Опробовал новый управитель Власычеву варку и сразу всех заводских немцев к выгонке определил. Чтоб без задержки. С той поры у нас в заводе чисто от немца стало. Власычева алмазная спичка им вроде рыбьей кости в горло пришлась. Всю дорогу, небось, перхали да поминали.
— Хорош рыбный пирожок, да подавиться можно, — ноги протянешь.
А Микешка по времени в Никифоры вышел. Ребятишки соседские образумили. Как он отлежался да стал похаживать по улицам, ребята и давай его дразнить: «Немкин мужик, немкин мужик», либо песенку запоют: — «Немка по лесу ходила, смешны речи говорила». Микешка и думает про себя: «Маленькие говорят, — от больших слышали. Хороводился с немкой из баловства да из-за готовых харчей, а вон куда повернулось. Вроде за чужого меня считают».
И до того парня проняло, что он на поправку круто пошёл. Повадку-то свою, как полегче прожить, забросил, за работу принялся — знай держись. Случалось, когда и попирует, да на свои кровные, никто не укорит. Жениться вот только долго не мог. Свои-то заводские, видно, зазорным почитали за немкиного мужа выходить, так он приезжую взял. Ничего, ладно с ней жили. Сына доброго вырастили, и дядя Никифор частенько ему говаривал:
— Со всяким народом, милый сын, попросту живи, а немца остерегайся! Больно высоко себя ставит, а на деле мошенник из мошенников. Ты его и опасайся, а того лучше, — гони от себя подальше куда.
1945 г.
Золотые дайки
то-то сказывал, что «дайки» — чужестранное слою. Столбик будто по-нашему обозначает. Может, оно так и сходится, только наши берёзовские старики смехом смеялись, как такое услышали.
— Какое же, — говорят, — чужестранное, коли чисто по-нашему говорится и у здешних раньше в словинку входило. Вроде заклятья его берегли. Не всякому из своих сказывали. Как дойдут до настоящей породы, так кто-нибудь в этом сведущий и бормочет ту словинку. Пустяк, конечно. Пустословье одно, вроде ребячьей приговорки, да к тому речь, что дайка тут родилась, в нашем заводе, и не след её чужим людям отдавать. Себе пригодится. Может, в ней, в этой самой дайке, вся маята первых золотых добытчиков завязана. Поворошить такое — старикам услада, молодым — наученье. Пусть не думают, что деды-прадеды золотые пенки снимали. Тоже, небось, и рук не жалели, и часов не считали, а сколько муки приняли, то по нынешнему времени и не поймёшь сразу. Известно, в чём понавыкнешь, то всегда легко да просто кажется, а ведь сперва не так было. На деле с нашим берёзовским золотом вовсе мудрено вышло. Как нарочно придумано, чтобы до концов не добраться.
Ведь с чего началось? Искал Ерофей Марков дурмашки да строганцы и нашёл в той яме золотые комышки. Вроде и просто, а как подумаешь — большая это редкость, чтоб в здешнем жильном золоте отдельно комышек найти. Золото у нас, поди-ка, полосовое: полосами в земле лежит и крепко в тех полосах заковано. Посвободнее маленько только в жилках, кои те полосы пересекают. Наши старики, как потом научились эти поперечные жилки выковыривать, приметку оставили:
— В которой жилке турмалин блестит, либо зелёная глинка роговицей отливает, там золота не жди. А вот когда серой припахивает, либо игольчатник-руда пойдёт, айконитом-то которую зовут, там может статься, — комышек готовенького золота и найдёшь.
Вот на такую-то редкость Ерофей и наскочил, да ещё в ту пору, когда по всей нашей земле золота добывать не умели. И немцы, которых в городе за сведущих кормили, тоже в этом деле кукарекать не навыкли. Видимость только делали, будто что разумеют.
Ну, вот… Нашёл Ерофей Марков золота, принёс по начальству, честно указал место, а стали искать — даже званья не оказалось. Как быть? Пришлось нашему первому золотодобытчику голову на плахе держать да под палачёвским топором клясться — божиться:
— Места не утаил, а куда подевалось золото, того не ведаю.
А ему обещают:
— Как в срок не укажешь место, голову отрубим.
При таком-то положении недолго умом повихнуться. Неведомо кого просить-молить станешь, а то и грозиться примешься. Это уж кому что подойдёт.
Не один Ерофей из-за золота сна-покою лишился. У других, кто про находку узнал, тоже руки зачесались: мне бы! Разговоры всякие про золото пошли. Которое, может, и от тогдашних шарташских стариков в те разговоры налипло.
Ерофей-то из Шарташа происходил. Коренной тамошний житель. А в Шарташе в ту пору самое что ни есть кержацкое гнездо было свито. Когда ещё нашего города и в помине не было, туда, на глухое место у озера, и набежало скитников-начетчиков с разных концов. Иные, сказывают, с Выгорецких каких-то пустынь, другие — с Керженца-реки. Этих, видно, больше, потому шарташских и прозвали кержаками. Скатов, мужских и женских, порядком тут поставлено было. И все эти скитники-начетчики большую силу в народе имели.
Конечно, и скитники не одним дыхом да молитвой живут, тоже хлебушко едят и от медку не отказываются. Вот они и давали народу ослабу.
Вы, дескать, в миру живёте, вы и трудитесь, как всякому полагается, а мы молиться станем. Чем лучше нас кормить будете, тем молитва доходчивей. Только и про то скитники наказывали, чтоб с бритоусами да табашниками народ не якшался:
— Они вас живо под печать антихристову подведут. Не смигнёшь — припечатают!
Ясное дело, боялись, как бы народ не перестал их слушаться. Вот страху и нагоняли. А народ, хоть в потёмках ходил, разумом не обижен: скитников-начетчиков слушал, про себя то соображал, что ему лучше.
Как стали в здешних местах город строить, шарташские и запохаживали поглядеть, что за люди появились и какую думку имеют. Скитники забеспокоились, зашипели: «Кто с городскими свяжется, тому царства божьего не видать».
Только ведь не зря говорится: «который огонь не видишь, о том не думаешь, а к ближнему костерку всякого тянет». А тут, считай, вовсе большой по тому времени костёр развели, когда наш-то город ставили. Ну, как, — реку перехватить, крепость поставить, завод на всякое железное дело, чтоб якоря ковать, ядра лить, посуду делать. Каменное дело тут же. Шарташским и было около чего походить, чему подивиться. Скитники вовсе всполошились, проклятием грозить стали. Иные, понятно, испугались, а которые крепко залюбопытствовали, тех не проняло. В числе этаких-то и оказался Ерофей Марков. Его, надо думать, каменная сила захватила. Она, известно, кого краешком зацепит, того не выпустит. Нашёл один камешок, стал другой искать, а там третий где-то близко. Его найти непременно надо. Так и пошло. Скитникам это нелюбо, а проклинать всё-таки боятся: если этого не проймёшь, с другими сладу не будет. Ерофей это по-своему понял: притерпелись старики. После этого он и сторожиться не стал, а они за ним неотступно доглядывали. Как нашёл Ерофей золото, скитники живо это пронюхали и шум подняли.
— Гляди-ка, что Ерофейко наделал! Золотого змея из земли выпустил! Погибель скитам нашим! Погибель! Набегут бритоусы и всю нашу пустыню порушат. Убить Ерофейку мало, а место зарыть, чтоб золотой змей силу не взял!
Ну, нашлись такие, кто этих скитников послушался. Ночью к яме вывезли возов с десяток чего попало и завалили место. Скитники одно приговаривают:
— Вали больше, чтоб золотому змею ходу не было!
Немцам, коим доверили оглядеть Ерофееву яму, эта скитническая дурость к руке пришлась. Немцы, может, и догадались о подсыпке, да им-то что! Поковырялись для видимости, нашли вовсе другое, чему тут не место, да и потянули Ерофея к ответу, как за обман. А скитники шарташские радуются: отвели беду, сохранили пустыню.
Только и в Шарташе не все так думали. Нашлись такие, что по-другому поняли и начали перешёптываться:
— Ерофей-то, верно, золото нашёл. Порыться бы кругом того места. Может, и нам покажется. С золотом и пустыню можно по боку. Пусть кому любо, за нее держатся, а нам и без неё не тоскливо.
Скитники-начетчики прослышали, грозятся:
— Проклянём, кто посмеет Ерофейкин погибельный путь торить!
Только когда это бывало, чтоб молодые во всём стариков слушали. Недаром слово молвлено: — старому с молодым и во сне не по пути — разное грезится. — Сколько старики ни угрожали, у молодых Ерофеева находка из ума не выходит. Которые посмелее, те стали около Ерофеевой ямы всякие дела себе выискивать. Кто, скажем, корягу для кормовой колоды на том самом месте нашёл. Кто опять виловище выбирает, а оно у той же ямы выросло. Скитники видят — не пособиться им без самой большой острастки, собрали всех шарташских поголовно и давай дудеть:
— Кто станет около Ерофейкиной ямы топтаться, того из Шарташа выгоним и семью не пощадим!
Про то скитники, видно, забыли, что пугать всё-таки с опаской надо. Кто испугается, а кто и нет. Бывает и так, что от лишней угрозы люди такое делают, о чём раньше и не думали.
В Шарташе в ту пору жила одна семья — семь братьев. Стариков в той семье не осталось, но братья дружно держались, одной семьёй жили, а все женатые. Посчитай, сколь народу! Братья это понимали и крепко не любили, чтоб им кто грозил. Насчёт Ерофеевой ямы у них до того и в помыслах не было, а как стали скитники грозиться, их ровно муха укусила. Стали поговаривать, что дескать такое, почему старики не в своё дело лезут, какое у них на то право. Скитники узнали, понесли на братьев: они в вере не тверды. Так, сказывают, и было.
Братья без своих стариков жили, досматривать за чином-обрядом некому было, они и обходились с божественным простенько: досуг — помолятся, недосуг — и без того обойдётся. У стариков-начетчиков эти семеро братьев давно на примете значились, да подступить к ним боялись, а тут сгоряча и налетели. Братья, конечно, в обиде, в открытую заговорили:
— Не мешало бы разведать, нет ли у стариков корысти в Ерофеевой яме, и про то узнать надо, почему у мужика незадача вышла. Не пьяный, поди, был, место хорошо заметил, а стали копать — ничего не оказалось. Не подстроил ли кто в том деле штуку какую?
Сами, понятно, знали, кто и сколько возов вывез, чтоб следок к золоту запорошить. Скитники-начетчики чуют, к чему клонится, вой подняли.
— Веру потоптали! Городским табашникам продались! Выгнать всех из Шарташа! Чтоб и духу не осталось!
Братья на дыбы: — попробуй! Скиты разнесём!
За скитников, понятно, заступились и за братьев тоже. Шарташ и закачался, — на две стороны пошёл. В задор люди вошли. Всяк своё доказать хочет. От скитников больше всех старался Михей Кончина. Мужик справный, а на разговор скупой. Слово-то у него по праздникам услышишь, а тут горячится, кричит, кулаками грозит. И в семьях свара пошла. У одного из семерых братьев жена в скиты сбежала: испугалась стариковских слов.
С этой свары и стали по-настоящему золото искать. Перфил, у которого жена-то от греха в скиты ударилась, так и объявил:
— Жив не буду, а золото найду! Тут оно где-нибудь!
За этим Перфилом другие потянулись, принялись землю ворошить. Всё-таки от той ямы, кою Ерофей раскопал, далеко не уходили. Разговоров про золото ещё больше стало. Всяк по-своему судит, как его искать, да от какой причины оно в земле заводится. По темноте плетут несусветное, и от скитников-начетчиков нитка тянется про скованного в земле золотого змея. Одним словом, неразбериха. До того в этих разговорах запутались, что иные от поиску отставать стали. Другие, наоборот, ещё усерднее за рытьё принялись. Глядишь, то один, то другой и наскочит на породу с золотой искрой. Блестит въяве, а не возьмёшь. Начальство около этих новых ям толчею на речке поставило. Стали ту породу пестами долбить, потом из этого через огонь золою добывать. Толку не много получалось, только всем видно стало, — есть в той породе золото и добыть его можно.
Народу всё-таки охота добраться до тех золотых комышков, какие Ерофей нашёл. Ну, никак не выходило. Потом уж это открылось через одну женщину да вовсе зряшного мужичонку, коего жена заставила в новом месте яму рыть.
Так вышло. У Михея Кончины в семье была его сестра. Глафирой звали. Девушка, сказывают, пригожая и работящая. Женихову неё хоть отбавляй. Только Михей с этим не торопился: выбирал, видно. Сама Глафира тоже никого не приглядела. Тут вот и подвернулся Вавило Звонец. Мужичонко, прямо сказать, не завидный. Из таких, кои больше всего любят по завалинкам посидеть да побалакать. Руки-то ему только на то и надобны, что языку пособить, где развести, где помахать, где пальцами прищёлкнуть. Зато языком Вавило, как говорится, города брал. Кого хочешь заставит уши развесить.
Этот Вавило Звонец и подсыпался к Михеевой сестре. На ту пору у него беда приключилась: жена умерла. Ребят хоть не осталось, а всё-таки вдовцу не сладко жить. Вавило, значит, и стал напевать про свою участь горькую. Разжалобил девушку до того, что она самоходом за него замуж выскочила. Скитники-начетчики побаивались, конечно, Михея, только и Звонец им не чужой. Подумали-подумали, окрутили. Михей в обиде на скитников, а сестре заказал передать:
— Больше ко мне на глаза не кажись!
У Глафиры со Звонцом доли не вышло. Известно, сколь жена ни колотись, а если у мужа один язык в работе, так в квашне не густо. Глафира у брата в достатке жила, впроголодь-то ей живо наскучило. Она и говорит мужу:
— Ну, Вавило, живи, как тебе мило, а я тебе больше не жена. Потому — не работник ты, а вроде худого ботала.
Вавило давай улещать её, только она не поддаётся.
— Слыхала, — говорит, — сладких слов от тебя немало, да дела не видала.
— Вот погоди, — отвечает, — дай только журавлей дождаться, увидишь, какой я человек.
— На что, — спрашивает, — тебе журавли сдались? На хвостах, что ли, богатство принесут?
Смеётся, видишь, а сама залюбопытствовала маленько. Звонцу того и надо. Который человек залюбопытствовал, того непременно оболтает, потому из таких был, — сам себе верил. Звонец и принялся расписывать.
— Многие, — говорит, — золото ищут, а ни у кого настоящего понятия нет. В старых списках про это по всей тонкости показано. Владеет золотом престрашный змей, а зовут его Дайко. Кто у этого Дайка золотую шапку с головы собьёт, тот и будет золоту хозяин.
Глафира сперва не верит, посмеивается:
— Журавли-то тут с которого боку пришлись?
— Журавль, — отвечает, — в том деле большую силу имеет. В ту самую ночь, как журавли прилетят, змей Дайко ослабу в своей силе даёт. Тогда и глуши его тайным словом!
Глафира и давай спрашивать, что за тайное слово, коим можно змея глушить, и как до того змея добраться. У Звонца, конечно, на всё ответ готов.
— Надо, — отвечает, — в потаённом месте яму вырыть поглубже да в ней и дожидаться, когда журавли закурлыкают. Змей Дайко, как услышит журавлей, поползёт из земли их послушать. Весна, видишь, он и разнежится. Приоденется для такого случаю. На голове большущий комок золота вроде шапки, али, скажем, венца, а по тулову опояски золотые, с каменьями. Под землёй Дайко ходит, как рыба в воде, только через яму ему всё-таки ближе. Он тут и высунет голову. Человек, который в яме сидит, должен сказать самым тихим голосом:
— Подайко, Дайко, свой золотой венец да опояски!
От того тихого голоса Дайко очумеет, голову маленько сбочит, будто слушает да разобрать не может. Тут и хватай у него с головы золотой комок. Коли успеешь, ничего тебе змей не сделает. С шапкой-то он силу свою потеряет и станет камень-камнем, хоть кайлой долби. А коли оплошаешь, да поглядит на тебя змей Дайко, — сам камнем станешь.
Глафира смеётся:
— Такое дело и удалому по груди, а тебе выше головы!
Звонец всё-таки недаром так назывался. Оболтал-таки жену, поверила, а про себя думает: заставлю испытать на деле. Вот и начала донимать Вавилу, чтоб поскорее яму в потаённом месте готовил. Тот отговорки всякие придумывать стал: время не подошло, земля не оттаяла.
Только Глафира не отступает, за ворот взяла:
— Пойдём выбирать место.
Вавило ещё отговорку придумал: днём нельзя, — скитники увидят, а ночами какая работа в эту пору, когда волков сила.
Глафира своё твердит:
— Огонь на что? Разведёшь — не подступят к тебе волки.
Добилась-таки своего. Пришлось Звонцу собираться. Кайлы, конечно, у него не было заведено, так он топор-тупицу взял. Ну, ломок да лопатку тоже. Собирается так, а про себя думает: — отсижусь у соседей либо у скитников, утречком пораньше домой прибегу.
А жена своё в голове переводит:
«Что-то мой муженёк волков боится, а об огне у него и думы нет. Сфальшивить, видно, хочет».
Подумала так и говорит:
— Сама с тобой пойду.
Звонец давай отговаривать:
— Не пригоже такое женскому полу. Небывалое дело.
Глафира упёрлась:
— Мало что не бывало, а теперь стало.
Так и не мог Звонец отбиться, пошла с ним Глафира. Полный горшок углей из загнетки нагребла. Звонец злится да хитрости придумывает:
— Когда на то пошло, заведу её подальше. Ноги по снегу-то наломает, другой раз не пойдёт.
И скитников тоже побаивается, как бы они не узнали, что золото искать выдумал. Вот, значит, идут да идут, помалкивают оба. Глафира женщина в силе — что ей? А Звонец притомился, — язык высунул. Подбодрило, как волков услышал. Ноги сами наутёк пошли, да Глафира остановила:
— Что ты, дурак такой, а ещё мужиком считаешься! Неуж не слыхал, — коли кругом волки завыли, одно спасенье — разводи огонь!
Так и сделали. Остановились на полянке и скоренько развели костёр. — У Звонца зуб на зуб не попадает, а Глафира распоряжается:
— Выбирай место!
— Это, — отвечает, — самое подходящее.
— Коли так, начинай бить яму!
Звонцу что делать? Принялся, а земля мёрзлая, и руки не привычные. Видит Глафира, — толку не выходит, занялась сама. Сразу смекнула, как костром работе помогать. Пошло дело. Глафира работает, а Звонец на волков озирается. К утру волчишки затихли, поразбежались, и Звонец с Глафирой домой пошли.
С неделю ли больше Глафира так своего мужа в лес таскала. Натерпелся он страху. Ну, всё-таки ямку вырыли. Маломальскую, конечно. На том самом месте она пришлась, где теперь старый берёзовский рудник показывают.
Как весна подходить стала, Глафира опять мужика в лес потянула: не пропустить бы прилёт журавлей. Только Звонец на этот раз отбился. Насказал, что по всем книгам женщине не указано при таком случае быть: змей её сразу учует. Выгородил, чтоб одному идти, а у самого одно на уме: ни за что на такую страсть не пойду. Глафира, конечно, подозревала, каждый вечер провожала мужа из дому, да по потёмкам он увернётся и куда-нибудь к своим приятелям утянется. А как журавли прилетели, объявил жене:
— Не показался мне змей Дайко. Учуял, видно, что женщина в той яме была.
Глафира тут не вытерпела. Плюнула Звонцу в бородёнку и говорит:
— Эх, ты, сокол ясный! Нашёл отговорку — подолом прикрыться! Дура была, что такого слушала! Других журавлей поджидать не стану. Живи, как знаешь, а я ухожу!
Звонец опять языком заработал, только Глафира и слушать не стала, — пошла. А куда ей? К брату и думать нечего, потому — Кончина: сказал слово — не отступится от него. Да Глафира и сама той же породы: оплошку сделала — плакаться не станет. Скитницы, на её житьё глядючи, давно её в скиты сманивали, потому — работница без укору. Да, видишь, дело молодое, грехов не накоплено, каяться не тянет. Глафира и придумала в город податься.
В городе в ту пору большая нехватка женщин была. Увидели такую молодую да пригожую, со всех сторон набежали. Одни болезнуют, как ты такая молодая в таком месте жить будешь, другие это же говорят, и всяк к себе тянет. Глафира, — женщина строгая, объявила:
— Не пойду без закону!
За этим тоже дело не встало. Хоть рядами женихов составляй. Глафира и выбрала какой ей показался поспокойнее, да и обвенчалась с ним по-церковному. Кержацкое-то замужество тогда в счёт не брали.
Когда до Шарташа слухи дошли, скитники-начетчики на две недели вой подняли. Нарочно в город своих людей послали передать Глафире:
— Проклята ты в житье и потомстве твоём до седьмого колена. Не будет тебе части в небесной радости и счастья на земле.
Одним словом, не поскупились. Случай небывалый, чтоб кержанка из Шарташа по-церковному обвенчалась. Старики и нагоняли страху, чтоб другим неповадно было.
Не знаю, испугалась ли Глафира небесной грозы, а земная доля у неё опять не задалась. Шарташские, видишь, в ту пору на бродяжьем положении значились и ни за барином, ни за казной не числились. Глафира и была в ничьих, а как вышла замуж так и попала в крепостные. Как говорится, выбралась из глухого рёму в болотное окошко.
Муж Глафире не плохой будто попался. Из маленьких начальников, вроде нарядчика по работам. Ну, из боязливых. Больше всего за то беспокоился, как бы барина чем не прогневить. С год ли два всё-таки ладно жили. Об одном Глафира скучала: ребят не было. И к счастью, оказалось. Барин, видишь, приметил пригожую молодицу и велел наряжать её по вечерам в барский дом полы помыть да постель сготовить. Глафира слыхала об этой барской повадке, сказала мужу, а тот глаза в пол да и говорит:
— Что ж такого! Мы люди подневольные.
Глафира остолбенела от такого слова. Ну, смолчала, а про себя подумала: ни за что не пойду. Раз не пошла, другой — не пошла, в третий барские слуги за ней пришли. Мужа, конечно, в ту пору дома не оказалось. Глафира видит, — прямо не выйдет, на кривой объезжать надо. Прикинулась весёлой, будто обрадовалась.
— Давно, — говорит, — завидки берут на тех девок да молодаек, коих в барский дом наряжают. Работа легонькая, а за большой урок им засчитывают. Сколько раз собиралась, да муж не пускал, а ещё на меня же сваливает. Хорошо, что сами пришли. Рада-радёхонька хоть одним глазком поглядеть, как барин поживает, на какой постелюшке спит-почивает.
Обошла этак посланцев словами да и говорит:
— Приодеться дозвольте. Негоже в барский дом растрёпой показаться.
Посланцы видят, — не супротивничает баба, доверились ей. Глафира выбрала из сундука сарафан понаряднее, буски да ещё что прихватила, ширинку тоже и вывернулась в сенцы, будто умыться да переодеться. Сама первым делом приперла дверь чем пришлось, ухватила из угла лопатку и шмыгнула огородами.
Время летнее. К вечеру клонилось, а ещё долго светло будет. Глафира и думает: как быть? Посланцы бариновы не больно долго задержатся, из окошка вылезут и поиск учинят. Надо хоть до лесу добежать, а там не поймают. Вот и поторапливается, а дорогу только в одну сторону знает — к Шарташу.
Город в те годы не больно велик был. Избушка по-за крепости стояла. Глафира без хлопот и выбралась. Отдышалась, потише по лесу пошла, а сама думает: куда? В таких мыслях добралась до Шарташа-озера. По вечернему времени вода тихая да ласковая. Рыба в озере, видать, сытёхонька: не мечется за мошкой, а только плавится, хребтовое перо кажет. Круги по воде от этого идут, а плёску не слышно.
Отошла Глафира от тропочки, села на береговом камне, а в голове одно: сколько ни прикидывай, а нет ходу, как в воду. Женщина молодая, в полной силе пути не исхожены, смерть не манит, а что сделаешь? Хлеба с собой ни крошки, в одной руке лопата, в другой — узелок с праздничным нарядом. Вспомнила про узелок, поглядеть захотелось. Известно, женщина… В последний, может, разочек. Развернула. Полюбовалась там разными проймами-прошвами да позументом, буски на себя нацепила, погляделась в воду и говорит шуткой:
— Нарядиться вот да пойти в Вавилову яму. Не возьмёт ли меня змей Дайко себе в жёны? Иначе дороги нет. От церковников убежала, от своих проклята, а раков озёрных кормить неохота.
Потом по-другому подумала.
— Может, этот праздничный наряд для дела пригодится. В ношёбном-то меня многие видали. Вот я оставлю его на тропе, а сама в праздничном уйду. Найдут, — скажут, утопилась, и делу конец.
Подумала так и давай переодеваться. Не утерпела, погляделась в воду и говорит:
— Не может того быть, чтоб ни одного дитёнка не выкормить! Не в одном городе да Шарташе люди живут. Подальше уйду, а свою долю найду!
Сказала так и ровно переменилась. Скоренько оделась в праздничный наряд, буски на себя пристроила и пошла дальше невеста невестой. Про горькую долю думать забыла, сторожиться стала. По счастью, ни одного встречного, ни попутчика не оказалось. Прошла мимо Шарташа. Дорога тут густым лесом, а уж к потёмкам близко. Волков по летнему времени не опасайся, а всё-таки в потёмках идти несподручно. Глафира тогда и придумала:
— А что если мне в той ямке, какую с Вавилом рыли, переждать до свету.
Забавно показалось, как про это вспомнила. Ну, и пошла. Место она хорошо знала. Пришла ещё на свету. Видит, — перемена большая вышла. Яма много обширнее стала и всё сделано по-хозяйски. Подивилась: неуж Вавило такое может? Валок с бадьёй пристроен, а вместо суковатой жердины для спуска лесенка хорошая устроена. Глафира раздумывать долго не стала, спустилась в яму. Ступенек десятка полтора оказалось. Темненько там, а разобрать можно, что всё по-хорошему ведётся, и сухо в той ямке. Глафира затуманилась, позавидовала:
— Бывают же мужики!
Неохота ей после того стало из ямы выходить. Нашарила рукой выступ да и села тут. Припомнилось ей, как Звонец про золотого змея Дайка рассказывал. Думала-думала об этом и задремала. Только это ей как явь показалось.
Сидит будто она на дне большого-пребольшого озера. Во все стороны этакое серое сголуба, на воду походит, и дно, как в озере, где помельче, где поглубже. На дне трава да коренья разные. Одни кверху вроде деревьев тянутся, другие понизу стелются, вроде, скажем, конотопа, только много больше. Меж теми, что с деревьями вровень, какие-то веревки понавешаны. Толстенные и скрасна показывают. В промежутках везде змеи. Одни ближе к земле, другие поглубже, и рост у них разный. Сходство меж ними в том, что на каждом змее как обручи набиты, и блестят те обручи золотыми искрами и каменьями переливаются. Глядит Глафира и думает:
— Вот оно что! Не один Дайко-то, а много их!
С этим проснулась да опять заснула и точь-в-точь тот же сон видит. Один змей совсем близко. Руку протяни — обруч достать можно. Глафира сперва испугалась, думала — живой змей-то. Змей пошевеливается, как вот намокшее в воде бревно, а жизни не оказывает. И большой. Где у него голова, где хвост, не разглядишь, только золотой шапки не видно. Пригляделась этак-то Глафира и бояться перестала. Обруч, который поближе, разглядывает, а это вовсе и не обруч, а вроде сквозной рассечки. Камешки тут беленькие и цветные тоже, золотых капелек много, и комышки золота видно. И до того всё явственно, что Глафира, как проснулась, приметку острым камешком поставила, в котором месте обруч ближе приходится.
Видит, вовсе светло. Собралась из ямы подыматься, а какой-то мужик по лесенке спускается. Глафира, чтоб врасплох не потревожить человека, говорит:
— Погоди, дяденька, дай сперва мне выбраться!
Мужик вскинулся, а не испугался, вроде даже обрадовался:
— Пришла-таки? Ну-ко, кажись, кажись! Какая в мою долю ввязалась?
Глафира удивилась, что он такое говорит. Выбралась поскорей из ямы, глядит, а это Перфил. Из семерых-то братьев, жена у которого в скиты ушла. Перфил тоже Глафиру признал. Он годов на десяток постарше был, с малых лет её видел. Приметная ему чем-то ещё в девчонках была. И потом, когда полной невестой стала, Перфил на неё поглядывал, а случалось, и вздыхал:
— Даст же бог кому-то экое счастье! Не то, что моя Минодора. Только и знает, что поклоны по лестовке считать да перед божницей на коленках ползать.
Судьбу Глафиры Перфил хорошо знал и дивился, сколь она нескладно повернулась. Когда скитники-начетчики принялись голосить насчёт проклятия Глафире, Перфил дал такого тумака Звонцу, что тот, почитай, месяц отлёживался и вовсе без пути языком болтал. Кто ни подойдёт, одно слышит.
— Дайко-змей, Золотая шапка, дай мне за кисточку от твоего пояска подержаться!
Потом, как отлежался, со свидетелями к Перфилу пришёл доспрашиваться: за что? Перфил на это и говорит:
— Считай, как тебе любо, да вперёд мне под руку не подвёртывайся. Рука у меня, видишь, тяжёлая, может сразу покойником сделать. Тогда вовсе не догадаешься, — за что?
Из-за этого случаю у Перфила с братьями рассорка вышла. Они, конечно, против скитников зуб имели и Звонца крепко недолюбливали, а всё-таки укорили брата:
— Нельзя этак-то смертным боем хлестать ни за что, ни про что. То, поди, живое дыхание, хоть и Звонец!
Перфил на это своё говорит:
— То и горе, что с дыханием посчитался, ослабу руке дал. Кончить бы надо!
Братья, понятно, заспорили. Перфил тоже, так и рассорились. С тех пор Перфил на отшибе от своих стал. А того никому не сказал, что за Глафиру этак употчевал Звонца. Теперь видит, — эта самая Глафира, живая, молодая, по-праздничному одетая, выходит из его ямы. У Перфила руки врозь пошли. Спрашивает:
— Как ты из города ушла?
Глафира без утайки всё ему рассказала, что с ней в городе случилось. Перфил слушает да зубами скрипит, потом опять спрашивает:
— Как ты в мою яму попала?
Она и это рассказала. Тогда Перфил расстегнул ворот рубахи и показывает перстень.
— Не твой ли на гайтане ношу?
— Мой, — отвечает.
— То-то он мне по душе пришёлся. Нашёл эту ямку. Вижу, — кто-то начал да бросил. Полюбопытствовал, нет ли чего? Тоже бросить хотел, да вот перстень этот мне и попался. Перстенёк, гляжу немудренький, а чем-то он меня обрадовал и вроде обнадёжил. С той поры и ношу на гайтане с крестом и всё поджидаю, не покажется ли хозяйка перстенька. Вот ты и пришла. Теперь осталось какого-нибудь толку от ямы добиться.
— Не беспокойся, — говорит, — толк будет!
И рассказала по порядку, что ночью в яме видала.
— Про золотого змея Дайка, — отвечает, — много в Шарташе разговору было. Звонец вон, как его кто-то стукнул, чуть не месяц про этого Дайка бормотал. Всё просил за кисточку какую-то подержаться, да не допросился, видно. Может, и твоё виденье — обман, а всё-таки попытать надо. Только просить-молить не стану. Не Звонец, поди-ка, я. Лучше тому Дайку погрожу, — не испугается ли?
Спустились оба в яму. Показала Глафира свою приметку. Вдарил Перфил против этого места, а сам приговаривает:
— Подай-ко, Дайко, свой пояс! Не отдашь добром, тебя разобьём, под пестами столчём, а своё добудем!
Маленько поколотился, дошёл до поперечной жилки, а там хрустали да золотая руда, самая богатая. Сколько-то и комышков золотых попалось. Радуются, конечно, оба, потом Глафира и говорит:
— Надо мне, Перфил, дальше идти. Тут не укроешься, найдут. Скажи хоть до какого места мне теперь добираться. Да не найдётся ли кусочка на дорогу?
Перфила даже оторопь взяла:
— Как ты, Гранюшка, могла такое молвить? Куда ты от меня пойдёшь, коли мы с тобой кольцом через землю обручённые? Да я тебя, может, с тех годов ждал, как ты ещё девчонкой-несмыслёнышем бегала.
Тут обхватил её в полную руку и говорит решительно:
— Никуда ты не пойдёшь! Избушка у меня по нагорью поставлена. Хозяйкой будешь. Никто тебя не найдёт. А кто сунется — не обрадуется. Не обрадуется! В случае тогда оба в Сибирь подадимся. Ладно?
Глафира из-под руки не вырывается. На улыбе стоит, как вешний цветок под солнышком, и говорит тихонько:
— Так, видно… Коли старым не укоришь да проклятья не побоишься, так я тебе… через землю венчанная… до гробовой доски.
На том и сладились. Перфил, конечно, в полное плечо Глафире пришёлся. Мужик усердный да работящий, заботливый да смекалистый. И за себя постоять мог, а за жену особливо. Сперва-то поговаривали, — она, дескать, проклятая, такую держать нельзя. Другие опять городских опасались, — потянут за укрывательство беглой. Перфил со всеми такими столь твёрдо поговорил, что потом его-то избушку стороной обходили.
— Свяжись, — говорят, — с этим чортушком, — до поры в могилу загонит. Ничего не щадит, кто про его Глафиру нескладно скажет.
Прожили свой век по-хорошему. Не всегда, конечно, досыта хлебали, да остуды меж собой не знали, а это в семейном деле дороже всего. Ребят Глафира навела… целую рощу! Парней хоть всех в Преображенский полк записывай. И девки не отстали. Рослые да здоровые, а красотой в мать. На что Михей Кончина строгого слова человек, и тот по ребятам сестру признал. Седой уж в ту пору был, а смирился. Зашёл как-то в избу и говорит:
— Ладные у тебя, сестра, ребята. Вовсе ладные. Не тем, видно, богам скитники кадили, когда тебя проклинали. Оно и к лучшему. Худой травы и без того много. Её вымаливать не к чему.
Как до бабкиных годов Глафира достукалась, так внучатам и счёт потеряла. Это Перфилово да Глафирино поколенье не один дом тут поставило. Завязку, можно сказать, нашему заводу сделало. Конечно, и других много было. Ну, эти — коренники. От них, может, и словинка про Дайка пошла.
Теперь это вроде забавы. Известно, при солнышке идёшь, ногой зацепить не за что, а по той же дороге в потёмках пойди — всё пороги да ямины. То же и с золотом. Нынешние вон дивятся, почему старики только поперечные жилки выбирали, а остальное в отвалы сбрасывали. А по делу надо тому дивиться, как старики до этого дошли, когда никто ничего по золотому делу не знал, а в письменности была одна посказулька про страшного золотого змея.
Этого вот забывать не след. Что нынешнему человеку просто кажется, то старикам большим потом да мукой досталось. Хоть бы Брусницынское золото взять. Не слыхали про такое? Ну ладно, в другой раз расскажу.
1945 г.
Васина гора
овным-то местом мы тут не больно богаты. Всё у нас горы да ложки, ложки да горы. Не обойдёшь их, не объедешь. Конечно, гора горе рознь. Иную никто в примету не берёт, а другую не то что в своей округе, а и дальние люди знают: на слуху она, на славе.
Одна такая гора у самого нашего завода пришлась. Сперва с версту, а то и больше такой тянигуж, что и крепкая лошадка и налегке идёт, а вся в мыле. Дальше ещё надо взлобышек одолеть, вроде гребешка самого трудного подъёму. Что говорить, приметная горка. Раз пройдёшь, либо проедешь, надолго запомнишь и другим сказывать станешь.
По самому гребню этой горы проходила грань: кончался наш заводский выгон и начиналась казённая лесная дача. Тут, ясное дело, загородка была поставлена, и проездные ворота имелись. Только эти ворота — одна видимость. По старому трактовому положению их и на минуту запереть было нельзя. Железных дорог в ту пору по здешним краям не было, и по главному Сибирскому тракту шли и ехали, можно сказать, без передышки, днём и ночью.
Скотину в ту сторону пустить хуже всего, потому сразу от загородки шёл вековой ельник, самое глухое место. Какая коровёнка либо овечка проберётся, — не найдёшь её, а скаты горы не зря звались Волчьими падями. Зимами и люди мимо них с опаской ходили, даром что рядом Сибирский тракт гудел.
Сторожить в таком месте у проездных ворот не всякому доверишь. Надёжный человек требуется. Наши общественники долго такого искали. Нашли всё-таки. Из служивых был, Васильем звали, а как по отчеству да по прозванью, не знаю. Из здешних родом. В молодых годах его на службу взяли, да он скоро отвоевался: пришёл домой на деревяжке.
Близких родных, видно, у этого Василья не было. Своего семейства не завёл. Так и жил бобылём в своей избушке, а она как раз в той стороне, где эта самая гора. Пенсион солдатский по старому положению в копейках на год считался, на хлеб не хватало, а кормиться чем-то надо. Василий и приспособился, по-нашему сказать, к сидячему ремеслу: чеботарил по малости, хомуты поправлял, корзинки на продажу плёл, разную мелочь ко кроснам налаживал. Работа всё копеечная, не разживёшься от такой. Василий хоть не жаловался, а всем видно было, — бьётся мужик. Тогда общественники и говорят:
— Чем тебе тут сидеть, переходи-ка в избушку при проездных воротах. Приплачивать будем как за караул.
— Почему, — отвечает, — миру не послужить? Только мне на деревяге-то не больно способно скотину отгонять. Коли какого мальчонку в подручные ставить будете, так и разговору конец.
Общественники согласились, и вскоре этот служивый перебрался в избушку при проездных воротах. Избушка, понятно, маленькая, полевая, да много ли бобылю надо: печурку, чтоб похлёбку либо кашу сварить, нары для спанья да место пред окошком, где чеботарскую седулку поставить. Василий и прижился тут на долгие годы. Сперва его дядей Васей звали, потом стал дед Василий. И за горой его имя укоренилось. Не то что наши заводские, а и чужедальние, кому часто приходилось ездить, либо с обозами ходить по Сибирскому тракту, знали Васину гору. Многие проезжающие знали и самого старика. Иной раз покупали у него разную поделку, подшучивали:
— Ты, бы дед, хоть по вершку в год гору снимал, всё-таки легче бы стало.
Дед на это одно говорил:
— Не снимать, а наращивать надо, потому эта гора на пользу человеку.
Проезжающие начнут доспрашиваться, почему так. Ну дед Василий всегда эти разговоры отводил:
— Поедешь дальше, делать-то в дороге нечего, ты и подумай!
Подручных ребятишек у деда Василья перебывало много. Поставят какого-нибудь мальчонку-десятилетка из сироток, он и ходит при этом деле год либо два, пока для другой работы не подрастёт, а дальше к деду Василью другого нарядят. А ведь годы-то наши, как вешний ручей с горы: столь круто бегут, что и глазом не уследишь. Через десяток годов первые подручные, глядишь, сами семьями обзавелись, а через другой десяток у них свои парнишки в подручные к деду Василью поспели. Так и накопилось в нашем заводе этих выучеников Васиной горы не один десяток. Разных, понятно, лет. Одни ещё вовсе молодые, другие в полной поре, были и такие, что до седых волос дотянулись, а примета у всех их одна: на работу не боязливый при трудном случае руками не разводят. Да ещё приметили люди, что эти выученики Васиной горы стараются своих ребятишек хоть на один год пристроить в подручные к деду Василью. И не от сиротства либо недостатков, а при полной даже хозяйственности.
Случалось, перекорялись из-за этого: моя, дескать, очередь, твой-то парнишка годик и подождать может, а моему самая пора.
Люди, конечно, любопытствовали, в чём тут штука, а выученики Васиной горы и не таились. В досужий час сами любили порассказать, как они в подручных у деда Васи ходили и чему научились. Всяк, понятно, говорил своим словом, а на одно выходило.
Место у проездных ворот на Васиной горе вовсе хлопотливое было. Не только за скотом, а и за обозниками доглядывать требовалось. На большой-то дороге, известно, без баловства не проходит. Иной обозник где-нибудь поближе к выезду из завода прихватит барашка да и ведёт его потихоньку за своим возом. Забивать опасались, потому до смертного случаю тогда достукаться можно. Наши заводские сами на большой дороге выросли. Им в таком разе щадить обозников не доводилось. С живым бараном куда легче. Всегда отговориться можно: подобрали приблудного, сам увязался, за хлебушком, видно, тянется, отогнать не можем. А отдадут— и вовсе никто вязаться не станет. Поругаются только вдогонку да погрозят. Караулу при проездных воротах, выходит, крепко посматривать надо было.
Ну, всё-таки, сколь ни беспокойно, а досуг тоже был. Старик в эти часы за работой сидел, а мальчонке что делать? Отлучаться в лес либо ещё куда старик не дозволял. Известно, солдатская косточка, приучен к службе. С караула разве можно? Строго на этот счёт у него велось. Парнишке, значит, в такие часы одна забава — на прохожих да проезжих глядеть. А тракт в том месте, как по линейке, вытянулся. С вершины в ту и другую сторону далеко видно, кто поднимается, кто спускается. Поглядит этак, поглядит мальчонка да и спрашивает у старика:
— Дедо, я вот что приметил. Подымется человек, хоть с той, хоть с другой стороны, на нашу гору и непременно оглянется, а дальше разница выходит. Один, будто и силы небольшой, и на возрасте, пойдёт веселёхонек, как в живой воде искупался, а другой, случается, по виду могутный, — голову повесит, как ушибли его. Почему такое?
Дед Василий и говорит:
— А ты сам спроси у них, чего они позади себя ищут, тогда и узнаешь.
Мальчонка так и делает, начинает у прохожих спрашивать, зачем они на перевале горы оглядываются. Иной, понятно, и цыкнет, а другой отвечает честью. Только вот диво, — ответы тоже на два конца. Те, кто дальше весёлыми идут, говорят:
— Ну, как не поглядеть! Экую гору одолел, дальше и бояться нечего. Всякую одолею. Потому мне и весело.
Другие опять стонут:
— Вон на какую гору взобрался, самая бы пора отдохнуть, а ещё идти надо!
Эти вот и плетутся, как связанные, смотреть на них тошно.
Расскажет мальчонка про эти разговоры старику, а тот и объясняет:
— Вот видишь, — гора на дороге человеку силу показывает. Иной по ровному-то месту, может, весь свой век пройдёт да так своей силы и не узнает. А как случится ему на гору подняться вроде нашей, с гребешком, да поглядит он назад, тогда и поймёт, что он сделать может. От этого, глядишь, в работе подмога, и жить веселее. Ну, и слабого человека гора в полную меру показывает: трухляк, дескать, кислая кошма, на подмётки не годится.
Мальчонке, понятно, неохота в трухляки попасть, он и хвалится:
— Дедо, я на эту гору ежедень бегом могу. Вот погляди!
Старик посмеивается:
— Ну, что ж. Худого в том нет. Может, когда и пригодится для дела. Только то помни, что не всякая гора наружу выходит. Главная гора — работа. Коли её пугаться не станешь, то и вовсе ладно будет.
Так и учил дедушка Василий своих подручных, а те своим ребятишкам это передали. И до того в наших местах укоренилось, что Васина гора силу человека показывает, что парни нарочно на перевал бегали, подкарауливали своих невест. Узнают, скажем, что девки за гору ушли по грибы либо по ягоды, и ждут, чтоб посмотреть на свою невесту на самом гребешке: то ли она голову повесит, то ли песню запоёт.
Невесты тоже в долгу не оставались. Каждая при ловком случае старалась подглядеть, как её суженый себя покажет на гребешке Васиной горы.
— И сейчас у нас гора эта не забыта. Часто её поминают. И не для рассказа про старое, а прямо к теперешнему прикладывают.
— Вот война-то была. Это такая гора, что и поглядеть страшно, а ведь одолели. Сами не знали, что в народе столько силы найдётся, а гора показала. Как новый широкий путь открыла. Коли такое сделали, то и дальше никакая гора на дороге не остановит наш народ.
1946 г.
Старых гор подаренье
то ведь никогда не разберёшь, где старое кончается, где новое начинается. Иное вчера делано, а думка от дедов-прадедов пришла. Вот и раздели концы! Недавно вон у нас на заводе случай вышел. Стали наши заводские готовить оружие в подарок первому человеку нашей страны. Всяк, понятно, старался придумать как можно лучше. Спорили немало. Наконец, придумали, что всем по душе пришлось и совсем за новое показалось. Старый мастер, когда ему сказали о форме, разделке стальной полосы и узоре, тоже похвалил выдумку, потом и говорит:
— Ежели эту ниточку до конца размотать, так, пожалуй, до старого сказа дойдёшь. Не умею только сказать, то ли он башкирский, то ли русский.
По нашим местам в этом деле, — и верно, — смешицы много. Бывает, что в русской семье поминают бабку Фатыму, а в башкирской, наоборот, какая-нибудь наша Маша-Наташа замешалась. Известно, с давних годов башкиры с русскими при одном деле на заводах стояли, на рудниках да приисках рядом работали. При таком положении немудрено, что люди и песней и сказкой и кровями перепутались. Не сразу разберёшь, что откуда пришло. Да и привычны мы к этому. Никто за диво не считает. А про сказ всё-таки стали спрашивать. Старый мастер упираться и не подумал.
— Было, — говорит, — ещё в те годы, как я вовсе молодым парнишкой на завод поступил. С полсотни годов с той поры прошло.
— В цеху, где оружие отделывали да украшали, случилась нежданная остановка. Позолотчики сплоховали: до того напустили своих едучих зелёных паров, что всем пришлось на улицу выбежать. Ну, прокашлялись, прочихались, отдышались и пристроились передохнуть маленько. Кто цыгарку свернул на тройной заряд, кто трубку набил с верхушкой, а кто и просто разохотился на голубой денёк поглядеть. Уселись как пришлось и завели разговор. Рисовщик тогда у нас был. Перфишей звали. По мастерству из средненьких, а горячий и на чужую провинку больше всех пышкал. Такое ему и прозванье было — Перфиша Пышкало. Он, помню, и начал разговор. Сперва на позолотчиков принялся ворчать, да видит, — остальные помалкивают, потому — всяк про себя думает: с коим ошибки не случается. Перфиша чует, — не в лад пошло, и переменил разговор. Давай ругать эфиопского царя:
— Такой-сякой! И штаны-то, сказывают, в его державе носить не научились, а мы из-за него задыхайся!
Другие урезонивают Перфишу:
— Не наше дело разбирать, какой он царь! Заказ кабинетский, первостатейный, и должны мы выполнить его по совести, чтоб не стыдно было своё заводское клеймо поставить!
Перфиша всё-таки не унимается:
— Стараемся, как для понимающего какого, а что он знает, твой эфиопский царь. Наляпать попестрее да поглазастее — ему в самый раз, и нам хлопот меньше!
Тут кто-то из молодых стал рассказывать про Эфиопию. Сторона, дескать, жаркая и не очень чтоб грамотная, а себя потерять не желает. На неё другие больно грамотные давно зубы точат, а она не поддаётся. И царь у них, по-тамошнему негус, в том деле заодно с народом. А веры они, эти эфиопы, нашей же, русской. Потому, видно, и придумали кабинетский подарок в Эфиопию послать.
С этого думки у людей и пошли по другим дорожкам. Всем будто веселее стало. По-хорошему заговорили об эфиопах.
— Настоящий народ, коли себя отстоять умеет. И царь, видно, у них с понятием. А что одежда у них по-другому против нашего, так это пустяк. Не по штанам человеку честь.
Перфиша видит, — разговор вовсе не в ту сторону пошёл, захотел поправиться да и ляпнул:
— Коли так, то надо бы этому эфиопскому царю не меч сделать, а шашку на манер той, какая, сказывают, у Салавата была.
Тут Митрич, самый знаменитый по тем годам мастер, даже руками замахал.
— Что ты, Перфиша, этакое не подумавши говоришь! Деды-то наши, поди, не на царя ту шашку задумали!
Наш брат — молодые, кто про эту штуку не слыхал, начали просить: — расскажи, дедушка Митрич! — А старик и не отговаривался:
— Почему не рассказать, если досуг выдался. Тоже ведь сказы не зря придуманы. Иные — в покор, иные — в наученье, а есть и такие, что вместо фонарика впереди. Вот слушайте.
Сперва в этом сказе о Салавате говорится, что за человек был. Только по нашим местам об этом рассказывать нет надобности, потому как про такое все знают. Тот самый Салават, который у башкир на самой большой славе из всех старинных вожаков. При Пугачёве большую силу имел. Прямо сказать, правая рука. По письменности, сказывают, Салавата потом казнили царицыны прислужники, только башкиры этому не верят. Говорят, что Салават на Таганай ушёл, а оттуда на луну перебрался. Так вот с этим Салаватом такой случай вышел.
Едет он раз близко здешних мест со своим войском. Дорога по ложку пришлась. Место узкое. Больше четырёх конников в ряд не войдёт. Салават по своему обычаю впереди. Вдруг на повороте выскочил вершник. В башкирских ичигах, в бешмете, а шапка русская, с высоким бараньим околышем, с суконным верхом. И обличьем этот человек на русскую стать, — с кудрявой бородой широкого окладу. В немолодых годах, — в бороде седины много. Конёк под ним соловенький не больно велик, да самых высоких статей: глаз горячий, навес, то есть, грива, чолка и хвост — загляденье, а ножки подсушены, стрункой. Тронь такого, — мелькнёт и не увидишь.
Башкиры — конники врождённые. При встрече сперва лошадь оглядят, потом на человека посмотрят. Все, кому видно было, и уставились на этого конька, и Салават тоже. Никто не подумал, откуда вершник появился, и не следует ли тут чего остерегаться. У каждого одно на уме: такого бы конька залучить! Иные за арканы взялись. Не обернётся ли дело так, чтоб захватом добыть. Все смотрят на Салавата, что он скажет, а тот и сам на конька загляделся. Под Салаватом, конечно, конь добрый был. Богатырский вороной жеребец, а соловенький всё-таки ещё краше показался. Закричал Салават:
— Эй, бабай, давай коням мену делать!
Вершник посмотрел этак усмешливо и говорит:
— Нет, батырь Салават. Не за тем я к тебе послан. Подаренье старых гор привёз. Шашку!
Салават удивился — на что мне шашка, когда у меня надёжная сабля есть. Вот гляди!
Выхватил саблю из ножен и показывает. Сабля, — и точно, — редкостного булату и богато украшена. На крыже и головке дорогие камни, а по всей полосе золотая насечка кудрявого узора. Ножны так и сверкают золотом да дорогими каменьями.
— Лучше не найдёшь! — похвалился Салават: — сам батька-государь пожаловал. Ни за что с ней не расстанусь!
Вершник опять усмехнулся:
— Давно ли ты, батырь, считал своего вороного первым конём, а теперь говоришь мне: давай меняться. Как бы и с шашкой того не случилось. Батька Омельян, конечно, большой человек, и сабля его дорогого стоит, а всё-таки не равняться ей с подареньем старых гор. Принимай!
Подъехал к Салавату, снял по русскому обычаю шапку, а с коня не слез и подает шашку. Пошире она сабли, с пологим выгибом, в гладких ножнах. На них узор серебряный заподлицо вделан, как спрятан. Казового будто и ничего нет, а тянет шашка к себе. Сунул Салават свою саблю в ножны, принял шашку и чует, — не лёгонькая, как раз по руке. Вытащил из ножен — обомлел: там в полосе молнии сбились, вот-вот разлетятся. Махнул, — молнии посыпались, а шашка целёхонька.
— А ну, на крепость! — кричит Салават. Подлетел к большой сосне, а они ведь у нас, сами знаете, какие по горам растут. Как камень, на воде тонут. Рубнул Салават сналёту во всю силу и думает, — посмотрю, какую зарубку оставит, если не переломится. Шашка прошла сосну, как прутик какой. Повалилась сосна, чуть Салавата с конём не пришибла. Вершник приезжий тогда и спрашивает:
— Разумеешь, батырь Салават?
— Разумею, — отвечает, — другой такой шашки на свете быть не может. Из своих рук ни в жизнь не выпущу!
— Не торопись со словами, Салават, — оговорил его приезжий: — сперва наказ послушай!
— Какой ещё наказ, — загорячился Салават: — сказал, — не выпущу из своих рук, пока жив! Тут и наказ весь!
— Этого, — отвечает, — и я тебе желаю, да не в моей силе то сделать. Шашка, сам видишь, не простая. По-доброму её надо бы батьке Омельяну, как первому вожаку, да жил он всяковато: в его руке шашка силу потеряет. Ты молодой, корыстью тебя никто не укорил, тебе и послали не в малый дар. Знаешь, как при русских свадьбах бывает. На посыл жениха невеста со сватом посылает сперва малый дар. Он, может, и самый дорогой, да посылается не на вовсе, а вроде как для проверки… Невеста вольна во всякое время взять малый дар обратно. Так ты и знай! Будет эта шашка твоей, пока ничем худым и корыстным себя не запятнал. Если в том удержишься, эту шашку тебе, может, и в большой дар отдадут, навсегда, то есть.
— А как это узнать, — спрашивает Салават.
— Об этом не беспокойся. Явственно будет показано, а как— того не ведаю.
На Салавата тут раздумье нашло:
— Что будет, если со мной ошибка случится?
— Шашка силу потеряет и на весь твой народ беду приведёт, если не вернёшь шашку в гору.
— Как тебя найти? — спрашивает Салават.
— Меня больше не увидишь, а должен ты найти девицу, чтобы она жизни своей не пожалела, в гору пошла с шашкой. Там шашка снова свою силу получит, и опять вынесут её из горы. Не знаю только, когда это будет и кому та шашка достанется.
Выслушал Салават и говорит:
— Понял, бабай, твоё слово, постараюсь не ослабить силу подаренья гор, а случится беда, — выполню второй твой наказ. Одно скажи, можно ли в случае послать с шашкой в гору свою жену?
— Это, — отвечает, — можно, лишь бы по доброй воле пошла.
Салават обнадёжил: — В том не сомневайся, любая из моих жён с радостью пойдёт, коли надобность случится.
Вершник ещё напомнил: — Коли на себя потянешь, потеряет шашка силу, а если станешь заботиться о всём народе, без различии роду-племени, родных-знакомых, никто против тебя не устоит.
На том и кончили разговор. Тут приезжий посмотрел на арканников, кои с его коня глаз не сводили, усмехнулся и говорит:
— Ну, что ж, играть, так играть! За тем вон выступом еланка откроется, там и сделаем байгу. Кто заарканит моего Соловка на ходу, тот и владей им без помехи. Не удастся заарканить — тоже польза: в головах посветлеет.
Все, кто арканы наготовили, рады-радёхоньки: почему счастья не попытать. Живо вперёд вылетели. Отъехали маленько, там, верно, открылась широкая еланка в горах. Вершник подался шагов на десяток вперёд, поставил коня поперёк дороги, показал рукой на горы и говорит: — Туда скакать буду, а уговор такой: рукой махну — ловите!
Кто со стороны на это дело глядел, дивятся, почему так мало забегу взял, зачем коня поперёк дороги поставил, как нарочно подогнал, чтоб заарканить было легче. В арканниках-то один вовсе мастер этого дела считался. Мужичина здоровенный, и лошадка у него как придумана для этой штуки: на долгий гон терпелива и на крутую наддачу способная. Все и думают: непременно Фаглазам конька заарканит. Тут вершник сказал своему Соловку тихое слово, махнул рукой — и в глазах у всех как марево промелькнуло. Стали потом искать, куда вершник подевался. Доехали до того камня, на какой он указывал, и видят: на синем камне золотыми искриночками обозначено, будто тут вершник на коне проехал. Тогда вот в головах-то и посветлело. На арканников накинулись, как они смели затеять охоту на коня такого посланца. Самого Салавата окружили, давай доспрашивать, — о чём приезжий говорил? Салават рассказал без утайки, а ему наказывают:
— Гляди, батырь, чтоб шашка у тебя силу не потеряла. О себе не думай, о народе заботься. Родне поблажки не давай, в племенах различки не делай!
Салават уверил, — так и будет. И верно, долгое время своё слово твёрдо держал, и подаренье гор ему служило так, что никакая сила против Салавата устоять не могла. Ну, всё-таки промахнулся. Родня с толку сбила. В роду-то у Салавата всё-таки большие земли были, а заводчик Твердышев насильством тут завод построил да ещё две деревни населил пригнанными крепостными, чтоб они дрова рубили, уголь жгли и всё такое для завода делали. Родня и стала подбивать Салавата: сгони завод и деревни с наших земель. Захватом, поди-ка, эта земля взята. Правильно сделаешь, коли прогонишь. Салават сперва остерегался. Два раза побывал в том заводе и деревне и оба раза с какой-то девушкой разговор имел. Тут родня и поднялась: — Ты, дескать, в неверную сторону пошёл, от родных отмахнулся! А жёны завыли: «променял нас на русскую девку!» Не устоял Салават, сделал со своей роднёй набег на завод и деревни.
— Убирайтесь, — кричит, — откуда пришли!
Люди ему объясняют, — не своей волей пришли, а родня и слушать такой разговор не даёт. Кончилось тем, что завод и обе деревни сожгли и народ разогнали. С той поры шашка у Салавата и перестала молнии пускать. В войске сразу об этом узнали. Да и как не узнать, коли Салават дважды раненым оказался, а раньше этого не бывало. Тут и всё дело Пугачева покачнулось, под гору пошло. Со всех сторон теснят его царицыны войска. Тогда Салават собрал остатки своих верных войсковых людей, захватил своих жён и прямо к Таганаю. Подошёл к горе, снял с себя шашку, подал жене и говорит: — Возьми, Фарида, эту шашку и ступай в гору, а я на вершину поднимусь. Когда шашка прежнюю силу получит, вынесешь её из горы, и я к тебе спущусь.
Фарида давай отнекиваться: — непривычна к потёмкам, боюсь одна, тоскливо там. Салават рассердился, говорит другой жене:
— Иди ты, Нафиса!
Эта тоже отговорку нашла: — Фарида у тебя любимая жена. Её первую послал, пусть она и несёт шашку!
У Салавата и руки опустились, потому — помнит, — надо, чтоб своей волей пошла, а то гора не пустит. Как быть? Аксакалы войсковые да и всё войско забеспокоились, принялись уговаривать женщин.
— Неуж вы такие бесчувственные? Всему народу беда, а они перекоряются! Которая пойдёт, добрую память о себе в народе оставит, а не пойдёт— всё равно и вам и нам не житьё.
Бабёнки, видно, вовсе набалованные. Одно понимали, как бы весело да богато прожить. Заголосили на всю округу, а перекоряться не забыли:
— Не на то меня замуж отдавали, чтобы в гору загонять! Пусть Нафиса идёт!
Другая это же выпевает, а в конце кричит:
— Пускай Фарида идёт! С её-то рожей самая стать в горе сидеть?
Одним словом, слушать тошно, и конца не видно. Только вдруг объявилась девица из разорённой деревни. Та самая, с коей Салават два раза разговаривал. Посмотрела строго и говорит Салавату:
— Прогони бабёнок! Разве это батырю жёны? И родню твою тоже! Оставь одних верных войсковых людей, с коими по всей правде за народ воевал! Тогда поговорим.
Салават видит, — не спроста пришла, велел сделать, как она сказала. Конники враз налетели, давай родню выгонять, а женёнки сами убежали, обрадовались, что в гору не идти. Как бабьего визгу-причёту не стало, девица и говорит:
— Пришла я, батырь Салават, своей волей. Не жалею своей молодой жизни, чтоб тебе пособить и народ из беды выручить. О шашке, что у тебя в руке, мне многое ведомо. Веришь ли ты мне?
— Верю, — отвечает Салават.
— А веришь, так подавай подаренье старых гор!
Поглядел Салават на своих верных конников. Те головами знак подают: отдавай, не сомневайся! Поклонился Салават низким поклоном, поднял голову и видит, — девица в другом наряде оказалась. До того была в худеньком платьишке, в обутках, в полинялом платчишке, а тут на ней богатый сарафан рудяного цвету с серебряными травами да позументом, на ногах башкирские башмаки узорного сафьяну, на голове девичий козырёк горит дорогими камнями, а монисто башкирское. Самое богатое, — из одних золотых. Как прогрелось на груди, — так от него теплом да лаской и отдаёт.
«Вот она, невеста, за своим малым даром пришла», — подумал Салават. Подал он шашку.
Приняла девица обеими руками, держит перед собой, как на подносе, и улыбается:
— Оглядывался зачем?
Салават объяснил: хотел, дескать, узнать, верят ли тебе мои конники, а девица вздохнула:
— Эх, Салават, Салават! Кабы ты всегда так на народ оглядывался! Не слушал бы свою родню да жён! Каких только выбрал! Обнять тебя хотела на прощанье, да не могу, как на них поглядела. Так уж, видно, разойдёмся. Я — в гору, ты — на гору. По времени и мне придётся на вершине быть.
— Свидимся, значит, — обрадовался Салават.
— Нет, батырь Салават, больше не свидимся, и это старых гор подаренье тебе в руке не держать. На того оно ковано, кто никогда ничем своим не заслонил народное.
— Когда же, — спрашивает Салават, — ты на горе покажешься?
— Это, — отвечает, — мне неведомо. Знаю только, что буду на вершине, когда от всех наших гор и от других тоже огненные стрелы в небо пойдут. Над самым большим городом те стрелы сойдутся в круг, а в кругу будет огненными буквами написано имя того, кому старых гор подаренье навеки досталось.
Сказала так, повернулась и пошла к каменному выступу горы. Идёт, не торопится, чёрной косой в алых лентах чуть покачивает, а шашку несёт на вытянутых руках, будто на подносе. И тихо стало. Народу всё-таки много, а все как замерли, даже уздечка не звякнет.
Подошла девица к камню, оглянулась через плечо и тихонько молвила:
— Прощай, Салават! Прощай, мой батырь! — Потом выхватила шашку из ножен, будто давно к этому привычна, и рубнула перед камнем два раза на косой крест. По камню молнии заполыхали, смотреть людям не в силу. А как промигались, — никого перед камнем не оказалось. Подбежал Салават и другие к тому месту и видят, — по синему камню золотыми искриночками обозначено, как женщина прошла.
Рассказал это Митрич и спрашивает:
— Поняли, детушки, на кого наши деды своё самое дорогое заветили?
Мы наперебой кричим:
— Поняли, дедушка Митрич!
— А коли поняли, — говорит, — так сами сиднями не сидите, а всяк старайся тому делу пособлять, чтоб дедовская думка скорей явью стала. Может, кто из вас, молодых и доживёт до тех дней.
— Так оно и было, — добавил от себя мастер, передававший старый сказ: — На моих памятях немало наших в конники и войсковые люди того дела ушло, а потом, как свету прибавилось, и всем народом трудились. И вот дождались. Над самым большим нашим городом огненные стрелы сошлись в круг. И всякий видит в этом кругу имя того, кто показал народу его полную силу, кто непобедимым оружием народного единства разбил всех врагов и славу народа вывел на самую высокую вершину.
1946 г.
Далевое глядельце
наменитых горщиков по нашим местам немало бывало. Случались и такие, что по-настоящему учёные люди, академики их профессорами величали и не в шутку дивились, как они тонко горы узнали, даром что неграмотные.
Дело, понятно, не простое, — не ягодку с куста сорвать. Не зря одного такого прозвали Тяжёлой Котомкой. Немало он всякого камня на своей спине перетаскал. А сколько было похожено, сколь породы перекайлёно да переворочено, это и сосчитать нельзя.
Только и то сказать, этот горщик — Тяжёлая-то Котомка — не из первых был. Сам у кого-то учился, кто-то его натолкнул и на дорогу поставил. В Мурзинке будто эта зацепка случилась.
По нынешним временам про Мурзинку мало слышно, а раньше не так было. Слободой она считалась. От неё и другие селенья пошли, а сама она, сказывают, в Ермакову пору обосновалась, — вроде крепости по тем временам. Не раз её сжигали да разоряли. Да ведь русский корень! Разве его кто вырвать может, коли он за землю ухватился. Мало того, что отстроится слобода, а ещё во все стороны деревни выдвинет, вроде, сказать, заслонов.
Другая отличка Мурзинской слободы в том, что около неё нашли первое в нашем государстве цветное каменье. Нашёл-то камни Тумашев, в государеву казну представил и награду получил. Так по письменности значится, а на деле, может, кто из слободских Тумашеву место показал. Ну, это дело давнее, никому толком не ведомо; одно ясно, что с Мурзинки у нас и началась охота за весёлыми галечками, — каменное горе али каменная радость. Это уж кому как любо называй.
Ремесло-то это поисковое совсем особое. Конечно, каждый норовит на камешках кусок хлеба заработать. Только есть меж поисковиков и такие, что ни за какие деньги не отдадут камешок, который им полюбится. Вроде и ни к чему им, а до смерти хранят.
— С ним, — говорят, — жить веселее.
Ну, а корысти тут и вовсе без числа. Потому — около камешков в одночасье человек разбогатеть может. Таких скоробогатиков и набралось порядком в самой Мурзинке и по деревням, близ коих добыча велась. На перекупке больше наживались. Главное тут было угадать в сыром камне его настоящую цену.
Горщик, которого потом Тяжёлой Котомкой прозвали, в те годы парнишкой был. Родом-то он из Колташей ли из Черемисской, неподалёку от Мурзинки. Рос в сиротстве со своей бабушкой. Старушка старательная, без дела не сидела, только ведь старушечьим ремеслом — пряжей да вязаньем — не больно прокормишься. Парнишке и пришлось с малых лет кусок добывать. По сиротскому положению, ясное дело, не приходится работу выбирать: что случится, то и делал. Подпаском бывал, у богатых мужиков в работниках жил, на подённые работы хаживал. И звали его в ту пору Трошей Лёгоньким.
Раз Троша попал на каменные работы в горе, и оказалось, что парнишка на редкость приметливый на породу. Увидит где пласты и говорит: — А я этакое же видал в том-то месте. Проверят, — правильно. И в сыром камне живо наловчился разбираться. Через малое число годов старые старатели стали спрашивать:
— Погляди, Троша, камешок. Сколько, по-твоему, он стоит?
Так этот Троша Лёгонький и прижился в артели по каменному делу, только в Мурзинке ему ни разу бывать не приходилось. А там тоже приметили Трошу. Приметил самоглавный тамошний богатей. Он, видишь, больше всех на перекупке раздулся, а остарел, плохо видеть стал, оплошка в покупке пошла. Он и придумал:
— Возьму-ка я этого Лёгонького к себе в дом да для верности женю на Аниске, а то вовсе изболталась девка, сладу с ней нет.
Дочь-то у него, и верно, полудурье была да и не вовсе в порядке себя держала. Ни один добрый парень из своих мурзинских никогда бы на такой не женился. Вот и стали подманивать со стороны.
У богатых, известно, пособников всегда много. Эти поддужные и давай напевать Троше про невесту:
— Краля писаная! С одного боку тепло, с другого того лучше. Характеру весёлого, и одна разъединая дочь… По времени полным хозяином станешь. А ведь дом-то какой! По всей округе на славе!
Бабушке Трошиной, видно, надоело всю жизнь в бедности колотиться, она и поддакнула:
— Коли люди с добром, почему нам отворачиваться?
У Троши по этой части настоящей думки не было, он и говорит:
— Раз пришла пора жениться, надо невест глядеть.
Поддужные радёхоньки, что парень этак легонько на приманку пошёл, поторапливают:
— Тогда и тянуть с этим нечего. В воскресенье приезжай с бабушкой. Смотрины устроим, как полагается. Об одёже да справе не беспокой себя. Там знают, что из сиротского положения ты. Взыску не будет.
Уговорились так-то. Сказали Троше, в котором доме ему сперва остановиться надо, и уехали. Как пришло воскресенье, Троша оделся почище да утречком пораньше и пошёл в Мурзинку, а бабушка отказалась:
— Ещё испугаются меня старухи, и тебе доли не будет! В самоцветах разбирать научился, неуж невесту не разглядишь.
Трошу в те годы не зря Лёгоньким звали. Он живо дошагал до Мурзинки. Нашёл там дом, в котором ему остановиться велели. Там, конечно, приветили, чайком попоили и говорят:
— Отдохни покамест, потому смотрины вечером будут.
Парень про то не подумал, что тут какая уловка есть, а только отдыхать ему не захотелось. — Пойду, — думает, — погляжу Мурзинку.
Камешки тогда по многим деревням добывали. В Южаковой там, в Сизиковой, по всей речке Амбарке, а всё-таки Мурзинка заглавное место была. Тут и самые большие каменные богатеи жили, и старателей много считалось.
В числе прочих старателей был Яша Кочеток. Груздок, как говорится из маленьких, а ядрёный, глядел весело, говорил бойко и при случае постоять за себя мог. От выпивки тоже не чурался. Прямо сказать, этим боком хоть и не поворачивай, не тем будь помянут покойна головушка. В одном у него строгая мера была: ни пьяный, ни трезвый своего заветного из рук не выпустит. А повадку имел такую: все камешки, какие добудет, на три доли делил: едовую, гулевую и душевную. В душевную, конечно, самая малость попадала, зато камень редкостный. Деньги, которые за едовую долю получал, все до копейки жене отдавал и больше в них не вязался: «хозяйствуй, как умеешь»! Гулевые деньги себе забирал, а душевную долю никому не продавал и показывать не любил.
— Душа — не рубаха, что её выворачивать! Под худой глаз попадёт, так ещё пятно останется, а мне охота её в чистоте держать. Да и по делу это требуется.
Начнут спрашивать, какое такое дело, а он в отворот:
— Душевное дело каменному родня. Тоже в крепком занорыше сидит. К нему подобраться не столь просто, как табаку на трубочку попросить.
Одним словом, чудаковатый мужичок.
Про него Троша дома слыхал, и про то ему было ведомо, что в Мурзинке чуть не через дом старатели жили. Троша и залюбопытствовал, — не удастся ли с кем поговорить, как у них тут с камешками, не нашли ли чего новенького. Троша и пошёл разгуляться, людей поглядеть, себя показать. Видит, — в одном месте на брёвнах народу многонько сидит, о чём-то разговаривают. Он и подошёл послушать.
Как раз оказались старатели, и разговаривали о своём деле. Жаловались больше, что время скупое подошло: на Ватихе давно доброго зёрнышка не находили, на Тальяне да и по другим ямам тоже большой удачи не было. Разговор не бойко шёл. Всё к тому клонился — выпить бы по случаю праздника, да денег нет.
Тут видит Троша, — подходит ещё какой-то новый человек. Один из старателей и говорит:
— Вон Яша Кочеток идёт. Поднести, поди, не поднесёт, а всех расшевелит да ещё спор заведёт.
— Без того не обойдётся, — поддакнул другой, а сам навстречу Якову давай наговаривать:
— Как, Яков Кирьяныч, живёшь-поживаешь со вчерашнего дня? Что по хозяйству? Не окривел ли петушок, здорова ли кошечка? Как сам спал-почивал, какой лёгкий сон видел?
— Да ничего, — отвечает, — всё по-хорошему. Петух заказывал тебе по-суседски поклончик, а кошка жалуется: больно много сосед мышей развёл — справиться сил нет. А сон, и точно, занятный видел. Будто в Сизиковой бог по дворам с казной ходил, всех уговаривал: «Берите, мужики, кому сколько надо. Без отдачи! Лучше, поди-ка, это, чем полтинничные аметистишки по одному из горы выковыривать».
— Ну, и что? — засмеялись старатели.
— Отказались мужики. «Что ты, — говорят, — боже, куда это гоже, чтоб незаробленное брать! Непривычны мы к этому». Так и не сошлось у них.
— Ты скажешь!
— Сказать просто, коли язык не присох.
Тут который сперва-то с Кочетком заговорил, — он, видно, маленько в обиде за петуший поклон оказался, — он и ввернул слово в задор.
— И понять не хитро, что у тебя всегда одно пустобайство.
Кочеток к этому и привязался:
— По себе, видно, судишь! Неуж все на даровщину польстятся? За кого ты людей считаешь? К барышникам прировнял! Совесть-то, поди, не у всякого застыла.
Другие старатели ввязались и пошло-поехало, спор поднялся, потому — дело близкое. Бог хоть ни к кому с казной не придёт, а богатый камешок под руку попасть может. Стали перебирать своих богатеев, — кто от какого случая разъелся. Выходило, что у всех не без фальши богатство пришло: кто от артели утаил, кто чужое захватил, а больше того на перекупке нажился. Купит за пятёрку, а продаст за сотню, а то и за тысячу. Эти каменные барышники тошней всего приходились старателям. И про то посудачили, есть ли кому позавидовать из богатеев. Тоже вышло, — некому. У одного сын дурак дураком вырос, у другого бабёнка на стороне поигрывает. Того и гляди, усоборует своего мужика, и сама каторги не минует, потому дело явное и давно на примете. Этот опять с перепою опух, на человека не походит. Про невесту хвалёную Троша такого наслушался, что хоть уши затыкай. Потом, как за ним прибежали: пора, дескать, на смотрины идти, он отмахнулся:
— Не пойду! Пускай свой самоцвет кому другому сбывают, а мне с любой придачей не надо!
Поспорили этак старатели, посудачили, к тому пришли: нет копейки надёжнее той, коя потом полита. Кабы только этих копеек побольше да без барышников! Известно, трудовики, по-трудовому и вывели. Меж тем темненько уж стало. Спор давно на мирную беседу повернул. Один Кочеток не унимается.
— Это, — кричит, — разговор один! А помани кого боговой казной, либо камешком в тысчёнку-две ростом, всяк руки протянет!
— Ты откажешься? Сам, небось, заветное хранишь, продешевить боишься!
Кочеток от этого слова весь задор потерял и говорит совсем по-другому:
— Насчёт моего заветного ты напрасное слово молвил. Берегу не для корысти, а для душевной радости. Поглядишь на эту красоту — и ровно весной запахнет. А что правда, то правда: подвернись случай с богатым камешком, — не откажусь. Крышу вон мне давно перекрыть надо, ребятишки разуты-раздеты. Да мало ли забот!
Другой старатель подхватил:
— А я бы лошадку завёл. Гнеденькую! Как у Самохина. Пускай не задаётся!
— Мне баню поставить — первое дело, — отозвался ещё один. За ним остальные про своё сказали. Оказалось, у каждого думка к большому фарту припасёна.
Кочеток на это и говорит:
— Вот видите, — у каждого своя корысть есть. Это и мешает нам найти дорогу к далевому глядельцу.
Старатели на это руками замахали и один по одному расходиться стали, а сами ворчат:
— Заладила сорока Якова одно про всякого. Далось ему это далевое глядельце!
— Слыхали мы эту стариковскую побаску, да ни к чему она!
— Что её, — гору-то, — насквозь проглядывать! Тамошнего богатства, всё едино, себе не заберёшь. Только себя растравишь!
— Куда нам на-даля глядеть! Хоть бы под ногами видеть, чтоб нос не разбить.
Разошлись все. Пошёл и Кочеток домой, а Троша с ним рядом. Дорогой Яша спрашивает у парня, — чей да откуда, каким случаем в Мурзинку попал, какие камешки находить случалось, по каким местам да приметам. Троша всё отвечает толково и без утайки, потом и сам спрашивает:
— Дядя Яков, о каком ты далевом глядельце поминал и почему это старателям не любо показалось?
Яков видит, — парень молодой, к камешкам приверженность имеет и спрашивает не для пустого разговору, доверился ему и рассказал:
— Сказывали наши старики, что в здешних горах глядельце есть. Там все пласты горы сходятся. А да левым оно потому зовётся, что каждый пласт, будь то железная руда али золото, уголь али медь, дикарь-камень али дорогой самоцвет, насквозь видно. Все спуски, подъёмы, все выходы и веточки заприметить можно на многие вёрсты. Глядельце это не снаружи, а в самой горе. Добраться до него человеку нельзя, а видеть можно.
— Как так!
— А через терпеливый камешок.
— Это ещё какой? — спрашивает Троша.
— Тут, видишь, штука какая, — объясняет Кочеток. — Глядельце открывается только тому, кто себе выгоды не ждёт, а хочет посмотреть красоту горы и народу сказать, что где полезное лежит. А как узнаешь, что человек о своём не думает? Вот и положено такое испытание: найдёшь камешок, который тебе больше других приглянется, и храни его. Не продавай, не меняй и даже в мыслях не прикидывай, сколько за него получить можно. Через такой камешок и увидишь далевое глядельце. Как к глазу тебе его поднесут. Не сразу, понятно, такой камешок тебе в руки придёт. Не один, может, десяток накопить придётся. Терпенье тут требуется. Потому камень и зовётся терпеливым. А какой он этот камешок цветом, — голубой ли зелёный, малиновый ли красный, — это неведомо. Одно помнить надо, чтоб его какой своей корыстью не замутить.
— Почему старателям не любо слышать разговор об этом? По моему понятию, тут вот что выходит: трудовому человеку, ежели он не хитник, не барышник, охота, поди, поглядеть на красоту горы, а всяк лезет в яму с какой-нибудь своей думкой. Слышал вон разговор, кому лошадь нужна, кому баня, кого другая нужда одолевает. Ну, и досадуют, что им даже думка о далевом глядельце заказана.
Тут Кочеток вовсе доверился парню и рассказал:
— У меня вон есть терпеливые камешки, да не действуют. Замутил, видно, их своими заботами о том, о другом. Ты парень молодой и камешкам приверженный, вот и запомни этот разговор. Может, тебе и посчастливит, — увидишь далевое глядельце.
— Ладно, — отвечает, — не забуду твои слова.
В этих разговорах они подошли к Кочетковой избушке. Троша тогда и попросил:
— Нельзя ли, дядя Яков, у тебя переночевать. Больно мне неохота к этим богатеевым-то хвостам ворочаться, а идти домой в потёмках несподручно.
— Что ж, — говорит Яков, — время летнее, в сенцах места хватит, а помягче хочешь, ступай на сеновал. Сена хоть и нелишка, а всё-таки есть.
Так и остался Троша у Кочетка ночевать. Забрался он на сеновал, а уснуть не может. День-то у него неспокойный выдался. Растревожило парня, что чуть оплошку не сделал с хвалёной-то невестой. Ну, и этот разговор с Кочетком сильно задел. Так и проворочался до свету. Хотел уж домой пойти, да подумал: — нехорошо выйдет, надо подождать, как хозяева проснутся. Стал поджидать да и уснул крепко-накрепко. Пробудился близко к полудню. Спустился с сеновала, а во двор заходит девчонка с ведрами. Ростом невеличка, а ладная. Вёдра полнёхоньки, а несёт не сплеснёт. Привычна, видать и силу имеет. Троше тут поворот судьбы и обозначился. Это ведь и самый добрый лекарь не скажет, отчего такое бывает: поглядит парень на девушку, она на него взглянет, и оба покой потеряют. Только о том и думают, как бы ещё ненароком встретиться, друг на дружку поглядеть, словом перемолвиться, и оба краснеют, так что всякому видно, кто о ком думает.
Это вот самое тут и случилось: приглянулась Троше Лёгонькому Кочеткова дочь Доня, а он ей ясным соколом на сердце пал.
Такое дело, конечно, не сразу делается. Троша и придумал заделье, стал спрашивать у девчонки, в каком месте отец старается. Та обсказала всё честь-честью. Троша и пошёл будто поглядеть. Нашёл по приметам яму, где Кочеток старался, и объяснил, зачем он пришёл, и сам за каёлку взялся. Потом, как зашабашили, спрашивает у артельщиков, нельзя ли ему тут остаться на работах. Артельщики сразу приметили, что парень старательный и сноровку по каменной работе имеет, говорят:
— Милости просим, коли уговор наш тебе подойдёт. — И рассказали, с каким уговором они принимают в артель. Парень, понятно, согласился и стал работать в этой артели, а по субботам уходил в Мурзинку вместе с Кочетком. У него как постой имел. Сколько так прошло, не знаю, а кончилось свадьбой. Гладенько у них это сладилось. Как свататься Троша стал, Кочеток с женой в одно слово сказали, что лучше такого жениха для своей Донюшки не ждали. И вся артель попировала на свадьбе. К тому времени как раз яма их позабавила: нашли хороший занорыш, и у всех на гулевые маленько осталось.
Трошина бабушка уж в обиде была, что внучек с богатой женой забыл старуху. Хотела сама в Мурзинку идти, а Троша и объявился с молодой женой; только не с той, за которой пошёл. Рассказал бабушке про свою оплошку с богатой невестой, а старуха посмеивается.
— Вижу, — говорит, — что и эта не бесприданница. Жемчугов полон рот, шёлку до пояса и глазок весёлый, а это всего дороже. В семейном положении главная хитрость в том, чтобы головы не вешать, коли тебя стукнет.
С той поры много годов прошло. Стал Троша Лёгонький знаменитым горщиком, и звали его уж по-другому — Тяжёлой Котомкой. Немало он новых мест открыл. Работал честно, не хитничал, не барышничал. Терпеливых камешков целый мешок накопил, а далевого глядельца так увидеть ему и не пришлось.
Бывало, жаловался на свою незадачу Донюшке, а та не привыкла унывать, говорит:
— Ну, ты не увидел, может, внуки наши увидят.
Теперь Трофим Тяжёлая Котомка глубокий старик. Давно по своему делу не работает, глазами ослабел, а как услышит, что новое в наших горах открыли, всегда дивится:
— Сколь ходко ныне горное дело пошло!
Его внук, горный инженер, объясняет:
— Наука теперь, дедушка, не та, и главное — ищем по-другому. Раньше каждый искал, что ему надо, а ныне смотрят, что где лежит и на что понадобиться может. Видишь вон на карте раскраска разная. Это глина для кирпичного завода, тут руда — для домны, здесь место для золотого запаса, тут уголёк хороший — для паровозных топок, а это твоя жила, которую на Адуе открыл, вынырнула. Дорогое место!
Старик смотрит на карту и кивает головой: так, так. Потом, хитренько улыбнувшись, спрашивает шопотом:
— Скажи по совести, далевое глядельце нашли? В котором месте?
Внук тоже улыбается:
— Эх, дед, не понимаешь ты этого. Тридцатый уж год пошёл, как твоё далевое глядельце открыто всякому, кто смотрит не через свои очки. Зоркому глазу через это глядельце не то что горы, а будущие годы видно.
— Вот-вот, — соглашается старик: — Правильно мне покойный тестюшка Яков Кирьяныч сказывал, — в далевом глядельце главная сила.
1946 г.
Шелковая горка
аше семейство из коренных невьянских будет. На этом самом заводе начало получило.
Теперь, конечно, людей нашей фамилии по разным местам можно встретить, только вот эта усадьба, на которой мы с тобой разговариваем, наша початочная. До большого невьянского пожару тут, помню, избушечка стояла. Она покойному родителю от дедушки досталась, а тот не сам её строил, — тоже по наследству получил. Небольшая избушка. Ну, рублена из кондового лесу. Такого по нынешним временам близко жилья не найдёшь. Дивиться надо, как старики такие брёвна ворочали. Что ни венец, то и аршин. На сотни годов ставили.
Вот и посчитай, сколько времени наше семейство на этом месте проживает, коли большой невьянский пожар пришёлся на голодный 91-й год. С той поры близко шести десятков прошло, а от начала-то сколько?
Тоже, поди, за эти годы наши семейные что-нибудь видели! И глухонемых в роду не бывало. Одни, значит, рассказывали, другие слушали, а потом сами рассказывали. Если такое собрать, много занятного окажется.
Это я вот к чему.
Наш Невьянский завод считается самым старым в здешнем краю. К двумстам пятидесяти подвигается, как тут выпущен был первый чугун, а мастера Семён Тумаков да Аверкий Петров приковали первое железо и за своими мастерскими клеймами отправили на воеводский двор в Верхотурье. Строитель завода Семён Куприяныч Вакулин, — спасибо ему, — не забыл об этом записать, а то мы бы и не знали, кто починал наше железко, коим весь край живёт столько годов.
Понятно, что всякий, кому понадобится о заводской старине рассказать, непременно с нашего завода начинают. Случалось мне, читывал. Не одна книжка про это составлена. Одно плохо, — всё больше про хозяев заводских Демидовых пишут. Сперва побасёнку расскажут, как Никита Демидов царю Петру пистолет починил и за это будто бы в подарок получил только что отстроенный первый завод, а потом примутся расписывать про демидовскую жизнь. Кому охота, может, по этим книжкам и то узнать, где какой Демидов женился, каких родов жену взял и какое приданое за ней получил, в котором месте умер, и какой ему памятник поставили: то ли из итальянского мрамора, то ли из здешнего чугуна. Известно, хозяева старались высоко себя поставить.
Не стану хаять первых Демидовых: Никиту да Акинфия. Конечно, трудно от них народу приходилось, и большие деньги они себе заграбастали, только и дело большое поставили и умели не то что в большом, а и в самом маленьком полезную выдумку поймать и в ход пустить. И за то этих двух Демидовых похвалить можно, что за иноземцев не хватались, на свой народ надеялись. Ну, всё-таки не сами Демидовы руду искали, не сами плавили да до дела доводили. А ведь тут много зорких глаз да умелых рук требовалось. Немало и смекалки и выдумки приложено, чтоб демидовское железо на-славу вышло и за границу поехало. Знаменитые, надо думать, мастера были, да в запись не попали. Думал, — в этих годах про них по архивам раскопают, да не дождался пока. В книжках, какие в недавних годах вышли, перебирают старое на новый лад, а толк один: всё Демидовы да Демидовы, будто и не было тех людей, кои самих Демидовых столь высоко подняли, что их стало видно на сотни годов.
Старину, конечно, зря ворошить не к чему, а бывает, что она вроде и понадобится. Недавно вот такой случай вышел.
Моей старшей дочери с вешней Авдотьи, с Плющихи-то, пятидесятый пошёл. Сама давно бабушкой стала. Так вот её-то внучонок, мой, стало быть, правнучек, прибежал ко мне. Полакомиться, видно, медком захотелось, потому как я всегда к пчёлкам приверженность имел. Раньше, как на заводе работал, улей-два держал, а теперь на старости лет одно у меня занятие — за пчёлками ходить. Прибежал Алексейко и говорит:
— Дедушко, я пособлять тебе пришёл, — мёд выкачивать.
Лето нынешнее не больно удалось для пчелиного сбору. Ну, для такого пособника как не найти кусочка. Вырезал ему сотового медку.
— Ешь на здоровье! А качать будем, когда время придёт.
Поедает Алексейко медок, а сам старается рассказать все свои ребячьи новости. Шустрый он у нас мальчонка, разговорчивый и книжку почитать любит. В этом разговоре вдруг и спрашивает меня:
— Дедушко, ты слыхал про камень-асбест?
— Как, — отвечаю, — не слыхал, коли в наших местах его сперва раскопали и в дело произвели.
Алексейко и говорит:
— Неправильно ты, дедушко, судишь. В Итальянской земле это дело началось. Там одна женщина Елена, по фамилии Перпенти, самая первая научилась из асбеста нитки прясть, и Наполеону, когда он был в Итальянской земле, поднесла, говорят, неопалимый воротник. За эту выдумку, что она научилась с асбестом обходиться, эту женщину наградили, медаль особенную выбили для почёту. А было это в тысяча восемьсот шестом году. В книжке так напечатано, а ты говоришь, — в нашем заводе!
Ребёнок, конечно. Чужие слова говорит, а всё-таки обидно слушать. Печатают, а того не сообразят, что Акинфий Демидов чуть не сотней годов раньше Наполеона жил, а про этого Акинфия рассказывают, что поделками из каменной кудели он весь дворец царский удивлял. Значит, тогда уж в нашем заводе научились из асбеста прясть и ткать, плести и вязать. А как это случилось, мне не раз доводилось слыхать в своём родстве. Вот и говорю Алексейку:
— Ты про итальянскую Елену вычитал, а теперь послушай про нашу невьянскую Марфушу. Она, ежели разобраться, тебе и в родстве придётся. Этакая же, сказывают, курносенькая да рябенькая была и посмеяться любила. По этой примете ей кличку дали — Марфуша Зубомойка.
Жила эта Марфуша Зубомойка в давних годах. Тогда ещё не то что Наполеона, а и бабушки его на свете не было. Заводскими делами управлял тогда в наших местах Акинфий Демидов. Он, конечно, сам рудниками да заводами занимался, только и мелкое хозяйство на примете держал. В числе прочего была при барском доме обширная рукодельня. Пряли да ткали там, шитьё тоже, вязанье да плетенье и разное такое рукоделье. В эту рукодельню брали больше сироток, а когда и девчонок из многодетных домов. Держали их в рукодельне до выданья замуж, а кои посмышлёнее окажутся, тех и вовсе не отпускали. Девчонки знали про это и старались раденья не оказывать. Ну, их строгостью донимали. Управляла рукодельней какая-то демидовская сродственница Фетинья Давыдовна. Вовсе ещё не старая, а до того выкомура да придира, что и в старухах редко такую найдёшь. Одно слово, мучительница.
Меж рукодельниц были и такие, кои себя с малых лет показали. Этих Фетинья больше всех допекала. Как хорошо ни сделают, она найдёт изъян, уроку надбавит да ещё и наколотит. На это у неё больно проста рука была. Ясное дело, от такого житья добрым мастерицам хоть в воду. Случалось, и в бега пускались, да удачи не выходило: поймают, на конюшне выпорют да той же Фетинье сдадут, а хозяин ещё накажет:
— Ты гляди за девками-то! Не разевай рот. В случае и самой плетей отпущу. Не жалко мне.
После такого хозяйского наказу Фетинья того пуще лютует. Прямо всем житья не стало, а Марфуше Зубомойке на особицу.
Эта девушка, говорят, из себя не больно казиста была, а характеру лёгкого, весёлая и до того на работу ловкая, что любой урок ей нипочём. Будто играючи его делала. Ну, а давно примечено, что люди вроде Фетиньи сильно весёлых не любят: всё им охота прижать до слезы, а Марфуша не поддавалась да ещё своим мастерством маленько загораживалась. Хозяйка и сам хозяин знали её за самолучшую мастерицу, и чуть что похитрее понадобится, говорили Фетинье:
— Пошли Марфутку. Заказ ей будет. Да, гляди, не путай девку. Сама пусть нитку сготовит и узор на свой глаз выберет.
Фетинье эти хозяйские заказы, как окалина в глаз: всё время покою не даёт и со слезой не выкатывается, потому — с зазубринками. Тут ещё добавок получился. В демидовской дворне появился новый пришлый. Как его по-настоящему звали, никто не знал. Он, видишь, из беглых с казённых заводов был, в руде да каменьях толк понимал. Демидов такого с охотой принял, велел его кормить в одном застолье с самыми близкими своими слугами, а насчёт старого сказал:
— Как тебя раньше звали, про то забудь. По моим бумагам будешь называться Юрко Шмель из Рязанской земли, а годов себе считай с Егорьева дня 35.
Тут ещё вычитал по бумаге, что куплен у помещика такого-то, из такой-то деревни и шуткой добавил:
— А какой он, этот помещик, — старый ли молодой, лысый ли кудрявый, большой ли маленький, — это уж как тебе приснится. Ни я, ни ты его не видывали, а на случай, если спрашивать станут, придумай и этого держись.
В ту пору этакое бывало. Демидовские прислужники по разным местам у помещиков покупали беглых крепостных с условием, — если поймают, на завод навсегда забрать. На деле вовсе и не думали ловить, а по этим бумагам всяких пришлых принимали. Старались, конечно, подгонять по годам, но бывало и так, что молодого зачисляли по стариковским бумагам. Если заживётся, несуразно выходило: считает себе человек чуть не сотню годов, а на деле и полсотни нет.
Так вот… Этот Юрко Шмель приглянулся Фетинье, а он давай на Марфушу заглядываться. Фетинья это приметила и только о том и думала, как бы девку со свету сжить. Ну, тут случай подошёл, что Марфуше удалось из-под Фетиньиной руки выскользнуть. В семье, из которой она в рукодельню попала, беда приключилась: большие все на одном году померли, остались одни малолетки. Старшему восьмой годок, младшему — два. Демидов и велел приказчику:
— Переведи Марфутку домой. Пускай за ребятами ходит, пока для заводского дела не подрастут.
Фетинье это столь не любо показалось, что сунулась к Демидову с разговором, а тот сразу брови свёл:
— Что за речи? Какое твоё в этом деле разуменье? Там, поди-ка, пятеро парнишек остались. Вырастут — железо ковать станут, не твои дырки из ниток выплетать. И того не забывай, — с хозяином разговаривают, когда он спрашивает, а не то и Митроху крикнуть можно. Вот он, и кнут при нём!
А приказчику наказал:
— Ты им месячину выдавай, как полагается, и вели девке, чтоб обиходила избу да за ребятами ходила как следует. Своих-то работников ростить всё-таки дешевле обойдётся, чем покупать на стороне.
Фетинья, понятно, язык прикусила, а сама думает: не я буду, коли эту девку не изведу. И верно, по прошествии малого времени добилась через хозяйку, чтоб опять Марфуше тонкую работу давать. Что, дескать, ей вечерами делать, как ребятишки улягутся спать. Чем песни петь да лясы с соседками точить, пусть-ка на господ маленько поработает. Про себя, конечно, другое думала. В маленькой избушке да при пятёрке малолетков непременно она работу испортит, тогда и потешусь над ней: подведу под Митрохин кнут да суну этому псу полтину, так он эту девку до смерти забьёт, будто ненароком.
Хозяйка всё-таки спросила у мужа, а тот ухмыльнулся:
— Это тебя Фетинья за уши водит, — на своём поставить хочет. Сказал ведь, — работники мне нужнее всякого вашего тонкого рукоделья.
Потом, мало погодя, говорит:
— Коли надобность есть, попытай, только сама заказы давай, сама и принимай.
Вышло не так, как Фетинья хотела, а всё-таки она надежды не потеряла, по-своему думала: испортит Марфуша припас, так по-другому хозяин заговорит, потому привык за каждый грош зубами держаться. Только Марфуша, видно, удачливая была, всё у неё гладко проходило. Правду сказать, эти хозяйские заказы ей к руке пришлись. Сколь ни тяжело доводилось в новом житье, а по привычной работе Марфуша маленько тосковала, а тут она, как говорится, сама пришла. Намотается за день с ребятами, а вечером, глядишь, и посидит часок-другой. Вместо отдыха ей, а при её-то руках столько сделает, что другая и за день не одолеет. Хозяйка ей даже поблажку дала.
— При лучине-то, — говорит — одной неспособно, так ты лампадку зажигай. Масла велю давать безотказно.
Да ещё и пособник у Марфуши оказался. Юрко Шмель нет-нет и зайдёт навестить, как сиротская семья живёт. Вечерами, конечно, Марфуша его не пускала, чтоб зряшного разговору не вышло, а днём — милости просим. Он прибежит и всю мужичью работу, какая накопилась, живо справит. Ну, и разговоры всякие меж ними бывали, а про работу в первую очередь. Известно, чем человек живёт, о том и думает. Раз как-то Марфуша и спросила:
— На Шёлковой горке это какой камень сзелена и мягкий? Если его поколотить чем тяжёлым, так он распушится, как куделя.
— Не знаю, — говорит, — не случалось видать такой камень и про Шёлковую горку не слыхал.
Марфуша и объяснила:
— За прудом. Вовсе недалеко. Летом по ягоды туда ходят. Небольшая горка, а заметная. Сдаля поглядеть, так на ней ровно шёлковые платки разбросаны. А всё это тот камень действует: на солнышке-то блестит и зелёным отливает.
Юрко говорит:
— Надо поглядеть. По рассказу на слюду похоже, только зелёное тут ни к чему. Завтра же сбегаю на твою Шёлковую горку, благо день воскресный.
Марфуша рассказала, как Шёлковую горку найти, и на другой день Юрко приволок целый мешок камней.
— Видать, — говорит, — камень любопытный. Хозяину про него сперва не скажу, сам испытывать буду и у других поспрошаю, не знают ли насчёт этого.
Стал тут перебирать камешки, и Марфуша подошла. Занятно показалось. Поколотишь с уголка, а он и распушится куделя куделей. Марфуша, как она с малых лет привыкла с нитками обходиться, попробовала прясть, да не скручиваются эти волоконца. Ребятишки, кои побольше, тоже потянулись из камешков куделю делать. Насорили, понятно, по полу, по лавкам, по всей середе. Потом, как Юрко ушёл, Марфуша подмела пол и сор в печку бросила, а сама ещё подумала:
— Нет худа без добра: сору много, зато растопки завтра не надо.
Утром, как водится, затопила печку. Протопилась она, а сор как был, так и остался. Марфуша сказала Юрку:
— Не горит ведь эта каменная куделя!
— И по моему испытанию это же выходит, — отвечает Юрко. — На огонь пробовал, на кислоту пробовал, одно понял, — какой-то вовсе незнакомый камень. Буду дальше его испытывать.
У Марфуши своё на уме: научиться бы прясть эту каменную куделю. Вот бы диво, кабы из таких ниток что-нибудь связать, либо кружева сплести.
Что ни делает, а эта думка покою не даёт. Истолкла в ступке сколько-то камешков, мелочь отобрала, пыль отсеяла, — стала у неё куделя вроде настоящей, а не скручивается в нитку. Так и сяк перепробовала: с хлебным клеем, овчинным, с рыбьей кишкой, с кровью — нет, не выходит. С простой куделей идёт, да нитка толста и не то выходит, что надо. Ну, всё-таки дошла, что с деревянным маслом прясть можно. Не больно крепкая нитка, а для вязанья да плетенья годится. Сказала Юрку. Тот рад радёхонек.
— Свяжи, — говорит, — хозяину кошелёк да хозяйке сколько-нибудь кружев сплети, тогда, может, нам жениться дозволят.
Юрко об этом уж спрашивал у Демидова, да не в час попал, буркнул только в ответ:
— Выбирай какую из спелых девок, эта у меня к другому делу поставлена. Ты туда и дорожку забудь!
Юрко, понятно, дорогу не забыл, а всё-таки таиться пришлось, заходить с оглядкой, чтоб кто из барских наушников не увидел. Фетинья, конечно, это разнюхала и побежала сказать хозяину, да тоже, видно, не в час попала. Строго поглядел:
— Без тебя знаю. Срок придёт, сделаю, что надо, а ты за рукодельней своей доглядывай.
Демидов, видишь, и то знал через своих доглядчиков, что Юрко Шмель испытывает какой-то новый камень. Мешать этому не велел, а только приказал:
— Глядите, чтоб оба в бега не кинулись. Прозеваете, худо будет.
Фетинья из хозяйского разговору поняла, что Юрку кнута не миновать. Обрадовалась этому, потом забеспокоилась, как бы Марфуша от расправы не ускользнула. До того себя этим растравила, что решила подвод сделать. Выждала время, когда Марфуше надо было за месячиной в господские амбары идти, и прибежала к ней в избушку. На то рассчитывала, чтоб хозяйский заказ испортить, либо унести. А у Марфуши такой порядок велся: когда случалось ребятишек одних оставлять, она хозяйский заказ в сундучок запирала, а свою работу из негорючей-то нитки поднимала на полатный брус, чтоб ребята не достали. Фетинья огляделась, видит, — на брусу коклюшечная подушка, и кружев на ней готовых много наколото. Того не смекнула, что из какой-то небывалой пряжи плетенье. Думала, — хозяйский заказ. Сорвала готовое, сунула под шаль и убежала. Прибежала в рукодельню, — а зимой дело было, и печи топились, — и сразу к печке будто погреться да незаметно и бросила что-то в огонь из-под шали.
Девчонки, которые поближе сидели, заметили, конечно, только виду не показали, а Фетинья отошла от печки и говорит:
— Теперь пусть-ка вывернется, удачливая!
Пришла Марфуша домой. Старшие ребятишки ей рассказали, что была тётенька из рукодельни и с брусу подушку брала. Марфуше обидно: столько билась над пряжей, а её нет. Побежала хозяйке жаловаться, да против самой рукодельни и набежала на хозяина. Тот в молотовую шёл, и палач Митроха, как привычно, поблизости от хозяина. Марфуша насмелилась да и говорит:
— Батюшка Акинфий Никитич, заступись за сироту!
Демидов остановился:
— Ну, что у тебя?
Марфуша стала рассказывать. Демидов, как услышал, что разговор о кружевах, зверем заревел:
— Что? Ты ополоумела, девка? Стану я ваши бабьи дела разбирать! Митроха!
Палач по своей собачьей должности тут как тут: — что прикажете?
— Волоки эту девку в рукодельню. Дай ей плетью половину начальной бабьей меры, чтоб запомнила, как с хозяином о пустяках говорить, и прочим для острастки!
С Митрохой какой разговор? За шиворот взял да пробурчал: — пойдём девка!
Пришла в рукодельню. Фетинья радуется, что так скоро по её желанию сбылось. Велела скамейку на средину вытащить. Марфуша, как увидела Фетинью, закричала:
— А всё-таки мы с Юрком негорючую пряжу придумали! Тебе и сейчас не дознаться, как она сделана!
Марфуша, видишь, подумала, что Фетинья хочет чужую выдумку за свою выдать. Демидов опять, как про Юрка она помянула, другое подумал: не про тот ли камень разговор, что Юрко тайком от хозяина испытывает? Махнул рукой Митрохе: — погоди! — и спрашивает:
— Какая негорючая пряжа? О чём бормочешь? Юрко тут с которой стороны пристегнулся?
Марфуша и рассказала всё по порядку, только того не сказала, как прясть каменную куделю. Демидов тогда и спрашивает Фетинью:
— Была у неё?
Фетинья зачастила:
— Была, батюшка Акинфий Никитич, была. Узнать хотела, скоро ли заказ сготовит… Да разве её застанешь. Шатается где-то, а ребята одни-одинёхоньки. Не мыты, не прибраны. Глядеть тошно, плюнула да скорей из избы.
— Кто посылал?
Фетинья тут замялась. Тогда Демидов и говорит:
— Подавай кружева!
Фетинья заклялась-забожилась, — не ведаю, а Демидов ещё строже:
— Подавай, говорю!
Та опять клянётся-божится, а Демидов мотнул головой Митрохе:
— Полысай кнутом с полной руки, пока не признается!
Фетинья видит, — не миновать беды, озлилась и завизжала:
— Её-то негорючие кружева вон в той печке сгорели!
Девчонка, которая видела, как Фетинья что-то в печку бросила, живо отпахнула заслонку и говорит:
— Тут они. Сверху лежат.
Демидов велел вытащить. Оказалось, целёхоньки кружева. Демидов тогда и вовсе залюбопытствовал.
— Пойдём, Марфутка! Кажи, из какого камня и как делала. Юрка Шмеля туда же позвать. Без промедления!
Митрохе велел:
— Ты доведи Фетинью до полного разума, чтоб навек забыла совать свой нос в большое дело!
Митроха и порадел хозяйской родне: так употчевал, что едва жива осталась. Потом Демидов ворчал на Митроху:
— Вовсе без разума хлещешь. Баба при деле была, а теперь куда её.
Митроха своим обычаем отговаривался:
— Разум — дело хозяйское. Сколь он укажет, столько и отпущу.
А дело, — и верно, — с каменной куделей большое оказалось.
Демидов, как разузнал всё до тонкости, свою рукодельню повернул на поделку из каменной кудели и накрепко заказал, чтоб на сторону это не выносить.
В рукодельне и пряли, и ткали, плели и вязали из каменной кудели, а как случится Демидову в столицу ехать, он всю эту поделку с собой увозил. Мужик, конечно, хитрый был: знал, кому и зачем подарить диковину, коя в огне не горит. Большую, сказывают, выгоду себе от этих подарков получил.
Марфуше только то и досталось, что свою долю с Юрком Шмелем они получили. Дозволил им Демидов пожениться, усадьбу отвёл да сказал:
— Старая изба за ребятами останется, а на этом месте можете строиться.
По времени они и поставили тут избушку. От этого вот Юрка Шмеля да Марфуши Зубомойки и пошла наша фамилия Шмелёвых.
Демидовское подаренье, видишь, не больно дорого ему обошлось. Только и разорился, что велел жене:
— Выдай Марфутке полушалок с узорными концами. Пускай все видят барскую награду за старанье.
Нынешнюю награду с демидовской, небось, не сравнишь, потому как только теперь старинная работа в полную силу оценена. Всяк разумеет, что с маленькой Шёлковой горки большую видать, и эта самая Марфуша по-другому кажется.
Заводские владельцы да царские чиновники, видишь, любили себя выхвалять. Про мастеров да мастериц им и заботушки не было. Про иноземцев и говорить не остаётся. Эти по самохвальству первые мастера. Их послушать, так всегда они вперёд других всё придумали, а стань раскапывать, и выйдет — придумала итальянская Елена то, что твоя дальняя прабабка крепостная Марфуша умела делать на 80 годов раньше.
Ты эту Шёлковую горку и помни, как случится про старину читать, особенно про нашу заводскую. Она, наша-то заводская старина, чёрным демидовским тулупом прикрыта да сверх того ещё перевязана иноземными шнурками. Кто проходом идёт, тот одно увидит, — лежит демидовское наследство в иноземной обвязке. А развяжи да раскрой — и выйдет наша Марфуша. Такая же, как ты, курносенькая да рябенькая, с белыми зубами да весёлыми глазами. До того живая, что вот-вот, придёт на завод, по-старинному низенько поклонится и скажет:
— Здоровенько живёте, мои дорогие! Вижу, — на высокую гору поднялись. Желаю ещё выше взобраться. При случае и нас с малых горок вспоминайте. Демидовской крепостной девкой звалась, а ведь не так это. Демидов; правда, от моей выдумки поживился, так от того я своё имя-прозванье не потеряла. Хоть Демидов и не подумал в моё имя медаль выбивать, и в запись я не попала, а по сей день мои то пра-правнуки поминают Марфушу Зубомойку да её муженька Юрка Шмеля. Выходит, не демидовские мы, а ваши. По всем статьям: по крови, по работе, по выдумке.
1947 г.
Аметистовое дело
е про людей, про себя сказывать стану.
В те годы, как народ валом в колхозы пошёл, я уж в немолодых годах был. Вместо русых-то кудрей плешину во всю голову отростил. И старуха моя не молодухой глядела. Раньше, бывало, звал её песенной машинкой, а теперь вроде точильного станка вышла. Так и точит меня, так и точит: того нет, этого нехватка.
— У людей мужики обо всём позаботятся, а у нас, как приплетётся да в бане выпарится, так и набоковую. И ни о чём ему думушки нет!
К той поре мы с ней вдвоём остались. Младших дочерей пристроили, а трое сыновей давно в отделе жили, всяк своё хозяйство завёл. Старуха и в том меня винила, что в избе пусто стало.
— Из-за тебя это! Из-за твоего злосчастного ремесла!
— Чем, — спрашиваю, — моё ремесло помешало?
— Известно, — отвечает, — чем. Во всяком доме старики хозяйство ведут, землю пашут, хлебушко сеют, молодым распорядок дают, а ты что? До старости ума не накопил. Бегаешь по каменным ямам. Дома-то гостем бываешь.
Я, понятно, урезониваю её:
— Живём всё-таки. Детей вырастили. По-миру никто не хаживал. Не лежебока, поди, я у тебя, — зарабатываю сколько-то. Чего ещё надо?
Старуха, знай, своё толмит:
— По твоим-то трудам нам бы в каменном доме жить, а мы этот хоть маленько подправить не можем. Стены-то, гляди, насквозь просвечивают, да и печка, того и жди, повалится. Хозяин! А всё потому, что хлебушком не занимаешься. В деревне век прожили, а куричёшкам овёс с купли! Где это слыхано?
— Дура ты, — говорю, — дура! Я, поди, дорогой товар добываю. Это тебе не овёс, — где посеял, там и вырастет. Искать приходится. Зато попадёт, так за три воза твоего овса в кошельке принесёшь.
— Не упомню, — отвечает, — такого случая, чтоб ты по три воза овса в кошельке приносил. Не при мне, видно, таксе было. Чаще с пустым приходил. Помнишь, жаловался: «Не пофартило, мне, Марьюшка, на этой неделе. Ничего почитай, не добыл». А я-то сдуру ему наговаривала: «Не тужи, Иванушка! Не всяк день солнышко, бывает и слякиша». Забыл про это?
— А помнишь, — опять спрашиваю, — ту щёточку камешков, на которую мы корову купили? А тот камешок, что на Васильеву женитьбу хватило? Да мало ли у меня весёлых находок бывало.
— Не забыла, — говорит, — и это. Как найдёшь что повеселее, так и уберёшься в город сбывать да и шатаешься там нивесть сколько, а я тут бьюсь-колочусь с ребятами да о тебе думаю, — не убили бы. Нет, одна мука твоё ремесло!
Одним словом, не сговоришь с ней. А бить её, как иные-прочие делали, у меня в заведеньи не было, да и не такой мы судьбы, чтоб об этом даже подумать. Знал я, что она одна-разъединая на всём белом свете меня жалела да и теперь жалеет по-настоящему. Ворчит-ворчит, а баньку про меня, небось, спозаранок натопит, перемывку наготовит, кусок посытнее найдёт, а когда и словом утешит. Помню её-то присловье: «Не тужи, Иванушка, не всё солнышко, бывает и слякиша!» Другая на её-то месте давно бы от меня ушла, а мы с ней троих сыновей да двух дочерей выростили, и все они не на смеху у людей живут. Признаться, и то было, что сам за собой вину чуял. Старуха моя правду говорила. Ремесло моё — и верно, — не по месту пришлось.
Деревня наша, по-старому считать, в Ирбитском уезде приходилась. Народ тут сплошь хлебушком занимался да коноплёй маленько. И скот тоже разводили. Родители мои, от коих мне этот дом в наследство перешёл, были природные пахари, да оба, на мою беду, в молодых годах померли, оставили меня несмыслёнышем на горькое сиротское житьё. Про хозяйство, конечно, и разговаривать нечего: его живо растащили те благодетели, у которых я сперва кормился, а потом работать стал. Ворочать на чужого дядю, известно, нигде не сладко, а всё лучше, как не в своей деревне. Я и убрался на прииски, где золото да камешки добывали. Недалеко от нас это место. На приисках я и получил эту каменную заразу.
Из всех камней мне больше аметист полюбился. Камень не больно дорогой, из самых ходовых, а чем-то взял меня. Да и как взял! Бывало, добудешь щёточку и знаешь, что красная цена ей рублёвка, а любуешься на полную десятку да ещё жалеешь, что сдавать придётся.
Как в полный возраст пришёл, домой потянуло. Дай, думаю, покажусь своим деревенским, чтоб знали, что не загиб. Да и на дом родительский поглядеть охота, — совсем его растащили мои благодетели али сколько оставили. Пришёл в самый весенний праздник. Родительский дом оказался в сохранности. Благодетели, видишь, все на него нацелились, один другому не давали растаскивать, — дом и уцелел. Оглядел я, вижу, — не больно корыстно, а жить можно. Пошёл потом на гульбище, за деревню, где хороводы водили. Деревенские ребята меня за чужака приняли, отшибить хотели, да подступить боялись. Видишь, каков уродился. На днях вон Колютка, внучонок мой от старшей дочери, говорил: «Дедушка! у тебя рука-то в полном развороте, как аэропланово крыло». Так и есть. На ходу ненароком могу человека с ног сбить. Недаром в потёмках сторонятся. Думают, не колокольня ли по земле пошла. Вот ребята и не знали, как подступить. Ну, я не стал до драки доводить, — сказался, что за человек. По этому случаю выпили, конечно. Так, самую малость, потому я приверженности к этому не имею. На празднике когда для весёлости выпью стакан-два, а чтоб допьяна напиваться — этого у меня не бывало.
В тот же вечер я со своей нынешней старухой встретился. Её-то доля горше моей оказалась. Мать с ней проходом по нашей деревне шла да в одночасье и умерла, а её оставила годочков трёх либо четырёх. Только и знали, что звать Машей, а чья, из какого места, так и осталось неведомо. При покойнице никаких бумаг не оказалось. Чтоб суд да полиция не наехали и деревню не разорили, захоронили эту проходящую потихоньку, а девчушечку богатому мужику в дочери отдали. Дальше и пошло по посказульке.
Росла Настя — колотили часто, выросла Настасья — пошла по напастям да без передышки. От одной отобьётся, другая навалится. Думала-думала, решилась с белым светом проститься, да на дороге кудряш попался. Поглядела девка на незнакомого парня, а он и говорит: «Не торопись, красавица, к тому, постой с этим. Не покаешься! Головой ручаюсь, а она, видишь, кудрявая. В пустой игре такую не поставят». Девка и остановилась. Посудачили малость, на другой день опять встретились. Так и пошло, а вскоре, глядишь, и свадьбу сыграли.
У нас с Марьюшкой из точки в точку по этой сказке и вышло. Сразу почуяли, что наша судьба по одной дороге пошла. Раздумывать долго не стали, пошли в церковь: обвенчаться желаем. Нам сперва, отказали: нельзя, потому невестины годы неведомы. — Как, — говорю, — неведомы, коли она в этой деревне выросла, на глазах у всех? — Это отвечают, — мало значит, что на глазах росла. Бумага нужна, в какой день она родилась и каких родителей дочь. Ну, вижу, — словами тут ничего не добьёшься. Отдал им два камешка позанятнее. Тогда нашли ходок, записали на того богатого мужика, которому сперва она в дочери была отдана. И стала моя Марьюшка Афанасьевной, даром что этот Афанасий самым лютым ворогом ей оказался. Ну, в этом важности нет.
Обвенчали нас, и стала в деревне новая пара: Иван Долган да Марья с Голого поля. Силы да здоровья нам обоим у людей не занимать. Хотели сперва хозяйствовать, как другие наши деревенские. Коровёнку купили, пару овечек завели, куричёшек сколько-то. При родительском доме огород был обширный. Городьбу поправили, засадили во-время. Места у нас не тесные. Накосить травы не то что для одной коровёнки, а и для двух-трёх при моих-то руках, прямо сказать, плёвое дело. Всё бы ладно, да на лошадке спотычка вышла. По времени, может, лошадёнку и огоревали бы, да прибавок к ней большой требуется: телега да сани, сбруя да снасть разная. Без благодетелей никак не обойдёшься, а они, эти благодетели, нам с Марьюшкой солоно пришлись. Так у нас полного хозяйства и не вышло.
Убежал я опять на прииски работать. Правду сказать, и камень тянул меня. Не умею тебе объяснить, в чём тут сила, а тянул. Вроде не жадный я, на большое богатство никогда не льстился, а добыть новый камешок охота. Ну, и народ приисковый как-то ближе деревенского стал.
Так мы с Марьюшкой и жили. Помогал я ей при посадке огорода да в сенокосную пору. Зимами тоже маленько, а больше на приисках колотился. В гражданскую войну ушёл с приисковыми в полк «Красных Орлов». За войну меня ранили в ногу при перебежке в цепи. По мякоти пришлось. Сквозная рана, пустяшная. Через месяц опять под ружьё встал.
Как покончили с Колчаком, домой воротился, и тот же порядок у нас повёлся: в деревенские дела не вникал, всё на приисках да на приисках. Как колхозы стали строить, мы с Марьюшкой и оказались не при чём. Не браковали меня, конечно, потому хозяйство трудовое, безлошадное, и сам на войне добровольцем был. Звали даже, да как пойдёшь коли ты не плотник, не каменщик, не чеботарь, не шорник, а из всех сельских работ одно знаешь — косить да стога метать. Марьюшка больше понавыкла. Она и телят ростила, и за птицей ходила, и капусту выращивала хорошую. Такую работницу с радостью бы приняли, да разве она без меня пойдёт?
Сперва в колхозе-то здешнем немало сумятицы было. Кулаки всякую пакость подстраивали. Ко мне даже один подбегал с разговором, да я этих благодетелей с малых лет понял. Так на него цыкнул, что больше ни один из таких ко мне не сунулся. Потом, как кулаков выселили, дело пошло гораздо лучше. Все наши ребята, конечно, с первых лет в колхоз записались. Меньшак-то, — он успел подучиться маленько, — полеводом стал, большак, — он у меня в гражданскую войну кавалеристом был, — так его конным двором ведать определили, средний при машинах находился, потому — он раньше в кузнице работал, обе дочери тоже при деле. Только мы со старухой, как две галки на прясле в непогожий день осенью: самим обидно, и со стороны на нас глядеть тоскливо.
Тут вот старуха и принялась точить меня. Ребята тоже уговаривали. Особо меньшак Петруха старался:
— Брось ты, тятя, своими камешками заниматься! Узенькое это дело, мелкое, когда и вовсе напустую сходит.
— Как, — говорю, — так?
— Очень, — отвечает, — просто. Много ли народа твой камешек увидят? Да и всяк ли разберёт, что тут красота есть? Вот и выходит, по узкой тропочке твой камешек идёт. Мало кому радость приносит. А напустую чаще выходит. Один понимающий найдёт— полюбуется, другой понимающий огранит — тоже полюбуется, а достанется тот камешек дураку, которому ни до чего нет дела, лишь бы блестело. Крашеную бумажку подложь под стекло — ему и то ладно.
— Это, — соглашаюсь, — бывает, да не в том сила, и камень сам меня тянет.
Объясняю ему, а он по-своему разумеет:
— Этак же струя из сортировки бежит. Чем она гуще да зерно полнее, тем краше. Глядел бы, не отошёл!
Втолковываю ему, что в нашем деле главное — особина камня. В одном синего больше, в другом красного, третий желтит сильнее, а разница есть. От одной щётка отломи, и то, на привычный глаз, отличить можно.
— Если приглядеться, — отвечает Петруха, — и в зерне это найдёшь. Одно в одно никогда не сойдётся. На том и сортовое дело поставлено. А если тебе уж так полюбилось на синеалое с жёлтым смотреть, так и это найдём.
— Где, — говорю, — такое в вашем колхозном деле?
— А вот недавно посылали меня на Красноуфимскую семенную станцию за клевером. Видел я там, как из-под «Кускуты», — машина такая есть, — синеалая струйка бежала. Куда твоему аметисту! Ох, только и клевер у них! По нашим местам таких семян добиться не могут. У нас больше бурые с краснинкой семечки выходят, а у них синего много. Потому и называется — красноуфимский фиолетовый. Из сортов сорт! На всю страну славится.
Тут и начал Петруха про клевер рассказывать. Любил он про это говорить. Ну, грамотный, слова подбирать научился, послушать любо, да и от души сказывал про своё живое. В конце похвалился:
— Будут и у нас аметистовые семена! Тогда и увидишь, лучше или хуже живая семенная струя против твоего синеалого камешка.
Потом спохватился:
— Постой! Мне ведь опять скоро ехать на семенную. Поедем со мной. Поглядишь.
И что ты думаешь? Съездил ведь я, видел эту самую «Кускуту». Машина как машина. Сита да валики. Умно придумано, чтоб куколь и другие сорняки отгонять. Да не в этом дело. Не приучен я в машинах разбираться. А вот как пошла по корытцу синеалая с желтинкой струя, тут уж я глаз оторвать не мог. Вроде самого лучшего камня да ещё в таких переливах, каких мне видать не приводилось.
Ну, а кончилось это тем, что нас со старухой приняли в колхоз. Не на отшибе от людей теперь живём, а специальность моя называется — клеверное семеноводство.
Добился-таки я фиолетовых-то семян! Мы ведь, горщики, приметливы. Без этого нам нельзя. А клевер что? Та же кашка. В наших местах по-дикому растёт, и белая, и красная. Бывало, на передышке лежишь на травке, разомнёшь у поспелого цветка головку и видишь, что семена разные: одни полнее, другие потощее. Начинаешь разбирать, почему такое? Ещё сломишь одну-две головки с других кустов. Оно и видно станет, — на котором кусте головок меньше, там и семена полнее. Вот я и стал потом, как в колхозе к этому делу подошёл, лишние головки обрывать. Сперва, понятно, на малом месте, на одной грядке. Вижу, — хорошо пошло, расширяться с этим стал, а тут и отборные вручную семена сказываться начали. Теперь у нас, как клеверная струя при очистке бежит, — залюбуешься. Нарочно люди приходят, чтоб на неё поглядеть. Про меня и говорить нечего. Как маленький жду этих дней. А ведь дело-то какое!
На днях вон новый полевод, — наш-то Петруха погиб на войне с проклятыми фашистами, — вычитывал на собрании, что к концу пятилетки по нашей стране под укос должно пойти что-то свыше двадцати миллионов гектар многолетних трав. Подумай, сколько семян потребуется. А ведь клеверок — он всем травам трава. Не только сверху богатство даёт, а больше того в земле накопляет. Семечко дорогое! А наше и того дороже, потому не бурое, не красник, а синеалое, — аметистовое.
Вот и выходит, что я при аметистовом деле остался, только теперь моя старуха не ворчит, а похваливает:
— В самую точку, Иванушка, придумал! Это и Петрухе нашему память, как он всегда о клевере хлопотал, да и дело самой широкой руки. Не чета твоим камешкам!
Это она, конечно, зря, про камешки-то судит. Не понимает, старая, да и Петрухе покойному не умел я втолковать, что камень никогда себя не потеряет, и сила тут не в одной красоте. Война вон, сказывают, показала, что даже каменные отходы, которые в огранку не брали, на большое дело пригодились. Ну, я об этом помалкиваю. Не ворошу старого. В одном старуха права, — уж очень это широкое дело и в глубь далеко идёт. Прямо сказать, землю молодит. И глазам утешно на живую аметистовую струю поглядеть. Будто все аметисты, какие добыл за свою жизнь, перед тобой проходят, да и те видишь, какие в горах остались.
1947 г.
Рудяной перевал
удто и недавно было, а стань считать, набежит близко шести десятков, как привелось мне в первый раз услышать про этот рудяной перевал. Разговор вроде и маловажный, а запомнился накрепко. А теперь вот, как подольше на земле потоптался, вижу, не вовсе зря говорилось. Пожалуй, и нынешним молодым послушать это не в забаву.
Родитель мой из забойщиков был. На казённом руднике с молодых лет руду долбил. Неподалёку от нашего завода тот рудник. Не больше семи верст по старой мере считалось. Тятя на неделе не по одному разу домой ночевать прибегал, а в субботу вечером и весь воскресный день непременно дома.
Жили мы в ту пору, не похвалюсь, что вовсе хорошо, а всё-таки лучше многих соседей. Так подошлось, что в нашей семье работники с едоками чуть не выровнялись. Отец ещё не старый, мать в его же годах. Тоже в полной силе. А старший брат уж женился и в листобойном работу имел. Братова жена, — не любил я её за ехидство, не тем будь помянута покойница, — без дела сидеть не умела. Работница — не похаешь. Не в полных годах мы с сестрёнкой были. Ей четырнадцать стукнуло. Самая та пора, чтоб с малыми ребятами водиться. Её в семье так нянькой и звали. Мне двенадцатый шёл. Таких парнишек в нашей бытности величали малой подмогой, Невелика, понятно, подмога, а всё-таки не один рот, сколько-то и руки значили: то-другое сделать могли, а ноги на посылках лучше, чем у больших. Голых-то едоков у нас было только двое братовых ребятишек. Один грудной, а другой уж ходить стал.
При таком-то положении, ясное дело, семья отдышку получила, да не больно надолго. Мамоньке нашей нежданная боль прикинулась. Кто говорил, — ногу она наколола, кто опять сказывал, будто какой-то конский волос впился, как она на пруду рубахи полоскала, а только нога сразу посинела, и мамоньку в жар бросило, прямо до беспамятства. Фельдшер заводский говорил, — отнять надо ногу, а то смерть неминучая. По-теперешнему, может, так бы и сделали, а тогда ведь в потёмках жили. Соседские старушонки в один голос твердили:
— Не слушай-ка, Парфёновна, фельдшера. Им ведь за то и деньги платят, чтоб резать. Рады человека изувечить. А ты подумай, как без ноги жить. Пошли лучше за Бабанихой. Она тебе в пять либо десять бань всякую боль выгонит. С большим понятием старуха.
Герасим с Авдотьей, — это большак-то с женой, — хоть молодые, а к этому старушечьему разговору склонились. Нас с сестрёнкой никто и спрашивать не подумал, да и что бы мы сказали, когда оба не в полных годах были.
Ну, пришла эта Бабаниха, занялась лечить, а через сутки мамонька умерла. И так это вкруте обернулось, что отец прибежал с рудника, как она уж насовать стала. В большой обиде на нас родитель остался, что за ним раньше не прибежали.
Похоронили мы мамоньку, и вся наша жизнь вразвал пошла. Тятя, не в пример прочим рудничным, на вино воздержный был, и тут себе ослабы не дал, только домой стал ходить редко. В субботу когда прибежит, а в воскресенье, как ещё все спят, утянется на рудник. Раз вот так пришёл, попарился в бане и говорит брату:
— Вот что, Герасим! Тоскливо мне в своей избе стало. В рудничной казарме будто повеселее маленько, потому — там на людях. Правьтесь уж вы с Авдотьей, как умеете, а мне домой ходить — только себя расстраивать. Из своих получек буду вам помогать, а вы здесь моих ребят не обижайте.
Тут надо сказать, что Авдотья после мамонькиной смерти частенько на меня взъедаться стала: то ей неладно, другим не угодил. Да ещё на меня же и жалуется, тятя меня строжит.
Мне такое слушать надоело. Я, как этот разговор при мне был, и говорю:
— Возьми меня, тятя, с собой на рудник!
Родитель оглядел меня, будто давно не видывал, подумал маленько и говорит:
— Ладное слово сказал. Так-то, может, и лучше. Парнишка уж не маленький. Чем по улице собак гонять да с Авдотьей ссориться, там хоть к рудничному делу приобыкнешь.
Так я по двенадцатому году и попал на рудник да и приобык к этому делу, надо думать, до могилы. Седьмой десяток вот доходит, а я, сам видишь, хоть на стариковской работе, а при руднике. Смолоду сходил только в военную, отсчитал восемь годочков на персидской границе, погрелся на тамошнем солнышке и опять под землю прохлаждаться пошёл. В гражданскую тоже года два под ружьём был, пока колчаковцев из наших мест не вытурили, а остальные годы всё на рудниках. В разных, понятно, местах, а ремесло тятино — забойщик. По-старому умею и по-новому знаю. Как перфораторные молотки пошли, так мне первому директор эту машинку доверил.
— Получай, Иваныч! Покажи, что старые забойщики от нового не чураются.
— И что ты думаешь? Доказал! В газете про меня печатали. Да я теперь, хоть по старости от забоя отстранен, всё новенькое, не беспокойся, понимаю: как, скажем, с врубовкой обходиться, как кровлю обрушить по-новому, чтобы сразу руду вагонами добывать. Да и как без этого, коли тут моё коренное ремесло, по наследству от родителя досталось. Одна у нас с тятей забота была, — как бы побольше из горы добыть, себе заработать и людям полезное дать. А насчёт того, что наши горы оскудеть могут, у меня и думки не бывало. С первых годов, как в рудничную казарму попал, понял это. По-ребячьи будто, а подумаешь, так тут и от правды немалая часть найдётся.
Чтобы это понятнее было, сперва о старых порядках маленько расскажу.
Про нынешних шахтёров вон говорят, что чище их никто не ходит, потому — каждый день, как из шахты, так и в баню. А раньше не так велось. На три казармы была одна банёшка, но топили её только по субботам да накануне больших праздников. В будни, дескать, и без этого проживут. Да и банёшка была вроде тех, какие при каждом хозяйстве по огородам ставили. Чуть разве побольше. Человек тридцать, от силы пятьдесят в вечер перемыться могут. Поневоле людям приходилось на стороне где-то баню искать.
Об еде для рудничных у начальства тоже заботушки не было. Кормитесь сами, как кому причтётся. Не то что столовой, а и провиянтского амбара сами не держали, и торгашей не допускали. Даже кабатчикам дороги не было. Боялись, надо думать, что тогда золото больше будет утекать к тайным купцам.
В рудничной казарме тоже сладкого немного было. С нынешними общежитиями, небось, не сравнишь. Кроватей либо там тумбочек да цветочков никто тебе не наготовил, плакатов да портретов тоже не развешали и об уборке не заботились. Казарменный дедко на этот счёт так говорил:
— Моё дело печи зимами топить, баню по субботам готовить да присматривать, чтоб кто вашим чем не покорыстовался, а чистоту самосильно наводите.
Ну, самосильно и наводили, — свой сор соседям отгребали, а те наоборот. Как вовсе невтерпёж станет, примутся все казарму подметать. Чистоты от этого мало прибавлялось, а пыли густо. Казарма, видишь, вроде большого сарая. Из бревён всё-таки, и пол деревянный, потому — места у нас лесные, недорого дерево стоит. В сарае нары в два ряда и три больших печи с очагами. Над очагами верёвки, чтоб онучи сушить. Как все-то развешают, столь ядрёный душок пойдёт, что теперь вспомнишь, и то мутит. Ну, зимами тепло было. Дедко казарменный не ленился печи топить, а в случае и сами подбрасывали. На дрова рудничное начальство не скупилось. Всегда запас дров был. Теплом-то, может, они людей и держали. По моей примете немалое это дело — тепло-то. Придут вечером с работы — смотреть тошно. Что измазаны да промокли до нитки — это ещё вполгоря. Хуже, — что задень всяк измотался на крепкой породе до краю. Того и гляди, свалится. А разуются, разболокутся, сполоснут руки у рукомойника — сразу повеселеют, а похлебают горяченького либо хоть всухомятку пожуются, — и вовсе отойдут. Без шуток-прибауток да разговоров разных спать не лягут. Конечно, и пустяковины всякой нагородят, что малолеткам и слушать не годится, только и занятного много бывало. Если бы всё это записать, так не одна бы, я думаю, книга вышла. А любопытнее всего приходилось вечерами по субботам да по воскресеньям с утра, пока из завода не прибегут с кабацким зельем.
Тут, видишь, в чём разница была. В каждой казарме жило человек по сту, а то и больше. Добрая половина из них заводские. Эти не то что на праздники да воскресные дни, а и по будням, случалось, домой бегали. Пришлые, которые из дальних мест, тоже не привязаны сидели. Каждому надо было себе провиянту на неделю запасти, кому, может, надобность была золотишко смотнуть да испировать, дружков навестить. В субботу, глядишь, как подымутся из шахты, все и разбегутся. В казарме останется человек десяток-полтора. Эти в баню сходят, попарятся и займутся всяк своим делом. Накопится за неделю-то. Кому надо рубахи в корыте перебрать, кому подмётку подбить, латку поставить, пуговку пришить. Да мало ли найдётся. Вот и сидят в казарме, либо, когда погода дозволяет, кучатся у крылечка. Без разговору в таком разе не обходилось. Судили, о чём придётся: про рудничные дела, про своё житейское. Иной раскошелится, так всю свою жизнь расскажет, а кто и сказку разведёт. Вечерами, как из завода винишка притащат, шумовато бывало. Порой и до драки доходило, а до того все трезвые, и разговор спокойный. Малолетков оберегали: за зряшные слова оговаривали.
Один вот такой разговор мне и запомнился.
В нашей казарме в числе прочих был рудобой Оноха. Работник из самых средственных. Как говорится, — ни похвалить, ни похаять. Одна у него отличка была: заботился, чем внуки-правнуки жить будут, как тут леса повырубят, рыбу повыловят, дикого зверя перебьют и всё богатство из земли добудут. Сам ещё вовсе молодой, а вот привязалась к нему эта забота. Его, понятно, уговаривали, а ему всё неймётся. По такой дурнинке ему кличку дали Оноха Пустоглазко. Он из наших заводских был и на праздники всегда домой бегал, а тут каким-то случаем остался. Ногу, должно, зашиб. Без того Оноха не мог, чтоб про своё не поговорить. Он и принялся скулить, — старики, дескать, комьями золото собирали, нам крупинки оставили, а что будет, как мы это остатнее выберем.
При разговоре случился старичок из соседней казармы. Забыл его прозванье. Не то Квасков, не то Бражкин. От питейного как-то. Оно ему и подходило, потому как слабость имел. Из-за этого и в рудничную казарму попал. Раньше-то, сказывали, штегарем был, сам другим указывал, да сплоховал в чём-то перед хозяевами, его и перевели в простые рудобой. При крепостной поре это было, — не откажешься, что велели, то и делай. Только и потом, как крепость отпала, он в том же званьи остался. Видно, что моё же дело, — привык к одному. Куда от него уйдёшь? Рудничное начальство не больно старика жаловало, а всё-таки от работы не отказывало, видело, — практикованный человек, полезный. А рудничные рабочие уважали, первым человеком по жильному золоту считали и в случае какой заминки, — нежданный пласт, скажем, подойдёт, либо жила завихляет, — всегда советовались со стариком.
Этот дедушко Квасков долго слушал Онохино плетенье, потом и говорит:
— Эх, Оноха, Оноха, пустое твоё око! Правильное тебе прозванье дали. Видишь, как дерево валят, а того не замечаешь, что на его месте десяток молоденьких подымается. Из них ведь и шест, и жердь, и бревно будет. Про рыбу и говорить не надо. Кабы её не ловить, так она от тесноты задыхаться бы в наших прудах стала. А дикого зверя выбьют, кому от того горе? Больше скота сохранится.
Оноха, понятно, не сдаёт.
— Ты, — спрашивает, — лучше скажи, откуда земельное богатство возьмётся, когда мы это всё выберем? Тоже выростет?
— На это, — отвечает, — скажу, что понятие твоё о земельном богатстве хуже, чем у малого ребёнка. Да ещё выдумываешь, чего сроду не бывало.
Оноха в задор пошёл:
— А ты докажи, что я выдумал! Ну-ка, докажи!
— Что, — отвечает, — тут доказывать, коли просто рассказать могу и свидетелей поставить. Говоришь вот, что старики комьями золото добывали, а я на сорок годов раньше твоего к этому делу пришёл, так сам видел эту добычу. Комышки в верховых пластах, верно, бывали, а на месяц всё-таки сдача фунтами считалась, а мы теперь пудами сдаём. Про нынешнюю сдачу все вы сами знаете, а про старую спросите у любого старика, который к этому делу касался. Всяк скажет, что и я, — фунтами сдачу считали. Редкость, когда за пуд выбежит.
Онохе податься некуда, а всё за своё держится:
— Нет, ты скажи, что добывать будут, как мы эти твои пуды выберем.
— Сотнями, может, пудов месячную добычу считать станут.
— В котором это месте?
— Может, в этом самом. Видал, главная жила вглубь пошла? Мы за ней спуститься боимся: с водой и теперь не пособились. Ну, а придумают водоотлив половчей, тогда и пойдут вглубь, как по большой дороге.
— Когда ещё такое будет! — посомневался Оноха.
— Это, — отвечает, — сказать не берусь, а только на моих памятях в рудничном деле большая перемена случилась. Вспомнишь, так себе не веришь. Застал ещё то время, как породу черёмухой долбили. Лом такой был. Пудов на пятнадцать весом. Чтоб не одному браться, у него в ручке развилки были. Вот этакой штукой и долбили. Потом порохом рвать стали, а теперь, сам знаешь, динамитом расшибаем. Несравнимо с черёмухой-то. Велика ли штука насос-подергуша, а и тот не везде был. На малых работах бадьёй воду откачивали. Вот и сообрази, сколь податно у стариков работа шла. Только тем и выкрывались, что когда комышек найдут. Не столь работой, сколь удачей брали. Да и много ли они мест знали!
Тут дед Квасков стал рассказывать, сколько на его памятях открыли новых приисков и рудников, потом и говорит:
— И то помнить надо, что земельное богатство по-разному считается: что человеку больше надобно, то и дороже. Давно ли платину ни за что считали, а ныне за неё в первую голову ловятся. Такое же может и с другим случиться. Если дедовские отвалы перебрать, так много полезного найдём, а внуки станут наши перебирать и подивятся, что мы самое дорогое в отброс пускали.
— Сказал тоже! — ворчит Оноха.
— Сказал, да не зря. Про платину я уж тебе говорил, а про порошок, какой знающие при варке стали подсыпают, как думаешь? На моё понятие, он много дороже золота и платины, потому — для большого дела идёт, и редко кто знает, где его искать, а он, может, вот в этом голубеньком камешке. Вот и выходит, что земельное богатство не от горы, а от человека считать надо: до чего люди дойдут, то и в горе найдут. И не в одном каком месте, а в разных, да в каждом с особинкой, потому — рудяной перевал не одной силы бывает и по-разному закручивает.
Оноха и привязался к этому слову:
— Какой такой рудяной перевал? Не малые дети мы, чтоб твои сказки слушать. Выдумываешь вовсе несуразное!
— Нет, — отвечает, — не выдумка, а могу на деле тебе показать. Возьмём, скажем, наши отвалы. Думаешь, — так они навек голым камнем и останутся? Как бы не так! Забрось-ка их на много лет, так и места не признаешь. В ту вон субботу зашёл я к сестре, — за покойным Афоней Макаровым была, по Новой улице у них избушка. Сидим, разговариваем с сестрой… В это время прибежали из лесу две её внучки, девчонки-подлетки, и хвалятся:
— Гляди, бабушка, полнёхонька корзинка княженики!
Потом у меня спрашивают:
— Что это за место такое? В густом лесу набежали мы на горушку. Тоже вся лесом заросла, только лес помоложе. И до того эта горушка крутая, что подняться трудно. Стали обходить и видим, — в одном месте как проход сделан и там полянка круглая. Горушкой она, как кольцом, опоясана и вся усеяна княженикой.
По приметам я хоть понял, в котором это месте, а всё-таки на другой день сходил, не поленился поглядеть эту горушку. Так и оказалось, как думал, — Климовский это рудник. Когда я ещё парнишкой был, там тоже жильное золото добывали, шахта глубокая считалась, а отвалы — чистая галька. А тут, — гляжу, — откуда-то на отвалах земля взялась и лес вырос. Ровнячок сосна. Жердник уж перешла, до полного бревна не дотянулась, а на мелкую постройку рубить можно. Шахта, конечно, сверху забросана была жердником да чащёй, чтобы какая скотина не завалилась, а никакого завала не видно. Всё накрепко задернело, только в том месте, где шахта, бугорок маленький. Кто не знал про старый рудник, тот не подумает, что под полянкой шахта глубиной сажен на тридцать. И на всей этой полянке княженика, а кругом нигде этой ягоды не найдёшь. Вот и отгадай загадку, кто её тут посеял и почему она на этом месте привилась? А по-моему, земля тут оказалась не такая, как за горушкой. Ну, а стань копаться в этих отвалах, наверняка найдёшь такое, что раньше в помине не бывало. Известно, в одном месте водой вымыло, ветром выдуло, в другом опять комом намыло да нанесло, где песок в камень сжало, где, наоборот, камень в песок раздавило. Выходит, — было одно, стало другое, а которое дороже, об этом те рассудят, кому после нас это место перебирать доведётся.
— Только это верховой перевал. Его всякому, кто поохотится, можно поглядеть. А есть низовой перевал…
Тут Оноха руками замахал: «Что ещё скажешь! Слушать неохота!» и убежал.
Все, которые тут сидели, посмеялись:
— Беги-ка, беги, раз в угол тебя дедко загнал! А ты, дедушка, рассказывай. Любопытно.
— Да тут, — говорит, — и рассказывать-то мало осталось. Слыхали, небось, про сады Хозяйки горы, как там деревья меняются. Было синее — стало красное, было жёлтое — стало зелёное. Это хоть сказка, да не зря сложена. Пустоглазко, может, этого не разберёт, а кто правильно глядит, тот и сам заметит, если ему случилось в горе немало годов поворочать. Скажем, на нашем руднике жила идёт большим ручьём, а вдруг на ней пересечка. Откуда она взялась? И почему в пересечках разное находят? По этим пересечкам и видно, что земля не вовсе угомонилась. В ней передвижка бывает. Рудяной перевал называется. После такого перевала, сказывают, в горе такое окажется, чего раньше не добывали. На старом вон руднике про такой случай старики рассказывали. Обвалилась штольня, а в конце-то люди были по забоям. Три человека. При крепостном положении, известно, не больно о человеке тужили. Воля, дескать, божья, и откапывать не стали, а эти люди на другой день сами вышли и вовсе не там, где рудничные работы велись. Так вот эти люди рассказывали, что видели этот рудяной перевал.
Сперва, как обвал случился, кинулись откапываться. Им ведь не известно было, что вся штольня завалилась. Ну, намахались и чуют, дыханье спирать стало. Тут они поняли, что дело вовсе плохо, конец пришёл. Пригорюнились, конечно: всякому ведь умирать неохота. Сидят, руки опустили, а дыханье вовсе спирать стало. Вдруг видят, — в одной стороне запосверкивало, и огоньки разные: жёлтый, зелёный, красный, синий. Потом все они смешались, как радуга стала, только не дугой, а вроде прямой просеки в гору. С час они на эту подземную радугу глядели, а как стемнело, сразу почуяли, что дыханье облегчило. Рудобои привычные были, смекнули, что щель на волю открылась. Дай, думают, попытаем, нельзя ли и самим выбраться. Пошли. Щель вовсе широкая оказалась и много выше человеческого роста. Дорожка, конечно, не больно гладкая, а всё-таки вышли по ней в лес, почитай, в версте от рудника.
Рудничное начальство, как узнало об этом, первым делом занялось посмотреть, нет ли чего нового в этой щели. Оказалось, — в тех же породах много сурьмянной руды, а её до той поры на руднике никогда не добывали. Вот и смекай, к чему подземная радуга привела.
На этом разговор и кончился.
Из завода трое выпивших пришли, вина с собой притащили, угощать старика стали:
— Дедко, уважь! Выкушай от меня стаканчик!
Старик на это слабость имел, и речи другие пошли. Оноха и после этого разговора вздыхать не перестал. В ненастье, видно, родился, — не проняло его.
Только теперь, как начнёт своим обычаем пристанывать, ему кто-нибудь непременно напомнит:
— Ты лучше скажи, как от дедушки Кваскова бегом убежал.
Оноха сердился, кричал:
— Нашли кого слушать! Самые пустые его речи!
Ну, а мне и другим этот разговор дедушки Кваскова в наученье пошёл. Теперь, как погляжу да послушаю, что у нас добывать стали, вспоминаю об этом разговоре. Насчёт подземной радуги сомневаюсь. Может, она померещилась людям, как они задыхаться стали. А насчёт остального правильно старик говорил. Сам вижу, что внукам и то понадобилось, на что мы вовсе не глядели. Недавно вон мой дружок-горщик хвалился кварцевой галькой со слабым просветом. Пьезо-кварц называется. — Дорогой, — говорит, — камешек, для радио требуется. А я помню, тачками такую гальку на отвалы возил, потому — в огранку не шла и никому не требовалась.
А того правильнее — наши горы всё дадут, что человеку понадобится. Смотри-ка ты, что вышло! За войну у нас как молодильные годы по рудникам прошли, — столько нового открыли, что и не сосчитаешь. И не крошки какие, а запасы на большие годы. Как видно, рудяной перевал прошёл.
Не столь, может, в горе, сколько в людях: светлее жить стали, многое узнали, о чем нам, старикам, и не снилось. Ну, и орудия другая, — не обушок с лопатой, а много способнее.
В этом, надо полагать, и есть главный перевал, после коего жизнь по-новому пошла.
1947 г.
Дорогой земли виток
о порядку говорить, так с Тары начинать придётся. Река такая есть. Повыше Тобола в Иртыш падает. С правой стороны. При устье городок стоит, Тарой же называется. Городок старинный, а ни про него, ни про реку больших разговоров не слышно. Жильё, видишь, в той стороне редкое, — и славить, как говорится, некому. А меж тем река немалого весу: лес по ней сплавляют, и пароходы с давних годов ходят. Мелконькие, конечно, и не во всё время, а только по полой воде.
Мне всё это за новинку показалось, как сам-то из других мест. С молодых годов и по сей день работа моя по угольным шахтам. Прирождённый, можно сказать, угольщик, а тут оказался на этой самой Таре, в партизанском отряде. Как это вышло, рассказывать долго, да и речь не о том.
Отряд был маленький. Только что начал собираться. В начальниках у нас ходил Фёдор Исаич. Пожилой уж человек, из унтер-офицеров старой службы, а раньше сказывают, слесарем был не то в Омске, не то в Куломзинском депо. Из пришлых, кроме нас двоих, был ещё один с московского какого-то завода. Звали этого парня Вася Стриженый ус. Сибиряки, видишь, по тому времени усы-бороду в полный рост запускали, — у кого как выйдет, а этот обиходил себя, — брился и усы коротенько постригал. По грамоте он у нас вроде политрука был, а потом, слышно, в военкомы вышел. Жив ли теперь, — не знаю. Справиться бы, да фамилию так и не узнал, а по прозвищу разве доберёшься. Хороший парень. Любили его. Остальные, конечно, из тамошних крестьян были. Из бедноты больше. Ну, и средняк тоже подходить стал. Возраст был разный, а про обученье военное и говорить не приходится. Были и фронтовики, были и такие, что винтовку до того в руках не держали. Ну, и охотники были. Из таких, что пулю никогда мимо не пустят. А больше всего было лесорубов да сплавщиков. Народ, надо сказать, на редкость крепкий, терпеливый да изворотистый.
Пока были глубокие снега, отряд наш держался в заброшенной смолокурке. Туда без лыж не пройдёшь. Лыжи и были главной нашей силой. На лыжах наши нежданно-негаданно для колчаковцев появлялись в дальних деревнях, делали там переполох, отбивали оружие и уходили. Главной заботой отряда тогда было добыть побольше оружия и патронов. С кормёжкой тоже было туговато, но всё-таки лучше. Лосиное мясо добывали охотой, а хлеб доставали через надёжных людей из двух деревень.
С таянием снегов стало гораздо хуже: лося уж не добудешь да в деревни дальние не проберёшься. Пришлось переменить место остановки. Наши деревенские дружки в это время как раз передали, что по первой воде до Займища побежит пароход за оружием и патронами, которые будто бы там хранятся. Нам такой случай пропускать было нельзя, потому как недостача оружия и патронов нас больше всего вязала. Перекочевали к татарскому берегу в глухом месте и решили тут покараулить.
Так и вышло. Только как Тара очистилась ото льда, так вверх пробежал маленький пароходик. Шёл он сторожко, гудков не давал и мимо деревень старался проскользнуть либо ранним утром, либо вечером. Видно, что идёт он неспроста, таится. Значит, не зря говорили, что за особым грузом.
Из леса мы видели этот пароходишко. Вроде катера он, только колёсный. Местные жители объяснили:
— На таких пассажиров не возят. Это подрядчики по лесному делу на таких по полой воде везде шныряют. Посадка, видишь, мелкая. Такой может теперь туда пробраться, куда потом и на лодке не просунешься. Судовой прислуги на нём не больше четырёх человек: штурвальный, — он для важности капитаном зовётся, механик, кочегар да матрос. А всё-таки с лодок его, поди, не возьмёшь. Подготовку надо сделать.
Командир наш сперва посомневался: «простоим тут неведомо сколько!»
Плотовщики всё-таки его сразу уговорили:
— Не беспокойся! Вода, видишь, слабая. Того и гляди, на убыль пойдёт. Пароходу-то назад поторапливаться надо, а то застрянет на всё лето. Дня через два непременно должен обратно пройти.
— Коли так, — решил командир, — делайте подготовку как лучше, а я в пехоте служил, — не умею с пароходами обходиться.
Плотовщики и занялись. Первым делом пригнали из деревни две лодки. Потом в узком месте реки сделали завалы: с того и другого берега свалили несколько сосен вершинами в воду. С ходовой стороны прикрыли завалы кустами талинника, — будто подмоина скопилась. Из толстых брёвен приготовили сплоток, чтобы лычагами перетягивать его с берега на берег. Для верности в узком проходе забили ещё десятка два жердей в наклон против воды. Концы срезали с расчётом разбить пароходные колёса. В ту весну никто сверху лесу не сплавлял, и можно было не бояться, что тяжёлый плот своротит всю эту загороду.
На деле вышло даже лучше, чем предполагали. Штурвальный, видно, понадеялся проскочить меж кустов под берегом и налетел на завал да так ловко, что наши сразу заняли палубу. Штурвального, который ухватился за оружие, сбросили в Тару.
— Прохладись, коли ты такой горячий на хозяйское добро!
В трюме оказалось шестеро охранников из мобилизованных. Они побросали винтовки. Словом, обошлось всё гладко, но вместо ожидаемого оружия и патронов оказалась пушнина, плиточный чай, сколько-то голов сахару и три мешка пшена. Тобольский купчишка, надо думать, обманул своих: насказал им о складе оружия на Займище, а сам думал, как бы вывезти свой товар. Теперь этот купчишка стоял около мешков с пушниной и бормотал:
— Не при чём я тут, товарищи! Вовсе не при чём! Подневольный человек… Что мне велят, то и делаю.
— Оружие есть? — спросил его один из наших.
— Что вы, что вы, товарищи! Какое у меня оружие. Хозяин, правильно сказать, велел мне оборужиться, да я наотрез отказался. Раз не военный человек, с оружием обращаться не умею, на что мне оно. Да и не согласен я кровь проливать…
— Вишь, разговорчивый, стерва! — удивился подошедший к нему отрядник. — А ну, показывай!
В это время мешки с пушниной зашевелились. Их сейчас же раскидали. Под мешками оказалось трое связанных по рукам и по ногам с забитыми джебагой ртами. Двое мужчин, одна женщина.
Первой освободили от верёвок женщину. Это оказалась старуха такого большого росту, что редко встретишь, да и по глазам приметная. Волосы, понимаешь, седёхоньки, брови тоже, а глаза чёрные и блестят, как вот антрацит в изломе. Смотреть даже в такие глаза беспокойно, — будто ты что неладное сделал.
Старуха выхватила клок джебаги изо рта, отплевалась, откашлялась и шагнула в сторону купца.
— Завертелся, пёс? Подневольным прикинулся, а на деле кто? Не по твоему ли наущенью связали нас, будто мы оружие у тебя растащили? Вот и объясни теперь, в котором месте у тебя оружие было и на кого ты его припасал?
Потом совсем по-другому объяснила нам:
— Кабы такой склад на деле был, давно бы его нашли и передали, кому следует.
Купчишка, знай, машет руками на старуху и твердит одно:
— Ведьма, она. Шаманка. Не верьте ей, не верьте!
Тут двое других освобождённых заговорили:
— Точно, хозяин он. На Займище у него скупка пушнины, а склада оружейного не было. Только и было оружия, что с собой привозил: магазинка на пятнадцать зарядов да два револьвера. В машинном отделении, надо думать, спрятал. Туда бегал.
— А запасные патроны вон в том мешке, — указала старуха.
Магазинку, револьверы и патроны нашли. Суд над купцом был короткий: в Тару. За ним же и двоих охранников. Про них освобождённые в один голос говорили:
— Собаки хозяйские. Всё вынюхивали да норовили каждого укусить. И над народом измывались. Пушнину и деньги рвали.
Только покончили с этим делом, из деревни прибежали двое подростков. Сыновья нашего деревенского дружка Степаныча. Запыхались оба, друг дружку перебивают, торопятся рассказать.
— Конные в нашу деревню наехали… По избам с плетями ходят… Про вас допытываются… Когда были, сколько человек?
— Тятя сейчас из лесу прибежал… Велел сказать… Рота за ними идёт… А поручик у них тот самый, который к нам по порке приезжал… С чёрными усами… распушены, как у кота… И два у них пулемёта… Один со сковородкой… Тятя забыл, как его зовут… А другой — «Максим»…
— При «Максиме» пулемётчиком Филька Храпов… Из нашей деревни…
— Большой дом… У мостика который…
В нашем отряде хоть прибавилось оружия, но патронов было мало. Приходилось уходить в лес. Выслали в сторону деревни небольшой заслон и стали готовиться к отходу. Пушнину переправили на другой берег, запрятали там в кустах и наказали ребятам:
— Скажите отцу, — пусть приберёт, как можно станет.
Пароходик оттянули на глубокое место и затопили по трубу. Сплоток и одну из лодок пустили по реке в расчёте, что деревенские переймут. Самое же привычное дело. Мало ли несёт по воде. Другая лодка была Степанычева. На ней велели ребятам задержаться на реке до вечера. Будто целый день рыбачили. Чтоб на правду походило, сак им оставили и даже рыбы сколько было в лодку набросали.
Двоим освобождённым дали винтовки. Четверых бывших охранников и троих из судовой прислуги приняли в отряд, но оружия не дали.
— Будете вроде нестроевых, а дальше поглядим, — сказал командир.
Старуху он сначала хотел отговорить:
— Ты бы, бабушка, шла в деревню. Сказалась бы проходящей. Иду, дескать, в город с внучатами повидаться. А то куда тебе с нами по лесам шататься.
Старуха это выслушала да и говорит:
— Худо, милый сын, придумал. Худо! Кто же из здешних берегом в город пойдёт, когда сплыть можно, и лодка там дороже, чем её тут купить. Да и знают меня по всей Таре и Тартасу и в Тобольске тоже. Пёс-от тот не зря меня спеленал. Выкрыться перед своими хотел. Вот, дескать, это и есть ходячая зараза. Бродит везде да мутит народ. Всем наговаривает, будто большевики ладно придумали, что без хозяев легче и светлее станет жить.
— Ну, дело твоё, — согласился наш Исаич. — Только на нас не пеняй, коли тяжело придется, как годы твои немолодые.
— Об этом, — отвечает, — печали нет. По лесам-то бродить привычна. Не всяк молодой за мной угонится, и места кругом знаю не хуже доброго охотника. Может, пригожусь ещё этим. Кровь остановить могу, травами да мазями людей пользую. В военном деле мало ли случается, что человеку пособить надо. В досужий час и сказку могу сказать. Послушаешь — не похаешь.
— Ну-ну, — улыбнулся командир: — зачислена на все виды довольствия в санчасть отряда «Северный боец».
Так вот и появилась в нашем отряде первая женщина — рослая, могутная старуха, с пронзительными глазами. Ни раньше, ни позднее не слыхивал я такого имени.
Звали её Кумида. Думали сперва, — раскольница либо какой другой нации. Но тоже не подходило: не молитвенница и по-нашему говорила без всякой оплошки.
С самого начала бабка услужила отряду. Она посоветовала:
— Слушай-ка, начальник! Коли силы у вас нехватка, давайте-ка сведу вас под лесную ущиту. На меж-полдень, видишь, место посуше пошло. Вёрст через 20 там и вовсе горки пойдут. Тайга там в урман клином врезалась, а в тайге по моховому болотцу буревал прошёл. Полянка не полянка, а всё-таки чистенькое место. Ежели руки с топорами приложить, так и вовсе ладно устроить можно. Заберись на эту полянку, и не то что пулемётом, пушкой тебя не доймёшь, а ты постреливай без урону. И от Тары не больно далеко. В случае опять поохотничать можно.
Бабке поддакнул один охотник:
— Верно сказывает. Про полянку не знаю, а таёжный лес в том месте близко подходит.
Кому в это вникать не доводилось, тому, что бор, что парма, что урман, что тайга — всё лес, а на деле разница есть, и не маленькая. Про бор да парму тут говорить не стану, а урман от тайги большую отличку имеет. По урману не то что пешему, а и конному пробираться просто. Там всегда прогалы есть. По-сибирскому гривками зовутся. Ну, а тайга — лес сплошняком. Через такой не скоро продерёшься.
Вот к такому сплошняку и привела нас бабка Кумида. Всё оказалось, как она говорила. Наши лесорубы живо руки приложили: кое отвалили, кое подчистили, и вышло становище, хоть костры ночами запаливай. Дороже всего, что и вода тут. Болотная, правда, а пить всё-таки можно.
На другой день конники колчаковские по нашему следу добрались, да семь винтовок потеряли. Ну, патронов у них тоже маловато было. Только по две запасных обоймы.
Поручик с ротой тоже подходил. У него хуже вышло. Он, видишь, сперва для устрашенья видно, две пулемётных ленты израсходовал почём зря, — по таёжному лесу. А наши охотники в ответ пулемётчиков сбили. В том числе и Фильку Храпова кончили. Тогда поручик решил, видно, нас измором взять, обложил наш таёжный угол цепью. Только нам это вполгоря, потому хлебных припасов у нас дней на десять было, вода есть, и наши посменно отдыхали у костров, а тем приходилось маяться на холодной апрельской земле. Да у поручика и тем было хуже, что народ насильно мобилизованный, а наши по ночам кричат:
— Кому надоело за буржуев воевать, переходи к нам. Винтовку дулом книзу — примем! Кто больше патронов принесёт, тому веры больше.
Кончилось тем, что наш отряд пополнился, а поручик с остатками роты еле ноги уволок, и пулемёт у него, — со сковородкой-то, — отбили. По тому времени это штука немаловажная была. Потом, как опять на Тару вышли, про нас заговорили: «у них пулемёт есть», и средняки, которые всё ещё в затылках чесали, как быть? — стали один по одному подходить к нам. Наш Исаич уж заподумывал, не пора ли на городок ударить.
В военном деле, конечно, не без урону. Были у нас убитые и раненые. Вскоре мы все узнали, что бабка Кумида — лекарка знатная. Как-то у неё и перевязка всегда найдётся, и мази, и пластыри. Питьё тоже из разных трав варила. Прямо сказать — полная аптека. Да ещё что! Раньше я не верил этому, а тут воочию увидел, — могла она кровь останавливать. Коли рана верховая, по мякоти, бабка оголит это место на руке ли, на ноге, уставится на раненого глазами и начнёт наговаривать. Слова будто ласковые, а глазами так и буравит, так и буравит. Глядишь, — кровь и остановится. После того перевяжет бабка рану натуго и даст своего питья, от которого человек сразу заснет. Спит долго. Выспится, день-два с перевязкой походит, — и здоров.
Дивились мы этому. Васю нашего спрашивали, в чём тут сила. Ну, он говорил, что слова тут не при чём, а сила в бабкиных глазах. Ими она человека покоряет, заставляет верить, что он здоров. Может, верно это, а только мне больше такой штуки видеть не доводилось.
Сказки бабки Кумиды тоже слыхал. Она их сказывала без балагурства, без шуток-прибауток, а будто на деле так было. Ну, скажем: почём тобольскому купцу медвежья шуба обошлась, какой цветок у крестьянского начальника в саду вырос, как работник из хозяйского дома кривду выгонял. Послушаешь, — будто дело прошлое, а подумаешь, — как раз тебе это и сейчас надо. Вася Стриженый ус эти кумидины сказки в свою книжечку записывал.
— Беспременно. — говорил, — надо эти сказки напечатать. Очень они полезные.
Напечатал ли, — это сказать не могу. Искал я такую книжечку. Охота было по ней и про Васю узнать. Ну, не нашёл. Своих ребят и других высокограмотных спрашивал, — не знают. У нашей клубной библиотекарши, — она по этому делу старуха дошлая, — справлялся, тоже говорит, — не видала. Мне самому эти сказки, пожалуй, не рассказать. Одна только покрепче в голову запала. Эту и расскажу, как умею.
Вася Стриженый ус, — я уж это говорил, — из москвичей был и любил про Москву рассказывать и всегда к тому сведёт, что надо, дескать, этот город на особой примете держать. Раз так-то разговорился, а бабка Кумида тут же была. Послушала-послушала да и говорит:
— Хорошо, Васильюшко, сказываешь. Послушать любо. Только иное слово и за обиду почесть можно.
Вася даже всполошился:
— Какая обида? в чём?
— А вот послушай нашу сибирскую сказочку, тогда и спрашивать не станешь.
Мы, которые при разговоре случились, поддакнули:
— Скажи, бабка Кумида!
Она и стала рассказывать. И тут в первый раз помянула про свои родные места.
— Родом-то я с дальней реки, с Амура. Если отсюда пойти, так раза в три дальше, чем до Москвы. Здесь жилья не густо, а в нашей стороне и того меньше. Ну, всё-таки русский народ живёт. И дальше нашего места городки и посёлки есть. Вот ты и пойми, на что глядя, народ в такую даль забирался. Стань распутывать, до Москвы доберёшься. Малыми ватагами, чуть не в одиночку люди шли с одной надеждой, — Москва поддержит. Про нашего вон Атласова так рассказывают.
Жил этот Атласов ещё при царе Петре. Какого он роду-племени, про то не ведаю, а звали Володимиром и по делу видать, — в Сибири родился, потому как с молодых годов в службу попал при якутском городке. Каким-то случаем он грамоте разумел, а по тем временам это редкостью было. При грамоте он и выслужился в маленькие начальники при якутском воеводе.
В Москве Атласов не бывал, но много слышал про неё от бывальцев. Знал и то, что есть там площадь, — Красная называется. Самая главная, не то что для Москвы, а и для всей нашей земли. Про неё от бывальцев ещё вот что узнал.
Старинные люди твёрдо обычай держали: коли случится кому с родного места в другой город уходить, так непременно должен этот человек взять с собой хоть горсть родной земли. Берегли эту горстку.
В Москву, конечно, люди со всех сторон шли. Кто по ремеслу, кто по торговле, кто по ратному либо ещё какому делу. Многие заживались тут до смерти. А умрёт человек, — куда землю, которую он в мешочке на гайтане носил? Если родня хоронит, так эту землю в могилу бросит, а если родни нет, провожать некому, то эту землю тоже зря не выбрасывали. За бесчестье это считалось. Надо было эту горстку земли нищим передать с особым наказом: «Прими-ка с денежкой и захорони с честью». У нищих опять свой обряд вёлся. Выйдут на Красную площадь, поклонятся во все стороны и раскидают ту землю с приговором. Когда знают, из какого места земля, непременно про это помянут. Волошская там либо черкасская, двинская ли рязанская, либо сибирская, а когда не знают, просто скажут — «неведомой стороны». У Володимира от этих разговоров и запало мечтанье одно. С мечтаньем, понятно, к воеводе не пойдёшь, он и подал челобитную: хочу-де на восход солнца податься, поглядеть пустопорожние земли, есть ли там народы какие, чем земля богата и нельзя ли её под высокую государеву руку прибрать.
Воевода, — может, он из бояр был и только о том и думал, как бы поскорее к родовым землям воротиться, — прочитал челобитную и накинулся на Володимира:
— За такое челобитье велю тебя под батоги поставить. Вишь, что придумал! И без того бояр неведомо куда на воеводства садят, а ты захотел ещё дальше их загнать.
Ну, Атласов не поддался.
— Коли ты, — говорит, — батогами грозишься, так я тоже с тобой по-другому заговорить могу. Закричу вот нужное слою, так не обрадуешься. Своей спины не пожалею и тебя на плаху приведу.
Воевода тут сразу присмирел, а от своего всё-таки не отступился. По-иному отнекиваться стал. Нет, дескать, денег, чтоб походы этакие снаряжать, да и служилых людей отпускать из городка не велено. Мало ли случай какой может быть. А коли тебе пришла такая охота, снаряжай поход своим коштом, зови охочих людей, а я мешать не стану.
И что ты думаешь? Извернулся ведь Атласов. У подьячего какого-то денег занял. Наобещал ему, конечно, дорогих мехов. Да ещё купцу кабальную запись дал. Купил припасу, охочих людей набрал и пошёл с ними, куда ему думалось.
Сколько он в дороге бед натерпелся, о том и говорить много не надо. И голодовал, и обмерзал, и под ножами своих ватажников стоял, как они требовали: «Поворачивай домой!» Самый ему близкий человек есаул Лука Морозко и тот говорил:
— Верно, Володимир, поворачивать домой надо. Земель вон сколько поглядели, мехов понабрали… Чего ещё? Послушайся, а то может вовсе худо случиться: убьют.
Тут вот Атласов и сказал своему верному помощнику:
— Эх, Лука, Лука! Не таким, видно, я родился, чтоб за богатством гнаться. Дорогие меха, сам знаешь, подьячему да купцу за долг пойдут. Мне другое дорого.
Хочу до кромки земли дойти, отломить кусок да в Москву, на Красную площадь. Пускай там будет земля и с самого краешка.
С этим мечтаньем дошёл таки до самой Камчатки. Мало того. Увидел, что вроде острова пошло, так он с Лукой разделился, велел ему вести ватажников по одной стороне, а сам пошёл по другой. На том месте, где сошлись, Атласов памятный знак поставил и надпись сделал: в таком-то году и месяце был тут Володимир Атласов с товарищи. Всего 55 человек.
Подумай, куда он с полусотней забрался! И только после этого повёл ватагу в обратный путь. Тоже маяты было немало, а мешок земли всё-таки взять с собой не забыл.
Тогда добрался до Якутска, там уж другой воевода сидел. Этот, видать, понятливее оказался, — сразу отправил Атласова с мехами и записями в Москву.
В Москве, в Сибирском приказе, с радостью приняли дорогие камчатские меха, а когда Володимир сказал, что он мешок камчатской земли привёз, так смеяться стали.
— Зря, — говорят, — старался и лошадь маял. Земля везде земля. К чему её с места на место перевозить.
Володимиру это обидно показалось. Ну, всё-таки смолчал, а про себя подумал:
— Что ни говорите, а по-своему сделаю.
В Москве у Атласова хлопот-то вышло больше, чем он думал. В приказе, видишь, за меха сильно ухватились, а с расчётом туго пошло. Выдали Атласову 19 рублёв да товару на сто рублёв приговорили отпустить. Атласов видит, — не сходится дело, придётся ему за свою-то маяту ещё в кабалу купецкую идти, подал челобитье самому Петру. У царя в ту пору как раз эта самая заворуха со стрельцами была. Не до того ему, чтобы челобитье разбирать по сибирским делам. Всё-таки велел прибавить столько же рублями и товарами, а в приказе Атласова укорили:
— Что ты нас зря срамишь. Мы, поди-ка, тебя казацким головой сделали. Чего ещё надо? Головой-то ты вот как прокормишься.
Атласову этакий расчёт не по душе, да что поделаешь, коли до царя больше добиться нельзя. Решил домой ехать, а о мешке с камчатской землёй не забыл.
В тот день, как уезжать, ранёхонько вышел на Красную площадь, помолился на Василия Блаженного, поклонился кремлю и стал раскидывать из мешка землю, а сам приговаривает, как молитву читает:
— Государыня наша, площадь Красная, прими ты на веки-вечные землю камчатскую. Пусть в тебе, как своя, лежит, ничем не разнится.
Сделал так-то, и вроде ему веселее стало. Как проходил мимо Сибирского приказа, ухмыльнулся:
— Бобры да куницы разлиняются, не найдёшь их, а земелька камчатская до веку в Москве останется.
По горькой своей судьбине Атласов не доехал на этот раз до Камчатки. В Сибирском приказе, верно, назначили его казацким головой и велели дорогой звать охочих людей. Атласов и набрал ватагу в Тобольске. С ними и дальше пошёл да, на свою беду, на сибирской уж реке набежал на дощанник какого-то купца. Нагружён этот дощанник пушниной. Атласов полюбопытствовал, что за меха, и видит, — из самых высоких сортов. В том числе и камчатские бобры есть, а их с другими не смешаешь. Тут Володимира взяло за живое: «мы маемся, голов не жалеем, а купцы маются, карманы набивают». Выхватил он саблю да и объявил:
— Было наше, стало твоё, а теперь опять наше!
Захватил, значит, дощанник, а купца отпустил. Ну, ведь не нами сказано, что купец от своего сундука не отпустится, пока душу не вытрясешь. Так же и этот. Перед ватагой атласовской слова не сказал, а как добрался до Тобольска, такой вой поднял, что в Москве слышно стало.
Кончилось это тем, что Володимир с своими тобольскими ватажниками в тюрьму попал. Не один год просидел. Потом его вспомнили и опять начальником послали в Камчатку. Там он и смерть принял. Свои же зарезали, коим он не давал государскую пушнину по купецким рукам рассовывать.
Так вот, — сказывают, — когда Володимир в тюрьме томился, так он одним себя утешал:
— Есть-таки в Москве, на Красной площади камчатская земля, с самого краю. И добыл её своим разуменьем, своим потом и кровью. Володимир Васильев сын Атласов с товарищи.
Кончила бабка Кумида сказку и спрашивает:
— Понял ли, Васильюшко, нашу сибирскую сказочку!
— Понял, — отвечает.
— Ты и попомни это. Про Москву нам сказывай, — слушать с великой охотой станем, только про то не поминай, что её вровень с другими городами ставить нельзя. Это мы, коим по дальним местам жить привелось, знаем, может, лучше, твоего. Вы, тамошние, когда, поди, и забываете, по каким местам ходите, а мы Москву по всякому делу помним. Как говорится, затёс на сосне сделал, на Москву оглянулся, — как она: похвалит аль скоса поглядит?
Самый бестолковый, небось, это понятие имеет, что в Москве наш головной узел завязан, и про то слыхал, что там, на Красной площади, самый дорогой земли виток. Такого нигде больше не найдёшь, потому как там крупинки со всякого места есть. Коли на такой, всякому родной, земле огни зажгут, так ещё поспорить надо, кому они яснее светят: тому ли. кто близко стоит, али тому, кто на краю нашей земли живёт.
1948 г.
Ионычева тропа
ам видишь: я ещё не больно остарел. Никто из нашей бригады не пожалуется, что по работе от молодых отстаю. Ну, всё-таки старую жизнь не понаслышке знаю, не из книжек про неё вычитал, сам испытал. На владельческой фабрике не один год работал. Перед призывом у прокатного стана уже стоял. Настоящий, значит рабочий, не подсобник какой. В старой армии до унтер-офицера на младшем окладе дослужился. Что еще надо? Самый, выходит, старинный человек, если от теперешнего считать. Молодые и любопытствуют, спрашивают меня о том, о другом: как оно было? Мне, понятно, не жаль рассказать. Язык не купленный и надсады не знает. Говорю им по чести, как помню, а не понимают с короткого слова. О всяком пустяке им надо без пропуску говорить, вроде того, как раньше нам старики про давние заводские дела рассказывали. В том только разница, что старики в случае и тайную силу подтягивали себе на подмогу: она, дескать, сделала, либо научила, либо убрала с дороги. Нам, известно, тайная сила — не помощница: никто ей не поверит. На одно надежда: так рассказать, чтоб, как говорится, всякая пуговичка на виду была.
Подумаешь, так оно и правильно. Годов хоть немного от старого житья прошло, да густые они, эти годы. Ох, густые! Иной один, поди, за десяток ответит, а их недавно уж тридцать один отсчитали. Старое-то, в котором ты ещё сам жил, вовсе далеко отодвинулось. Порой вспомнишь что, так сам посомневаешься: неужели так было?
Не мудрено, что молодой, который старого не видел, не всё о нем понимает, а когда и не верит. Вот я и стал по порядку сказывать, чтоб, значит, всё до точки. Сперва сбивался, конечно, на скорый разговор, так вопросами, как тыном, загородят, еле выберешься. А теперь понавык. В самый тот день, как путёвку сюда, в дом отдыха, получить, рассказывал об одном оружейнике, так ничего сразу будто поняли, вопросами не зноздили. Да вот лучше послушай. Всё едино, до обеда не больше как с полчаса осталось. Что в них, в тридцать-то минуток, сделаешь! А это, может, тебе и пригодится.
Случилось это в гражданскую войну. Тогда оно нам маленько забавным показалось, а теперь задним числом, по-другому понимаешь. Ну, да что забегать. Сам, поди увидишь, куда тропа выведет.
В нашем заводе, накосых от родительского дома, жил токарь. Забыл его фамилию. Нето Потеряев, нето Потопаев. У нас, видишь, такие прозванья по заводу в обычае. Потеряевы, Полетаевы, Полежаевы, Подшибаевы, Потопаевы, Потоскуевы — они и путаются в памяти. Звали этого токаря всегда по отчеству — Ионыч, а малолетки — дедушка Ионыч. И до того это врезалось, что и семейных так же кликали: Ионычева жена, Ионычевы дочери, Ионычевы зятевья. Тогда уж он пожилой был, своих внуков имел, только другой фамилии, потому как своих сыновей не было, а одни дочери. С малой-то, Варюткой, я перед призывом в переглядки играл, сватать собирался, да тятя покойный не допустил.
— Не дури-ка, — говорит, — не придумывай, чего не надо. Себе в солдатах лишнее беспокойство наживёшь, и ей в солдатках горе мыкать придётся. Сходишь в военную, тогда и женись. Останется, поди, невеста и на твою долю.
Послушался я родителя, да и с Варей мы уговорились, что подождёт она. Только моя военная надолго затянулась. Чуть не полных тринадцать годиков с винтовкой не расставался. Когда вернулся с гражданской, так у Варвары ребята уж в школе учились. Да что об этом вспоминать, коли речь не о моей судьбе, а об Ионыче!
По своему делу он считался в первостатейных мастерах и зарабатывал против других подходяще. Ходил чистенько. Бороды не носил, зато усы были на редкость богатые, с большим навесом, а брови густые, с вискирями посредине. Кто в первый раз увидит, сразу подумает: старого характеру человек… В житье был аккуратный. Даже по самым большим праздникам никто его пьяным не видал. Табачишко только жёг нещадно. Как ни увидишь, всегда у него трубка в зубах. В домашнее хозяйство своё не вникал. Жена, конечно, огородишко вела, корову держала, а он к этому безо внимания. Сено и дрова у них всегда с купли. Другие, кто работал в механической, принимали на дому разную мелкую работу по слесарной либо токарной части, а Ионыч наотрез отказывался:
— Надоело мне это и в механической.
А сам, между прочим, без дела не сидел. Как придет с работы, поест, запалит свою трубочку и сейчас же к станку. Был у него простенький, вроде тех, с каким точильщики ходят. Колодка тоже с тисками да наковаленкой стояла, и инструмент в полном наборе. Что Ионыч целыми днями делал, — этого не знали. Многие любопытствовали, да он либо отмалчивался, либо оттанивался: так, малое дело. Через семейных тоже не узнаешь, потому одни женщины, а они, по старому положению, никогда к техническому делу не касались. Один раз только это выглянуло маленько. Сделал Ионыч своему внучонку игрушку, что не то что маленькие, а и большие со всей улицы ходили её поглядеть. Мне тоже случилось её видеть. Верно, игрушка занятная. Таких и по нынешнему времени ещё не делают, либо мне видать не доводилось.
Сидит будто небольшой жучок, и крылышки сложены. Тонко сделан. Не отличишь от живого. Никакой кнопки либо завода не видно, а нажми на спинку — жучок выскользнет у тебя из под пальца, зажужжит, расправит крылышками и полетит. Не больше, как с поларшина, а всё-таки полетит.
Заказчики, которым было дело до Ионыча, корили его потом за эту игрушку:
— На ребячью забаву, так у тебя досуг есть, а когда по делу просишь, так нос на сторону! И денег тебе не надо. Лишние, видно?
— А это, — отвечает, — по-разному считают: одному рубль дороже всего, другому — выдумка. Нам с тобой и перекоряться не о чем. Рубль при тебе, выдумка при мне. Оба при своих — о чем говорить?
— Мудришь ты, Ионыч! Как смолоду чудачил, так и по старости выкомуриваешь. Пора бы и честь знать!
— Что поделаешь! Не чугун — в переплав не пустишь. Такой уж вышел. Не обессудь!
Про чудачества Ионыча так рассказывали.
Смолоду, как он уж хорошим токарем стал, придумал идти на какой-то Абаканский завод. Далеко где-то. Нето в Томской, нето в Красноярской губернии по старому счету. Железной дороги в Сибирь тогда и в помине не было. В этакую даль приходилось по тракту пробираться. Дело не шуточное. Домашние, да и те, кто по работе рядом с Ионычем стояли, давай отговаривать. Отец даже грозил:
— Прокляну! Наследства лишу!
Ионыч упёрся. Говорит отцу:
— Воля твоя. А наследства как меня лишить, коли оно у меня в руках?
Так и не послушался, ушёл. Годов через пять воротился и опять в механическую поступил. Его спрашивают насчёт Абакана: как там да что? Скупенько он на это ответил:
— Зря ноги ломал. То же самое у них, что у вас. Даже хуже.
И больше от него ничего не добились. Потом, через много лет, как он уж давно семейным был, придумал переселиться в Новый завод. Его опять отговаривали, советовали:
— Сходи ты лучше на неделю, на две. Недалеко же тут. Поглядишь, тогда и решай, стоит ли переселяться.
Ионыча, однако, своротить не могли.
— Проходкой-то, говорит, — пройдёшь, ничего не разберёшь. Всякое дело надо вприсест глядеть: пожить, поработать, потому дело у меня — не в бирюльки играть.
— Какое, — спрашивают, — у тебя там дело?
Ионыч от этого отворачивает:
— Раз дело не сделано, так что о нём говорить.
Переселился-таки. Не надолго на этот раз. С год, не больше, там прожил. Как воротился, только и сказал:
— Какой там завод! Старым железом брякают, абы прокормиться. Вперёд вовсе не глядят. Нестоящее дело. Много хуже здешнего.
Заводское начальство косилось на эти Ионычевы отлучки, а всё-таки беспрекословно принимало его обратно в механическую. Руки, видишь, золотые, и к политике у Ионыча никакой приверженности не было, а в те годы это начальству всего дороже было.
В 1905 году в нашем заводе была большая забастовка. Четыре с половиной месяца тянулась. Не больно легко это рабочим досталось. Ионыч в ту пору от народа не отшатился, тоже работу вместе со всеми бросил, а на сходки, которые в то время часто бывали, не ходил. Пробовали его выбрать в делегаты от механической, так руками и ногами упёрся.
— Увольте! Не могу, не умею, не по моей части.
А когда забастовка кончилась, ворчал:
— Шуму до потолка, а толку на два вершка. Выжали пятак — и осталось всё так; спину гни и на то не гляди, куда хозяин твою работу раструсит.
Когда Февральская революция началась, Ионыч, видно, не больно этому поверил — у себя в углу отсиживался. После Октябрьской, когда у владельца завод отобрали, запошевеливался, стал на собрания ходить, сам заговорил. В рабочем комитете часто советовал то, либо другое по заводскому делу. Недолго всё-таки. Распорядок тогдашний ему не по нраву пришёлся, — Ионыч опять и забился в свой угол так, что не вызовешь. Этаким сычом в дупле и просидел до гражданской войны. К тому времени я домой ненадолго заходил и своими глазами видел, как дальше с Ионычем вышло.
В заводе, конечно, отряд Красной гвардии был. В него я и поступил с первого дня приезду, а вскоре и командиром стал. Меня, видишь, по заводу знали по старой работе в прокате и то посчитали, что в армии за шесть-то лет военному делу научился. Вот и доверили.
Про то, как мы сперва работали, рассказывать не стану, но вот пришлось нашему заводскому отряду отступать. В числе других звали с собой Ионыча.
— Пойдём, а то худого дождёшься. Всё-таки ты коренной рабочий: тебе с нами держаться надо.
— Бестолковщины, — отвечает, — у вас много. Не верю я, что толк будет, да и старый я. Какой из меня вояка выйдет!..
Тут, понятно, разноголосица пошла. Одни корили Ионыча: «Контра ты, коли от своих сторонишься», другие грозили: «Пропишут тебе колчаковцы свою грамоту на спине!» Были и такие, что вовсе строго поворачивали: «Что с таким разговаривать! Расстреливать предателей надо!»
Ионыч на все это одно отвечает:
— Делайте, как знаете, а я не пойду.
Так и остался. Сначала о нём иной раз и вспоминали, а потом, как рассыпался наш заводской отряд по ротам Красной Армии, кому до Ионыча дело? Вовсе о нём забыли.
О фронтовых наших делах много говорить не приходится. Всякий знает, что на уральском фронте до приезда товарища Сталина дела шли из рук вон плохо. Климент Ефремович Ворошилов в своей статье разъяснил, из-за чего это вышло.
Штаб был слабый, линия фронта растянута, тыл не обеспечен, надёжных резервов не было, а снабжение названо отвратительным. Про нашу 29 дивизию в статье особо сказано, что она пять суток отбивалась буквально без куска хлеба.
Нам, которые на передней линии были, не всё это тогда было видно, но что резервов не имелось, мы хорошо знали, потому пятый месяц из боёв не выходили. Худое снабжение тоже всяк видел: разуты, оборвались, патронов самым малым счетом, снаряды вроде гостинца к большому празднику, а продовольствие — колючий пряник. Задолго до голодных-то дней нам стали выдавать по осьмушке фунта овсяного хлеба. Пятьдесят, значит, грамм. Вот и весь дневной рацион. Сейчас вспомнишь этот кусочек, который остями во все стороны расщерился, так не верится, что на нем месяцами держались. Ну, а у тех, у колчаковцев-то, совсем наоборот. Сыты они, обуты, одеты, оружия и патронов без отказа. Пособников иноземных у них, сам знаешь, много было. Из Англии, из Америки, из Японии им везли.
Понятно, что нам туго приходилось. Вдобавок зима выдалась ранняя, с глубокими снегами и крепкими морозами. Прямо сказать, погибель. По деревням, через которые отступать приходилось, кулаки зашевелились, зашипели, радуются: «Конец красным пришёл!» Кто послабее духом, те, случалось, и отставали. Только были и такие, кто в эти трудные дни к нам приходил. Из молодых больше. Из стариков только те, у кого дети с нами были. Из-за этого и боялись оставаться.
И вот… Как сейчас это вижу… Задержались мы в одной маленькой деревеньке за Бисертским заводом. Накануне колчаковцы наседали на нас, да мы отбились. И ловко это вышло! Стреляли, видишь, из-за укрытия и урону порядком нанесли, а у самих только одного задело, да и то пустяковое ранение. Колчаковцы откатились, и нам весело стало: хоть малая, а победа. К тому же и погода помягчала. С вечера снег с ветром, а к утру ровный посыпался, и тепло стало. В сторожевом охранении куда вольготнее держаться, а посматривать надо в оба: под такой-то снеговой сеткой враг может незаметно подобраться. Проверил я посты и пришёл в избу, которая у нас штабной считалась. Только пристроился отдохнуть, наказываю своему помощнику, а я тогда этими остатками роты командовал:
— Поглядывай! Того и жди — полезут. Да пулемёт до поры чтоб не показывали!
Тут мне говорят:
— Товарищ командир! На линии задержали старика. Чудной какой-то. Не в себе будто. Болтает про наследство, а может, прикидывается. Поспрошай его сам: не подосланный ли.
Привели старика. Усатый такой. Шапка хорошая, валенки тоже, а одежда — обдергайчик лёгонький, какие под шубу надевают. Пригляделся — Ионыч это. А он меня, вижу, не признал. Да и не мудрено, потому как я в ту пору сильно бородой оброс. Некогда да и нечем скосить её было. Начинаю спрашивать, как полагается: что за человек, из какой местности, чем занимается, каким путём пришёл… Ионыч рассказывает о себе, что я и сам знаю. Говорит по чести.
— Почему, — спрашиваю, — одежонка такая лёгонькая и как ты в ней такую дальнюю дорогу прошёл?
— Шубу, — отвечает, — в той деревне оставил, с которой воюете. Пришёл вечор туда, забрался в одну избушку, а там одни женщины. Стал полегоньку спрашивать, как да что. Желал узнать, далеко ли вы. Женщины мне рассказали, что весь день стрельба была в таком-то месте, а к вечеру здешние воротились. Не могли, видно, одолеть ваших. Только это разузнал, в избу вошли двое и, не говоря худого слова, поволокли к своему начальству. Тот давай меня выспрашивать, что твоё же дело, кто, откуда?
Я ему сказался мотовилихинским рабочим. Ходил, дескать, своих навестить, а теперь домой пробираюсь. Начальник на это и говорит: «Скоро Пермь возьмём, тогда и разберёмся, а пока отведите под караул». Привели в избу, а там шестеро этаких арестованных. Как дело вовсе к ночи пошло, караульный говорит: «Выходи, кому надо, только верхнюю одежду сними. Ночью выпускать не буду». Я и вышел с другими. Без шубы, конечно. А ночь темная, снег, да его еще подвивает. В двух шагах человека не увидишь. Я и решил, — попытаю своё счастье, коли и загину, так к своим ближе. Ну и ушёл. Слышал, стреляли в белый свет. Всю ночь пропутался, а утром к вам и вышел. Продрог, конечно, а как видишь, живой.
Слушаю это и думаю: на правду походит. Потом спрашиваю:
— К нам зачем тебе?
— Желаю, — отвечает, — предаться советской власти.
— Как это?
— А так, чтоб душой и телом ей служить. Что знаю, что умею, что выдумал, чтоб все ей и никому больше.
Тут я не выдержал, говорю:
— Давно пора, дядя Ионыч.
Он это воззрился на меня, признал, конечно, и говорит:
— На это и надеялся, что до своих дойду.
Дальше у нас пошел простой разговор.
— Добили, — говорю, — видно, тебя колчаковцы, что кинулся советскую власть искать?
— Нет, — отвечает, — меня не задели пока, а подбираться стали, да ещё кто! Помнишь, перед самой-то войной наш завод какой-то компании перешёл? Сперва думали, большая перемена будет, а вышло незаметно. Приехал только один новый. По-нашему говорил плохо, а всё-таки понять можно. И прозванье у него чужестранное. Хитсом вроде. В синей рубахе ходил. Сам, поди, видел?
— Видать, — отвечаю, — не доводилось, а слыхать слыхал.
— Хитсом этот тогда многим нашим заводским против своего-то начальства поглянулся. Обходительный, видишь, не барничает и в техническом деле понятие имеет. Это я по своему делу заметил. У меня, видишь, пристроена была к станку одна штучка. Небольшое облегченье давала. Заводское начальство сколько раз мимо проходило, ни один не заметил, а этот углядел и давай доспрашиваться: «Откуда взял? Давно ли? Какая польза?» С той поры, как придёт в механическую, непременно ко мне подбежит, поздоровается и спросит:
— Есть какой нови?
Да еще моду взял кликать меня по-своему: мистер Енч.
Молодые ребята из механической это подхватили и давай меня этак навеличивать. Пришлось с ними по-сурьезному поговорить:
— Что, дескать, такое? Коли чужестранный человек коверкает наше слово, так ему это в большую вину не поставишь, а вы куда за ним скачете? Какой я вам мистер, коли по токарному делу мастер и вам в дедушки гожусь? И прозванье у меня русское, понятное. Какое ваше право его поворачивать на отрыжку после кислого квасу?
Усовестил-таки, урезонил — перестали.
Так вот этот Хитсом теперь опять на заводе появился. Ну, одет по-другому, и с ним больше десятка других людей. Которые в военной, форме, которые в вольной одежде. Ходят по заводу, досматривают. Где какой непорядок заметят, — доискиваются, кто отвечать должен, а вечером, глядишь, колчаковские солдаты идут в те семьи и ответчиков уводят, а коли их дома не окажется, начинают семейных донимать. Тут и слепому ясно, кто у нас новый хозяин, кому колчаковцы служат. Надо, думаю, уходить к своим. Неважные, слышно, у них дела, а всё-таки здесь оставаться негоже. Только это обдумал, а Хитсом и подкатил. Один приехал, без сподручных. Лебезит, будто знакомого нашёл. Посидел с полчаса, поругал большевиков, что они завод разорили, похвалился, что скоро с ними покончат, и завод опять в порядок придёт, а потом и закинул слою:
— Ви умейт летяши жук сделать?
«Вот, — думаю, — заглот какой! И про игрушку разнюхал, и её подавай!» А сам отговариваюсь:
— Было это раз. Смастерил своему внуку забавку, да он давно её потерял.
Поглядел на меня Хитсом волчьим глазом, потом спохватился, видно, давай опять ласкою допытывать, кто, дескать, раз сделал, тому нехитро и другой раз это же сделать. Вынимает бумажник и достаёт деньги в задаток, а я, понятно, отказываюсь.
— Не в моем обычае деньги вперёд брать… Мне неизвестно, выйдет ли, потому руки огрубели. Всё-таки постараюсь, только не больно скоро.
Тут он давай рядиться о времени. Неделю я всё-таки вырядил. А как выполз этот хитрый сом из моей избы, я в тот же день отправил старуху в Черемховку, будто гостить к Варваре, сам ворота на замок, ключ соседу отдал да по потёмкам в город. Оттуда подъехал с товарным, пока не сняли, а дальше пешком пробирался. Не больно гладкая дорога оказалась, а всё-таки добрался.
Весь этот разговор при людях шёл. Некоторые спрашивать стали:
— Скажи, дедушка, о каком это ты наследстве говорил, когда тебя задержали?
А я прибавил:
— И про Абакан тоже.
— С него, — отвечает, — и начинать придётся, потому с тех мест моя тропа пошла.
Тут Ионыч подумал маленько и стал рассказывать.
— С молодых лет я стою у станка. Тоже думаю, поди, о чём-то. Игрушка, за которой Хитсом потянулся, — пустяк. Немало и полезного по работе в голову приходит. А скажи — дадут тебе за это лишний рубль, а хозяину барыш пойдёт. Какая мне от того радость? Выдумка ведь не даром далась. Тут слух прошел, что на Абакане старый казённый завод рабочая артель за себя перевела. Вот, думаю, где рабочую выдумку можно складывать. Сила будет. Не обидно в этот сундук и своё кровное отдать. Ну и пошёл, а на деле не так оказалось. Завод старый, бросовый. Казна хотела вовсе его закрыть, да тамошние рабочие отстояли: сами, дескать, поддержим и поработаем ещё. С первых же годов артель оказалась в долгу у купца Дуняхина, а тут песня известная: рабочие стараются, а купец раздувается. Плюнул я на эту дуняхинскую веру, воротился домой, оженился, а покою мне нет. Донимает меня: как быть с рабочей выдумкой. Ведь всякий, если он по-настоящему в своё дело вникает, непременно придумает, как его сделать легче, скорее и лучше. Сколько такой выдумки! А куда она уходит?
Чаще это всё за грош хозяину дарят, а он с неё рублями собирает. Бывает, конечно, что выдумку сыновьям либо другим наследникам по родству передают. В этих рассыпных наследниках тоже толку немного. Редко, видишь, сын по отцу пойдёт, а когда и лучше скажется, так, может, маленько о другом думает. Глядишь, выдумка либо затеряется, либо в тот же хозяйский карман попадёт. Выходит, так плохо и этак не лучше.
Вот я и ждал, не откроется ли где настоящий артельный завод, чтоб рабочую выдумку не в хозяйский карман совать и не по родне рассыпать, а в одном месте держать и дальше растить. Прослышал про артель в Новом заводе, туда переселился, да вышло хуже Абакана. Тазы, да ведра, да мелочь разная. Заводом даже не пахнет.
Когда наш завод за рабочими объявили, обрадовался. Думаю, дождался-таки. Ну, духу не хватило. Испугался бестолковщины, а того не подумал, что поначалу всегда так бывает, а потом обойдётся. Когда наши с завода уходили, меня с собой звали, а я, дурная голова, и тут отпёрся: стар, мол, для военного дела.
Ну, хитрый сом, который из-за моря в наш завод хозяином приплыл, меня, и образумил. Понял, что завод, о каком у меня думка была, не пирог из печки на стол поставить: его надо самим сообща поднимать да сперва ещё место для него накрепко огородить. А то живо какой-нибудь Дуняхин подстроится либо, хуже того, чужестранный заглот объявится.
На этом моя кривая тропа и кончилась, на большую дорогу вышел. Как бельма с глаз сняли. Теперь ясно вижу, что сперва надо отвоевать место, на котором сам рабочий хозяином станет. Хоть не молодой и к военному делу не привычен, а примите меня. Что могу, всё сделаю, головы не пожалею. Выдумки в ней за годы немало накоплено, да некому эту выдумку передать, коли советская власть не устоит. От старого владельца её ухранил, Дуняхину не продал, а Хитсому и подавно отдавать не согласен. Готовил, поди-ка, для своего кучевого наследника — для тех самых рабочих, которые у моего же дела стоять будут. У них, небось, она не затеряется, а в большой рост пойдёт.
Поговорили мы ещё с Ионычем про заводские дела: как там, кто пострадал от колчаковцев, кто им прислуживает, — а потом отправили его в тыл. Месяца через три видел на станции Верещагино. Там он в мастерской по ремонту оружия на славу вышел. Ловкий, дескать, старик. При разборе сразу видит, что где исправить, и делает скорёхонько. Да ещё говорили… Тогда в ходу пулемёт «Льюис» был. Жаловались что его часто заедает. Так Ионыч какие-то самоточные шарики приспособил — и много надёжнее стало. Не знаю я этих тонкостей, как сам всю жизнь у прокатного стана стою, а хвалили люди. Дальше об Ионыче долго не слыхал, только уж когда домой воротился, узнал от его семейных. Оказывается, погиб за Новосибирском. Проходил, сказывают, по заводу, оставляли его по старости лет, да он, как ему в обычае, упёрся.
— Не согласен, — говорит. — Завод подождать может, а надо первым делом всех хитных сомов с нашей земли сбросить. Чтоб их и званья не осталось. Тогда дело горами пойдёт, потому каждый для своего настоящего наследника стараться будет.
— А что ты думаешь, ведь правильно это Ионыч говорил. Смотри-ка, как пошло против прошлого! Верно, горами! А почему? Наука, конечно, действует, техника тоже другая. Ну, и копилка рабочей выдумки не отстаёт. При кучевом-то наследнике она много значит: один придумает, другой добавит, третий подтолкнёт, четвёртый ещё выше поднимет. Она и растёт так, что со стороны дивятся.
1948 г.
Широкое плечо
аньше по нашему заводу обычай держался, — праздничным делом стенка на стенку ходили. По всем концам этим тешились, и так подгоняли, чтоб остальным поглядеть было можно. Сегодня, скажем, в одном конце бьются, завтра — в другом, послезавтра — в третьем.
Иные теперь это за старую дурость считают, — от малого, дескать, понятия да со скуки колотили друг дружку. Может, оно и так, да ведь не осудишь человека, что он неграмотным родился, и никто ему грамоты не показал. Забавлялись, как умели. И то сказать, это не драка была, а бой по правилам. К нему спозаранок подготовку делали. На том месте, где бойцам сходиться, боевую черту проводили, а от неё шагов так на двадцать, а когда и больше, прогоняли по ту и другую сторону потылье. Тоже черты, до которых считалось поле. За победу признавали, когда одна сторона вытеснит другую за потылье, чтоб ни одного человека на ногах не осталось. Со счётом тоже строго велось. Правило было:
— Выбирай из своего околодка бойцов, каких тебе любо, а за счёт не выскакивай! Сотня на сотню, полсотни на полсотню.
Насчёт закладок, то-есть, чтоб в руке какую тяжесть зажать, говорить не приходится. Убьют, коли такой случай окажется, и башлыка, который за начальника стенки ходил, не пощадят. Недаром перед началом боя каждый башлык говорит:
— А ну, молодцы, перекрестись, что в кулаке обману нет!
Бились концами, кто где живёт, а не то что подбирались по работе либо ещё как. Ну, подмена допускалась. Приедет, к примеру сказать, к кому брат либо какой сродственник из другого места, и можно этого приезжего вместо себя поставить. Таких, бывало, братцев да сродничков понавезут, что диву даёшься, откуда этаких молодцов откопали.
Все, понятно, знали, что это подстава. Порой и то сказывали, за сколько бойца купили, а всё-таки будто этого не замечали. На то своя причина была. Своих бойцов не то что в каждом конце, а и по всему заводу знали, — кто чего в бою стоит. Если одни-то сойдутся, так наперёд угадать можно, чем бой кончится, а с этими приезжими дело втёмную выходило, потому — никто не знал их силы и повадки. Недолюбливали этих купленных бойцов, норовили покрепче памятку оставить, а отвергать не отвергали и к тому не вязались, кто они: точно ли в родстве, али вовсе со стороны. За одним следили, чтоб подмены было не больше одного на десяток, а в остальном без препятствий. Те, кто приходил поглядеть, заклады меж собой ставили на этих приезжих бойцов, а когда и на всю артель. Заклады, может, в копейках считались, зато азарту на рубли было. Такие закладчики, — будь спокоен, — не хуже доброго судьи за порядком следили, чтоб никакой фальши либо неустойки не случилось.
Так и велось по заводу. Ни про один бой нельзя вперёд угадать, чем он кончится. Только в одном месте уж сколько годов по-одинаковому шло. Многие из заводских на этот конец рукой махнули.
— Глядеть тошно! Всякий год ямщина да прасолы мастеровщину сразу с копыльев сшибают.
Тут видишь, что получилось.
Недалеко от механической фабрики, за рекой, жило много слесарей да токарей. Известно, всяк старается поближе к работе поселиться. Так и называлось это место — слесарский конец.
Против него, на другом берегу, приходился ямской. Там две больших гоньбы содержалось от разных подрядчиков. Там же хлебные лавки стояли да сколько-то постоялых дворов. В ямщики народ дюжий подбирался, а в молодцы при хлебных лавках и того крепче, чтоб с пятипудовыми мешками играючи обходились. Дворничать на постоялых дворах тоже слабых не брали. Мало ли какой случай выйдет, так чтоб мог дворник неспокойного постояльца и за ворота выставить. Да и купцы тамошние и подрядчики из таких были, что непрочь самолично в ряду с бойцами выйти. Про подмену и говорить нечего. При надобности тут половина на половину ставь, скажи только, что это новые ямщики либо приказчики.
Ну, а в слесарях, как говорится, святых не бывало, и богатырей не ищи. Ежели он с малолетства в копоть фабричную попал, так румянцу-то у него разыграться не от чего. У которого щёки покраснели, так не от солнышка либо морозу, а от мелкой железной сечки. Впилась она, — не выскребешь. Конечно, этот народ сноровку имеет и к удару привычен, только против ямского конца всё-таки никак выстоять не может. Разойтись не успеют, как их за потылье выбросят.
Нашим заводским обидно было, что ямщина да лабазники этак с мастеровыми обходятся. Подсобить хотели. Не раз подставу слесарям давали, а конец тот же: живёхонько стенку собьют и за потылье выжмут да ещё стоят, похваляются.
— Видим ваши хитрости! Только нам это нипочём. Хоть всех самолучших бойцов с завода поставьте, а быть вам битыми!
До того дошло, что хоть от бою отказывайся. Опять же перед народом зазорно, а молодым пуще того неохота неустойку перед женским полом показать. Побитый, дескать, худо, а который струсил, тот вовсе никуда. Они, эти девки-бабы, хоть на бойцов заклады не ставили, а большую силу в этом деле имели. Иной, может, потому только и выходил в стенке, чтоб перед девками себя не уронить.
В слесарском конце в числе других был Федя Ножовый обух. Его в солдаты не приняли. Ростом не вышел. На ножовый обух не дотянул до самой низкой мерки. По этой причине ему и кличка такая была. А силой против других не обижен. На покосах его с литовкой в голове пускали. Начнёт помахивать, так, знай, держись да пошевеливайся, чтоб не больно далеко отстать. С малых годов Федя в механической работал, да в рекрутчину-то согрубил тамошнему надзирателю, — Федю потом и не приняли да ещё посмеялись:
— Раз в солдаты не вышел, так нам такого тоже держать не с руки.
С той поры Федя и перебивался, как придётся. Вёдра да замки починял, кровельной работой не брезговал, когда старателям насос направит. Одним словом, что под руку попадёт. Хорошо ещё, что одиночкой жил. Кормился всё-таки с грехом пополам и в одежде себя соблюдал. Щеголевато даже ходил, — не желал механическому начальству скудость свою показать. Без вас, дескать, проживу, плакаться не стану.
К концовским боям этот Ножовый обух с молодых годов азарт имел. Сперва-то его башлыки отстраняли.
— Не путался бы ты, Федя, под ногами! Раз ростом не вышел, так тебе это дело несподручно. Там вон какие мужики выходят. Тебе, поди, скоком не дотянуться, чтоб по-доброму стукнуть!
Федя всё-таки правдами-неправдами добьётся своего — попадёт в бойцовскую ватагу. По времени увидели, что боец он не хуже других, а порой его последним с поля выпирают. Да ещё одна особина. Другие, как из боя выйдут, — сразу это заметишь, а этот будто и не бывал: не растрепался, не завздыхался, без синяков и шишек. Каким пошёл, таким и вышел, даже поясок поправлять не надо. Одна заметка, — ворчит:
— Всё из-за наших богатырей-то! Они себе тешатся, кровь из носу добывают да синяками на месяц запасаются, а на стенку не оглянутся. Какое это дело! Говорю, широким плечом надо!
В ямском конце тоже давно Федюху приметили и всяко измывались над ним. Как выйдут на поле, первым делом начинают про него выкрикивать:
— Эй, чернотропы, вы бы Федьку башлыком поставили! Ему ловко. При малом-то росте на кулак не попадёт. Вроде мухи. С таким наверняка поле бы взяли. Попытайте!
Федюне эти разговоры про малый рост не больно сладко слушать. С малых лет это надоело, а тут ещё, как на грех, в ямском конце у него зазноба завелась. Феней звали. Девка, видать, не его судьбы: от парня нос воротила, а сама на тамошнего самолучшего бойца глаза пялила. В ту пору у ямщиков на славе был Кирша Глушило. Мужик писаный, а вместо кулаков у него пудовые гири. Попадёшь под такую руку — не встанешь. Счастье ещё, что Кирша не больно развертной был.
С этим вот Глушилом Ножовый обух как-то и сошлись. Сперва они в разных местах были. Кирша в самой серёдке своего ряда, а Федюня ближе к правому краю.
Потом, как стенка разбилась, он и подскочил к Глушилу. Тот по своему бычьему норову только промычал:
— Поминай родителей!
Махнул своим пудовым кулаком, а Федюня увернулся да раз-раз и насыпал Глушилу поперёк ходовой жилы на правой руке, как гвозди забил. Кирша и руки поднять не может, как плеть повисла. Тут он разозлился, взял да и пнул ногой. Федюня опять увернулся, Кирша и плюхнулся во всю спину, а Федюня тут как тут, хлоп тыльником руки по носу, а сам приговаривает:
— Лежачего не бьют, а который пинается, тому памятку дают!
Все, кто пришёл поглядеть, в один голос закричали:
— Правильно! Так ему и надо! Вперёд не лягайся, коли на кулачный бой пришёл!
Ямщина слышит, о чём кричат, а помалкивает, потому — неустойка на виду. Не закроешь её: боец ногой обороняться стал. А Федя той порой на лабазника насел. Тоже задавалко был не последний: всё я да я. Федюня и сделал ему оборот: сперва по руке, потом под чушку, — лежи, пока не опамятуешься!
Ямщина в тот раз всё-таки поле унесла, только с конфузом: самолучший их боец пришёл домой, как кровью умытый, а купчину того по его нежности пришлось на носилках выносить. С той поры он и думать забыл, чтоб в бойцовском ряду покрасоваться. Понятно, — человек при капитале, — испужался: вдруг ненароком вовсе оглушат. Злобу на Федю затаил. Нашёл какого-то нового бойца, пострашней Кирши, и наказал ему:
— За одним гляди, — где Федька. Ты мне эту мокреть разотри, чтоб глаза мои больше её на поле не видели.
Купленный — он купленный и есть.
— Не беспокойся, — говорит, — ваше степенство. Видел я этого мужичонка. Будь благонадёжен, долбану кулаком, больше на поле не сунется. Как бы до смерти не захлестнуть, а то отвечать придётся.
— Бей, — кричит, — в мою голову. Руку не сдерживай, а то он живучий. В случае отстою, никаких денег не пожалею.
По заводскому положению всякое дело не больно прикрыто. Феде эти купецкие речи передали, а он только посмеялся:
— Не поглянулось, видно, ему! Пусть вперёд знает, что в бою ему кланяться не станут. Не пуд муки пришли в долг просить.
У слесарей опять свой разговор вышел. Потолковали, потолковали меж собой да и объявили:
— Вот что, Фёдор! Придумали мы выбрать тебя башлыком на предбудущее время. Боец ты надёжный. Может, и вожак из тебя дельный выйдет. А что малорослый, так в том беды нет. Не ростом города берут.
Федюня отнекиваться да канителиться не стал.
— Почему, — говорит, — не попытать. Хуже того, что у нас есть, быть не может, а лучше пойдёт — всем радость. Только, чур, уговор на берегу. Раз выбрали, — слушаться меня в бою, как на войне либо в заводе. Что велено, то и делай, а про то забудь, чтоб перед другими покрасоваться, себя показать. Наше дело мастеровое. Нам не тройки на скаку останавливать. Наша сила в том, чтоб в одну точку бить, широким плечом поворачивать.
После этого случая, как Федя Киршу да купца сбил, по заводу разговор пошёл.
— Самый раз зареченским слесарям подсобить. Дать им подставу покрепче, так они, может, ямщину и купчишек пересилят.
Сказали об этом новому башлыку, а он наотрез:
— Чужим, — говорит, — хлебом век не проживёшь, за чужую спину не спрячешься. Пусть купцы себе бойцов покупают, а нам это не подходит.
Его, понятно, уговаривают:
— Чудак ты! Разве такое сравнить можно. Мы, поди-ко, не за деньги, да и не чужие, а свой брат мастеровой.
— Понимаю, — отвечает. — Случись мастеровым против кого другого стоять, сам бы пошёл и тут спорить бы не стал, а при концовских боях этого нельзя. Кто где живёт, за то место и стоять должен!
На прощанье ещё пообещал:
— Да вы не беспокойтесь! Мы этих быков одолеем. Не на этот раз, так на следующий. Нам главное силу свою понять да рабочую сноровку в ход пустить. Без фальши одолеем.
Те, кто приходил, всё-таки это за обиду приняли.
— Задаваться Ножовый обух стал. Свалил Киршу да купца и думает, — сильней его нет. Поглядим вот, как весной башлычить будет. Долго ли своих на поле удержит.
От всех этих разговоров большое любопытство родилось, как в самом деле этот концовский бой пройдёт. Со всего заводу народ сбежался поглядеть. Зимами у них боевая черта была по самой середине реки, а по вешнему времени бились на Покатом логу. Место обширное, а на этот раз и тут тесно стало. Пришлось оцепить поле, чтоб помехи не случилось.
Вот вышли бойцы. Полсотня на полсотню.
С ямской стороны народ наподбор: рослые да здоровенные. Башлык у них из лабазников. В пожилых годах, а боец хоть куда, смолоду от этого не отставал. Неподалёку от него, справа и слева два саженных дяди: Кирша Глушило да этот новокупленный-то. Забыл его прозванье. Оба Федюню глазами зорят, — где он? Глушило, конечно, желает за прошлый раз рассчитаться, а новокупленному надо хозяйские рубли оправдать. И одеты на ямской стороне по-богатому. Этот купец, которого Федюня сшиб, раскошелился: всякому бойцу велел сшить новую рубаху, плисовые шаровары да пояс выдать пофасонистее. Рубахи, понятно, разные: кому зелёная, кому красная, кому жаркого цвету. Пестренько вышло. Поглядеть любо.
Слесарская стенка куда жиже. Там, конечно, тоже кто повыше, кто пониже, только всё народ худощавый, тощёй и с лица как задымлённый. Одежонка хоть праздничная, а без видимости. Рубахи больше немаркого цвету, поясья кожаные. И башлычок у них Ножовый обух, — за малым ростом в солдаты не приняли.
Ямщина да прасолы над этим башлыком зубы скалят, всякие обидные слова придумывают, он, знай, своё ведёт. Расставил бойцов, как ему лучше показалось, и наказывает особенно тем, кои раньше в корню ходили и за самых надёжных слыли.
— Гляди, без баловства у меня! Нам без надобности, коли ты с каким Гришкой-Мишкой на потеху девкам да закладчикам станешь силой меряться. Нам надо, чтоб всем заодно, широким плечом. Действуй, как сказано. Голову оберегай, руку посвободнее держи, чтоб маленько пружинила, а сам бей с плеча напересек ходовой жилы в правую руку. Который обезручеет, хлещи с локтя под самую чушку. Свалишь — не свалишь, а больше об этом подбитом не беспокойся. Он как очумелый станет и ежели ещё руками машет, так силы в них, как в собачьем хвосте. Ты на него и не гляди, а пособляй соседу справа. Кто приучился левой бить не хуже правой, тот этим пользуйся. При случае ловко выходит. Особо, когда под чушку рубить. А главное помни, — не одиночный бой, не борьба, а стенка. Не о себе думай, о широком плече!
Сделал этак наказ напоследок и встал крайним с левой стороны. С ямского конца закричали:
— Куда вы свою муху прячете? Почему башлык не в серёдке?
Федя отвечает:
— Нет такого правила, чтоб башлыку место указывать.
В народе тоже закричали:
— О чём разговор? Где захотел, там и встал. На то он и башлык! При бое волен и с места на место перебегать. Законно дело. Чем о пустом спорить, давай зачин. Не до обеда вас ждать!
Ямскому концу это не по губе, потому как они подстроили, чтоб Федя оказался против самых что ни есть крепких бойцов и никуда выскользнуть не мог. Всё-таки при народе, видно, постыдились местами меняться. Ну, вышли обе стороны на свои потылья, покрестились, каждый руку поднял, показал, — нет никакой закладки, стали сходиться. Федюня, конечно, не без хитрости себе место выбрал. Против него пришёлся прасол один. Мужик могутный, только грузный и неувёртливый. Пока он замахивался, Федя его левой рукой под чушку и срубил, да так, что он глаза закатил и дыханье потерял. Федя между тем у следующего руку пересек, а его сосед тем же манером это дальше передал. Глядишь, трёх бойцов и не стало: один на земле лежит, очухаться не может, два хоть на ногах, да обезручены. Тут Федя видит, — стенка прогнулась, двоих уж там оглушили, кинулся туда, сналёту сбил тамошнего башлыка да и сам под кулак приезжему-то попал. Ну, не больно крепко, потому — этому идолу до того успели насадить по руке зарубок, сила-то и была на исходе. Вскоре его и вовсе повалили. Кирше на этот раз вовсе не посчастливило. То ли оступился, то ли промахнулся, только его сразу начисто укомплектовали: не боец стал, а туша под ногами.
Так поворот и вышел. Выбили тогда ямщину да прасолов с поля. Человек с пяток пришлось им лежачими подобрать. Купчишко, который обряжал бойцов, чуть со злости не уморился.
— Не допущу, — кричит, — чтоб такое ещё когда случилось!
А на деле наоборот вышло. Всякий раз слесаря стали ямщину выбивать. Чего только те ни делали! Подставу без стыда до половины довели, башлыков сколько раз меняли, повадку эту, чтоб по руке-то бить переняли, а всё не действует. И то сказать, повадку перехватить недолго, да привычку нескоро добудешь, а он, слесарь, по всяк день молотком играет. Хоть с локтя, хоть с плеча без промаху бьёт. На то и слесарь. К Федюне тоже подсыл делали:
— Переезжай в наш конец. Избу тебе поставим за моё почтенье. Живи барином, а у нас в боях башлыком будешь.
Федя на это и говорит:
— Ежели бы мне такую подлость сделать, перевёртышем стать, так, всё едино, толку бы не вышло. По другим концам не угадаешь, кто кого одолеет, а у нас дело открытое. Раньше вы наших били, потому мы вашим же обычаем шли, а теперь пошли по-своему, — широким плечом, и быть вам завсегда битыми. Никакой башлык не поможет.
— Что, — спрашивают, — за плечо такое? Чем расхвастался?
— А это, — отвечает, — по вашему разумению и не втолкуешь. Народ вы одиночный: кто на козлах, кто при своей лавке либо постоялом сидит, а широкое плечо тому вразумительно, который с другими сообща в работе идёт.
Фенька тоже крючочки закидывать стала. Дескать, Федя да Феня как нарошно придумано, чтоб в одной избе жить, в одной упряже ходить. Только Федя к той поре одумался.
— Нет, — говорит, — девушка, не сойдётся дело, потому — в разные стороны глядим. Ищи себе кочета с богатым пером, а я свою долю в другом месте поищу.
И верно, вскорости женился, да и другая перемена у него в житье случилась. Старатели, коим он иной раз насос направлял, смекнули: подходящий мужик, ежели его вожаком пустить. Стали зазывать:
— Переходи к нам в долю!
Феде этак-то лучше показалось, чем по мелочам перебиваться, он и перешёл. И что ты думаешь? Загремела ведь артель! Сроду у нас по заводу такой не бывало. Башлычить в боях Федя с годами перестал.
— Седых-то, — говорит, — башлыков дураками зовут. Пускай молодые тешатся, а мы полюбуемся, как мастеровой народ широким плечом орудует. Ни силой, ни казной его не удержишь, всё сшибёт!
Из артели Федя до конца жизни не ушёл. В почёте его там держали. Когда, к разговору случится, похвалят артель, старик говаривал:
— Живём, не жалуемся, а всё потому, что хоть малой артелью, да одним плечом на дело навалились.
Когда ещё добавит:
— Конечно, ни у кого желанья нет хозяйский карман набивать. А не будь-ка этого да навалиться широким плечом по всему заводу! а? Заиграло бы дело! Через год-другой родного места не узнать бы!
И сам зажмурится, как от солнышка.
Теперь вот видно стало, что старый башлык не зря про широкое плечо говорил. На глазах у нас оно разворачивается. Давно ли мы радовались именитым людям заводов и рудников, а теперь именитые цехи да участки, звенья да смены пошли. С каждым годом растёт и крепнет широкое рабочее плечо, и нет силы, чтоб против него выстоять.
Сколько ни пыжатся разные толстосумы, а сомнёт их широкое плечо людей труда. Сомнёт, что и памяти не останется.
1948 г.
Золотоцветень горы
о нашим заводам исстари такой порядок вёлся, чтоб дети родительским ремеслом кормились. Так и в нашей семье было. Все мои старшие братья по отцовской дороге на фабрику пошли, один я на отшибе оказался, стал свою долю в горе искать да и задержался на этом деле до старости.
Не больно гладко она началась да и потом косогором с ухабами шла. Теперь вот подшучиваю над своей старухой. Каждый месяц, как ей деньги передаю, непременно скажу:
— Получите, Анисья Петровна, на домашние расходы пенсию, какая по заслугам мужа назначена.
Она, понятно, берёт. Ни разу не отказалась и тоже с полным обхождением отвечает:
— Покорно благодарю, Сидор Васильич. Премного довольны.
А когда ещё ласковенько этак спросит:
— Табачку-то тебе купить, али ещё тот не искурил?
— Это, — отвечаю, — какое участие ваше будет.
Ну, старуха у меня не привычна долго-то с обхождением поступать, заершится:
— А такое участие, чтоб этого проклятого табачищу вовсе не было. Всю избу прокоптил. До старости дожил, а ума не нажил!
Только мне эта воркотня вроде забавы, для домашнего развлечения. А ведь раньше не то было. Не одно, поди, ведро слёз моя жёнушка пролила, а попрёков да покоров в самый большой углевозный короб не вобьёшь. Не раз грозилась вовсе уйти от меня. Все, видишь, образумить да усовестить меня хотела, чтоб по-людски жил, — работал бы на фабрике, либо при каком другом заводском деле находился.
А сколь мы сладко с ней жили, по тому суди, что ни один из моих сыновей и зятьёв на моё ремесло не позарился.
Ну, всё-таки старуха от меня не ушла, а теперь и грозиться этим перестала. Пятерых ребят мы с ней вырастили и к делу приставили, пенсию вот получаю. В двух местах по моему наказу рудники есть. Один Талышмановский, а другой по моей фамилии прозвали. Чуешь? Не зря, выходит, я с малых лет да и женатым столько муки от семейных своих принял.
И тем могу похвалиться, что двое моих внучат по моей части пошли. Один ещё учится в институте, а другой уж три года все курсы окончил. Инженер! Со всякими приборами обходиться умеет. Теперь за Благодатью разведки ведёт. Недавно приезжал домой, так сказывал, — много чего они там нашли.
Известно, грамотные, с приборами идут и целой партией. В день узнают больше, чем мы за годы высмотрим в одиночку-то. И шли мы, почитай, вслепую. Одна надежда на глазок, на слушок, да приметы разные. Стариковские сказы тоже не отвергай. От иного и польза бывала. Да вот лучше я сначала расскажу про всё это.
В малолетстве я пристрастился рыбёшку ловить. Рыболовной снасти в нашем доме не было, а удочку всяк смастерит. Я и занялся с удочкой в те годы, как в школу учиться бегал. Тятя этому не препятствовал. Всё-таки парнишка не баклуши бьёт, а за школу одобрял: «Учись». Потом, как я три класса кончил и похвальный лист принёс, тятя этот лист на стенку повесил и другим показывал:
— Сидша наш, гляди-ко, отличился. Бумагу с золотыми каёмками ему выдали!
Как прошло с той поры еще года два, родитель стал поварчивать за мое рыболовство.
— Пора к делу приучаться, а ты всё со своей удочкой балуешься.
Ну, маменька меня заслонила:
— Что ты, отец, зря парня беспокоишь. Не сидим без рыбы-то. Вас вон трое на заводе, а получка какая. Кабы Сидша рыбу не носил, сплошь бы всухомятку хлеб жевали. А то приварок есть. Пускай ещё сколько порыбачит. На завод успеется.
Так и застояла меня себе на голову. Потом сколько её отец корил: «Лентяка вырастила». А мне тогда отсрочка вышла. С год ещё без покору рыболовил. Большенький стал. Кой-что понял. Жерлицы завёл, морды плести и ставить научился. Зимой тоже ловить навык. Рыба у нас всегда была. Случалось, какую рыбку побогаче мать и продавала.
Раз летом забрался я по Полдневской дороге к Чусовой. Река там мелкая, с перекатами, а мне это и надо было, потому — на таких перекатах харюз ловится. Простоял долгонько, а толку мало. Вижу, идёт какой-то пожилой человек. Одет попросту, походка лёгкая. Высокий такой и на лицо приметный. Усы реденькие, подбородок тоже чуть волосками прострочен, а под подбородком густой клин седых волос. Брови тоже седые и как-то вразмёт пошли. Ровно вот две маленьких птички сидят и крылышки подняли. Одним словом, приметный. Раз увидишь — никогда не забудешь.
Идёт этот человек и говорит:
— Ты, парень, неладно примостился. Тень-то твоя на воду падает, а харюз— рыба сторожкая, увидит — отойдёт. Ты лучше вон на ту излучину ступай. Там тебе солнышко чуть не в лоб придётся, тень — на кусты, да и кусты там поближе к берегу, а перекат такой же.
Сказал и прошёл. Мне, по ребячьему делу, дивом показалось: ни о чём не спросил, а посоветовал, будто наперёд всё узнал. Всё-таки послушался этого совета, перешёл к перекату, про который он говорил, и живёхонько наловил харюзов полную корзинку. Еле до дому донёс: тяжело оказалось. Мамонька обрадовалась.
— Самая это господская рыбка. Уважают такую. Побегу-ка, не купят ли.
И верно, целковый ей за корзину дали. Перед отцом мамонька даже похвалилась моей удачей. Показала полученный рубль и говорит:
— Тебе за это два дня у печей жариться, а Сидша в один день столько получил.
Отец, конечно, свое говорит:
— Моя полтина надёжная, — она на всяк день есть, а эти рубли, которые с водой плывут, — одна заманка для дураков.
После этой удачи повадился я ходить по Полдневской дороге на Чусовую. Харюз всегда на том месте ловился, только всё меньше и меньше. Раз опять подошёл ко мне этот человек. При ружье, в руке лопата, за поясом каёлка. Лёгонькая, для верхового бою. Подошёл, сел покурить. Я ему спасибо за хорошее место сказал, а он советует:
— Не надо на одном перекате ловить. Приметливая эта рыбка. Учует свою убыль, вовсе тут держаться не станет. Ты переходи с переката на перекат, не жалей ног-то. Одно помни, — к солнышку применяться надо, чтоб тень на воду не падала.
— Ты, видно, рыболов? — спрашиваю.
— Рыбачу, когда на ушку понадобится. Больше-то мне ни к чему. Одиночкой живу, а летом редко в избу захожу. В лесу больше.
— Охотничаешь?
— Какая охота с кайлой да лопатой. Ружьё это так, для провиянту. По нехоженным дорогам топчусь. Птица там спокойная. Когда и подстрелю на еду. Другое моё дело.
— Старатель, значит? — догадался я.
— Тоже не угадал. Старатель, он к своей Дудке пришитый, а я видишь, брожу да в землю гляжу.
— Что ищешь?
Он усмехнулся и говорит:
— Подожди. Не всё сразу. Чей хоть ты, любопытный такой?
Я сказался. Он опять спрашивает:
— Грамотный?
— Школу, — отвечаю, — с похвальным листом окончил.
Он поглядел этак раздумчиво и тоже сказался.
— Мало я ваших фабричных знаю. Старатели да охотники мне знакомее. Эти про Кирилла Талышманова знают, только, поди, позаочь-то мало доброго говорят.
Сказал это, — у меня, как говорится, глаза на лоб полезли. Он это видит и говорит с усмешкой:
— Слыхал, видно, про полдневского чертозная? Он самый и есть. Не испугался?
— Зачем, — говорю, — пугаться. Не маленький, поди-ка…
— Ладно, коли так, а теперь беги-ка на тот вон перекат да подёргай харюзков. Господская рыбка, уважительная… Мать похвалит.
Я тут прямо спросил:
— Ты, дяденька, как узнал… насчёт господской рыбки и что мать похвалила.
Он ласково так на меня уставился и говорит:
— Глазёнки-то у тебя ещё худым не замутились, всё через них видно.
И вот, понимаешь, как пришил меня к себе этими словами. Так бы никуда от него не ушёл, а Кирилло Федотыч, наоборот, подгоняет:
— Беги-ка, беги скорее. А то мало рыбы носить станешь, на другую работу тебя пошлют. Большенький ведь… Не увидимся тогда.
С той поры и началась перемена моей жизни. В то лето много раз видел я Кирилла Федотыча. Показал он мне свои поисковые ямы. В избе тоже у него побывал. Там у него во всех углах груды руды да камней. Иные камешки в запертом сундуке хранились. Их тоже показал. Мне всё это любопытно показалось, а особенно ямы. Одна большая была. Тут у Кирилла Федотыча под навислым камнем инструмент всякий был.
— Это, — объяснил Кирилло Федотыч, — у меня яма едовая. Камешки на продажу из неё выбираю. Хоть одиночкой живу, а на хлеб, на одежду да на обувь, на дрова тоже. Зима-то ведь у нас, сам знаешь, долгая. Вот и сбываю из этой ямы камешки, а те у меня поисковые, — узнать только, нет ли там чего полезного человеку. Их у меня много нарыто. Которые уж и сам не помню. По записи искать надо. Сказываю о своих находках заводскому начальству, да плохо оно слушает. Когда на золотишко набежишь, за это хватаются. Пустой народ. Об одном у них забота, как бы одночасьем разбогатеть.
— Кому, — спрашиваю, — камешки сдаёшь?
— На них, — отвечает, — в городе охотников много. Только я одному сдаю. Старичок один есть. Первейший мастер по огранке и с понятием. Он, видишь, всякие камни берёт и после огранки продаёт их, а эти камешки у себя оставляет. Огранит— и в сохранное место. Они, говорит, золотоцветню горы родня, их нельзя на пустяковые подвески держать. Хризолитовая осыпь для большого дела пригодиться может.
— А какой золотоцветень горы?
— Когда-нибудь расскажу и об этом, — пообещал Кирилло Федотыч.
В детские годы случилось мне встретиться с старым горщиком. Рассказами да показом приклеил он меня к своему поисковому делу. Когда я сказал дома, что хочу поступить в выученики к Кириллу Федотычу, тятя на меня закричал:
— Из головы выбрось эту дурость! Ты коренного фабричного роду, и никуда в другое место не пойдёшь. Твой-то Кирилло, сказывают, умом повихнулся, а ты к нему в выученики захотел! Чтоб я этого больше не слышал! Завтра же сведу на завод.
А я упёрся: «Не пойду!» Тятя меня с крутого плеча и давай ремнём потчевать. Я как-то вырвался и убежал из дому. Мамонька, понятно, растревожилась. Свара в доме пошла. Кончилось тем, что Кирилло Федотыч сам пришёл и уговорил как-то отца. Тятя только этак сердито поглядел на меня и укорил мамоньку:
— Любуйся, какого самовольного балуна вырастила.
А мне сказал:
— Смотри, Сидко, на меня потом не пеняй, что во время не образумил.
С таким родительским наказом я и стал выучеником по поисковому делу.
Кирилло Федотыч маленько грамотный был. Книжки у него были. Особо он дорожил одной.
— Это, — говорит, — старинного академика Севергина сочинение. Тут всё о камнях и земле, о горючих и металлических существах по правде сказано.
За этой книгой он частенько подолгу сидел, только иной раз жаловался, — непонятное есть и нерусскими буквами иные слова напечатаны. По этой же книге он вёл испытание руды и земель.
Учил меня Кирилло Федотыч не по книге, а на деле. Собирается где поиск делать, сейчас же расскажет, по каким признакам и приметам он это место выбрал, что думает тут увидеть в первом пласте, во втором, откуда он разглядел эти пласты, пока ямы нет. Когда работы ведём, тоже по порядку рассказывает: за таким, дескать, камешком должны встретиться другие, а за этим — третьи. Первые — следок, вторые — поводок, а третьи те самые, которые искать задумали.
Летом мы с Кириллом Федотычем по всей заводской даче бродили. Раз как-то сидим на самой вершине горы. Кругом на многие вёрсты видно. Кирилло Федотыч тут и рассказал мне о золотоцветне горы.
— В иных местах горы под облака ушли, снег на верхушке и летом не тает. Сразу видишь, где вершина, где скат, где подошва. А в нашем краю, видишь, горы мелконькие и все лесом заросли. Те, что покрупнее, хоть имена имеют: Азов вот, Волчиха, в той вон стороне Таганай, а там Благодать, дальше Качканар и другие. Иные опять по выработкам: Хрустальная, Карандашный увал, Тальков камень. Остальные, если путём разобрать, без имён ходят. Чтоб не путаться в дорожках, и эти горки, понятно, называют, только вовсе простенько. Растёт сосна — горка Сосновая, по берёзе — Берёзовая, по осине — Осиновая, Липовая там, Ельничная, Пихтари, Кедровая, Листвяничная. По подъёму тоже различают: Пологая, Крутая, Остренькая. Перейди в другую заводскую дачу, там тоже Сосновые да Ельничные, Пологие да Остренькие. Одна путанка, а не имена. Когда надо запись о находке сделать, примечаю по речке, либо, того лучше, по номерному знаку лесного участка. А все эти горки скопом зовут одним словом — гора.
Оно и правильно, потому как по нашим местам гора может там сказаться, где её вовсе не ждут. Поселились, к примеру, на ровном будто месте, жили не один десяток годов, а копнул кто-то поглубже в своём огороде, — оказалась руда. Первый сорт, мартит! Чуть не цельное железо. Стали добывать, и видят, — жила не в ту сторону идёт. Идёт, где ближний железный рудник. От другой, значит, горы эта видна. Не один год из этих огородов по двум улицам мартитовую руду добывали да в завод сдавали, а так и не разобрались, откуда жила пришла. Да что говорить! На что низкое место— болото, а и под ним гора может оказаться. Сколько раз по таким местам мне самому приходилось дорогие камешки добывать. Не от болотной же няши они зародились.
Это я к тому разговор веду, что вот все эти вершинки, которые видишь, они вроде камешек, а гора сплошной грядой прошла. Недаром её раньше Поясом земли звали. Пояс и есть. Вишь какой! В длину тысячами верст считают, а сколь он широк и насколько в землю врезался, этого никто толком не знает.
В поясах по старине, известно, казну держали. От того, может, и нашей горе прозванье досталось. Только, понятно, в таком поясе богатства не счесть.
По этому Поясу земли, говорят, широкая лента украшенья прошла из дорогих камней. Всякие есть, а больше сзелена и ссиня. Изумруды, александриты, аквамарины, аметистики. А по самой серёдке этой хребтины двойной ряд хризолитов. Видал этот камешок? Помнишь? Он и зелёный, и золотистый. Весёлый камешок. В сырце и то любо подержать такой на руке. Так весной да солнышком от него и отдаёт. Мы эти камешки золотоцветнями зовём.
Только эти камешки мелконькие, а есть большой. Этот зовут золотоцветнем горы. Такого ещё мир не видывал. Перед ним все камни, какие из земли добыты, не дороже песку, а то и золы.
Сила этого камня не в том, что за него много денег дадут. Ни у кого и денег не хватит, чтоб его купить. Перед тем человеком, который усмотрит этот камень, Пояс земли раскроется.
Такой камень, понятно, гора крепко держит. Не одну, поди, сотню лет, которые понимающие этот камень подсматривали, а ничем ничего. Даже следочков к нему не нашли. И то сказать, — в одиночку бьются. Много ли один в такой горе за всю жизнь увидит. Заводское начальство со счёту сбрось. Эти слепороды дальше своего носа не видят. О том, чтобы раскрыть Пояс земли, у них и думушки не бывало. Иноземельные больше про наше богатство пронюхали, подсылают своих, а то и здешних нанимают, у кого стыда нет. Вот хоть северский управитель. На заводской будто службе, а сам каким-то американцам поиск ведёт.
Ну, этим, ясное дело, золотоцветень горы не даётся, потому орудуют воровски и жадностью пропитаны насквозь. Чуть что попадётся, сейчас же рвать начнут, не до поисков им.
Нет, друг, тут другой глаз требуется. Мало того, что он должен быть зоркий, надо ещё, чтоб он никакой корыстью не замутился, — не для себя выискивал, а для всего народа.
Рассказал это Кирилло Федотыч и добавил:
— Может, и тебе не удастся увидеть либо хоть дожить до той поры, когда золотоцветень горы увидят, в одном не сомневайся. Наша гора богатствами полна. Старые разработки вовсе пустяки, вроде свинороины на лугу. Пройдёт малое время— и места не заметишь. Горы эти ещё послужат народу да и как послужат!
Этот сказ своего учителя по поисковому делу я запомнил на всю жизнь. Сперва, по молодому умишку, сам подглядывал, не откроется ли мне, золотоцветень горы. Потом, как в лета вошёл, уразумел, что не про таких сложено. Поиски, видишь, вёл не без расчёту, чтоб заработать для себя и для семьи, а когда и вовсе добывал в ямах старательскую долю. И всё-таки этот сказ мне надежду подавал, что не всё так будет. Тогда, видишь, сильно заговорили, что скудеет наша гора, что скоро тут и добывать нечего будет.
Может, это нарочно плели, чтоб цену на заводы сбить. Тогда, годов так за десять до революции, многие здешние заводы от старых владельцев стали переходить к каким-то обществам, а правители как наподбор оказались чужестранные. Видишь это — и неспокойно станет, а вспомнишь сказ — повеселеешь.
В этакую весёлую минуту ко мне как-то и подъехал северский управитель.
— Покажи, Климин, места, какие у тебя на примете, я тебе хорошо заплачу.
Я ему, конечно:
— В другую контору заявки даю.
— Это, — говорит, — всё едино.
— Кому, — отвечаю, — как, а я на сторону продавать не согласен.
Про мошенство этого управителя я слыхал, и так мне неохота стало заявку сдавать, что не пошёл в контору. В свою-то. Думаю, — вытащит ведь. Так мои разведки впусте и лежали не по один год. Тут война подошла. Пришлось мне там три года пробыть, потом столько же на гражданской, а как пришёл домой, так вовсе другая контора. Чермету о своих находках и заявил: утешно мне это, только всё-таки это дело маленькое, а главное в другом.
Дождался-таки я, что старый поисковый сказ сбылся.
Сталинский зоркий, заботливый глаз усмотрел среди наших лесов, увалов да старых разработок золотоцветень горы и указал за него взяться.
И великий Пояс земли раскрылся и показал свои бессчётные богатства на радость трудовому народу, на зависть его врагам.
Всем видно, что наша старая гора теперь живёт новой жизнью. Бессчётными огнями новых рудников, шахт и заводов в день семидесятилетия Великого вождя трудящихся горит и переливается золотоцветень нового Сталинского Урала.
1949 г.
Не та цапля
одом-то мы из сысертских. Все наши деды-прадеды от железного дела кормились. По-разному, понятно. Кто руду добывал, кто плавил, кто в сварочной жарился, кто в прокатке до поту крутился, кто в листобойном надрывался, кто на перевозках чугуна да железа маялся. Из нашей семьи сдавна тропка на механическую была протоптана. По этой тропке и я с малых лет бегать стал. Больше двадцати годов её торил при старом-то положении.
Она, — эта тропка на механическую, — счастливой считалась. Иной раз в разговоре и укорят:
— Вам, ведь, слесарям да токарям, житьё вполгоря. На худой конец рублишко за день наколотите да наскоблите, а нашему брату из семи-восьми гривен, видно, никогда не выскочить.
Так оно и было. В механической побольше платили. Только всё-таки эта похлёбка из хозяйского котла никому завидной не казалась. Не больно сытно выходило, когда весь жир барину счерпают, а рабочим пустой жижи плеснут, кому на рубль, кому на семь гривен, кому на полтинник, а иному и меньше того.
А главное — обидно, что много из заводского котла в пустое место сливали. Иначе это и сказать не умею. Сам посуди, хороший рабочий получал за год рублей триста, много — четыреста, служащим, кроме главного, начальства, тоже не больно богато платили, а владельцу каждый год выдавали двести пятьдесят тысяч рублей.
Подумай! Одному такую уйму денег при тогдашних ценах. И хоть бы он что подновил! Ни одной машины, ни единого станочка. Всё осталось, как при дедах, а деньги куда-то уходили. Разве такое можно терпеть? Давно об этом говорить стали, да силы у народа не было и путей не знали. А как при революции стали всех старых поваров от заводского котла отгонять, я от других рабочих не отшатился. Сперва в фабричном комитете старался, а потом и с винтовкой пошёл. Воевал по чести, по совести, назад не глядел, за людей не прятался. Подстрелили меня маленько. Заметил, поди, что вприскочку хожу? Это пулькой мне ногу повредило. Скрючило её, не разгибается в полную-то меру.
После войны тоже на заводе работал. Сперва туговато пришлось. По нашим заводам это ещё и с добавкой, потому — в наследство одну рухлядь получили, надо было по-новому строиться. Ну, ничего, вскоре поправляться стали. Известно, теперь из заводских котлов ни капли в бездонную кадь хозяйского кармана не сливали, всё на дело шло. Поправка столь бойко пошла, что век бы с заводом не расстался, да ребята мои крепко настаивать стали:
— Посиди ты дома на старости лет. Гляди-ка, внуков у тебя на целый взвод. Старшие уж выросли, на войне побывали. Пусть хоть младшие узнают, какие дедушки бывают.
Добили-таки. Пятый год на пенсии живу. С внучатами занимаюсь. Показываю им то-другое, рассказываю тоже. Целой стайкой когда с приятелями своими налетят. Мне забавно, и ребятам, думаю, не без пользы, когда что втолкуешь.
Только не думай, — я и сейчас на заводе могу. Теперь он у нас хоть и на другое повёрнут, а мне всегда работа найдётся. Да и знают меня там. Твёрдость в руке ещё есть. Как машина она у меня действует. Глаз отупел, конечно, а всё-таки ещё служит. А ведь раньше у меня какой глазок был! Из-за него я вовсе ещё парнишкой в первостатейные слесари попал. Случаем, конечно… Да лучше я тебе это по порядку расскажу.
Последний-то заводский барин чудаковатый был. К заводскому делу он вовсе не касался, только деньги брал, а занимался он птичками. Подглядывал, как они живут, какие у каждой яички, как они своих птенчиков обучают и всякое такое. По этой не то науке, не то забаве у барина приборы разные были. В числе их один вроде небольшого ящичка с часами сбоку. Для фотографии будто. Насторожат этот ящичек около гнёздышка, а сами отойдут подальше. Птичка видит, — людей нет, не остерегается, делает своё дело, а этот приборчик, как время подойдёт и начнёт пощёлкивать на карточку. Может, многое впустую выходило, да ведь у барина денег много и карточки ему не самому делать. Нанятой человек был.
И вот этот приборчик испортился. Принесли к нам в механическую, спрашивают, не возьмётся ли кто исправить. Мастера поглядели, отказались.
— Не наше дело. Часовщику надо отдать. Больно мелкая работа: без стеколка не разглядишь, да и подходящего инструменту нет.
А я как раз часами баловался. От дедушки своего перенял маленько. Я и потянулся поглядеть этот приборчик. В надзирателях по механической у нас тогда Коготок был. Старик вроде и ласковый, и разговаривать с ним просто было, а злопамятный и любил человека царапнуть при случае.
Покосился он на меня и говорит:
— Отойди-ка, парень. Не твоего ума дело. Слышал, — мастера отказываются, а ты кто?
Игнатий Васильич, у которого я тогда в подручных ходил, заступился:
— К мелкому у парня большая охота и глаз на редкость. Может, он углядит, что поправить надо.
Коготок на это не уверился.
— Твои-то, — говорит, — выученики всегда на колокольне муху разглядят, а под носом у себя разобрать не могут. Давно ли твой-то хвалёный на срезе гармошку оставил. Забыл?
— С полгода с той поры прошло. Можно и забыть такой пустяк, — отвечает Игнатий Васильич, а Коготок своё:
— Помнить надо, а то доверишь такому, — он тебе и настряпает.
— Твое дело, — согласился Игнатий Васильич, — только он мне часы в лучшем виде исправил. Из минуты в минуту идут с конторскими.
Тут еще один мастер добавил:
— Мне тоже Кузя хорошо часы направил. Из военной службы их принёс. За отличную стрельбу дали. Хорошие часы, а что-то пошаливать стали. Теперь ходят честь честью.
Коготок после этого посмяк маленько.
— Погляди уж, коли тебя этак расхваливают.
Оглядел я, как быть должно — не торопясь, и понял, что в передаче толкачики покривились и шестерёнка, которая кольцо с толкачиками ведёт, слабину дала… Думаю, — пустяшное дело, справлюсь. Только этого не сказал, а объявил:
— К завтраму направлю, коли дозволишь эту штуку мне домой унести. Там у меня приспособлено для мелкого, а здесь не могу.
Коготок, видать, ещё посомневался, помолчал, потом и говорит:
— Ладно, неси, только помни, — испортишь, из механической выгоню.
Игнатия Васильича тоже к этому пристягнул.
— Проводи, — говорит, — его домой, а то ещё с кем дорогой подерутся, вещь испортят. Да накажи домашним, чтоб не мешали. В случае — и ты в ответе будешь.
Дома на меня маленько поворчали:
— Ой, парень, суёшься, куда не зовут. Вдруг в самом деле не выйдет, что тогда?
Ну, отказываться поздно. Занялся я. Всё оказалось, как думал. Скоренько поправил. Проверили с Игнатьем Васильичем. Всё как следует быть. Как время подойдёт, рычажки начинают действовать: один на малое время глазок открывает, другой пластинку роняет, а на её место другая выдвигается. Игнатий Васильич и говорит:
— Торопиться с этим не будем. Пусть Коготок думает, что работа большая. Поставь пока в сохранное место. Завтра после полуден зайду за тобой.
Так и сделали. Коготок тоже проверил, как стало, и заметно обрадовался. Игнатий Васильич тут и говорит:
— Повысить надо парня по подёнщине. Видишь, какой старатель. Всю ночь просидел, а своего добился.
На Коготка, видно, добрый стих нашел:
— Что ж, и повысим. За нами никогда не пропадёт.
И верно, стали меня с той поры рассчитывать, как первостатейного слесаря, а за поправку выдали ещё особо рубль.
Эта рублёвая награда долго у нас по механической на памятях держалась. Коготок частенько говаривал:
— Вон Кузёмка, — материно молоко на губах не обсохло, — а сделал по-хорошему, ему подённую платят, как полному слесарю, да еще награду выдали. Понимай, как работать надо!
Рабочие тоже об этом поминали, только по-другому:
— Старайся, ребятушки. Хозяину угодишь — рублёвкой наградят. Не пожалеют.
Мне это как-то в обиду казалось, да спасибо Игнатий Васильич вразумил:
— За тобой никто вины не считает. Над тем смеются, что грош дадут, а на рубль разговору ведут. Коготок-от чуть не целый год об этом трубит, а по-настоящему о такой награде и поминать-то стыдно. То хоть хорошо, что прибавку у подённой выкрутили, да и цаплю ты ловко перешагнул.
У нас с переводом в разряды туго было. Коготок никогда не торопился человека обрадовать хоть малой добавкой. Когда сильно начнут наседать, скажет:
— Пускай цаплю-двухсторонку смастерит. Погляжу.
Работа вроде и не мудрёная, да на две стороны приходилось оглядываться.
Старательно её сделать, — от рабочих покор может быть.
— Вишь, — скажут, — какой барский угодник. Кандалы такому закажут, так он и там цветочки пристроит, чтоб веселее казались.
Без старания сделаешь, Коготок подрежет:
— Куда тебе в первостатейные, коли ты такую известную вещь толком сделать не мог… Надо, видно, ещё годик-два поучиться.
По теперешнему времени непонятно, за что рабочие наших заводов цаплю не любили, а раньше малолетки по улицам распевали: «Горько, горько нам, ребята, под железной цаплей жить»…
Видишь, у старых заводских владельцев заведено было метить свои поделки особым клеймом, как кто придумает. Один, скажем, выберет себе соболя, другой беркута, либо ещё кого, а сысертский владелец придумал на своём клейме цаплю ставить. Почему он облюбовал эту неказистую птицу, сказать не умею. От своих стариков только слыхал, будто это с хитростью сделано. Другие, дескать, владельцы похвастать любили: «у нас в заводских лесах дорогой зверь, над горами беркуты да орлы», а этот прибеднялся:
— Какая у меня дача! Так, болота одни. Из птиц только и видишь, что цаплю.
Это он со своей братией — владельцами так говорил, зато дома, в своих-то заводах, больно высоко цаплю поднимал.
— Надо, — говорил, — того добиться, чтоб наша заводская цапля выше всех взлетела.
С той поры и повелось, что в нашем Сысертском округе цапля у заводских владельцев в большом почёте держалась. Потом, когда заводы другим владельцам перешли, порядки во многом переменились, а цапля в прежней силе осталась. Последний владелец, как он пристрастие к птицам имел, развёл этих железных цаплей столько, что везде их видно было. Ни пройти, ни проехать, чтоб заводская цапля в глаза не попалась. Когда сшибут либо исковеркают какую, барин из себя выходил, слюной брызгался и наговаривал своим ближним холуям. Для переносу, конечно, чтоб другим рассказали, что барин сердится и какое наставленье даёт.
— Это, дескать, знак важный. Его уважать надо. Будет цапля на славе у покупателей — и всем хорошо будет, а уроним славу своего заводского знака, тогда хоть заводы закрывай. Такой знак и ставить-то на железе с оглядкой следует.
По этому барскому приказу уставщики и действовали, — сильно придирались при клеймёжке. А клеймили по горячему. Поворачивать да разглядывать некогда. На глазок приходилось помахивать. Оплошки и бывали частенько. Стукнет, скажем, по полосе либо листу клеймом, а там рванина, скосок, ещё какой изъян окажется. Уставщик тут как тут.
— Срежь это место. Сам знаешь, нельзя нашу цаплю на бракованном железе показывать. Заводскому делу от этого урон может быть. Завистникам нашим попадёт, так они на Нижегородской ярмарке, небось, показывать станут, вот-де на каком барахле сысертская цапля сидит.
Наговорят так да и дадут человеку час-два лишней работы, а то ещё и оштрафуют. Таким людям, ясное дело, заводскую цаплю не за что было любить, да и всем остальным рабочим она опостылела, может, хуже двуглавого орла. Двуглавый, видишь, в те годы ещё высоко летал, не всяк его по-настоящему разглядеть мог, а эта низко сидела и каждому понятие давала, — сколько ни старайся, а ни себе, ни заводам прибытку не будет. Одному владельцу прибыль, да и та как в провал уйдёт.
Прямо сказать, была эта заводская цапля вроде занозы на ходовом месте. И так её не забудешь, а тут ещё эти знаки везде понаставлены: на конторе, у складов, на плотине, над воротами рудного и дровяного дворов, при угольных сараях, даже над сторожёвскими будками и кордонами. Будто заводское начальство подряд взяло народ из терпенья вывести. И случалось это: пожилые занимались ребячьим делом, — сбивали и коверкали эти надоедные знаки. Про ребят и говорить нечего. Каждый с малых лет знал, что цапля — барский знак, если свернуть ей голову, дома ругать не будут, только надо не попадаться, а то худо и большим будет. Ребята и старались. Какая цапля пониже сидела, ту непременно расколотят камнями да палками.
Цапли резались из кровельного железа и были двух сортов: односторонки и двусторонки. Односторонки просто набивались на стену. Их, понятно, сбить нельзя, разве когда грязью забросают. Больше всё-таки было двусторонок. Эти резались из двух листов и укреплялись на шкворне с подушкой, которая прибивалась либо привинчивалась. Шкворень из толстого прутового железа проходил под вытянутой лапой птицы и выходил в кольцо на спине. Это место было самым стойким, зато голова, хвост и вторая подогнутая лапа легко гнулись от хорошего удара камнем. Сшивали листы тоже не больно крепко, — на кровельные клямеры.
Эта цапля на шкворне поворачивалась, и ребятам было занятно бить по такой мете. Всяк норовил сразу покривить нос, подшибить лапу, заворотить хвост, сбить косицы, но рад был и тому, что цапля завертится. Кончалась эта охота тем, что листы распадались. Сторожа, понятно, гонялись за охотниками, грозили сказать отцам, но тоже не больно усердствовали. Эти сторожа, из бывших рабочих, сами в своё время занимались такой же охотой и отговаривались от начальства теми же словами, как их дедушки:
— Нетто за такой оравой углядишь! Надо бы их отцов притянуть, да разве узнаешь, чьи эти вертиголовые!
Случалось, конечно, что какой-нибудь барский наушник опознавал ребятишек. Тогда большая неприятность семье выходила: даже возчикам железа от работы отказывали, а фабричных из завода выставляли. Бывало и стариков с места сгоняли.
— Как, дескать, ты, такой сякой, говоришь, что не узнал ребятишек, коли все они из вашей улицы, а твои стервецы-внучата первые стали пушить камнями!
Одним словом, худого от этой цапли много было, а сбивать её не переставали. Часто от барина наказ получали сделать новые знаки на таких-то местах. Тут ещё Коготок поджимал, — заставлял делать эту штуку, как на пробу.
Теперь вот, когда подумаешь, диву даёшься, зачем заводским владельцам эта цапля понадобилась. Ну, заводское клеймо — это дело нужное. Без него нельзя. А вот на что это клеймо вроде божка выставлять? Неужто нарочно, чтоб людей дразнить? Ведь если посчитать, так это и заводам не дёшево обходилось. Всё-таки и материал чего-то стоил, а главное — рабочих от настоящего дела отрывали. Розыск да разборка дела о сбитых птицах тоже время занимали, а выходило всё на пустое.
Как-то вот рассказывал я об этом своим внучатам, а на ту пору приехал в гости мой старший внук Ваня. Он у меня на войне до лейтенанта дослужился, три награды имеет. Теперь на большом заводе в сборочном цехе работает. Всё еще не женился. Говорит, надо образование закончить.
Ваня, понятно, и раньше от меня про заводскую цаплю слыхал, а тут, видно, по-настоящему понял, куда она шагала, и говорит:
— Тебе, дедушко, надо бы поглядеть на нашу цаплю, которая теперь на сборке.
Мне удивительно стало: какая цапля, на что она? Спрашиваю, а он смеётся.
— Поедем, так поглядишь. По-моему, сходство есть. Ноги тоже долгие и на таких лопастях, что не угрузнут. Ходит не торопится, только не переступает, а рывком, как, скажем, человек на костылях, — упрётся обоими костылями и шагнёт. Шея да клюв у нашей подлиннее будет, а видимость со стороны такая же: сперва клювом внизу роется, потом кверху поднимает этажей на шесть, только добычу не проглатывает, а сбрасывает, куда ей укажут.
Вижу, что шутит, а всё-таки любопытно стало поглядеть, что в самом деле за штука такая, да и в заводе этом я не бывал, а Ваня его что-то больно высоко ставит. Дай, думаю, погляжу. С заводским автобусом и поехали. Ваня живенько мне пропуск справил. Как заводские ворота прошли, я и понял, что этот завод с нашим старым и сравнивать нельзя. В одном сборочном цехе, на мой глаз, всё наше старое заводское оборудование собрать, так ещё много места останется. Машины по цеху могут ездить и вдоль всей продольной стены рельсы проложены. Вот какой цех! Поперёк этого цеха лежит труба. Ваня и говорит:
— Это на шею нашей цапле. Только таких труб на шею шесть надо.
Я, понятно, не поверил.
— Как же, — спрашиваю, — такую штуку из цеха вытащите? Немыслимое же это дело. Тоже понимаем.
Ваня объясняет:
— Собираться она на месте будет, а здесь только подгонку ведём.
Мне всё же не верится, а он меня ведёт к какой-то железной башне в два этажа и говорит, что тут управление машины помещаться будет. Поглядел я, вижу, — непонятное для меня дело. Так и сказал Ване, а он и зовет меня в модельное.
— Там, — говорит, — тебе всё яснее откроется.
Походил я в этом модельном, показали мне, порассказали. Тут только понял, что строится землекопная машина для самых больших работ. Она за день поднимет земли за семь тысяч человек, а в управлении будет не больше сотни.
На цаплю, понятно, она не больно похожа, а всё-таки Ваня правильно её к старому подвёл.
Наша заводская цапля как нарочно была придумана, чтоб люди зря мытарились, а эта, наоборот, чтоб человеку облегченье дать, от кайлы да лопаты его освободить.
Когда сказываю ребятам, что на заводе видел, непременно пошучу:
— Как вы жить-то будете? Всё переменилось. Даже цапля не та стала. Раньше хоть она дело давала: одни её ставили, другие сшибали, а теперь как? Понастроят вот таких машин, про какую сказывал, да по всякому делу, тогда без работы сидеть вам придётся.
Ребята смеются.
— Мы, — кричат, — подучимся и этими машинами управлять будем. Сами ещё новые придумаем да построим, а работа у всех будет.
Малые, а понимают, что у трудового народа и думки быть не может, чтоб кто без дела остался. У него другая думка: побольше понаделать самолучших машин, каких не было и нет в заморских краях, да облегчать труд нашего человека. А дело это, к слову сказать, сталинское.
1950 г.
Живой огонек
о соседству со мной мастер по огранке дорогих камней Митьша Заровняев живёт. Одногодок мой. В малолетстве мы с ним неразлучными дружками были, вместе, как говорится, собак гоняли, вместе и в заводскую школу бегали, а потом наши дорожки разбежались. Он попал в выучку по гранильному делу и хорошим мастером стал, а я, как все мои деды-прадеды, весь век по заводскому гудку жил, — в механической работал. Тоже по своему делу от добрых мастеров не отставал.
В эти рабочие годы мы, понятно, с Митьшей встречались, только досужего времени у нас немного было, да и не в одни часы оно приходилось. Бывало и так, что я с работы, а он на работу. Ну, и в разговоре разнобой пошел: он про огранку, я — про сборку. Так у нас ребячья дружба и завяла. А вот теперь, как оба на пенсию вышли, опять неразлучниками стали. Только та разница, что теперь друг дружку не Ваньшей да Митьшей зовём, а по отчеству величаем: он меня Осипычем, я его — Алексеичем. Дня не проходит, чтоб мы с ним не сошлись. То он ко мне приплетается, то я к нему, а в погожие дни любим на завалинке посидеть, солнышко проводить. Дома-то наши, видишь, на закатную сторону окошками приходятся, а эта сторона недаром стариковской зовётся. К нам через дорогу приковыляет ещё орёл. Тоже пенсионер. Токарь Евграф Васильич Менухов. Он постарше нас годов на пять. Мы ещё вовсе малышами были, а он уж в школе учился. По старому-то грамотеем считался, потому двухклассное кончил. Мы с Алексеичем в заводскую школу только три зимы бегали, а он учился целых пять зим. Тогда это уж высоко считалось. Из-за этой грамоты судьба-то у Евграфа пёстрая вышла. Сперва, после школы, тоже в механической работал, в свои годы женился, семью завёл, а дальше дорога кривулинами пошла. Не любило начальство тех, кто пограмотнее. «Умные, дескать, стали, судят о чём не положено». Ну, Евграфа и выжили из механической да и с завода. Пришлось ему по другим заводам кормиться. Уж после гражданской войны домой воротился. Десятка полтора годов ещё в полную работал, а тут старость на плечи сильно давить стала, да ещё погорячился на работе, с ним и приключился удар. Отлежался потом, вылечили, а левую ногу и теперь волоком переставляет, и в разговоре ясности не стало. А ведь раньше-то говорок был. Теперь при внуке живёт. Инженер он, на заводе цехом заведует. Дельный, сказывают, парень вышел и о старике заботливый. Старый домишко они перебрали, сбоку и вглубь прируб сделали. Евграфу Васильевичу особую комнату отвели со всяким удовольствием: и тепло, и светло, и спать мягко, на окошках цветы, радио проведено и за книжкой посидеть есть где. Одним словом, устроенный старик. Можно сказать, с кабинетом.
Переберётся этот Евграф Васильевич на нашу сторону и первым делом пошутит:
— Не горюйте, малолетки, что солнышко уходит! Приходите утром пораньше ко мне на завалинку — встречать будем. Веселее, поди, встречать-то!
— А сам зачем на нашу сторону приволокся?
— Да тоже потянуло поглядеть на то, что прошло. И та думка была, — не заскучали бы мои малолетки перед сном. Вот развеселить и явился.
— Садись уж, — говорю, — в серединку, тогда за старшого признавать будем, — в случае спора оба под рукой будем.
Алексеич свое начинает:
— Отдышаться не можешь, увеселитель! Через улицу перешёл, как на высокую гору поднялся! Шуткам-то, видно, конец приходит.
— Кому, — отвечает, — как. Иной смолоду кислится, — дескать, я умру, а всё останется. Другой до гробовой доски не тужит, потому как не о себе, а о своём деле больше думает: шло бы оно, а удастся ли самому поглядеть — об этом печали мало. И по работе отдача есть. Ты вот за станочком в одиночку в молчанку больше играл, а я весь век на людях крутился. На народе, известно, без шуток да прибауток, без шуму да гаму, без рассорки да мировой не проживёшь.
Это у них привычка такая. Сперва поперекоряются, потом уж вгладь разговаривать станут. Проходящие, глядя на нашу тройку, подшучивают:
— Вишь, какие белые груз дочки на нашей улице выросли!
Другие опять советуют:
— Что сидеть-то! Поразмялись бы! В лошадки бы хоть поиграли! Улица широкая, полянка кудрявая — раздолье! Неуж не бегивали?
— Бегать-то, — отвечаем, — бегали, да теперь кучера из нашей ровни не подберёшь, и очередь не наша. Нам другое отведено, — на завалинке сидеть да поглядывать, бойко ли молодые бегают.
Шутят так-то, а всё-таки у кого досуг случился, подходят послушать нашу стариковскую беседу, спрашивать примутся, свое слово вставят, старое к новому прикладывать станут, спор затеют.
Разговаривали, понятно, про разное, житейское, а без того не проходило, чтоб который-нибудь из нас, стариков, не помянул о деле, каким весь свой век занимался.
Один такой разговор мне больше запомнился. Алексеич его начал. В какой-то летний праздник было. Наша улица хоть не из самых людных, а молодого народа вечером по ней много бродит. Одних студентов сколько из города приезжает. Раньше-то наперечёт знали, кто из заводских в городе учится, а теперь разве сочтёшь, коли чуть не из каждой семьи уезжают в институты да техникумы. Очередные отпуска тоже к летним месяцам подгоняются. Ну, отпускники, которые не уезжали по дальним местам, а проводят время на рыбалке, охоте, либо просто в лесу и на покосах, тоже непрочь похвалиться, что ближний загар не хуже дальнего. К Евграфу Васильичу подошла за ключом невестка, внукова-то жена. Она у него врач и вместе со своими двумя ребятишками живёт летом в лагере, который на бывшей владельческой заимке. С Менуховой ещё три женщины. Из лагеря же, видно, потому на одной машине приехали. Лагерь-то ведь оздоровительный. Ребят там много из всех заводских школ. Ну, и врачей да воспитательниц немало требуется.
Не помню уж, по какому случаю Алексеич стал рассказывать про свои камешки.
— По нынешним, дескать, временам научились чуть не все дорогие камни из подходящих составов плавить. Александрит только не одолели, да изумруд упирается. Делают его, да пока плоховато, а остальные камешки хорошо идут. Кто в этом деле не крепко разбирается, тому, пожалуй, и не отличить плавленый от настоящего. Горщики, разумеется, не ошибутся, а гранильщики и подавно.
Одна из женщин и спрашивает:
— А в чём, скажите, разница? Как отличить плавленый камень от настоящего?
Алексеич позамялся, потом говорит:
— На глаз хорошо вижу, а растолковать не могу. При нашей работе это явственно видно. С плавленым камнем тебе думать не о чем, потому — камешки один в один. Твое дело соблюдать размер — и всё. А самородный камешок, который из горы добыт, он смекалки требует. Подумать надо, с которой стороны и как его показать. Зато и утеха есть, коли угадаешь огранить, как тому камешку подходит. Глядишь на такой — и сердце радуется.
Тут парень один врезался. Не знаю его фамилии. Знаю только, что с турбинного. Задористый такой. В передовиках его на заводе считали. Портрет его как-то в нашей газете видел. Так вот и говорит:
— Если самородный только тем отличается, что с ним возни больше, так это пустое дело.
— Нет, не пустое! — говорит Алексеич и показывает на Менухову: — Вот у Варвары Петровны брошечка с самородными камнями. Ты, небось, эту брошечку приметил. А у них вон, — указал он на другую женщину, — кулончик будто и богаче, а видимости той не имеет, потому — из плавленых.
— Верно, дед, — не скрывая своего удивления, подтвердил парень, — на брошку поглядел, а кулона вовсе не заметил.
— Вот то-то и есть! А цвет, состав и крепость у камней одна. На любых приборах проверяй, какие хочешь пробы бери, разницы не найдёшь, а живого огонька, какой в самородном камне есть, всё-таки не увидишь.
— Значит, чего-то не нашли, — говорит парень и с уверенностью добавляет, — изучат полностью и доведут. Не беспокойся, дед.
— В том спору нет, что доведут, — говорит Алексеич. — Сам вижу, что дело вперёд идёт. Камни самой высокой марки выходят. О другом говорю: когда плавленый камешок, как самородный, свою особи ну иметь будет?
— По моим приметам, скоро, — неожиданно вмешался Евграф Васильич.
Алексеич, как он любил с Евграфом на словах сцепиться, сейчас ухватился за это.
— Что зря болтать-то! Какие у тебя могут быть приметы, когда ты близко к нашему делу не подходил? Что ты в нём знаешь!
Разговор у Алексеича резкий, крикливый. Кто близко к завалинке был, слышит, — старики заспорили. Подходить стали. Любопытно им. И те женщины, которые за ключом пришли, тут же стоят. Алексеича это, видно, ещё больше раззадорило, он уж вовсе кричать стал:
— Ну-ка, скажи свои приметы! Что навыдумывал?
— И скажу, только с уговором, чтоб не перебивать. Потом твой разговор будет.
— Как на собраниях?
— Так-то, по-моему, лучше, чем перекоряться да кричать.
— Ну-ну, балакай, коли ты такой умный! Пусть послушают, что выходит, когда берутся судить о том, чего не знают.
— Ты не подковыривай до времени, а слушай. После уж душу отведёшь.
— Ладно, ладно. Говорю, — балакай. До конца слова не выроню.
Тут Евграф Васильич и стал рассказывать.
— К гранильному делу мне касаться не приходилось. Это он правду говорит. Зато я знаю мастеров своих годов. А мастер, как известно, всему делу голова. Недаром сказано: «Дело мастера боится». Вот об этих мастерах я хочу сказать. Сегодня вы наглядно видели, какие они, эти старые мастера. Когда товарищи с турбинного попросили объяснить разницу между самородным и плавленым камнем, так что ему мастер сказал? Самородный, дескать, сердце радует, живой огонёк в нём, особина. Разве это можно понять без показа? Как живой огонёк образуется, в чём особина — всё это ему не сказать. А показал на деле, и человеку ясно стало, что разница есть, что мастер хорошо это понимает, только на словах объяснить не может.
Это я не в укор Алексеичу. Другие мастера наших годов такие же были. Сошлюсь на себя. Я считаюсь пограмотнее Алексеича, побольше учился да и побродить по многим местам привелось, а спросите меня по моему делу, тоже показать покажу, а объяснить, почему и как — не сумею. А сам я учился токарному делу вовсе у неграмотного мастера. Теперь об этом скажешь, так не все верят. А было. Покойный Пётр Михайлыч Щевелов тонко своё дело знал, а ни читать, ни писать не умел. Скажут ему размеры, он их запомнит, больше не спросит и сделает вещь без ошибки. Ну, а на словах станет объяснять, ничего не поймёшь. Он вдобавок заикался, так и вовсе неразбериха выходила. И всё-таки показом он не одного меня выучил.
И в доменном, и в медеплавильном деле, да и в остальных заводских производствах то же самое было. У мастеров был намётанный глаз и большой навык, а грамота слабая. Учиться у них — как у немых. И то мешало, что старые мастера боялись за своё положение. Они и не торопились передавать молодым свои навыки. А если имелся производственный секрет, так мастер старался передать его только кому-нибудь из своих близких, либо вовсе никому не показывал до последних дней своей жизни.
Конечно, кроме таких мастеров-практиков, были и люди с инженерским образованием, но они мало что значили. В лучшем случае, на целый заводской округ таких было два-три человека, да и те на должностях управляющих либо управителей. Что они могли сделать, когда по цехам-то пробегали не каждый день.
В горном деле раньше, а у нас, металлургов, уж много позднее появились техники с образованием. Учились они, примерно, столько же, как нынешние ремесленники. Сперва двухклассную школу кончали, потом в техническом училище три года. Всего, значит, восемь лет. Только по-старому это уж высоким образованием считалось, и этим окончившим курс давалось званье — учёный мастер, а кто похуже учился, тех называли — учёный подмастерье. Попадали в это училище, конечно, только дети тех служащих, которые были угодны заводскому начальству.
Насмотрелся я на этих учёных мастеров да подмастерьев. Смех и горе. Придёт этакий парнишечка, годов 16–17, вроде начальства в цех, а там старый мастер не первый десяток всем правит. Дело своё знает до тонкости, только дальше не видит и не о всем рассказать другому может. А этот, новенький-то, кой-чему из книжек поучился, а по делу ровным счётом ничего не знает. В училище, понятно, были мастерские, да много ли от них за три года между учёбой получишь? По месяцам разнести, так на каждое дело двух-трёх дней не наберётся. И станки разные. В мастерской поновее, а тут такая старина, что новый-то не знает, с какой стороны к ней приступиться.
Вот и попробуй от таких двух мастеров чего-то путного добиться. Если и выйдет тут плавленый камень, так не лучше плитника, который на щебёнку идёт. Стукни его по ребру, он и развалится по слоям. Так и было. Кроме свары да подвохов, ничего не выходило.
— У нас этак же было, как стали художников посылать. Рисовать умеют хорошо, а толку в камнях не знают, — поспешил откликнуться Алексеич.
— Не перебивай, а то спутаешь меня на главном. Уговорились, поди-ка! — отмахнулся Евграф Васильич.
— При советской власти по-иному пошло. Сами рабочие в голове производства встали, но и от науки не отвернулись. Тех, кто знал дело по-книжному, ближе к производству подвинули, а сами за книжки взялись, через рабфаки и другие школы к большому образованию потянулись. Тут уж было из чего сплавить камень, который любую пробу выдержать мог.
Теперь это ещё дальше пошло. Да вот лучше я вам случай расскажу.
Годов близко двадцати с той поры прошло. Работал я тогда в городе. Поручили мне набор людей для большого строительства. Приходят раз пятеро слесарей, все из Харькова. Из разговора выяснилось, что ехали они Сибирь посмотреть, да по случаю Первого мая в нашем городе остановились. Отпраздновали так, что денег на дорогу, чтоб дальше ехать, не осталось. Ну, и пришли ко мне. Посмотрел их документы. Вижу, — народ подходящий, и зачислил их всех пятерых. Потом справлялся, конечно, как работают. О всех хороший отзыв получил, а одного на отличку похвалили, по всем статьям. Потом этого парня с книжками встретил. «Учусь, — говорит, без отрыва от производства». — Годов через пяток он уж и в институте учился. «Решил, — говорит, — по-настоящему поучиться, потом опять на то же место». Ну, а не так давно прочитал в газете, что такой-то удостоен Сталинской премии I степени за сконструированную и смонтированную под его руководством машину. Машина, говорят, такая, что в день даёт больше, чем наш старый завод за месяцы, а управлять этой машиной можно в белых перчатках: ни пыли, ни копоти в цехе. Мне не случилось видеть эту машину, а всё-таки знаю, что конструктор здесь не забыл, что мешало в машинах слесарю, что ему помогало. Одно постарался устранить, другое — ещё улучшить, и получилась та особина, какой до этого не было.
А разве мало у нас таких людей? Чтоб не ходить далеко, сошлюсь вот на них, которые тут стоят да сидят. Не угадаешь, кто из них у печи стоит, кто — у станка, кто— за чертёжной доской либо в лаборатории. А раньше-то я бы инженера от слесаря и в бане отличил. Раздельно было. Одни сверху, другие внизу. При случае переговаривались, конечно, а теперь вот сливаться стали. Из этого и растёт новый советский мастер. У него либо долголетние рабочие навыки хорошо оснащены наукой, либо книжные знания прочно закреплены рабочей практикой. Этот новый мастер и даёт в любом деле живой огонёк, какой чаще и чаще видишь на изделиях с нашей советской маркой.
Сказав это, Евграф Васильич подтолкнул локтем Алексеича.
— Твой разговор!
Тот сначала отшутился:
— О чём говорить? Ты же у нас старшой, в серединке сидишь! Разве можно такому прекословить?
Помолчав немного, проговорил:
— Кабы тебя, Евграф Васильич, в своё время другой гранью повернуть! Хороший бы фонарь на тёмной дороге был. Всё как есть ты правильно сказал.
— А я чуть было про тебя худое не подумал, — сказал парень с турбинного, обращаясь к Алексеичу.
— Торопиться с этим никогда не надо, — наставительно проговорил Евграф Васильич — Мало ли что с первого взгляду покажется. У старика одно пятно — малая грамота. В этом молодых укорять надо, а стариков нельзя. Время другое было. А что перекоряемся мы с ним, так это одна видимость. Вроде стариковской игры.
Женщина с кулоном из плавленых камней пожала всем нам руки. За ней потянулись другие, кто с шуткой, кто с вопросом, и беседа пошла мелкими ручейками.
1950 г.
Объяснения отдельных слов, понятий и выражений, встречающихся в сказах
Азов, Азов-гора — на Среднем Урале, километрах в 70 к юго-западу от Свердловска, высота 564 метра. Гора покрыта лесом; на вершине большой камень, с которого хорошо видны окрестности (километров на 25–30). В горе есть пещера с обвалившимся входом.
В XVII столетии здесь, мимо Азова, шла «тропа», по которой проходили «пересылки воевод» из Туринска на Уфу, через Катайский острог.
Азов-горы клады. По колонизационной дороге на Сибирь шло много «беглых», которые, «сбившись в ватаги», становились «вольными людьми». Эти «вольные люди» нередко нападали на «воеводские пересылки и на купеческие обозы».
В сказах об Азов-горе говорилось, что «вольные люди» сторожили дорогу с двух вершин: Азова и Думной горы, устраивая здесь своего рода ловушку. Пропустят обоз или отряд мимо одной горы — и огнями дадут знать на другую, чтобы там готовились к нападению, а сами заходят с тыла. Захваченное складывалось в пещере Азов-горы.
Были сказы и другого варианта — «о главном богатстве», которое находится в той же Азов-горе.
Основанием для сказов этого варианта послужило, вероятно, то, что на равнине у Азова были открыты первые в этом крае медные рудники (Полевской и Гумёшевский) и залежи белого мрамора. По речкам, текущим от Азова, нашли первые в этом районе золотые россыпи, здесь же стали потом добывать медистый и сернистый колчедан.
Азовка-девка, Азовка. Во всех вариантах сказов о кладах Азов-горы неизменно фигурирует девка-Азовка без имени и указания её национальности, лишь с неопределённым намёком «из не наших людей».
В одних сказах она изображается страшилищем огромного роста и непомерной силы. Сторожит она клады очень ревностно: «Лучше собаки хорошей и почуткая страсть — никого близко не подпустит». В других сказах девка-Азовка — то жена атамана, то заложница, прикованная цепями, то слуга тайной силы.
Айда, айда-ко — от татарского. Употреблялось в заводском быту довольно часто в различном значении: 1) иди, подойди, 2) пойдём, пойдёмте, 3) пошёл, пошли. «Айда сюда», «Ну, айда, ребята, домой!», «Свалил воз и айда домой».
Артуть — ртуть. Артуть-девка — подвижная, быстрая.
Ашать (башкирское) — есть, принимать пищу.
Бадог — старинная мера — полсажени (106 см); употреблялась как ходовая мерка при строительных работах и называлась правилом. «У плотинного одна орудия — отвес да правило».
Бадожок — дорожный посох, палка.
Болодка — одноручный молот.
Байка — колыбельная песня с речитативом.
Банок — банк.
Баской, побаще — красивый, пригожий; красивее, лучше.
Бассенький-ая — красивенький-ая.
Бельмень — не понимает, не говорит.
Бергал — переделка немецкого бергауэр (горный рабочий). Сказителем это слово употреблялось в смысле старший рабочий, которому подчинялась группа подростков-каталей.
Беспелюха — неряха, разиня, рохля.
Блазнить — казаться, мерещиться; поблазнило — показалось, почудилось, привиделось.
Бленда, блёндочка — рудничная лампа.
Богатимый — богатый, богатейший.
Болботать — бормотать, невнятно говорить.
Большину брать — взять верх, победить, стать верховодом.
Братцы-хватцы из Шатальной волости — присловье для обозначения вороватых бродяг (шатаются по разным местам и хватают, что под руку попадёт).
Васькина гора — недалеко от Кунгурского села, в километрах 35 от Свердловска к юго-западу.
Ватага, ватажка — группа, артель, отряд.
Взамок — способ борьбы, когда борцы, охватив друг друга, нажимают при борьбе на позвоночник противника.
Взвалехнуться — беспорядочно, не во-время ложиться; ложиться без толку, как попало.
Взыск будет — придется отвечать в случае невыполнения.
Виток, или цветок — самородная медь в виде узловатых соединений.
Витушка — род калача со сплетёнными в середине концами.
Винну бочку держали — под предлогом бесплатной выдачи водки рабочим, беспошлинно торговали водкой.
В леготку — легко, свободно, без труда, безопасно.
Вожгаться — биться над чем-нибудь, упор: но и длительно трудиться.
Вразнос — открытыми разработками.
Впереде — впереди.
Впотай — тайно, скрытно от всех.
Всамделе — в самом деле, действительно.
Вспучить — поднять, сделать полнее, богаче.
Выходить — вылечить, поставить на ноги.
Галиться — издеваться, мучить с издёвкой.
Гаметь — шуметь, кричать.
Гинуть — гибнуть, погибать.
Глядельце — разлом горы, глубокая промоина, выворотень от упавшего дерева — место, где видно напластование горных пород.
Голбец — подполье; рундук около печки, где делается ход в подполье, обычно зовётся голбчик.
Голк — шум, гул, отзвук.
Гольян — болото на водоразделе между речками Исетской и Чусовской системы, которые здесь близко сходятся.
Гоношить — готовить.
Гора — медный рудник (см. Гумёшки).
Город — без названия всегда имелся в виду один — бывший Екатеринбург, ныне Свердловск.
Горный Щит — по-настоящему Горный Щит к юго-западу от Свердловска. В прошлом был крепостцей, построенной для защиты дороги на Полевской завод от нападения башкир. В Горном Щиту обычно останавливались «медные караваны». Даже в девяностых годах прошлого столетия полевские возчики железа и других грузов обычно ночевали в Горном Щиту. В какой-то мере это было тоже отголоском старины.
Грабастенький — от грабастать, загребать, захватывать, отнимать, грабить; грабитель, захватчик, вороватый.
Гумёшки (от старинного слова гумёнце — невысокий пологий холм) — Гумёшевский рудник. Медная гора или просто Гора — вблизи Полевского завода. Одно из наиболее полно описанных мест со следами древних разработок, богатейшее месторождение углекислой меди (малахита). Открытые в 1702 году крестьянами-рудознатцами два гумёнца по речке Полевой начали разрабатываться позднее. Одно гумёнце (Полевской рудник), около которого Генниным в 1727 г. был построен медеплавильный завод, не оправдало возлагавшихся на него надежд; второе (Гумёшевский рудник) свыше сотни лет приносило владельцам завода баснословные барыши. О размере этих барышей можно судить хотя бы по таким цифрам: заводская цена пуда меди была 3 руб. 50 коп., казённая цена, по которой сдавалась медь, — 8 руб., и были годы, когда выплавка меди доходила до 48 000 пудов. Понятно поэтому, что такие влиятельные при царском дворе люди, как Строгановы, пытались «оттягивать Гумёшки», еще более понятно, какой жуткой подземной каторгой для рабочих была эта медная гора Турчаниновых.
По приведённым в «Летописи» В. Шишонко сведениям, в Гумёшках добывались малахит, медная лазурь, медная зелень, медный колчедан, красная медная руда, медь самородная кристаллами в форме октаэдров, брошантит, фольборит, фосфоро-хальцит, халькотрихит, элит.
Дача, заводская дача — территория, находившаяся в пользовании Сысертсксго горного округа (см. Сысертские заводы).
Девка на выданьи — в возрасте невесты.
Дивно, дивненько — много, многонько.
Диомид — динамит.
Добренькое — хорошее, дорогое, ценное.
Дознаться маяками — узнать с помощью знаков, мимикой.
Дозорный — старший по караулам; контролёр.
Долина — длина; долиной, в долину — длиной, в длину.
Долить — одолевать; долить приняла — стала одолевать.
Доступить — добыть, достать, найти.
Доходить — узнавать, разузнавать, исследовать.
Думная гора — в черте Полевского завода, со скалистым спуском к реке. В пору сказителя этот спуск был виден частично, так как с этой стороны находились в течение столетия шлаковые отвалы медеплавильного и доменного производств.
Елань, еланка — травянистая поляна в лесу (вероятно, от башкирского ilan— поляна, голое место).
Ельничная — одна из речек, впадающих в Полевской пруд.
Ёмко — сильно.
Жженопятики — прозвище рабочих кричного производства и вообще горячих цехов, где ходили обычно в валеной обуви с подвязанными внизу деревяжками-колодками.
Жидко место — слабый.
Жоркий — тот, кто много ест и пьёт; в сказе — много пьёт водки.
Жужелка — название мелких самородков золота.
Забедно — обидно.
Завидки — зависть; завидки взяли — стало завидно.
Заводская грань — линия, отделявшая территорию одного заводского округа от другого. Чаще всего «грань проходила» по речкам и кряжам, по лесу отмечалась особой просекой, на открытом месте — межевыми столбами. За нашей гранью — на территории другого заводского округа, другого владельца.
Завозня — род надворной постройки с широким входом, чтобы можно было завозить туда на хранение телеги, сани и пр.
Завсе — постоянно.
За всяко просто — попросту.
Заделье — предлог.
Зазнамо — знаючи, заведомо, в точности зная.
Зазорина — видная из вырезов или прорезей материя другого цвета.
Заневолю — невольно, поневоле.
Заплот — забор из жердей или брёвен (однорезки), плотно уложенных между столбами; заплотина — снятая с забора жердь или однорезка.
Зарукавье — браслет.
Запон, запончик — фартук, фартучек.
Заскать — засучить.
Застукать — поймать, застать врасплох.
Заступить — поступить вместо кого-нибудь.
Званья не останется — не будет, и следа не останется.
Звосиять — сверкнуть.
Здвиженье — осенний праздник 27 (14) сентября.
Земляная кошка — мифическое существо, живущее в земле. Иногда «показывает свои огненные уши».
Змеёвка — дочь Полоза. Мифическое существо, одна из «тайных сил». Ей приписывалось свойство проходить сквозь камень, оставляя после себя золотой след (золото в кварце).
Змеиный праздник — 25 (12) сентября.
Знат — знает.
Знатко, незнатко — заметно, незаметно.
Знатьё бы — если бы знать.
Золотник — старая мера аптекарского веса — 4,1 грамма.
Зорить — зорко смотреть, высматривать.
Зюзелька, Зюзельское болото, Зюзельский рудник — речка, одна из притоков речки Полевой, Чусовской системы. Здесь на заболоченной низине, покрытой лесом, в прошлом была разработка золотоносных песков. В настоящее время на Зюзельском месторождении большой рабочий поселок со школами, больницей, клубом; связан автобусной линией с Полевским криолитовым заводом.
Изварначиться — превратиться в негодяев (варнаков), испортиться, разложиться.
Изготовиться — приготовиться.
Изоброченный — нанятый на срок по договору.
Изоброчить — нанять по договору (оброку), законтрактовать.
Изробиться — выбиться из сил от непосильной работы, потерять силу, стать инвалидом.
Из пору изойти — устать до предела.
Изумруд медный — диоптаз. Встречался ли этот редкий камень в Гумёшевском руднике, точных сведений нет. Возможно, что основанием для упоминания о нём послужила находка других разновидностей этого драгоценного камня.
Исхитриться — ухитриться.
И то — в смысле утвердительного наречия: так, да.
Казна — употребляется это слою не только в смысле государственные средства, но и как владельческие по отношению к отдельным рабочим. «Сперва старатели добывали тут, потом за казну перевели» — стали разрабатывать от владельца.
Как счастье поищет — как удастся.
Калым — выкуп за невесту (у башкир).
Каменка — банная печь с грудой камней сверху; на них плещут воду, «поддают пар».
Карнахарь — одна из бытовавших еще в девяностых годах переделок немецких технических названий. Вероятно, от гармахерского горна, на котором производилась очистка меди.
К душе — по душе, по мысли, по нраву.
Кого доходя — всякого, каждого.
Колтовчиха — Колтовская, одна из дочерей первого владельца заводов. Эта Колтовская одно время занимала среди промотавшихся наследников первое место и фактически была «главной барыней».
Коробчишечко — уменьшительное от коробок — плетёнка, экипаж из плетёных ивовых прутьев.
Королёк — самородная медь кристаллами; вероятно, название перешло как перевод бытовавшего слова «кених». «Зерна, называемые кених, взвеся записать… а по окончании года, медные кенихи объявлять в обер-берг-амт». (Из инструкции Геннина).
Косоплётка — кривотолки, сплетни; косоплётки плести — сплетничать.
Кош — войлочная палатка особого устройства.
Кразелиты — хризолиты.
Красненькое — виноградное вино.
Красногорка — Красногорский рудник вблизи горы Красной, у Чусовой, километрах в 15 от Полевского завода. В пору сказителя это был заброшенный железный рудник, теперь там ведутся мощные разработки.
Крепость — крепостная пора, крепостничество.
Крица — расплавленная в особой печи (кричном горне) глыба, которая неоднократной проковкой под тяжёлыми вододействующими молотами (кричными) сначала освобождалась от шлака, потом под этими же молотами формировалась в «досчатое» или «брусчатое» железо.
Кричная, крична, кричня — отделение завода, где находились кричные горны и вододействующие молоты для проковки криц; крична употреблялась и в смысле — рабочие кричного отделения. «Крична с горой повздорили» — рабочие кричного отделения поспорили с шахтёрами.
Кричный мастер — этим словом не только определялась профессия, но и атлетическое сложение и большая физическая сила. Кричный подмастерье был всегда синонимом молодого сильного человека, которого ставили к опытному, но уже старому мастеру, потерявшему силу.
Крылатовско — один из золотых рудников, вблизи Кунгурского села.
К чему гласит — куда ведёт, направляется.
Кышкаться — возиться, биться.
Ласкобай — ласково говорящий, внешне приветливый, сладкий говорун.
Лестно на себя навздевать — любить наряжаться.
Листвянка — лиственница.
Марков камень — гора формы огромного голого камня; находится почти в середине между заводами восточной и западной группы б. Сысертского округа.
Мараковать — понимать.
Мертвяк — мертвец; иногда только потерявший сознание. «Сколько часов мертвяком лежал».
Местичко — место.
Мешат — мешает.
Милостина — милостыня, сбор кусочков, подаянье.
Мода была — такой был обычай, так привыкли.
Моду выводить — модничать, наряжаться.
Мошенство — мошенничество, жульничество, обман.
Мрамор, Мраморский завод — в 40 километрах к юго-западу от Свердловска (население посёлка занималось исключительно камнерезным делом, главным образом, обработкой мрамора, змеевика, яшмы).
Мудровать — придумывать необыкновенное, дурачить кого-нибудь, ставить в трудное положение.
Мурзинка, Мурзинское — село (в прошлом слобода, крепость). Одна из древнейших на Урале. Здесь впервые в России в 1668–1669 гг. братья Тумашевы нашли «цветные каменья в горах, хрустали белые, фатисы малиновые и юги зелёные и тунпасы жёлтые».
Мягкий камень — тальк.
Навидячу — на глазах, быстро.
Надсада — надрыв, повреждение организма от чрезмерного напряжения при работе.
Назгал, назгально (от галиться — насмехаться, издеваться) — на смех, издевательски, с издёвкой.
Намятыш — крепкий, сильный, плотный, как туго намятое тесто.
На кривой аршин — неправильно, по неверной мерке.
На ладан дышит — близок к смерти, скоро умрёт.
Нали — даже.
Наречённая — невеста.
Натакаться — найти.
На славе были — широко известны.
Настовать — наставлять, учить, следить за поступками.
На хлеб не сходится — не стоит работы.
Находить — походить, иметь сходство. «На отца находит по волосам-то».
Не ахти какой, неахтительный — несложный, недорогой, простой.
Невдолге — вскоре.
Неженатик — холостой, парень. «У неженатиков разговор вышел — друг дружке рожи покарябали».
Некорыстный — нестоящий, плохой.
Неминуче дело — неизбежное.
Немудрящее — немудренькое, плохонькое, малостоящее.
Не оказывать — не показывать.
Не от простой поры — некогда, нет времени.
Не по ноздре — не по нраву, неприятно.
Не сладко поелось — не удалось жить спокойно и сытно, как бывало: «что-то не сладко сношеньке у нас поелось — ушла».
Не стояли (ребята) — не выживали, не оставались в живых, умирали в детстве.
Не тем будь помянут, покойна головушка — присловье, когда об умершем вспоминали что-нибудь отрицательное.
Не того слова — сейчас, немедленно, без возражений.
Не утыхаючи, без утыху — не переставая.
Ниохтимнеченьки живут — без затруднений.
Нокоток — ноготок.
Нюхалка, наушник — заводской сыщик, шпион.
Нязя — река, приток Уфы.
Нязи — лесостепь по длине реки Нязи, по направлению к Нязепетровскому заводу. Эта лесостепь часто упоминалась в быту Полевского завода.
Обальчик — пустая порода.
Обахмурить — овладеть вниманием, поразить.
Обдуват — обдувает, освежает.
Обзариться — сильно пожелать, устремиться к чему-нибудь.
Обережный — телохранитель, ближайший прислужник.
Обломать — победить, скрутить.
Обой — куски камня, которые откалываются, отбиваются при первоначальной, грубой обработке, при околтывании.
Оболтать — заговорить, обмануть.
Оборужённый — вооружённый, с оружием.
Обраковать — забраковать, признать негодным.
Обратать — надеть оброть, недоуздок, подчинить себе, обуздать.
Обсказать — рассказать.
Обстроил — устроил.
Обуй — имя сущ. м. р. — обувь.
Обутки, обуточки — род кожаной обуви; коты.
Объедь — 1) ядовитые растения, которыми объедается скот; 2) то, что остаётся от корма, не съедается. «Объеди много в тамошних сенах».
Одинова — один раз.
Одно своё — повторяет сказанное, стоит на своём.
Огневаться — разгневаться, рассердиться.
Огневщик — лесной сторож, которого брали на сезон летних пожаров (по стаянии снегов до свежего травостоя, иногда до осенних дождей).
Ограда — двор (слово «двор» употреблялось лишь в значении семьи, тягловой и оброчной группы, но никогда в смысле загороженного при доме места).
Оклематься — притти в сознание, начать поправляться.
Околтать — обтесать камень, придать ему основную форму.
Омман — обман.
Омельян Иваныч — Пугачёв Емельян Иванович.
Омег, или вех — ядовитее растение Cicuta virosa.
Оружье — ружьё. «Как из оружья стрелено» — прямо.
Оплетать — в смысле быстро и с особой охотой есть.
Оплести — обмануть.
Опупышек — округление, круглый выступ.
Ослабу давать — снисходительно, терпимо относиться к кому-нибудь, слабо держать.
Остатный раз — последний раз.
Осыпь — обвал мелких камней с песком.
Откать — отброс.
Отутоветь — отойти, притти в нормальное состояние.
Отходить охота — хотелось вылечить, поправить, поставить на ноги.
О чём — почему. «О чём не сделать? — Сделаю». «О чём не спросить, коли надобность».
Очестливый, очесливый — почтительный, обходительный, вежливый; неочесливый — неучтивый, невежа.
Оха поймать— оказаться в трудном положении и притом неожиданно для себя.
Охлёстыш, охлёст, охлёстка, охлёстанный хвост, подол, полы — человек грязной репутации, который ничего не стыдится, наглец, обидчик.
Охота — хочется.
Охотку стешить — добиться того, чего хотелось, остыть.
Охтимнеченьки, охтимне (от междометия охти, выражающего печаль, горе) — горе мне, тяжело.
Не охтимнеченьки — без горя, без затруднения, спокойно. «Жизнь досталась охтимнеченьки» — тяжёлая, трудная. «Не охтимнеченьки прожили» — свободно, без больших затруднений.
Папора — папоротник.
Парун — жаркий день после дождя.
Парча — ткань с серебряной или золотой ниткой.
Перебуторивать — перерывать песок, землю, перемывать пески; вероятно, от слова бутара — промывальный станок.
Переоболокчись — переодеться.
Пескозоб — пискарь.
Петровки — вторая половина июня и первая половина июля, когда в старое время был так называемый «Петров пост».
Пехло — доска, посаженная поперёк черня, род скребка для перегребания и разборки промываемых песков.
Пировля — пир, гулянка.
Пище — пуще, сильнее, больше.
Плавень — примесь к руде, облегчающая плавку, флюс.
Плёха — распутница.
Повремени — с течением времени, через известный промежуток.
Погалиться — насмехаться, издеваться, измываться.
Подавывать — неоднократно выдавать понемногу.
Подбегать стали — стали обращаться.
Податься — пойти, уйти.
Под всюё — под всю.
Поддёрново золото — то, что находят в верхних слоях песку, — под дёрном.
Поддонить, поддодонить — незаметно подставить, подсунуть.
Подлеток — подросток (преимущественно о девочках в возрасте от 12 до 16 лет).
Подлокотник — близкий слуга, доверенный, помощник.
Подыскиваться — приискивать повод для обвинения.
Пожарна, она же машина — в сказах упоминается как место, где производилось истязание рабочих. Пожарники фигурируют как палачи.
Позаочь, позавочь — за глазами, заглазно, в отсутствии заинтересованного.
Покарябать — побить, поцарапать, окровянить, оставить след. «Кто тебя эдак покарябал?»
Покров — старый праздник 14 (1) октября.
Покорпуснее — плечистее, сильнее, здоровее.
Покучиться — попросить, выпросить.
Полева, Полевая — Полевской завод, ныне криолитовый, в 60 километрах к юго-западу от Свердловска. Строился Генниным, как казённый медеплавильный, в 1727 г. одновременно был и железоделательным, со своей домной. С 1873 г. переделочные цеха работали на слитках Северского завода. Плавка меди держалась до конца прошлого столетия и была основой для Полевского завода. Во время, когда слушались сказы, медеплавильное производство умирало, переделочные цеха тоже работали с большими перебоями. В первом десятилетии XX в. здесь был построен один из первых на Урале химических заводов (сернокислотный), который при советской власти был переконструирован и расширен. Ныне здесь организован большой криолитовый завод, около которого развернулся соцгородок. На фоне строительства жалкой деревней кажется теперь старый заводский посёлок. В пору сказителя ещё не было Челябинской железной дороги, и завод был вовсе глухим углом. Входил он в состав Сысертского горного округа (см. Сысертские заводы и Гумёшки).
Полер навести — отшлифовать.
Полоз — большая змея. Среди натуралистов, сколько известно, нет полной договорённости о существовании полоза на Урале, зато у кладоискателей полоз неизменно фигурирует как хранитель золота. В сказах Хмелинина, как обычно, полозу присваиваются человеческие черты.
Полштоф — старая мера жидкости (0,75 литра).
Помогчи — помочь.
Помстилось — почудилось, показалось.
Помучнеть — побледнеть.
По насердке — по недоброжелательству, по злобе, из мести.
Понастовать — понаблюдать, последить.
Понаторкать — плотно уложить.
Пониток — верхняя одежда из домотканного сукна (шерсть на льняной основе).
Понуждаться — не иметь больше надобности в ком-нибудь, не надобно.
Поправляться житьишком — жить лучше.
Порушать — разрезать хлеб ломтями.
Попущаться — отступить, отступиться.
Посадить козла — остудить, «заморозить» чугун или медь. Отвердевшая в печи масса называется козлом. Удалить её было трудно. Часто приходилось переделывать печь.
Поскакуха — один из действовавших владельческих приисков.
Поскыркаться — поскрести, поковыряться в земле, порыть.
Пословный — послушный, кто слушается «по слову», без дополнительных понуканий, окриков.
Посоветовать — посоветоваться с кем-нибудь. «Посоветовать с ним ладил».
Постряпенька — домашнее праздничное печенье.
Посупорствовать — противиться.
Потишае — потише.
Похаять — осудить, опорочить.
Пошто — зачем.
Правиться — направляться, держать направление.
Пригон — общее название построек для скота (куда пригоняли скот).
Приказал долго жить — обычное в прошлом присловье при извещении о чьей-нибудь смерти.
Приказный — заводский конторский служащий. Название это держалось по заводам и в девяностых годах.
Приказчик — представитель владельца на заводе, главное лицо; впоследствии таких доверенных людей называли по отдельным заводам управителями, а по округам — управляющими.
Приклад — пожертвование, подарок, вклад (в церковь); на приклад отправил — послал бесплатно, как подарок.
Пригрожать — угрожать, грозить.
Прилик — видимость; для прилику — для видимости; ради приличия.
Припалить — быстро приехать.
Припой — медная стружка, которую иногда сдавали неопытным скупщикам за золото.
Припёка — прибавка; сбоку припёка — случайно приставшее, постороннее, чужое.
Присадить — 1) прикрепить к дереву, металлу; 2) крепко, больно садко ударить.
Прискаться — придраться.
Притча — неожиданный случай, помеха, нежданная беда.
Приходить на кого-нибудь — обвинять кого-нибудь, винить.
Прихорониться — укрыться, спрятаться.
Причтётся — придётся.
Пробыгаться — проветриться, освежиться.
Провинка — ошибка.
Промяться — пройтись, проходиться.
Проворный — сильный (в обычном значении почти не употреблялось в заводском говоре; для понятия проворный употреблялись другие слова: развертной, вёрткий).
Просто было — свободно, легко, без проволочек.
Профурить, профурять—расшвырять, растратить; фурять — бросать; фурка — род ребячьей пращи, рогатки.
Пустоплесье — открытое место среди леса.
Пушить — быстро бросать в кого-нибудь, забрасывать.
Пущай — пусть.
Пятисаженные столбы — упоминаемые в сказе «Медной горы хозяйка», видимо, малахитовые колонны Исаакиевского собора.
Раделец — от слова радеть, — кто заботился о них, старался для них.
Различна — разница.
Разоставок — то, чем можно разоставить ткань, вставка, клин, лоскут; в переносном смысле — подспорье, прибавок, подмога.
Растолмачить — перевести, разъяснить.
Резунцы — растения типа осоки.
Ремки, ремьё — лохмотья, отрепье. Ремками трясти — ходить в плохой одежде, в рваном, в лохмотьях.
Робить — работать. Основное слою для обозначения этого действия. «Где робил?» «Куда робить?» «Ушёл робить».
Руками хлопали — удивлялись (от жеста).
Рыкало-зыкало — свирепый, непомерно строгий, крикун (от рычать и зыкать — хлестать, ударять).
Рябиновка — речка, приток Чусовой.
Сбить народ — созвать, скликать.
Свышный — привычный; не свышны — не привычны, не в обычае это.
Сголуба — голубоватый, бледноголубой.
Северушка — приток р. Чусовой; впадает в Чусовую в километрах трёх от Северского завода.
Северский завод, Северна — один из заводов Сысертского округа. В прошлом доменное и мартеновское производство (см. Сысертские заводы).
Синюха, синюшка — болотный газ.
Сквозь свитеют — просвечивают.
Скудаться — хилеть, недомогать, хворать.
Скыркаться — скрести, скрестись (в земле).
Слань — вернее, стлань, настил по дорогам в заболоченных местах. Увязнуть в болоте такая стлань не давала, но ездить по ней тоже было невозможно.
Сличье — удобный случай; к сличью пришлось — подошло.
Сметить дело — понять, догадаться.
Смотник-ца — сплетник-ца.
С находу — приходить на время.
Сноровлять, сноровить—содействовать, помогать, сделать кстати, по пути.
Сном дела не знать — даже не предполагать.
Сойкнуть — вскрикнуть от испуга, неожиданности (от междометия «ой»).
Сок — шлак от медеплавильного и доменного производства.
Соликамский — такое название действующего лица в сказе «Дорогое имячко», вероятно, является отзвуком особенности колонизации Сысертского округа.
Соломирский — последний владелец заводов.
Сопнуть — сдвинуть ногой.
Сорочины — сороковой день после смерти.
Сполоху наделать — переполошить, поднять на ноги, привести в беспокойное состояние.
Спортить — испортить.
Справный — исправный, зажиточный; справа — одежда, внешний вид. «Одежонка справная», т. е. не плохая. «Справно живут» — зажиточно. «Справа-то у ней немудренькая» — одежонка плохая.
Сряжаться — снаряжаться.
Стенбухарь — так назывались рабочие у толчеи, где дробилась пестами руда. Этим рабочим приходилось всё время бросать под песты руду — бухать в заградительную стенку.
Стара дорога — П. А. Словцов в «Историческом обозрении Сибири», изданном в 1838 г., говоря о путях сообщения в период с 1595 по 1662 г., писал: «была ещё летняя тропа для верховой езды, пролегавшая из Туринска, после из Тюмени через Китайский острог на Уфу по западной стороне Урала с пересечкой его подле Азовской горы». Памятником этой старинной дороги надо считать и название горы около Нязепетровского завода — Китайский холм.
Стары люди — может быть, потому, что Полевской завод строился на месте древних рудокопен «чудских» капаней, здесь были живы рассказы о старых людях. В этих рассказах «стары люди» изображались по-разному. Одни говорили, что стары люди жили в земле, как кроты, а потом засыпали себя, когда в этот край пришли «другие народы»; другие говорили, что «стары люди» брали медь только сверху, а золота вовсе не знали и жили охотой да рыболовством. Предполагалось, что слой земли, на котором жили «стары люди», уже так завален сверху, что до этого слоя приходилось «докапываться». «Докопались до той земли, где стары люди жили, — нет золота. Не на место, видно, угадали».
Столб-гора — за Северским заводом, со сторожевой вышкой.
Страмец, страмина — от слова срамить (бесчестить, позорить); употреблялись в быту довольно часто в смысле бесстыдник-ца, бесчестный-ая. Слова срам, срамить произносились с наращенным «т» — страм.
Стурять — сдавать, сбывать (поспешно).
Сугонь — погоня; в сугонь пошли — бросились догонять.
Сумки надевать — дойти или довести семью до сбора подаяния, до нищенства.
Счунуться — связаться, сцепиться, заняться с кем-нибудь.
Сысертские заводы — группа из 5 заводов, принадлежащих на так называемом посессионном праве сначала Турчаниновым, потом Соломирскому. Называлась эта группа Сысерским горным округом.
В восточной части округа было три железоделательных завода: Сысертский, главный завод округа, Верх-Сысертский (Верхний), Нижне-Сысертский (Ильинский) — все на речке Сысерти Обской водной системы (через Исеть). В западной части округа были заводы: Полевской и Северский на речках Волжской системы (через Чусовую).
«Заводская дача» — территория округа — составляла 239 707 десятин: по современной мере свыше 2 600 кв. километров — 260000 га.
Кроме заводских посёлков, на территории округа в восточной части были деревни: Кашина, Космакова (Казарина) и сёла: Абрамовское, Аверинское, Щелкунское. В западной части: Кунгурское да Косой Брод и Полдневское. В прошлом населяли их или крепостные, или «непременно обязанные работники» Турчанинова. После падения крепостничества многие из жителей этих селений занимались тоже исключительно заводскими работами.
Общая численность населения заводов и посёлков, расположенных на территории заводского округа, немногим превышала 32 000 человек, или 12 чел. на один кв. километр. Пахотная земля была лишь у сельского населения, да и то больше за пределами заводской дачи. Жители заводских посёлков пахоты вовсе не имели, и почти вся «заводская дача» была занята лесом, в котором ежегодно вырубали свыше 2 400 десятин сплошной рубкой и 7 500 десятин — выборочной.
На территории округа насчитывалось до 40 железных рудников, 8 владельческих золотых рудников и приисков и свыше сотни золотоносных россыпей (разрабатывалось не больше трети); кроме того, добывали тальк, огнеупорную глину, известь, мрамор, хризолиты. Медистые и сернистые колчеданы в пору сказителя не разрабатывались: их считали обальчиком — пустой породой.
По территории Сысертского округа тогда проходила одна трактовая дорога на Челябинск; железной дороги не было, и западная часть округа была особенно глухой. Расстояние между группами восточной и западной было, примерно, 40 километров; расстояние между Полевским и Северским — 7 километров.
Общность заводского хозяйства отразилась и в сказах. Особенно часто упоминается Сысерть, как главный завод округа, а также Северский и деревня Косой Брод, — как ближайшие.
Таку беду — в смысле сильно, очень. «Суетится, таку беду, хлопочет», т. е. очень суетится.
Тайный купец — скупщик золота.
Тамга — знак, клеймо.
Терсут, Терсутское — самое большое болото б. Сысертской заводской дачи.
Толкуют, толковать — понимают, знают толк в чём-нибудь. «В песках-то он добро толкует» — знает золотоносные пески.
Толмить — твердить, повторять.
Тонцы-звонцы — танцы, веселье.
Туе — вин. п. ж. р. от местоимения тот; «в туё гору, в туё дудку».
Тулаем — толпой.
Тулово — туловище.
Турчанинов — владелец заводского округа. В сказах фигурирует обыкновенно первый владелец — «старый барин». По историческим материалам он действительно уже был стариком, когда выклянчил себе заводы. Был он из купцов, числился «в ранге сухопутного капитана», но не имел дворянского звания, а с ним и права покупать крестьян. Это, однако, не помешало Турчанинову заселить заводы «выведенцами» из северных областей.
Во время Пугачёвского восстания Турчанинов системой обмана, угроз, жестокостей и посулов сумел удержать в повиновении большую часть рабочих, и едва ли не один из уральских заводовладельцев не понёс материального ущерба по заводам. Екатерина II высоко оценила эту изворотливость Турчанинова и в своей грамоте писала: «за такие похвальные и благородные поступки, особенно учинённые в 1773 и 1774, возвести с рождёнными и впредь рождаемыми детьми его и потомками в дворянское достоинство Российской империи».
Не удивительно, что этот хитрый, ловкий и жестокий старик остался в памяти заводского населения. Что касается остальных Турчаниновых, то к ним, видимо, подходит определение из сказа «Малахитовая шкатулка»: «Однем словом, наследник».
Угоить — устроить, сделать.
Удобряться — стать добрым, ласковым (чаще притворно).
Ужна — ужин; чужа ужна — кто живёт за счёт других.
Укрепа — укрепление; для укрепы — чтобы крепче было.
Умуется — близок к помешательству; заговаривается.
Умыл — растратил, пропил.
Упалить — быстро уехать, ускакать.
Урево — стадо.
Уроим, или ураим (по-башкирски «котёл») — котловины по реке Нязе, где расположен Нязепетровский завод. Селения, близко подходившие к этой котловине, назывались тоже Ураимом.
Уставщик — зав. цеха или передела; на его ответственности было, чтоб продукция выпускалась установленного образца, по уставу.
Усторонье, на усторонье — в стороне отдельно от других, на отшибе.
Утуга — густая толпа.
Утурить — прогнать, угнать.
Ухайдакать — уходить, сгубить, убить, истратить, потерять. «Тут в лесу ухайдакали» (убили) «всё наследство ухайдакал» (прожил, промотал, истратил); «там, видно, и пестерь свой ухайдакал» (потерял свою суму); «сколь посуды на свадьбе ухайдакали!» (разбили).
Фаску снять — обточить грань.
Хватовщина — растаскивание второпях, как попало, под руку подвернулось, что успел схватить.
Хезнуть — ослабеть, слабеть.
Хитник — грабитель, вор, хищник.
Хозяевать — хозяйничать.
Чести приписывать — похвалить.
Чирла — яичница, скороспелка, скородумка, глазунья (от звука, который издают выпускаемые на сковородку яйца).
Что хоти — хотя, хотя бы.
Шварёв Ванька — был главным приказчиком Сысертских заводов во время крестьянской войны под предводительством Пугачёва.
Шалыганить — праздно шататься, повесничать, бездельничать; в сказе — уклоняться от работы на барина.
Шибко — сильно, очень.
Ширинка — полотенце; отрезок ткани по всей её ширине.
Шмыгало — быстрый, подвижной человек.
Шнырить — искать.
Щегарь — штейгер.
Щелкунская дорога — Челябинский тракт. Название по ближайшему селу в направлении от Сысерти на Челябинск.
Яга — шуба из собачьих шкур шерстью наружу; такая же шуба из оленьих, козьих, жеребковых шкур называлась дохой.
Ясак — подать, дань.
Яшник, яшничек — ячменный хлеб (ясный).
* * *
В оформлении книги принимали участие художники:
В. ВАСИЛЬЕВ
Иллюстрации к сказам: У старого рудника. Золотой волос. Хрупкая веточка. Жабреев ходок. Тараканье мыло. Хрустальный лак. Иванко-Крылатко. Солнечный камень. Чугунная бабушка. Голубая змейка. Алмазная спичка. Шёлковая горка.
О. КОРОВИН
Иллюстрации к сказам: Малахитовая шкатулка. Надпись на камне. Ермаковы лебеди. Железковы покрышки. Коренная тайность. Старых гор подаренье. Дорогой земли виток. Ионычева тропа. Широкое плечо.
А. КУДРИН
Иллюстрации к сказам: Про великого Полоза. Кошачьи уши.
Ю. ИВАНОВ
Переплёт, титульный лист, буквицы.



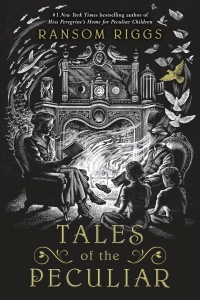
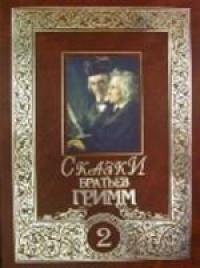

Комментарии к книге «Малахитовая шкатулка», Павел Петрович Бажов
Всего 0 комментариев