Елена Ожич Мой папа — мальчик
Молодая талантливая писательница Елена Ожич живёт в Барнауле. Окончила факультет филологии и журналистики Алтайского госуниверситета, работала в газетах и на радио, а сейчас воспитывает двух дочек, одна из которых совсем маленькая.
Ожич — победитель конкурса «Добрая лира», дипломант премии Владислава Крапивина. Одно из её произведений в 2014 году признали лучшей книгой, изданной для детей в Алтайском крае.
В родном городе Елену давно уже знают и любят, а теперь издательство «Клевер» с радостью представляет её своим многочисленным читателям по всей стране.
«Я и думать не думала, что стану детским писателем, просто решила попробовать, и получилось!»
Глава 1 Как д'Артаньяна из бурьяна выпроводили, из двора выдворили
В нашей семье все очень заняты. Мама и папа заняты на работе, а меня они дома занимают разными делами, лишь бы я по двору не болтался. У нас с мамой уговор — читать в день по пятьдесят страниц из любой книжки, кормить кота, выносить мусор, разучивать десять новых английских слов. С папой уговор — каждый день пресс качать и отжиматься. Разумеется, уроки делать. Короче, всё, что угодно, только во двор одному ни ногой, хотя мне одиннадцать лет — большой, можно сказать, дяденька. Размер ноги — уже тридцать девятый.
А что мне этот двор? Совсем даже не сдался. Говорят, что раньше дети только во дворах и гуляли — с утра и до вечера. Но нас как-то туда и не тянет. Нет у нашего поколения такой моды — во дворе гулять. Во-первых, компьютер во двор не вынесешь, а у нас все игры теперь, считай, компьютерные. Во-вторых, всё равно гулять придётся с родителями. Потому что в нашем городе мэр ввёл «Рекомендации по созданию городской среды, безопасной для детей и подростков». Мэр извинялся и уверял, что мера эта временная, принята для нашей же пользы. А пока не все ещё опасные места огорожены и не все канализационные люки закрыты, поэтому надо немного потерпеть и погулять в сопровождении мам и пап. А это, согласитесь, никакому ребёнку, а тем более подростку, неинтересно. Временная мера затянулась на пару лет, и возвращаться во двор нам совсем расхотелось.
Для нас, детей, правда, построили на весь город один большой игровой центр — настоящий дворец отгрохали. Туда, по замыслу мэра, родители должны были возить своих детей, чтобы они там хоть немного поиграли в разные весёлые игры. Мы с мамой съездили туда как-то — сначала на автобусе, потом на трамвае, потом ещё минут пятнадцать шли пешком. В центре оказалось скучно и за деньги. Мне выдали мяч и сказали: «Пинай». Легко сказать «пинай», а если не с кем? Я попинал мяч минут десять в пустые ворота и запросился в буфет.
— Приходите к нам через месяц, — сказал менеджер игрового центра, — мы поставим на воротах механического вратаря, которому гол забить будет не так-то просто, он к нам из Англии едет. И ещё много разных приспособлений для игр планируется.
— А дети у вас тут планируются? — спросил я, потому что в центре было безлюдно.
— Мы открылись недавно, — сказал менеджер, — вот дадим рекламу, и дети к нам косяками повалят.
И дети повалили — в выходные там было не протолкнуться, а в будни родителям возить меня было некогда. А во двор — ни-ни, запрещено ведь. Ну, то есть, не рекомендовано.
Мама сначала даже такому нововведению обрадовалась:
— Вот правильно! Не будешь во дворе без присмотра бегать! Лишний раз дома с книжкой посидишь.
Но папе эти рекомендации не понравились:
— Нет ничего более постоянного, чем временное. Вот увидите, — сказал он, — что эти временные меры останутся в нашем городе навсегда. Я с такими ограничениями свободы моего ребёнка не согласен. Это же бред какой-то! Они не имеют права! Я буду обращаться в Страсбургский суд по защите прав человека! И в комиссию ООН по правам ребёнка!
И ещё папа тогда сказал:
— Лучше бы с преступностью и наркоманией боролись как следует! Детям прямо-таки всё детство испортили. А помнишь, какие были времена? — спросил папа маму. — Сколько мы времени во дворе проводили — с утра до ночи! Казаки-разбойники, война и немцы, мушкетёры…
Папа мечтательно закатил глаза, вспоминая, как он в далёкой юности бегал в зарослях бурьяна с палкой в руках и тряпкой на плечах и думал, что он д’Артаньян. И по гаражам ещё при этом прыгал. А я в свои одиннадцать лет ни на один гараж ещё не залез, хотя их в нашем дворе достаточно.
— Чего они добиваются? — продолжал папа, размахивая газетой, в которой были опубликованы эти «Рекомендации…». — Чтобы детей взаперти держать? Чтобы они выросли неприспособленными к жизни затворниками? Господи, скоро все и забудут, что дворы для того и нужны, чтобы в них дети играли на свежем воздухе. Хотя какой он свежий? Одни машины и собачьи какашки в нашем дворе.
В общем, папа повозмущался и притих. И в Страсбургский суд по правам человека, конечно, не написал. Не тот, видимо, я человек, из-за которого в Страсбургский суд письма пишут. Выводили они меня во двор по очереди утром и вечером, до и после работы. Прямо как собачку, по расписанию. А потом им это надоело, и они стали забывать про вечерние и утренние прогулки. Да и я туда, во двор, прямо скажем, не рвался. Потому что Женьку и Саньку, моих друзей, родители выгуливали в другое время, и виделся я с ними только в школе. Да и чего нам ещё где-то видеться, если у нас есть аська, скайп, блоги, веб-камеры и мобильные телефоны. Обо всём можно спокойненько поговорить и так. Но всё-таки иногда хотелось потолкаться, в шутку пометелить друг друга. И если честно, я был бы тоже не прочь побегать, сшибая палкой верхушки у бурьяна, потому что историю про трёх мушкетёров я тоже очень любил и д’Артаньян мне нравился.
Эта история с папой произошла в мой день рождения. Мои родители — люди практичные, и поэтому накануне моего самого любимого праздника всегда осторожно пытаются узнать, что мне подарить. В этот раз я случайно услышал их разговор на кухне. Папа поздно пришёл с работы, и мама кормила его ужином. Они разговаривали в полный голос, думая, что я уже сплю. А я как раз в кухню по коридору шёл, водички попить. Подслушивать, конечно, нехорошо, но интересно же! Вдруг там чего про меня скажут.
— У Мишки скоро день рождения, — сказал папа, расковыривая тефтелину.
— Я помню, — сказала мама.
— Большой парень уже. Одиннадцать лет. Он уже что-нибудь попросил себе в подарок?
— Нет ещё, — сказала мама. — Хотя… вроде говорил о каком-то динозавре, которого откуда-то выкапывать надо.
О каком-то? Я даже замер от возмущения. Много эта мама понимает! Это же серия «Археология»! Там в коробке земля, а в ней спрятаны маленькие косточки динозавра. И маленькой кисточкой надо землю расчищать, чтобы найти все кости и собрать из них скелет тираннозавра или велоцираптора. И надо собрать всех динозавров из этой серии, чтобы получилась коллекция.
— Ну почему бы и нет? — сказал папа, отхлёбывая чай из кружки. — Пусть будет динозавр. Но я ему ещё один подарок приготовлю, от себя.
— Ну-ка, ну-ка, — сказала мама, — что ты придумал? — И погладила папу по руке.
И неловко, и приятно наблюдать за ними в такие моменты. Они обычно ведут себя по-всякому: то мама ругается на папу, то папа дуется на маму, то спорят они из-за какой-нибудь ерунды, то вообще будто бы не замечают друг друга. И тогда мне страшно: вдруг эти два человека навсегда обидятся друг на друга, и папа в один ужасный день хлопнет дверью и больше не придёт никогда, как это произошло, например, у Женьки.
А когда папа обнимает маму, или целует её, или достаёт из кармана и дарит ей маленькую шоколадку — просто так, а не потому что какой-то праздник, — я понимаю, что крах нашего маленького мира произойдёт ещё не скоро. Или когда мама вот так нежно и как бы невзначай гладит папу по руке или по плечу. Правда, сейчас это случается всё реже и реже — ни шоколадок, ни тем более цветов папа маме давно уже просто так не приносил.
— Знаешь, — сказал папа, — я думаю, что эти дурацкие правила для детей скоро отменят. Ну не может же этот абсурд продолжаться вечно. И я придумал для Мишки вроде как книгу такую сделать. Записать в неё все наши дворовые игры, считалки всякие. Он, может, сам в них ещё поиграет. Или детям своим передаст. Нынешние же дети растут, ничего не зная про то, как дети раньше жили, во что играли.
— Хорошая идея, — сказала мама. — Я тебе тоже про свои игры расскажу. И будет у нас семейная история игр.
Глава 2 Хочется чудес в день рождения, но только не таких
И вот мой день рождения наконец-то наступил. Мне подарили велоцираптора, и я даже успел его частично откопать, пока собирались мои гости. Родители привели и Саньку, и Женьку, и ещё нескольких ребят из нашего класса. Мама зажарила курицу и испекла торт. От бабушки пришла посылка с тёплыми вязаными носками. В один носок бабушка положила пятьсот рублей — любимому внучку на шоколадки. Мы чокались клюквенным морсом, и все желали мне самого наилучшего. Ну, родители, понятно, чего желали — чтобы я учился на одни пятёрки. А мои приятели — чтобы я всегда был с ними, и они очень рады, что я их друг. Ну, мама ещё пожелала, чтобы я был здоров.
День рождения шёл себе и шёл, как обычно — поели, попили, посмотрели мультики, мама показала всем мои детские фотографии и долго умилялась, какой я был в младенчестве хорошенький мальчик, такой пузатенький хомячок.
Я слушал её и смущался, потому что в нашей мужской компании такие трогательные воспоминания были совсем ни к чему. И я стал шикать на маму.
— Не шикай на мать, — сказала она, сделав строгие глаза. — Идите поиграйте, пока я на столе приберу немного.
Я и мои гости с облегчением вздохнули, потому что официальная часть праздника завершилась, и мы пошли в мою комнату, где можно было бы поговорить спокойно о наших сугубо мужских делах, без всех этих маминых пузатеньких хомячков.
На моём столе мы разложили свои карточки с футболистами, чтобы обменяться ими. У меня было целых три Аршавина и ни одного Луиша Фигу. А вообще мы все теперь хотели карточку с Лео Месси, но её ещё нигде не продавали. За Луиша мой одноклассник Серёгин просил одного Рональдиньо и двух Бэкхемов, и я уже успел выменять одного Аршавина на Рональдиньо, а второго — на Бэкхема. А второго Бэкхема мне обещал на день рождения подарить Санька. А Женька собирал карточки баскетболистов, и потому в наших «трансферах» (так называют переход футболиста из одного клуба в другой) не участвовал. Санька вручил мне Бэкхема, я добавил ещё одного и приготовил Рональдиньо. Серёгин уже держал в руке почти моего Луиша Фигу, как в дверь засунул свою лохматую голову папа и спросил:
— Формируете новую российскую сборную?
Очень смешно. Папа вообще в футболе не разбирается и где ему знать, что нужно собирать Германию, Испанию или Бразилию.
— Можно к вам?
— Ну, пап… — заканючил я. — Может, в другой раз?
Я первым делом подумал, что папа, как и в прошлом, и в позапрошлом, и в позапозапрошлом году начнёт к нам приставать и просить, чтобы мы взяли его в наши игры. И при этом будет настаивать, чтобы с ним поиграли в фанты, домино, подкидного дурака и русское лото. Это раньше, когда мы с парнями были помоложе, то ещё играли во всю эту дребедень. А сейчас, когда мы все разменяли по второму десятку — очень оно нам надо, это русское лото. Ну, в настольный хоккей или футбол — ещё куда ни шло. Но хоккей мы доломали на зимних каникулах, а в футболе не хватало ворот и мяча.
Папа интересный такой. Когда я его зову поиграть со мной в «Чапаева» или корабль деревянный собирать, он всегда отнекивается — он занят, он устал, он поздно пришёл, у него завтра лекция-экзамен-конференция и тому подобное. И я уже забыл, когда мы с папой во что-нибудь играли вместе. Обычно я играю с компьютером или с Женькой по сети. И только в мой день рождения папа вдруг вспоминает, что он, оказывается, ещё не наигрался в фанты и в домино.
Раньше с папой было веселее. Когда я был маленький, мы играли в богатыря и Сивку-бурку. Я надевал красные пластмассовые богатырские доспехи, папа вставал на четвереньки и изображал дикого скакуна, которого нужно оседлать. Сивка сбрыкивал меня на пол, а я хватал папу за воротник рубашки и кричал басом:
— Встань передо мной, как лист перед травой!
Папа ещё немножко для виду взлягивал одной ногой, но потом становился смирным богатырским тяжеловозом и разрешал богатырю сесть ему на спину. И Сивка вёз меня лесами тёмными, болотами топкими, горами высокими спасать царевну, а на самом деле — по коридору к маме на кухню.
— Дай коню напиться, красная девица! Совсем меня богатырь Михаил Муромец заездил, — говорил конь жалобным человеческим голосом, и царевна-мама давала ему кружку с водой.
— Кто тебя похитил, красная девица? Кто тебя замучил? — разведывал обстановку на кухне волшебный конь.
— Быт меня замучил, — отвечала красная девица. — Вот тебе, богатырь, веник. Победишь, богатырь, мусор — освободишь меня из заточения! А тебе, конь, вот кошёлка — скачи в магазин за картошкой.
— Мишка, — сказал папа, просунув к нам в комнату свою лохматую голову. — У меня есть для тебя ещё один подарок. И вам, ребята, наверняка тоже будет интересно.
И папа показал толстую тетрадь.
— Тут я записал все игры, в которые мы играли с мамой во дворе, когда были детьми. И я вам предлагаю сейчас спуститься во двор и во что-нибудь поиграть. Вы уже, поди, совсем забыли, как это делается? А? Эх, молодёжь…
Не скажу, чтобы мы пришли в восторг от папиного предложения. Мы уже и забыли, что это такое — играть во дворе. На наш взгляд, делать там было совершенно нечего. Старые ободранные скамейки, покосившиеся скрипучие качели. Остатки песочницы, разломанной давным-давно пьяными компаниями, которые собираются летними вечерами под самыми окнами. Гаражи. Бурьян. Вытоптанные цветники. Старая голубятня дворника Семёныча. То ли дело играть в компьютерные «казаки-разбойники», отстреливаясь от полицейских где-нибудь в Лос-Анджелесе… Куда интереснее.
— Пап… — Я старался посмотреть на папу так выразительно, чтобы он и без всяких слов понял, что не хотим мы идти ни в какой двор, нам и здесь хорошо.
— Никаких «пап». Идёмте. Я научу вас играть в «Штандр» и «Двенадцать палочек».
— Нам же нельзя одним. Ты забыл?
— Вы же будете со взрослым человеком, то есть со мной! — воскликнул папа. — Вперёд, мушкетёры! Вперёд, гардемарины! Богатыри! — И он взмахнул над головой невидимой шашкой.
Ну что ты будешь делать с этим папой!
— Да, мальчики, — сказала мама, — сходите, подышите воздухом. А я тут пока чай заварю.
И мы поплелись за папой во двор. Папа привёл нас на развалины песочницы, присел на облупившуюся деревянную скамеечку и разложил свою тетрадку на коленях.
— У меня здесь много игр записано, — хитро сказал папа. — Я два месяца их вспоминал вместе с мамой, друзей расспрашивал… Как мы играли! Как же мы играли!
Мне показалось, что папа даже немного перед нами хвастается: мол, смотрите, какое у меня было интересное детство. Но он мне сам говорил, что у меня детство во сто раз интереснее.
— Я, Мишка, мобильный телефон только в двадцать пять лет впервые в руки взял. А ты уже трёхлетний знал, на какие кнопочки нажимать. Дети-индиго, понимаешь! Я кандидатскую ещё на пишущей машинке набирал, а ты в первом классе доклады о лягушках по природоведению уже на принтере распечатывал. В моё время мультики по пятнадцать минут в день по телевизору показывали, и знаешь, как было обидно, когда не «Ну, погоди!» или про кота Леопольда. К нам во двор по выходным передвижной фургон — кинотеатр «Мурзилка» — приезжал. На билет пятнадцать копеек выпросишь у родителей и сидишь зимой в этой будке, мёрзнешь, но зато рад-радёшенек. А у тебя — целый канал кабельный с мультиками! Эх, прогресс! Завидую тебе, Мишка, — сколько ещё учёные напридумывают, пока ты вырастешь! Давайте посчитаемся, кому водить, — предложил папа и открыл тетрадь на считалках.
Я стоял у папы за спиной, смотрел на листки и не видел там никаких считалок, только непонятные слова на тарабарском языке: «чаби-челяби, челяби-чаби-чаби» сплошь какие-то. Что-то похожее на «Челябинск» и на «челядь», но, конечно же, не оно.
— А, вот. Вот эту давайте! — сказал папа, отыскав нужную считалку. — Мы ей часто во дворе считались. Вставайте в кружок!
— Пап, ну какой кружок?
Мы — здоровенные одиннадцатилетние пацаны. Серёгин вон даже курить пробовал в школьном туалете. Мама для меня уже папины свитеры и рубашки откладывает — чуть подрасту, и будут в самую пору. Санька одной нашей однокласснице эсэмэсочки дурацкие пишет про любовь и её красивые глаза. Определённо, на моего папу какое-то затмение нашло, срочно надо его в чувство привести, спустить его с небес на землю. На меня уже косятся все — если могли бы, давно сбежали бы от такого позора. Но просто так со двора уйти мои приятели не могут — за ними к нам домой вечером родители должны прийти.
Честно сказать, я папы немного стеснялся — и когда он заходил за мной в школу, и когда на линейки приходил, и особенно когда с играми этими приставал. Ну вот какое ему дело до нашей компании, даже досада берёт! Я же уже не пятилетний.
— Что там у вас опять за сборище? — закричала вдруг с балкона домком Склочнева. — Хулиганы проклятые, никакого покоя пожилым людям не даёте! Щас в полицию позвоню!!!
— Мы с папой моим! — крикнул я. — Вот он сидит!
— Не вижу никакого папы!!! Одни малолетние бандюки песочницу доламывают! Я её в прошлом году зря, что ли, красила! Пенсионеры делают, а вы только ломаете!!! Тьфу!!!
— Пап, ну скажи ты ей… — начал было я и осёкся.
Пока мы все смотрели на балкон Склочневой, мой папа, взрослый человек, мужчина тридцати восьми лет, кандидат филологических наук, преподаватель кафедры, по месту работы характеристики положительные, некурящий, семьянин, любит окрошку и халву, куда-то подевался. Исчез. А на его месте, с папиной тетрадкой на коленях, сидел мальчик лет десяти-одиннадцати, ну то есть такой же, как мы, совершенно папиным способом протирал папины очки рукавом папиной рубашки и растерянно хлопал круглыми серыми глазами.
— Я что-то не понимаю, — сказал мальчик. — Как-то мне нехорошо… Я, наверное, салатов переел…
— Папа? Папа!!! — закричал я. — Ты что сейчас сделал???
— Я никогда бы не подумал, — сказал ошарашенный мальчик-папа, разглядывая свои руки, — что простая считалка может сработать таким вот образом… Я, конечно, изучал фольклор разных народов мира и находил в нём признаки явно магического толка, но чтобы так…
— Какую, какую считалку ты хотел нам прочитать??? — заорал я, выхватывая у него тетрадку.
— Эне, бене, раба, — сказал папа слабым голосом, — квинтер, финтер, жаба.
— Какая ещё жаба-раба??? Папа!!! — закричал я. — Ты же умный человек! Ты кандидатскую защитил!!! Ты же практически учёный с мировым именем!!! Как такое вообще может быть??? Да никак!!!
— Ох, Мишенька, сынок, я и сам не понимаю… — застонал мальчик.
— Вы замолчите или нет??? — снова завопила со своего балкона Склочнева. — Если вы не уберётесь сию минуту, я вызову полицию, и пусть вас там подержат до тех пор, пока вы прилично вести себя не научитесь!!!
Оставаться в песочнице больше было нельзя. Мои одноклассники просто онемели от таких событий и стояли как истуканы. У Серёгина от волнения даже глаз начал дёргаться.
— Быстро!!! — закричал я на приятелей. — Берём папу и сматываемся!!!
— Куда? — спросил испуганный Серёгин.
— Домой, тортик именинный доедать!
Мы подхватили под руки папу и потащили его в подъезд. Папину тетрадку я засунул в карман. В спины нам с балкона стреляла сухим горохом из трубочки Склочнева — был у неё такой метод борьбы с ночными гитаристами. Поговаривали, что Склочнева с каждой пенсии откладывает деньги на покупку пейнтбольного ружья. Она бы наверняка и настоящее купила, но кто же ей разрешит.
Глава 3 Как папа мог оказаться на улице, но вместо этого «уехал» в Монголию
Когда мы пришли домой, мама уже приготовила розетки с вареньем, подрезала бутербродов и убрала обглоданные куриные кости. Мама — человек такой, глаз-алмаз, она сразу заметила, что кого-то не хватает, а кто-то явно новый в нашей компании:
— Что-то быстро наигрались. Мишка, у тебя ещё один гость?
— Да, мам. Его родители опоздали, и мы встретились с ними во дворе. Это… Боря, они недавно в наш район переехали, поэтому не сразу наш дом нашли. И в классе он у нас недавно. Но мы с ним уже… друзья, да.
Папа стоял рядом, потупив глаза. Он ещё не оправился от шока, поэтому с одного бока его поддерживал Серёгин, а с другого — мой приятель Женька Вощин.
— А где же папа? — спросила мама, оглядывая нашу компанию.
— Папа? А папа… А папу на работу вызвали! Позвонили и вызвали, — соврал я.
— В воскресенье? Зачем?
— Его в командировку срочно отправляют.
Какую-то там конференцию проводить. Дней на пять, как минимум.
— Да? — Мама верить в эту историю, похоже, не собиралась.
— Да. — Я и глазом не моргнул.
— А что же он даже домой-то не зашёл? Как же он в командировку поедет без вещей? И позвонить бы тоже мог…
— Мам, ты нашего папу не знаешь? Он же обо всём сразу забывает! И позвонить забыл. Он так от этой командировки офонарел, что, может, даже и забыл, что телефон у него в кармане лежит. Ему позвонили, он нас до подъезда довёл и сразу на остановку побежал.
— Но вещи-то, вещи… — мама растерянно развела руками, — рубашку сменную, носки чистые…
— Мам, я один раз был у папы на работе и видел там… сумку. — Папу надо было спасать, и фантазия понесла меня в дальние дали. Даже папа немного пришёл в себя и с изумлением смотрел на меня, ушам своим не веря, сколько неправды за пять минут выскочило из уст его любимого сына. — А в сумке у него и пена для бритья, и бритва, и зубная щётка — ну, всё на случай непредвиденных командировок. Как у военных «тревожный чемоданчик».
— Да? А я даже и не знала об этом. Он мне никогда не говорил. И потом, какие могут быть у филологов непредвиденные командировки? Ну, ладно, — спохватилась мама и бодро заявила: — Потом с папой разберёмся. У нас же день рождения сегодня! Как он мог, — продолжила она вполголоса, качая головой, — в день рождения сына… какая-то командировка… ну, вот пусть только объявится…
— Ты слышал? — дёрнул меня за рукав папа-мальчик. — «Пусть только объявится»… Как я могу объявиться нашей маме в таком виде? Мишка, что делать-то теперь будем?
— Папа, вот только давай без истерик, — сказал я. — Иди в комнату и сиди, думай, как тебя обратно папой сделать. Да, и первым делом маме позвони… Нет, лучше эсэмэску отправь, а то голос у тебя теперь тоже мальчиковый.
— Что, и голос тоже? — Папа испуганно зажал рот ладонью.
— Ну, для твоего нынешнего… облика вполне сойдёт. Отправь маме сообщение, успокой её, извинись, что пришлось срочно покинуть, пообещай отзвониться, как устроишься…
— Что писать? — спросил папа.
— Пиши: «Еду в Монголию на конференцию по русскому языку»…
— Почему в Монголию?
— Ну, вдруг твоё повзросление затянется, а из Монголии ехать дольше. Это тебе не в Чесоткине материалы для спецкурса по этнолингвистике собирать.
Соседний город Чесоткин был просто каким-то кладезем материала по этнолингвистике. Папа ездил туда каждое лето и, возвращаясь оттуда, с восторгом рассказывал, что в Чесоткине даже ругаются какой-то особой руганью. Но до Чесоткина всего-то пара часов езды на рейсовом автобусе.
— Опять же, — продолжил я, — из Монголии сильно не назвонишься, международный роуминг. И можно будет телефон отключить, а то ведь мама сейчас посуду домоет, гостей проводит и начнёт тебе названивать.
— И то правда, — сообразил папа и начал сообщение нащелкивать.
Праздновать уже больше не хотелось. Я взял со своих приятелей страшную клятву никому о случившемся сегодня во дворе не рассказывать. Все поклялись и стали звонить своим родителям, чтобы они их поскорее домой забирали.
— Миш, а почему ребята уже расходятся? — спросила мама, которая снова решила позвать нас к столу. — Вы поссорились, что ли? У меня ещё вон сколько всего вкусненького наготовлено… Ой, телефон! — И мама пошла к себе в комнату, услышав, что её телефончик песенкой уведомил о входящем сообщении. — Мишка, это от папки! Представляешь, его в Монголию отправляют! За столько лет первая загранкомандировка! Сейчас я ему ответ напишу, пусть мне монгольскую шапку из войлока привезёт, я в ней в баню буду ходить. А тебе, Мишук, чего привезти?
— Кошму и плётку из сыромятной кожи, как у Чингисхана. — Я мрачно смотрел на дверь своей комнаты, за которой сидел срочно командированный в Монголию папа.
— Хотя… — Мама всё ещё не верила в столь внезапную командировку. — Всё равно чертовщина какая-то… Он бы мне сказал. Ну, ладно, раз все ушли, зови своего нового друга Борю, он ведь позже всех пришёл, даже торта не ел. Зови-зови, что ещё за новости! — потребовала мама. — Человек, может быть, голодный, а ты его кормить не хочешь.
Папа присел за стол с краешка, смотрел в свою тарелку, краснел, пыхтел и на вопросы мамы отвечал, как умственно отсталый. Он даже верхнюю пуговичку на рубашке застегнул и волосы на бочок пригладил, снял очки и теперь щурился, чтобы мама в нём никаких папиных черт не распознала.
— Миша сказал, что вы недавно переехали в наш район…
— Да.
— Откуда?
— Из… Чесоткина.
— Родители чем занимаются?
— Они пенсионеры.
— Что ты говоришь… А дети у вас ещё в семье есть?
— Нету.
— Ты поздний ребёнок?
— Нет, не очень.
— Ясно. А чем ты, Боря, увлекаешься?
— В данный момент — тортом. — И папа распилил пополам кусок торта чайной ложечкой.
— А какой твой любимый предмет в школе?
— Я все люблю.
— А вот Мишка только историю, — вздохнула мама, — на биологию ему, к примеру, глубоко наплевать, одни тройки поэтому.
— Я его выпорю, — вдруг совершенно серьёзно сказал папа.
Я от такого неожиданного заявления даже чаем поперхнулся.
— Нет, Боря, зачем же сразу «выпорю». Драться нехорошо.
— Тогда поговорю по-мужски.
— По-мужски пускай с ним папа поговорит, а ты по-дружески…
Да когда же эта мама от нас отвяжется! Но мама и не думала отвязываться.
— Боренька, а за тобой родители когда придут? Уже девятый час, — ласково спросила мама, когда Боренька доедал шестой кусок торта.
Повисла пауза. Боренька замер над тарелкой с набитыми щеками.
— Мам, а Боря сегодня будет ночевать у нас, — сказал я, отодвигая тарелку.
— Миш, ты бы хоть предупреждал меня, что ли…
— Вот я и предупреждаю. В Чесоткине школа, сама понимаешь, не очень, не чета нашей. Программы разные. А учителя какие? У нас одна завуч — математический монстр! Физик — новатор, физрук — чемпион района по гиревому спорту и быстрым шашкам. А там что? Борька там отличником был, а здесь за неделю до троек скатился. Мы с друзьями взяли над ним шефство — каждый из нас по одному предмету будет его подтягивать. Это нас классная попросила. Я вот как раз по истории его сегодня и подтяну.
— А, ну раз так… — смирилась мама. — Хорошее дело. А твои родители, Боря? Они знают?
— Мы им уже позвонили, — сказал я. — Они не возражают.
— Точно? — усомнилась мама. — Может быть, я им тоже позвоню?
— Нет-нет-нет! — замахал испуганно руками папа Боря. — Они уже спать легли! Не надо им звонить! Они у меня старенькие! Ещё разволнуются, потом до утра не уснут!
Бабушка Маша и дедушка Серёжа, папины родители, действительно были уже очень старенькими. Вот бы они удивились, если бы мама им сейчас позвонила и спросила: «А можно, Боря у нас сегодня останется?» Боря, если что, с нами живёт последние лет пятнадцать. Ну и мама не такая дурочка, чтобы голос своей свекрови по телефону не узнать.
— Тогда что вы здесь рассиживаетесь? — сказала мама. — Время позднее, когда вы собираетесь свою историю подтягивать? Ещё пара часов вам на занятия, а потом отбой, спать, на боковую, мальчики.
— Я и не знал, — сказал папа, когда мы вернулись в мою комнату, — что мой сын — такой врун… Я думал, что воспитываю кристально честного ребёнка…
— А я такой и есть, — ответил я. — Но в обычной жизни. А у нас тут из ряда вон выходящий случай. Прямо мистика какая-то, Гарри Поттер! Нет, я бы мог, конечно, сказать об этом маме всю правду… Но, сам представь, что бы тут началось. Мама бы сказала, что это дурацкая и несмешная шутка, тебя бы вот в таком виде немедленно выставила за дверь, как только гости бы разошлись. Начала бы твоих родителей разыскивать, в полицию звонить, чтобы тебя домой сопроводили… Давай, раз всё по-честному, не поздно ещё признаться! Телефон полиции? Ноль-два. Ты бы там честно рассказал про свою жабу-рабу, и тебя бы быстренько отправили в детское отделение областной психоневрологической больницы. А мне отец, между прочим, нужен! Нормальный, а не какой-то… такой!
— Я понял, — сказал вдруг папа после тягостного получасового молчания, — и осознал. Это мне наказание. За то, что я вёл себя, как… не как отец, в общем. Мне даже в кино с сыном сходить было некогда! И чем же, интересно, таким я был занят? На собрание к сыну в школу мне трудно было прийти! Научил ли я своего сына гвоздь вбивать? Не научил! А давно ли я разговаривал с сыном по душам? Знаю ли я о его душевных переживаниях? Не знаю! — Папа повернул ко мне голову, и в глазах его заблестели слёзы. — Эх, Мишка, прости отца своего, дурака старого! Вон как, видишь, меня наказывают! Чтобы сам, значит, на своей шкуре почувствовал, как детям нынешним нелегко приходится…
— Пап, да ты чего? — Я даже опешил от такого накала страстей и глубины покаяния в папином голосе. — Да вобьём мы ещё этот гвоздь сто раз! Ты это… Ты только не расстраивайся! Я и не обижаюсь вовсе. Не надо так переживать, пап, мы что-нибудь обязательно придумаем. Утро вечера мудрёнее, или как там в твоём фольклоре говорят? Ложись-ка ты лучше спать.
Я принёс из кладовки спальник, и мама ещё выдала нам толстое ватное одеяло и подушку. Расстелил всё это на полу и приготовился уже нырнуть в спальный мешок, но папа меня остановил:
— Нет, Михаил, позволь, я лягу на полу! Я старше, не спорь…
— Пап, но ты же в некотором роде мой гость, а гостю полагается самое лучшее место.
— Нет, я лягу на полу, а то ещё простудишься! — настаивал папа.
— Короче, Боря, — сказал я тут голосом твёрдым и упрямым и сам этому удивился, — покомандовал мной, и пока хватит. Когда обратно повзрослеешь, тогда — пожалуйста. А сейчас тут никто не старше и не главнее. Спи давай! — прикрикнул я на отца.
— Да как ты смеешь, на отца в таком тоне… — зашипел обиженно папа из своего угла.
— В зеркало на себя посмотри, — ответил я, заворачиваясь в спальник. — Отец… Спокойной ночи… Боря.
«Вообще, — подумал я, засыпая, — Борька-то меня похудее будет. Будет бузить, мигом ему наваляю. Не посмотрю, что отец».
Глава 4 Бурый и папа подделывают документы
Утром начались каникулы. И хорошо, решили мы с папой. Одной проблемой меньше, иначе куда папу девать, если бы мама меня в школу отвела? После завтрака, когда мама ушла на работу, мы с Борькой засели в комнате и начали думать, как нам вообще быть и что делать. Хорошо, что Борька соображал ещё вполне по-взрослому. У папы, как-никак, высшее образование и научная степень, а также богатый жизненный опыт. Не то что у меня — четыре класса кое-как.
— Вот что плохо, — сказал папа, — мы с тобой, как два несовершеннолетних, не сможем свободно передвигаться по городу. И дома оставаться в таком виде я не могу. И на работу идти — тоже.
— Да, — кивнул головой я, — вечером придёт с работы мама и увидит, что друг Боря всё ещё здесь. И она очень вежливо, но твёрдо потребует, чтобы друг Боря отправлялся к себе домой.
— Это точно, — вздохнул папа. — До вечера надо что-то придумать. А пока выдай, пожалуйста, другу Боре из своих запасов какую-нибудь футболку и штаны. А то вид у меня какой-то… ботанический.
Да, папка у меня и в самом деле выглядел как настоящий ботаник — рубашка, застёгнутая на все пуговицы, брючки со стрелочками, которые он в кои-то веки надел по случаю дня рождения сына. Всё это, конечно, соразмерно уменьшилось при превращении папы в мальчика, но современные мальчишки в обычной жизни так не одеваются — только если с мамой в поликлинику идут или в какое-нибудь другое особо приличное место.
— Ну вот, папа, — сказал я, — ты и становишься нормальным человеком.
— И не называй меня, пожалуйста, папой. Временно, — попросил меня мальчик, который ещё вчера был моим папой, — а вдруг кто услышит? Смешно получится.
— Да если и услышит, — ответил я, — подумает, что это кличка такая.
— Кличка? Ах да, кличка… Я и забыл, что в моём детстве тоже у всех мальчишек были клички. Только вот я не вспомню, какая была у меня… Может, Борман? Нет, не помню. А у тебя есть кличка, сынок?
— Пап, только не называй меня сынком! — возмутился я.
— А что, такой клички быть не может? — удивился папа.
— Сынок — это обидная кличка, папа. Сынок — это тот, за кого мамаша в школу всегда разбираться прибегает.
— Ну а всё-таки. Нет, мне правда интересно, есть ли у моего сына в школе кличка, — не унимался папа.
— Бурый.
— Что — бурый? — не понял папа.
— Кличка у меня — Бурый.
— Почему — бурый? Никакой ты не бурый. — На редкость несообразительный оказался папа.
— Ну, Миша — значит медведь. А медведь у нас какой? Ну? Бурый. Ну и ещё… — Тут я замялся, не зная, сообщать ли папе всю правду о себе.
— Ещё — что? — спросил папа.
— Ну, ещё я… Ну, это парни в классе так считают… Я иногда бурею…
— Буреешь? — спросил папа. — Цвет меняешь? Как помидор?
— Буреть — значит наглеть, борзеть, добиваться своего…
— А-а-а, — наконец-то понял папа. — Добиваться своего — это хорошо, борзеть и так далее — не очень. Хочешь быть Бурым, оставайся. Но я буду звать тебя Мишкой.
— Да не хочу я быть Бурым, просто меня все так называют, — сказал я. — Хватит уже эти глупости обсуждать.
Я достал из шкафа свои джинсы, серую футболку и отдал их папе. Подумал и добавил свитер и ветровку — неизвестно еще, где папе придется ночевать, а ночи пока холодные. Папа переоделся и подсел к компьютеру.
— Я думаю, что в этих рекомендациях города Бредска должны быть какие-нибудь… хм-хм… нюансы, — ну, юридические тонкости, которые дадут нам возможность свободно передвигаться по городу. «Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения», так вроде говорят, — размышлял вслух папа, входя в глобальное информационное пространство. — Должны, не может их не быть… — Пальцы его щёлкали по клавиатуре. — Сейчас я проведу этим правилам филолого-юридическую экспертизу..
Папа зашёл на сайт администрации Бредска, во всю ширь которого улыбался наш мэр, приветствуя дорогих земляков и гостей нашего уютного гостеприимного города. У виртуального мэра, распахнувшего широкие объятия, под одной мышкой был герб города, а под другой — телефон общественной приёмной, куда, наверное, и звонила всё время ночная снайперша домком Склочнева. Папа зашёл в раздел «Официальные документы» и нашёл там «Рекомендации по созданию городской среды, безопасной детей и подростков».
— Так-так-так, — папин указательный палец прокручивал колесико у «мышки». — Не то, не то… Опять не то… И это тоже нам не подходит… — бормотал себе под нос папа, пролистывая электронные страницы. — А вот это? Может быть… Ну-ка, Мишка, глянь сюда.
Пункт 145 раздела 14, похоже, давал нам шансы на относительно свободное передвижение по городу.
— Ты только посмотри, куда они его запрятали, — сказал папа, — не у всякого родителя, а тем паче ребёнка, хватит терпения, чтобы дочитать до этого места.
Пункт 145 гласил: «…несовершеннолетний может передвигаться по городу без сопровождения взрослых, имея на руках особым образом оформленную справку и доверенность от родителей, если он направляется: а) в кружок или секцию; б) в поликлинику; в) на работу…» Да-да, именно так.
— Нам надо оформить документы, — сказал папа, — и посетить поликлинику.
— А поликлинику-то зачем? — недоуменно пожал плечами я.
— Надо показать меня доктору, — ответил папа.
— Что-то я сомневаюсь в том, что медицина тут поможет..
— Но не будем исключать и этой возможности, — сказал Боря. — Используем, так сказать, все шансы…
Ну, с доверенностью родителей проблем не было. Папа сел и тут же выписал мне и моему «брату» Борису доверенность в том, что он, папа, доверяет нам одним ездить по городу.
«Они мальчики хорошие, воспитанные, из приличной семьи…» — начал нахваливать самого себя «брат» Борис.
— Ты что, с ума сошёл? Кто так доверенность пишет? — я вырвал у папы лист бумаги. — Пиши по новой. «Я, такой-то, доверяю своим сыновьям Борису… эээ… Борисовичу и Михаилу Борисовичу самостоятельно посещать кружок игры на домре и секцию синхронного перевода с английского языка, а также курсы бухгалтерского учёта и факультатив по математическому анализу в любое удобное для них время. В настоящее время я, такой-то, не имею возможности сопровождать своих детей на внешкольные занятия, необходимые для их всестороннего гармоничного развития. Однако ответственности за их жизнь и здоровье с себя не снимаю. О правилах поведения в общественных местах Борис Борисович и Михаил Борисович уведомлены и о возможной ответственности за их нарушения предупреждены. Дата, подпись».
— Странный у тебя набор какой-то, — сказал папа, дописывая доверенность под мою диктовку. К счастью, почерк у него почти не изменился, да и подпись осталась тоже вполне папина. — И домра, и бухучет, и английский, и матанализ зачем-то приплёл.
— Соображать надо, — постучал я себя по голове. — По этой справке мы можем в любую часть города ехать. А куда, спросят нас, вы, мальчики, направляетесь? На домре играть, ответим мы, если будем в центре рядом с Домом культуры. На курсы юных бухгалтеров идём — если в районе Биржевой, где финансовый институт находится.
— Ну, понял, понял… — прервал меня папа. — Но тут вот ещё сказано, что доверенность нужно у домкома подписать, а потом в ЖЭУ печать поставить и пошлину заплатить, чтобы выдали разрешение установленного образца. Что-то уверенность меня покидает… Вряд ли мы эту справку получим.
— Не окисляйся раньше времени, пап. Будем женщину обольщать.
— Женщину? Нет, что ты! Это исключено. Как могу я в таком виде обольстить женщину? Да и какое я имею на это право, будучи женатым человеком… — начал мямлить папа.
— Слушай, женатый человек, — напомнил ему я, — вечером придёт твоя жена и позвонит Бориной маме, то есть твоей маме, бабе Маше, и тут-то и выяснится, что это за друг Боря такой. У мамы точно обморок будет. А что с бабушкой случится, я даже представить себе не могу — фантазии не хватает.
— Ну, может, оно ещё само собой рассосётся, — робко предположил папа. — Глядишь, и стану я к вечеру снова взрослым человеком. Мне кажется, что я уже немного подрос, разве нет?
— Может, и рассосётся, — мрачно сказал я. — Только неизвестно когда. А пока с тебя, вон, даже штаны твоего сына сваливаются.
— Ну да, ну да… — заметил папа и подтянул джинсы. — Мне кажется, в этой ситуации главное — не начать жить в обратную сторону. Ну, как в фильме «Странная история Бенджамина Баттона». Может, ну их, эти документы? Это же статья за подделку, уголовщина, колония для несовершеннолетних…
— Пап, мы не сможем решить твою проблему, сидя дома. Надо, как ты говоришь, использовать все шансы.
— Значит, женщину? — вздохнул папа. — Надеюсь, одну?
Обольстить нам предстояло домкома Склочневу. Её подпись должна была стоять на отцовской доверенности. А ну как Склочнева не согласится ставить её? К тому же надо ухитриться, чтобы она подмахнула нашу бумагу, не читая. Иначе начнутся расспросы про «брата» Борю. Чтобы она не начала спрашивать, расспрашивать будем мы.
Я взял блокнот и ручку. Папа сказал, что к женщине нужно идти с цветами и конфетами. Подходящего и вообще никакого букета в доме не было. Папа осмотрелся и прихватил с подоконника керамический горшок с каланхоэ.
— Мишка, не жмись, — сказал он. — Я видел, тебе вчера шоколадок надарили. Тащи одну.
Я взял одну, с альпийской коровой на обёртке.
— Какая у нас легенда? — спросил папа.
— Какая у нас… что?
— Ну, нам надо договориться о том, с чем мы заявились к этой женщине, — сказал папа. — Придумать какую-нибудь правдоподобную историю.
— А, ясно.
— Вчера Склочнева на нас накричала, — продолжил папа. — Сегодня мы идём извиняться. Чтобы она нас быстрее простила, мы подарим ей цветы и шоколад. А чтобы усыпить её бдительность, мы скажем, что пришли писать о ней статью. Дали задание на каникулы для школьной газеты — написать статью о своём соседе. А Склочнева у нас — всем соседям сосед.
— Ась? — спросила из-за двери Склочнева. — Каку-таку статью? Я сама вас щас под статью… Уходите, хулиганы, сейчас полицию вызову!
— Ираида Варсонофьевна, — сказал папа голосом глубоким, как Чёрное море, — позвольте подарить вам этот скромный букет, — и поднёс горшок с каланхоэ к дверному глазку.
Через две минуты мы уже сидели на склочневской кухне, и домкомша металась по ней седою курицей, расставляя на столе чайные чашки с какой-то доисторической тусклой позолотой.
— Всё-всё расскажу, ничего не утаю, — ворковала Склочнева, — и как вахтёром в КГБ служила, и как на общественную должность перешла, и как ГТО ещё сдавала… Я ведь на стрельбах сто очков из ста возможных выбивала. Я сразу вижу, кто свой, кто чужой…
Мы допивали уже третий самовар чая. Склочнева сидела на табуретке, прижав к груди подаренный каланхоэ, и поглаживала его, как какое-то бесценное сокровище. А шоколадку она поставила на холодильник, прислонив её к какой-то коробочке так, чтобы альпийская корова на обёртке была видна всем, кто входит в эту кухоньку.
— …и вот я теперь уже который год несу на своём балконе бессменную вахту по охране общественного порядка в нашем отдельно взятом дворе… — разливалась весенним ручьём речь домкома, а с фотографии на стене молодая Склочнева строго смотрела на старую Склочневу, которая сидела тут и выбалтывала двум подозрительным «хулиганам» всю свою, некогда засекреченную, биографию.
— Ираида Варсонофьевна, — снова сказал папа тем же проникновенным голосом, — Миша сейчас записал весь ваш рассказ. Очень интересный, содержательный рассказ. Весьма поучительный для молодёжи. Просим вас в блокноте поставить подпись, что с ваших слов всё записано верно. Таков порядок, извините.
— Да, да, конечно, — затрясла головой вахт-бабушка. — Я порядки знаю. Очки возьму только, в комнату схожу.
— Возьмите мои, — сказал папа и стянул с переносицы свой, как он называл, «бинокль доцента».
Склочнева надела очки на самый кончик носа и стала поверх них глядеть на мои записи, вчитываясь в каждую строчку!
— Нужно подписать каждую страницу, — сказал папа. — Ещё раз простите.
— Не извиняйтесь, юноша, — сказала Склочнева, важно поджав намазюканные по случаю визита «корреспондентов» губы, — раз надо, так надо.
И она мельком просмотрела страниц двадцать, ставя на каждой свою закорючку. В блокнот я вложил и нашу доверенность, которую Склочнева тоже завизировала.
— По крайней мере, мимо Склочневой теперь мы можем ходить спокойно, — сказал я, когда мы вышли из её квартиры.
С визой Склочневой мы пошли в ЖЭУ ставить печать. На нашей доверенности её ставить не хотели и требовали привести родителей.
— Мой папа только что был у Ираиды Варсонофьевны. Или вы, — я старался говорить как можно увереннее и значительнее, — хотите сказать, что такой ответственный и бдительный общественник, как Ираида Варсонофьевна, может подписать документ кому попало?
Паспортистка ЖЭУ хмыкнула, пожала плечами, потом достала из ящика стола круглую печать, нежно подышала на неё и поставила штампик на нашу доверенность.
— Пошлину платите в кассу, — сказала она. — Сто рублей.
— Не вопрос, — сказал папа.
Глава 5 О роли музыки в жизни папы
— Откуда деньги? — спросил я папу, когда мы получили заветную справку и вышли из ЖЭУ почти свободными четвероклассниками.
— Так это, — сказал папа, — кошелёк-то, слава богу, на месте остался. Не уменьшился даже. Хорошо, что я его во двор не взял, а дома в комоде оставил.
— Это хорошо, — ответил я. — Деньги нам, скорее всего, ещё пригодятся. Не у мамы же их просить.
— Если что, — сказал папа, — у меня ещё есть немного. Зарплата недавно была. Последняя, наверное… — грустно вздохнул он.
— Слушай, а тебя не хватятся? В институте? — спросил я.
— Ё-ка-лэ-мэ-нэ!!! — схватился за голову папа. — У меня же сегодня с утра лекция по русскому фольклору у иностранных студентов!!! А в конце я хотел им проверочную работу на дом дать! Это же международный скандал — преподаватель на лекцию не явился! Так, — начал он обшаривать свои карманы, — мобильник всё равно отключён. А, — махнул рукой папа в отчаянии. — Точно уволят! Поехали, может, ещё успеем!
— Куда поехали? Какой «поехали»? — схватил я папу за рукав. — Ты забыл, что ли?
— Ах, да-да-да, — ещё сильнее занервничал папа. — Что делать, Мишка?
— Давай дадим телеграмму декану.
— Какую ещё телеграмму? — Папа чуть не плакал и почти рвал волосы на своей одиннадцатилетней голове, которая ещё вчера была тридцативосьмилетней.
На папиной кафедре было много желающих преподавать фольклор в группе иностранных студентов, но именно папа прошёл там какой-то внутренний конкурс, презентацию для которого он готовил недели три. Даже на это время с ноутбуком на дачу уехал.
— Дом как почувствовал, что хозяина нет, — говорила тогда мама. — Сразу расслабился и рассыпаться начал. Вчера на кухне розетка из стены прямо выпала, сегодня у табуретки сразу две ножки отломились. И замок ещё вчера сломался. Ведь давно отцу говорила: смажь замок, а то заедает. Некогда ему было, а мне теперь замок меняй.
— Ну, какую телеграмму…
— Вот такую, к примеру: «Связи получением наследства вынужден срочно выехать Монголию».
— Ни за что, — твёрдым голосом сказал папа. — Опять Монголия! Так нагло врать начальству я не умею.
— Чёрт с тобою, — ответил я. — Напиши проще: «Семейным обстоятельствам прошу отпуск свой счёт две недели. Тчк».
— Две недели! — Папа снова схватился за остатки волос. — Чтобы я пробыл в этом смешном тельце целых две недели!!!
Ну ни фига себе. Как папу корёжит, оказывается. Я же живу почти в таком же смешном тельце уже целых одиннадцать лет, и ничего.
— Я! Не могу! Быть! Мальчиком! — кричал папа, стоя на детской площадке. — Потому что этого не может быть! Я был уже мальчиком и не хочу снова туда возвращаться!!! Мишка, сынок, скажи, что я вчера пил? Я был очень пьяный, да? — Папа уже чуть не плакал.
— Чай ты пил. Две чашки. Больше не успел, на улицу нас потащил.
— Я не хочу снова быть мальчиком, — папа стал отступать от меня назад, размахивая руками и тряся головой. — Наверняка это всё ваши компьютерные штучки! Ну, скажи, скажи, что так бывает — надеваешь шлем, берёшь в руки штурвал, и ты уже не ты, а какой-нибудь универсальный солдат? Это ты, ты подсадил меня на все эти ваши тупые компьютерные войнушки! Признавайся!!!
И тут я не удержался. Я взял и вмазал папе прямо в глаз. Прямо по очкам. Папа от неожиданности сел на землю, снял свой треснувший «бинокль доцента» и уставился на меня:
— Ах, ты так, — сказал он вдруг тихо, схватил меня за ноги и повалил на землю. Мы катались по площадке, как две змеи, свившиеся в клубок. Папа лягал меня ногой, я выворачивал ему запястье. Потом мы поменялись: я лягал, а он выворачивал. А потом папа как-то хитро вывернулся, сел мне на спину и заломил руку.
— Самбо! — торжествующе сказал папа. — Сколько лет прошло, а ручки-то помнят…
— Слезь! — придушенно крикнул я. — А то хуже будет!
— Кому хуже будет? — спросил папа, который чувствовал себя победителем. — Маме жаловаться побежишь?
— Слезь сейчас же. — Я снова попытался достать папу пяткой. — А дома поговорим.
В этот момент я почувствовал, что какая-то сила вдруг стала приподнимать папу, сидящего на мне, а папа прекратил издавать победные вопли и замолчал.
— Что здесь происходит, я вас спрашиваю? — раздался грозный мужской голос.
Я перевернулся на спину и увидел, что папу за шкирку, как какого-нибудь котёнка, держит одной рукой наш участковый Невзыграйло. Невзыграйло был очень высокого роста, всегда ходил «по форме». Говорят, что он раньше служил в спецназе и ездил в «горячие точки», а потом попросился на более спокойную службу. Невзыграйло был такой огромный, а в руке у него болтался маленький папа. Выглядело это очень смешно.
— Что за драка? — повторил Невзыграйло.
— Это не драка, — пискнул папа, — это выяснение отношений.
— Я, конечно, слышал, — сказал участковый, — что может быть выяснение отношений без драки, но пока такого не встречал. Чего не поделили, орлы?
— Мы не орлы, — пискнул папа, — орлы не мы. Как вы смеете! Я взрослый человек, предъявите документы!
— Нет, это ты предъяви документы, взрослый человек, — сказал густым басом Невзыграйло. — Почему одни, без родителей?
— Я всё сейчас объясню. — И папа стал трепыхаться в могучей длани участкового, пытаясь дотянуться до кармана, где лежала тетрадка.
Ну нет. Только не это. Правда, и только правда — это хорошо, конечно. Но сейчас всё, что угодно, кроме правды. И я перестал смеяться. Я вскочил на ноги и стал спасать папу.
— Товарищ Невзыграйло, тут такое дело, — затараторил я. — Пять минут назад в ЖЭУ нам выдали справку, вот, — и я показал участковому бумажку, — и мы теперь можем одни, без родителей, ходить на занятия в кружки. И вот мы туда и шли как раз. Но па… то есть Боря, брат, хотел пойти на бухучёт, а я — матанализ. А справка-то одна. Копию-то ещё не сделали, не успели. И вот мы решали, кто пойдёт домой, а кто со справкой на матанализ. А потом у нас в пять синхронный перевод и ещё домра…
— Домра? — спросил вдруг суровый Невзыграйло, светлея лицом. — В ДК? У Зои Кондратьевны?
— Ага, — сказал я, ни сном ни духом не ведая, кто такая Зоя Кондратьевна.
— Привет ей передавайте от ученика Стёпы Невзыграйло, — сказал участковый и разжал руку, в которой держал обмякшего папу. Освобождённый папа рухнул на землю, как подкошенный.
— На свои очки, — сказал я, протягивая папе растоптанный в пылу драки «бинокль».
— Не надо, — сказал папа, потирая разные ушибленные места.
— Ты же без них не видишь…
— Уже вижу. Ты мне, Мишенька, зрение-то кулаком и вправил. Не ожидал я такого от родного сына, не ожидал…
— Мужские истерики, — сказал я, — никого ещё до добра не доводили.
— Что?! — снова начал вскипать папа.
— Хорош уже. Пойдём, охладимся, — и я кивнул на ларёк с мороженым в соседнем дворе.
Ковыряя палочкой в стаканчике с мороженым, я спросил у папы:
— Ну, давай выкладывай, что там у тебя за история? Что там такого ужасного произошло в твоём детстве? Почему ты так сильно не хочешь быть снова мальчиком? Есть в этом, конечно, свои минусы, но ведь и плюсы тоже есть.
— Ну да, есть, — хмуро поддакнул папа.
— Ты на работу, к примеру, можешь теперь не ходить…
— Угу, — папа нахмурился ещё сильнее.
— По-моему, быть мальчиком — не так уж и плохо, — сказал я. — Я вот, например, даже рад, что ты у меня теперь… такой. Я сто лет ни с кем не дрался. А тут вот раз, и… Само, правда, так получилось. Но ведь здорово же, когда есть с кем подраться и поговорить. Я тебе дам на роликах своих покататься, у тебя же не было их… тогда.
— Не было, — подтвердил папа.
— Ну так чего киснешь? — подбодрил его я. — Побудешь немного мальчиком, а потом, если найдём способ, снова станешь папой. А даже если и не найдём… Если не найдём, я поговорю с мамой, останешься жить у нас в любом случае.
— Нет, — сказал папа, — если не найдём, я не смогу сидеть на шее у мамы. Я уйду скитаться. Или подделаю документы и поступлю в суворовское училище.
— Ну и всё-таки, — спросил я, — что там такого, в твоём детстве, произошло, что ты сейчас не хочешь хоть немного снова побыть мальчиком?
Папа помолчал, раздумывая, стоит ли посвящать меня в тайны своего тёмного прошлого. Но потом всё же решил ничего от сына не утаивать, сам же вчера каялся в том, что не разговаривает со мной по душам.
— В шестом классе, — начал папа, — произошла одна очень дурацкая история. Очень глупая…
— Ты продолжай, — приободрил его я. — Я всё пойму.
— Наш шестой «А» как-то сорвал урок музыки.
— Ну, в общем-то, обычное дело… — поддакнул я. Но папа так странно на меня посмотрел, что я поспешил поправиться: — Может, и не совсем обычное, но ничего сверхъестественного в этом нет.
— Да, я тоже так думаю, — вздохнул папа. — Но иногда из-за каких-то глупостей меняется вся жизнь. На уроке музыки мы разучивали одну песню. Не знаю, как так вышло, но только когда Марина Петровна давала нам команду петь, мы все начинали мычать.
— Мычать? — спросил я. — Всем классом?
— Ну да. Мы думали, что это очень смешно. Марина Петровна сначала просила нас утихомириться, взывала к нашей совести. Потом стала вызывать нас к доске, чтобы мы пели по одному. Тот, кого вызывали, пел, куда ему деваться, а все остальные мычали. Потом вообще начались форменные безобразия — все стали толкаться, галдеть, стучать стульями. Марина Петровна колотила по клавишам как можно сильнее и грозила нам всевозможными карами за срыв урока. Но вот прозвенел звонок с урока, и все кинулись к выходу. Но у двери Марина Петровна оказалась раньше нас. Она распахнула свои широкие объятья, и несколько человек с ходу врезались в её бюст, обтянутый кримпленовым пиджаком. Объятия музычки захлопнулись, поймав пятерых хулиганов. «Петров, Иванов, Николаев, Сидоров и Борис Свершов, — объявила Марина Петровна, — вы отправляетесь домой за родителями! Немедленно!»
— Ого, — сказал я. — Серьёзный, хотя и вполне предсказуемый оборот.
— Иванов привёл старшего брата. Петров сказал, что у него дома только бабушка, которой очень трудно ходить.
Хотя все знали, что бабушка у Петрова на раз догоняет уходящий от остановки автобус. Николаев вообще никого не привёл, просто ушёл домой, и всё. Сидоров сказал, что у него сегодня соревнования по шахматам, где он будет бороться за честь школы. «Ты бы лучше за свою честь боролся», — сказала ему Марина Петровна и отпустила с миром. Мне же соврать было нечего, мама была в отпуске и уехала отдыхать по профсоюзной путёвке в Ленинград, а к папе я с такими вопросами соваться не решился. И я остался в школе маячить на лестнице. Вечером Марина Петровна, увидев меня, спросила: «Свершов, ты почему ещё здесь? Где родители? Ну, иди домой, не ночевать же тебе в школе. Завтра разберёмся».
— Ну, не так уж и плохо для тебя закончилась эта история… — сказал я.
— Да в том-то и дело, — вздохнул папа, — что с этого всё и началось. После уроков Петров, Иванов, Сидоров и Николаев собрались на школьном стадионе и давай хвастаться, как они ловко провели музычку. И ждали, что скоро к ним выйду и я, и расскажу, с помощью какого вранья мне удалось избежать наказания. А я не вышел. Я остался на лестнице. И они решили, что я их там закладываю, сдаю, предаю — в общем, любезничаю с нашей музыкантшей, изворачиваюсь и говорю: «Да это не я, это всё они, я просто первый побежал…» И ведь не докажешь потом, что такого не было! — воскликнул папа.
— Раз уж они тебе друзья, то могли бы и доверять товарищу… — начал я, кажется, понимать весь ужас папиной ситуации.
— Да в том-то и дело, что не друзья. Ну, то есть, как контрольную списывать, так, конечно, друзья. А как чего другое — так какие уж тут друзья… — вздохнул папа.
— И дальше что?
— А дальше я пошёл домой. С надеждой, что музычка всё забудет и к следующему уроку — а музыка у нас была только раз в неделю — ничего не вспомнит. Возле подъезда на лавочке сидела соседка — бабушка-общественница, вроде нашей Склочневой. «Борис, — сурово сказала она, поджав губы, — тут твои приятели стену в подъезде измазали. Много-о-о про тебя интересного написали. Быстро домой за тряпкой, стену отмывать!»
— Вот гады! — Папу было действительно очень жалко.
— На стене возле лифта, хорошо, что не краской, а мелом было написано: «Борька Свершов, ты дурак, козёл и предатель! В школе можешь больше не появляться. Ты знаешь, что бывает с предателями и подлыми трусами! Смерть предателю!»
— А ты что?
— А я начал рукавом стирать эти несправедливые слова и от обиды закусил губу, чтобы не расплакаться. Шершавая стена больно царапала ладонь, со двора в открытую дверь подъезда заглядывала соседка и покрикивала: «Ходют тут всякие, по подъездам гадят! Ещё обижаются, когда им замечания делают!» И, как бы я ни сдерживал слёзы, я всё равно расплакался. Приду завтра, думал я, всё им объясню, они же ничего не знают!
— И что было завтра? — Я как будто сам стоял в том подъезде рядом с папой и стирал ладонью эти ненавистные колючие буквы.
— На следующий день никто со мной в школе не разговаривал. Мне объявили бойкот. В раздевалке в карман пальто положили воздушный шарик с водой. Когда я попытался его достать, шарик лопнул, и я шёл домой в мокром пальто. Со мной никто не хотел сидеть ни в столовой, ни в классе. Девочки тоже не хотели со мной дружить. Я просил родителей избавить меня от такого позора и перевести в другую школу, но они не согласились.
— А ты им рассказал почему?
— Папа сказал, что мужчина должен решать свои проблемы сам, какими бы они ни были.
— И долго так продолжалось?
— Ну, в школе… Я хотел быстрее стать взрослым, чтобы самому решать, как мне жить и где учиться. Окончив девятый класс, я забрал свой аттестат о неполном среднем образовании и отнёс его в другую школу. Мама узнала об этом только в октябре, когда пришла пора идти на родительское собрание в новую школу, ей классный руководитель позвонила. Мама рассердилась, а потом обиделась. Сказала, что я скрыл от неё, что я не доверяю ей. Короче, дома был скандал.
— Но ты же пытался ей сказать!
— Теперь ты понимаешь, почему я не хочу снова быть мальчиком? — спросил меня папа, ковыряя своё мороженое, которого он не съел ни капельки.
— Теперь понимаю, — вздохнул я.
Глава 6 Доктор Адова и магия здесь бессильны
Домой мы вернулись для того, чтобы позвонить в регистратуру поликлиники и записать папу на приём к врачу. Папа нашёл свой паспорт и полис медицинского страхования, набрал номер регистратуры и басом попросил дать ему талон к терапевту на ближайшее время.
— Приходите к двум, — ответила регистратура. — Не забудьте карту.
Но ни с картой, ни без неё папе нашему официальная медицина не помогла.
На двери кабинета висела табличка «Доктор А. Б. Адова, терапевт. Надевайте бахилы! В поликлинике участились случаи воровства, не оставляйте вещи без присмотра».
— Ну и фамилия! — сказал папа. — Где вещи не оставляйте? В кабинете или здесь?
Выяснить это не удалось, так как доктор Адова зычно крикнула сквозь закрытую дверь:
— Следующий!
— Ну, я пошёл, — сказал папа. — Как ты думаешь, про жабу-рабу ей рассказывать?
— Даже не знаю. Вообще-то, врать врачам не рекомендуется…
— Ясно… — И папа шагнул за дверь.
Дверь за ним закрылась, а я приложил ухо к замочной скважине, чтобы быть в курсе событий.
Доктор Адова с недоумением посмотрела на вошедшего в её кабинет мальчишку.
— Молодой человек, не ошиблись ли вы адресом? — спросила она, моя руки с хозяйственным мылом. — Я вроде бы работаю в поликлинике для взрослых…
— А я взрослый, — сказал мальчишка, — вот, в документах посмотрите, — и положил ей на стол паспорт.
— Очень интересно, — процедила сквозь зубы доктор Адова и взяла паспорт. — Это твой папа?
— Нет, это я и есть, — сказал папа.
— Не морочь мне голову. Где ты это взял? Нашёл?
— Но это мой паспорт! — сказал папа упрямо.
— Ну-ну, — угрожающе произнесла доктор Адова, — у нас, что, паспорт в десять лет начали выдавать? Касторки бы тебе дать за такие дела! А ну вон отсюда!
— Но я правда болен! — закричал папа. — Может быть, я даже умру! Ещё вчера мне было тридцать восемь!
— Градусов? — уточнила Адова. — Высокая температура? Надо было скорую ещё вчера вызывать.
— Лет! Тридцать восемь лет! — крикнул папа. — Было мне!
— А сегодня что, десять? — спросила насмешливо Адова.
— Одиннадцать! Как сыну моему!
— Ах, у тебя и сын ещё есть? — усмехнулась докторша.
И папа начал что-то там лопотать, рассказывать ей про свои внезапные перемены, и иногда в его рассказе проскакивали и жаба, и раба.
Но доктор его слушала не очень внимательно, поглядывая то в паспорт, то на папу.
— Ну, предположим, — сузила глаза под очками доктор Адова, — ты говоришь правду…
— Да конечно же правду, ё-моё, — с облегчением вздохнул папа.
— …и ты действительно за один вечер помолодел на двадцать семь лет… Это интересная получается картина! — воскликнула доктор Адова, воссияв очками. — Вся медицина, вся мировая косметология бьются над тем, как решить проблему старения! А тут приходит какой-то мальчик и заявляет о том, что ещё вчера он был дяденькой! Мальчик! — Тут доктор Адова вышла из-за своего стола и стала на цыпочках подбираться к папе, протягивая руку со стетоскопом. — Дай-ка я тебя послушаю!
— Ну наконец-то, — обрадовался папа. — А я уж думаю, будут меня сегодня лечить или нет…
— Прекра-а-асно, — сказала доктор Адова, прислушиваясь к стуку папиного сердца. — Восхитительно! Тоны ровные, хрипов нет… не прослушивается… конечно, лучше бы ЭКГ… ну, разумеется, рентген… я всё это выпишу.
А теперь давление, — и доктор надела на папину руку манжету и начала качать воздух резиновой грушей, — вполне детское давление… Рот открой, зубы покажи, — скомандовала она, и папа послушно осклабился. — Пара кариесов, а в целом всё опять же по-детски. Вот что, Боря, — сказала подозрительно ласково доктор Адова. — Я тебе верю. Твою проблему действительно надо решать. Я сейчас тебе напишу направление в одну больницу, ты там полежишь недельки две… лучше три. Назначу витаминизацию и усиленное питание, может, и вырастешь до… до своих прежних размеров. Ты одевайся пока, я тут одному профессору позвоню. Чтобы тебя там встретили хорошо, в самую лучшую палату определили. Чтобы никто с расспросами не приставал, ты же у нас особенный мальчик! Особенный-преособенный, — неожиданно засюсюкала она.
Доктор Адова ушла за ширму и стала звонить какому-то доктору Смыслякову:
— Алло, профессор Смысляков? Здравствуйте, это Адова Адель. Вы спрашивали меня, когда я определюсь с темой диссертации. Так вот — я определилась! — докторша понизила голос и начала полушёпотом расписывать, какой необыкновенный мальчик пришёл к ней сегодня на приём. — Омоложение, революция, это шанс, международный патент, известность, конечно, ваше имя тоже будет стоять под этой работой, — говорила Адова в трубку. — Только вот надо будет запереть этого мальчика в палате, подключить его к разным приборам и разобраться, отчего же он так помолодел. Надо только взять ткани на анализ, — совсем уже перешла на шёпот доктор Адова.
Но ширма стояла совсем близко к двери, и я даже услышал, как доктор Адова очень тихо, сквозь зубы сказала:
— Мальчик ни о чём не догадывается. Подержите его там недельки три. Завтра у меня выходной, и я тоже подключусь к исследованиям…
Ну уж нет! Я своего папу на анализы не отдам! Я вихрем влетел в кабинет, схватил со стола папин паспорт, дёрнул папу за куртку и крикнул:
— Валим отсюда!
Доктор Адова, сообразив, что от неё убегает её диссертация, кинулась было нам наперерез, но я пропихнул папу вперёд, а сам кинулся ей под ноги, роняя ширму и железную рогатую вешалку. Падая, ширма перекрыла путь докторше, а вешалка разбила стеклянную дверку шкафчика, и на доктора Адову посыпались истории болезней её пациентов.
— Куда? — кричала докторша, отбиваясь от сшитых суровыми нитками толстых тетрадей, которые валились ей на голову. — Стоять! Немедленно вернитесь! Охрана! Задержать! Вернуть!
Но мы были уже на улице.
— Ты что? — сказал удивлённо папа. — Сходили, называется, в поликлинику! С ума сошёл?
— А то! — сказал я. — Был бы ты сейчас подопытным хомячком у доктора Адовой и профессора Смыслякова! Они из тебя хотели диссертацию сделать! Революцию в омоложении!
— Может, всё-таки стоило лечь в больницу? Ну, там витаминизация, усиленное питание… — спросил папа.
— Как ты думаешь, какие ткани они хотели взять у тебя на анализ? Может, вот эти? — Я схватил папу за свитер, и мы снова оказались с ним нос к носу.
— Ну ты, — высвободился папа, — ты тоже не наглей. Ну не пойду я в эту больницу, и дальше что? Ты вот знаешь, как меня обратно взрослым сделать?
Я отпустил папин свитер. Я не знал, как сделать папу взрослым. А кто знает? Может быть, экстрасенс знает?
— Может быть, экстрасенс знает? — спросил я у папы. — Ну, ты вчера говорил про какое-то магическое действие фольклора… Если тут действительно магия замешана, то, значит, нужно обратиться к специалисту по магии.
— И где мы его найдём? — спросил с надеждой папа. — Я не то чтобы во всё это верю, но и эту возможность тоже отметать нельзя.
— Где-где, — почесал затылок я. — Ну в Интернете же.
И мы снова поплелись домой, искать в Интернете мага.
В Интернете разных магов было, как грязи на весенних улицах. Бабушки и дедушки, колдуны и ведуньи, шаманы и прорицатели. Все предлагали решение самых разных проблем — семейных, по работе, денежных. Обещали поймать за радужный хвост удачу, отвести глаза завистникам и недоброжелателям.
— Может быть, отвести глаза Склочневой? — предложил я. — Пусть сидит себе на балконе, в облака смотрит…
— Давай лучше посмотрим, какие у них там методы работы, — оборвал меня папа.
— Гадание на картах Таро и кошачьей лапке, — начал-перечислять я.
— Мимо, — вздохнул папа.
— Сканирование ауры и составление карты её повреждений…
— Дальше, — снова вздохнул папа.
— Лечение заговорами?
— Не пойдёт.
— Ударение оземь и трансформация по заданным параметрам…
— Вот же! — крикнул папа. — Трансформация по заданным параметрам! Ищи скорее мою взрослую фотографию! Какие там были у меня параметры?
Рост у папы до превращения в мальчика был 187 сантиметров, вес — что-то около девяноста килограммов, размер обуви — 43, а обхват головы, это он ещё с армии помнил, — 63 сантиметра.
Мы нашли фотографию, сделанную, когда папе было тридцать два года. Его снимали в институте для одного научного каталога. Чтобы выглядеть моложе и, как сказал папа, «международнее», он даже снял свой «бинокль доцента» и изо всех сил старался не щуриться. Мне папа на этой фотографии нравился — в его шевелюре было совсем мало белых «ниточек», и он улыбался немножко, одними уголочками губ, и чуть-чуть прищурился одним глазом от фотовспышки.
Мы взяли папину фотографию и пошли к колдуну по указанному в интернет-рекламе адресу.
— Ты не боишься? — спросил меня папа. — Что-то жутковатой кажется мне эта затея…
— Боюсь, — ответил я, — но не очень. Тебя же ударять оземь будут, не меня.
Дверь нам открыл колдун, назвавший себя Ефимом.
Он был в серой застиранной майке и трикошках, оттянутых на коленках. Во рту у него торчала потухшая беломорина, а на кисти синела татуировка «Север»: восход солнца из-за гор, покрытых шапками снега. Он глянул на нас сверху вниз, хмыкнул и спросил:
— Вам чего, пацаны?
— Мы это… — сказал папа, — оземь удариться хотим. Ну, может быть, ещё вокруг себя обернуться… разок. У вас там написано… про оземь. Трансформация, короче…
— Чего… формация? — спросил колдун Ефим, поскребывая ладонью небритый подбородок.
— Ну, это… Надо вот из меня такого, — и папа приложил ладонь к своей макушке, — сделать вот такого, — и он поднял ладонь вверх, показывая, каким бы ему хотелось стать, и даже при этом ещё привстал на цыпочки. А потом, спохватившись, достал из кармана фотографию взрослого себя.
— Ну, не знаю, — протянул Ефим, теперь почёсывая под застиранной майкой свой тощий живот. — Вообще-то, я с детьми не работаю…
— Очень надо, — сказал папа. — Помогите, пожалуйста.
— А деньги есть? — спросил Ефим, перестав чесаться.
— Конечно-конечно, — заторопился папа, — мы без денег и не пришли бы к вам…
— Пять тысяч, — сказал колдун Ефим.
— Что так много-то? — встрял тут я. — А вдруг не поможет?
— А не поможет, — сказал Ефим, глядя на нас недобро, — повторим. Стойте здесь, сейчас оденусь, и пойдём.
— Куда пойдём? — спросили мы.
— Ну, так это, оземь ударяться. На природе же все оземь ударяются. Где ты в квартире эту оземь-то найдёшь? Деньги давай, — потребовал он, — а то передумаете ещё…
— Только аванс! — возмущённо пискнул папа. — Остальное — по результату! — И протянул колдуну тысячу рублей.
— Обманете, икоту напущу, — пригрозил Ефим. — И ещё ветрянку!
— Мы ветрянкой уже болели, второй раз не прилипнет, — сказал папа, который болел ветрянкой со мной за компанию, когда мне было девять лет, а ему — тридцать шесть.
Мне-то хоть бы что, только зелёнкой измазали, да и всё. А вот на папу было жалко смотреть — он лежал на диване с температурой 37,8 и всё время пытался почесаться, так что приходилось даже иногда бить его по рукам. А мама ещё посмеивалась над нами, называя «зелёно-пятнистыми гепардами».
Через пять минут Ефим вышел из квартиры в тех же майке и трикошках. Только теперь трикошки были заправлены в застиранные чёрные носки, на ногах Ефима были резиновые шлёпанцы, на голове бейсболка с надписью «Old school», а на плечах — коричневый пиджак. В руке он держал рыжую плетёную авоську, в которой лежал гранёный стакан.
— Через жидкость производить будем, — пояснил Ефим. — Самый надёжный способ.
— Куда мы идём? — спросил папа. — А это не опасно?
Папа, наверное, вспомнил свои же наставления о том, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, а уж тем более приходить к ним домой, а затем отправляться с ними на природу ударяться оземь.
Мне тоже стало как-то не по себе. Во-первых, колдун выглядел совсем не по-колдунски. Я бы ещё поверил, если бы у него была борода седая лопатой, как у Льва Толстого. Клюка, допустим, деревянная. Одеяние какое-нибудь чёрное. Во-вторых, действительно, зачем идти куда-то?
Тут вокруг дома оземи этой сколько хочешь. И в-третьих, что-то не верю я в эту магическую затею. Хотя если вспомнить, с чего всё началось… Папа произнёс считалку «Эне, бене, раба, квинтер, финтер, жаба» и — мы даже не заметили как — стал одиннадцатилетним мальчиком. Даже бдительная Склочнева со своего балкона не разглядела, как это произошло. Явно что-то в этой «жабе-рабе» есть потустороннее, но я её со вчерашнего дня уже раз сто произнёс — и тихонько, шёпотом, и про себя, и даже один раз вслух, когда папа утром в ванной умывался. И ничего со мной не произошло. А с папой почему-то произошло.
Ефим шёл впереди, помахивая авоськой со стаканом. Одна пола его коричневого пиджака явно была оттянута сосудом с жидкостью, через которую он, видимо, собирался «произвести» трансформацию папы в папу.
— Сейчас в трамвай сядем, — сказал Ефим, обернувшись к нам, — в лес поедем. Да не бойтесь, пацаны, я ж вас не съем!
Тут папа ещё больше разнервничался:
— Зачем в лес? Какой ещё лес? Ни в какой лес мы не поедем!
Я тоже шёл и думал, зачем идти в лес? Возможно, хотят нас завести куда подальше, деньги отобрать и бросить где-нибудь. И не будет у нас ни денег, ни трансформации, а одно только сплошное заблуждение и разочарование.
— Так в лесу-то, это… — сказал Ефим, — энергетика, сила природная. Чистота, так сказать, и мудрость веков. Тонкие энергии от деревьев передаются. Истину говорю.
— А вот это, смотрите, — показал папа рукой на ближайшую рощу, — это что, не деревья? Тут тонкие энергии не передаются?
— Тут берёзы, тополя, а там — сосны. Хвойные породы — они, это, мощнее. Соображать надо, — и Ефим покрутил пальцем у виска.
— Значит, так, — настаивал папа, — в лес мы не едем. Сейчас прямо вот здесь мы разворачиваемся и уходим. И деньги наши будьте добры вернуть!
— Ну, — вздохнул обречённо колдун в старых трениках, — здесь так здесь…
И мы свернули в рощицу. «Зря, конечно, мы всё это затеяли, — снова подумал я. — Никакой не колдун это, просто пьяница».
— Ты, — ткнул мне пальцем в грудь колдун, — здесь стой. И без комментариев тут! Я сам знаю, что мне делать. А ты, — и он показал пальцем, жёлтым от табака на папу, — вон на то дерево лезь. Но деньги вперёд!
— Зачем на дерево? — спросил папа. Он тоже уже был не рад, что ввязался в эту трансформацию, и руки его теперь дрожали. Папа достал бумажник и вынул оттуда несколько тысячных бумажек.
Однажды мы смотрели с ним фильм про графа Калиостро. «Формула любви» называется, я только сейчас про него вспомнил. Там граф Калиостро тоже проводил опыты по трансформации — превращал по желанию молодого помещика мраморную статую в прекрасную девушку. Статую, правда, в нужный момент подменил своей сообщницей, но так ведь и денег за это не взял. Просто жил себе в усадьбе, пироги трескал и с местным доктором общался.
— Как зачем? — удивился Ефим. — Ты прыгать оттуда будешь, на землю. Ну, ударяться. Залазь туда и сиди, пока я команду не дам. А ты, — снова обратился ко мне колдун, — по сторонам смотри. Как кого подозрительного увидишь, свисти тихонько. А то испортят весь процесс, кто его знает, что из твоего приятеля тогда получится.
Кроме Ефима, подозрительных личностей в округе больше не было. Папа ещё немного посомневался, но на дерево всё-таки полез. Ефим тем временем достал из кармана пиджака бутылку, вынул стакан, протёр его краем майки и налил в него водки.
— Кто как колдует, — пояснил нам Ефим, — а я только через светленькую. Кто-то там с рамочками ходит, со свечечками, а я — только так. Здесь главное что? К ощущениям прислушаться. Если внутри приятные ощущения, то, стало быть, и дело пойдёт. Лезь давай, тюфяк! Чему тебя только в школе учат? — крикнул он, глядя на то, как неумело карабкается папа на ближайшую ветку.
Да уж, папа был совсем не такой ловкий, как человек-паук. Он подпрыгнул, повис на руках и стал смешно закидывать ногу на ветку. Подтянуться у него не получалось, оно и понятно почему. Он даже со мной в футбол не играл, а уж когда последний раз в спортзале был, это и не вспомнить.
— Вот, — говорил он мне, — Мишка, давно пора начинать новую жизнь! А то спина гудит, суставы трещат, шею ломит. А всё сидячий образ жизни! Будешь целыми днями за компьютером сидеть, тоже развалиной станешь!
— Эй, — крикнул Ефим, — долго ты там болтаться будешь?
Вспотевший и красный, взлохмаченный папа наконец взобрался на ветку, которая была всего в полутора метрах от земли. Он лёг на неё животом и обхватил толстый сук руками и ногами.
— Да ты встань, встань! — прикрикивал колдун. — Как же ты с неё прыгать-то будешь?
Но папа только помотал головой и рук не разжал.
— Хрен с тобой, — сдался Ефим, — виси так. На бок свалишься, да и всех делов. Но только по моей команде. А я тут… помедитирую пока.
Он налил себе водки в стакан, поднёс ко рту и опрокинул его кверху донышком. Капля стекла по его небритому подбородку и уползла куда-то под коричневый лацкан, поближе к застиранной майке. Ничего не было в этом магического, даже противно. Просто я раньше никогда не видел, чтобы вот так вот, целыми стаканами пили водку, не морщась и не закусывая. Случалось, что дедушка Серёжа вместе с папой выпивали по стопочке на какой-нибудь большой праздник. Дедушка зажмуривался, тряс головой и подносил к носу кусочек чёрного хлеба, шумно втягивал воздух, а потом клал на этот кусочек розовый ломтик сала. Ефим же управился с целым стаканом без хлеба и сала, только вытер губы рукавом.
— Ну что, — подал голос папа, который уже немного освоился и смог даже оторвать от ветки голову, — долго мне ещё тут висеть?
— Суета, — сказал важно Ефим, — удел заморышей. Кто понял жизнь, тот не торопится. Не скачи вперёд батьки в пекло. Вались давай со своего тополя!
Папа чуточку помедлил и начал, как в замедленной съёмке, крениться набок.
— Стой! — крикнул я. — Лучше прыгни, чтобы на ноги приземлиться! Ты что, забыл, как в детстве с гаражей прыгал? Да не бойся ты! Тут высоты-то… Гаражи выше, чем ветка эта!
— Да я забыл уже, как это делается. — Губы у папы тряслись, а лицо стало совсем белым.
— Ну ты чего? Соберись давай! Какой пример ты подаёшь сыну! — начал я тоже на него покрикивать.
— Какому ещё сыну? — удивлённо приподнял левую бровь уже захмелевший Ефим.
— Это не ваше дело, уважаемый, — пробормотал с ветки папа.
— «Не ваше дело…» — оскорбился колдун. — Конечно, оно же ваше… Только к дядьке Ефиму зачем пришли, а? Трусоватый нынче пацан пошёл, даже с дерева прыгнуть не может, — подытожил он.
— Я не трус! — крикнул папа. — Я прыгну!
— Ага, — сказал Ефим, — а мы подождём, годика три…
— Это не смешно! — возмутился с ветки папа. Он уже уселся на ветке и стал на ней ёрзать, придумывая, как бы ему половчее встать и не потерять равновесия.
— Ну, давай, — подбадривал его с земли я. — Смелее!
— За ногу, что ли, тебя сдёрнуть! — улюлюкал Ефим. — Фуфло! Даже оземь как следует удариться не может, а туда же — большим стать хочет, посмотрите-ка на него!
Обычный мальчишка, когда его разводят «на слабо», как правило, делает то, чего от него добиваются. Вот, к примеру, Серёгин, он ведь не просто так курить пробовал. Там, в туалете, тогда старшеклассники покурить решили, а тут Серёгин зашёл. Они к нему: «Тебе слабо…» А Серёгин говорит: «Не слабо» — и сигаретку взял. Вообще, я думаю, что это не совсем правильно. Как будто ты не сам хотел это сделать, а тебя заставили. Не уверен, что Серёгин сильно покурить захотел, просто не хотел малышом выглядеть перед старшими ребятами. А что бы я сделал на месте Серёгина? Даже не знаю. Честно. Сказал бы: «Встретимся лет через пять на стометровке и посмотрим, кто громче пыхтит»? Или «Извините, не могу, завтра на флюорографию»? В общем, как-нибудь бы да выкрутился, но курить бы не стал. Не люблю, когда заставляют. С родителями и учителями ещё как-то мирюсь, остальные перебьются.
Но тут, раз уж папа залез на дерево, надо было с него как-то спуститься. Хочешь не хочешь, а прыгай. И папа под улюлюканье и презрение колдуна Ефима прыгнул. Не устояв на ногах, папа выбросил вперёд руки и приземлился на ладони. Тут же подскочил, отряхивая свитер и джинсы от приставшего мусора.
— Вот это дело, — одобрительно протянул Ефим. — Ну, иди сюда, трансформатор! Завершим начатое. — И он плеснул в стакан водки на два пальца и протянул его папе. — Или ты и здесь слабак?
Нет, папа мой, когда был взрослым, конечно, употреблял разные такие напитки, но сейчас, несколько уменьшившись, он явно не ожидал такого поворота событий. Выглядел-то он сейчас как одиннадцатилетний мальчик, а в душе, видимо, всё ещё оставался взрослым дяденькой. С дяденькой, если бы он выпил, наверняка не случилось бы ничего страшного. А что бы случилось с мальчиком, страшно даже представить.
— Вы что! В своём уме? — возмутился папа. — Предлагать ребёнку алкоголь!
— Интересные вы всё-таки люди, — тоном человека, чьё достоинство только что оскорбили, начал выговаривать Ефим. — Сами приходите, деньги суёте. Просите — сделай да сделай меня большим. У самих ещё сопли зелёные в носу не высохли, а туда же — во взрослые стремятся!
— Да разве ж так взрослыми становятся?! — воскликнул папа.
— А я, извини, — развёл руками Ефим, — другого способа не знаю. Значит, отказываешься? Твоё здоровье. — И снова поднёс стакан ко рту и опрокинул его кверху дном.
— Деньги отдавайте! Мошенник! — начал кричать папа и подступать к колдуну с кулаками.
— Это видели? — И Ефим скрутил огромную дулю. — Вы сами отказались!
У меня, может, водка особая, нашёптанная.
Может, и сработало бы.
— Ах вы негодяй! — завопил папа и начал наступать на Ефима. — Да как вы смеете! Верните деньги!
Ефим занял оборону, взяв бутылку за горлышко, как гранату. «Мы его не одолеем, — подумал я, — даже если папа своё самбо ещё не совсем забыл». Но папа и не думал отступать. Смелый всё-таки он у меня, хотя и с дерева прыгать боялся.
Но тут из-за кустов появился ещё один мужичок в трениках и пиджаке, надетом на старую тельняшку.
— Фимка! Холера! — заорал мужичок. — Это моя территория! Ты какого рожна сюда припёрся? Колдовать пришел, водку жрешь, еще и детишек втянул, — начал он громко стыдить нашего колдуна.
— Какое твоё дело? Где хочу, там и жру! — переключился на него Ефим. — А эти, — показал он на нас, — детишки напали тут на меня, деньги отобрать хотят! Избить угрожают!
— Что? — задохнулся от злости папа. — Дети на вас напали? Да вы… Да вы… ещё хуже, чем я о вас думал!!!
— Какие у тебя деньги, чтобы их отбирать? У тебя отродясь копейки не водилось, — начал размахивать старой хозяйственной сумкой мужичок. — Ты мне тут мозг-то не пудри! Пошёл вон отсюда!
— Ты, Кузьмич, только лаяться можешь! Взял бы да помог этих мальцов отогнать, а я бы уж с тобой поделился, — начал искать подходы к конкуренту Ефим.
Кузьмич соображал быстро:
— Наказать бы тебя, холеру, за то, что в мой колдовской округ впёрся! Сколько у тебя в кармане есть, не знаю, а половину отдашь! — снова замахнулся сумкой на него Кузьмич.
— Ах вы гады! — стиснул кулаки папа. — Быстро сговорились!
Оба колдуна развернулись в нашу сторону и стали наступать единым фронтом. Один раскручивал над головой сумку как пращу, а другой хряснул бутылку об дерево, и в руке его засверкало опасное, зазубренное, оскольчатое горлышко. Пора было уносить ноги.
— Папка, бежим! — крикнул я, и мы снова дали дёру.
Глава 7 Жизнь кочевая, невесёлая
Перевели мы дух уже в своём дворе. Начинало темнеть, в домах стали зажигаться окна. Мы с папой вспомнили, что, кроме завтрака да мороженого, больше ничего сегодня не ели. Мама, наверное, уже приготовила ужин. Может быть, оборвала телефон, разыскивая меня по друзьям и знакомым. Вот она рассердится, как только я появлюсь на пороге. А папе домой в таком виде совсем нельзя.
Мы сидели на скамейке и молчали.
— Пап, может, пойдём и маме всё расскажем? — начал я.
— Эх, Мишка, ты посмотри на меня, — грустно ответил папа. — Разве я ей такой нужен?
— Ну, даже если таким останешься, всё равно хорошо, — пытался утешить его я. — Будет у меня брат. Мама тебя не выгонит, она же не такая. Может, усыновит. Как-нибудь с ней мы тебя вырастим, воспитаем. В школу будем вместе ходить.
— Ты что, — вздохнул папа ещё тяжелее, — разве могу я, взрослый мужик, сесть женщине на шею? Я ж люблю её.
— И потом, — продолжал я убеждать его, — вторая молодость — это же прекрасный шанс прожить жизнь заново, не повторив ошибок… Все взрослые только об этом и мечтают.
— Ошибок… — снова вздохнул папа, — какой бы была наша жизнь, если бы никто не ошибался? Прямой, наверное, как стрела. Ровной, как шоссе. Предсказуемой. Скучной. А так, смотри, как весело. — И папа вздохнул.
— Да уж, не соскучишься. А ты бы какие ошибки исправил, пап? — спросил я. — Ну так, просто интересно…
— Я бы на твоей маме тогда лет бы на пять пораньше женился. И был бы у меня сейчас совсем взрослый сын. Хотя ты у меня и так молодец. — И он приобнял меня одной рукой.
Мне было очень приятно, что папка вот так притянул меня к своему плечу. Но я поспешил отстраниться, ведь мы были сейчас двумя мальчишками, а мальчишки не обнимаются на лавочках друг с другом.
— Значит, домой не идёшь? — уточнил я.
— Нет, что ты.
— А где ночевать будешь?
— Не знаю, — пожал плечами папа. — Может, скинешь мне с балкона спальник и палатку, да я в Чесоткин на последнем автобусе поеду. Встану там на окраине…
— Ну, тоже придумал, — отмёл я эту мысль. — Есть идея получше.
И мы решили снова использовать легенду о «друге Боре», который недавно переехал в Бредск из Чесоткина и теперь ему надо помочь за каникулы подтянуться по всем предметам.
— А что? — сказал я. — С нашей мамой это сработало, сработает и с другими родителями. Пошли к Женьке Вощину.
Наша легенда работала почти безотказно. Иногда, правда, родители моих друзей спрашивали, что это за способ товарищеской помощи такой — ночной? Но и на этот случай мы заготовили ответ:
— А Борька днём, пока родители на работе, с младшей сестрой сидит. И ещё ремонт делает, какие уж тут могут быть дополнительные занятия.
И родители сразу проникались глубоким доверием к «другу Боре».
— А тебя, Женя, за сестрой в детский сад сходить не допросишься, — выговаривала вощинская мама. — Может, и тебя Боря чему-нибудь научит. Занимайтесь, ребята, а я пойду вам бутерброды приготовлю.
На самом деле днём «друг Боря» вместе со мной занимался другими делами. Мы пробовали разными способами снова сделать папу взрослым. Женька Вощин подсказал, что папе нужно попробовать заняться каким-нибудь мужским видом спорта — единоборством или тяжёлой атлетикой. У нас сейчас как раз период активного роста, и это, по мнению Женьки, должно было помочь. Спортсмены, уверял Вощин, они и ростом выше, и сильнее, и выглядят как настоящие мужики. Папа вспомнил, что в молодости он занимался борьбой самбо, почему бы не тряхнуть стариной? Но секции самбо мы не нашли и решили пойти в боксёрскую секцию. Папа купил нам абонемент, я одолжил ему свои спортивные штаны и кеды, и мы пришли в один клуб. Если не вырастем, решил я, то хотя бы в случае чего сможем разным колдунам отпор дать.
Тренер попросил нас снять майки:
— Ого, какие герои компьютерных боевиков к нам пожаловали, — сказал он с усмешкой, разглядывая наши тощие сутулые фигуры. — Десять кругов по залу — бегом марш!
Я не пропускал в школе уроки физкультуры, хотя и посещал их без особенного энтузиазма, и поэтому пришёл к финишу бодро. А вот папа…
Папа еле чапал по резиновой дорожке, загребая воздух безвольно висящими кистями, дышал со свистом, пот с него лился градом.
— Куришь, что ли? — спросил его тренер, когда папа пробегал мимо.
Папа мотнул головой.
— Смотри у меня, — пригрозил пальцем тренер.
— Смотрю, смотрю, — пролепетал измученный папа, доматывая десятый круг.
— Десять раз отжались, десять раз подтянулись! — снова скомандовал тренер.
Теперь уже мы оба извивались на перекладине, как два червяка. Вот сделаем из папы человека, дал я себе клятву, получу настоящую справку, буду в какую-нибудь секцию ходить. Может быть, и в боксе приживусь.
Потом нас поставили к боксёрской груше и стали показывать простой прямой удар.
— Только со всей дури пока не бейте, — предупредил тренер, — от груши ведь ещё уворачиваться надо уметь. — И ушёл к другим спортсменам.
— Ага, не бейте, — сказал тут папа, — что-то мне кажется, что нужен другой способ. Спорт — это полезно, но долго. Мышцы за три дня не вырастут.
И как даст по груше со всей силы. Груша тут же качнулась и ответила папе мощным ударом. Папа повалился на пол и сказал:
— Будем искать другой выход.
Мой приятель Саня Гусев вспомнил, что вроде бы труд сделал из обезьяны человека.
— А если человек сам себе зарабатывает на жизнь, то и отношение к нему сразу меняется, — сказал Саня.
Сане Гусеву было уже тринадцать лет, он жил с нами на одной лестничной площадке. Прошлым летом Саня работал у старшего брата на автомойке, и сейчас брат снова звал его к себе. Саня говорил, что родители сразу стали относиться к нему, как к взрослому. Ну, будто бы он теперь у них денег не просит и на свои мелкие радости может заработать сам.
— Ты что умеешь делать? — спросил Саня у папы.
— Могу лекции читать. Переводить со старославянского, с английского тоже могу.
— Чего? — спросил Саня, испугавшись слова «старославянский».
— Копать могу, — сказал папа, вспомнив, как копал грядки на даче у бабушки Маши.
— Во, — сказал Гусев, — дело. В соседнем ЖЭУ нужно покрышки в землю вкопать и покрасить, цветочки посадить. Благоустройство территории, верный заработок.
Мы вкопали в разных дворах десятка три покрышек, и нам за это заплатили тысячу рублей.
— Может, подадимся в колдуны? — пошутил я, вспомнив, как легко колдуну Ефиму достались папины деньги.
— С магией я завязал, — сказал папа твёрдо и решительно.
В ЖЭУ нам дали пачку объявлений, которые мы должны были расклеить по всему району. Объявления напоминали жильцам о необходимости вовремя платить за свет и воду. За это нам пообещали ещё тысячу. Объявлений было около двух сотен, пять рублей за одну поклейку.
— Не вздумайте выбросить где-нибудь, — заподозрили нас в нечестности работники ЖЭУ. — Дворник всё равно увидит.
— Надо искать работу высокооплачиваемую, достойную кандидата наук, — сказал папа, вытирая клей о штаны, когда мы приклеивали объявления на подъезды.
И мы пошли продавать газеты, выгуливать чужих собак и раздавать рекламные листовки у супермаркета. На газетах мы заработали две тысячи, на собаках — три, а супермаркет нам заплатил продуктами — выдал кило пряников и пакет сока, решив, что детям и этого достаточно.
Но для нас ведь не в деньгах было счастье! Однако мы трудились целую неделю, а папа нисколечко не изменился и ни на сантиметр не подрос.
— Труд — это хорошо, но, видимо, опять не то. Что мы делаем не так? — спросил папа. — Вообще, существует ли из этой ситуации какой-нибудь другой выход, кроме взросления естественным, так сказать, путём?
— Может быть, это какой-то не тот труд? — предположил я.
— Может быть, — кивнул головой папа. — Конечно, труд любой должен быть в почёте. Но, Мишка, бывает вынужденный труд в не особо приятных обстоятельствах, примерно вот как у нас с тобой, который не приносит ни счастья, ни радости. Боюсь тебя огорчить, но у большинства взрослых так оно и есть — день-деньской трудятся, а радости никакой, одно только материальное вознаграждение, да и то, бывает, не слишком существенное. А есть другой труд, который заставляет человека расти над самим собой, каждый день что-то новое узнавать.
— А ты свою работу любишь, пап?
— Люблю, сынок, но, к сожалению, и этим трудом я заниматься не могу. Потому как не может быть преподаватель моложе своих студентов, причём настолько моложе. А у них сессия, кстати, на носу.
— Тогда, может быть, репетиторство? Это почти то же самое… — сказал я.
— Лето началось, Мишка, кому летом нужны репетиторы..
Ситуация усугублялась тем, что закончились мои друзья, у которых мог бы ночевать папа. Многие одноклассники на каникулы уехали из города — в детские лагеря и к бабушкам в деревни. Мама тоже хотела отправить меня к бабушке Маше в Чесоткин, но я придумывал разные отговорки.
— Что, больше ночевать совсем не у кого? — спросил папа, когда дверь последней гостеприимной квартиры закрылась за его спиной. — Может, остался ещё кто-нибудь?
— Только девочки, — сказал я. — Ну, ты сам понимаешь, почему мы к ним не идём…
— Да-да, это не совсем удобно. Ну, что ж, Михаил, видимо, пришёл час нам расстаться. Уйду в беспризорники, в суворовское училище, попрошусь в детский дом, притворяясь беспамятным, — снова начал грустно фантазировать папа. — Вырасту, приду к тебе взрослым человеком, отцом. Ты уж сам к тому времени взрослым будешь, может, и не узнаешь меня… — В голосе у папы сквозила горечь, а глаза смотрели совсем по-взрослому, как у Того, прежнего, большого, папы. — Но чудес, видимо, два раза не бывает.
В груди у меня похолодело. Сердце моё было готово выскочить из груди, выпасть на асфальт и разбиться на мелкие стеклянные брызги. Папка, мой родной, любимый папка, прощался сейчас со мной навсегда! И уходит он не потому, что они с мамой разлюбили друг друга, не из-за того, что я был каким-то плохим сыном, а из-за ерунды — несчастной считалки на тарабарском языке! В семье Вощиных, судя по рассказам Женьки, когда его родители расходились, всё было не так. Они сначала долго ругались, молчали по разным комнатам, каждый пытался убедить Женьку в том, какой он хороший, а тот, другой родитель, плохой. Был суд, на котором родители, делили его, как какой-нибудь диван, а Женька сидел в зале, морщил нос, чтобы не брызнули слёзы, и страдал от того, что они не хотят любить его оба сразу, вместе.
Но в нашей-то семье всё было хорошо! Я не понимал, почему папа должен уйти от нас. Мы прекрасно проживём втроём, даже если папа побудет некоторое время маленьким мальчиком. Пусть он не водил меня в кино и не забил со мной ни одного гвоздя! Да чепуха всё это! Зато мы теперь много разговариваем по душам и прекрасно понимаем друг друга. Да это теперь мой лучший друг из всех, почти брат, хотя о брате я даже и не мечтал. Вот только мама… Мама к тому времени, когда он вырастет, станет совсем старой, вот что грустно.
— Пап, — сказал я, проглотив комок в горле, — подожди уходить скитаться. Это ты теперь всегда успеешь. Раз так решил, то, конечно, уйдёшь. Давай завтра расстанемся, а сегодня ещё вместе побудем.
— Ты будешь ночевать со мной на улице? — спросил папа. — Ни в коем случае. Это опасно и вредно для здоровья. Как стемнеет, отправляйся домой. И всё-таки скинь мне спальник и палатку. Ну и продуктов каких-нибудь, спичек…
— Нет, пап, я знаю ещё одно место, где мы можем сегодня переночевать.
— Вместе? И где же?
Глава 8 Метод дедушки Сим Симыча
Не все девчонки — ябеды и воображалы. С некоторыми можно даже дружить. Есть даже такие, которым можно доверить свои мужские секреты. Они не побегут плакаться маме, если случайно их толкнуть. Это такие девчонки, такие… их даже за косу дёрнуть рука не поднимается.
Когда я первый раз решил дёрнуть Марусю за косу (а коса у неё была выдающаяся: толстая, длинная, золотистая), она обернулась, посмотрела строго и сказала:
— Даже не пробуй.
— А то что? — спросил я.
— Увидишь, — прошипела Маруся и перекинула косу себе на грудь.
Маруськина коса целых три года висела перед моим носом, как батон. Она сидела в классе прямо передо мной. Иногда хотелось её косу даже цапнуть зубами. Но я себя сдерживал, вспоминая сердитое Маруськино шипение. Другая начала бы верещать, учительнице жаловаться, а Маруся так посмотрела, что мне сразу расхотелось делать с её косой какие-либо гадости. Ну, вы ведь знаете, что девчонку можно бантом к спинке стула привязать. Или просто бант выдернуть, чтобы коса растрепалась, и не отдавать, только если сильно распищится.
В четвёртом классе все девчонки начали стричься. Я глядел на Марусин золотой батон и про себя молил, чтобы она не остригла волосы. Пусть хоть все налысо обреются, мне дела до них нет. А коса будет такая одна. Мне кажется, для девчонки носить косу — это всё равно что дома иметь исправный патефон с запасом иголок. У дедушки Серёжи есть такой. Вот, казалось бы, тоже мне музыка. Да я любую могу в плеер закачать. Но, когда я приезжаю, дедушка ставит новую иголку и мы слушаем «Рио-Риту», «В бананово-лимонном Сингапуре», «Мери едет в небеса». За шипением и треском словно существует какая-то волшебная сказка, которая хочет к тебе прорваться, но не может.
Девчонка, которая ходит с косой, когда все другие носят короткие стрижки, — это особенная девчонка, думал я про Марусю. Я написал ей записку и предложил дружить. Если разболтает, решил я, значит, никакая она не особенная, такая же, как все. Но Маруся никому не сказала, а на перемене подошла и произнесла:
— Давай.
Потом она задрала рукав школьной формы и показала едва затянувшуюся ссадину на локте:
— Это я в деревне была, с дерева упала. Только ты никому.
А я в ответ показал шрам на ладони, которую проткнул проволокой прошлым летом. Так мы побратались с Марусей и стали друзьями.
На каникулы Маруся Орликова уезжала в деревню к дедушке Максиму Максимовичу. Но все звали его Сим Симычем. Один раз мы ездили в деревню к Сим Симычу всем классом, отмечать день рождения Маруси. Сим Симыч разрешил нам околачивать яблони, мы пекли в костре картошку, а потом Марусин дедушка вынес из дома баян и долго играл нам разные песни, весёлые и грустные. Ни у кого не было такого дня рождения, и все немножко завидовали Марусе.
Ехать в деревню Чудово нужно было на электричке. Мимо станции Чудово ходили и большие пассажирские составы, поэтому с неё очень удобно было отправить в скитания папу — в любую сторону можно уехать. Сим Симыч — добрый, у него можно и несколько дней погостить, оттягивая горький миг нашего с папой расставания.
Я хорошо помнил светлую веранду в доме Сим Симыча, вкусно пахнущую деревянной стружкой, столярным лаком и полынью, которой Симыч на лето перекладывал валенки, чтобы их не ела моль. Попросимся пожить у него на веранде, будем ему огород копать, мы на покрышках здорово натренировались.
У Симыча там рыбалка, грибы, собака есть, поросёночек в сарае. Когда Маруся в городе, он там совсем один живёт. Может, и разрешит нашему папе навсегда у него остаться.
Пока мама была на работе, мы прокрались домой, как два злоумышленника, и собрали папе рюкзак, Я дал ему ещё пару футболок и шорты — начиналось настоящее лето, и в джинсах и свитере становилось жарковато. Написал маме записку о том, что я уехал в Чудово к Орликовым. На самом деле, я даже подумывал о том, не уйти ли мне скитаться вместе с папой. Папу было жалко, но бросать маму тоже было жалко, и я не мог решить, кого из них мне больше жалко. Обоих было жалко одинаково. Папа взял документы, нашу семейную фотографию. Обошёл всю квартиру, окинул её грустным взглядом:
— Присядем, Мишка, на дорожку!
В электричке мы молчали. А ну как Симыч не примет незваных гостей? Папа грустил. Тяжко на душе было и у меня.
Когда мы подходили к дому, из калитки выскочила чудесная собака Симыча — хаски по имени Туман. Глаза у него были голубые-голубые. Туман узнал меня и не стал лаять, а, наоборот, носом открыл калитку, приглашая войти.
Симыч сидел на крыльце и строгал ножиком новый чубук для трубки. На его коленях были меленькие розоватые стружки.
— Вот так сюрприз! — удивился он. — Не успели каникулы начаться, а у нас уже гости. Мишка, знакомь с приятелем! Марусенька, корми гостей с дороги!
Уже через пять минут Симыч сапогом раздувал во дворе блестящий самовар, а Маруся несла из дома булку белого хлеба и банку с густым прошлогодним мёдом.
— Ну а всё-таки, — сказал вдруг, хитро прищурившись, Симыч, когда мы немного размякли от чая и от беседы, — вы же не просто так сюда приехали, а по делу. Говорите, по какому.
— Да какое дело, Сим Симыч, — начал отнекиваться я, — просто так приехали, безо всяких дел. Каникулы ведь. Воздухом хотим подышать, на рыбалку сходить…
— Мишка, — снова хитро сказал Симыч, — не люблю врунов, ты же не из таких, верно?
— Ну… — замялся я, — есть тут действительно одно дело. Но вы всё равно не поверите, Сим Симыч, такое оно необычное, это дело!
— Поверю, Мишка, даже в самые необычные дела поверю. Вы ж, неслухи, из дома бежать надумали! Отвечайте, чудики, а то сам вот этими руками возьму, — Симыч показал нам две свои тяжёлые и широкие, задубевшие от работы с землёй и деревом, ладони, — и в город отвезу.
Мы с папой переглянулись. Ну, такой он, Сим Симыч, насквозь людей видит.
— Мишка, — сказала тут Маруся, — рассказывай уже, дедушка обязательно что-нибудь придумает.
И тут нас с папой словно прорвало: мы стали наперебой рассказывать про жабу-рабу, превратившую папу в одиннадцатилетнего мальчика. О том, что мы никак не можем рассказать об этом маме. О том, что мы перепробовали для того, чтобы папа снова стал взрослым человеком. Ничего-то у нас не получилось, и теперь, если Симыч нас выгонит, нам придётся с ним расстаться на веки вечные, потому что папа не может быть иждивенцем в собственной семье. А маме напишет, что уехал в командировку в Монголию и решил оттуда не возвращаться. А если Симыч позволит, то папа тут у него поживёт несколько дней.
Симыч слушал, задумчиво покуривая трубочку с новым вишнёвым чубуком, поглаживая свою короткую седую бородку. Мы думали, он не поверит. Или смеяться будет. Но Симыч поверил и ни разу не усмехнулся.
— Серьёзное дело, Мишка, — сказал он, когда мы закончили, — а ты говорить не хотел. Ты, Борис, как тебя там, Сергеевич, спрашиваешь, чего же вы не так делали. А я объясню. Вы, потому как детишки, взрослость немного неправильно понимали.
— Максим Максимович, ну как же неправильно? — возразил папа. — Что же, я не знаю, как себя взрослые люди ведут? Я ж был взрослым вот только что, буквально неделю назад. Ещё вроде бы не забыл.
— А мошеннику тоже взрослый человек деньги отдал? — мягко оборвал его Симыч.
— Ну, так это… попали в ловко расставленные сети. Ошибка, с кем не бывает! — воскликнул папа.
— А от жены чего же тогда прячешься? Ты же ничего такого ужасного не натворил, чтобы по углам бегать.
— Да вроде нет. Боюсь я ей сказать. Крику ведь будет, слёз…
— Перво-наперво, Борис Сергеевич, усвой: взрослый человек правду говорит и от проблем не бегает.
— Так и я же не бегаю, я её решить пытаюсь! — горячо возразил папа.
— Так она не с той стороны решается! — усмехнулся Симыч.
— Да с какой же?
— Вот что, братцы, — сказал Марусин дедушка, — сегодня у меня переночуете, вечерком ещё всё обговорим, а завтра утром посажу вас на электричку и поедете: ты — домой к матери, а ты — к жене.
— Но я… — снова начал пререкаться папа.
— Без «но», — сказал Симыч, — лошади не держу.
Утром Симыч разбудил нас рано, напоил чаем и надел на папу рюкзак. Встряхнул его за лямки и строго посмотрел в глаза:
— Запомни, Борис Сергеевич, настоящий мужчина — он и в одиннадцать лет настоящий мужчина. В доме он хозяин, с супругою он джентльмен, а детям своим — лучший друг. Последнее, я смотрю, у тебя теперь очень хорошо получается. Ну, с богом! — и Симыч повёл нас на станцию.
На обратном пути в электричке мы с папой опять молчали, но не было уже в нашем молчании той безнадёжности, которая мучила нас по дороге в Чудово. Папка мой как-то даже посветлел лицом, да и я повеселел. Всё-таки не может ошибаться такой хороший и умный человек, как Сим Симыч. Всё-таки есть шанс, есть надежда нам с папой и мамой остаться вместе.
— Миша!!! Это как вообще понимать? Какое ещё Чудово? Какие Орликовы? Уехал, какой-то клочок бумаги матери оставил! Телефон отключил! — начала ругаться мама, как только мы появились на пороге. — Я тут с ума схожу! По стенам уже бегаю, места не нахожу! Заходи, сейчас немедленно встанешь в угол!!! Ой, извини, Борис, — мама только заметила папу, — но сейчас лучше иди домой. Миша, дома будешь сидеть под замком, и никаких друзей!
— Мам, — робко я попытался вклиниться, — Боря — он мне не друг…
— Ну тем более. Раз уже не друг, пусть домой отправляется!
— Ну, то есть друг, но не только…
— А кто ещё? — вскинула брови домиком мама.
— Он мне ещё и отец, — сказал я, а папа вздохнул и развёл руками.
— Что?!!! Миш, ты чего? Он же в Монголии у нас, в командировке. Сообщения от него каждый день приходят, всё нормально, пишет… — Мама выглядела растерянно. — Миш, с тобой всё в порядке? Ты здоров? Сам подумай, как этот мальчик твоим отцом может быть?
— Может, — сказал папа.
— Может, — кивнул я. — Сам бы не поверил, но лично присутствовал и во всём участвовал.
— Ничего не понимаю, — пробормотала мама. — Где присутствовал? В чём участвовал?
— В превращении папы вот в него… вот в такого… молодого.
— В каком-таком превращении?
— Да мы сами не знаем, как это всё получилось, — подал наконец голос папа. — Помнишь ту тетрадку, куда я игры для Мишки записывал? Я только поиграть с ними хотел, а там считалка одна, эне-бене-раба… А она — бац! — и сработала.
— Мы смотрим, — подхватил я, — вместо папы уже какой-то мальчик сидит.
— Мальчик? — Мама отказывалась верить в наш рассказ.
— Мальчик, — хором ответили мы.
— Мишенька, там… — мама побледнела, приложила руку к груди и стала оседать вниз по стенке, — в сумочке таблетки… такие… принеси.
Я поскакал в кухню и вернулся с маминой дамской сумочкой в руках. А папа взял маму под локоть и повёл к дивану.
— Боря, — спросил она слабым голосом, — это правда ты? Вы меня не разыгрываете?
Папа кивнул головой, мол, я это, укрывая маму пледом. Я дал маме таблетку, принёс ей стакан воды. Мама немного отдышалась, пришла в себя и сказала:
— Даже если это и так, — произнесла она слабым голосом, — я всё равно требую доказательств.
Папа достал из кармана обручальное кольцо.
— Это и Мишка тебе дать мог.
Папа показал ей паспорт.
— Да Борис дома его бросает где попало.
Папа подумал и достал из шкафа альбом со старыми фотографиями. Нашёл одну свою, где ему было лет двенадцать, и показал её маме, усевшись на пол рядом с диваном.
— Посмотри, Наташенька. Ну это же я, только маленький. Видишь?
Мама заплакала, прижала к себе папину голову и сказала:
— Борька-Борька, что же это за ерунда такая? Как тебя так угораздило? Как же мы жить-то теперь будем?
— Да нормально будем мы жить, — сказал я. — Как люди.
Мама поцеловала папу в макушку и сказала:
— А что ещё нам остаётся?
В этот же день папа, как смог, починил табуретку и ввернул недостающие лампочки. Позвонил декану, попросил отпуск. Извинился за прогулы. Сбегал в магазин за цветами. Вымыл посуду после ужина. Ночевал он снова в моей комнате, на этот раз спальник я ему уступил. Мы немного пошушукались и запланировали на следующее лето большой семейный поход в горы. Папа обещал научить рубить дрова и разводить костёр одной спичкой. Ну и про гвозди, само собой, разговор тоже был.
Утром мама взяла отгул, и мы всей семьёй, чего уже года три не случалось, пошли в кино. В кино я видел, как в темноте папа украдкой поцеловал маме руку. Мама смутилась, улыбнулась и закрыла улыбку рукою. Когда мы шли обратно, папа держал маму за руку. Со стороны это выглядело так, как будто не очень маленький мальчик никак не может оторваться от мамочки. Но я-то знал, я видел, что за руку её ведёт вполне взрослый мужчина.
Я подошёл к нему с другого бока, дёрнул за рубашку и сказал:
— Да ты никак растёшь, старик. Точно, растёшь.
И показал ему большой палец.
Глава 9 О жизни двух мужчин в дикой природе
1 сентября вместе со мной на школьную линейку пошёл мой папа — мой настоящий взрослый папа. Он мог бы, конечно, и не ходить: всё-таки пятый класс — это вам не первый, но я так захотел. Я хотел, чтобы все мои друзья, которые были свидетелями того странного папиного превращения на моём дне рождения, увидели, что мой папа снова стал таким, каким был — большим, серьёзным, высоким, а не тем испуганным бестолковым мальчишкой, каким они видели его перед самыми каникулами. Что у нас снова всё нормально. Что мы стали сильно походить друг на друга за это лето — оба худые и загорелые и очень вытянулись: я на полголовы, а папа так вырос, получается, на целую жизнь. И я как будто прожил эту жизнь вместе с папой. Он мне так однажды и сказал:
— Мишка, ты даже не представляешь, какой шанс тебе выпал…
— Какой, пап?
— Да твой родитель проживает добрую часть своей жизни у тебя на глазах! Вчера он был мальчиком, сегодня — вьюноша, а завтра — молодой мужчина в полном расцвете сил! Ну скажи, кто-нибудь может похвастаться тем, что видел своего отца молодым?
— Да разве этим похвастаешься, пап… Никто же не поверит, если расскажешь.
А вообще, каникулы у нас получились прямо-таки выдающиеся. Нет, сначала мы никуда не собирались. После того как папа наконец собрался с духом и объяснился с мамой, мы решили никуда больше не сбегать и отсидеться дома. Папа, конечно, порывался уехать куда-нибудь — хотя бы к Симычу в Чудово, но мама сказала, что ей спокойнее, когда мы все дома.
Когда папа перечинил все табуретки в доме и все мои игрушки, он даже решил затеять ремонт — мол, давно не делали, на работу ему ходить не надо, так хоть какая-нибудь будет от него польза.
Но мама и этот замысел пресекла:
— Вот ещё! По официальной версии, наш папа гостит в Чесоткине у своих родителей и помогает им перестраивать дачный домик. А к нам приехал на каникулы мой племянник Борис, сын моей сестры Ольги, если кто спросит. Соседи ещё решат, чего доброго, что я решила детей поэксплуатировать в их законные каникулы. Кстати, тебя тут Склочнева похвалила, сказала: «Ваш племянник вроде Мишкин ровесник, а так ведёт себя по-взрослому, вежливый такой, по хозяйству помогает и сломя голову, как Мишка, не мчится, не разбирая дороги. Так посмотришь — вроде мальчишка… А послушаешь — рассуждает как взрослый».
Да, — тут мама немножко призадумалась, — странное дело: Борь, когда ты прежним был, у меня частенько такое ощущение бывало, что будто у меня не один ребёнок, а два.
А сейчас — как будто вы оба у меня скоро в старичков превратитесь — всё сидите, думу думаете, какое-нибудь дело делаете…
— Когда это я вёл себя, как ребёнок? — всполошился папа.
— Как когда? Да почти всегда! За полночь тебя от компьютера отгони, утром тебя разбуди, галстучек тебе найди, а ты ещё бегаешь и кричишь: «Где моя флэшка? Где мой титульный лист?»
— Ну ладно, ладно… — смутился папа. — Важная конференция тогда была, межвузовская.
Соседка Склочнева чуть нас с папой не рассекретила. Однажды мы с мамой столкнулись с ней в магазине.
— Что-то ваш племянник, Наталья Ивановна, как-то чересчур уж заметно в рост пошёл… — сказала Склочнева, взяв маму за рукав курточки.
— Так кормлю я его хорошо, Ираида Варсонофьевна! — мама попыталась отшутиться. — Вон продуктов набрали сколько! У Борьки, видимо, какая-то ускоренная акселерация началась, самый возраст!
— Какая-то она слишком ускоренная, — подозрительно прищурилась Склочнева. — Ещё вчера брючины гармошкой над ботинками складывались, а вчера гляжу — тю! — уже носки видать наполовину. И усишки пробиваются, не рановато ли? У Мишки вон на усы и намёка ещё нет…
Я почесал пальцем верхнюю губу — действительно, даже пушка ещё нет, а у папы уже над губой потемнело.
— Ой, Ираида Варсонофьевна, да это он в своих родителей такой ранний! — засмеялась мама.
— А ведь это не шутка, — сказала мама, когда мы вышли из поля зрения соседки, — заметила Склочнева, значит, заметят и другие. А вдруг он как в рост у нас сейчас пойдёт да начнёт в день по году прибавлять… Даже не знаю, что и делать. Может, вас куда-нибудь отправить на лето? А куда? К бабушке нельзя, в загородный лагерь тоже, у тёти Оли места для вас двоих нет…
— Может, всё-таки к Симычу? — спросил я дома в надежде, что нас уже вполне законно отправят к нему в Чудово, и я — целое лето! — буду жить под одной крышей с Марусей Орликовой…
— Ну нет, — возразила мама, — он пожилой человек, да вы его замучаете! Там связь плохая, я здесь измучаюсь! Нет, к тому же это неудобно — навязывать малознакомым людям свои проблемы…
— А я бы поехал, — сказал вдруг папа, — может, на баяне научился бы играть…
— Борь, ну придумай что-нибудь, — попросила мама, — ты же умный у меня.
— А мы с Мишкой в экспедицию поедем на всё лето, под видом трудных подростков, — ответил папа.
— В какую ещё экспедицию? — ещё больше заволновалась мама.
— А помнишь Джунгарова и Шишкина?
— Это с истфака которые? Один бородатый такой, а другой хохмач ещё страшный…
— Обижаешь, мать! — обиделся за своих друзей папа. — Один — доцент, хохмач уже профессор. Всё лето будут копать на Заячьей Заимке курганы сакских скифов…
И тут я навострил свои уши — это вам не скелетик динозавра из коробочки выковыривать! Это настоящие раскопки, а там тебе и стрелы могут быть, и луки, и, возможно, даже самое настоящее скифское золото! Целое лето на раскопках вместе с отцом! Да это же мечта, а не каникулы!
— Мамочка, ну пожалуйста! Ну, отпусти нас! Ну, миленькая. — Я обхватил её руками за плечи, как, наверное, уже лет сто не обнимал, и стал начмокивать её в макушку, вкусно пахнущую духами и шампунем.
— Но почему под видом трудных подростков? — недоумевала мама.
— Не знаю, как сейчас, — ответил папа, — но раньше была такая практика — отправлять на раскопки вместе со студентами ещё и трудных подростков. Ты знаешь, действенная была мера — к концу сезона уже совсем другие люди.
— Ты ездил на раскопки? — Тут уже удивился я. — И ничего об этом не рассказывал? Ну, папка…
— Да всего-то пару раз и съездил, ещё студентом, за компанию с Джунгаровым и Шишкиным. А потом работать начал, женился, кандидатская, ты родился — так и ушла эта романтика из моей жизни. Ну так что, дорогая, отпускаешь нас?
Мама не очень уверенно кивнула и сказала:
— Но за Мишку ты отвечаешь головой! И не дай бог с вами опять приключится какая-нибудь жаба-раба!
А папа подмигнул мне и сказал:
— Зуб даю.
— Голову, Боря, голову.
Джунгаров и Шишкин выслушали нас с папой, когда мы заявились к ним в институт, внимательно, но скептически. Сначала они, конечно, в моём нынешнем папе своего друга не узнавали, но он им столько интересного напомнил из их прошлой жизни: кто с какой девушкой встречался и кто в какой общаге куролесил, что потом признали.
Я даже ушам своим поверить не мог: неужели мой папа вместе с этими двумя дядьками, один из которых уже профессор, кричал в форточку «Халява, приди»?
В экспедиции в первый же день я копнул лопатой, и из-под неё вывалилась какая-то весьма ржавая железячка. Я взял её в руки, сдул землю — нет, не стрела — и уже хотел выбросить её в отвал, как меня за руку схватил профессор Шишкин:
— Михаил, дай-ка посмотреть!
Я протянул ему эту страшненькую штуковинку, и Шишкин тут же побежал к доценту Джунгарову.
— А он у тебя везунчик! — крикнул тут папе Джунгаров. — В первый же день, и такая удача! Тебе, Мишка, нужно к нам на истфак, на филфак, как отец, не ходи!
Железячка оказалась обломком скифского ножа, и начальник экспедиции Шишкин выдал нам с папой премию двумя банками сгущёнки за первую находку.
В экспедиции у папы действительно началась ускоренная акселерация, и он стал прибавлять по году в день. Усы у него виднелись вполне уже настоящие, и он даже бриться начал.
— Так, сколько мне сегодня? — смеялся папа, когда утром подходил к зеркальцу, прикреплённому на доске над походным умывальником. — Видимо, уже шестнадцать.
Руки и ноги у него вытягивались, будто заколдованные, аппетит проснулся зверский.
— Борис, мы тебя так не прокормим, — шутил Джунгаров, когда вечером после работы папа накладывал себе третью тарелку пшённой каши с тушёнкой.
— Пусть кушает, тебе что, жалко? — говорил Шишкин. — У него сейчас всё, как у подростка. Голос ломался? Ломался.
Усы выросли? Выросли. Зря бреется только — у археологов примета такая: до конца раскопок не бриться, а то находок не будет.
— Сын у него зато вон какой «находчивый» — что ни черепок, то Мишка нашёл, — сказал Джунгаров.
— Зато золото не нашёл, — хмыкнул я.
— Ну, золото… — сказал Джунгаров, — это вообще редкая находка. Ведь практически все курганы когда-то кем-то были разграблены. Даже в черепке великая научная ценность может быть. Мы, когда находки будем в музей передавать, обязательно подпишем, что это ты нашёл.
— А я вообще не историк, — сказал папа, — поэтому могу и побриться.
— Да уж, наводи красоту, подросток. Одевать вот только тебя не во что.
И вправду, папка у меня ходил, как оборванец. Из моей одежды, которую мы взяли из дома, он уже вырос. Мы предусмотрительно захватили ещё и несколько папиных футболок и спортивных штанов, но до них он ещё не дорос. Хоть и выглядел папа оборванцем, но это был счастливый оборванец — он превращался во взрослого человека, и у него всё получалось.
Папка колол дрова, варил на костре борщ, когда приходила наша очередь дежурить, штопал одежду, а когда мы ходили купаться, то делал в воздухе сальто, когда его подкидывали Шишкин и Джунгаров. А ещё у костра папа играл на гитаре и пел разные песни, которых я не знал.
— И откуда ты всё это умеешь? — изумлялся я, когда мне открывался какой-нибудь папин талант. — Почему раньше я этого не знал?
— Ну, сам посуди, Мишка, много ли нужно дров в нашей двухкомнатной квартире в центре города? — отшучивался папа. — Многие мужские навыки в современном мире просто отмирают за ненадобностью. И только в дикой природе они снова расцветают во всей красе.
— Тогда нам нужно чаще выбираться в дикую природу, — сказал я. — Рыбалка там или поход.
— А у меня одноклассник бывший егерем в заказнике работает. Хочешь, к нему следующим летом поедем? Уж там природа самая что ни на есть дичайшая.
— А маму возьмём?
— Если только она сама захочет.
Однажды папа написал маме романтическое письмо в стихах, и мы пошли за семь километров в ближайшую деревню на почту, чтобы его отправить. Через пять дней, когда наступили выходные, к нам примчалась соскучившаяся мама с пирожками и блинами, отбивными и конфетами для меня. Шишкин объявил по экспедиции великий праздник и выдал всем по банке сгущёнки.
Когда мы пировали вечером у костра, мама спросила у папы:
— Борь, как ты думаешь, а сколько тебе сейчас уже лет?
— Лет двадцать, наверное, — пожал плечами папа.
— Значит, уже совершеннолетний? — спросила вдруг мама. — И целоваться уже можно?
И глаза у мамы вдруг так озорно заблестели, что мне показалось, что и маме сейчас не больше двадцати лет.
— А ведь мы с тобой лет в двадцать и познакомились, — сказал папа, — курсе на третьем.
— А ведь это я вас познакомил, — сказал вдруг Шишкин.
— Нет, я, — встрял Джунгаров.
— Да оба, чего вы! — сказал папа. — Кто придумал девчонок на День археолога пригласить?
— Другими словами, Михаил, — сказал Джунгаров, — знакомство твоих родителей примерно в такой обстановке и происходило. — Эх, Борис, смотрим мы на тебя с Шишкиным и завидуем… Ведь и мы с ним когда-то такими были. Вот ты в таком своём… образе появился, и у нас как будто по двадцать с лишним лет долой.
Папа засмеялся.
— Эх, понять бы ещё, как работает механизм этой жабы-рабы… — тут мы с мамой испуганно переглянулись, но на этот раз с папой ничего не произошло, — я, возможно, сделал бы революцию в прикладной лингвистике и во всём этом детском городском фольклоре. Может быть, докторскую бы написал или машину времени изобрёл… — Вид у папы стал мечтательный-премечтательный.
— И чего её изобретать? — проворчал тут профессор Шишкин. — Это тебе что? — он махнул рукой в сторону курганов. — Разве не машина времени? Самое настоящее время, только застывшее, в руках здесь держим…
— Шишкин, вот ты как профессор скажи, что это со мной такое произошло? — спросил его папа.
Шишкин пожал плечами и пошурудил палочкой в костре — полетели в небо маленькие искорки.
Через неделю мы с папой, с моим уже окончательно и бесповоротно взрослым тридцативосьмилетним папой, свернули палатку и уложили вещи в рюкзаки, потому что до первого сентября оставалось всего несколько дней и мы договорились, что папа придёт со мной на школьную линейку. Я его больше не стеснялся.
Вместо эпилога Из тетрадки Мишкиного папы
Из той папиной тетрадки сохранилось только несколько листочков — остальное потерялось. Может быть, когда убегали из поликлиники, но, скорее всего, когда папа с тополя свалился — очень просто тетрадка могла из кармана выпасть.
А знаешь ли ты игры, в которые играли твои родители, когда были маленькими? Играли они наверняка и в «Штандр», и в «Двенадцать палочек», «Колечко, выйди на крылечко» и «Выше ноги от земли». Может, и в другие игры. Поговори с ними, расспроси, вдруг они расскажут тебе что-нибудь интересное.
«Колечко»
В эту игру у нас во дворе играли девчонки. Ну и мальчишки иногда тоже. Выйдешь во двор, а твои приятели все куда-то запропастились. Скучно, потому и садишься вместе с девчонками на скамейку, складываешь ладошки ковшиком и ждёшь, когда вода положит в них «колечко». Пустяк вроде, но, знаешь, сердце немного замирает, когда вода старается незаметно передать тебе камешек, или щепочку, или монетку, которая сегодня играет роль «колечка». Замирает от того, что сейчас тебе нужно очень быстро вскочить с места — так быстро, чтобы тебя не поймала ни одна рука, не зацепила за рукав или штанину. А поймают, тебе тогда водить, передавать незаметно «колечко» девочке, которая тебе очень нравится. Ах да, вода, когда обойдёт всех, должен крикнуть: «Колечко-колечко, выйди на крылечко!» И уже тогда беги!
«Краски»
Знаешь, Мишка, многие игры в моём детстве были связаны с беготнёй. Как мы могли столько бегать, я сейчас даже и представить себе не могу! Бегаешь-бегаешь, кружишь-кружишь по своему двору и по соседним, и не кончается в тебе этот непонятный, бегучий, прыгучий, пружинный завод. Вот как, Мишка, мы играли в «Краски». Считались и выбирали «продавца» и «чёрта», а все остальные становились «красками». Каждая «краска» загадывала свой цвет и на ушко говорила его «продавцу». Потом все усаживались на скамейку, и к нам приходил «чёрт». «Чёрт» говорил: «Топ-топ ножкой! Кто там под окошком? Это я, чёрт с рогами, с горячими пирогами!» «Покупатель» ему отвечал: «Зачем пришёл?» — «За краской?» — «За какой?» И «чёрт» называл цвет краски. Если такой «краски» среди нас не было, то «чёрта» заставляли выполнить какое-нибудь наше желание — прыгнуть на одной ножке, кукарекнуть или стишок рассказать. Ну а если такая «краска» была среди нас, то покупатель начинал торговаться: «С тебя, чёрт, столько-то горячих!» «Горячими» называли сильные удары ладонью по ладони «чёрта». И обычно «горячих» брали столько, сколько «краске» было лет. Пока «чёрт» расплачивался, «краске» нужно было убежать. Когда «краска» бежала, все кричали ей: «Красочка, в коробочку!» Не догонит «чёрт» «краску», снова придёт ещё одну покупать. Когда приходил «чёрт» за «красками», я придумывал себе зелёный или красный цвет и очень хотел, чтобы выбрали именно меня. Уж я бы убежал, никакой чёрт не догонит!
«Штандр»
Это игра совсем простая, Мишка. Все вставали в круг, вода брал мяч, подкидывал его в самые небеса и, пока подкидывал, говорил: «Штандр-штандр-штандарёнок, невоспитанный ребёнок, это… Борька!» И все разбегались. А мне надо было поймать мяч. Я ловил его и кричал всем: «Замри!» А потом смотрел, до кого быстрее можно добраться, и сообщал: «До Ани — десять „гигантов“», гигантских шагов то есть. И шагал к Ане, касался её мячом, и она становилась ведущей. А что означает слово «штандр», я и не знаю, представляешь?
«Двенадцать палочек»
Эта игра — почти прятки, но только лучше, интереснее. И тоже с беготнёй. Для неё нужна доска и двенадцать примерно одинаковых палочек. Доску кладут на камень, как качели. На один её конец, который лежит на земле, укладывали палочки. Один из нас старался «разбить» на совесть — ударить по другому концу доски так, чтобы палочки посильнее разлетелись. Пока вода собирал их и снова укладывал на доску, мы должны были разбежаться и спрятаться. Если кого-то находили первым, он должен был добежать до доски раньше воды и снова «разбить» палочки. А если не успевал, то сам становился водящим.
«Кис-брысь-мяу»
О, Мишка, это очень интересная игра. Можно сказать, про любовь. В ней надо было иногда целоваться и уединяться, и поэтому девчонки, решив в неё поиграть, ходили за нами по двору и уговаривали — нужно, чтобы мальчиков и девочек в ней было поровну. И знаешь, мы были не очень-то против. Благодаря этой игре можно было узнать, какой же девочке ты нравишься на самом деле. Мы считались и выбирали ведущего, который выбирал себе пару противоположного пола. Ведущий и «пара» вставали спиной друг к другу: ведущий — лицом к нам, а «пара» нас не видела. Ведущий показывал глазами или незаметно пальцем на кого-нибудь из нас и спрашивал: «Кис?» Если «пара» отвечала ему «Брысь», вода продолжал задавать свой вопрос. Если «пара» отвечала ему «Мяу», то вода спрашивал: «Какой цвет?» «Пара» называла цвет и потом вместе с водой выполняла задание, которое этот цвет означал. Белый означал «пять минут наедине». Зелёный — «три вопроса да», то есть на любые три вопроса нужно было ответить только «да». Если называли красный или розовый цвет, то нужно было целоваться. За синий цвет целовали ручку, а за чёрный нужно было сделать друг другу какую-нибудь гадость. Но чёрный цвет кому-нибудь загадывали очень редко, у нас был дружный двор — все свои, все приятели, все были в кого-нибудь влюблены.
«„Да“ и „нет“ не говорить» «Вам барыня прислала сто рублей…»
В этой игре, Мишка, бегать никуда не надо. И целоваться тоже не надо. Здесь главное — не проболтаться. На любой вопрос отвечай что угодно, только не говори «да» и «нет». А вода начинает свои расспросы: «Приехала барыня в карете, прислала вам в конверте сто рублей. Что хотите, то берите, „да“ и „нет“ не говорите, чёрное с белым не носите. Не смеяться, не улыбаться, губки бантиком не делать. Вы поедете на бал?» Вода спрашивал, какого цвета будет у вас платье, туфли, поедете ли вы на автомобиле или в трамвае, и так далее. Вопросы могли быть самые неожиданные, и приходилось изворачиваться, и не засмеяться бывало очень трудно.
«Казаки-разбойники»
Это была наша самая любимая игра. В ней нужно было не только много бегать, но и прятаться, выслеживать «разбойников» по оставленным им на земле, стенах или асфальте секретным знакам-стрелочкам. Все хотели быть «казаками», и редко кто соглашался быть «разбойником». Соглашались, конечно, но только если «казаки» давали им больше времени на прятанье. Допустим, «казаки» были согласны считать до двухсот, а не до ста. Пока «разбойники» прятались, «казаки» готовили «темницу» или «штаб» — чаще всего чертили круг на земле или выбирали какую-нибудь скамейку, на которую усаживали пленных «разбойников». Поймал «разбойника» — держи его крепко, а то он вырваться может, и тогда начинай ловить его заново. «Разбойники» своих выручали, и тогда игра могла продолжаться до бесконечности. Ну а когда всех «разбойников» приводили в темницу, то начинали выпытывать у них «пароль» — секретное слово. Чаще всего дразнили бутылкой газировки — после бега и поисков очень всем пить хотелось. Или конфеты обещали. Или щекотали бока и пятки, чтобы «разбойники» поскорее раскололись…
Это, к сожалению, всё, что осталось от тетрадки, которую Мишкин папа хотел подарить ему на день рождения. Но мы специально оставляем чистую страничку, чтобы и ты мог записать сюда свои игры, в которые ты играешь с приятелями во дворе. Или игры, о которых тебе расскажут родители. Хорошо, что играть детям во дворах пока ещё никто не запретил.

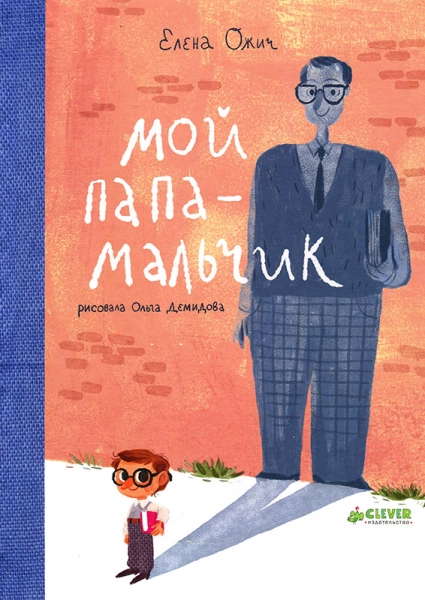

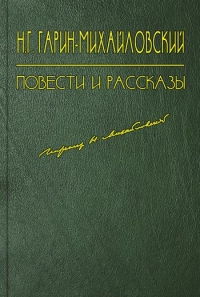






Комментарии к книге «Мой папа - мальчик», Елена Ожич
Всего 0 комментариев