Лев Овалов Голубой ангел
1. Грустная песенка
Из поездки в Армению я привез, помимо записей и документов для книги об этой древней и красочной стране, несколько бутылок старого армянского коньяку. Одна из них предназначалась в подарок Ивану Николаевичу Пронину, и на другой же день по возвращении я позвонил к нему на квартиру. На звонок никто не отозвался, и это было естественно: телефон в квартире Пронина безмолвствовал по целым неделям. Работник органов государственной безопасности, Пронин, занятый расследованием трудных и сложных дел, иногда подолгу не бывал дома. На службу к нему звонить было бесполезно — по вполне понятным причинам об отсутствующем работнике получить там справку было нельзя, и я уже собирался отойти от телефона, как вдруг услышал знакомый голос. Увы, то был голос Виктора Железнова, воспитанника Пронина и его ближайшего помощника и сотрудника по работе.
— Ну? — услышал я его оклик.
Я назвал себя, но вместо приветствия опять услышал странный ответ.
— Подождите немного, — сказал Виктор. — У меня чуть молоко не ушло.
Он заставил меня ждать довольно долго. За это время я успел вспомнить рассказ Пронина о девочке, брошенной на одной из железнодорожных станций, встреча с которой помогла найти опаснейшего шпиона, и решил, что молоко это предвещает мне знакомство с историей еще более загадочной и романтической. Но, как всегда это бывает, объяснение Виктора оказалось гораздо проще: Иван Николаевич болен, сейчас он поправляется, навестить его можно, он будет очень рад…
Признаться, во время этого разговора я испытывал чувства, которые свойственно переживать людям при известии о неожиданной болезни близкого человека. С Прониным меня связывала только дружба, и при этом очень сдержанная дружба, потому что Пронин скуп на слова и несентиментален. Но у меня сразу защемило сердце, и, несмотря на слова Виктора о том, что никакая опасность Пронину не грозит, еще долго продолжала точить мысль о том, что я мог потерять этого человека.
Поэтому я был даже разочарован, очутившись в квартире Пронина. Все находилось на своих местах: и недопитый стакан с чаем на обеденном столе, и раскрытые окна в столовой, и легкий сквознячок, столь любимый Прониным, и книги в кабинете, небрежно втиснутые на полки, и знакомый ковер на стене, и, наконец, сам Пронин в белой полотняной рубашке, полулежащий на тахте.
Агаша, домашняя работница, похожая на выписанную из провинции старую тетку, по обыкновению встретила меня жалобами на Виктора, Виктор тут же вступил с ней в перебранку, Иван Николаевич их поддразнивал, и мне показалось, что двух месяцев, в течение которых я отсутствовал, точно не бывало.
— Не позволю я тебе больше куфарничать, — ворчала Агаша, выговаривая «ф» вместо «х». — Женись, тогда и хозяйничай!
Действительно, в комнатах попахивало горелым молоком, и, по всей видимости, Виктор был этому виновником.
— Почему же это вы дома? — удивился я, вглядываясь в похудевшее и бледное лицо Пронина.
— Да попробуй уложи его в больницу! — воскликнул Виктор с ласковой укоризной. — Сотрудников с докладами удобнее здесь принимать!
— А я вам коньяку привез, — сказал я, улыбаясь Ивану Николаевичу и ставя бутылку на стол.
— Попробуем-попробуем! — Пронин усмехнулся и по-мальчишески подмигнул мне. — А меня, брат, угораздило летом воспаление легких схватить, pnevmonia catarrhalis, как торжественно выражаются врачи.
Агаша укоризненно покачала головой.
— Доктора надо бы спросить, — сказала она, кивая на бутылку. — Может, нельзя?
— Немножко можно, — уверенно возразил Виктор, внося из столовой рюмки. — Доктор же говорил, что немного вина даже полезно…
— Уж ты молчи! — прикрикнула на него Агаша. — Всех докторов и сиделок поразогнал! Все сам… — В голосе ее прозвучала обида. — За Иваном Николаевичем готов горшки выносить, а сам ничего не умеет…
— Коньяком тебя угостить, что ли? — прервал ее Пронин, давая понять Агаше, что ему надоела ее воркотня.
Агаша поняла.
— А ну вас… — сказала она сердито и пошла из кабинета.
Виктор разлил коньяк в рюмки, Пронин первым его пригубил, и я с любопытством на него взглянул, желая узнать, одобрит ли он коньяк, взглянул в его серые глаза и забыл о коньяке. Так ласково и умно смеялись эти глаза, что я еще раз невольно подумал о том, как люблю и уважаю этого человека.
Я смотрел на его добродушное лицо и суховатые губы, на его седые виски и неправильный русский нос, на его чистую рубашку и похудевшую сильную руку и невольно задумался об этом простом и очень талантливом человеке, прошедшем трудный и сложный путь…
Размышления могли бы унести меня в очень далекие дали, но Иван Николаевич вернул меня на землю.
— Коньячок ничего, пить можно, — сказал он, отставляя недопитую рюмку. — Рассказывай.
И я быстро и подробно, как всегда этого умел добиваться Пронин, рассказал о своей поездке.
— Ну а мы тебя тоже можем кое-чем угостить, — похвалился Иван Николаевич и головой указал Виктору на патефон, стоящий на письменном столе. — Пластинки, брат, у нас новые, заслушаешься!
— По-моему, вы патефоны недолюбливали? — сказал я. — Или привыкли за время болезни?
— Пожалуй что не привык, а так… — неопределенно ответил Иван Николаевич. — Заведи-ка!
— Какую? — деловито спросил Виктор.
— Ту самую — «The Blue Angels», — сказал Иван Николаевич, и по легкой его усмешке мне показалось, что он намеревается меня чем-то удивить.
Не задавая других вопросов, Виктор положил на зеленый диск пластинку и завел патефон.
Я не очень хорошо разбираюсь в тонкостях джазовой музыки — это была какая-то медленная ритмичная мелодия, не то блюз, не то танго. Не сильный, но приятный баритон запел заунывную песенку, пел он ее на английском языке, слов я не понимал, но мотив волновал и томил, настраивая слушателей на грустный лад. Одним словом, в своем жанре это было неплохо. Напоследок хриплый голос сказал несколько слов, вероятно, пожелал слушателям легкой ночи или веселой жизни, и Виктор поднял мембрану.
— Как? — спросил Иван Николаевич.
— Ничего, — ответил я. — Приятная музыка.
— А ну-ка, Виктор, повтори эту пластинку еще раз, — предложил Пронин. — И обязательно с переводом…
Виктор охотно завел патефон еще раз и, когда баритон запел, стал ему подтягивать, напевая песенку в русском переводе:
Ночь нам покой несет, и, когда все заснет на земле, Спускается с горних высот голубой ангел во мгле, Он неслышно входит в наш дом, наклоняется к нашим устам И спрашивает нас об одном — о тех, кто дорог нам. И, не в силах ему противиться, — это мать, невеста, жена, — Нарушаем мы тайну сердца, называем их имена. А утром с ужасом слышим, что любимых настигла смерть. И тоска проникает в душу, и чернеет небесная твердь. Мы ничего не знаем, не видим божьих сетей, Не знаем, что это ангел уносит лучших людей, И вечером, одинокие, беспечно ложимся спать, И в пропасти сна глубокие падаем опять… Так не спите ночью и помните, что среди ночной тишины Плавает в нашей комнате свет голубой луны.— Ну как? — еще раз спросил Иван Николаевич.
— Занятно, — ответил я. — Мрачновато, но с настроением.
— А перевод? — спросил Пронин.
— Неплохой, — признал я. — Кто это?
— Вот он! — Пронин кивнул на Виктора. — Его работа. На этот раз Железнов оказался на высоте.
— Молодец! — воскликнул я. — Когда это ты научился?
— Чему тут удивляться? — скромно возразил Пронин. — Разве ты не знаешь моей теории о том, что чекист должен быть и жнец, и швец, и на дуде игрец? Виктор теперь английский язык лучше меня знает.
— Рассказать, что ли? — вдруг спросил его Виктор и нетерпеливо застучал пальцами по крышке патефона.
Иван Николаевич помолчал.
— Ладно уж, — разрешил он наконец. — Хвастайся. Может, писателю это и пригодится. Бывшие герои делаются все изворотливее и озлобленнее. История выталкивает со сцены, а уходить не хочется. С каждым годом борьба с политическими преступниками становится все сложнее и резче. Об этом надо писать и развивать в людях осторожность и предусмотрительность.
2. Изобретение Кости Зайцева
Однажды теплым майским вечером на квартиру к Пронину позвонил Евлахов, начальник одного из управлений, ведающих оборонной промышленностью.
С Евлаховым Пронин встречался еще на фронте во времена Гражданской войны, сталкивался при расследовании некоторых дел в последние годы, и поэтому Евлахов нет-нет да и напоминал о себе, время от времени обращаясь к Пронину за какой-либо справкой или незначительной услугой.
Так было и на этот раз.
Иван Николаевич был болен, на телефонный звонок откликнулся Виктор. Но с Евлаховым Пронин захотел говорить, и не только вследствие врожденной дисциплинированности — Евлахов занимал крупный пост и косвенно являлся для Пронина в некотором роде начальством, — он просто по-человечески был мил Ивану Николаевичу, и Пронину приятно было ему услужить.
— Ты меня извини, товарищ Пронин, тревожу тебя по пустякам, — сказал Евлахов. — У нас тут один человек пропал. Так не можешь ли ты помочь его отыскать?
— Если срочно, то могу, — пошутил Пронин. — Адресный стол часа через три найдет человека, ну а мы за полчаса это сделаем. Слушаю.
— Да не совсем удобно по телефону рассказывать, — сказал Евлахов. — Может, заедешь?
Но тут вмешался Виктор.
— Дело в том, товарищ Евлахов, что у товарища Пронина грипп, — сказал он, отбирая у Ивана Николаевича трубку. — Так что если вы позволите мне заменить его…
— В таком случае, я его сам навещу, — весело отозвался Евлахов. — Нам чинами считаться не приходится! — И минут через двадцать действительно приехал к Пронину.
Крупный и располневший от сидячей жизни, Евлахов как-то сразу заполнил собой всю комнату.
— Знобит? — громко спросил он у Ивана Николаевича и наставительно посоветовал: — Чаю с малиновым вареньем и с коньяком выпей. Всегда так лечусь. Вечером киснешь, а наутро все как рукой снимет. — Евлахов придвинул кресло к тахте и сел. — А у нас тут оказия, — сказал он шутливым тоном. — Пустяки, конечно, а все-таки береженого бог бережет. — Он бесцеремонно указал на Виктора. — При нем можно?
Виктор неуверенно пошел к двери.
— Да, — ответил Пронин и поудобнее сел на тахте.
— У меня там в машине молодой человек сидит, — продолжал Евлахов. — Инженер Зайцев. Константин… Не знаю, как по батюшке.
— Да это неважно… — отозвался Пронин. — В чем дело-то?
— Как «не важно»? — воскликнул Евлахов. — Его весь мир скоро будет по имени-отчеству величать. Через пять лет его академиком выберут… — Евлахов пересел ближе к Пронину, на тахту. — Зайцев к нам прямо со студенческой скамьи пришел, — объяснил он. — Костя Зайцев, Костя Зайцев… Так и привыкли его звать. Он у нас не на московском заводе работает, а в самой глухой провинции. Далеко отсюда. Однако Москва его не забыла. Не позволил себя забыть. Талантливый парень. Попал на завод птенцом, но в быту не погряз, мелочишки его не заели. Одно изобретет, другое. Любит дело. А недели две назад прямо огорошил нас в управлении. Прислал письмо, сообщает: изобрел бесшумный авиационный мотор. Сконструировал мотор с полным устранением шума при его действии! Понимаешь, что это такое? Другому бы не поверили, усомнились, а этот — знаем! — не привык словами на ветер бросаться. Я сейчас же ответ: немедленно выезжай, номер в гостинице приготовлен. Тут надо сказать, что в работе Зайцеву помогал его товарищ — инженер Сливинский. Ребята понимали, какое они дело делают. Никому ни полслова сказано не было. Я был третий, кому стало известно об изобретении. Получили они вызов, сложили чертежи в чемодан — и в Москву.
Приехали часа три назад. Сливинский с чемоданом проехал прямо в гостиницу, а Зайцев не удержался — решил прямиком заехать ко мне в управление. Поговорили наскоро, поругал я его за беспечность, велел чертежи немедленно привезти в управление, сохраннее будут, а самим утром явиться. Мол, во всем тогда разберемся. Дал я Зайцеву свою машину, приехал он в гостиницу, спрашивает, какой номер ему отведен, а ему и ключ подают от номера. «Разве мой товарищ туда не прошел?» — спрашивает Зайцев. «Нет, — отвечает портье. — Кто-то просил провести его в этот номер, но мы отказались, номер на ваше имя оставлен…» «А где же он? — спрашивает Зайцев, — этот товарищ?» — «А мы просили его в вестибюле подождать», — объясняет портье… Кинулся Зайцев в вестибюль — никого. Обежал всю гостиницу — никого. Мы, конечно, думаем, что Сливинскому или ждать надоело, или он знакомого какого-нибудь встретил, — отыщется через час — другой, но все-таки тревожно. Парень исчез, а ведь в руках у него не букет цветов…
Пронин выслушал рассказ и нисколько не встревожился.
— Отправился ваш Сливинский к каким-нибудь родственникам, — сказал он. — Возвращайтесь-ка лучше в номер и ждите его звонка. А на всякий случай я пошлю с вами моего помощника. Если Сливинский через час или два не отыщется, Железнов примет необходимые меры.
Евлахов виновато рассмеялся.
— Знаешь, у страха глаза велики! Я отлично понимаю, как докучают напрасные опасения, но ведь если что, лучше пораньше спохватиться.
— Оно правильно, конечно, — согласился Пронин и не договорил…
Евлахов встал.
— Спасибо, товарищ Пронин, — сказал он. — Предложением твоим я все же воспользуюсь, хотя будем надеяться, что помощнику твоему делать ничего не придется.
Виктор, надев пальто, уже ждал Евлахова в прихожей.
Они спустились по лестнице, сели в машину. На заднем сиденье скромно приютился молодой человек. Виктор с любопытством посмотрел, как выглядит будущий академик. Академик еще больше втиснулся в угол, уступая место вошедшим, и почему-то покраснел.
— Знакомьтесь, — буркнул Евлахов, грузно придавливая пружины.
Зайцев ждал, чтобы Виктор первым подал ему руку, и смотрел застенчиво и чуть исподлобья. Костюм и пальто на нем были не из дешевых, а сидели небрежно, точно были не по плечу. Виктор догадался о причине этой небрежности. Зарабатывал Зайцев много, но ухаживать за собой еще не научился, платье не шил, а покупал готовым. Вообще в нем еще сохранилось много угловатости, свойственной подросткам.
— Смеются над нами, — ласково сказал Евлахов, угадывая молчаливый вопрос Зайцева. — Говорят, нашел твой Сливинский какую-нибудь родню и нечего поднимать панику.
— Да в том-то и дело! — торопливо сказал Зайцев. — У Сливинского в Москве ни родственников, ни знакомых.
— Ну а в самом Сливинском вы уверены? — неожиданно спросил Виктор, пытливо вглядываясь в Зайцева.
Зайцев ответил не сразу. Он помолчал, нахмурился и затем, глядя Виктору прямо в глаза, негромко отчеканил:
— Видите ли, мы со Сливинским учились вместе еще в средней школе. Я за него ручаюсь как за самого себя. Если вы даже поклянетесь, что Сливинский преступник, я и тогда этому не поверю. А кроме того, он серьезный человек, превосходно учитывает ценность чертежей и никуда с ними пойти не мог.
Эта уверенность в своем товарище и твердый голос, каким все это было высказано, понравились Виктору, и он почувствовал к молодому инженеру симпатию.
— Но ведь из вестибюля вашего приятеля похитить не могли? — шутливо заметил Виктор. — Просто вы с ним как-нибудь разминулись и теперь, в поисках друг друга, рыскаете по всему городу.
3. Преступление в гостинице
Тем временем в гостинице, где остановился Зайцев, случилось происшествие, не имевшее прямого отношения к исчезновению Сливинского. Хотя гостиница эта была в Москве одной из самых больших и многолюдных, десятки опытных служащих, несмотря на сумбурную и беспокойную жизнь сотен постояльцев, незаметно и постоянно поддерживали в ней образцовый порядок.
В залитом светом вестибюле сновала публика, легкий гул голосов тонул в обширном помещении; портье был занят обычными хлопотами — проверял списки постояльцев, разговаривал по телефону, отвечал посетителям; бесшумно поднимался и опускался лифт; пробегали официанты и горничные, и лишь один швейцар, стоя у величественной двери, философически наблюдал за всей этой суетой.
Один из постояльцев подошел к лифту, когда тот только что тронулся вверх. Постоялец присел на минутку на диван, но лифт не опускался. Он нажал кнопку звонка, вызывая лифтера вниз, но подъемная машина, остановленная где-то наверху, так и не спустилась. Постоялец собрался было идти по лестнице пешком, но тут подошел кто-то еще и принялся названивать гораздо нетерпеливее. Постепенно в ожидании лифта скопились несколько человек, раздались возмущенные голоса, кто-то из публики подозвал портье и пожаловался на беспорядок.
Портье сейчас же послал одного из служащих гостиницы выяснить причину задержки. Это был дежурный монтер Доценко, остановившийся у конторки поболтать с телефонисткой. Доценко весело побежал наверх и еще быстрее спустился вниз. Лицо у него было бледное, он что-то буркнул портье, и они вместе побежали разыскивать дежурного администратора.
Лифт стоял на четвертом этаже, и когда Доценко поднялся, он увидел металлическую дверь лестничной клетки приоткрытой. Сперва он с укоризной подумал о том, что лифтер куда-то отлучился. Но, заглянув в кабину лифта, он с удивлением увидел лифтера, неподвижно сидящего на полу. В тот день лифтом управлял Гущин, исполнительный и скромный работник, однако у Доценко мелькнула мысль о том, что Гущин пьян. Доценко тронул лифтера за голову. Голова Гущина безвольно покачнулась, а Доценко внезапно почувствовал, как пальцы его намокли. Он отдернул руку и увидел на пальцах кровь. Доценко наклонился. Затылок Гущина был залит кровью.
Тотчас был пущен в ход запасной, меньший лифт, директор гостиницы известил о случившемся Управление уголовного розыска, и оттуда прибыл следователь; были осмотрены кабина и коридор, все это было проделано аккуратно и незаметно. Ни один постоялец гостиницы не мог даже заподозрить о происшедшем преступлении, а через полчаса труп Гущина был уже убран, следы крови тщательно стерты с полированной обшивки и большой лифт начал совершать обычные рейсы.
Когда Евлахов и Зайцев в сопровождении Железнова приехали в гостиницу и Зайцев расположился, наконец, в приготовленном для него номере, Виктор спустился вниз расспросить портье о Сливинском. Но портье было не до расспросов. Он был как-то странно рассеян, отвечал невпопад, мысли его явно были заняты какими-то другими предметами. Да и сообщить он мог немного: гражданин, назвавшийся товарищем гражданина Зайцева, сидел в холле, а как он оттуда ушел, портье не заметил.
Виктор поинтересовался, чем это портье взволнован, но тот принужденно улыбнулся и сослался на головную боль. Виктор догадался, что в гостинице что-то произошло. Он разыскал директора, тот направил его к работникам уголовного розыска, и уже от них Виктор узнал о трагическом происшествии.
Это было странное преступление, и все терялись в поисках причины убийства. Гущин, простой тихий человек, ни с кем никогда не ссорился, в гостинице он служил давно, был женат на такой же простой и тихой женщине, жена его работала на кондитерской фабрике, было у них двое детей, они оставались обычно дома под присмотром бабушки. Водки Гущин не пил, в карты не играл, жене не изменял, ни с какими сомнительными приятелями знакомства не водил. Одним словом, это был один из тех обыкновенных добрых людей, которые спокойно доживают до глубокой старости и которых всегда всем ставят в пример. Поводов для его убийства не было, и оставалось лишь предположить, что Гущин стал жертвой маньяка или сумасшедшего.
Убит он был кастетом. Удар был нанесен опытной рукой, со страшной силой, весь затылок у лифтера был раздроблен, смерть последовала мгновенно от кровоизлияния в мозг. На минуту следователь предположил, не убил ли лифтера Доценко, но монтер весь вечер находился на виду, лифт остановился, когда он разговаривал в вестибюле, наверх он пошел по просьбе портье, да и никаких поводов не могло быть у Доценко для такого убийства. Короче говоря, произошла одна из тех нелепостей жизни, которым трудно бывает подыскать логическое объяснение.
Виктор не усмотрел связи между убийством и исчезновением Сливинского, он позвонил к Пронину и рассказал о происшествии, — Иван Николаевич умел решать такие задачи. Действительно, Пронин заинтересовался происшествием, и через полчаса Виктор сидел у него и рассказывал о подробностях.
— Надо позвонить в гостиницу, — спохватился вдруг Виктор. — Не вернулся ли Сливинский?
— Можешь не звонить, — сдержанно остановил его Пронин. — Сливинский не вернется. Во всяком случае, сегодня ночью. А тебя я прошу провести эту ночь в гостинице. Зайди к Евлахову, предупреди, что мы заняты поисками, сообщи приметы Сливинского в милицию и в морг, но сам из гостиницы не выходи. Думаю, что ночью будут сделаны еще некоторые находки, о которых я хотел бы услышать непосредственно от тебя.
Много вопросов хотелось задать в свою очередь Виктору, но он хорошо помнил о нелюбви Ивана Николаевича к расспросам и давно привык к его неожиданным поручениям.
4. Ночные находки
С интересом наблюдал Виктор за течением ночи в большой московской гостинице. Жизнь не затихала ни на мгновенье. С вокзалов приезжали какие-то люди, возвращались домой жильцы, уходили от постояльцев гости, официанты носили из ресторана в номера кушанья, телефон на конторке звонил не умолкая, и казалось, что портье разговаривает со всем миром. Виктор присматривался к публике, прислушивался к разговорам, от нечего делать бродил по коридорам, заглядывал в ресторан и отдыхал на диване в холле.
Суматоха прекратилась часам к пяти утра. Швейцар, наконец, задремал, портье отодвинул от себя телефон, в холле погасили люстру, и Виктор вдруг почувствовал усталость от всего этого гостиничного сумбура. Но уже в шестом часу появились уборщицы и полотеры, и началась чистка помещения, вытряхиванье ковров, натирка полов и мойка окон.
Вскоре после начала уборки к портье принесли чемодан, и Виктор резонно решил, что это и есть одна из тех находок, которые предвещал Пронин. Уборщица нашла чемодан в одной из уборных. Уборная была заперта, но слишком уж долго из нее никто не выходил. Уборщица постучалась, никто не отозвался, она позвала слесаря, и слесарь отвернул защелкнутую задвижку. В уборной было пусто, лишь у стены стоял закрытый недорогой чемодан.
Виктор сообщил о находке Пронину, тот велел разбудить Зайцева и показать чемодан инженеру.
Действительно, это оказался тот самый чемодан, с которым Сливинский поехал в гостиницу. Зайцев нетерпеливо его открыл и принялся в нем рыться. Он испуганно выбросил все белье, все туалетные принадлежности, но папки с чертежами в чемодане не оказалось.
В той же уборной, в корзине для мусора, Виктор нашел и папку; чертежей, конечно, в ней не было.
Тогда Зайцев принялся твердить о том, что со Сливинским случилось несчастье…
Всем учреждениям, которые могли способствовать розыску исчезнувшего человека, дано было распоряжение взяться за поиски Сливинского, а часом позже полотер Хрусталев в гостиной четвертого этажа нашел за диваном труп Сливинского. Затылок его тоже был раздроблен кастетом, и убит он был, по заключению врачей, в одно время с Гущиным.
Сообщать о смерти Сливинского Зайцеву Пронин запретил: он щадил молодого инженера; горе могло помешать его работе, а время должно было помочь свыкнуться с мыслью о потере.
Убийца не оставил никаких следов, все было неясно и загадочно, и лишь исчезновение чертежей позволяло предполагать о цели совершенного преступления.
Пронин отдавал себе отчет в том, что трудно будет раскрыть это неясное и хорошо подготовленное преступление; нелегко ему было сдерживать и нетерпение Евлахова, торопившего с розыском и преувеличивавшего простоту задачи.
— Ну, кто оказался прав? — тревожно и вместе с тем с задором спросил Евлахов, приехав утром к Пронину и садясь возле его постели. — Я сразу почувствовал, что все происходит неспроста!
— Хотите, возьму вас к себе в помощники? — усмехнулся Пронин. — Я в предчувствия верю слабо.
Евлахов укоризненно покачал головой.
— Просто вы слишком привыкли к таким делам, — упрекнул он Пронина, рассматривая вытканные на ковре узоры.
— Что же вы теперь думаете делать? — спросил он после минутного молчания.
— Спать не будем, — опять усмехнулся Пронин. — Железнов уже этим делом занимается, да и другие товарищи ему помогут.
— Но мне хотелось, чтобы ты сам занялся этим делом, — попросил Евлахов. — Слышишь, товарищ Пронин?
— Я, конечно, помогу, — ответил Пронин довольно-таки безучастно. — Ведь у меня грипп, температура…
— Курица не птица, грипп не болезнь! — рассердился Евлахов. — Я вот недавно получил важное задание — ни на какой грипп не посмотрел. Выпей коньяку с малиновым вареньем, все и пройдет. Дело-то ведь серьезное…
Он встал и прошелся вдоль комнаты.
— Нет, я очень прошу тебя лично заняться этим делом, — сказал Евлахов, останавливаясь перед Прониным. — Надо проверить в гостинице всех жильцов, обыскать каждую комнату!
— Вы говорите наивные вещи, — мягко возразил Пронин. — Если даже чертежи спрятаны в гостинице, в чем я сильно сомневаюсь, для того чтобы найти в таком громадном помещении пачку бумаг, понадобится потратить несколько месяцев и заставить работать десятки опытных людей.
— Не может быть, чтобы среди многочисленных приезжих не оказалось подозрительных личностей, — продолжал кипятиться Евлахов. — Проверьте документы!
— Вы не улавливаете особенностей этого преступления, — кротко объяснил Пронин. — Это ведь не обычное уголовное дело. Преступления против собственности совершают большей частью профессионалы-рецидивисты. Обнаружив убийство с целью ограбления или кражу со взломом, почти всегда поиски можно направить по определенным каналам. Политическое преступление, направленное не против отдельных личностей, а против целой страны, целого народа, раскрыть гораздо труднее. Шпионы и диверсанты редко действуют по стандарту. Они остроумней и находчивей и, по возможности, не станут пользоваться ни фальшивыми паспортами, ни отмычками взломщиков.
— Судя по твоим словам, получается, что агенты капиталистических разведок неуловимы? — мрачно спросил Евлахов.
— Нет, зачем же! — возразил Пронин. — Они талантливы, но и мы не лыком шиты. Кроме того, у нас есть еще одно преимущество. Они хорошо служат своим хозяевам, но хозяева-то их малочисленны. Народ, против которого они борются, превосходит их и численно, и морально, а следовательно, и людей, которых народ посылает бороться против своих врагов, и числом побольше, и сердца у них погорячее.
— Это я понимаю, конечно, — согласился Евлахов. — Но что нам делать в данном конкретном случае?
— Искать, — ответил Пронин с улыбкой.
— Но как, как? — опять нетерпеливо воскликнул Евлахов.
— Так же спокойно, как уверенный в себе школьник решает заданную ему задачу, — сказал Пронин. — Вместо того чтобы запутаться среди сотен людей, мы прежде всего должны выяснить, кому было известно об изобретении. Зайцеву, Сливинскому, вам… Кому еще?
Они перебрали всех людей, которые были причастны к вызову Зайцева в Москву.
Сам Зайцев решительно заявил, что на заводе об изобретении знали только он да Сливинский. Оба инженера были еще неженаты, дома им делиться своими заботами было не с кем, да и на работе они были достаточно осторожны, превосходно учитывая важность изобретения.
Инженеры выехали в Москву по вызову управления. О непосредственной цели их поездки на заводе никому ничего не было известно.
Опасаясь каких-либо случайностей, приятели нарочно купили на железнодорожной станции билеты в спальный вагон и всю дорогу ехали в двухместном купе, не заводя знакомств и по очереди обедая в вагоне-ресторане.
Письмо Зайцева было адресовано лично Евлахову. Евлахов сам его вскрыл и отдал на хранение начальнику секретной части Иванову.
Во всем управлении об изобретении Зайцева знали заместитель Евлахова Белецкий да инженер Коган, которому предстояло дать первое заключение об изобретении. Коганом и была написана докладная записка с краткой характеристикой изобретения и заключением о необходимости вызова Зайцева, содержание которой могло быть известно еще только Иванову и машинистке Основской.
Эти люди не вызывали подозрений. Все они по многу лет работали в управлении, все были на хорошем счету, все неоднократно имели касательство к секретным делам.
В Белецком вообще не приходилось сомневаться. Крупный хозяйственник, сын шахтера и сам шахтер, он еще в годы Гражданской войны в боях доказал свою преданность Советской власти. Преданным работником был и Коган. Белецкого и Когана можно было оставить вне подозрений еще и потому, что они могли бы, при желании, похитить чертежи с меньшим риском и не так эффектно. Но ради очистки совести Пронин поручил Виктору присмотреться даже к Белецкому.
Как и следовало ожидать, ни в отношении Белецкого, ни в отношении других проверка ничего нового не дала. Иванов жил с матерью и маленькой племянницей и занимался на заочных курсах иностранных языков; у Когана была только жена, нигде не работавшая пустая женщина, тратившая деньги мужа на свои туалеты; муж Основской был фоторепортером и постоянно находился в разъездах, а сама она делила все свое время между службой и сыном. Это были обыкновенные люди, ничем не примечательные и никакими подозрительными знакомствами не обремененные.
Но должен же был кто-то проговориться о вызове Зайцева, и у Пронина не оставалось иного выхода, как подвергнуть этих людей незаметному испытанию.
5. Повторение пройденного
На письменном столе в большом глиняном горшке, покрытом блестящей коричневой глазурью, стоял пышный букет сирени. Нет, это была не чахлая белая сирень из цветочного магазина, осторожно срезанная садовником, с блеклыми бледными листьями, крупные и редкие цветы которой еле пахнут тонким сладковатым ароматом… Иван Николаевич не любил оранжерейные цветы. Это была простая садовая сирень с густыми лиловыми гроздьями бесчисленных мелких цветков, среди которых так часто попадаются пяти- шести- и семилепестковые звездочки — находка их сулит счастье, — сирень, наполняющая комнаты резким благоуханьем, простая и душистая, с темными, крепкими, глянцевыми листьями, безжалостно наломанная где-нибудь в палисаднике, отчего ее кусты будут цвести на следующий год еще обильней и ярче.
— Эге, да здесь настоящая идиллия! — воскликнул Виктор из-за двери, еще в прихожей почувствовав запах цветов. — Тут не делами заниматься, а Блока читать.
Отрекись от любимых творений, От людей и общений в миру…Но Пронин лежал на тахте, по самый нос закутанный в синее стеганое одеяло.
Виктор озабоченно взглянул на него и понизил голос:
— Худо, Иван Николаевич?
— Температура, знобит, — пробормотал Пронин из-под одеяла. — Но я тебя слушаю.
Если Пронин сам заговорил о своей температуре, значит, ему всерьез было плохо.
— Врач еще не был? — обеспокоился Виктор.
— Был, был, — сердито пробормотал Пронин. — Не твоя забота. Рабочий день начался, а ты не врач и любительскими делами будешь заниматься после службы. Нашел виноватого?
— Вы и вправду больны, — обиженно произнес Виктор. — Я ведь не маг, а это дело и впрямь загадочно.
— Я хочу твои соображения слышать, — сказал Пронин, поворачиваясь к Виктору. — На мою помощь надежда плоха. Придется, брат, самому узелки распутывать.
Виктор насупился. Запах сирени положительно мешал сосредоточиться. Хорошо Пронину болеть!
— Знаете, — сказал Виктор, — у вас от цветов голова еще сильней разболится.
— Ладно-ладно, — отозвался Пронин. — Ты о деле говори, а не о цветах.
Виктор пожал плечами.
— Я думаю, что виноват Сливинский, — начал он, поворачиваясь спиною к цветам. — Он выполнил поручение, и от него решили избавиться. «Мавр сделал свое дело…»
— Что? — Пронин высунул голову из-под одеяла. — Ну, брат, этого я от тебя не ожидал. Провинциальная школа!
— Позвольте, — возразил Виктор. — Он не изобретатель, он только с боку припека, увязался с товарищем в Москву…
— Ну, знаешь, это и впрямь только Мавра или Агаша такое заключение могут сделать, — съязвил Пронин. — Уж если тебе затрепанные афоризмы полюбились, я тоже тебе напомню: aut bene, aut nihil — о мертвых говорят только хорошее…
Виктор обиделся.
— По мне, прохвост и после смерти прохвост.
— Да ты вдумайся, — возразил Пронин. — Если бы Сливинский хотел похитить чертежи, обязательно увязался бы с Зайцевым в управление. Прохвосты всегда заботятся о своем алиби. Он и до этого и после этого имел тысячи возможностей снять копию, и уж если и совершил бы кражу, обязательно подстроил бы так, чтобы произошла она в присутствии товарища, заставил бы Зайцева разделить с ним ответственность. Наоборот, он не поехал в управление только потому, что оказался хорошим и деликатным человеком. Сливинский не считал себя изобретателем и не хотел делить с Зайцевым славу. Так что об этом покойнике — или хорошее, или ничего.
Пронин не часто заступался за незнакомых людей, и это означало, что он очень тщательно продумал поведение Сливинского.
— Но кто же тогда? — задумчиво спросил Виктор, глядя на разгоряченное лицо Пронина.
— Вот это и предстоит тебе решить, — отозвался Пронин, прячась снова под одеяло. — У меня температура, вон под сиренью и бюллетень лежит, мне думать врач запретил.
Виктор с удивлением взглянул на Пронина и смущенно отвел глаза в сторону.
— Значит, это дело… Вы хотите это дело передать… — произнес он запинаясь и еще раз недоверчиво посмотрел на Пронина. — Передать это дело другому следователю?
— Э, нет… — Пронин опять оживился. — Это, брат, было бы стыдно…
— Значит… — Виктор заметил в глазах Пронина насмешливую искорку и тоже повеселел. — Неужели вы доверите это дело мне, Иван Николаевич?
Пронин натянул одеяло чуть не до самых глаз.
— Там посмотрим, посмотрим, — пробормотал он. — Пока что никому ничего передавать не надо. Работай.
Виктор поглубже сел в кресло.
— Посоветуйте хоть с чего начать!
— Начать? — озабоченно переспросил Иван Николаевич. — От какого угла танцевать? С середины! Все углы обойти надо. Поезжай к Евлахову. Начнем со сказки про белого бычка. Хорошо, если бы история с документом повторилась. Попроси его…
Иван Николаевич никогда не выхватывал из запутанного клубка какую-нибудь одну нить, он считал необходимым одновременно распутывать все нити, — в этом и заключался смысл его советов, хотя врач и запретил ему думать. Раз уж случилось преступление, следовало проверить всех, кто имел хоть какую-нибудь причастность к злополучным чертежам.
Пронин позвонил Евлахову, посетовал на болезнь, сообщил о том, что расследование поручил вести Железнову, попросил ему во всем довериться и на этом успокоился.
— Ты меня пока не тревожь, — сказал он на прощанье Виктору. — Действуй самостоятельно. Хочу воспользоваться болезнью и перечесть статьи Энгельса о войне, обещал нашим комсомольцам доклад сделать. Но для тебя мои двери не заперты. В крайнем случае — заходи.
Пронин впервые предоставлял Виктору полную самостоятельность. «В крайнем случае» значило: «Приходи, если не справишься». Виктор гордился доверием и побаивался ответственности. Но отступать Пронин его не научил. Поэтому в разговоре с Евлаховым Виктор держался и резче, и увереннее, чем это следовало, точно тот очутился у него в подчинении.
— Скажите, кому известна дислокация заводов, подведомственных вашему управлению? — решительно спросил Виктор.
— У нас в управлении? — переспросил Евлахов. — Мне и отчасти Белецкому.
— Товарищ Пронин просил поступить следующим образом, — сказал Виктор. — Написать что-нибудь вроде докладной записки, из которой явствовала бы производственная мощность этих заводов. Какие-нибудь намеки на будущее. Разумеется, приближаться к истине не надо, но выглядеть записка должна достоверно. Ценность документа не должна вызывать сомнений. Что-нибудь вроде производственной программы, какие-нибудь цифры, распределение заказов…
— Знаете, это нелегкая задача, — предупредил Евлахов. — Боюсь, не получится из меня беллетрист.
— А вы попробуйте, — холодно возразил Виктор. — И обязательно коснитесь в записке производства бесшумных моторов. Несколько фраз об энергичных поисках похищенных чертежей и заключение о том, что Зайцев, мол, обязуется в течение месяца восстановить чертежи, и вы считаете возможным запланировать выпуск моторов. Вообще вставьте побольше всяких цифр и описаний отдельных деталей, чтобы наизусть все это запомнить было трудновато.
— Зачем это? — поинтересовался Евлахов.
— Ну вот, — отозвался Виктор с укоризной. — Я ведь не спрашиваю вас о действительном местоположении заводов, а вы не интересуйтесь нашей дислокацией.
— Ладно, пусть будет по-вашему, — согласился Евлахов. — Вставлю описание двух забракованных моторов, вот все и получится как надо…
Он озабоченно расстался с Железновым, и на следующий день, когда Виктор явился в управление, со вздохом пожаловался:
— Задал мне ваш начальник задачку. Всю ночь сочинял, не умею хорошо врать. Что теперь с этим делать?
— Теперь с этим документом вы должны познакомить лишь тех сотрудников, которые так или иначе были осведомлены об изобретении, — сказал Виктор. — Пусть эта бумага пройдет тот же путь, какой прошла предыдущая записка.
Евлахов захмыкал.
— Машинистке это, конечно, нетрудно продемонстрировать. Но Белецкий меня прожектером назовет…
Он махнул рукой, но перед вечером вызвал к себе Иванова, поручил ему лично продиктовать документ машинистке Основской, и, получив затем документ в перепечатанном виде, Евлахов вызвал к себе Белецкого и Когана и познакомил их с содержанием записки.
Коган торопился домой и откровенно попросил Евлахова разрешить ему ознакомиться с документом утром и тогда уже высказать свое мнение, а Белецкий, прочитав записку и раз, и два, оставшись наедине с Евлаховым, изумленно покачал головой, указал на ошибки в цифрах и назвал записку необоснованной.
Виктора, зашедшего в кабинет, Евлахов встретил нелюбезно.
— Все сделал, как вы сказали, а какой в этом смысл — не понимаю, — сердито сказал он. — Что же дальше делать мне с этой филькиной грамотой?
— Наоборот, все в порядке, — бодро отозвался Виктор. — Теперь эта бумажка станет одной из улик…
Но, несмотря на свой уверенный тон, Виктор тоже мало верил в успех этого опыта.
Для того чтобы снять с документа копию или хотя бы списать цифры, требовались время и уединение. Иванов даже не зашел к себе в комнату, прошел прямо к машинистке, продиктовал ей документ и вернулся в кабинет к Евлахову. Машинистка даже не держала документ в руках, а использованную копировальную бумагу Иванов захватил с собой, — после того как стал известен случай, происшедший в одном из московских учреждений, где один чрезмерно любознательный иностранец скупал у малограмотных уборщиц бумажный мусор, в управлении был введен порядок, согласно которому черновики секретных документов и копировальная бумага от них сдавались в секретную часть для уничтожения. Белецкий и Коган тоже не выходили с документом из кабинета Евлахова.
Однако Пронин придавал большое значение тому, как эти люди проведут свой вечер.
Белецкий засиделся в кабинете до поздней ночи и прямо из управления поехал домой. Коган, наоборот, торопился и ушел раньше обычного. Оказалось, что еще неделю назад Коганом были куплены билеты в оперу. В театре Коган не отлучался от жены, вместе с которой зашел после спектакля в кафе выпить кофе. Иванов и Основская прямо со службы пошли домой и никуда больше не выходили.
Нет, ни грубоватый и малоразговорчивый Белецкий, ни увлекающийся и влюбленный в собственную жену Коган, ни аккуратный и озабоченный предстоящими зачетами Иванов, ни усталая и постоянно торопящаяся домой Основская не возбуждали в Викторе подозрений. Поведение всех этих людей было столь будничным, что время, прошедшее в наблюдении за ними, казалось Виктору потраченным впустую.
Поздней ночью, когда Москва погрузилась в сон, Виктор не удержался и по телефону доложил о результатах, или, вернее, как выразился он, о безрезультатности своих наблюдений Пронину.
— А наблюдение на ночь снято? — встревожился Пронин.
— Нет, оставлено, — сказал Виктор. — Хотя…
— Вот и правильно, что оставлено, — успокоился Пронин. — Утро вечера мудренее.
Но и утренние наблюдения не дали никаких результатов. Люди вели себя еще обычнее, чем вечером. За Белецким и Коганом пришли машины, Иванов дошел до службы пешком, а Основская доехала на трамвае. Домашние работницы пошли по рынкам и лавкам, дети побежали в школу, жена Когана отправилась к модистке заказывать себе шляпку, муж Основской зашел в парикмахерскую и тоже пошел на службу, а мать Иванова понесла в прачечную белье…
Действия всех этих людей терялись в бесконечных будничных делах и заботах, тысячи условных тропок скрещивались и расходились во все стороны, десятки людей встречались с десятками других людей, и за всеми этими людьми просто невозможно было уследить, подозрения и намеки тонули в сутолоке жизни, напоминая дымок, улетающий в небо и тонущий в облачной гуще.
6. Нашла коса на камень
Зайцева разбудил монотонный шорох, несшийся с улицы. Он спрыгнул с кровати и подошел к раскрытому окну. Дворники подметали площадь. С шелестом вылетала вода из шлангов, точно змеи, извивающиеся на мостовой. Народу на улице было еще мало, и дворники работали легко и спокойно. Зайцеву было как-то не по себе. Ему тоже захотелось поскорее взяться за работу, но было еще очень рано. Вероятно, в управлении еще только собирались уборщицы, и его просто не пустили бы в зал для заседаний, где специально для Зайцева поставили чертежный стол. Мысленно он мог представить себе каждую деталь своего мотора, но для того чтобы воспроизвести все их на кальке, требовалось время. Зайцеву не терпелось поскорее все вычертить, чтобы на какое-то время забыть и свое изобретение, и такой неудачный приезд в Москву, и непонятное исчезновение Сливинского. Ему говорили, что поиски его товарища продолжаются, но Зайцеву почему-то казалось, что с Володей Сливинским произошло несчастье и ему просто лишь не хотят об этом сказать.
Зайцев взял журнал, купленный накануне в газетном киоске. Он наскоро прочел стихи. Стихи ему не понравились. Он нехотя полистал страницы и вдруг начал читать. Это была статья академика Тарле об адмирале Нахимове. О Нахимове читать было очень интересно. Написана была статья умно и просто, и Зайцеву вдруг показалось, что в судьбе его и Нахимова есть что-то общее. Зайцев взглянул на часы. Было всего семь часов. Но в воздухе уже начинало парить, день обещал быть очень жарким. В небе висело какое-то городское солнце, тусклое и невеселое, точно запорошенное пылью. Зайцев позвонил горничной. Она пришла очень скоро. Должно быть, она сама недавно проснулась и еще не успела забегаться и устать и поэтому была очень приветлива. Веки у нее были еще опухшими от сна, и на выбившихся надо лбом волосах блестели капельки воды. Зайцев попросил принести ему чаю.
— Ой, еще рано! — воскликнула горничная нараспев, но чай все-таки принесла.
Зайцев напился чаю, почитал еще. Сделал на полях журнала несколько пометок. Ему не понравилась обреченность, которую так явственно ощущал в своей судьбе Нахимов. Но, поразмыслив, Зайцев понял адмирала и простил. Ему самому хотелось жить, жить очень долго, удивить мир черт-те знает чем… Он снова посмотрел на часы, было уже восемь.
В это время в дверь постучали.
— Войдите! — крикнул Зайцев.
В комнату вошел незнакомый человек и быстро прикрыл за собой дверь.
Этот невзрачный человек решительно ничем не мог привлечь к себе внимание. Бесцветное лицо с белесыми волосами; туманные голубые глаза; длинный бледный нос; брови, росшие короткими рыжими пучками у самой переносицы; вежливая улыбка на бескровных губах. Одет он был в серое летнее пальтецо, на голову была напялена легкая серенькая кепочка, в руке он держал желтый чемоданчик.
— Вы меня вызывали, — уверенно сказал вошедший, приближаясь к Зайцеву.
И в это же самое время дверь номера без всякого стука и предупреждения неожиданно распахнулась, и в комнату даже не вбежал, а точно впрыгнул невысокий коренастый человек с раскрасневшимся лицом, в зеленоватом коверкотовом пальто нараспашку и в серой шляпе, сползшей у него на затылок.
— А я вас ищу по всем коридорам! — закричал вновь вошедший, приветливо протягивая Зайцеву руку. — Устал даже…
Он без приглашения плюхнулся в кресло и с облегчением принялся обтирать носовым платком потный лоб.
— Позвольте, — растерянно произнес Зайцев, обращаясь к обоим посетителям. — Я не совсем понимаю…
Посетитель с чемоданчиком как-то сразу стушевался, отступил назад к двери и виновато улыбнулся.
— Я подожду, у меня есть время, — торопливо сказал он, сгоняя с губ вежливую улыбочку и кивая на незнакомца в шляпе. — Пожалуйста! Разговаривайте с ними.
Но незнакомец в шляпе запыхтел еще громче и очень смешно и добродушно замахал руками и на Зайцева, и на посетителя с чемоданчиком.
— Нет уж, нет уж! Дайте отдышаться! — повелительно выкрикнул он. — Беседуйте. У меня, батенька, астма. У меня дело важное. Отпустите, отпустите его…
Он не кивнул на посетителя с чемоданчиком, не указал на него, но и Зайцев, и посетитель с чемоданчиком смирились и поняли, что переспорить им этого человека не удастся.
— Я парикмахер, — сказал первый посетитель. — Вы меня вызывали?
Зайцев растерянно покачал головой.
— Я? — переспросил он и сконфуженно улыбнулся. — Я бреюсь сам, — добавил он, как бы оправдываясь.
И уже увереннее повторил:
— Нет, я вас не вызывал.
— Назвали ваш номер, — обидчиво возразил парикмахер. — Ошибиться трудно. — Он оглянулся на дверь. — Вот так и ходишь зря.
— Но я ведь не вызывал вас, — виновато сказал Зайцев.
— А может, побреемся? — неуверенно предложил парикмахер.
И добавил:
— Чтоб зря не ходить?
Зайцев невольно провел рукой по щеке, но бриться ему в присутствии незнакомца в шляпе не хотелось, и он решительно отказался:
— Нет-нет. Вы справьтесь у горничной. Возможно, кто-нибудь вас давно дожидается…
Улыбка окончательно сползла с лица парикмахера, он недоверчиво покачал головой — точно сомневался в искренности Зайцева, пытливо взглянул на человека в шляпе и взялся за дверную ручку.
— Конечно… — пробормотал он и вышел в коридор, деликатно закрывая за собой дверь.
Зайцев повернулся ко второму посетителю.
— Надеюсь, вас-то я не вызывал? — с мягкой улыбкой спросил он незнакомца.
— О нет! — Незнакомец добродушно засмеялся и поправил на голове шляпу. — Ведь вы — Григорьев?
— Григорьев? — переспросил Зайцев, начиная уже раздражаться. — Какой еще Григорьев?
— Григорьев, из Тамбова, с письмом от Марьи Федоровны, — убежденно и ласково ответил незнакомец, поддернул вверх рукав пиджака, взглянул на наручные часы и вдруг спохватился. — Ой, простите!
Он вскочил с кресла, прижал почему-то руку к сердцу и так же стремительно, как и появился, выбежал прочь, громко хлопнув дверью перед самым носом Зайцева.
Но Зайцеву визит этот показался достаточно странным. Все последнее время ему приходилось держаться настороже, и сейчас у него было такое ощущение, точно мимо его головы только что просвистела пуля. Он бросился к двери, хотел нагнать незнакомца, но этот астматик уже успел скрыться. Зайцев решил его все-таки догнать, но увидел шедшего по коридору Железнова и невольно остановился.
— Что с вами? — поинтересовался Виктор, глядя на встревоженного Зайцева.
— Да ерунда какая-то, — недовольно ответил Зайцев. — Приходят какие-то люди… Черт в них разберется!
— Какие люди? — спросил Виктор, и глаза его заблестели. — Быстро!
— Парикмахер, которого я не вызывал, — объяснил Зайцев. — Потом еще какой-то субъект. Какую-то Марью Федоровну спрашивал.
— Какие? Какие они из себя? — нетерпеливо закричал Виктор. — Да не тяните же!
Зайцев запнулся.
— Ну, знаете ли, это надо вспомнить. Я не писатель и не следователь…
Но Виктор уже схватил его за руку и повлек вслед за собой. Невольно заражаясь волнением Железнова, Зайцев тоже заторопился и побежал рядом с ним — и по коридору, и вниз по лестнице, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. Ни парикмахера, ни незнакомца в шляпе нигде не было видно. Виктор и Зайцев пронеслись через вестибюль мимо удивленного портье, опередили бросившегося было к двери швейцара и выскочили на тротуар.
— Смотрите, смотрите, — приказал Виктор свистящим шепотом. — Видите вы их где-нибудь?
И Зайцев действительно увидел вдруг зеленоватое коверкотовое пальто.
— Вон! — крикнул он, указывая Виктору.
Парикмахер успел уже скрыться, но незнакомец стоял еще по ту сторону площади и махал кому-то рукой. Виктор побежал к нему. Но в это время к незнакомцу подъехал автомобиль, и он почти на ходу сел в машину. Виктор оглянулся. На стоянке стояли такси, он бросился обратно.
— Скорей! — крикнул он шоферу, опускаясь на переднее сиденье и смотря вперед через стекло. — К углу! Не разворачивайтесь, я отвечаю перед милицией.
К счастью, постовой милиционер вообще не заметил нарушения правил уличного движения, и автомобиль с незнакомцем не успел скрыться из виду.
Впрочем, машина двигалась медленно, точно незнакомец в шляпе никуда не спешил и ни от кого не пытался скрыться. Виктору приходилось даже сдерживать шофера такси, не видевшего смысла в медленном продвижении.
Они проехали вдоль одной улицы, вдоль другой, вдоль третьей…
Наконец, преследуемый автомобиль остановился, незнакомец в шляпе выскочил из машины, пересек тротуар и скрылся за какой-то дверью.
Виктор толкнул шофера. Тот рванул машину, и минуту спустя они поравнялись с преследуемым автомобилем. Это тоже было такси. Виктор сунул шоферу деньги и подошел к другой машине.
— Кого вы привезли? — спросил он шофера. Тот недоумевающе на него посмотрел. Виктор понял, что шофер ничего не знает.
Виктор взглянул на дверь, за которой скрылся незнакомец. Это была парикмахерская. И вдруг в его памяти мелькнула мысль о том, что именно в эту парикмахерскую заходил вчера муж Основской. Виктор вошел в парикмахерскую и взглянул на вешалку. Коверкотовое пальто там не висело. Он вошел в мужской зал. Незнакомца там не было. Виктор вернулся к швейцару.
— Куда прошел человек в зеленом пальто? — спросил он швейцара.
— Не проходили-с, — любезно ответил швейцар.
— В зеленоватом пальто? — переспросил Виктор.
— Никто не проходили-с, — повторил швейцар. Виктор бросился в служебные помещения.
Там сидели уборщицы.
— Здесь прошел кто-нибудь? — спросил он.
— Да отсюда и ходу нет, — лениво ответила одна из уборщиц.
Виктор заглянул в другой зал. На него сердито прикрикнули:
— Гражданин, здесь дамы…
Незнакомца в зеленоватом коверкотовом пальто не было нигде.
7. Перемена квартиры
Это была одновременно и удача, и неудача. Неудача заключалась в том, что преступника Виктор упустил, а в том, что это был преступник, Виктор не сомневался. Удача заключалась в том, что в своих поисках он вторично попал в одно и то же место. В случайные совпадения Виктор не верил, и сразу мысленно связал несколько рассыпанных звеньев одной цепи: перепечатку документа, в котором говорилось о дальнейшей работе Зайцева; посещение Основским парикмахерской; появление парикмахера в гостинице…
В голове Виктора ясно рисовалась картина всего происшедшего: Основская сообщила мужу содержание документа, он известил об этом кого-то, кто прячется под личиной парикмахера, и этот человек явился сегодня утром к Зайцеву для того, чтобы убить его так же, как до этого был убит Сливинский. Эти люди любили чистую работу! Они не только похитили важнейшее изобретение, они хотели помешать его восстановлению.
Смущало Виктора появление незнакомца в зеленоватом пальто. Но, поразмыслив, Виктор и тут нашел объяснение. Изобретение было слишком выдающимся, чтобы за ним одновременно не пытались охотиться разведки враждебных друг другу капиталистических держав. Может быть, только потому, что нашла коса на камень, Зайцев остался сегодня утром в живых!
Виктор понял, что совершил оплошность, и почувствовал себя виноватым. Ему отчетливо вспомнились наставления Пронина, и он с особой остротой почувствовал, какая громадная ответственность возложена сейчас на него. Раскрыть преступление — найти чертежи и поймать преступника — было для него делом чести. Но не менее важным делом было обеспечить Зайцеву безопасность. Самая большая трудность заключалась в том, что Зайцева нельзя было спрятать, он должен был находиться на виду у тех, кто за ним охотился. Только при этом условии можно было надеяться задержать преступников, и в то же время Виктор понимал, что он ни на секунду не смеет рисковать жизнью Зайцева.
Виктор вернулся в гостиницу. Шел уже десятый час. Зайцев собирался в управление.
— Ну что? — спросил Зайцев. Виктор невесело покачал головой.
— Ничего.
— Не догнали?
— Нет.
Они помолчали.
— Ну я пойду, — сказал Зайцев.
— Знаете что? — вдруг решительно остановил его Виктор. — Вам понятно, что произошло утром?
— Да, я догадываюсь. Продолжается история с чертежами?
— Безусловно. Вы хотите, чтобы они были найдены? — спросил Виктор.
— Конечно, хочу. Но чертежи я могу восстановить. Я гораздо больше хочу, чтобы нашли Сливинского.
— А вы смелый человек? — спросил вдруг Виктор.
— Во всяком случае, не очень трусливый, — ответил Зайцев. — А что?
— Так вот, если вы нетрусливый, я прошу вас в течение ближайших дней во всем меня слушаться, — сказал Виктор.
— Говорите, — коротко произнес Зайцев. — Что я должен делать?
— Притвориться трусливым, — предложил Виктор. — Не оставаться одному. И нигде не бывать, не предупредив меня, поселиться там, где вам предложит товарищ Евлахов. И больше ничего не делать.
— А чертежи? — спросил Зайцев.
— Чертежи вы должны восстанавливать, кто об этом говорит, — сказал Виктор. — А теперь я вас провожу.
Они пешком дошли до управления, и Зайцев направился в зал для заседаний к своим чертежам, а Виктор пошел к Евлахову рассказать об утреннем происшествии.
— Да вы понимаете, что это такое? — взволновался Евлахов. — Мы немедленно переселим Зайцева за город, в закрытый санаторий, пусть там живет и работает, и никто об этом не будет знать.
— А я вас попрошу этого не делать, — мягко возразил Виктор. — Так мы ничего не найдем, и мотор наш будет стоять на вражеских самолетах…
— Поймите, жизнь этого мальчика дороже многих заводов, — перебил его Евлахов.
— Товарищ Евлахов, за жизнь Зайцева я отвечаю своей жизнью, — тихо и внятно сказал Виктор. — Мы его переселим, но не в санаторий.
— Вы поселите его у себя? — догадался Евлахов.
— Нет. Вызовите Основскую, вашу машинистку, и попросите ее приютить Зайцева, — посоветовал Виктор. — У нее отдельная квартира, живет она только с мужем и ребенком, ей нетрудно будет уступить на месяц одну комнату. Попросите ее. Объясните, что Зайцев восстанавливает чертежи, что в гостинице ему жить рискованно, что вы ей доверяете и просите на время устроить Зайцева.
— Что ж, Основская хорошая женщина, — согласился Евлахов. — Не понимаю только, зачем стеснять людей. Хотите, я устрою его у себя?
— Нет, не хочу, — твердо сказал Виктор. — Поверьте, ему у Основской будет лучше.
— Вижу, у вас какие-то особые соображения… — Евлахов поморщился. — Но если вы думаете, что так будет лучше, я поступлю по-вашему.
— Разумеется, предложите ей денег, — продолжал Виктор. — Оплатите комнату. Это никогда не помешает.
— Дело не в оплате, — сказал Евлахов. — А если она откажется?
— Ну, знаете ли, — это не такая большая жертва, на какую человек не мог бы пойти в интересах дела.
Евлахов вызвал Основскую и попросил ее об одолжении.
— Помогите нашему управлению, — сказал он. — Инженера Зайцева нам надо поместить в какой-нибудь тихой семье. Он занят военным изобретением, и ему лучше поменьше встречаться с посторонними.
Основская замялась:
— Я хотела бы спросить мужа…
Она позвонила к нему тут же из кабинета, передала просьбу Евлахова и с облегчением сообщила начальнику управления, что ради такого дела муж ее согласен временно потесниться.
Зайцева познакомили с Основской. Она понравилась инженеру тихостью, и приветливостью, и слабым грудным голосом, и особой женской уступчивостью, чувствовавшейся в ее движениях и словах.
— Там тебе лучше будет, Костя, — сказал Евлахов. — Анна Григорьевна женщина добрая, у нее тебе будет хорошо.
Предупрежденный Виктором, Зайцев переехал бы куда бы ни предложил ему Евлахов, но это предложение пришлось ему даже по душе, и с помощью Железнова он охотно перебрался к вечеру на новую квартиру.
8. Будни Виктора Железнова
Потянулись самые монотонные и напряженные дни, какие только бывают в жизни людей, в деятельности которых преобладает творческое начало. Кто из людей искусства или науки не знает мучительных мгновений, длящихся иногда бесконечно долго — днями, неделями, месяцами, когда где-то на дне души созревает мысль, решение, чтобы в определенный момент вспыхнуть, вырваться наружу и осуществиться всем на удивление. Так математик не слышит будничных вопросов окружающих, странствуя в мире бесконечных цифр, прежде чем отдаст предпочтение немногим и составит формулу, открытие которой раздвигает наши горизонты. Так живописец бесцельно слоняется и смотрит на все пустыми глазами, пока не замрет перед каким-то серым пятном, в котором увидит сочетание красок, тщетно отыскиваемое сотнями художников. Так полководец мучает молчанием подчиненных, пока не отдаст приказ, поражающий простотой и смелостью. В творчестве всегда есть нечто иррациональное, и дни, когда ощущения не могут еще оформиться в мысли, бывают самыми мучительными.
Обо всем этом Виктор, может быть, и не думал, беседуя с Зайцевым, посещая злополучную парикмахерскую или коротая вечера у Основских, но ощущение тяжести от невозможности решить задачу, не решить которую было нельзя, у него не проходило. Иногда он даже отчаивался и давал себе обещание пойти к Пронину проситься на другую работу, более соответствующую его силам. Он мог бы стать инженером или историком, здесь он успел бы больше, думал Виктор. Пронин сумел внушить ему чрезмерно высокое представление о работе разведчика. Работа эта требовала напряжения всех духовных способностей человека, требовала высокой культуры, непрерывного совершенствования. Пронин называл имена Пржевальского и Вамбери, Лоуренса и Певцова, людей знаменитых и безвестных, говорил об их талантливости и героизме, и с каким-то внутренним удовлетворением и горечью повторял, что работа эта неблагодарна и внешне бесславна, но что нет ничего выше, как служить Родине на таком незаметном и тяжелом посту. Да, это было творчество, и поэтому и Виктор, и Пронин знали огонь вдохновения и холод отчаяния, горечь поражения и радость победы.
Виктор давно не испытывал такого прямо-таки физического томления, как в эти дни. Может быть, это было даже состояние, какое испытывает боксер, вступая в решительную схватку. Драка еще не началась, но он уже видит своего противника, оценивает его, выискивает слабые места, с трепетом думает о собственной уязвимости, напрягает все силы и, не жалея себя, готовится ринуться, сокрушить, растерзать силу, ему противодействующую…
Жизнь шла своим чередом. Зайцев был погружен в работу. Чертежи приходилось восстанавливать по памяти, а человеческая память — ненадежный союзник. Но у него был ясный и молодой ум, и контуры мотора с каждым днем делались яснее и четче. Вставал Зайцев рано, завтракал и уезжал в управление. Там работал до сумерек и возвращался усталый, ко всему равнодушный, пустой как выжатый лимон. Вечера проводил дома, об этом его просили и Виктор, и Евлахов, и развлекался тем, что вслух читал Саше, сыну Основских, книжки, решал кроссворды или помогал раскрашивать картинки. Виктор тоже каждый вечер проводил у Основских. Он приносил с собой пирожные, пил чай, смешил Анну Григорьевну, рассуждал с Основским о фотографии и сделался у них своим человеком.
Это была бы самая обыкновенная милая семья, если бы не нервная напряженность, которая чувствовалась в отношениях между мужем и женой. Неопытный наблюдатель, возможно, ничего бы и не заметил, но Виктору по роду своей службы приходилось быть и психологом.
— Смотри, Аня, ляг сегодня пораньше, не опоздать бы тебе завтра на службу, — ронял Основский за чаем, казалось бы, совсем невинную фразу.
Но после этих слов голос у Анны Григорьевны начинал почему-то дрожать, и через несколько минут она вдруг вызывающе говорила:
— Ну и прогуляю!
И с какой-то сдержанной запальчивостью тут же обращалась к Виктору:
— На сколько месяцев сажают в тюрьму за прогул, Виктор Петрович?
Виктор не скрывал от Основских ни места своей службы, ни того, что ему поручено охранять Зайцева. Поэтому в отношении к нему установилась та естественность, которая позволяла людям не держаться перед ним настороже.
Парикмахерскую, в которой исчез незнакомец в коверкотовом пальто, Виктор тоже посещал ежедневно, и уже на третий день его стали там считать завсегдатаем, мастера с ним здоровались и интересовались его мнением о международном положении, а Виктор знал всех по имени.
Каждый раз, открывая тяжелую дубовую дверь, Виктор с надеждой поглядывал на вешалку, но ему ни разу так и не пришлось увидеть на ней памятное коверкотовое пальто.
Работал здесь и парикмахер, приходивший в гостиницу. Его нетрудно было узнать по описанию Зайцева: бесцветное лицо, голубые глаза, рыжие брови, белесые волосы. Звали его Захаров. Он был тих и неразговорчив, но товарищи с ним считались и не отпускали на его счет шуток. Чувствовалась в нем уверенность в себе; его методичность, сдержанность и неторопливость внушали уважение и мешали обращаться с ним запанибрата.
Захаров не только не понравился Виктору, но и был ему почему-то противен. Любить врагов вообще было не за что, толстовские чувства были чужды Виктору, но во всех преступниках, с которыми приходилось Виктору сталкиваться, а сталкиваться приходилось немало, даже в самых грубых и неприятных, было что-то человеческое. Были у них какие-то привязанности и симпатии, самого закоренелого что-то могло взволновать и вывести из равновесия, билось в их груди все-таки обычное человеческое сердце, и текла в их жилах обычная горячая кровь. А Захаров казался Виктору холоднокровным, скользким, бесчувственным, напоминал пресмыкающееся, Виктору потребовалось бы большое усилие воли, чтобы заставить себя сесть к Захарову в кресло и позволить ему прикоснуться к себе мясистыми бледными пальцами. И тем не менее именно из-за него заходил Виктор каждый день в эту парикмахерскую.
Однажды он столкнулся в дверях с Основским. Тот почему-то смутился.
— Вот зашел, дома никогда так чисто не выбриться, — принялся он зачем-то оправдывать свое посещение парикмахерской.
Но Виктор знал, зачем здесь бывает Основский, и поэтому сам постарался придать встрече случайный характер.
— Тут неподалеку приятель у меня живет, вот он и рекомендовал мне это заведение…
Виктор внимательно прислушивался ко всем сплетням, ходившим в парикмахерской. Он знал о том, что Файвилович считает себя сердцеедом и любит франтить, по нескольку дней не обедая и экономя деньги на покупку заграничной шляпы кирпичного цвета. Знал о том, что Сидоров съедает в день два килограмма моркови, считая морковь тем самым эликсиром жизни, который сохранит ему долголетие. Знал, что Кукушкин готовится сдать экстерном экзамен за среднюю школу и поступить в медицинский институт, а Рабинович хочет жениться на маникюрше Поповой и не может из-за отсутствия комнаты. Знал, что Захаров собирался купить жене шубу и дважды хотел продать свой патефон, но так и пожалел с ним расстаться…
Виктор узнал жизнь парикмахерской во всех подробностях, но смешные и печальные эти подробности мало продвигали его по пути к раскрытию преступления.
Тогда он начал задавать самому себе сотни детских «почему». Почему Основская раздражается против своего мужа? Почему она согласилась выдавать служебные тайны? Почему Основский стал врагом Советской власти? Почему Захаров пошел утром в гостиницу? Почему он все-таки не убил Зайцева? Почему в гостиницу не пошел Основский? Почему они так спокойны? Почему не совершат какой-либо оплошности, которая позволила бы Виктору догадаться о месте нахождения чертежей?
Да, Виктору очень хотелось, чтобы кто-нибудь из них совершил хоть какую-нибудь оплошность! Но оплошностей никто не совершал, жизнь шла своим чередом, люди казались теми, кем хотели казаться, и Виктор топтался на одном и том же месте.
Тогда он принялся изучать прошлое этих людей, пытаясь хоть в нем найти ответ на одно из своих «почему» — почему эти люди стали врагами Советской власти?
Основская была дочерью мелкого служащего и ничего не могла потерять вследствие революции. Правда, машинисткой она могла стать и прежде, но теперь она получала путевки в санатории, сын ее бесплатно учился в школе, она не зависела от произвола начальников, и много-много других обстоятельств внесла революция в ее жизнь мелкой служащей, наличия которых она почти не ощущала, но потерю которых восприняла бы как несчастье.
Основский был сыном владельца модной в прошлом московской фотографии. Этот при некотором желании мог считать себя обиженным. Правда, занимался он все тем же ремеслом и зарабатывал много денег, но неудовлетворенные чувства хозяйчика способны были тревожить его воображение. Власть над двумя ретушерами могла ему представляться настоящей властью, а возможность распоряжаться собственной кассой — истинным богатством. Но он был не очень умен и находчив, чтобы ринуться по собственному почину в политическую борьбу.
Захаров был опаснее. Но и этому нечего было терять при советском строе. Сын местечкового обывателя из каких-то Озериков, он раньше и мечтать не мог попасть в Москву, в которой припеваючи теперь жил. Он был сравнительно молод, было ему всего тридцать четыре года, и даже развратиться не мог он успеть в старом обществе. Семь лет назад прибыл он в Москву, имея в кармане лишь машинку для стрижки волос, — Павел Борисович Левин, бедный молодой человек, жаждущий всяких земных благ. И он их приобрел: женился на симпатичной женщине, достал комнату, нашел доходное место… Что могло не нравиться ему в советской стране? Может быть, он был врожденным авантюристом? Но на авантюриста Захаров был не похож. Остановило было на себе внимание Виктора то обстоятельство, что при женитьбе Левин взял себе фамилию жены, но и в этом не было ничего предосудительного: мало ли местечковых молодых людей переменили за эти годы свои фамилии. Нет, несмотря на всю свою антипатию, Виктор не находил социальных обоснований для преступного поведения Захарова.
9. Детская картинка
Люди нетерпеливые и не умеющие владеть своими нервами меньше всего годятся для разведывательной работы. Рассказывают, что в одной из лучших иностранных школ, готовящей политических разведчиков для работы за границей, каждый обучающийся перед окончанием курса проходит такое сложнейшее испытание. Испытуемого сажают в пустую комнату, в которой отчетливо слышно биение метронома. Здесь он проводит некоторое время и по выходе должен лишь сказать, сколько секунд отсчитали часы. Секрет заключается в том, что часовой механизм пускается с различной скоростью, и только очень внимательные и волевые люди способны выдержать это испытание. Таким испытаниям Виктору подвергаться не приходилось, и он не был уверен, способен ли он его выдержать, но и в его работе наступали периоды, когда приходилось только ждать, — не действовать, а выжидать, и вот именно в это время требовалась особая выдержка.
Все как бы притаились. Так в степи, после выстрела, прячутся в свои норы суслики. Нигде никого и ничего. То ли это ветер качнул травинку, то ли зверек на мгновение высунул свою мордочку, чтобы посмотреть, не грозит ли ему откуда-нибудь опасность… Тишина, безмолвие, неподвижность.
Каждое утро заходить в парикмахерскую, каждый вечер пить чай у Основских и ждать, ждать…
Вот почему Пронин заставлял Виктора еще в детстве решать, казалось бы, ненужные для будущей работы труднейшие головоломки и часами в морозы, в непогоду ходить по лесу на лыжах!
Что ж, эта тренировка давала себя знать, и Виктор оживленно рассказывал Анне Григорьевне, как его мать варит варенье из крыжовника, и глубокомысленно расхваливал посредственные снимки Основского.
Вот опять пронесся по комнате тонкий надоедливый свист! Это закипел электрический чайник. Основский очень гордился свистком, который он где-то раздобыл, нацепляющимся на носик чайника и свистящим от врывающегося в него пара.
— До чего дошла за границей техническая мысль! — в сотый раз восторженно воскликнул он, едва только чайник начал свистеть. — Нет, долго еще нам придется догонять эту технику!
— А вот вы достаньте еще тостер, — в тон ему поддакнул Виктор. — Это такая машинка, поджаривать хлеб…
Основский с любопытством повернулся к Виктору.
— А у вас ее нет? — спросил он.
— Нет, — огорченно признался Виктор. — Чудо техники. Хлеб так и хрустит на зубах.
— Да, — вздохнул Основский. — Командировали бы меня в Америку…
— А я хотел бы поработать в Америке простым рабочим, — сказал Зайцев. — Мы любим всех учить, а в нас самих еще много отсталости. Только слава что инженеры.
— Да уж чья бы корова мычала, а ваша молчала, — шутливо заметила Анна Григорьевна. — Евлахов только и знает, что вас всем в пример ставит. Вот попомните мое слово: вам скоро орден дадут.
— Так мне орден не за хорошую работу дадут, — сказал Зайцев с усмешкой. — За порыв, за выдумку. Этим у нас все богаты. Такое иногда выдумаем, что весь мир ахнет. А вот изо дня в день, минута в минуту, одно и то же, сегодня как вчера, это мы еще слабы, не привыкли…
— Ну а ты, Саша, что по этому поводу думаешь? — спросил Виктор сына Основских.
— А я рисую, — ответил восьмилетний Саша, переводя дух и царапая карандашом по бумаге.
— Э, милый, это жульничество! — воскликнул вдруг Зайцев. — Что же это за рисование под копировку.
Зайцев вытянул из-под руки мальчика картинку, вырезанную из какого-то журнала, на которой были изображены скачущие всадники, и прислонил ее к сахарнице.
— Вот как надо срисовывать, — сказал он, комкая листок копировальной бумаги и бросая под стол. — Никогда не своди картинок, такты не научишься рисовать. Давай сюда карандаш…
Несколькими штрихами инженер набросал на бумаге лошадь.
— И непохожа, — сказал Саша, сравнивая набросок с картинкой.
— А и не надо, — возразил Зайцев. — На картинку непохоже, а на лошадь похоже. Давай нарисуем папу…
Они вдвоем принялись рисовать Основского.
— К копировальной бумаге и не думай прикасаться, — повторил Зайцев. — Своим глазам надо верить, а не сводить.
— А у меня ее много, — похвалился Саша.
— Откуда же она у тебя? — поинтересовался Виктор.
— А это я со службы приношу, — торопливо пояснила Анна Григорьевна. — Использованная. Которая для работы уже не годится. — Она глазами указала на мужа. — Затемняем лабораторию от света.
Она не дала Саше даже заикнуться, как-то явно поспешив со своим ответом, вполне правдоподобным ответом, точно он давно был у нее приготовлен для такого случая.
Виктор подошел посмотреть на рисунок и наступил ногой на скомканную копирку.
— Намусорили мы тут, — сказал он и поднял копирку. — Куда бы это бросить, Анна Григорьевна?
— Да в кухню, — сказала она. — Давайте, я выброшу.
— Да я сам выброшу, — сказал Виктор и пошел в кухню…
Листок этот он тщательно изучил дома, рассматривал его и так и этак, и на свет, и против зеркала, но прочесть на нем было нечего, был он совсем новый, и только контур лошади, неряшливо обведенный карандашом Саши, отчетливо вырисовывался на листке.
Лошадь эта даже приснилась Виктору ночью. Она насмешливо ржала, хотела его лягнуть, Виктору очень хотелось ее поймать, но она так ему и не далась.
Проснувшись, Виктор никак не мог забыть кривую лошадку, точно была она нарисована гениальной рукой Рембрандта. Вдруг его осенило: дело тут не в лошадке. Если листки копировальной бумаги, использованные при перепечатке важных документов, сдавались в секретную часть, то ведь чистые листки никем не учитывались! Что стоило Основской вместо одного листка прокладывать между белой бумагой сразу по два? Сейчас не было необходимости устанавливать, каким именно способом передавала Основская служебные тайны мужу, но Пронин всегда добивался в расследовании дел точности.
Виктор хотел заглянуть и в лабораторию Основского. Слова Анны Григорьевны должны были иметь реальное подтверждение, она не стала бы ими бросаться. Основские не могли не позаботиться о полной видимости правды.
Виктора никто не ожидал, но и никто не придал его приходу какого-нибудь значения. Он мог наблюдать обычную картину беспорядочного утра в одной из многих столичных семей. На обеденном столе остывал алюминиевый чайник, стояли стаканы с недопитым чаем, валялись неровно нарезанные ломти хлеба, рядом с пустой масленкой лежало размазанное по бумаге масло, скатерть была усыпана крошками, из стакана торчал окурок. Все спешили, никому ни до кого не было дела.
Саша ушел в школу. Анна Григорьевна торопливо одевалась. Собрался было с ней и Зайцев, но Виктор удержал инженера. Основский возился дольше, заряжал в лаборатории фотографический аппарат, искал какие-то снимки, чертыхался, ругал редакцию и Анну Григорьевну… Может быть, никогда люди не обнаруживают так свою сущность, как в тот момент, когда они очень спешат. Наконец, собрался и Основский. Он на ходу попросил у Зайцева папиросу, взял их целый десяток: «Спешу, некогда будет купить», — и убежал.
Виктор усмехнулся.
— «Гарун бежал быстрее лани», — продекламировал он, кивая на хлопнувшую дверь. — Энергичная личность!
— Так-то оно так, — неопределенно отозвался Зайцев. — Только уж очень много энергии тратит он на то, чтобы жену дергать…
— А вам он не мешает? — поинтересовался Виктор.
— Я в студенческом общежитии вырос! — Зайцев рассмеялся. — В зверинце могу работать!
— Скажите, Константин Федорович, — вдруг спросил его Виктор. — Вы не очень соскучитесь, если я дня на три уеду?
— А разве вы ко мне нянькой приставлены? — ответил Зайцев. — Пожалуйста. Меня и так чересчур опекают.
— Но уговор дороже денег, — сказал Виктор. — Все-таки вы сейчас, так сказать, больше объект, чем субъект. Вы, конечно, вправе считать меня фантазером, но уехать я могу только при одном условии. Обещайте мне подвергнуть себя домашнему аресту. Управление, этот дом, и больше никуда, — обещаете?
— Да мне и самому некогда гулять, — сконфуженно сказал Зайцев. — Обещаю, конечно.
— А вон и шофер вас зовет, — продолжал Виктор. — Слышите, рявкает?
За окном и вправду рявкала автомобильная сирена.
Зайцев с порога спросил Виктора:
— А вы?
— Я останусь, — ответил Виктор. — По телефону позвоню. Мне в другую сторону.
Он закрыл за инженером дверь и пошел в лабораторию Основского. Она была устроена в маленькой комнатке при кухне, предназначавшейся прежде для домашней работницы. В комнату был проведен водопровод, в большой раковине мокли в воде какие-то снимки, стол был заставлен кюветками и рамками, на полках стояли химикалии. Обычная кустарная лаборатория не очень аккуратного человека. Виктор с любопытством ее осмотрел. Да, рамки, пузырьки, пакеты. Тщательно заклеенное окно. Окно, окно… Оно-то его и интересует!
Виктор приблизился к окну. Вот на что пошла копировальная бумага! Он достал карманное зеркальце, отодрал листок, попробовал прочесть текст, отпечатавшийся на копировальной бумаге. Отдельные слова можно было разобрать: «…выговор… уборщице… обеденный перерыв… Епифанкиной… бухгалтерии… баланса…». Учрежденческий приказ! Виктор еще раз с интересом посмотрел на заклеенные стекла. Вот где находился архив управления! Знать это, конечно, не мешало, но изучением листков можно было не заниматься. Ничего такого, чем машинистке Основской не следовало интересоваться, здесь найти было бы нельзя. В этом Виктор не сомневался. Находка говорила лишь о том, что и секретные документы могли тем же путем попадать… ну хотя бы в руки к тому же Захарову! Конечно, Основский встречался со множеством людей… В парикмахерскую он заходил нечасто. Но встречи его с Захаровым совпадали по времени с происшествиями, которыми интересовался Виктор. Основский был слишком осторожен и не хотел, чтобы у него залеживались секретные бумаги, а людей, которым можно передать похищенные документы, не так уж много. Ну а об интересе Захарова к Зайцеву свидетельствовало хотя бы его появление в гостинице…
Все, что касалось машинистки Основской, было ясно. Она была наиболее пассивным участником преступления. Муж ее попросил как-то принести использованную копировальную бумагу для заклейки стекол. Вначале она сама поверила в то, что копировальная бумага только для этого и нужна. Ничего преступного не видела она в том, чтобы принести из учреждения мусор, который целыми корзинами выносили уборщицы из машинописного бюро. Однажды Основскому удалось прочесть содержание более или менее важного документа. Он спрятал эту копирку. Таких листов скопилось несколько. Было нетрудно запугать слабохарактерную и не очень умную женщину, а запугав, заставить и приносить кое-что из документов…
Более или менее ясным было и поведение Основского. У этого человека имелись свои мелкие счеты с Советской властью, и купить его можно было деньгами или свистком для чайника, можно было даже раздразнить неудовлетворенное обывательское тщеславие. На убийство или кражу со взломом Основский, пожалуй, не пошел бы, назвал бы такое преступление низменным, хотя на самом деле у него просто не хватило бы смелости столкнуться со своей жертвой лицом к лицу. Но украсть государственную тайну или тайком сфотографировать железнодорожный мост Основский был способен, это казалось ему и не таким опасным, и даже на какие-то свои принципы мог он сослаться здесь ради оправдания.
Гораздо труднее было разобраться в поведении Захарова. Однажды он посетил инженера Зайцева. Виктор понимал, что посещение произошло неспроста. Но в чем можно было обвинить Захарова? Да, кто-то ему позвонил, и он явился по вызову с бритвенными принадлежностями. Оказалось, произошла ошибка. Он и ушел. Встречается с Основским? Виктор соединил звенья: управление — Основская — ее муж — Захаров… Но мало ли посетителей стрижет и бреет Захаров? Основский, Петров, Сидоров, каждый день десятки людей, со всеми приходится разговаривать, но ни о чем предосудительном Захаров с Основским не разговаривал, и уж, конечно, никаких бумаг от него не получал!
Очень ловко скользил меж людей Захаров. Но если не за что было уцепиться сейчас, может быть, следовало отойти назад, поискать что-нибудь в прошлом, найти среди многочисленных клиентов парикмахера какого-нибудь его старого знакомого, повидать родственников, узнать о мечтах, с которыми Павел Григорьевич Левин приехал когда-то в Москву…
Виктор позвонил Пронину.
К телефону подошла Агаша.
— Ивана Николаевича, — сказал Виктор. — Как он себя чувствует?
— Спит, не велел будить, — сказала Агаша. — Позвони еще.
Виктор позвонил еще. Пронин проснулся.
— Я хотел бы зайти к вам, Иван Николаевич, — сказал Виктор. — Ничего не поделаешь…
Но самолюбие его не страдало. Он пришел к Пронину не за советом. Виктор считал необходимым выехать в Озерики, на родину парикмахера Захарова. Отлучиться из Москвы без разрешения Пронина Виктор не смел. Вот он и пришел спросить…
Пронин сидел на тахте полуодетый. На ковре у тахты валялись комплект «Вечерней Москвы» и телефонная книжка. На стуле стояла откупоренная бутылка с нарзаном, в которой играли пузырьки углекислоты.
— Сегодня вы лучше выглядите, — сказал Виктор с одобрением.
— Скучно, — пожаловался Пронин. — Старые газеты читаю. Совсем отстал от жизни. Про цапель тут очень интересно написано…
Виктор снисходительно посмотрел на Пронина.
— Так ехать мне или не ехать, Иван Николаевич?
— В Озерики? — задумчиво повторил Пронин. — Ну что ж, поезжай, посмотри на эти Озерики. Дня на два согласен тебя отпустить. Кто только Зайцева будет в это время опекать?
Пронин пытливо взглянул на Виктора.
— Основский! — Виктор ухмыльнулся. — Не одобряете?
— Нет, это ты неплохо придумал, — согласился Иван Николаевич. — Пакостник, но не высокого полета. Скорее удавится, чем позволит тронуть Зайцева у себя на квартире. Трус. Однако береженого бог бережет…
— Я поручу Афиногенову и Лифшицу, — добавил Виктор. — Они присмотрят.
— Ну действуй, действуй, — одобрительно сказал Иван Николаевич. — Захаров — это крепкий орешек.
— Вы понимаете, я не мог заставить Зайцева скрыться, — объяснил Виктор. — Все бы сразу заволоклось туманом.
— Признаю, — одобрил Пронин Виктора, — это было остроумно: отдать Зайцева под охрану его же убийцы. Если бы я, находясь в толпе, заметил, что у меня пытаются украсть из кармана кошелек, я бы обязательно отдал его на сохранение заведомому карманнику. Во всяком случае, у него кошелек был бы целее.
— Исчезни Зайцев, преступники отошли бы в тень, — договорил Виктор. — А так они видят Зайцева и сами замерли на месте. Конечно, было бы нелепо делать вид, что на убийство Сливинского не обращено внимания и что Зайцев оставлен без присмотра. Я и не скрываю, что последняя обязанность возложена на меня. Вместе с Зайцевым я сумел попасть к Основским, и они совсем не думают, что ими я интересуюсь больше, чем Зайцевым. Доверие даже успокоило их…
Пронин молчал.
— Понятно? — спросил Виктор.
— Спасибо за науку, — сказал Пронин. — А то мне, старому дураку, невдомек.
Виктор смутился.
— Разговорчив ты не по возрасту, — сказал ему Пронин. — Шел бы…
Виктор встал.
— Значит, я поехал? — спросил он нерешительно.
Пронин кивнул ему:
— Ни пуха ни пера, как говорится…
Виктор так и не понял — одобряет Пронин поездку в Озерики или нет.
10. Человек в зеленом пальто
Неопытному человеку кажется, что при раскрытии преступлений нет ничего проще, чем внешнее наблюдение. Сыщик в гороховом пальто стал анекдотической фигурой. Авторы детективных романов боятся обмолвиться об уличном наблюдении. Читатель требует более остроумных и тонких способов. Заставить героя выслеживать преступника, часами дежуря у ворот или прогуливаясь по тротуару… Фи!
На самом же деле при выслеживании преступника внешнее наблюдение имеет огромное значение. Это тяжелая и неблагодарная работа. В современных городских условиях, в лабиринте бесчисленных улиц и переулков, при многочисленных и разнообразных транспортных средствах от наблюдателя требуется немалое искусство, для того чтобы добиться каких-нибудь результатов. Попробуйте выпустить в форточку кошку и проследить за ее прогулкой! За человеком следить трудней, он — умнее. Сколько настойчивости, остроумия и силы воли кроется иногда за фразой, скупо гласящей в донесении о том, что «преступник весь день не выходил из дома».
Захаров жил на Арбате, в кривом уютном переулочке, в каменном продолговатом особняке, построенном лет сто назад каким-то доморощенным архитектором. В мезонине этого дома родилась и выросла Елена Васильевна, фамилию которой носил теперь Захаров и в комнате у которой поселился. Они поженились шесть лет назад. Елена Васильевна были еще молода, служила счетоводом в сберегательной кассе, славилась мирным характером, и Захаров был искренне доволен женой и часто расхваливал ее перед сослуживцами.
В воскресенье Захаров в парикмахерскую не пошел, этот день был у него свободен.
Часов около восьми в квартиру № 4, в которой жил Захаров, почтальон принес газеты. Дверь ему открыл Захаров. Часов в десять вышла на улицу его жена. Она дошла до булочной, купила свежих баранок и вернулась домой. Часов в одиннадцать Захаров с газетой в руках спустился в садик, разбитый позади особняка. Под старыми корявыми вязами ребятишки играли в лапту. Захаров сел у забора на ветхую скамеечку, почитал газету, поговорил с ребятишками и пошел обратно. По дороге домой он постучал к соседям. Дверь ему открыла Бородкина, кассирша овощного магазина.
— Ниночка дома? — спросил Захаров.
— С утра волнуется, — приветливо ответила Бородкина.
— Присылайте ее, — сказал Захаров.
— Балуете вы ее, Павел Борисович, — сказала Бородкина.
Не прошло и пяти минут, как Ниночка прибежала к Захаровым.
— Ну и модница ты! — сказал ей Захаров вместо приветствия, выходя вместе с ней на лестницу.
На Ниночке было надето белое пальто и розовая шляпа, и была она похожа на нарядную куклу.
Елена Васильевна вышла их проводить. Она поправила на Ниночке шляпу, смахнула с пиджака мужа пушинку, и улыбка медленно сползла с ее лица. Она не понимала своего мужа. Захаров водил эту шестилетнюю соседскую девочку в театры, в музеи, покупал ей конфеты, не чаял в ней души. Елена Васильевна не ревновала мужа, ей даже нравилась эта дружба с девочкой. Она не понимала другого. Павел Борисович любил детей, в этом нельзя было сомневаться, но иметь своих детей почему-то не хотел. Вот на что жаловалась Елена Васильевна подругам.
— А что мы сегодня увидим! — многозначительно сказал Захаров на улице Ниночке. — Настоящего кота в сапогах!
Они и вправду отправились в Кукольный театр.
Какое оживление творилось у подъезда и в вестибюле! Пети, Сони, Вани и Тани щебетали, точно цыплята в огромном инкубаторе. Они не замолкали ни на секунду, тянули взрослых за руки, поминутно терялись и тут же находились, и все ужасно боялись опоздать к началу представления.
Захаров помог Ниночке снять пальто, разделся сам и пошел в зал, и уж, конечно, совсем непреднамеренно повесила гардеробщица их одежду рядом с зеленоватым коверкотовым пальто. А что за гомон стоял в зрительном зале! Но как быстро все стихли, едва поднялся занавес! Как заблестели глазенки, едва на сцене раздалось первое слово…
В антракте зрители побежали в фойе, и Захаров с Ниночкой тоже пошли вместе с другими. Захаров купил девочке в буфете громадное яблоко, поплотнее засунул платочек в кармашек ее платьица, чтобы не потерялся, на секунду отвернулся, чтобы попросить буфетчицу налить стакан нарзану, и девочку сразу оттерло от него детской толпой.
Ниночка завертелась среди сверстников, и вдруг радостно устремилась навстречу чему-то, тоже, должно быть, знакомому и приятному.
У стены сидел толстый дядя в пушистом сером костюме и манил девочку к себе, показывая ей шоколад. Это был очень хороший шоколад, в серебряной бумаге, в яркой обложке, большая плитка, сладкая и вкусная. Толстый дядя весело улыбался, можно было подумать, что девочка встречается с ним не в первый раз. Она подбежала, и дядя посадил Ниночку к себе на колени. Одернул на ней платьице, поправил в кармане платочек, дал шоколад…
Но Захаров уже разыскивал свою приятельницу.
— Нина, Нина! — укоризненно воскликнул он, издали глядя на девочку. — Кто тебе позволил…
Ниночка сконфуженно соскользнула с колен незнакомого дяди и тихо пошла к Захарову, виновато улыбаясь и прижимая шоколад к груди.
Человек в сером костюме и Захаров издали улыбнулись друг другу, как всегда это делают взрослые, забавляясь безобидным проступком ребенка, и разошлись по своим местам.
— Я скажу, скажу маме, что ты от меня убежала, — добродушно приговаривал Захаров. — Вот встану и уйду!
Но Ниночка отлично понимала, что Захаров нисколько на нее не сердится, и беспечно болтала ногами.
День прошел очень хорошо. Они досмотрели спектакль, чуть ли не самыми первыми успели пробраться в раздевалку — однако зеленоватого пальто на вешалке уже не было, — быстро оделись, без очереди сели в троллейбус, место им досталось у окна, и вернулись домой в самом расчудесном настроении.
А человек в пушистом сером костюме снисходительно дождался, когда схлынул говорливый и беспокойный поток возбужденных зрителей, неторопливо оделся, — увы, в серое клетчатое пальто! — вышел на улицу, сел во вместительный автомобиль, дожидавшийся его у подъезда, и поехал… к представителю одной из иностранных торговых фирм, сотрудником которой он тоже являлся. Не было ничего удивительного в том, что был он в Кукольном театре, потому что Москва славится своими театрами вообще, и Кукольным театром в частности, и все иностранцы любят в нем бывать.
Пока Павел Борисович находился в театре, Елена Васильевна приготовила обед. Они пообедали вдвоем. Захаров достал из гардероба футляр с пластинками, перебрал их, но патефон не заводил — он вообще редко его заводил, — заявил жене, что твердо решил продать патефон — «пора тебе новую шубу сшить». Он написал текст объявления о продаже, попросил Елену Васильевну отнести его завтра в контору «Вечерней Москвы», вздремнул часок на диване и ушел опять, сказав, что идет к Степанову, своему сослуживцу, играть в преферанс.
Но к Степанову он не пошел, а поехал в Дорогомилово. Там он долго бродил по тихим улицам, застроенным деревянными домиками, точно к чему-то присматривался или что-то искал, но так никуда не зашел и ни с кем не встретился.
11. Флигель в переулке
Наступили сумерки, когда Захаров поехал к Бутырской заставе.
В Бутырках он снова начал слоняться в переулках, поглядывая на дома и точно измеряя взглядом ширину переулков. Должно быть, здесь переулки понравились ему больше, чем в Дорогомилове. В одном из них, сонном и плохо освещенном, Захаров задержался. Он стал заходить во дворы и заглядывать за парадные двери, точно кто-то от него прятался и он никак его не мог найти.
Несколько раз Захаров прошел проходным двором, соединявшим два переулка, и, наконец, решительно облюбовал деревянный флигель в два этажа, выкрашенный побуревшей охрой, замыкавший двор и подслеповато глядевший своими окнами в темный и безлюдный Ступинский переулок.
Он поднялся по деревянной лестнице, выглянул в слуховое окно, спустился вниз, обошел флигель еще раз и перешел через улицу.
Против флигеля стоял трехэтажный кирпичный дом, но Захаров даже не взглянул в его ворота, бросил лишь на них быстрый взгляд и деловито зашагал прочь из переулка.
Он дошел до более оживленной улицы, остановился возле аптеки, заглянул через стекла в помещение. Покупателей там было мало.
Захаров поднялся по ступенькам на невысокое крыльцо, порылся у себя в кармане, быстро открыл дверь и как-то сразу юркнул в будку телефона-автомата. Звонил он недолго и так же быстро вышел наружу, так что вряд ли кто из находившихся в аптеке посетителей мог его заметить.
Выйдя из аптеки, он пошел обратно в сторону Ступинского переулка.
Шел он не торопясь, не интересуясь редкими прохожими, как вдруг с Захаровым поровнялся невысокий человек и заглянул ему в лицо. Да, это опять был тот самый человек в зеленом коверкотовом пальто! Нельзя было заметить, обменялся он с Захаровым какими-нибудь словами, подал ли ему какой-нибудь знак… Человек этот сейчас же заторопился и точно растаял за ближайшим углом.
Захаров равнодушно дошел до Ступинского переулка и, убедившись, что за ним никто не следует, вновь скрылся в парадном побуревшего флигелька.
По деревянной лестнице поднялся он на площадку второго этажа и прислушался. Из-за двери, выходившей на площадку, смутно доносился чей-то разговор. Дверь эта, по-видимому, открывалась редко, обитатели квартиры пользовались больше черным ходом, так что неожиданного появления кого-либо на лестнице можно было не опасаться. Захаров еще раз посмотрел на кирпичный дом, стоявший напротив. Номер на воротах дома был освещен тусклой лампочкой, свет от нее падал только на калитку. На улице было темно и тихо, это был один из тех провинциальных переулков, которые кажутся заброшенными в Москву прихотью судьбы. Изредка появлялись прохожие, да и те спешили скорей миновать глухое, невеселое место.
С помощью перочинного ножа Захаров отковырнул замазку, очень ловко, по-воровски, выдавил из рамы стекло и аккуратно отставил его в сторону. Где-то внизу хлопнула дверь. Захаров прислушался, но не обернулся. У него были хорошие нервы. Какой-то прохожий шел через двор. Захаров и на это не обратил внимания. Прохожий остановился почти у самого флигеля, должно быть, за нуждой. Действительно, через минуту шаги удалились, и снова все стало тихо. Захаров, не высовываясь, вглядывался в темноту. Он не отрывался от окна, чуть появлялся новый прохожий. Но, вероятно, среди них не было того, кто был нужен Захарову. Он оживился, когда услышал шум подъезжающего автомобиля. Разумеется, тот, кого он вызвал, не хотел путаться в незнакомых переулках и нанял такси.
Такси остановилось как раз перед воротами каменного дома. Пассажир расплатился, вылез, и машина уехала. Да, это был Зайцев!
Он был один. Зайцев еще раз взглянул на номер дома и вошел в ворота. Шаги его замерли. Все было тихо. Захаров достал из кармана револьвер и стал у окна, против калитки, точно он находился в тире. Прошла минута, другая. Захаров спустил предохранитель. Третья, четвертая… Захаров прицелился. Снова за воротами каменного дома послышались шаги — Зайцев возвращался. Захаров целился…
— Don’t shoot, mister Levy note 1, — услышал он вдруг за своей спиной негромкий, спокойный голос. — You will not get anything by this note 2.
Захаров обернулся. У стены стоял какой-то невысокий человек. В неясном свете, падавшем с улицы, на фоне серой оштукатуренной стены зеленоватым пятном выступало его пальто. Нужно было мгновенье, чтобы решить, спрятать револьвер или направить его на незнакомца. Захаров направил револьвер на незнакомца.
— Look on the street more attentively note 3, — равнодушно продолжал незнакомец, точно не видел направленного на себя револьвера.
— I don’t understand! note 4 — резко сказал Захаров и опустил револьвер.
— Vielleicht wünschen. Sie sprechen deutsch?note 5 — спросил незнакомец.
— Nein, ich verstehe nicht deutsch note 6, — насмешливо отозвался Захаров.
— Préférez-vòus parler français?note 7 — попробовал догадаться незнакомец.
— Non, jeneparlepas égalementlefrançaisnote 8, — упрямо сказал Захаров, напряженно вглядываясь в своего странного собеседника.
— Вы напрасно сердитесь на меня, господин Леви, — все так же спокойно и уже по-русски сказал незнакомец. — Посмотрите внимательнее на улицу.
Захаров снова взглянул в окно. Зайцев стоял на тротуаре и разглядывал номер дома. Потом он оглянулся. К нему приближались двое людей. Один из них был тот самый Железнов, который ежедневно прибегал в парикмахерскую. Значит, он вернулся из поездки и вновь принялся опекать Зайцева!
— Я ничего не вижу, — произнес Захаров. — Во всяком случае, ничего такого, что могло бы меня удивить или заинтересовать.
— Выгляните на мгновенье наружу, — еще настойчивее повторил незнакомец.
Конечно, он мог напасть на Захарова сзади, но если он так не поступил прежде…
Захаров выглянул. Опытный человек, он сразу понял, на что приглашал его взглянуть незнакомец. Флигель был оцеплен. Всюду мелькали неясные тени. Люди даже не очень прятались.
— Вы из них? — быстро спросил Захаров.
— Нет, я не из них, — холодно ответил незнакомец.
— Так чего же вы хотите?
— Чертежи, — отчетливо произнес незнакомец.
— Я вас не понимаю, — сказал Захаров. — Какие чертежи?
— Времени остается мало, господин Леви, — сказал незнакомец. — Не будем играть в прятки. Дом окружен, и через несколько минут вы будете арестованы. Я помогу вам отсюда скрыться, если за это будет уплачено чертежами…
— На кого вы работаете? — перебил Захаров.
— Это вас не касается, — ответил тот. — Угодно вам принять мое предложение?
— Но как вы избегнете ареста? — спросил Захаров.
— Это вас не касается, — опять повторил незнакомец. — Но вас я оставлю здесь, если не получу чертежи.
— Я не знаю, о каких чертежах вы говорите, — сказал Захаров.
Незнакомец приблизился к двери.
— Прощайте.
— Постойте! — воскликнул Захаров. — Вы следили за мной, вы знаете, где я живу. Вам заплатят за это! Передайте записку моей жене. Если вы гуманный человек…
— Чертежи? — спросил незнакомец.
— Вы опять о чертежах! — воскликнул Захаров. — Я ее хочу успокоить…
Он вырвал из записной книжки листок и на подоконнике, при тусклом свете, падавшем с улицы, нацарапал несколько строк.
— Вы обещаете? — спросил он незнакомца.
— Да, — отрывисто бросил тот и почти рванул записку…
На крыльце флигеля разговаривали люди.
— Возьмите мой револьвер, — внезапно попросил Захаров, протягивая оружие.
— Охотно, — сказал незнакомец и взял револьвер.
Он вдруг легко приоткрыл дверь, ведущую в квартиру, скрылся и тут же захлопнул ее за собой.
Захаров тоже бросился к двери, но она не поддавалась его усилиям. Внизу раздался стук, и кто-то стал подниматься по лестнице.
12. Внешнее наблюдение
Виктор вернулся в Москву в ночь под воскресенье. За двое суток, которые он провел в Озериках, не произошло ничего существенного. Зайцев бывал только в управлении и дома. Основская, кроме того, несколько раз заходила в лавки за мелкими покупками. Основский околачивался в редакции, ездил фотографировать ребят в детском саду и один раз заходил в парикмахерскую…
«Заходил в парикмахерскую», — мысленно отметил Виктор.
Никакие подозрительные люди к Основским не приходили, даже гостей не было. Возле дома тоже никто не был замечен.
Немного услышал Виктор, но он знал, сколько труда и внимания должны были потратить Афиногенов и Лифшиц, для того чтобы иметь возможность сделать этот краткий отчет.
Наблюдение следовало продолжить. Афиногенов и Лифшиц по-прежнему должны были охранять Зайцева, а себе Виктор избрал наиболее трудный объект — Захарова.
После дороги Виктор позволил себе несколько часов отдохнуть, но уже с утра находился близ квартиры Захарова, задолго до прихода почтальона. Виктор видел, как Елена Васильевна пошла в булочную, как Захаров прогуливался по садику, как отправился с девочкой в театр… Стоило немалого труда все видеть и оставаться незамеченным. Недаром Пронин еще совсем юному Виктору иногда вдруг сообщал о том, что отправляется на прогулку в Сокольники, и требовал, чтобы вечером Виктор рассказал о каждом шаге Пронина. Задача считалась невыполненной, если Пронин в свою очередь мог сообщить хотя бы об одном шаге Виктора. Эта игра многому научила Виктора. Искусство видеть других и не позволять видеть себя доступно только человеку, постоянно тренирующему мозг и тело. Это был труднейший вид спорта, и Захаров был достойным соперником. Но его, должно быть, дезориентировал Основский. Выходя на ринг или беговую дорожку, нельзя полагаться на советы доброжелателей. Наверно, отъезд Виктора убедил Основского в том, что наблюдение за Зайцевым ослаблено, он передал об этом Захарову, а тот не то что стал менее осторожен, но стал более активен. По всей вероятности, он счел момент благоприятным, чтобы перестать выжидать и опять перейти в наступление.
Виктор заметил на вешалке в театре зеленоватое пальто, цвет которого он запомнил очень хорошо. С этого момента он не сомневался в том, что у Захарова назначено в театре свидание. Устроено оно было очень ловко. Иностранец в сером костюме и Захаров играли девочкой как мячиком. Просто физически невозможно было перехватить этот мячик кому-либо третьему. Обменялись они записками или передан был какой-нибудь документ, этого Виктор установить не мог, но смысл игры был для него ясен. В меньшей степени национальность иностранца и в большей его служба в известной иностранной торговой фирме позволили решить, чьим агентом Захаров является.
К сожалению, пальто иностранца оказалось не таким, какое хотелось видеть Виктору. Был еще кто-то третий, ускользающий от внимания Железнова…
Загадочно было путешествие Захарова по глухим переулкам. Он что-то искал. Но что?
Однако когда Захаров остановил свой выбор на определенном доме, дважды его обошел, осмотрел лестницу, изучил двор, Виктор резонно предположил, что здесь замышляется новое преступление. Возможно, более решительных действий от Захарова потребовал встреченный им в театре иностранец. Во всяком случае, Захаров что-то замышлял… Пока он звонил по телефону, Виктор тоже успел вызвать группу оперативных работников. Но кому звонил Захаров?
Виктор неотступно следовал за неторопливым Захаровым. Тот шел из аптеки, и вдруг с ним поравнялся незнакомец в зеленоватом пальто… Теперь Виктор не сомневался: что-то здесь должно было произойти. Виктор с трудом подавил в себе желание пойти за человеком в зеленом пальто. Дали знать себя уроки Пронина. Иван Николаевич всегда твердил о том, что нет ничего хуже в работе, как разбрасываться. Доведи одно дело до конца, и лишь тогда принимайся за другое, — за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Виктор последовал за Захаровым. Тот вернулся в Ступинский переулок и скрылся во флигеле.
Похоже было на то, что Захаров кого-то ждет, быть может, даже того самого человека в зеленоватом пальто. Виктор решил, что именно здесь он и задержит Захарова. В это время он заметил работников оперативного отдела.
Какой-то прохожий замедлил шаги около Виктора.
— Товарищ Железнов, — окликнули его.
— А, здравствуйте, Березин, — сдержанно отозвался Виктор. — Вас не узнать…
Они расставили людей вдоль переулка и в соседних дворах.
Вскоре появилось такси и остановилось рядом с кирпичным домом, прямо против флигеля. Пассажир расплатился, вылез, и машина уехала. Это был Зайцев.
В это время к Виктору подошел Лифшиц.
— Сидел дома, вдруг выскочил, нанял такси и поехал сюда, — доложил он. — Что делать дальше?
— Погоди, — остановил его Виктор. — Во дворе есть люди.
Действительно, Зайцев сидел дома и рассказывал Саше о похождениях Робинзона Крузо. Самочувствие у Зайцева было неважное. Он собирался работать напролет все воскресенье, но чертежники в управлении торопились домой, и, как-то невольно поддаваясь их настроению, Зайцев тоже закончил работу. Но дома ему стало скучно, он почувствовал себя одиноким, ему захотелось поскорее вернуться на завод. Основские собирались идти в кинематограф. Анна Григорьевна пригласила Зайцева пойти вместе с ними, но Зайцеву и идти не хотелось, и помнился совет Железнова пореже выходить из дома, он отказался. Основские ушли. Саша тоже скучал. Зайцев принялся развлекать мальчика.
Беседу прервал телефонный звонок. Саша схватил трубку. К телефону просили подозвать инженера Зайцева.
— Я слушаю, — сказал Зайцев. — Кто это?
— Я звоню по поручению товарища Железнова, — резко и определенно произнес незнакомый голос. — Выяснялись некоторые обстоятельства, связанные с исчезновением Сливинского. Товарищ Железнов просит вас немедленно приехать. Ступинский переулок, дом восемь, заходите прямо во двор, квартира три. Он вас дожидается.
— Хорошо, — послушно сказал Зайцев. — Я сейчас приеду.
— Ступинский переулок, дом восемь, квартира три, вход со двора, — повторил тот же голос, и трубку повесили.
Зайцев нахлобучил кепку, поспешил на улицу и побежал на стоянку такси.
— Ступинский переулок, — сказал он шоферу. — Поскорее!
У дома № 8 он расплатился с шофером, отпустил машину, взглянул еще раз на номер и вошел во двор. Он быстро нашел квартиру № 3, но Железнова там не оказалось.
— Позвольте, — настаивал Зайцев. — Я твердо знаю, что меня здесь ждут.
— Уверяю вас, вы ошиблись, — возражала ему девушка с каштановыми кудряшками. — Папа!
Пришедший на помощь папа убедил Зайцева, что никакого Железнова в квартире нет и не было…
Зайцев, недоумевая, пошел со двора, приблизился к калитке, как вдруг в ней появился какой-то человек, загородил выход и отпихнул Зайцева в сторону.
— Здравствуйте, Виктор Петрович! — вскрикнул Зайцев, узнавая Железнова. — А они настаивали, что произошла ошибка!
Лишь в последнюю минуту, услышав шаги возвращающегося Зайцева, Виктор вдруг разгадал намерение Захарова подстеречь и застрелить инженера, и бросился ему навстречу, пытаясь собой заслонить Зайцева от пули.
Да, это было логичное предположение. Было выбрано глухое место, найден отличный наблюдательный пункт, обеспечено отступление через проходной двор, и вот, когда Зайцев стал бы выходить из ворот…
Захаров знал, что пуля вернее настигает дичь, когда та движется на охотника! Но никакого выстрела не последовало.
Виктор побежал к флигелю.
— Задержать любого, кто отсюда выйдет! — громко приказал он Березину, поднимаясь на крыльцо. — Три человека со мной!
Вчетвером они остановились у лестницы. Наверху было тихо. Оттуда могли стрелять…
— Эй, там есть кто? — крикнул снизу Березин.
Но сверху никто не ответил.
Виктор рискнул, бросился опрометью наверх, инстинктивно прикрывая голову локтем.
В тусклом свете, проникающем через окно, было видно — в углу кто-то стоит.
— Руки! — крикнул Зайцев.
Человек поднял в темноте руки.
Следом за Виктором поднялся Березин.
Виктор включил фонарик.
— Что вы тут делаете, Захаров? — спросил он.
— Я ищу одного знакомого, — ответил тот.
Березин приказал его обыскать. Кроме перочинного ножа, у него не нашли никакого оружия. Ни револьвера, ни кастета, ничего. Осмотрели лестничную площадку, лестницу, все щели, землю вокруг дома, куда бы Захаров мог бросить револьвер, — ничего.
— Все равно, — сказал Виктор. — Пойдемте. Мы поговорим о ваших знакомствах в другом месте.
13. Странный покупатель
В эту ночь Виктор развил бурную деятельность.
Захаров был арестован. Надо было осмотреть флигель. Березин не нашел в нем ничего подозрительного. Здесь жили обычные советские люди, не имеющие никакого касательства к Захарову. Захаров остановил свой выбор на этом доме совершенно случайно, флигель прельстил его тишиной и удобным расположением.
На допросе Захаров все отрицал. В Ступинский переулок он попал случайно. Где-то на Бутырках жил его знакомый, которого он и разыскивал. Ни с какими иностранцами в театре не встречался. В гостиницу к Зайцеву пришел по вызову, его самого обманули. Никакого Основского не знает. Мало ли кого приходится брить, парикмахер не обязан интересоваться фамилиями клиентов. Еще нелепее говорить, что Основский ему что-то передавал, что кого-то Захаров вызывал сегодня в переулок по телефону… Все это выдумки, на которые он отказывается отвечать!
— Скажите мне лишь одно: как вы попали в Советский Союз? — спросил его Виктор.
— Я никак не мог попасть или не попасть, я всегда жил в Озериках, — насмешливо ответил Захаров. — Мой отец живет в Озериках, и моя мать живет в Озериках…
— Да, но и Павел Борисович Левин тоже живет в Озериках, — уверенно возразил Виктор.
— Вот только в этом я и виноват, — сразу согласился Захаров. — Мне всегда хотелось жить в Советском Союзе…
Часом позже были арестованы Основские. Анна Григорьевна при аресте расплакалась.
— Что будет с Сашей? — спрашивала она. — Его поместят в детский дом, да? Его поместят в детский дом?
Основский, наоборот, рисовался и подражал каким-то книжным героям.
— Через несколько дней вы меня освободите, — сказал он. — Вам известно, кого я фотографировал? Мои снимки печатались во всех газетах. Я напишу письмо…
Продолжала плакать Анна Григорьевна и на допросе. Говорила, что приносила домой только негодную копировальную бумагу. Потом она признала, что среди копировальной бумаги могли оказаться и листки, на которых отпечатался текст секретных документов. Потом призналась, что муж заставлял ее рассказывать о служебных делах. Наконец созналась и в том, что муж ее особенно интересовался военными изобретениями и что она сообщила ему о вызове в Москву инженеров Зайцева и Сливинского…
Но Основский интерес к военным изобретениям объяснил любознательностью. Он интересуется фотографией, оптикой, техникой, вообще всякими изобретениями. Никакого Захарова не знает. Ах, это парикмахер? В таком случае возможно, что он у него брился. Передавал Захарову копии секретных документов? Чепуха! Вы нашли у Захарова хоть одну копию? Покажите!
В течение ночи надо было произвести обыск и у Основских, и у Захаровых; правда, Виктор верил в осторожность преступников и мало надеялся на какие-либо находки.
За исключением отклеенных со стекол листов копировальной бумаги да нескольких копирок, валявшихся вместе с красками и карандашами в игрушках у Саши, найти у Основских ничего не удалось. Среди копирок не нашлось ни одного более или менее ясного отпечатка, и уж, конечно, никаких копий секретных документов. Это было подозрительно. Анна Григорьевна призналась, что она приносила домой копии секретных документов.
— Куда же они девались? — спросили Основского.
— Я их уничтожал, — сказал он. — Чтобы не попались на глаза кому не нужно.
У Захаровых можно было надеяться найти чертежи, которые Захаров не успел еще передать хотя бы тому же иностранцу в сером костюме, знакомство с которым он так решительно отрицал.
Елена Васильевна встретила неожиданных гостей с испугом и удивлением. Она сама старалась все показать, спешила все открыть и беспокоилась, как бы что при осмотре не пропустили.
— Вероятно, вы думаете, что мы спекулировали? — спрашивала она. — Конечно, я знаю, есть такие парикмахеры, которые занимаются спекуляцией. Но Павел Борисович совсем в этом не нуждался. Мы себя все-таки уважаем. Вы еще в комоде не посмотрели…
Виктор сам руководил обыском. Елена Васильевна не возбуждала в нем подозрений. Такие люди, как Захаров, редко посвящают жен в свои дела. Наоборот, простые, разговорчивые жены служат для них как бы громоотводом от любопытства обывателей. Если сверток и был спрятан в квартире, Елена Васильевна не могла об этом знать. Приходилось отодвигать вещи, присматриваться к щелям в полу, ощупывать обои.
Виктор помнил разговоры в парикмахерской о патефоне Захарова.
— А где же ваш патефон? — спросил он больше для порядка, вряд ли в патефоне могло быть что-нибудь спрятано.
— А я его продала, — сказала Елена Васильевна.
— Продали? — удивился Виктор. — Ведь ваш муж никак не мог с ним расстаться?
— Представьте себе! — сказала Елена Васильевна. — Муж действительно очень дорожился. Но сегодня днем он опять написал объявление о продаже, а вечером прислал человека с запиской, и тот купил у меня патефон.
— Сегодня вечером? — переспросил Виктор. — А у вас цела эта записка?
— Конечно.
Елена Васильевна подала записку.
На клочке бумаги в мелкую клеточку, вырванном из недорогой записной книжки, размашисто и неровно было нацарапано карандашом несколько отрывочных слов: «Уезжаю на несколько дней. Объясню по приезде. Отнеси объявление и немедленно продай патефон. П.»
Слова «немедленно продай» были подчеркнуты, а буква «П» заканчивалась кривым угловатым росчерком.
— Вы уверены в том, что это написал ваш муж? — пытливо спросил Виктор.
— Ну что вы, неужели я не знаю его руку? — обиделась Елена Васильевна. — Вот и росчерк его.
— А объявление у вас цело? — спросил Виктор.
— А как же. Мне ведь завтра нужно было отнести его в газету.
Она достала из сумочки объявление. Тем же почерком, но более аккуратно и чернилами, был написан текст объявления: «Срочно прод. патефон „Хиз Мастерс Войс“ с пластинками. Зв. веч. Г–4–68–71».
Виктор сличил почерки.
— Да вы не беспокойтесь, — вмешалась Елена Васильевна. — Я ведь в сберкассе работаю, привыкла в почерках разбираться.
— Но ведь объявление еще не напечатано? — спросил Виктор. — Как же вы успели продать?
— А я его этому самому человеку, который записку принес, и продала, — пояснила Елена Васильевна. — Он спросил цену, я сказала, а он и купил не торгуясь.
— А вы этого человека знаете? — поинтересовался Виктор.
— В первый раз видела, — сказала Елена Васильевна.
— Адрес он свой не оставил?
— Да зачем мне адрес… — Елена Васильевна усмехнулась.
— Как же это так вы продали? — рассердился Виктор. — Ни адреса не спросили, ничего!
«Пожалуй, в патефоне и был спрятан сверток с чертежами, — подумал он, — и Захаров успел передать патефон сообщникам».
— Расскажите, расскажите, как все это произошло, — обратился Виктор к Елене Васильевне. — Когда это произошло, что он говорил, как выглядел?
— Как это произошло… — нерешительно повторила Елена Васильевна. — Часов около одиннадцати он пришел, уже я спать собиралась. Муж у меня в карты ушел играть, значит, должен был вернуться поздно. Ну вот, позвонил, отдает записку. За сколько, спрашивает, будете продавать? Я ему и скажи: две тысячи, самую большую цену, какую только муж называл. А он мне и говорит: «Чего вам зря беспокоиться, давайте я куплю». Отсчитал две тысячи, забрал патефон, пластинки и ушел.
Елена Васильевна протянула Виктору сумочку.
— Вот, проверьте, я вас не обманываю.
— А какой он из себя? — нетерпеливо спросил Виктор, с досадой предчувствуя ее ответ.
— Вот наружность я плохо запоминаю, — виновато объяснила Елена Васильевна. — Невысокий такой, обыкновенный. Ну в шляпе, в пальто. Коверкотовое такое…
— Зеленоватое? — спросил Виктор с отчаянием.
— Вот-вот! — обрадовалась Елена Васильевна. — Зеленоватенькое такое. Кажется, заграничный материал, у нас такого не делают. Нитки там как-то по-особому крученные…
Человек в зеленоватом пальто опережал Виктора повсюду!
Обыск можно было и не продолжать.
— Ищите-ищите, — сказал Виктор, поворачиваясь к своим помощникам. — Посмотрите в кресле, между пружин: много там мочалы?
14. Паспорт из Озериков
— Товарищ Пронин? Разрешите обратиться с вопросом, товарищ майор?
— Пожалуйста, товарищ Железнов.
— Можно явиться к вам с докладом, товарищ майор?
— Пожалуйста.
— Когда прикажете, товарищ майор?
— Явитесь в тринадцать часов, товарищ Железнов.
— Есть в тринадцать часов, товарищ майор. Разрешите считать разговор оконченным?
— Пожалуйста, товарищ Железнов.
Служба всегда служба, и Виктор должен был представить Пронину свой отчет.
Ровно в час дня Виктор постучал в дверь к Пронину. Иван Николаевич сидел у письменного стола. Он был в гимнастерке, в суконных брюках и в фетровых сапогах, должно быть, его знобило. На столе лежали листки чистой бумаги и очинённые карандаши. Пронин никогда не перебивал подчиненных во время докладов, он лишь делал на бумаге пометки, чтобы потом сразу и обстоятельно отметить ошибки и промахи. Окно было закрыто, комната прибрана, Агаши не было слышно, — служба всегда служба.
— Разрешите войти? — спросил Виктор, приоткрывая дверь.
— Пожалуйста, — приветливо отозвался Пронин. — Заходи.
Виктор остановился у письменного стола.
— Разрешите доложить, товарищ майор?
— Садись, — сказал Пронин. — Пожалуйста.
— Разрешите коснуться всей разработки? — спросил Виктор, придвигая стул и садясь.
— Да, поскольку надо воссоздать общую картину, — сказал Пронин. — Характеризовать отдельных людей не надо. Постарайся уложиться минут в двадцать.
— Я принял от вас поручение, товарищ майор, взять на себя расследование этого дела четырнадцатого числа, — начал Виктор. — Начальник управления Евлахов своевременно сообщил об исчезновении чертежей. Инженеру Зайцеву незачем было красть чертежи у самого себя. Участие Сливинского в похищении тоже было очень маловероятно. Если бы он похитил чертежи и сообщники приняли решение его уничтожить, они сделали бы это в более безопасном месте и постарались бы сыграть на исчезновении Сливинского. Лифтер, надо думать, был соучастником или свидетелем преступления, хотя непосредственных указаний на это не имеется. Если никто на заводе не знал об изобретении, а не верить Зайцеву нет оснований, сведения об изобретении могли быть получены преступниками только от кого-то из сотрудников управления. Эксперимент со вторым документом, хотя он и вызвал соответствующую реакцию, мог не дать результатов, настолько терялись все нити. Надо отметить… — Виктор улыбнулся, — велось тщательное наблюдение. Выполнялось ваше указание о необходимости педантично отмечать каждую мелочь…
Пронин нетерпеливо отмахнулся.
— Я упоминаю об этом только для того, товарищ майор, чтобы связать факты, — поправился Виктор. — Посещение гостиницы Захаровым и наблюдение за ним позволили установить его связь с Основским и определить канал, по которому секретные документы просачивались из управления. Мы терпеливо наблюдали за этими людьми и выяснили все, что касалось Основских.
Виктор посмотрел на Пронина. Тот ничего не записывал. Это было хорошим признаком, значит, Пронин не имел пока замечаний.
— Труднее было узнать, кто же такой Захаров, — уверенно продолжал Виктор. — Вы разрешили выехать на его родину.
Он снова взглянул на Пронина и спросил:
— Разрешите остановиться на этом подробнее?..
…Озерики…
Небольшое местечко в западном крае, неподалеку от границы. Серенькие домики, чиненые и перечиненые, над ними голубое небо, веселые крики детей и любопытные прохожие. Никаких озер поблизости, конечно, и даже никакого пруда. Почему — Озерики? Всегда найдется местный старожил, который расскажет легенду: старинный замок, панские прихоти, крепостные выкопали пруд за сорок два дня, — он точно знает, за сорок два, ни больше ни меньше; лебеди, выписанные из Парижа, — обязательно из Парижа; утопленница… А на самом деле не было никакого замка, и самый большой богач, которого действительно помнят старожилы, был здесь старик Рабинович, владевший одновременно чайным заведением и бакалейной лавкой.
Первый спрошенный прохожий дал Виктору половину необходимых сведений. Нет, его не пришлось тянуть за язык…
— Вам каких Левиных? Которые купили серую лошадь или у которых дочка родила двойню? Отца Павла Борисовича? Так это совсем рядом. Сверните направо, пройдете проулочек и упретесь прямо в забор. Там есть лазейка, ребята в прошлом году сделали, и очутитесь во дворе у Мацкиных. Если старуха будет ругаться, не обращайте внимания, все уже привыкли. Там через один двор от них живут Левины. Хорошие люди. Вы не фининспектор? Он же никогда не был настоящим торговцем, только назывался лесопромышленником! А что у него было? Дровяной склад — пять шагов в длину и три в ширину. Продавал дрова, а сам неделями не топил печки. Вот его брат, который остался в Польше, тот, да, имел! Гостиницу, винокуренный завод и кое-что в банке. Тому даже варшавская гимназия была плоха, послал сына в Австрию! А Борис Исаевич бился как щука на кухне. Он теперь заведует дровяным складом на станции, так живет в десять раз лучше, чем в те времена, когда имел собственное дело…
Виктор нырнул в лазейку, мужественно пересек чужой двор, осыпаемый библейскими проклятиями старухи Мацкиной, и точно в указанном месте нашел домик Левиных. Разумеется, это оказался далеко не дворец, но это был крепкий дом в четыре окна, под железной крышей, в который вряд ли могли найти доступ зимние морозы.
Виктор постучал. Ему открыл дверь мужчина лет тридцати, в черном пиджаке, с румянцем во всю щеку и ласковыми голубыми глазами.
— Заходите, пожалуйста, — сказал он, распахивая дверь. — Вам кого?
— Здравствуйте, — поздоровался Виктор. — Мне нужен отец Павла Борисовича Левина.
— Отец, к сожалению, на станции, — ответил мужчина. — Может быть, я могу его заменить?
— А вы кто, брат Павла Борисовича? — спросил Виктор.
— Какой брат? — удивился мужчина. — У меня нет брата, я и есть Павел Борисович.
— Павел Борисович? — переспросил Виктор. — Вы — Павел Борисович Левин?
— А чего же тут удивительного? — удивился в свою очередь тот. — Так назвали родители… — Он спохватился. — Чего же это мы с вами разговариваем на крыльце? Пройдите в гостиную, прошу вас…
Виктор давно не бывал в таких комнатах. Маленькая и невысокая, все-таки это была гостиная, и ничто иное. Вдоль стен была расставлена дюжина дешевых мягких стульев, обтянутых чехлами из желтого ситца, на круглом столе, покрытом зеленой вязаной скатертью, лежал альбом с фотографиями, на стенах висели олеографии с видами Швейцарии в рамках из черного багета.
— Прошу вас, — приветливо повторил Павел Борисович, указывая на стулья.
И звонко крикнул:
— Мама, у нас гость, ты слышишь?
— Ой, очень рада! — раздался из-за перегородки низкий старушечий голос. — Ты меня всегда так удивляешь, Павел…
Вскоре Виктора угощали чаем и задавали десятки вопросов о том, как живут в Москве, деликатно не расспрашивая гостя только о цели его посещения.
— Скажите, — обратился Виктор к Павлу Борисовичу, когда достаточно познакомился с хозяевами. — Вы никогда не теряли свой паспорт?
— Паспорт? — нараспев повторил Павел Борисович, и в его голосе прозвучала какая-то нерешительность. — Но это было давно, и я заявил об этом в милицию…
Слово за слово, Виктор заставил Левиных рассказать всю историю, связанную с пропажей паспорта.
…Лет семь назад, в один осенний день, к Левиным неожиданно заявился Альберт, сын Моисея Леви, брата Бориса Исаевича, живущего в Польше возле Львова. Старики Левины обрадовались племяннику, но появление его было им удивительно. Затем удивление сменилось тревогой, потому что Альберт вел себя как-то странно. Он нигде не показывался и запретил говорить о своем приезде даже соседям, лежал на диване, читал книжки или спал. Но деньги у него были, он прямо навязывал их, не желая, как он говорил, жить за счет родственников.
Как-то за обедом, когда молчание стало совершенно невыносимым и Борис Исаевич собирался спросить племянника, откуда он пришел и что собирается делать, Альберт неожиданно заговорил.
— Я перешел границу, — сказал он. — Мне надоела Европа. Я поссорился с отцом и хочу жить в России.
Левины растерялись. Альберт даже мальчиком всегда был таким нахалом, что трудно было поверить, будто ему могла надоесть Европа. Но, с другой стороны, Моисей Леви тоже был не ангел и грыз поедом всякого, кто смел ему перечить. Альберт легко мог повздорить с отцом и назло ему убежать в Россию. Левины предпочитали думать именно так. За укрывательство наказывали очень строго. Но Альберт был родственником и никогда не сделал им никакого зла…
— Слушай сюда, Альберт, — сказал ему Борис Исаевич. — Мы обязаны сообщить о твоем прибытии, но так как ты сын моего брата и, может быть, не такой прохвост, как он, мы тебя просим: уходи. Сегодня переночуй, а завтра, как стемнеет, уходи. Желаем тебе счастья.
И действительно, на другой день Альберт ушел. Ушел днем, как ни просили его не делать этого, опасаясь соседей. Вежливо со всеми простился и ушел, и даже предупредил, чтобы о нем не проговорились, точно Левины сами не знали о том, что в таких случаях лучше всего держать язык за зубами.
А через две недели Павлу Борисовичу понадобилось поехать в город, он стал искать паспорт и не нашел. Альберт оказался таким же жуликом, каким был его отец. Жаловаться было поздно, спокойнее было промолчать. Так Левины и поступили. Павел Борисович выждал месяц и заявил о пропаже. Левиных все знали. Павел Борисович получил новый паспорт, и все постепенно забылось.
— Я так и думала! — воскликнула старуха. — Вы нашли Альберта, я сразу поняла…
— Что он наделал? — спросил Павел Борисович. — Помолчите, мама…
— Не пугайте нас, — запричитала старуха. — Он проворовался? Нет на него болезни! Может быть, он дал этот паспорт в залог по какому-нибудь темному делу?
Виктор успокоил их как мог, высказал несколько назидательных сентенций о том, что ни один проступок не остается безнаказанным, велел Павлу Борисовичу пойти в милицию и обо всем рассказать, отправил Пронину краткую телеграмму о результатах поездки и уехал.
— …Его настоящее имя — Леви, Альберт Леви, как я вам уже телеграфировал, по-видимому, он профессиональный шпион, — сказал Виктор. — Следовательно, картина такова: Основский был завербован Леви-Захаровым и затем исподволь втянул в свою деятельность и жену. Она сообщила об изобретении и приезде Зайцева мужу, тот передал Захарову, а Захаров выследил инженеров, с помощью Гущина убил Сливинского, затем убил сообщника, похитил чертежи, и сейчас они, возможно, находятся у представителя известной вам иностранной фирмы.
Пронин задумчиво постучал по столу карандашом.
— Как ты думаешь? — спросил он Виктора. — Если при опасности поджога дому дали сгореть, но поджигателя задержали, это большое достижение?
— Лучше чем ничего, — ответил Виктор. — Но достижение, конечно, небольшое. Надо сохранить дом.
— Что же ты думаешь делать? — спросил Пронин.
Виктор насупился.
— Я хочу, чтобы вы мне помогли, Иван Николаевич! — вырвалось у него. — Я ведь шаг за шагом шел за этим Леви…
Пронин принялся вычерчивать на бумаге квадратики.
— Видишь ли… — сказал он. — Твоя схема построена правильно и убедительно, но ведь тем и трудна наша работа, что никакое преступление не укладывается в определенные рамки. Ты совершил ошибку, которую совершает большинство следователей. Достаточно тебе кого-нибудь заподозрить, как ты во что бы то ни стало пытаешься доказать, что именно этот человек и совершил преступление. Это неверный и скользкий путь. Людей следует оправдывать, а не обвинять. Ты постарайся доказать, что человек не совершил преступления, и вот если при таком намерении ты не сумеешь опровергнуть улики, значит, человек действительно виноват. Ты действовал энергично и нашел преступника. Но Сливинского и Гущина убил не Захаров, а кто-то другой. Ты сделал одну оплошность: найдя преступников, ты преувеличил их ловкость и силу и приписал им все преступления. Ты решил, что первый же пойманный тобою вор совершил все кражи. Убийство было совершено между восемью и девятью часами вечера, это установлено точно. Вот я и проверил, где находились в это время подозреваемые тобою люди. Захаров с трех часов дня до одиннадцати вечера безотлучно находился в парикмахерской. Основского вообще в этот день не было в Москве, он по поручению редакции выезжал в Харьков, и есть неопровержимое доказательство, что в этот день он действительно там находился. Что касается Основской, она просто физически неспособна совершить такое преступление, но даже она провела эти часы в управлении. Несомненное и полное алиби. Так вот тебе вопрос: кто же совершил убийство?
Виктор покраснел и вдруг побледнел от волнения.
— Я знаю! — воскликнул он, вскакивая со стула. — Я знаю, кто это сделал! Человек в зеленом пальто! Вы понимаете, мне несколько раз попадался какой-то человек в зеленоватом коверкотовом пальто. Я почувствовал, что он имеет какую-то причастность к этому делу, но он все время от меня ускользает. Он появился в номере у Зайцева и исчез возле парикмахерской, где работает Захаров; он был в театре, где Захаров встретился с иностранцем; он встретился с Захаровым, когда тот шел из аптеки…
Виктор принялся ходить взад и вперед по комнате.
— Иван Николаевич! — сказал он, останавливаясь перед Прониным. — Дайте мне несколько дней. У меня есть зацепка. Захаров недаром торговал своим патефоном, — я найду этого незнакомца.
Пронин задумчиво посмотрел на пол.
— Ну что ж, — сказал он наконец. — Мне думается, твоя догадка правильна. Но сегодня, часам к семи, я прошу тебя быть у меня вместе с Зайцевым, мне хочется провести этот вечер вместе с вами.
15. Патефон марки «His Masters Voice»
Остаток дня Виктор провел в размышлениях. Опять пришлось вспомнить излюбленное рассуждение Пронина: «Если ты очутился перед отвесной стеной, не пытайся через нее перепрыгнуть, отойди в сторону и подумай, может быть, ты найдешь лестницу».
Виктор подверг тщательному анализу все обстоятельства дела. Теперь он видел свои промахи, следствие его нетерпения и горячности. Человек в зеленом пальто был наиболее опасным противником. Предстояло затратить много усилий, чтобы распутать этот проклятый клубок. Надо было приниматься за расследование чуть ли не с самого начала. Следовало обратить особое внимание на этот злополучный патефон, а теперь придется искать и патефон, и его покупателя…
Так, не придя ни к какому решению, Виктор в шестом часу отправился к Зайцеву, переселившемуся обратно в гостиницу.
— Я за вами, Константин Федорович, — сказал Виктор. — Товарищ Пронин велел обязательно быть у него к семи.
— А он выздоровел? — оживленно спросил Зайцев. — Товарищ Евлахов говорит, что как только Пронин сам возьмется за это дело, преступники сразу будут пойманы.
— Да ведь знаете, — грипп, — отозвался Виктор с кислой улыбкой. — Привязчивая штука…
Они вышли и не спеша пошли вдоль оживленных московских улиц.
— Недельки через две и я закончу свое дело, — сказал Зайцев. — Надоело, не люблю повторять одно и то же…
Они свернули на Кузнецкий мост, к дому, в котором жил Пронин. Толпа возвращающихся со службы москвичей текла непрерывным густым потоком. Блестели стекла витрин, хлопали двери магазинов, гудели пробегающие мимо автобусы и троллейбусы.
— Да, задали вы нам задачку, Константин Федорович, — сказал Железнов и вдруг рванулся куда-то в сторону.
— Подождите меня! — крикнул он на ходу Зайцеву.
Впереди мелькнуло зеленоватое пальто. Виктор узнал бы его теперь среди тысячи прохожих! Ему даже показались знакомыми очертания этой фигуры. Виктор устремился за таинственным незнакомцем, но, должно быть, тот обладал удивительной интуицией и почувствовал, что его преследуют. Во всяком случае, незнакомец тоже ускорил шаги и неожиданно скрылся за дверью громадного, наполненного покупателями магазина. Виктор вбежал в магазин. Разумеется, этого субъекта нигде уже не было. Виктор пулей пронесся по магазину и выскочил на улицу. Нигде! Все ему стало безразлично, он стал противен самому себе. Он пошел отыскивать Зайцева. Хорошо еще, что тот послушно ждал Виктора на том самом месте, где он его бросил.
— Что это вы убежали? — поинтересовался Зайцев.
— Пустяки, — невразумительно буркнул Виктор. — Знакомого одного увидел…
Они вошли в дом и поднялись на лифте. Виктор с удивлением прислушался. Из-за двери глухо доносились звуки музыки. Несомненно, в квартире Пронина играл патефон. Вместо напряженной творческой тишины, в которой Виктор надеялся застать Пронина, тот развлекался легкомысленной джазовой музыкой. Это было тем более странно, так как Пронин не имел патефона.
Виктор позвонил. Музыка смолкла. Дверь открыл сам Пронин.
— Заходите-заходите, — радушно пригласил он. — У меня обновка — патефон получил в подарок. Идите слушать, а попозже Агаша соорудит ужин и я угощу вас кахетинским.
Виктор и Зайцев вошли к Пронину в кабинет.
Хотя Пронин шутил, Виктор отлично видел, что Иван Николаевич нервничает. Это не заметил бы, пожалуй, никто, кроме Виктора. Пронин отлично умел сдерживаться, и лишь по каким-то неуловимым признакам Виктор догадывался о его настроении.
Виктор подошел посмотреть патефон.
— «His Masters Voice»? — удивленно спросил он Пронина.
— «His Masters Voice», — подтвердил Пронин. — Отличная марка, не правда ли?
— Да, — неопределенно отозвался Виктор.
И вдруг у него стало спокойно на душе, он еще сам не знал почему, но все в нем вдруг как-то сразу успокоилось, постепенно стало спадать даже раздражение против самого себя.
Пронин молчал, молчал и Зайцев. Виктор обернулся к нему. Тот был тоже какой-то странный. Он сразу, как вошел в комнату, сел в кресло и замолчал. Он выглядел растерянным и удивленным.
— Скажите, — вдруг серьезно спросил Пронин Зайцева. — Вам известно, что произошло с вашим товарищем?
Виктор посмотрел на них обоих…
У Зайцева по-детски сморщилось лицо, точно он собирался заплакать, но сейчас же усилием воли он согнал гримасу с лица.
— Да, я догадался, — тихо сказал он. — Я прочитал книжку о Нахимове и догадался. Ведь мы как на войне.
— Хорошо, что вы это поняли, — ласково произнес Пронин. — И хорошо, что вы умеете работать, когда вам трудно.
За окном быстро наступал вечер. Повсюду вспыхивали огни. С улицы доносился многоголосый шум. Пронин подошел к двери и повернул выключатель. Зажглось электричество, и все в комнате стало проще и обыденнее. Открытый патефон создавал даже ощущение какого-то беспорядка в комнате. Листы бумаги, разбросанные на столе, были исчерчены неровными цветными квадратами.
Виктор пытливо посмотрел на Пронина: значит, он тоже бился над решением какой-то трудной задачи.
Пронин заметил взгляд Виктора и усмехнулся.
— Конечно, я тоже кое-что сделал за это время, — сказал Пронин. — Но я был болен и не хотел тебя связывать. Да и незачем все время оглядываться на меня.
Он взял исчерченные листы, аккуратно сложил их и сунул между книг.
— Говоря правильнее, я только дополнил твою работу, — сказал Пронин, садясь на край тахты. — Надо захватить в поле своего зрения возможно большее пространство и затем при осмотре руководствоваться принципом исключения. Действовать как артиллерийский наблюдатель. Это дерево просто дерево, канавка просто канавка, а вот за этим кустом показался дымок, — уж не находится ли здесь неприятельская батарея? Убийство лифтера было до очевидности бессмысленным. Он не был ни соучастником, ни даже очевидцем преступления. Но он мог оказаться свидетелем; вероятно, он видел убийцу в обществе Сливинского. В течение пятнадцати — двадцати минут лифтер не один раз поднялся на четвертый этаж и мог запомнить собеседника Сливинского, сидевшего с ним в гостиной, потому что убийство было совершено в гостиной: убийца не стал бы нарочно тащить труп к выходу. Кроме того, убийство лифтера сразу запутывало следы. Это было наиболее простое предположение.
Пронин обращался к Виктору, но он не находил нужным скрывать что-либо от Зайцева, — в этом проявлялось одно из замечательных достоинств Пронина: он терпеть не мог никакой таинственности, никогда не рисовался умением проникать в тайны и, как только становилось возможным, показывал путь раскрытия преступления, стараясь извлечь и для себя, и для других урок на будущее.
— Ты сумел найти лиц, причастных к преступлению, — сказал он Виктору. — Но никто из них в момент преступления в гостинице не был. Особое внимание должен был привлечь Захаров. По роду своей деятельности он мог незаметно встречаться с десятками людей. Резиденты иностранных разведок охотно избирают профессии портных, прачек, парикмахеров и официантов. Поведение Захарова говорило об опыте и хладнокровии. Это был не доморощенный вредитель, а квалифицированный шпион, прошедший хорошую иностранную школу. Он действовал четко, продуманно и ловко. Такие люди очень заботятся о своем легальном облике и предпочитают не пользоваться фальшивыми паспортами. Но старая фамилия его не устраивала, надо было замести следы. Так он даже фамилию переменил вполне легально. Хотя паспорт, с которым он прибыл в Москву, был самый доброкачественный…
Пронина прервал телефонный звонок.
Виктор поднял трубку.
— Вы продаете патефон? — услышал он чей-то голос.
Виктор прикрыл трубку ладонью.
— Иван Николаевич, — спросил он с недоуменьем. — Тут о патефоне спрашивают?
— Да-да!
Пронин оживился и схватил трубку.
— Я вас слушаю, — сказал он. — Да, продается. В полном порядке… Три тысячи. Дорого? Ну как хотите…
Пронин положил трубку.
— Вероятно, «Вечерку» уже принесли, — сказал он. — Посмотри-ка, Виктор.
Виктор вышел в прихожую, открыл парадную дверь, заглянул в почтовый ящик.
— Есть! — крикнул он, доставая газету.
Зайцев нетерпеливо двинулся в кресле, досадуя и не понимая, почему Пронин прервал свой рассказ.
— Получайте, — сказал Виктор, возвращаясь в комнату.
— Посмотри-ка, нет ли там объявления? — попросил Пронин.
Виктор развернул газету и просмотрел последнюю страницу.
— «Срочно продается патефон „Хиз Мастерс Войс“ с пластинками», — громко прочел он и опять с недоумением поглядел на Пронина. — «Звонить…» Но тут указан ваш телефон?
— Давай-давай сюда…
Пронин вытянул газету из рук Виктора и отложил в сторону.
— Вы продаете патефон? — спросил Виктор. — Но ведь это объявление…
— Все будет ясно… — ответил Пронин и переставил телефон со стола на тахту. — Дай мне досказать. Леви находился на столь удобном и людном месте, что вряд ли сам выполнял отдельные диверсии. В данном случае дело было очень серьезное. Леви вынужден был кого-то вызывать. Трудно было предположить, что человек этот ходит к Леви в парикмахерскую, слишком они осторожны для этого. Следовало искать человека, которого искал сам Леви. Человек в Москве то же самое, что иголка в стоге сена. Магнитом был Леви. Следовало присмотреться к этому магниту. Он продавал свой патефон. Что ж, это был удобный способ. Таким способом нельзя часто пользоваться, но ведь дело было исключительное, и выполнение его предназначалось человеку, которых иностранные разведки особенно берегут. Я просмотрел комплект старых газет…
— Но позвольте, Иван Николаевич, — спросил Виктор. — В объявлении указан ваш телефон!
— А ты думаешь, что все тайные агенты — добрые знакомые и им известны телефоны друг друга? — возразил Пронин. — Они попадают в чужую страну не сразу, им приходится отыскивать друг друга по условным признакам, среди них есть начальники и подчиненные…
Телефон зазвонил снова.
— Да, продаю, — сказал Пронин. — Три тысячи!
— Ну, знаете! — засмеялся Виктор. — Вы такую цену заламываете, что у вас никто не купит.
— А мне и не надо, — сказал Пронин. — Тут дело не в цене.
Звонки раздавались почти непрерывно.
— Никогда бы не подумал, — сказал Виктор, — что в Москве столько желающих приобрести патефон!
— А город-то какой! — усмехнулся Пронин. — Тут, милый, черта в ступе продашь, а не то что патефон…
Телефон зазвонил опять.
— Что? — удивился Пронин. — Пуделя? Какого пуделя? — Он засмеялся и повернулся к Виктору. — Слышишь? Пуделя предлагают в обмен на патефон!.. Нет, — сказал он в трубку. — Я бы охотно поменялся, но только на добермана-пинчера…
Пронин давал любые объяснения, но заканчивал все разговоры как-то так, что отклонял желание покупателей зайти и взглянуть на патефон.
— Да! — откликнулся он чуть ли не на двадцатый звонок. — Да, продается. «His Masters Voice», правильно. Три тысячи. Какие пластинки? — Пронин сразу посерьезнел. — Одну минуту… — Он рукой указал Виктору на пластинки. — Дай-ка… — Голос его даже пресекся от волнения. — Осторожнее! Упаси тебя боже разбить… Разные, — любезно сказал Пронин в трубку. — Заграничные пластинки. Джазы Эллингтона, Нобля, Гарри Роя, песенки Шевалье, Люсьенн Буайе…
— Не можете ли вы сказать мне названия? — попросил издалека мягкий и строгий мужской голос.
— Пожалуйста, — сказал Пронин и принялся читать названия: — «Chanson du printemps», «The Golden Butterfly», «Mood Indigo», «Ton amour», «The Blue Angels» note 9…
— Благодарю вас, — вежливо прервал его покупатель. — Когда вы разрешите к вам зайти?
— Да лучше сейчас, — сказал Пронин и назвал свой адрес.
— Ну вот, — сказал он, опуская трубку. — Подождем.
Виктор вдруг потерял самообладание.
— Иван Николаевич, — спросил он почему-то шепотом. — Сейчас…
— Не сейчас, а через час! — отрывисто сказал Пронин. — Держи, брат, себя в руках. На все звонки теперь отвечай: продан. Проводи Зайцева в соседнюю комнату, пусть он там посидит, пока не позовем. Ну а ты… — Пронин помолчал, испытывая терпение Виктора. — Ну а ты посиди в кухне. Когда покупатель пройдет ко мне, прошу тебя находиться в прихожей. Думаю, это излишняя мера предосторожности, но, на всякий случай… Понятно?
16. Еще один покупатель
Покупатель явился раньше чем через полчаса. Пронин сам вышел на звонок, открыл дверь и впустил посетителя. Это был немолодой мужчина, высокий и рослый, с узким интеллигентным лицом, внимательными серыми глазами, тщательно выбритый, одетый в недорогой, старательно отутюженный синий костюм.
Он неторопливо вошел в прихожую, снял черную фетровую шляпу и сдержанно спросил:
— Вы — гражданин Пронин?
— Он самый, — подтвердил Иван Николаевич. — Вы относительно патефона?
— Да, я хотел бы взглянуть, — сказал посетитель.
— Проходите, пожалуйста…
Пронин провел посетителя в кабинет и закрыл за собой дверь.
— Вы сказали, что у вас есть блюз «The Blue Angels», — сказал посетитель, не подходя к патефону. — Я хотел бы прослушать эту пластинку.
— Садитесь, прошу вас, — ответил Пронин. — Сейчас заведу.
Посетитель сел, Пронин отыскал пластинку и завел патефон. Тягучая томная мелодия полилась из-под иголки. Посетитель равнодушно смотрел в окно. Внизу дрожали электрические огни, глухо журчала улица. Певец допел песенку, жалобно протянул последнюю ноту саксофон, шепелявый голос сказал несколько заключительных слов, и вдруг произошла перемена. Посетитель уже не смотрел больше равнодушными глазами в окно и ничего не спрашивал о пластинках. Он встал, выпрямился, фигура его сразу приобрела военную выправку.
— Я слушаю вас, — негромко и четко произнес он, выжидательно глядя на Пронина.
— Да, у меня есть к вам дело, — сказал Пронин, тоже меняя тон. В голосе Ивана Николаевича зазвенели металлические нотки.
— В прошлый раз… — не совсем уверенно произнес посетитель, как бы прося у Пронина разъяснения, — мне дал поручение…
— Да… — перебил его Пронин. — Обстоятельства несколько изменились.
— Хорошо, — равнодушно сказал посетитель. — Я вас слушаю.
— У меня есть к вам несколько вопросов, господин Денн, — сказал Пронин. — Материалы у вас с собой?
— Да, — ответил тот. — Я предполагал, что их у меня попросят.
— Давайте.
Посетитель быстрым движением достал из внутреннего кармана пиджака сверток с бумагами и протянул его Пронину.
— Благодарю, — сказал Пронин и положил сверток в ящик стола.
— Как вас зовут в Москве? — спросил Пронин.
Посетитель проявил некоторое колебание:
— Необходимо ли мне…
Пронин кивнул на патефон:
— Вы — слышали?
Посетитель сжал губы.
— Да, — ответил он. — Меня зовут Малинин. Кузьма Александрович Малинин.
Он замолчал.
— Мне нужно все, — сказал Пронин.
— Я бухгалтер строительной конторы, — сказал посетитель. — Это все.
— Оружие у вас при себе? — спросил Пронин.
Посетитель слегка улыбнулся:
— Конечно.
— Ну что ж, господин Денн, теперь я вас арестую, — все так же спокойно и негромко произнес Пронин. — Надеюсь, вы не будете сопротивляться?
— Нет, не буду. — Господин Денн слегка улыбнулся. — Если вы собрались меня арестовать, у вас за дверями, вероятно, сидит целая рота?
— Вы не ошиблись, — сказал Пронин и позвал: — Товарищ Железнов!
Господин Денн внезапно побледнел и даже пригнулся. Он вдруг понял, что это не шутка. Очень ловко и быстро сунул он руку в карман, и уже в кармане щелкнул взведенный курок…
Но Виктор появился мгновенно, точно волшебный дух, вызванный магическим заклинанием. Он сдавил руку посетителя, лицо у того покривилось от боли, и он отпустил револьвер.
— Держите, Иван Николаевич, — сказал Виктор, передавая револьвер Пронину.
Это было превосходное оружие, такое же точное и выверенное, как хорошие часы.
— Это все? — спросил Пронин.
Виктор показал Пронину кастет.
— Немного, — Пронин нахмурился. — Но в умелых руках…
Он с недоброй усмешкой посмотрел на Денна:
— Попросите Зайцева, — приказал Пронин Виктору. — И вызовите дежурных сотрудников.
Зайцев вошел. Он был бледен от волнения.
— Не приходилось ли вам встречаться с этим господином? — спросил Пронин.
У Зайцева задергалась щека. Перед ним стоял убийца Володи Сливинского. Он не мог сразу заговорить. Он посмотрел в сторону.
— Да, я помню этого господина, — ответил он необыкновенно звонким голосом. — Он ехал вместе с нами в Москву. Он находился в том же вагоне…
Голос его внезапно сорвался.
— Я так и думал, — сказал Пронин. — Господин Денн знал, где находится завод, и выехал инженерам навстречу. Но в вагоне чертежи похитить не удалось. Господин Денн воспользовался первым благоприятным моментом…
Резкий звонок опять прервал Пронина.
— Это за вами, господин Денн, — объяснил Пронин. — Нам придется проститься. Поговорим завтра. Прошу вас!
— Вряд ли вам удастся много от меня узнать! — насмешливо ответил тот Пронину. — Мне только очень грустно, потому что я впервые встречаю в нашем ведомстве предателя.
— О нет, я не хочу вас огорчать, господин Денн, — любезно ответил Иван Николаевич. — Предательство не имело здесь места, мы обошлись собственными силами.
17. Вопросы и ответы
— Теперь, когда мы опять остались втроем, и перед тем как откупорить обещанную бутылку кахетинского, — сказал Иван Николаевич, — я могу коротко ответить на некоторые «почему».
Виктор влюбленными глазами смотрел на такое милое, усталое и доброе лицо Пронина. Сколько лет работают они вместе, и до сих пор Виктор не отвык удивляться остроумным решениям Пронина. Иногда кажется, думал Виктор, мысль этого человека тлеет где-то далеко под спудом, начинаешь даже раздражаться и сетовать на него за неподвижность мысли и медлительность в действиях, как внезапно, на глазах у всех, умно и просто решит он сложнейшую задачу! Пронин умен, смел, настойчив и, кроме всего этого, удивительно талантлив, хотя редко кто эту талантливость замечает, так естествен и скромен он в своей работе.
Зайцев — тот просто не мог еще разобраться во всем происшедшем. Обилие стремительно, нахлынувших на него чувств и впечатлений и ощущение сложности событий подавили его. Молодой инженер, работающий на заводе в глухой провинции и одиноко проводивший свои вечера над безмолвными чертежами, вдруг очутился в центре жестоких и удивительных событий. Мог ли он, Костя Зайцев, предположить, что станет невольной причиной таких происшествий…
— Оказывается, в жизни бывают задачи посложнее, чем в математике, — сказал Зайцев и не договорил.
Большей похвалы сказать он не мог.
Пронин открыл окно, и весенний вечерний ветерок точно вымел следы только что находившихся здесь людей. Шум Москвы: и голоса тысяч прохожих, и басистое ворчанье автомобильных сирен, и отдаленное дребезжанье трамваев, и звонкий смех девушек, и цоканье лошадиных копыт, и старческое нуканье появившегося откуда-то извозчика — поднимался вверх и сливался в стройную мелодию большого города.
Иван Николаевич выглянул в окно.
— Сколько огней, и внизу, и вверху, — задумчиво сказал он. — Почему это в городе мы никогда не смотрим на звезды?
Он повернулся спиной к окну и посмотрел на Виктора.
— Ты, конечно, без вопросов не обойдешься?
Виктор утвердительно кивнул.
— Собственно говоря, у меня есть всего лишь одно «почему», — ответил он. — Кто был человек в зеленом пальто?
Пронин молчал.
— Или вы тоже еще… не знаете? — нерешительно добавил он.
Смеющиеся глаза Пронина смотрели куда-то через плечо. Виктор обернулся. В глазах Зайцева светились тоже веселые искорки.
Виктор разгадал эти взгляды.
— Так это были вы? — разочарованно воскликнул он, поворачиваясь к Пронину. — Ну конечно! Ведь это ваше старое пальто! То-то оно показалось мне таким знакомым…
Виктор с укоризной взглянул на Зайцева.
— Вот почему вы смутились, увидев сегодня Ивана Николаевича!
Виктор беспомощно опустился на тахту.
— Но я — то, я — то каков! — воскликнул он с досадой. — Иван Николаевич! Как же это я мог вас не узнать?
— От большой любви, — шутливо сказал Пронин. — Ты ведь принял меня за преступника. — Пронин улыбнулся Виктору. — Тебе доводилось слышать выражение: не верю собственным глазам? Вот ты и не поверил. Хороший сын или муж, увидев мать или жену в предосудительном месте, не поверит этому, настолько его представление о них далеко от действительности. По-человечески это понятно, но для разведчика… — Пронин укоризненно покачал головой.
Виктор смахнул с тахты какие-то пылинки и насупился.
— Но вы, следовательно, мне не поверили, — обиженно сказал он. — Поручили расследование, а сами одновременно…
— Это, брат, похоже на семейную сцену! — воскликнул Пронин. — Надеюсь, вы не столь обидчивы? — обратился он к Зайцеву. — Что вы скажете, если профессор поручит вам решить какую-нибудь техническую проблему и в то же время сам попытается найти решение?
Зайцев смущенно пожал плечами:
— Видите ли…
— Ну что, не смущайтесь, договаривайте, — ободрил его Пронин. — Сочтете это актом недоверия или поблагодарите за помощь?
Зайцев виновато взглянул на Виктора:
— Конечно…
— Вот видишь! — воскликнул Пронин. — Не в бровь, а в глаз. В данном случае, брат, самолюбие у тебя взыграло не к месту. Что тебе важнее: работа или личный успех? Мы охраняем нашу Родину, очищаем нашу страну от врагов, истребляем хищников, — это почетная и полезная работа, но малозаметная, непоказная. Если ты хочешь личного успеха, иди в актеры или музыканты, а на этой работе не оставайся. Когда люди приходят в цветник, они еще интересуются садовником, вырастившим прекрасные розы. Но никогда не спрашивают о тех, кто вскопал землю или вымел дорожки. На иных участках человеческой деятельности труд надо любить больше, чем славу. В нашей работе это особенно важно. Успех обеспечивается взаимодействием, помощью друг другу, коллективным опытом…
— Но ведь вы были больны, — сказал Виктор, поправляясь и переходя в отступление. — Я только в этом смысле. Вам надо было лежать, вы могли довериться кому-нибудь другому, асами…
— Отказываться от работы, да еще такой интересной? — с усмешкой возразил Пронин. — Не превращай меня в хлюпика, который позволит побороть себя болезни.
Он подошел к тахте и сел рядом с Виктором.
— Но ты не огорчайся, — утешил он Виктора, кладя руку ему на плечо. — Главную работу сделал ты. Но ведь ты отлично понимаешь, что такое Захаров. Опасный и расчетливый хищник, охотиться на которого спокойнее вдвоем, и даже втроем. Да и самого себя я, таким образом, держал под контролем. Захаров вызвал Денна и, поручив ему похитить чертежи, несомненно наблюдал со стороны за его действиями, — самые косвенные намеки и незначительные признаки позволяют посвященному человеку догадываться о течении событий. Враги хотели лишить нас возможности восстановить чертежи. Они пытались воспользоваться каждым удобным случаем, каждой минутой твоего отсутствия, — Захаров не успел бы вызвать Денна и решил сам убить Зайцева. О том, что Зайцева попытаются убить, я подумал, как только услышал об убийстве Сливинского. Поэтому ты уж не обижайся, что я взял на себя охрану этого молодого человека…
Пронин прошелся вдоль комнаты, остановился возле Зайцева, потрепал его по плечу и зашагал снова.
— Я поселился в гостинице и стал соседом нашего инженера, — продолжал он. — Первый сомнительный посетитель заставил меня бесцеремонно вторгнуться в номер, а причина его появления заставила меня поискать другую, более вескую причину. Наблюдая из автомобиля, куда направился этот парикмахер, я легко заметил, что за мной тоже следует машина. Трудно было предположить, что Захаров явился не под своей личиной. Он мог предположить, что за ним будут наблюдать, и поэтому действия его должны были быть совершенно естественными. Поэтому я даже не старался особенно от него прятаться, как, впрочем, не очень прятался и от тебя, встав между дверями, когда ты влетел в парикмахерскую. Никогда не следует торопиться. Установив место работы парикмахера, я поинтересовался образом его жизни и, разумеется, не мог не обратить внимания на его объявления в «Вечерней Москве» о продаже патефона. Затем ты принял остроумное решение переселить Зайцева, и охранять его стало легче. В театре я тоже, конечно, был, и вмешался бы как-нибудь в события, если бы заметил, что Захаров передает чертежи. Но этого не случилось. Вообще, времяпровождение Захарова меня тоже очень интересовало, и когда он очутился во флигеле, я последовал за ним…
— Но позвольте, — перебил его Виктор, — что вы туда попали, я могу допустить, но как вы оттуда вышли? Вот что меня интересует.
— Не по подземному ходу, — сказал Пронин. — О том, что Захаров облюбовал площадку на втором этаже, можно было догадаться. Я по черному ходу поднялся на второй этаж, вошел в квартиру, объяснил обыкновенным советским людям, кто я такой, и попросил мне помочь. А когда предусмотрительный Захаров решил еще раз обойти дом, я открыл дверь и дождался его возвращения. У нас произошел небезынтересный разговор, и я предложил вывести его из дома, если он отдаст мне чертежи.
Виктор с удивлением взглянул на Пронина.
— Но ведь чертежей у него не могло быть?
— Только вывести, на остальное я гарантий не давал, — сказал Пронин, точно не слышал вопроса. — Но Захаров счел цену слишком высокой и сделал вид, будто не понимает, о чем идет речь. Он принял меня отнюдь не за чекиста, а за агента какой-то другой разведки, охотящейся за этими же чертежами. Я ведь не пытался его арестовать, и даже сам, как ему казалось, побаивался быть захваченным, он даже рискнул передать через меня жене записку…
Виктор посмотрел на патефон.
— «Немедленно продай»?
— Как видишь, — подтвердил Пронин. — И даже отдал мне револьвер. Спокойнее было отдаться вам в руки без такой улики.
Зайцев слушал Пронина с широко раскрытыми глазами.
— Извините, товарищ Пронин, — не удержался он. — Позвольте задать вопрос?
— Говорите-говорите, — ободрил его Пронин. — Не стесняйтесь.
— Почему он не пообещал отдать чертежи? — спросил Зайцев. — Скрылся бы, а потом просто надул своего спасителя?
— Видите ли, у преступников тоже существует своя этика, — посмеиваясь, объяснил Пронин. — Уже по одному тому, как ловко он был выслежен, Захаров не сомневался в том, что я тоже опытный прохвост. Поэтому он мог не сомневаться в том, что, не отдай он обусловленную плату, не миновать ему получить нож в спину, а может быть, и что-нибудь еще хуже. Чекистов он еще надеялся обмануть, ведь он не был пойман с поличным на месте преступления, но другого шпиона, осведомленного о ценности чертежей… Конечно, он мог бы еще вступить в сделку, если бы чертежи находились в его руках. Но он сам не знал, где они находятся, и предпочел притвориться, будто ничего о них не слышал. А что касается записки, он мог надеяться на некоторую профессиональную солидарность, тем более что мне она пользы принести не могла, а в надежде что-нибудь разузнать я мог записку передать. Я забрал его револьвер и ушел, а выйти мне из дома было нетрудно, предъявив свои документы, и даже не столкнувшись с Березиным, который рассказал бы тебе о нашей встрече…
— А затем, — легко догадался Виктор, — вы отправились к Захаровой…
— И всю ночь слушал пластинки, — подсказал Пронин. — Это было утомительно, но надо же было разгадать секрет этой игры с продажей патефона.
— Ну а если бы Захаров не дал вам записки? — пытливо спросил Виктор. — Что бы вы тогда стали делать?
— То же самое, — насмешливо сказал Пронин. — О том, что патефон играет в этом деле какую-то роль, к этому выводу мы пришли с тобой почти одновременно. Мы не могли не обратить внимания на патефон. И не таким путем, так другим получили бы этот инструмент, нашли покупателей, которые приходили к Захарову, и днем позже или раньше заставили бы появиться на сцену господина Денна. Мне показалось, что я угадал секрет игры, и я рискнул напечатать в газете текст объявления, которое уже дважды печатал Захаров. Он сам не знал, где находится человек, похитивший чертежи, и вынужден был вызывать его к себе. Несомненно, Денн ждал нового вызова, чтобы передать чертежи. Выполнив поручение Захарова, Денн должен был вручить добычу какому-то третьему лицу, которое имело возможность быстро очутиться за границей. Вполне возможно, что Денн должен был передать чертежи тому самому иностранцу, с которым Захаров встретился в Кукольном театре. Кто знает, что находилось в кармане злосчастной девочки! Какая-нибудь записка, два слова: или о том, что все сделано и пора вызывать Денна, или о способе вызова… Нам это неизвестно, но это и не столь существенно. Я заменил телефон Захарова своим, в разговоре по телефону предоставил инициативу собеседнику, он сам подсказал мне нужные слова, и, как вы убедились сами, мое предположение оказалось правильным: господин Денн явился.
— Трудно даже представить, какие опасности нас окружают, — вздохнул Зайцев, с интересом глядя на Пронина, точно видел его в каком-то новом освещении. — Вот сидит какой-нибудь инженер…
Пронин вздрогнул. Ночная сырость заползла в комнату. Он захлопнул раму и задернул штору.
— А вы что думали? — с задором спросил он Зайцева. — Нас не зря отучают от болтливости. Мерзавцев на свете, конечно, не так уж много, но сталкиваться с ними не особенно приятно. Вот мы и стараемся, чтобы инженер сидел и работал и никто ему не мешал.
Пронин поежился.
— Холодно, — сказал он. — Опять знобит. Может, пойдем согреемся? Агаша, небось, заснула, дожидаючись…
Он пошел из комнаты.
— Только еще один вопрос, — остановил его Виктор. — Куда вы сегодня ходили днем, что вы еще хотели выяснить?
Пронин остановился в дверях и через плечо посмотрел на Виктора.
— Как раз то, чем ты не любишь заниматься, — сердито ответил он. — По всему получалось, что Захарова не причастна к преступлениям мужа. Так вот, мне хотелось в этом убедиться.
— И что же? — спросил Виктор.
— Ну и убедился, — сказал Пронин. — И на сегодня хватит, пора ужинать.
Он взял Зайцева за руку и потянул его за собой в столовую.
— Пойдемте, Константин Федорович, выпьем за честных людей, а потом вы поедете и лично передадите свои чертежи товарищу Евлахову.
18. Несколько слов о пользе изучения иностранных языков
Виктор окончил рассказ.
Пронин поглядел на меня, интересуясь впечатлением.
— Как, Иван Николаевич? — спросил Виктор. — Не напутал я?
— Да нет, — задумчиво отозвался Пронин. — Упустил некоторые детали. Впрочем, оно даже лучше…
Он откинулся на подушку, и на фоне полотняной наволочки стало заметно, как порозовело его лицо.
— И чем же все это кончилось? — спросил я.
— Воспалением легких, вот чем это кончилось! — воскликнул Виктор не без иронии. — Утром я вызывал врачей. Поднялась температура, началось колотье в боку, ставили банки…
Пронин повернулся к Виктору.
— Вот этого я уже не люблю…
— Выяснилось, что с болезнью надо бороться иначе, — безжалостно продолжал Виктор. — Вечерние прогулки дали себя знать…
— Да я о другом спрашиваю, — сказал я. — Что Зайцев, что другие?
— Э, братец, какой ты дотошный, — отозвался Пронин. — Ну что Зайцев? Работает. А другие… О других, впрочем, хватит.
Разумеется, я забыл о зароке не писать больше о Пронине. Грешно было не воспользоваться таким сюжетом. Я год мог думать и никогда не придумал бы ничего похожего.
— А писать об этом можно? — неуверенно спросил я.
— А кто тебе может запретить? — засмеялся Пронин. — Пойди разберись — правда это или вымысел. Разумеется, имена и названия убери. Да ты и сам это знаешь, литераторов учить нечего…
Хотя Пронин оборвал мои расспросы, но я, даже рискуя показаться навязчивым, не мог не задать еще один вопрос, впрочем, Пронин не постеснялся бы выразить свое неудовольствие в случае излишнего любопытства.
— Все-таки мне непонятно, — сказал я, — какое значение имел патефон, и почему безобидная песенка сделала господина Денна таким послушным, и откуда вы узнали его имя?
Но Пронин не рассердился. Он только поглядел на Виктора и насмешливо хмыкнул.
— Тьфу ты, черт! — воскликнул он. — Самого главного, оказывается, мы тебе так и не сказали. — Он указал Виктору на меня. — Помнишь, я заставлял тебя изучать языки? Ты видишь перед собой воплощенную беспомощность. Мы в самом начале раскрыли секрет, а он спрашивает, в чем дело! — Пронин ласково потрепал меня по руке. — Прости, пожалуйста, я совсем упустил из виду, что ты не знаешь английского языка. Я даже не представляю, как ты следил за рассказом Виктора, не зная самой существенной детали… — Он повел рукой, прося Виктора еще раз подойти к патефону. — Будь другом, заведи эту пластинку еще, хотя бы с середины…
— Э-эх! — только вздохнул Виктор.
Он завел патефон, и оркестр вновь заиграл уже знакомый мне блюз, и вкрадчивый баритон запел свою песенку, и я по-прежнему с недоумением поглядывал на своих друзей.
— Вот-вот! — воскликнул Пронин. — Слушай!
Саксофон жалобно всхлипнул, и слегка шепелявый и совсем не актерский голос произнес в заключение несколько слов, — как я думал раньше, пожелал слушателям легкой ночи или веселой жизни.
— Do you hear me, mister Denn? That’s me. I am glad to greet you. All the orders of the possessor of this record must be fulfilled, — повторил Пронин только что услышанные слова и тут же их перевел: — «Вы слышите меня, господин Денн? Это говорю я. Рад вас приветствовать. Все приказания владельца этой пластинки должны быть исполнены».
Я по-прежнему с любопытством смотрел на Пронина.
— Понятно? — спросил он меня. — Или нужны комментарии? Леви был обычным резидентом, собирающим шпионские сведения и устанавливающим связи. Но у разведок бывают особо секретные сотрудники, предназначенные для выполнения заданий исключительной важности. Они ассимилируются среди местного населения, так что их нельзя отличить от обычных граждан. Леви знал, что в случае крайней необходимости он может вызвать некоего господина Денна. Оба они знали условный пароль — патефон, пластинки, может быть, даже знали название «The Blue Angel». Но это — для первого знакомства. Для господина Денна требовались более существенные доказательства, чтобы выполнить приказания неизвестного ему господина Леви. И вот общий их начальник не мог отказать себе в удовольствии лично дать распоряжение своему сотруднику. Конечно, господин Денн отлично знал этот голос…
— Но ведь пластинку можно разбить? — возразил я. — Ее могли услышать другие?
— Записку тоже можно потерять или сжечь, а словам какого-то Леви просто не поверить, — сказал Пронин. — В мире нет ничего вечного. Посторонние тысячу раз могли слышать эти слова и посчитать их причудой актера или обрывком другой записи. А разбить? Это было даже предусмотрено. Леви обязан был разбить пластинку в случае провала. Он не рискнул прямо написать об этом в записке, но, будучи проданной, пластинка завертелась бы в чужих руках, и неосведомленные люди так никогда бы ни в чем и не разобрались…
Пронин помолчал.
— Нет, это было очень изящно придумано, — сказал он. — Даже чересчур изящно. У начальника этих господ неплохой вкус и тонкая выдумка. Но — где тонко, там и рвется. Это самый страшный порок: быть слишком уверенным в своем превосходстве над другими.
Солнце лилось в окно. Пестрели корешки книг на полках, ослепительно белело постельное белье, на желтом навощенном паркете играли солнечные зайчики.
Виктор перегнулся через подоконник и заглянул вниз.
— Вставайте скорей, Иван Николаевич, — сказал он, лениво потягиваясь. — Поедем в Нескучный сад, возьмем байдарку…
— А если обо всем этом написать, — спросил я, — не скажут, что это не нужно?
— Почему? — удивился Пронин.
— Ну, скажут, что я раскрываю методы расследования, — придумал я возражение. — Привлекаю, так сказать, внимание…
— Ну и нерешительны же вы, братья-писатели… — Пронин поднял меня на смех. — Кто это может сказать? Во всех государствах существуют разведывательные учреждения, и наше правительство не раз предупреждало о том, что разведки засылают и будут засылать к нам своих агентов. Так почему же вредно об этом напомнить? А методы? Как нет ни одного преступления, абсолютно похожего на другое, так нет и одинаковых методов для раскрытия этих преступлений.
Он переглянулся с Виктором, и оба они снисходительно друг другу улыбнулись.
Солнечный зайчик метнулся с пола на потолок, перескочил на стену и задрожал на пунцовом ковре.
— А вы расскажете мне историю этого ковра? — спросил я, припоминая какие-то давние и смутные намеки Пронина.
— Ну, брат, это уже называется жадностью, — сказал он, потягиваясь, и снова пригубил рюмку с коньяком. — Когда-нибудь в другой раз, зимним вечером, когда опять придется вот так лежать…
Рюмка слегка дрожала в его руке.
Коньяк светился на солнце, золотистая тень падала на лицо Пронина.
Виктор сидел на подоконнике и напевал знакомую грустную песенку.
Мне не хотелось отсюда уходить.
Виктор лукаво посмотрел на меня, наклонился вперед и наставительно спел мне такие простые и безобидные слова:
Так не спите ночью и помните, что среди ночной тишины Плавает в нашей комнате свет голубой луны.Золотые дни майора Пронина
1
Предвоенные годы — это, несомненно, лучшие времена майора Пронина. Во-первых, он был майором. Во-вторых, еще не был генералом. Великая война еще не разметала старых друзей и врагов, а раздоры Гражданской уже сменились прочным социалистическим строительством. Если бы не печальные обстоятельства, «Голубой ангел» стал бы по-настоящему культовой книгой — не менее известной, чем ее герой.
Овалов работал над книгой в самое счастливое время его писательской биографии. На волне успеха рассказов о майоре Пронине он задумал повесть, которая бы вобрала оваловские представления о приключенческом жанре. И сюжетные параллели с рассказами Конан Дойла, и имя домработницы Пронина — Агаша — все указывает на контекст испытанной мировой приключенческой литературы. В начале повести автор дает свою оценку детективному жанру: «Сыщик в гороховом пальто стал анекдотической фигурой». И впрямь, они пришли на смену солдатам и мушкетерам, сказочным царевичам и богатырям; майор Пронин был не последним в их рядах.
В двадцатом веке роль национального героя в английской, французской, американской культуре получили слуги правосудия, те самые рыцари в гороховых пальто, предприимчивые защитники обиженных, вооруженные достижениями современной техники. Так, англичане относятся к Холмсу как к олицетворению викторианской доблести, которая является примером и для современной Британии. Да и для любого туриста, посещающего Лондон, одним из главных «львов королевы» является сыщик с Бейкер-стрит. Характерный американский герой, основополагающий для всей массовой культуры, — это тоже человек действия, супермен, как правило, являющийся шерифом, следователем, агентом секретных служб и т. п. Такова массовая культура с ее своеобразной и влиятельной мифологией.
Мы знаем Пронина по следующим произведениям Овалова: «Рассказы майора Пронина» («Синие мечи», «Зимние каникулы», «Сказка о трусливом черте»), «Рассказы о майоре Пронине» («Куры Дуси Царевой», «Agave mexicana», «Стакан воды»), повесть «Голубой ангел». Также Пронин действует в романах «Медная пуговица» и «Секретное оружие» и подразумевается в повести «Букет алых роз». «Что ж, немного. Но в умелых руках…» — так говаривал Пронин, извлекая из карманов матерого шпиона Роджерса всего лишь два пистолета. Конечно, оваловский канон был дополнен народными анекдотами и целым рядом литературных игр, но таким изобретательным, как в «Голубом ангеле», Пронин уже никогда не будет. И для Льва Овалова предвоенная повесть стала сияющей вершиной приключенческого жанра. Как известно, писатель снисходительно относился к своим детективам, не считал их «отчетными» в собственной литературной биографии. Но к «Голубому ангелу» писатель подошел с должным уважением, подарив повести не только хитроумную интригу, но и лирическую выразительность. Чего стоит оваловское стихотворение «Голубой ангел», которое Виктор Железнов выдает за свой перевод известной шансонетки. Мистика, печаль, блоковская символика:
Мы ничего не знаем, не видим божьих сетей, Не знаем, что это ангел уносит лучших людей, И вечером, одинокие, беспечно ложимся спать, И в пропасти сна глубокие падаем опять… Так не спите ночью и помните, что среди ночной тишины Плавает в нашей комнате свет голубой луны.Воистину, прав был майор Пронин — разведчик в этом мире обязан уметь многое: «Разве ты не знаешь моей теории о том, что чекист должен быть и жнец, и швец, и на дуде игрец?» Эту песенку мы слышим в самом начале повествования — она задает настроение, дает нам почувствовать атмосферу тайны, столь важную для шпионской саги.
2
Когда в последние мирные месяцы 1941 года советские люди зачитывались журналом «Огонек», упиваясь расследованием «Голубого ангела», майор Пронин уже был знаковой фигурой. Проницательным и въедливым людям уже бросали: «Ну, ты — майор Пронин». На этом пьедестале майор ГПУ заменил старорежимного «гения русского сыска». Знатным предшественником майора Пронина был его превосходительство Иван Николаевич Путилин — имперский тезка советского героя. Персонаж рассказов Романа Доброго слыл апологетом позитивистской морали, в то же время соблюдающим православную традицию. Он обожал надевать на своих супостатов (среди них преобладали злокозненные поляки) «железные браслетки». Путилин был реальным начальником Санкт-Петербургской сыскной полиции, оставившим свои сенсационные записки. Но больший успех имели постлубочные рассказы о Путилине, написанные М.В.Шевляковым, и в особенности — Романом Добрым (Р.Л.Антроповым). Там было достаточно страстей и погонь, разрушенных карьер и кровавых сцен. Путилин всегда оказывался победителем, поражая изобретательным умом (вместо «детективного метода» Холмса у него была «кривая», которую гений русского сыска «выстраивал») и артистизмом маскарадного умельца. Этот запомнившийся русскому читателю герой предшествовал Пронину в качестве любимого народом сыщика. Отметим и характерную разницу: Путилин — настоящий сыскарь, оберегающий права собственности русских обывателей, а Пронин — чекист, контрразведчик, работающий на государство.
Начало повести «Голубой ангел» — классическая увертюра к холмсовской истории: «Из поездки в Армению я привез, помимо записей и документов для книги об этой древней и красочной стране, несколько бутылок старого армянского коньяку. Одна из них предназначалась в подарок Ивану Николаевичу Пронину, и на другой же день по возвращении я позвонил к нему на квартиру. На звонок никто не отозвался, и это было естественно: телефон в квартире Пронина безмолвствовал по целым неделям». В роли Ватсона — сам Лев Овалов, который и впрямь работал в то время над книгой об Армении. Читатели оценили этот незатейливый, поточный, идеально гармонирующий с сюжетом язык. Явление автора, наверное, тоже можно рассматривать каклирическую ноту, характерную для этой повести.
Образ Пронина героичен, автор не скрывает своего восторга: «… Так ласково и умно смеялись эти глаза, что я еще раз невольно подумал о том, как люблю и уважаю этого человека.
Я смотрел на его добродушное лицо и суховатые губы, на его седые виски и неправильный русский нос, на его чистую рубашку и похудевшую сильную руку и невольно задумался об этом простом и очень талантливом человеке, прошедшем трудный и сложный путь…»
Декорация шпионского детектива — дело прихотливое. В жилище героя все должно быть на своих местах. Так и есть: «Все находилось на своих местах: и недопитый стакан с чаем на обеденном столе, и раскрытые окна в столовой, и легкий сквознячок, столь любимый Прониным, и книги в кабинете, небрежно втиснутые на полки, и знакомый ковер на стене, и, наконец, сам Пронин в белой полотняной рубашке, полулежащий на тахте».
Лев Овалов сознавал, что в детективе необходимо создание особой, современно-романтической атмосферы, чтобы у читателя захватывало дух от опасной и шикарной работы контрразведчика. Шикарной — потому что Пронину и его коллегам приходилось иметь дело с «элементами сладкой жизни» — коварными иностранцами, театральными администраторами, гостиничными портье… Что это — уступка массовому вкусу, требующему зрелищ в стиле «красивой жизни»? Думается, писатель осознанно формировал каноны легкого жанра, в котором назидательность ненавязчиво сочеталась с детективными красивостями вроде отличного армянского коньяка, который пьется неторопливыми, маленькими глотками. А еще в «Голубом ангеле» пьют кахетинское (в те времена — почти монопольное винное название — кахетинское и номер). Достойные напитки, которыми гордится страна… Очень уютную, просто образцовую обстановку мы, вместе с читателями 1941 года, находим в квартире холостого майора Пронина. Редкие вещицы напоминают о прежних делах, о подвигах, которые поразили бы любого из нас, но скромный майор скуп на воспоминания… Зато автор-рассказчик, оказавшись в квартире майора, жадно смотрит на эти вещицы, наматывая на ус и запоминая. Подобно Конан Дойлу, Овалов щедро рассыпает по пронинским страницам свидетельства о громких делах, которые, к сожалению, так и не были описаны… Это интригует читателя, заставляет фантазировать в ожидании новых рассказов и повестей о героическом майоре.
Кстати — почему холостяк? Неужели майору Пронину просто не повезло с женщинами или времени не было узаконить свои отношения с мимолетными возлюбленными? В тридцатые годы в СССР возрождался культ семьи — и вольные стрелки не выглядели респектабельно. Неужели Пронин так и остался партизаном революционной свободной любви? Это не похоже на Ивана Николаевича — крестьянский сын, он был человеком прочных, консервативных убеждений, опорой империи, своего рода «орлом Британии» в советском варианте. Одиночество Пронина никак не связано с этикой сексуальной свободы. Здесь другая история — и аналогию нужно искать в судьбах знаменитых литературных сыщиков. Первый из них — герой Эдгара По, одинокий философ Дюпен, положивший начало традиции. Лондонский детектив Шерлок Холмс, о котором мы знаем куда больше, чем о Дюпене, вообще сторонится женщин, не помышляя о браке. Холостяком остается и кокетливый сибарит Эркюль Пуаро, хотя женского общества этот бельгиец не сторонился. Исключением стал комиссар Мегрэ (кстати, по социальному происхождению он ближе других к нашему Пронину) — образцовый семьянин-однолюб. Преданная мадам Мегрэ, окутавшая мужа гастрономической и вообще хозяйственной заботой, становится значимой героиней сименоновского цикла. Но, несмотря на атмосферу патриархальной семьи, созданную Сименоном, в личной жизни комиссара есть один важный пробел. У четы Мегрэ нет детей. Это мучает и комиссара, и его супругу, но автору ясно, что великий сыщик должен излучать свет личной трагедии… Супермен, счастливый в браке и отцовстве, — это уже перебор. Это понимал Сименон, понимал и Овалов. Великий сыщик — человек незаурядный, чудак, непохожий на других людей. Он экстравагантен, даже если всем своим видом несет идею народного консерватизма, как Пронин и Мегрэ, чуждые всякого декадентства. Майор Пронин взял на себя миссию заступника простых людей, их спокойствия. Он защищает мирный труд соотечественников от шпионского посягательства. Роль благородная, но это роль отверженного, одинокого человека. Пронин пьет до дна свою чашу — и в его уютном гнезде нет места для любимой женщины. Нет у майора и детей. Сына ему заменил Виктор Железнов — воспитанник и ученик. Еще одна причина пронинского одиночества — это благородство майора. Он осознавал всю опасность службы контрразведчика. В такой ситуации жена в любой момент может оказаться вдовой, а дети — сиротами. Скажем, в годы войны Пронин был заброшен на оккупированную территорию — в Ригу, где ему пришлось служить в гестапо, продолжая свою тайную войну. Миссия народного заступника требует самоотречения. Вот Пронину и пришлось довольствоваться редкими дружескими посиделками за рюмкой коньяку — да и то в дни болезни, «на бюллетене»… Все эти выводы следуют из атмосферы «Голубого ангела» — повесть ведь не только про наших разведчиков и вражеских шпионов, она — о судьбе майора Пронина.
Домработница не была редкостью в квартирах совслужащих — даже в коммуналках. Наличие Агаши в судьбе одинокою контрразведчика вряд ли удивляло читателя. В те времена даже у руководителей среднего звена, у инженеров, был ненормированный рабочий день, чреватый ночными вызовами к начальству. Трудились с перенапряжением. Чтобы выжить в таком режиме, необходим домашний помощник «без претензий». Выходцы из бедных деревень, новички в большом городе, соглашались на любую домашнюю работу за пустячное жалованье. Они становились членами семей, спали в специальных закутках, обедали вместе с хозяевами. Хозяева не должны были вести себя чванливо с домашней обслугой. Нэпманские замашки были не в чести: «У нас каждый труд почетен». У майора Пронина, конечно, служила домоправительница, многократно проверенная компетентными людьми. Хлопотунье Агаше можно было доверять.
Овалов удачно сервировал один из наиболее выигрышных сюжетов: маэстро болен и потому не может принять участие в расследовании, не поддаваясь ни на какие уговоры. Больным мы встречаем Пронина уже в прологе и эпилоге — при общении с Оваловым. Там Железнов начинает рассказывать Овалову о тайне патефона «His Masters Voice» — и выясняется, что болезнь не отпускала майора Пронина на протяжении всего расследования. «Пневмония катархалис», как торжественно выражаются врачи… Но для великих сыщиков пневмония, как и любое иное недомогание — это только тренировка артистизма. Таков был отшельник с Бейкер-стрит в рассказе «Шерлок Холмс при смерти», таков и майор Пронин в своей московской отдельной квартире на Кузнецком.
В рассказах, которые автор вел и от своего имени, и от имени самого майора Пронина, характер героя раскрывался беглыми мазками — в выверенных действиях и лаконичных репликах. Жанр повести позволил Льву Овалову побольше рассказать о своем любимом герое. И это несмотря на то, что, как и Холмс в «Собаке Баскервилей», значительную часть расследования Пронин перепоручает Виктору Железнову. Железнов вырос в заметного чекиста, но ему не хватает «холодной головы». Вообще Железнов-офицер уступает себе-мальчишке из рассказов о майоре Пронине. Он миновал период «юношеской гениальности», когда — начиная со «Стакана воды» — Железнов при Пронине превращается в Гастингса при Пуаро. Своей наивностью он оттеняет гений майора контрразведки. А ведь в первых рассказах совсем еще отрок Железнов всякий раз выручал Пронина, был прозорлив и точен в прогнозах. И это несмотря на то, что, как и положено чекисту, Железнов неустанно расширяет свой кругозор, изучает иностранные языки, пишет стихи и, наверное, по совету Пронина, «решает логарифмы». Добавим, что в «Медной пуговице», наконец, сполна проявляются лучшие качества Виктора Железнова — отважного разведчика в тылу врага.
Легкий жанр с трудом прививался на российской почве. Слово-то какое-то нерусское — «детектив». Наши слова — «сыщик», «разведчик», «следователь»… Уже после Победы было найдено спасительное словосочетание — «военные приключения». Такой жанр позволял сочетать документальность и вымысел, элементы фантастики и классического детектива. А главное — сочетать назидательность в патриотическом духе с острым, занимательным сюжетом. Пожалуй, идеологизация мирового детектива началась именно с советской приключенческой литературы. Это сейчас трудно представить себе американский боевик без идеи торжества гуманного, цивилизованного и политкорректного общества. Шерлок Холмс, оставаясь верным подданным ее величества королевы Виктории, все-таки был вне политики, вне идеологических баталий. Этого уже не скажешь о Джеймсе Бонде, о Рембо, и тем более об американских героях девяностых и следующих годов. Кажется, над советской Атлантидой сомкнулись воды холодной войны — но многие эстетические и идейные начала, открытые Октябрем, и поныне оказывают воздействие на мировую историю. Это и лозунги борьбы за мир, и идеи интернационализма, и половое равноправие, и даже антиклерикальные идеи. Пресловутая доктрина политкорректности вообще, при полном освещении, может показаться аппликацией из речей Михаила Андреевича Суслова.
3
Советский детектив, вплоть до шестидесятых годов — исключительно шпионский. Вражеская рука стоит за каждым преступлением — от неприятностей с колхозными курами до любого автомобильного происшествия. Даже любимые советские милицейские детективы хрущевских времен — «Дело № 306» и «Дело пестрых» — через головы уголовников приводят нас к самым опасным супостатам, шпионам. Характерный финал такой истории — специалисты с Петровки выполняют свою работу, и дело передается «для специального расследования» в КГБ СССР. Майору Пронину вообще не доводилось сталкиваться с уголовным миром. А ведь майор мог бы использовать сознательность наших социально близких уголовников, непримиримых к шпионажу: «Советская малина собралась на совет, советская малина врагу сказала „нет“». В предвоенные годы настоящие герои обязаны были ловить шпионов, на переднем краю классовой борьбы, борьбы систем. И позже национальными героями, породившими свою мифологию, станут разведчики Великой Отечественной, представленные писателями и кинематографистами. Место прозорливого майора Пронина займет штандартенфюрер фон Штирлиц, чемпион Берлина по теннису. В семидесятые годы, когда во всем мире массовая культура перехватила командные высоты, в СССР было немало претендентов на место майора Пронина. В те годы седовласые, да и молодые, эстеты были недовольны победительным маршем популярного, коммерческого искусства. Тогдашнее телевидение — вполне монастырское по нынешним временам — казалось рассадником низкого вкуса. В пестрой телевизионной элите смешались новые любимцы публики — академики, хоккеисты, актеры, передовики производств. В каждом из новых национальных героев было что-то от майора Пронина. Или Пронин — один из немногих в русской литературе литературных героев, изначально задуманный в традициях массовой культуры — был скроен по универсальной мерке?
Самыми известными следователями последних двух десятилетий Советского Союза были, пожалуй, лавровские ЗнаТоКи. Они ловили жуликов, бандитов и зарвавшихся начальников, а на уровень большой политики вышли только один раз — в деле, которое у Лавровых называется «Расскажи, расскажи, бродяга», а в телесериале — «Ваше подлинное имя». Несгибаемый майор Знаменский был по-пронински бдителен и въедлив, смотрел на мир проницательными, немного усталыми глазами — и шпион-белоэмигрант, притворявшийся русским бродягой, не ушел от «дополнительного расследования», которое за пределами повести вел уже офицер КГБ, ученик майора Пронина. Интерес к шпионскому детективу возрождался всякий раз, когда общество начинало интересоваться международным положением, политической конкуренцией разных стран и систем. На экраны и книжные прилавки возвращались резиденты, герои Юлиана Семенова вели идеологические споры в декорациях холодной войны. Взаимные упреки выглядели аргументировано. Каждый ходил с козырей, раскрывая изнанку противника… Они нам — диссидентов и Прагу–68, мы им — Хиросиму, фултонскую речь Черчилля, Вьетнам. Они нам — Восточную Европу, мы им — Латинскую Америку… Они нам — Пол Пота и Чёнг Сари, мы им — Пиночета и Чомбе. Они нас — Солженицыным, мы их — Олдриджем…
Майор Пронин еще до войны был искушен в политических дискуссиях. Он предупреждал: «Бывшие герои делаются все изворотливее и озлобленнее. История выталкивает со сцены, а уходить не хочется. С каждым годом борьба с политическими преступниками становится все сложнее и резче. Об этом надо писать и развивать в людях осторожность и предусмотрительность». Бывшие герои — это, конечно, агенты разведок капиталистических стран. Их время проходит, победа социализма неизбежна — уверенность в этой истине вдохновляла Пронина на подвиги. Человек смертен, в загробную жизнь большевик Пронин не верил, а подвиг дает человеку шанс на бессмертие. Майор Пронин воспринимал себя человеком героического поколения борцов за светлое будущее. Когда это будущее наступит — потомки вспомнят нас добрым словом, это и будет нашим бессмертием… Без понимания героической роли пронинского поколения в советской мифологии невозможно проникнуться романтикой оваловских военных приключений. Если даже потускнеет и истрепется на архивных полках идеология, которая движет майором Прониным, то энергия и талант, с которым действовал майор ГПУ, будет по-прежнему впечатлять читателей.
В «Кратком курсе истории ВКП(б)» (1945 г.) есть яркий пассаж, показывающий роль контрразведки в тогдашнем массовом сознании: «Эти белогвардейские пигмеи, силу которых можно было бы приравнять всего лишь силе ничтожной козявки, видимо, считали себя — для потехи — хозяевами страны и воображали, что они и в самом деле могут раздавать и продавать на сторону Украину, Белоруссию, Приморье.
Эти белогвардейские козявки забыли, что хозяином Советской страны является Советский народ, а господа рыковы, бухарины, зиновьевы, каменевы являются всего лишь — временно состоящими на службе у государства, которое в любую минуту может выкинуть их из своих канцелярий, как ненужный хлам.
Эти ничтожные лакеи фашистов забыли, что стоит советскому народу шевельнуть пальцем, чтобы от них не осталось и следа.
Советский суд приговорил бухаринско-троцкистских извергов к расстрелу.
НКВД привел приговор к исполнению.
Советский народ одобрил разгром бухаринско-троцкистской банды и перешел к очередным делам».
Стилистически — очень яркий отрывок. В нем выразилась вся соль пропагандистского стиля, который проходил первую пробу в тридцатые годы, а с развитием информационных технологий только укрепился, стал политической классикой с отточенными приемами.
4
Нужно заметить, что рассказы и повести о Пронине не были перенасыщены политической пропагандой, она не была прямым содержанием Пронина, но оставалась общим воздухом читателей и героев Овалова. Овалов писал занимательные рассказы и даже извинялся в предисловии за отсутствие весомой поучительности в рассказах о майоре-чекисте. Если бы прямая идеологическая составляющая в рассказах о Пронине преобладала — громкого читательского успеха бы не получилось. Овалов удовлетворял потребность в занимательном чтении, в детективе. Но официозный стиль во всей его своеобразной красе оставался непременным сведением майора Пронина и Льва Овалова.
В «Голубом ангеле» мы находим отголоски и массовой культуры того времени. Неофициальных героев не следует противопоставлять политическому официозу. Просто Утесов, Дунаевский, Георгий Виноградов работали на другом поле, не в кремлевских дворцах, а в зеленых театрах и садах «Эрмитаж» — и работали неподражаемо. Тайна утесовского успеха начинается с псевдонима, выбранного исключительно удачно. Конечно, «Лейзер Вайсбейн» звучало не так притягательно, и дело тут не в пресловутом национальном вопросе (своих корней Утесов никогда не скрывал, синтезируя в джазовом ключе еврейские, украинские и русские мелодии). Просто «Леонид Утесов» — это марка, словосочетание, обозначающее артиста. С таким именем тебя могут освистать, могут забросать яблоками, а могут — цветами, но в любом случае твоей судьбой будет сцена, эстрада. В тридцатые годы на советской эстраде и в массовом кинематографе было немало талантов, но Утесов остается звездой первой величины. Это вершина отечественной массовой песни, как бы она ни называлась (эстрадой, роком, шоу-бизнесом и т. п.).
В тридцатые годы, когда Пронин в своем зеленом пальто гонялся по Москве в поисках пропавших чертежей инженера Зайцева, Утесов устраивал знаменитые представления своего «Теа-джаза». Нехитрая, но броская режиссура номеров, репризы — словесные и музыкальные, пленявшие песенными новинками программы. В качестве авторов с Утесовым работал Н.Эрдман, да и сам Леонид Осипович был неистощим на выдумки. «Теа-джаз» откликался и на злобу дня, на события мировой политики. К пронинской теме подходят две предвоенные песни — «Теплоход „Комсомол“» и «Акула» (переделка американской «My Bony», почему-то подписанная Дунаевским). А атмосферу эпохи определили яркие, проникнутые характерным босяцким духом, сочившиеся музыкальной выдумкой программы утесовского «Теа-джаза»: «Джаз на повороте», «Музыкальный магазин» и «Много шума из тишины». Потом была война — и новый взлет песенного искусства артиста, но нас интересует довоенное время, время, когда майор Пронин разоблачил майора Роджерса.
Образ Утесова был многоликим: в нем ощущался «духарный колорит» блатного героя, лихого одессита. Образ, важный для нашей культуры XX века. Этот герой поет «Лимончики», «Гоп со смыком» и «С одесского кичмана», переделывает «Мурку», озорно выводит: «Лопни, но держи фасон!» Между Утесовым и записными исполнителями блатного фольклора лежит пропасть: Леонид Осипович, подобно актеру Михаилу Жарову, формировал из этого сырья художественную реальность, преобразовывая свои жизненные наблюдения. Он всегда умел с некоторым лукавством посмотреть на своих героев, которые «из тюрьмы не вылазят» и решают схорониться «в Вопняровской малине». Это перенял у Утесова Высоцкий и, увы, упустили иные наши интерпретаторы блатного фольклора.
С другой стороны, герой Утесова — джентльмен, душевный собеседник, мужественный простой человек, сугубо доверительно сообщающий: «Видишь, я прошел все испытанья // На пути свидания с тобой…». Этот образ напоминал и противников Пронина, и самого майора…
Пронинский цикл — это развлекательная литература постреволюционного периода, периода чисток, периода подготовки к войне. В то же время это литература периода относительной стабильности, успокоения. Нередко забывают, что тридцатые годы по сравнению с предыдущим десятилетием казались годами успокоения. А ведь в памяти современников была Гражданская война, да и нэп озлобил многих пиром во время чумы. Другое дело — тридцатые. На площадях, где в Гражданскую проводились публичные казни, теперь в ходу кинематограф и футбол. В 1936 году впервые было проведено командное первенство СССР по футболу. В те годы разыграли два комплекта медалей: весенние и осенние. Победителями стали соответственно московские «Динамо» и «Спартак». Призерами оказались динамовцы из Киева и Тбилиси, а также армейская команда ЦДКА. Футболисты стали новыми спортивными кумирами страны, как когда-то, до революции, ими были цирковые силачи и борцы: Крылов, Поддубный, русский лев Георг Гаккеншмидт. Теперь говорили о братьях Старостиных, о ветеране футбола Малинине, о Бутусове, Семичастном и Акимове. Из записей Ю.К.Олеши мы узнаем, как в конце тридцатых признавала Москва нового футбольного гения — Григория Федотова… У горожан появился большой футбол; водка, как и пиво, уже продавалась свободно (впрочем, майор Пронин предпочитал армянский коньяк). Многие города славились своим мороженым и газировкой с сиропами. В кино (оно стало звуковым, и следовательно — подлинно самым массовым искусством, да еще, по Ленину, «из всех искусств для нас важнейшим») особенно актуальными для массового сознания были ленты «Чапаев», первый советский звуковой фильм «Путёвка в жизнь» и музыкальные комедии режиссеров-соперников Г.Александрова и И.Пырьева. Каждый горожанин (в особенности — подростки и молодежь) имел обыкновение смотреть полюбившуюся картину от десяти до сорока раз. Идеалом эпического героя стал Чапаев, символом аккуратности и добропорядочности — Фурманов, оптимизма и веселья — Костя Потехин, трудового успеха — героини Ладыниной. Весьма актуальный идеал блатного супермена олицетворял (деля этот трон с Утесовым) Михаил Жаров, колоритно исполнивший роль Жигана и спевший «Щи горячие, да с кипяточечком!..». Варились в кинематографе той поры и обаятельные «свои парни», и чудаковатые благородные интеллигенты с бородками клинышком, и (с конца тридцатых) национальные герои из славного прошлого. Это было талантливое и очень демократичное искусство. И майора Пронина нельзя вырвать из культурного контекста его времени.
Подобно Сименону, Овалов стремится дать социальное обоснование преступления. Вот фотограф Основский — один из наймитов иностранной разведки. Задается вопрос: почему фотограф Основский стал врагом советской власти? Оказывается, все дело в классовом инстинкте: он «был сыном владельца модной в прошлом московской фотографии. Этот при некотором желании мог считать себя обиженным. Правда, занимался он все тем же ремеслом и зарабатывал много денег, но неудовлетворенные чувства хозяйчика способны были тревожить его воображение. Власть над двумя ретушерами могла ему представляться настоящей властью, а возможность распоряжаться собственной кассой — истинным богатством». Звучит убедительно и исторически достоверно.
Говоря о «Голубом ангеле», необходимо сделать экскурс и в историю зарубежного кино. Собственно говоря, название Овалову подарил один из самых одиозных и растленных кинофильмов гибнущей Европы, снятый в 30 годы, на закате Веймарской Германии. Мария Магдалена фон Лош — она же Марлен Дитрих — яркая женщина-вамп тридцатых — сыграла в этом самом «Голубом ангеле» так, что всю жизнь потом получала оброк с этого успеха. «Циничная, развращенная певичка Лола» (так аттестует ее наш кинословарь) легко вписывается в атмосферу шпионской повести. Марлен сама исполняла модные песенки — они издавались на патефонных пластинках. Редкие записи Дитрих можно было встретить в элитных московских и ленинградских квартирах. В то время всю популярную музыку называли джазом. «The Blue Angel» Овалов со знанием дела называет блюзом, упоминает и другие музыкальные названия — джазы Эллингтона, Нобля, Гарри Роя, песенки Шевалье, Люсьенн Буайе, «Chanson du printemps», «The Golden Butterfly», «Mood Indigo», «Ton amour»… Это логично: популярная литература использует успех популярной музыки.
5
В «Голубом ангеле» противники Пронина были хитры как никогда. Их изобретательность поставила в тупик Виктора Железнова, и, если бы не Пронин, резидент ускользнул бы от нашей контрразведки. Этот факт подтверждает исключительность майора Пронина, его гениальность. Сюжет громко перекликается с «Собакой Баскервилей». Как и у Конан Дойла, у Овалова великий сыщик лукаво перепоручает дело помощнику, но втайне продолжает самостоятельное расследование, время от времени путая карты своему незадачливому коллеге. Как и «Собака…», «Голубой ангел» — повесть, а не рассказ, и в ней мы видим целую галерею действующих лиц, совслужащих предвоенного времени (у Конан Дойла эту роль исполняют соседи Баскервилей, обитающие возле Гримпенской трясины).
В то же время Овалов обогащает традицию свежим приемом: на первых же страницах повествования Пронин раскрывает тайну герою-рассказчику. Но читателю они этой тайны не раскрывают, а рассказчик не понял секрета, поскольку он не чекист и, следовательно, не говорит по-английски. «Собака Баскервилей» начинается с чтения старинного манускрипта. У Овалова герои прослушивают патефонную пластинку «Голубой ангел», в этой записи и кроется секрет — шеф зарубежной разведки на своем родном английском дает указание резиденту во всем следовать указаниям хозяина пластинки. Да, сам Овалов поначалу не понял этого — и честно попросил Пронина рассказать ему всю историю от начала и до конца. Майор был болен, знакомый писатель пришел к нему в гости с бутылкой любимого армянского коньяка — можно ли было оставить его без истории? Впрочем, миссию рассказчика Пронин перепоручил Железнову, предварив повествование морально-нравственной доминантой: «С каждым годом борьба с политическими преступниками становится все сложнее и резче. Об этом надо писать и развивать в людях осторожность и предусмотрительность».
Виктор постоянно докладывает о ходе дела больному Пронину, перемежая деловой разговор цитатами из Блока и выслушиванием обычных пронинских нотаций на тему «Каким должен быть настоящий чекист». Пронин окорачивает подозрительность Железнова, заставляя верить в честность инженера Зайцева и его покойною друга Сливинского. Пока Железнов носился по городу, Пронин делал вид, что перечитывает статьи Энгельса о войне, а сам… ведет тайное расследование.
Любо-дорого смотреть, с какой ловкостью Овалов преподносит в повести деликатный «еврейский вопрос». Знаменательно, что в повести, которая вынашивалась в предвоенные месяцы, нет упоминания фашистской Германии, а шпионы, несомненно, представляют англо-американскую разведку. Для Овалова важно лишь то, что они — враги советского государства, а нам следует быть бдительными и готовиться к войне. Реалий Второй мировой в повести нет. Писатель осторожничает, не желая давать оценок быстро меняющемуся международному положению. В конце концов, перед нами — шпионская сказка, и документализм только повредил бы майору Пронину. Майор делает смутные намеки на ужесточение классовой борьбы, молчит о гитлеризме, уже опутавшем пол-Европы. Таковы правила игры, заданные Оваловым. Белоснежная чистота жанра. На этом фоне бросается в глаза, что один из главных (а в какой-то момент читателю кажется, что и вовсе главный!) злодеев повести — шпион Леви, притворяющийся советским мужским парикмахером Захаровым, оказывается выходцем из зажиточной еврейской семьи. Бедные родственники жили в Советском Союзе, а богатый отец дал Леви европейское образование, необходимое для первоклассного шпиона. Он овладевает документами «бедного родственника» и приезжает в Москву, где берет фамилию своей новой жены — Захаров. Виктор Железнов даже не удерживается от глубокомысленного комментария: «Остановило было на себе внимание Виктора то обстоятельство, что при женитьбе Левин взял себе фамилию жены, но и в этом не было ничего предосудительного: мало ли местечковых молодых людей переменили за эти годы свои фамилии». Заслуживает внимания и гуманность Ивана Николаевича Пронина: разоблачив Захарова, он спешит убедиться в невиновности его жены — той самой, у которой шпион позаимствовал фамилию. Пронин даже посетовал, что его молодой товарищ не всегда так внимателен к нюансам соблюдения социалистической законности… Дай волю Железнову — он бы пересажал всех подозреваемых. Потому и не дремлет майор Пронин, чтобы работа контрразведчиков была эффективной и ненавязчивой.
В «Голубом ангеле» майор Пронин достиг Эвереста своего остроумия. Реплики хворого контрразведчика полны скрытой иронии. Своих собеседников — чекиста Железнова, изобретателя Зайцева, крупного начальника Евлахова, да и разлюбезную Агашу, — он водит как козлов на веревке по маршрутам своей логики. Водит — и нередко насмешливо выдает им секреты расследования, понимая, что эти симпатичные тугодумы лишены аналитического полета. Овалов наделяет Пронина тонким чувством юмора: эта примета возвышает майора над коллегами, указывает на уникальность его профессиональных и человеческих качеств.
Интересно место действия, выбранное Оваловым: фоном для шпионской истории стали модные, престижные уголки предвоенной Москвы. Современная, огромная гостиница, в которой угадывается построенная напротив Кремля по проекту академика Щусева гостиница «Москва»; засекреченный институт, разрабатывающий новые технологии; кукольный театр, в который стремятся все гости столицы, в том числе — иностранные.
Нетрудно догадаться, какой театр имеет в виду Лев Овалов. Творение Сергея Владимировича Образцова было и остается уникальным в многовековой истории зрелищ. Куклы Образцова были способны на многое: великий кукольник сделал для своего искусства не меньше, чем К.С.Станиславский. Чистая правда, что зарубежные гости стремились в дом на площади Маяковского, чтобы увидеть кукольного Емелю, Аладдина, Кота в сапогах. Шпион Захаров-Леви привел соседскую девчонку именно на «Кота…» (хотя на самом деле — на шпионскую встречу!). С.В.Образцов оставил воспоминания о другом инциденте, случившемся на спектакле «Кот в сапогах»: «В этом спектакле есть великан-людоед, которого смелостью да хитростью Кот побеждает. Так вот этого великана играет человек в маске. Рядом с маленьким Котом он кажется невероятно огромным и страшным. Но он очень смешной и глупый, и зрители наши, которым шесть-восемь лет, встречают его изумленным „ай“, но вовсе не испугом. А какая-то мама, не знаю, каким образом избежав бдительности контролерши, пришла на спектакль с трехлетней дочкой и села в четвертом ряду в самой середине партера. Не знаю, что понимала дочка в самом начале спектакля, но когда над ширмой появился великан и схватил своей огромной лапой маленького Кота, девочка закричала на весь зал: „Мама, выключи!“ Выключить мама не могла, схватила свою навзрыд плачущую дочку и, пробравшись сквозь весь ряд, выбежала из зала. И в фойе, и в раздевалке девочка продолжала рыдать».
Еще одна примета предвоенного времени — славные московские парикмахерские, которые были своеобразными мужскими клубами. Там брились и стриглись, там обсуждали новости. Мастер Захаров-Леви был в курсе всех сплетен района, знал слабости своих клиентов — кто ходок, кто скряга, кто строит из себя денди… Обеспеченный гражданин, не имеющий свободного времени, мог вызвать мастера на дом; хороший мужской парикмахер, как, например, шпион Захаров, был нарасхват. Город «Голубого ангела» напоминает о знаменитом цикле художника Ю.И.Пименова «Новая Москва» (1937 г.). Мы по затылку помним ту счастливую девушку, которая за рулем кабриолета выезжала на проспект Маркса.
6
Сейчас лучшая повесть Льва Овалова воспринимается как изысканный ретро-детектив, сохранивший обаяние эпохи, доносящий отзвуки тех людей, о которых можно сказать словами Метерлинка: «Когда мы вспоминаем о них — они оживают». После нескольких лет тщетных попыток уничтожить советский менталитет забвеньем и проклятьями стало ясно, насколько коренным явлением была красная Россия. Интеллектуальная оснастка майора Пронина, его повадки, его сила, его слабости остаются для нас понятными, близкими и типичными. В череде исторических и придуманных героев, среди мифов, легенд и документов эпохи образ майора Пронина не затерялся. Вот он провожает героев «Голубого ангела», запирает за ними дверь. Он доволен успешным расследованием, а пневмония — сущий пустяк. Начинается лето 41 года. Через несколько недель, в трагических боях за Прибалтику, когда Красная армия будет отступать, его забросят во вражеский тыл. Несколько лет Пронину придется служить в гестапо, из контрразведчика превратившись в разведчика. Гороховое пальто он сменит на немецкий мундир… Эту историю Лев Овалов опишет в романе «Медная пуговица» — следующем повествовании пронинского цикла.
Арсений Замостьянов
Note1
Не стреляйте, господин Леви (англ.).
(обратно)Note2
Вы ничего этим не достигнете (англ.).
(обратно)Note3
Посмотрите внимательней на улицу (англ.).
(обратно)Note4
Я не понимаю (англ.).
(обратно)Note5
Может быть, вы хотите говорить по-немецки? (нем.).
(обратно)Note6
Нет, я не понимаю по-немецки (нем.).
(обратно)Note7
Вы предпочитаете французский язык? (франц.).
(обратно)Note8
Нет, я не говорю и по-французски (франц.).
(обратно)Note9
«Весенняя песня», «Золотая бабочка», «Голубые настроения», «Твоя любовь», «Голубой ангел»… (англ. и франц.).
(обратно)




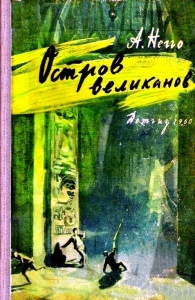


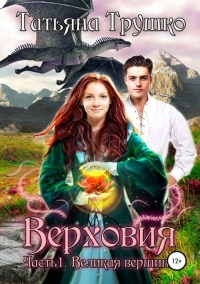

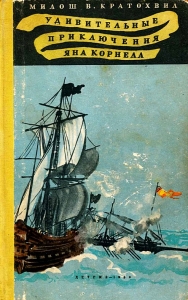

Комментарии к книге «Голубой ангел», Лев Сергеевич Овалов
Всего 0 комментариев