Владислав Крапивин Граната
Первая часть Длинный день у моря
Пулеметчик
Солнце пылало. Оно обрушивало на развалины и плоские курганы лавину сухого жара. Словно кто-то сыпал с громадного, как Сахара, противня потоки горячего песка. Его тугие бесшумные струи прижимали Гая к земле.
Гай сумел упасть удачно: голова оказалась в тени высокого камня с козырьком (может быть, карнизом древнего дома). Но тело осталось в полной власти солнца. И солнце (ага, попался!) навалилось на распластанного среди колючей травы мальчишку.
Но что оно могло сделать с Гаем? Сотый раз прожарить насквозь? Добавить еще один слой к матово-кофейному загару? И Гай снисходительно, даже с удовольствием принимал на себя сквозь пыльную сетчатую майку лучи безоблачного августовского полдня. К тому же он знал: стоит шевельнуться, приподняться, и прокаленная кожа ощутит движение воздуха, в котором всегда есть прохлада близкого моря.
Но шевелиться было нельзя. И Гай ощущал, что тело его растворяется в солнечном жаре. Это было приятно и в то же время опасно: наваливалась дремливая беззаботность. И негромкий стук пулемета казался таким же мирным, как кузнечики, как шорох волн под обрывами…
Гай видел рыжий от ржавчины пулеметный ствол в щели между серыми глыбами — то ли остатками старинной башни, то ли развалинами бетонного дота. Ствол неутомимо дергался в такт частым выстрелам. Гай подумал, что если это пулемет с диском, то диск для таких очередей должен быть размером с парковое колесо смеха. А если система с лентой, то лента — как эскалатор на Ленинских горах. Но сейчас боезапас противника зависел не от дисков и лент, а от воздуха в легких. Легкие у засевшего в камнях пулеметчика были, видимо, прекрасные, и он сыпал в горячую полуденную тишину бесконечную скороговорку:
— Та-та-та-та-та-та-та-та-та…
Нет, не совсем бесконечную. Порой скороговорка сбивалась на редкие «тых, тых, тых», похожие на выхлопы глохнущего мотора. Иногда наступала тишина. Однако стоило кому-то из атакующих поднять голову, как пулемет взрывался новой очередью…
Обойти его с тыла казалось невозможным. За пулеметным гнездом поднималась двухметровая стена — видимо, остатки цитадели или казармы древнего Херсонеса. С флангов мешали минные ловушки. Три человека уже зацепили проволоку и выбыли из строя под злорадное звяканье консервных банок с насыпанной в них галькой. И под радостные вопли «убитых» солдат противника, которые теперь следили за боем с ближнего бугра. Эти наблюдатели не дадут схитрить и обмануть военную судьбу, если зацепишь мину-жестянку или откроешься перед пулеметом.
Да никто и не пытался хитрить. И Гай не станет. В здешней компании это не принято. Вот в Среднекамске, если игра в войну, только и слышишь: «Куда лезешь, я тебя уже убил!..» — «А вы вообще не по правилам, с той стороны договорились не нападать!..» — «Кто не по правилам? Вы сами хлыздите!»
Здесь такого нет. Может, в этих краях у ребят другие характеры, а может, просто удачная подобралась компания.
Гай познакомился со здешними мальчишками через неделю после приезда.
…В первый выходной, когда Толику не надо было идти в лабораторию, они отправились в Херсонес. Бродили среди серых стен и башен, среди засыпанных и заросших древних кварталов, среди колонн разрушенных храмов, по желтым скалистым обрывам и каменистым пляжам, где волны перекатывали крупную гальку.
Толик то хватал Гая за рубашку, когда он пытался нырнуть в черный лаз подземелья или вскарабкаться по отвесу башни, то поторапливал, если он замирал надолго над притаившимся крабом или плоским камнем с полустертыми непонятными буквами.
…Где-то в этих местах двадцать пять лет назад тяжелая мина разнесла в пыль, перемешала с землей и горячей щебенкой старшего политрука Сергея Васильевича Нечаева, который был отцом Толика. И дедом Гая. И в самые озорные минуты веселость Гая была словно припорошена пепельной пыльцой.
А Толик, видимо, не замечал этого.
Впрочем, печали Гай не чувствовал. И стесненности в душе, какая возникает на кладбище или просто при мысли о смерти, тоже не было. Было другое чувство, хорошее. Тайная ласковость к этой земле.
Удивительная была земля — с загадками, кладами, легендами. С теплыми камнями старинных стен, с запахом спелых трав и моря… И оттого, что частью здешней кремнистой почвы, травы и песка стал когда-то его дед, Гай ощутил эту землю своей.
Вдохнул воздух Херсонеса и с облегчением понял, что он не гость.
А до той минуты чувствовал себя приезжим.
Севастополь ошеломил Гая блеском нестерпимо синей воды, режущей глаза белизной домов и корабельных рубок, буйной зеленью незнакомых деревьев, излишне ярким своим сверканием. Гай ходил по улицам с Толиком и один, смотрел во все глаза, удивлялся и радовался, но робел в душе. Подавив робость, он лихо взбегал по каменным трапам к памятникам, с размаха запрыгивал верхом на горячие от солнца пушки старых бастионов, храбро гладил местных лохматых псов и лихо подскакивал под разлапистыми ветками, срывая на бегу каштаны.
Так в фойе кинотеатра притворяется независимым и беззаботным пацан, проскользнувший без билета.
Казалось бы, откуда у Гая эта неуверенность? Ведь приезжего люда в городе было, пожалуй, не меньше, чем коренных жителей. К тому же Гай ничем не отличался от местных мальчишек. За два летних месяца он дома успел загореть получше многих южан, а волосы выцвели до льняной белизны. С пирсов и камней нырял он не хуже здешних ребят (а плавать в соленой воде было не в пример легче, чем в речной). Однако в глубине души у Гая гнездилось боязливое отчуждение: город был не его.
И лишь в Херсонесе Гай вздохнул, словно сбросил тесную, не свою, надетую по ошибке куртку. Или словно из дальней поездки вернулся к себе, на знакомую улицу. Хотя родную улицу Гая ничто здесь не напоминало. Была солнечная тишина древних берегов и необъятность увиденного с обрывов моря…
На следующее утро Гай отпросился у Толика сюда один. Поклялся, что не будет «соваться куда не надо», а искупается только один раз, и обязательно рядом со взрослыми («или нет, два, но недолго, ладно?»).
В середине дня он, порядком уставший от лазанья по развалинам и орудийным гнездам, от солнца и купанья, сидел у воды. Надевал на травинку дырявые камешки, которые считаются амулетами. И здесь подошли к нему трое мальчишек.
— Здравствуй. Пойдешь с нами? Не хватает человека.
В Среднекамске так не знакомились. Привыкший к обычаям Старореченской улицы и ее окрестностей, Гай прикинул (на всякий случай) путь к отступлению. Сдержанно ощетинился:
— Куда еще идти?
Все трое глянули удивленно. Старший — ровесник Гая, высокий щуплый парнишка со спокойными глазами — объяснил:
— В футбол играть… Ты не бойся, это недалеко.
— А кто боится? — напружиненно сказал Гай.
Лопоухий пацаненок — самый маленький и похожий на ушастого воробья (если бывают такие) — посмотрел на Гая и на товарищей, смешно пожал колючими плечами. А третий — пухлогубый, в новенькой синей испанке с белым кантом — проговорил виновато:
— Ну, если не можешь, не надо… Как хочешь.
— Мы же только спросили, — добавил старший, пройдясь по Гаю снисходительным взглядом.
Эта снисходительность обидно царапнула Гая. Но, когда ребята пошли от него, Гаю вдруг вспомнился речной обрыв, большой тополь и мальчишка в ковбойке (тогда еще незнакомый). Да, что-то одинаковое было в интонациях у здешних мальчишек и у Юрки. И Гай ощутил быстрое раскаяние и едкую досаду на себя.
Окутанные ленивым зноем скалы и развалины сразу наскучили. И даже искупаться нельзя — два раза уже залазил в море.
Гай догнал ребят среди колонн разрушенной базилики.
— А где играть-то? Камни кругом…
Но среди засыпанных тысячелетней землей и поросших пыльной зеленью кварталов лежали широкие лужайки. На одной — вогнутой — ребята и гоняли мяч. Конечно, здесь был не стадион и даже не дворовая площадка. Камни подворачивались под ноги, шипастые головки здешнего чертополоха без снисхождения лупили по коленям, но игра шла на полном накале: мяч — такой же коричневый и поцарапанный, как игроки, — бомбой летал над колючками и сурепкой.
При счете восемнадцать — двадцать два команды обессиленно полегли. Игореша — пухлогубый пацан в испанке, — постанывая, сходил домой на недалекую улицу Древнюю и принес бидон квасу. Похожий на копченую скумбрию Славка выпросил у студентов-археологов, что работали неподалеку, батон и несколько помидоров. Сжевали, запили, и Артур (тот, что первый заговорил с Гаем) предложил:
— Купаться!
Гай с грустью сказал, что пора домой.
— А завтра приедешь? — спросил Игореша.
— Ага.
…Компания была большая, человек пятнадцать. И, кстати, не все местные. Славка, например, был сыном ленинградского профессора, приехавшего со студентами на раскопки. Близнецы Денис и Вадька — москвичи, жившие здесь летом у бабушки. Да и среди севастопольских ребят не все были с ближних улиц. Кое-кто, подобно Гаю, бродил по Херсонесскому заповеднику и познакомился с компанией случайно.
Конечно, здесь не было крепких дружеских связей. Так, ниточки приятельских отношений, вроде тех, что возникают в короткой лагерной жизни или в дачном поселке, где съехались незнакомые люди. Но все равно было хорошо. Была вольница. Этой вольнице повезло — не оказалось там ни одного нытика, завистника или такого, кто хотел сделаться атаманом. И жила она без обмана в играх, без больших обид и без ссор. Силой своей никто не хвастался, маленьких из игры не прогоняли.
Если совсем без командира было нельзя, выбирали Артура. Он спокойный и справедливый и знает здесь все закоулки. Но и он не был постоянным вожаком. Наверно, и не хотел.
Иногда кто-то из ребят на день-два пропадал, порой появлялись новые. Никто не знакомился специально. И Гай до сих пор у кого-то не помнил, а у кого-то путал имена. Многие были похожи друг на друга, как похожи люди на фотонегативах — все темнолицые и с очень светлыми волосами. Почти у всех (кроме жгучего брюнета Славки и рыжего кудлатого Руслана) волосы выцвели, тело — под многослойным загаром. Загар этот уже не блестел, а был словно припудрен. Проведешь по ноге помусоленным пальцем — она блестит, как протертая от пыли скрипка. А высохнет — и опять на ней тонкая пыльца. Это мельчайшие чешуйки кожи шелушатся от жгучего ультрафиолета… И только следы от ссадин и заросших порезов долго розовеют, не загорают. А царапин всяких ой-ей-ей сколько, если вот так, по-пластунски, пробираться в камнях и колючках.
… — Миш… — прошелестел сзади жаркий шепот. — Ми-ша…
Пятиклассник Гаймуратов не любил свое имя. Оно казалось ему неуклюжим, как толстолапые медвежата, что рядами сидят на полках «Детского мира». Даже буквы этого имени представлялись Мишке выложенными из коричневых плюшевых колбас — вроде тех, которыми перекрывают проходы в театрах и музеях…
В школе судьба подарила Мишке новое имя. Она, эта судьба, выступила в лице драчливого и жуликоватого Витьки Дуняева, который в первом классе всех и сразу оделил прозвищами. Мишке Гаймуратову досталась обидная кличка Гайморит. Не только из-за фамилии, а еще и потому, что дедушка — известный врач. Но это слово оказалось длинным и для многих первоклассников непонятным. Скоро оно сократилось до короткого и более приличного — Гайма. После зимних каникул грозного Дуняева перевели в другую школу, и некому стало следить за строгим соблюдением прозвищ. Многие из них забылись (как забылся вскоре и сам Дуняев), а Мишка Гайма быстро превратился в Гая.
Гай — это хорошо. Некоторые даже думали, что он — Гай Муратов. Короткое имя было словно клич лихих конников. Недаром дедушка говорил, что один из давних его предков воевал в армии Шамиля. Вроде бы закончил этот предок в Петербурге кадетский корпус, был послан на Кавказ, а там перешел на сторону соплеменников, которых считал борцами за вольность. Когда Шамиль сдался, бывшего прапорщика Гаймуратова взяли в плен и хотели казнить, но царь вроде бы помиловал: не то за храбрость, не то за княжеский титул. Пленного отправили на поселение в Вятскую губернию, где он женился на дочке местного лекаря и дал нескольким поколениям русских медиков свою фамилию.
Бабушка — мамина мама — иногда поддразнивала деда:
— Как же, Андрей Владиславович, этот князь мог жениться на русской? Он был мусульманин, а она христианка! Это запрещалось.
— Н-ну, не знаю, — защищался дедушка. — Наверно, принял христианство.
— Вот тебе и раз! Воевал за ислам, под знаменем пророка Шамиля, а потом — в христиане?
— Я думаю, он воевал не столько за ислам, сколько за свои понятия свободы, — не сдавался дед. И добавлял с лукавством: — К тому же, любезная Людмила Трофимовна, любовь бывает посильнее всяких религий. Мир знает тому немало примеров. А?
Впрочем, рассказывая семейную легенду, дед и сам посмеивался. И добавлял:
— Больше никого из кавказцев у нас в роду не было. Но иногда чувствуется в крови что-то такое: хочется схватить шашку, и на коня…
Мама считала, что «такое» есть в крови и у Мишки. Иначе в кого он? Папа — сосредоточенный, весь в своих научных делах, спокойный и в очень толстых очках — в молодости его даже на фронт из-за близорукости не пустили. Мама — тоже с ровным характером и бывшая отличница… Когда мама пудрила Мишкины синяки или разглядывала его дневник, она качала головой и говорила со вздохами:
— Черкес ты непутевый у меня, Мишка…
Мама одна умела говорить «Мишка» так, что имя не казалось неуклюжим. Она мягко растягивала слог «ми», а тяжелый плюшевый звук «ш» почти исчезал в мамином вздохе. Но и мама иногда называла сына школьно-уличным именем: «Опять за стол с немытыми руками? Ох, Гай, получишь ты у меня трепку!»
Никакой трепки от мамы он никогда не получал. Разве что хлопнет она его по затылку, заросшему светлыми, совсем не черкесскими волосами, так это со смехом…
А иногда мама называла его Гаем и по-другому, ласково: «Ох, Гай ты мой Гай, в кого у тебя глазищи такие?» («Какие?» — буркал Гай. Мама смеялась: «Как купорос».) Или строго: «Гай, где тебя черти носили до темноты?»
Струйка теплого воздуха шевельнула на затылке волосы, а показалось — будто мамина ладонь. «Ох, Гай, где ты у меня, а?»
А он здесь. Далеко-далеко от родного Среднекамска. Лежит, прижатый к твердой кремнистой земле потоками сухого зноя и бесконечными «та-та-та» засевшего в камнях пулеметчика.
— Ми-шка.
…Он постеснялся здесь назвать себя Гаем. А на «Мишку» до сих пор отзывается с замедлением — с непривычки и от внутреннего упрямства.
— Миш… — его дернули за ступню. Гай оглянулся. Сзади — взмокший, в сдвинутой на затылок испанке — лежал Игореша. — Артур сказал, чтобы ты закидал пулемет гранатами.
— Да у меня всего одна! — Гай сжимал в правой ладони бумажный, перевязанный нитками пакет с сухой землей. Такие гранаты они понаделали с утра. Теперь их осталось совсем мало.
— У меня есть две… Но мне их не добросить, — самокритично выдохнул Игореша.
— Давай…
Одну Игорешину гранату он взял в левую руку, вместе с рейкой, изображавшей автомат. Вторую с натугой запихал в задний карман на шортах. Карман, и без того уже надорванный, затрещал. Гай мужественно чертыхнулся. Затем толчком ввинтил себя в ломкие заросли подсохшей травы (похожей на полынь, но с другим запахом) и прополз до края каменистой открытой площадки на пологом склоне.
До пулемета было теперь метров десять.
Отсюда Гай разглядел, что пулеметное гнездо — вовсе не остатки дота и не древние развалины. Это просто два больших камня, приваленные плоскими верхушками друг к другу. Между ними темнела треугольная щель. Из нее и торчал тонкий ствол с наконечником, похожим на ржавую воронку.
Воронка все так же неутомимо дергалась. Частое «та-та-та» стало теперь отчетливей и громче. И, кажется, злее. И Гай вдруг ощутил сильное раздражение против упрямого пулеметчика: засел там в тени, а ты тут жарься и царапайся из-за него! И вообще…
Что «вообще», Гай объяснить не смог бы, но все вокруг сделалось жестче и серьезнее. Будто хищная воронка ствола могла и в самом деле ожечь Гая хлесткой болью.
Гай приподнялся на левом локте и швырнул гранату. Она полетела по крутой дуге. Земля посыпалась из порванной бумаги и оставила в воздухе пыльный след. Пакет лопнул от удара на внешнем скате камня в полутора метрах от амбразуры. Пулеметчик, видимо, даже не заметил «взрыва». Гай с горькой злостью на себя понял, что, будь граната настоящей, ни осколки, ни взрывная волна не зацепили бы пулемет.
Гай часто и сердито подышал, заставил себя успокоиться и хладнокровно бросил вторую гранату. Хладнокровие не помогло. Тугой бумажный кулек упал далеко в стороне от амбразуры и безобидно застрял среди мелких камней.
Все, конечно, видели, какая он размазня!
«Та-та-та-та-та…» — злорадно выводил неуязвимый пулеметчик. Гай встал на колени и дернул из кармана последнюю гранату. Дернул яростно — карман опять затрещал, бумага лопнула. Понимая, что все уже зря, что разорванный пакет не долетит, Гай не сдержал гневной обиды на себя и на весь белый свет — метнул гранату просто так, не целясь. Будто врагов впереди было множество. Пыльная начинка рассыпалась в воздухе, драный пустой кулек обессиленно спланировал, не пролетев полпути. А Гай упал ничком. От беспомощной злости и стыда.
— Миш, ну ты чего? — зашелестел позади Игорешин полушепот. — Мишка, давай…
Что «давай»? Будто глупый Игорешка не знает, что гранат больше нет… Или…
— Миша, ты ближе всех.
Вот, значит, что! Ясно, чего ждут от Гая все, кто залег среди колючек и ракушечника. Пять скачков вверх по наклонной каменной площадке и — грудью на ствол!
Про это столько раз читали. В кино видели…
Это просто и быстро. Давай, Гай!
Ну, что же ты, Гай…
Потом он не раз будет ломать голову: почему не бросился? Просто потрошить себя станет, чтобы докопаться до самой начальной причины. Может, показалось, что это не игра, а все по правде? Может, Гай просто и понятно испугался? Но если и так, то это лишь на дольку секунды. А лежал он сколько?
Лежал, пока не увидел, как со стены позади пулеметного гнезда прыгнули Артур и Славка. Значит, все же пробрались через мины, зашли с тыла!
Они скакнули с двухметровой высоты на камни и легли на них плашмя. Славка махнул белой веревкой, набросил на торчащий ствол петлю и вместе с Артуром сильно дернул аркан. Трехногий голенастый пулемет с тонким стволом и приржавевшим сверху диском вылетел из амбразуры. Конец ствола обломился. Пулемет запрыгал вниз по склону и опрокинулся, нелепо задрав треногу. Он был похож на дохлого великанского кузнечика.
Все-все теперь мчались вверх с победными криками.
И Гай бежал. Правда, чуть позади остальных.
Кто-то лягнул пулемет, и он опять покатился, подпрыгивая. Гай перескочил через него. Казалось бы, надо остановиться и разглядеть. Не каждый день видишь пулеметы, хотя и ржавые. Но инерция толкнула Гая вперед. Да и… не только инерция. Еще и стыдливое опасение — словно старый пулемет мог усмехнуться: «Сперва испугался, а теперь любопытствуешь?»
Вся компания — и атакующие, и «убитые» из обеих армий — запаленно дыша, встали перед амбразурой. Гай увидел несколько ребят и девочку — такую же загорелую, как мальчишки, курносую, с прямыми желто-белыми волосами до плеч. Девочка-то явно была не из воюющих. На плече она держала брезентовую мужскую куртку, в руке — пустую сумку из клеенки. Видимо, подошла из любопытства.
Впрочем, Гай подумал о ней лишь мельком, потому что Игореша удивленным шепотом спросил:
— Ты почему не побежал на пулемет? Раз гранат не осталось, надо было вперед…
Шепот был громкий, и на Гая сразу глянули несколько человек. Гай проклял в душе Игорешу и сказал с явной интонацией старожила среднекамской окраины:
— Чё зря выхваляться-то? Если бы по правде герои…
Тут сунулся «ушастый воробышек» Вовка:
— А по правде пошел бы?
— А ты? — огрызнулся Гай.
— Ой, я нет, наверно… — вздохнул простодушный Воробышек, и Гаю стало полегче. Тем более что на него уже и не смотрели. Смотрели на каменное укрытие пулеметчика.
Славка сказал в треугольную амбразуру:
— Эй, ты чего? Вылазь, сдавайся.
В гнезде было тихо.
— Ну, хватит уж, — сказал Артур. Без победного хвастовства и даже чуть виновато. — Все равно ты один остался и без пулемета. Все равно наша победа.
Незнакомый Гаю пулеметчик вылез на свет.
Он появился не из амбразуры, а из щели у стены. И поднялся, расставив перемазанные сухой землей ноги.
Гай сразу подумал, что мальчишка похож на свой пулемет. Костлявый, ломкий в суставах, с пятнами ржавчины на порванных шортах и на серой от пыли майке. Он был весь припорошен этой пылью. А в растрепанных волосах застряли комки земли и раковина улитки.
Гай ощутил стыдливую хмурую враждебность к мальчишке — такую же, как к его пулемету.
Казалось бы, чего злиться? Пулеметчик был младше Гая года на два. Беззащитный, пленный… Но нет, он не казался беззащитным. Он глянул на всех из-под пыльных ресниц, и во взгляде его был чистый синевато-стальной блеск. Тонко и непримиримо пулеметчик сказал:
— А почему ваша победа?
Все молчали, смотрели на гранату.
Граната висела на груди у пулеметчика. Она была не старая, не ржавая — не то что пулемет. Лаково-черная «лимонка» с медной трубкой запала и блестящим проволочным кольцом. Она цеплялась рычажком за вырез ворота и сильно оттягивала майку.
— А почему ваша победа?! — Пулеметчик вскочил на верхушки двух камней над амбразурой. Секунды три он смотрел сверху — на одинаково удивленных противников и союзников. Потом втянул сквозь сжатые зубы воздух и рванул у лимонки кольцо. И взметнул гранату над головой. Упала тишина, и Гай услышал в этой тишине звонкое шипенье. А потом — чей-то неразборчивый тонкий вскрик. Не страх, а похожая на сильный холод тоска приморозила Гая к месту. И он смотрел на зажатое в грязных пальцах мальчишки овальное ядро лимонки неотрывно. И копошилась под тоской пустая, ненужная мысль, что квадратики, на которые разделен корпус гранаты, похожи на шоколадные дольки. На одном квадратике горела солнечная искра.
А шипенье стало тише, и пулеметчик опустил руку.
— Ну? — сказал он.
— Тьфу, дурак, — выдохнул Артур. — Я уж подумал: настоящая…
— Я тоже, — часто дыша, признался Игореша. — Как заору. А упасть не догадался.
«Я ведь тоже решил, что настоящая», — понял Гай. И разозлился на пулеметчика еще больше.
— Чего зря падать-то, — усмехнулся кудлатый Руслан. — У такой разлет осколков двести метров… Сержик, покажи.
Но пулеметчик Сержик, упрямо блестя взглядом, ответил:
— Вашей победы — нету! Теперь все убиты.
— И ты, — сказал воробышек Вовка.
— И я, и вы. Все равно вашей победы нет.
— Ну нет, нет, — нетерпеливо согласился Артур. — Ничья. Прыгай сюда. Покажи игрушку-то…
И мальчишка прыгнул с камней. Рукою с гранатой вытер под носом, размазав по щекам пыль, улыбнулся. И стал не пулеметчик, а просто поцарапанный и усталый Сержик.
— Ох и перемазался. Просто чучело, — сказала девочка.
Артур взял гранату:
— Как зашипит… Будто по правде запал горит… Где раздобыл такую? Или сам сделал?
— Не… — Сержик вытряхивал из волос землю. — Это Андрей, наш сосед. Он ее нашел, вычистил, а потом запал приладил… Там пружинка тонкая — как дернешь кольцо, она дребезжит, будто огонь шипит… Андрей, когда в армию пошел этой весной, мне на память оставил. А бабушка спрятала. Говорит: что за игрушка, страсть такая!
— Ну и правильно говорит, — негромко, но безбоязненно заметила девочка. — Все мальчишки безголовые…
— Андрей же пустую нашел, он понимает… А бабушка ее — за сундук. Я сегодня все равно отыскал…
Граната пошла по рукам. Каждый качал ее, тяжелую, рубчатую, в ладони, выдергивал кольцо, и жидкая пружинка в медной трубке запала отзывалась тревожным шелестом.
Гай тоже подержал и дернул (и это, надо сказать, было приятно: в руке ощутилась грозная сила). Но он без задержки передал гранату Руслану. А сам отошел.
Стыдливая досада на себя не оставляла Гая. И усиливала раздражение против пулеметчика. Конечно, Гай и виду не показывал. Не то что от ребят, он и от себя-то был бы рад спрятать все эти едкие перепутанные чувства. Но от себя ничего не спрячешь.
Гай делал вид, что озабочен полуоторванным карманом, и со скрытой ревностью поглядывал со стороны, как толкутся ребята вокруг Сержика. Видно, они считали бывшего пулеметчика героем.
А что он, в самом деле герой, что ли? Прыгнул, дернул кольцо… Попробовал бы так по правде…
Но почему-то пулеметчика никто не спросил, как Вовка спросил Гая: «А по правде пошел бы?» Видно, поверили, что Сержик и в самом деле смог бы.
«Просто дело в том, что граната как настоящая, — подумал Гай. — Увидели ее, вот и показалось, что он сам такой же… настоящий. А если бы бумажная, фиг бы кто поверил…» Но вспомнил Гай взгляд пулеметчика и понял, что все не так просто.
И все же он повторил про себя хмуро: «Потому что граната настоящая…»
Гранату все еще разглядывали. Потом Сержик засмеялся, что-то сказал и, будто объясняя, дернул опять кольцо и кинул гранату. Кинул не очень умело. Лимонка — тяжелая, а силенок-то у него… Граната упала недалеко, за кубическим пористым камнем на границе голой площадки. Пистолетно щелкнула по обломку ракушечника и тяжело покатилась сквозь стебли сурепки вниз по склону. Путь ее был заметен по быстрому шевелению мелких желтых цветов на верхушках травы. Потом шевеление затихло.
Все побежали вниз. И Гай пошел торопливо. Лишь у кубического камня (наверно, цоколя старинной колонны) чуть притормозил, толкнул ступней в сторону широкую черепичную плитку.
Искали гранату долго. Вырвали всю траву, осмотрели места широко вокруг. Она как сквозь землю провалилась. То есть могла, конечно, и провалиться, здесь хватало древних колодцев и подземелий. Но поблизости ни одной отдушины или щели не нашли. Просто фокус какой-то. Не превратилась же «лимонка» в один из камней-кругляков, что валялись в траве!
Пулеметчик сник, все его жалели. Даже виноватыми себя чувствовали. А кого винить-то? Сам кидал.
Нет, но куда она могла деваться?
Простодушный воробышек Вовка даже сказал:
— Может, кто прихватил, а? Лучше признавайтесь.
Все невесело рассмеялись: если бы кто-то и пошел на такое свинство, куда бы спрятал свою добычу? Любой карман оттопырится, любая майка отвиснет.
Ушастый Воробышек неосторожно посмотрел на сумку и брезентовую куртку девочки. Девочка легко уронила куртку, а сумкой деловито хлопнула Вовку по пыльной спине. И вздохнула:
— Дурак…
А Вадька — один из близнецов — ехидно спросил:
— Ну что, Вова? Есть там граната?
Все опять виновато посмеялись. Пулеметчик Сержик вдруг вскинул голову и решительно сказал:
— Ну ее, ребята. Пропала так пропала. Пошли купаться.
Все повеселели. Только Артур проговорил с недоумением:
— Но все-таки где она?..
— Что теперь, бригаду с раскопок звать? — недовольно бросил Славка.
Сержик махнул рукой:
— Может, потом еще поищем… А может, и не надо. Мне из-за нее от бабки два раза уже ой как влетало! — Он смешно дернул лопатками — показал, что влетало крепко и что сейчас он не так уж расстроен потерей. — Пошли на пляж под колокол!
Он первый запрыгал к обрыву, и все за ним.
Только девочка осталась на месте. И Гай.
Артур вернулся:
— А вы чего?
— Мне в ларек надо, — сказала девочка.
— А ты, Мишка? Не будешь купаться, что ли?
— Я думаю…
— А чего думать? Окунемся — и обедать!
— Я не об этом думаю…
Он думал: «Сказать или не сказать?»
— Да пошли! — дернул его за руку Артур.
Толик, зная, что Гай теперь не один, больше не требовал никаких обещаний. Гай каждый день купался, сколько хотел.
В жару даже самая теплая вода кажется прохладной. Гай с разбега бултыхнулся в глубину. Йодисто-соленая, щиплющая накаленную кожу свежесть смыла с Гая тревогу и сомнения. Гай открыл глаза. Увидел в просвеченной солнцем зелени стайку метнувшихся ставридок, бесцветное пятно медузы и коричнево-золотистые гибкие тела приятелей. Выгнулся и рванулся вверх…
И все же легкий осадок на душе остался. Когда ребята одевались, Гай сидел и молчал.
— Пойдем к нам, — предложили близнецы. — Бабушка блинчики с вареньем обещала сделать. Поедим — и в кино.
— Не, у меня дела…
Впервые за эти дни Гай хотел быть один.
Сомнения
Компания разбрелась — до завтра. Гай остался на берегу.
Он посидел минут десять, пересыпая камешки. В мокрой разноцветной гальке, в обкатанных осколках черепицы, сахарного мрамора и бутылочных стекол встречались белые кусочки костей. Чьих? Греческих, скифских, русских, немецких? Море все смешало в полосе прибоя… Гай уже не первый раз подумал, что, может быть, скользнул между пальцев гладкий осколочек дедушкиной кости. Но подумал без страха и грусти, а лишь с оттенком привычного уважения. И снова стал думать о другом.
Вернее, ни о чем он не думал. Сидел, слушая шорох воды, и машинально отрывал от своих облупленных ушей пластинки кожи. Уши от солнца шелушились все лето, ничего с этим нельзя было поделать…
Наконец он встряхнулся: надо одеваться. Правый карман сзади на шортах был оторван почти наполовину. Гай задумчиво оторвал его совсем. На выгоревшей материи остался ярко-синий квадрат. Гай усмехнулся и оторвал левый карман — для симметрии. Получилось ничего, даже красиво. А карманов хватит и боковых. Что в них, в карманах-то? Мятый забытый платок, ключ, несколько пятаков да бумажный рубль — Толик дал на обед.
По зигзагам бетонной лесенки Гай поднялся на обрыв недалеко от морского колокола, колокол был подвешен меж столбов, похожих на квадратные башни. Говорят, еще недавно в колоколе висел могучий чугунный «язык» и от него шел к недалекому белому домику трос. Во время штормов и туманов колокол тревожно гудел, предупреждал моряков о близких скалах. Но теперь другие сигналы, современные, а он так, пенсионер. Одна работа — побренчать для туристов, когда бросят камешком.
Гай миновал разрушенный желтый собор. Мальчишки рассказывали, что в первый час войны на купол собора упала немецкая парашютная мина — одна из тех, которыми фашисты пытались загородить выход из Северной бухты (фиг им, не вышло!).
Если бы не честное слово «не соваться», Гай давно бы побывал внутри, несмотря на грозные надписи «Опасно для жизни!». А сейчас приходится лишь разглядывать через проломы тускло-золотистую мозаику в полумраке таинственных развалин.
Гай прошел мимо переднего знака Лукулльского маячного створа. Знак был похож на вздыбившийся у обрыва рельсовый путь с черно-белыми шпалами. Гай привычно взбежал глазами по лесенке шпал. Красный фонарь створа светил, несмотря на яркое солнце.
Солнце все погружало в дрему. Сонным был храм, замерли острые кипарисы, заколдованными воинами казались пыльно-белые колонны на древней площади Херсонеса. Не шевелилась сероватая сладко-пахучая трава. Дремали даже сизые катера на гладкой воде Карантинной бухты. И старушка в дверях будки у главного входа в Херсонес дремала, не взглянула на мальчишку.
Гай дождался автобуса — «пятерки» — и доехал до проспекта Гагарина. Там пересел на троллейбус и скоро вышел у кинотеатра «Мир». Напротив стояло кафе-стекляшка с названием «Тюльпан».
Гай был голодный. Но в кафе солнце жарило даже сквозь зашторенные стекла, и от пластиковых столов пахло кислой капустой. При мысли о горячем супе замутило. Гай взял шницель с макаронами, но и его сжевал лишь наполовину. Запил теплым компотом. Столовской еды больше не хотелось, но в желудке все равно сосало от голода. И даже голова слегка кружилась.
Гай пошел к троллейбусной остановке. Троллейбус как раз подкатил и зашипел дверьми. Если побежать, можно успеть. Гай не побежал. Зато другие спешили. Его обогнала женщина с полными сумками. Из сумки выскочили на асфальт два алых мячика.
— Тетенька, помидоры потеряли! — лениво крикнул Гай.
Та, не оглянувшись, втиснулась в троллейбус, он уехал.
Гай подобрал помидоры. Если судьба что-то подбрасывает, зачем отказываться?
Гай ополоснул помидоры в мойке газировочного автомата, вернулся в «Тюльпан», обмакнул их в солонку и вышел опять.
Помидоры были спелые и прохладные. Откусывая от каждого по очереди, Гай перешел горячий от солнца проспект и нырнул в тень на улице Гавена. Он решил вернуться в Херсонес пешком.
Улица вывела его к школе, стоявшей на бугре. Школа была безлюдна. Но через две недели здесь все будет по-другому… А Гай будет дома, далеко-далеко отсюда. Это, конечно, хорошо, но ребятам, что учатся в этой вот школе, рядом с морем, рядом с древним таинственным городом, Гай от души позавидовал.
От школы тропинки вели через пологую ложбину: одни к плоскому берегу Песочной бухты, другие — снова вверх, к остаткам крепостной стены и на мыс, к развалинам сторожевой башни. Развалины торчали над обрывом, как двойной зуб исполинского чудища.
Гай оттер с ладоней о майку помидорный сок и вприпрыжку припустил через ложбину к башне. Напрямик, без тропинок. Через солнечное, полное тишины и кузнечиков безлюдье.
Плети ползучих трав хватали за щиколотки, но не сильно, шутя. Подсохшие листья и колючки царапались, но не больно, а так, для порядка. Солнце горячими ладонями весело подталкивало Гая в спину и затылок. Он без отдышки взбежал к башне. Вот что значит два случайных прохладных помидора!
У башни Гай остановился. Море под обрывом слегка опускалось и подымалось. Со звоном, но почти без пены вода накатывалась на камни. Потом она отступала, и тогда из маленьких гротов и расселин вырывались минутные водопады. Вдали море было ровно-синее, а под обрывом — разноцветное. Сквозь пологую, почти незаметную зыбь солнце высвечивало дно, как сквозь бутылочное стекло. Видны были зеленовато-желтые плиты песчаника со змеистыми проблесками от ряби и быстрыми тенями от рыбешек, красно-бурые мохнатые водоросли и черно-изумрудные провалы глубин. В глубинах качались размытые пятна медуз…
С моря тянул неторопливый ветерок. Из-под обрыва, как медленные вздохи, долетала прохлада. Кружили чайки.
Гай прислонился к неровным камням башни и глянул на горизонт. Синева моря отделялась от выцветшей безоблачной голубизны четкой, как фиолетовая струна, чертой. У этой черты маячили полупрозрачные силуэты сторожевиков. Их мог разглядеть каждый, у кого хорошее зрение.
Но Гай видел то, чего не увидят другие. Над струной горизонта вставал похожий на сизое плоское облако остров. Если приглядеться, можно было разглядеть сквозь дымку желтоватые обрывы и такие же, под цвет скал, башни и зубчатые стены. Кубики домов, пальмы, длинные лестницы на откосах. Шпили и флюгера. Синюю цепочку лесистых гор позади крепости и домов…
Остров приближался, наплывал. Послушная командам Гая шлюпка с дружными гребцами шла к острову под равномерный весельный скрип. И вот захрустел под тяжелым килем песок.
— Подождите меня здесь, — сказал Гай матросам.
— Да, капитан. Есть, капитан…
Капитаны бывают не только взрослые. Был, например, пятнадцатилетний капитан. Почему не быть такому, которому двенадцать? В своей сказке ты сам хозяин.
Гай придумал эту сказку-игру не здесь и не сейчас. Об острове, где всюду тайны, где в любом переулке можно наткнуться на приключение и где, если повезет, встретишь самых понимающих и надежных друзей, он мечтал лет с девяти. Иногда забывал, а иногда сказка захватывала все мысли. Даже снилась.
Гай стеснялся своей игры. Правда, однажды, этой весной, он рассказал об острове Юрке Веденееву. Тот слушал внимательно и без всякой насмешки. Но и без большого интереса. Видимо, считал, что от придуманных приключений жизнь интереснее не сделается. А друзей на острове искать ни к чему, если есть рядом Гай, а у Гая есть рядом он, Юрка. Плохо, что ли?
Это было совсем не плохо, Юрка — человек что надо. Он доказал это еще зимой, когда в Парке судостроителей им повстречался полузабытый Дуняев с дружками. Дуняев узнал Гая:
— Гайморит! Какая встреча! Старый друг!..
Гай себя трусом не считал, но сейчас сразу понял, на чьей стороне перевес, и, хотя было противно, слабо улыбнулся. Будто не обижается и все это так, шутка.
— Ты куда, Гайморит?! Давай поговорим! — За рукав схватил. — Ты чего такой невежливый?
— Ну чё… — сказал Гай, а Юрка повел себя как надо. И дружки даже не посмели вмешаться, когда, скуля и держась за глаз, Дуняев пошел прочь. Гай запоздало лягнул на прощанье одного из робких дуняевских спутников. А Юрке сказал:
— Знаешь, я как-то растерялся… — Иногда лучший способ избавиться от неловкости — это сразу признаться.
— Бывает, — рассеянно кивнул Веденеев. Будто ничего не случилось. Он был понимающий человек. Гай заметил это еще при первом знакомстве, в сентябре…
Но про остров Юрка не понял, и Гай об этом больше с ним не говорил. В конце концов, с Юркой и без всяких сказок было хорошо…
…Но порой сказка так тянет к себе, забирает в плен.
…Гребцы остаются в лодке, а Гай идет по тропинке к бугристой крепостной стене. Он ясно видит и камни, из которых сложена цитадель, и даже крапинки слюды в камнях — они поблескивают под вечерним солнцем, которое светит в спину. И неровную глинистую тропинку видит…
Стена как бы разрезана щелью. В щели — узкая лестница. Она стиснута высокими гранитными постройками без окон. Ступени — крутые и стертые, того и гляди ногу свихнешь. Когда Гай начинает уже уставать, слева он замечает в стене сводчатую нишу и дверь из тяжелых досок. Дверь приоткрыта.
Гай входит в извилистый прохладный коридор. Пусто. В полумраке горят над головой фонари — то ли со свечами, то ли с газом. Коридор тянется, тянется и приводит Гая в комнату с полукруглым окном. Солнце наклонными широкими лучами упирается в полки с кожаными старинными книгами. Блестит бронзовое кольцо на громадном глобусе. Рядом с глобусом, на низком дубовом столе, лежат свитки и желтые разлохмаченные листы.
Гай чувствует, что на много шагов вокруг нет сейчас ни одного человека — ни в комнатах, ни в коридорах. А еще он знает, что в каждой книге, в каждом свитке со старыми морскими картами — какая-то загадка. Выбирай, Гай. Любую…
Он тянет со стола свиток.
Свиток тяжелый! Почему?
Гай тянет сильнее. Бумажная труба раскручивается. К ногам Гая падает черная круглая граната.
Гай вздрогнул. Такого еще не было в сказке… Но и гранаты в его жизни до нынешнего дня не было! А сейчас она о себе напомнила. Гай повел плечами — стесненно, стыдливо и… нетерпеливо. Остров исчез. Быстро, уже без остановок, Гай добрался до бугра с пулеметным гнездом.
Похожий на дохлого кузнечика пулемет по-прежнему валялся среди камней. Гай глянул на него искоса. Прошел выше, к кубическому камню.
Оглянулся. Поодаль бродили одинокие туристы, но близко не было ни души.
Гай ощутил толчки сердца, сел на корточки, отодвинул от камня кусок черепицы. В открывшуюся щель упал прямой луч. Яма под камнем была неглубокая, с полметра. Луч загорелся колючим огоньком на черной грани гранаты.
Когда пулеметчик бросил гранату, Гай стоял в стороне. Он видел то, чего не заметили остальные. Граната, упав за камень, выбила из земли серый, похожий на черепашку голыш. Он и покатился сквозь траву, обманув мальчишек. А «лимонка» рикошетом ушла в норку под большим камнем — словно решила перехитрить хозяина.
«Стойте, она там!» — хотел крикнуть Гай, когда все бежали вниз. Но ребята промчались очень быстро. Ладно, пусть поищут, а он потом хитро посмеется и скажет. И Гай пошел следом. На пути попалась широкая черепичная плитка. Прямо под ногу. И Гай, еще не думая (или почти не думая), пяткой отшвырнул ее к камню. Он виноват разве, что плитка так ловко, будто нарочно, прикрыла узкую черную нору?
Сначала, когда искали, Гай все ждал момента, чтобы сказать: «Прошляпили гранату? Эх вы! Да она совсем в другом месте!» Ждал, ждал… Сказать лучше всего было, когда пулеметчик совсем сникнет и, может быть, даже пустит слезинку. Гай сразу пожалел бы его.
Но пулеметчик сперва запечалился, а после махнул рукой: «Ну ее, ребята. Пропала так пропала…»
Едкая досада снова укусила Гая.
«Ну ее? Тогда ищи сам, если захочешь…»
Он понимал, что искать гранату выше по склону никому не придет в голову. «Не будешь в другой раз хвастаться и строить из себя героя», — добавил он, старательно ожесточаясь в душе.
И если так получилось, пускай лежит граната в тайнике под камнем, никому не известная. И, значит… уже ничья.
А что, разве зря все так вышло? И камень-кругляш, и незаметная норка, и то, что Гай лишь один все это видел? И кусок черепицы под ногой… Будто сама судьба хотела…
По дороге в кафе Гай вдруг встревожился: а если под камнем глубокое подземелье? Но теперь оказалось — просто выемка. То ли какой-то зверек вырыл, то ли дождевая вода размыла рыхлую землю… Гай вынул гранату. Покачал ее в руках — увесистую, рубчатую. В ней, хотя и в пустой, чудилась боевая мощь. Как в тяжелом пистолете «макарове», который однажды показал ребятам отец Витьки Лаврентьева, офицер. Дал Гаю, Витьке и Юрке подержать и разрешил даже по разику щелкнуть курком…
«С такой-то можно себя хоть кем вообразить», — опять шевельнулась мысль. Но додумывать ее Гай не стал. Потому что пришлось бы представить и то, как среди врагов ты рвешь кольцо и… и тогда опять как перед пулеметом…
И все же Гай дернул кольцо. Но уже с другой мыслью — с той, что шевелилась позади обиды на пулеметчика. С мыслью, как здорово будет притащить эту штуку в класс. «Гай, ух ты! Гай, она раньше была настоящая? Дай подержать! Гай, где взял?» — «Нашел там, у моря. В тех краях этого добра хватает, война ведь была…» — «Гай, давай меняться!» — «Нет, я же ее не себе… Я Веденееву привез…» И, тáя от собственной щедрости, он скажет: «Юрка, держи, это тебе…»
Гай дослушал, как шипит в запальной трубке чуткая пружинка, и вставил на место чеку с кольцом… и услышал шаги! Дернулся, уронил гранату, обморочно съежился.
Шаги были легкие. Несомненно, кто-то из мальчишек вышел из-за каменной стенки.
Не сразу и через силу Гай повернул голову.
В траве шел серый тощий кот.
— У, бандюга… — чуть не со слезами сказал Гай. Кинул в кота улиточной ракушкой. Тот не ускорил шага, только презрительно дернул поцарапанным ухом. Это презренье Гай полностью отнес к себе. Облегченья он не чувствовал. Стыд, хлынувший на Гая, был тяжелым, вязким и липким, словно сверху опрокинули цистерну холодной смолы.
Такой стыд Гай до этого испытал, пожалуй, лишь однажды. Два года назад он пробрался в кабинет деда и в толстых медицинских книгах разглядывал картинки — те, что совершенно не для детского глаза. Гай понимал, что, скорее всего, помрет на месте, если его увидят за таким занятием. Но какое-то особое, «замирательное» любопытство было сильнее запрета и страха. К тому же Гай знал, что дома он один.
Он увлекся настолько, что не услышал, как вернулась бабушка. И обмер, когда она вошла в кабинет.
Бабушка не сказала ни слова. Взяла у Гая книгу и поставила на полку. Потом ухватила его за ухо и повела в другую комнату. Обмякший от позора и ужаса, Гай не пикнул и не оказал сопротивления. Он был готов к самой жуткой каре. Но бабушка оставила его одного и молча прикрыла дверь.
До вечера Гай тяжко томился в ожидании последствий. Но ничего не происходило. Только мама спросила, почему Гай такой присмиревший. Не заболел ли?
После ужина Гай носил на кухню чашки и не смотрел на бабушку, которая хлопотала у раковины. Бабушка вдруг сказала, будто продолжая разговор:
— Самое скверное даже не то, что ты совал нос, куда не следует. Любопытство можно, в конце концов, понять. Но ты обещал дедушке не трогать без спроса его книги. Значит, тебе нельзя верить?
Гай сопел, снова увязая в стыде, как в жидком студне.
— Иди сюда…
Он, волоча ноги, подошел (ох как было тошно). Бабушка вытерла белую, без цветочков и полосок, чашку — любимую пиалу деда.
— Смотри, — она поднесла чашку к виноватому носу Гая. — Совесть у человека должна быть такой же, без пятнышек. Иначе будешь всю жизнь маяться, как сегодня. Понял?
Гай, краснея, но с облегчением выдохнул, что понял. И с той поры обещаний старался не нарушать. А то себе дороже.
…Но сейчас-то он никакого обещания не давал! И никому ничего не врал! Если бы спросили: не знаешь, где граната? — сказал бы сразу. А так что? Обязан он, что ли, докладывать?
Драный серый кот опять прошел в пяти шагах и глянул ехидно: «А чего же ты так обмер?»
«Потому что ребята могли подумать, что я нарочно стащил», — сказал Гай. Себе, конечно, а не коту.
«А ты не стащил?»
«Я?! — старательно возмутился Гай. Он уложил гранату в нору. — Вот! Пусть ее ищет, кто хочет! Пожалуйста!.. Смотрите, я даже черепицу выкинул, пускай будет все как само собой случилось, я здесь вообще ни при чем… Пусть граната лежит хоть сколько… хоть целую неделю. А если не найдут и забудут, тогда… ну, тогда не все ли равно: здесь она останется, никому не нужная, или окажется… у того, кто про нее знает? Все будет законно…»
Гай выпрямился, шуганул кота и побежал к обрыву.
Каретта
Ему опять хотелось искупаться. Избавиться от жары, смыть усталость и… ну, и мысли всякие тоже пускай смоются.
Но когда Гай спустился с обрыва, сонливое утомление окутало его неодолимо. Гай только сбросил кеды и сел на ячеистый желтый камень. Небольшие волны перекатывали гальку, подбирались, заливали ступни. Гай привычно брал мокрые камешки, перебрасывал лениво, сыпал на колени… Потом глянул на горизонт и опять попытался представить остров.
Не получилось.
Остров появлялся лишь в такие минуты, когда не было на душе тревоги. А сейчас Гая все еще точило сомнение. Насчет гранаты. Уже не сильно точило, но полного покоя не было.
Опять закружилась голова. Наверно, от ровного набега воды… Гай встал, встряхнулся. Скользя по камням, вошел в воду по колено. Плеснул в лицо полную пригоршню, фыркнул, выпрямился и… Что случилось?!
Он никогда не испытывал такой боли!
Ядовитая игла вошла в середину ступни, прошила Гая до затылка! Боль скрутила Гая, швырнула на берег, скрючила на гальке. Все стало едко-желтым — небо, море, камни, мысли…
Хотя нет, мыслей не было. Только нестерпимая игла в ступне и ощущение яда в каждой клеточке тела! Гай заорал бы во всю силу, но горло перехватило, воздух стал твердым, Гай корчился и выгибался, не понимая, почему еще не умер.
И никого не было рядом. Лишь в полусотне метров бултыхались несколько ныряльщиков с масками. Никто, конечно, не смотрел на скрюченного, задыхающегося мальчишку…
…Потом в боли появились как бы окошечки. Короткие послабления. В один из таких моментов Гай сел. Вытаращив глаза, стиснув ступню, он дышал разинутым ртом и с ужасом ждал, что игла вгонит в него новую порцию яда…
— Ты что?
В размытом желтом пространстве (которое тоже было болью) возникла девочка. Кажется, та самая, что была с мальчишками на бугре. Не все ли равно? Ой!.. Ну когда кончится эта мука?!!
— Ну-ка, дай… — Она оторвала от ступни его руки. Взяла ее в свои ладони. Холодные. — Ну-ка, ляг…
Он откинулся на гальку.
Руки, маленькие, мягкие и решительные, сдавили ступню раз, другой. Сильнее. Словно выдавливали иглу. Прошлись быстрыми пальцами от щиколотки до колена. Опять сжали ступню упругим кольцом. Прохладные ладони будто втягивали боль в себя, яд нехотя уходил из Гая. К небу, к морю медленно возвращались голубые тона. Гай со стоном приподнялся на локте. Боль все еще была отчаянная, но уже из тех болей, которые можно кое-как терпеть. И к тому же она все смягчалась.
— Лежи, лежи, — сказала девочка. — Ты, наверно, на дракончика наступил.
— На кого? — спросил Гай со всхлипом.
— На рыбу такую, ядовитую. Не знаешь разве?
— Я не здешний…
— А… Ну, лежи. Ты не сильно наступил, это ничего.
Гай опять упал на спину. Ладони девочки снова прошлись по ноге, убирая еще один слой боли. И Гай, который всегда смертельно боялся щекотки, сейчас лишь благодарно улыбнулся.
Девочка опять сказала, глядя на свои руки:
— Ты не сильно наступил… У дракончика в плавнике такой шип ядовитый. Если глубоко воткнется, тогда всякое бывает. Даже больница… А у тебя поболит и пройдет…
Болело уже совсем обыкновенно. Гай сел. Девочка подняла лицо. Оно было загорелое. Нос вздернутый и веселый, глаза серые и серьезные. Она смотрела сквозь длинные пряди волос. Потом, кажется, смутилась. Опять взялась за его ногу. И маленькие решительные ладони приказали боли стать еще мягче и глуше.
Гай мигнул мокрыми ресницами и спросил вполне серьезно:
— Ты колдунья?
Она сказала без улыбки:
— Я внучка колдуна. Он вон там… — и кивнула на море.
Метрах в двухстах от берега стояли вехи рыбачьих сетей. Маячило несколько лодок. Стрекотал мотобот.
— Значит, твой дедушка — рыбак?
— Да, он в бригаде. Ставриду ловят… Был механик на траулере, а как на пенсии оказался, пошел в артель. Чего, говорит, дома сидеть. В море, говорит, и помру… — Девочка вздохнула и поправила волосы.
— Ты же сказала, что он колдун, — слабо улыбнулся Гай. — Колдуны не умирают.
— Так это он сам говорит… Но он еще крепкий.
— А почему колдун?
— Потому что все про море знает. Про ветры, про рыб… И меня маленько научил разбираться.
— Ничего себе «маленько», — опять улыбнулся Гай. — Нога уже почти не болит… То есть болит, но так… по-человечески.
— И еще поболит. Но не сильно. А завтра совсем пройдет… Если будет больно ходить, ты не бойся, все равно ступай. Дедушка говорит, это полезно… Ты далеко живешь?
— Ох, далеко, — огорчился Гай. — На ГРЭС.
— У-у…
— А ты здесь?
— Нет, я в городе… Я дедушке поесть приносила, а потом он попросил за папиросами сбегать.
— Разве колдуны курят? — опять улыбнулся Гай.
— Да. «Беломор»… А еще велел робу домой отнести, зашить. — Девочка шевельнула на песке брезентовую куртку.
— Тебе, наверно, домой надо, — виновато сказал Гай. — А ты со мной возишься…
— Я не тороплюсь. Когда сможешь, вместе пойдем. Я тебя до Графской пристани провожу.
— Да ну… — с неуверенной бодростью отозвался Гай. — Я сам дойду. — Он поднялся. — Вот, уже можно ступать. Ой…
— Нам все равно по пути до Графской, — сказала девочка.
— Тогда ладно.
Гай не ощущал скованности, какая бывала раньше при знакомстве с девчонками. С этой девочкой ему было хорошо и спокойно. Ну, почти как с Галкой. Только сестра старше Гая на шесть лет, а эта — ровесница. Одного с Гаем роста, тоненькая, в бело-синем выгоревшем платьице, с облупленными мальчишечьими коленками и в старых полукедах… Она заметила скользящий взгляд Гая, а Гай понял это и смутился. Но смущение было легкое, даже приятное.
И Гай опустил глаза, посопел и спросил:
— Тебя как зовут?
— Ася.
Гай вздохнул удивленно — так подходило ей имя. Почему-то представился тростник с белым волокном головок и спокойный посвист ветра в стеблях.
— А меня… Мишка… — Он поморщился от досады на себя и сказал решительно: — А чаще меня зовут Гай. Из-за фамилии.
Ася кивнула без улыбки:
— Гай — это хорошо. Похоже на Гайдара, да?
— Ну… не знаю… — Сравнивать себя с Гайдаром было бы большим нахальством. Но стало все-таки приятно.
— Тебе у Гайдара какая книжка больше нравится? — спросила Ася.
— Не знаю… — Гай никогда об этом не думал и теперь старался сообразить. — Может быть, «Школа»…
— А мне «Судьба барабанщика»… Книжка и кино. Ты смотрел этот фильм?
Гай кивнул. Ася наконец улыбнулась. Неожиданно.
— Я когда в первом классе была, думала, что байдарка называется «гайдарка». Лодка для пионерских походов. Пела: «На гайдарке, на гайдарке по реке наш путь далек…»
Гай обрадованно сказал:
— А я раньше думал, что «пирога» от слова «пирог». Потому что бабушка такие острые пирожки стряпает, как лодочки… Смотри, Ася, я уже ступаю.
Они ехали в город в полупустой «пятерке», что ходит от Херсонеса до площади Нахимова. Автобус неторопливо подвывал на подъемах. Гай держал на коленях твердую брезентовую куртку. От нее пахло рыбой и табаком.
— Ты откуда приехал? — спросила Ася.
— Из Среднекамска. Слышала?
— Конечно, слышала… Далеко-то как.
— Всего три часа на самолете.
— Я на самолете только в Москву летала. Один раз… У меня там тетя. А у тебя здесь кто?
— У меня?.. Мы так приехали, ни к кому. С Толиком…
— С братом?
— Ага… То есть это мой дядя, но он все равно что брат. Я его раньше «дядя Толя» звал, а потом он сказал: «Какой я тебе „дядя“! Не старь меня перед девушками».
— Значит, молодой еще…
— Он с виду будто студент. А вообще-то уже тридцать лет… Ты думаешь, он отдыхать сюда приехал? Он подводный аппарат испытывает. Такого робота-разведчика… Ася, этот аппарат может и рыбные косяки в море искать! Толик рассказывал…
— Рассказывал? — слегка удивилась Ася. — Значит, это не секретный аппарат?
— Ну… не знаю. По-моему, нет. С чего ты взяла?
— Я «Судьбу барабанщика» вспомнила. Там мальчик Славка отца-инженера спросил про новое изобретение. Отец стал объяснять, а Славка как закричит: «Ты же мне про сепаратор рассказываешь, который у бабки в деревне!» Помнишь?
— Ага… — соврал Гай. — Но Толик не про сепаратор… Он сперва сказал: «Представь, что океаны — это космос. Так вот, наша штука — это то же, что спутник в космосе».
Ася осторожно возразила:
— Спутники в космосе всего десять лет летают. А в морях подводные лодки уже давным-давно. И аппараты всякие…
— Я Толику так же сказал. А он говорит: «У нас совсем другое дело. Системы не те, и задачи другие». И объяснял про всякую автоматику. Я тогда вроде бы все понял, а сейчас в голове перепуталось… У них теперь в лаборатории последняя подготовка, Толик там с утра до вечера. А я, видишь, гуляю… — Гай виновато посопел: — На дракончиков наступаю… — Нога ныла ровной несильной болью.
Ася сказала с шутливой назидательностью:
— Маленьких мальчиков нельзя оставлять без присмотра.
— Ага, — подыграл ей Гай. — Но выхода не было. Отец с зимы в Алжире, там химический завод строят, он специалист. Маму к себе в отпуск вызвал, а про меня сказали, что нельзя. Галка, это сестра моя, в студенческом отряде, они Ташкент восстанавливают. А бабушке наконец-то путевку дали в Ессентуки… А с дедушкой ни мама, ни бабушка меня ни за что на свете оставить не решились бы. Говорят: все равно что двух младенцев со спичками дома запереть… А тут как раз Толик приехал. Он вообще-то в Москве живет…
— Повезло тебе, да?
— Ага… Мама говорит: «Толик, спаси, а?» Он спрашивает: «А ты не боишься этого пирата со мной отпускать?» Это меня то есть… А она: «Боюсь, конечно. Но все-таки ты серьезный человек, кандидат наук…» Ну вот, приехали, а здесь все не так, как думали: Толик по уши в работе, а я шастаю… Мне-то даже лучше, только он переживает…
— Тебе у нас нравится?
— Еще бы, — вздохнул Гай. — Первые дни я как-то ошалел. От моря, от всего… А сейчас будто давным-давно здесь живу… У меня дедушка почти севастополец.
Это вырвалось у Гая неожиданно, хвастаться дедом он не собирался, просто захотелось показать, что он, Гай, здесь не совсем чужой.
— Он что, раньше в этих местах жил? — спросила Ася.
— Он не жил… Он здесь воевал и погиб… Это не тот дед, который в Среднекамске, а мамин отец. И Толика…
Автобус потряхивало. Ася сбоку молча смотрела на Гая. Волосы ее качались над плечами. Гай сказал тихо:
— Он в этих местах погиб, у Херсонеса. От мины…
Дед — политрук Нечаев — всегда казался Гаю похожим на командира с известного фотоснимка «Комбат». Как он с пистолетом поднимается из окопа и зовет бойцов в атаку. Но сейчас дед представился другим. Лежащим в земле. Вроде каменного великана, вросшего в глубинные толщи херсонесских берегов, спаявшегося с глыбами древней разрушенной цитадели. И с бетонными блоками дотов и орудийных гнезд. Он — сама эта земля. Громадный, просто километровый, лежит он, сложив на груди каменные руки… И… сверху через черную нору скатывается ему на руку тяжелая «лимонка».
«Что это»? — спрашивает дед, не поднимая бетонных век.
«Это… так. Дедушка, это случайно. Я потом уберу…»
«Уберешь? Куда? И зачем?..»
«Ну… это вроде трофея…»
«А! Значит, ты добыл его в бою?..»
Что за подлая штука — непрошеные мысли! Гай с досадой трахнул пяткой о стойку сиденья. И выгнулся, охнул: ядовитая игла прошла от ступни до колена.
— Что? — испугалась Ася. — Опять?
— Да нет, я сам, нечаянно… — Боль милостиво отступила. Гай вытер лоб.
— Все-таки ты молодец, — сказала Ася. — Другие знаешь как орут от дракончика. А ты и не пикнул. Там, на берегу…
— Думаешь, почему не пикнул? — усмехнулся Гай. — Дух перехватило. А то знаешь как орал бы…
— Другие все равно орут, хоть и перехватывает…
Они сошли на площади Нахимова.
— Ну, как? Ступаешь?
— Нормально, — прихрамывая, сказал Гай. — Плохо только, что рано приехали. Мы с Толиком должны в полвосьмого на причале встретиться, а еще шесть.
— Ничего, подождем…
Не торопясь, дошагали они до пристани. Ниже колоннады и лестницы, на дощатом широком настиле, толпились экскурсанты, и морской патруль вежливо требовал у растерянного дядьки вынуть из аппарата пленку: незачем снимать на рейде то, что не положено, город военный. Синели в бухтах боевые корабли, сновали катера. От них разбегались волны и звонко хлюпали под досками.
Рядом с начищенными медными кнехтами сидели мальчишки-краболовы. Спускали на шнурах круглые сетки с наживкой и ждали, когда простодушные крабы сами заберутся в ловушку.
— Не люблю, когда крабов ловят, — сказала Ася. — Жалко их…
Гай кивнул:
— Если рыбу, это понятно. А их-то зачем?
— Их тоже едят… А еще чучела делают или сувениры — клешни на цепочке. Все равно жалко. Они пользу приносят, дно очищают… Гай, ты был в нашем аквариуме?
— Нет… В Панораме был, в Музее флота, на Малаховом кургане. А в аквариум пошли с Толиком, да там очередища…
— А хочешь?
— Сейчас? Билеты не купим.
— Если шагать можешь, пойдем…
Очередь была в самом деле большущая. И у кассы, и у входа. Но Ася решительно подвела Гая к дверям и что-то шепнула контролерше — дородной загорелой тете. Та заулыбалась и кивнула.
Внутри обняла Гая благостная прохлада с резкими морскими запахами. В застекленных шкафах он увидел чучела рыб, кораллы, раковины. Со стен скалились чучела акул. Гай вздохнул и стал оглядываться. Но Ася сказала:
— Да здесь все мертвое. Пойдем…
В следующем зале морской запах был еще сильнее. В круглом бассейне ходили осетры и похожие на куски черной клеенки морские коты. Из «клеенки» торчали острые, как шипы, хвосты, и у Гая опять сильно кольнуло ступню…
Стены состояли из громадных аквариумов, просвеченных солнцем. Ася и Гай медленно пошли вдоль стекол. За стеклами проплывали стаи серебряных и разноцветных рыб — узких и круглых, больших и мелких; юрких, как пацаны, и солидных, как пенсионеры. Пронеслись морские ласточки, важно глянул на Гая пестрый морской петух… Шелестели среди водорослей пузырчатые струйки воздуха, ходили по камням замшелые старые крабы.
— А вот дракончик, — сказала Ася.
Гай увидел невзрачную рыбку с коротким, словно подрубленным хвостом.
— Да ну его, — поморщился он.
— Все-таки запомни. Знать-то надо… Ой, Гай, иди сюда, смотри.
Сверху в пустой, без рыб, аквариум тихо вплыла исполинская ластоногая черепаха. Больше метра в поперечнике.
— Средиземноморская, — прошептала Ася.
Черепаха глянула на Гая печальными, совершенно человеческими глазами. Ему даже неловко сделалось: он на воле, а она здесь. Наверно, грустит по Средиземному морю.
— Я читал, что такие черепахи очень умные.
— Конечно, умные… Этой больше ста лет… Знаешь, как такую породу зовут? Каретта.
— Карета?
— Да, только с двумя «т»… На ней и правда можно кататься, как на карете, на облучке. Я видела в кино, как ребята катаются. Эти черепахи добрые, они даже моряков спасают, если корабль потонет…
Гай сказал со вздохом:
— Ты меня сегодня тоже спасла, как каретта…
Ася рассмеялась так звонко, что на нее оглянулись, а черепаха обиженно отвернулась.
— Каретта «Скорой помощи», — сказала Ася.
— Ага, — засмеялся и Гай.
В половине восьмого Толика на пристани не оказалось. Это не встревожило Гая. Утром Толик сказал: «Если меня не будет, значит, я уехал раньше. Добирайся один, а я за это время ужин приготовлю… В четверть девятого дома будь как штык».
Что же, Гай так и будет, успеет. Вот и катер подошел…
При прощании с Асей возникла грустная заминка.
— До свиданья, — сказала Ася.
— Пока… — вздохнул Гай. Что еще сказать? Он набрался смелости и спросил: — А завтра дедушке обед понесешь?
— Не знаю… Мне завтра с утра на рынок надо…
— Мы утром с Толиком тоже на рынок заходим иногда, — неловко сказал Гай.
— Вы каким катером приезжаете?
Гай повеселел:
— Обычно в восемь сорок пять.
Ася укладывала в сумку дедушкину куртку. Не разгибаясь, быстро глянула на Гая. Сказала серьезно:
— Я запомню.
Последний из «Летающих „П“»
Катера ходили на Инкерман по-разному. Одни резво бежали сразу до мыса Голландия, где стоит большущее здание морского училища. Другие не спеша чертили бухту зигзагами — на Северную сторону, потом на Аполлоновку, затем опять на Северную…
«Румб» оказался таким вот неторопливым. Гай сидел на корме, на стопке твердых спасательных нагрудников, и нетерпеливо поколачивал по ним ногой. Правой, конечно. Левая все еще ныла.
Солнце уже потускнело и сваливалось к горизонту. Загорались перистые облака. Небо стало желтовато-серым, вода — перламутровой, по ней бежали золотистые зигзаги. От этих зигзагов на черных корпусах и белых рубках теплоходов, что всюду стояли на якорях, змеились длинные отсветы. На палубе синего крейсера выстраивалась команда.
Все это было интересно и красиво, но Гая уже всерьез грызла тревога, что он опоздает. И тогда…
Хотя что будет тогда? Толик его сроду не ругал. Они оба уважали равноправие. Конечно, Толик мог что-нибудь не разрешить (например, лезть в старую минную галерею у Четвертого бастиона или нырять с камней в незнакомом месте за Хрустальным мысом), но это было не обидно. Толик всегда объяснял, почему нельзя. Слегка насмешливо, но терпеливо. Лишь один раз рассердился. Выдал Гаю напрямик:
— Ты говоришь «хочется». Мало ли кому что хочется! Мне сегодня, например, хотелось засесть с приятелями на весь вечер в «Волне». Там знаешь какие чебуреки! А я с вашим сиятельством гуляю, достопримечательности показываю.
Да, это было один раз, в самом начале. С той поры Гай вел себя умнее. Понял, какой груз взвалил на себя молодой дядюшка, согласившись взять с собой беспокойного племянника.
Было даже удивительно, что так легко согласился.
Конечно, они с Толиком и раньше неплохо знали друг друга. Толик приезжал в Среднекамск часто. А в прошлом году Гай с мамой жил у него целый месяц в Москве. Но именно поэтому Толик не мог не знать, что племянничек его (или брат, если хотите) не из породы тихих мальчиков.
Гай вспомнил разговор Толика и мамы незадолго до отъезда. Он слышал его сквозь приоткрытую дверь. Толик смеялся:
— Да ладно, Варь, управлюсь. Надо привыкать. Глядишь, когда-нибудь своих заведу.
Мама, кажется, сказала, что пора бы. А Толик вздохнул:
— Все на свете повторяется. Опять старшая сестра, которой некогда, опять мама, которой надо ехать, а мальчишку некуда девать… Помнишь, это было в сорок восьмом году, в Новотуринске? Меня тогда в лагерь сплавили…
— Сейчас путевку не достать, — сказала мама. — Да и попробуй уговорить этого паршивца поехать в лагерь. Для него режим и дисциплина страшней всех казней… Ты тоже был обормот, но как-то рассудительнее.
— Всякое бывало, — усмехнулся Толик. — А Мишка-то чем плох? Он же добрый, только поскакать любит… Знаешь, есть такое слово, не очень современное, но для Мишки подходящее: «постреленок».
Мама, помолчав, сказала:
— Вполне современное. И подходящее, конечно. Хотя, видишь ли, Толик, он постреленок, но… не так все это просто. Вот идем мы, например, по улице, он пустую консервную банку гонит по асфальту, гремит. «Перестань сейчас же», — говорю. «Ага, мама…» И еще пуще. И вдруг — тихо. Смотрю — стоит. «Что с тобой?» А он банку ногой чуть-чуть пошевеливает, и от нее — зайчик на заборе. От золотистого донышка. «Смотри, — говорит, — будто невидимка мне желтой ладошкой машет…» И потом целых полчаса ходил тихий…
Гай не помнил случая с банкой. Но, с другой стороны, что особенного? Сказки и в самом деле иногда придумываются на ходу. Так придумался однажды и остров.
…На острове, у самых стен старой крепости, — желтые широкие пляжи. На песке лениво и безбоязненно греются каретты. Смотрят карими понимающими глазами на загорелых пацанов, когда те прибегают на пляж из соседней школы. На острове круглый год — лето. Мальчишки не в серой суконной форме, а в разноцветных рубашках, сшитых из шелковых сигнальных флагов, которые подарили им отцы — капитаны и смотрители маяков.
Ребята бросают на песок сумки и прыгают на добрых послушных черепах. Те возят их по песку и мелководью. Брызги и смех…
Но бывает, что мальчишки не тревожат каретт. Это если у тех вылупляются из зарытых в песок яиц детеныши — юркие твердые черепашата. «Пострелята». Они роют в песке норы, забираются на камни, с веселым стуком падают друг на друга, а потом вереницей бегут к морю…
Веселая черепашья ребятня… Только… что-то немного не так. Словно тень пробежала по золотистым пескам. Может, оттого, что панцири черепашьих пацанят напомнили Гаю половинки гранат-лимонок? Но при чем здесь это?
Гай сердито встал. Игла опять ощутимо кольнула ступню, но он не сел, подошел к борту. Грудью лег на планшир…
Если сравнивать совесть с фаянсовой чашкой, то она никогда не была у Гая как после бабушкиного мытья. Случались на ней пятнышки и крошки, похожие на прилипшие чаинки. Были и трещинки — их не смоешь, сколько ни оттирай. Например, тот случай с Дуняевым или история с дедушкиными книгами. Или с сигаретами в четвертом классе… Ну да ладно. Трещинки эти иногда щипало, или почесывались они, как зарастающие царапины, вот и все. А теперь на дне белой чашки каталась черная дробина. И у дробины, если приглядеться, была форма рубчатой гранаты.
«Но я же не взял! Я ее до последнего дня, до самого отъезда трогать не буду, вот!.. Ну… может быть, я ее совсем не возьму! Пускай так и лежит, наплевать…»
Дробина перестала кататься. То ли исчезла совсем, то ли притаилась. Гай прислушался к себе, словно качнул чашку: не покатится ли железное зернышко снова?
Вроде бы не катается, но…
Но сразу забылось все. Гай поднял глаза и то, что он увидел, было чудесно и неправдоподобно. Почти как его остров.
Катер отошел от причала Голландии и развернулся левым бортом к Инкерману. И на фоне оранжевых, освещенных последними лучами обрывов перед Гаем возник парусник.
Парусов не было, но тем не менее любой мог понять, что это именно парусник. Корабль из книг о кругосветных путешествиях. Мачты его, пересеченные строгими горизонталями реев, и паутина тросов создавали волнующий рисунок, знакомый по картинкам из Станюковича и Жюля Верна. До сих пор Гай смутно чувствовал, что в здешней чудесной морской жизни чего-то все-таки не хватает, и теперь понял: не хватало вот такого корабля. И сейчас он возник — вздымал свои мачты над притихшими от зависти сухогрузами, танкерами и лесовозами.
Корабль стоял носом к морю. К плавучей бочке тянулись из клюзов провисшие швартовы. Белый корпус делался все ближе, Гай прочитал на борту черное название:
КРУЗЕНШТЕРН
Про такой парусник Гай и не слыхал. Знал, что есть «Седов», «Товарищ», немагнитная шхуна «Заря». Слышал, что в фильме «Алые паруса» недавно снималась трехмачтовая «Альфа». А оказывается, еще и вон какой есть на свете!
Гай ехидно сказал себе: «А воображал, будто в морских делах разбираешься…»
Катер шел недалеко от борта с крупным пунктиром иллюминаторов. Корпус «Крузенштерна» был громаден — не меньше, чем у лайнера «Россия», который Гай недавно видел у пассажирского причала рядом с Графской пристанью. А мачты вообще уходили в поднебесье.
Катер прошел. «Крузенштерн» стал удаляться, словно тихо скользил в сторону открытого моря. Теперь он четко чернел на красно-лимонном закате во всей красе своих мачт и снастей.
Гай вздохнул — со смесью радости, зависти и тоски.
— Что? Хорош? — услышал он мужской голос.
Рядом оказался пожилой моряк в мятой торгфлотовской фуражке и кофейной куртке с черными погончиками штурмана.
— Откуда такой? — выдохнул Гай.
— С Балтики. Рейс делает с курсантами.
— Счастливые, — сказал Гай.
— Это правильно, — согласился штурман. — Не каждому повезет, чтоб на паруснике. Да еще на четырехмачтовом барке… Знаешь, что такое барк?
— Ага. Я в судомодельном занимался…
Моряк искоса глянул на Гая:
— А сейчас? Значит, уже не занимаешься?
— Руководитель уволился.
— Бывает… — Штурман придвинулся к Гаю. — А я курсантом на «Товарище» ходил. Не на нынешнем, а на довоенном. Очень он похож был на «Крузенштерна»… Ну, правда, этот из другого семейства. Слыхал про «Летающих „П“»?
— Не…
— Были такие… В Германии, у судовладельца Фридриха Лаеша. Все они назывались на букву П. В начале века много их было. Возили через океаны шерсть, руду, уголь…
— А «летающие», потому что быстрые?
— Именно.
— Клиперы?
— Нет. Большинство их построили уже после клиперов. Это были последние океанские парусники, стальные винджаммеры — выжиматели ветра. Этот вот назывался «Падуя». Спустили его на воду сорок лет назад, даже раньше. В двадцать шестом, на верфи в Бремерхафене. А в сорок шестом году, когда мы с союзниками делили трофейный флот, «Падуя» перешла к нам. И стала «Крузенштерном»… Про такого капитана слышал?
Гай не то чтобы обиделся, но счел нужным сказать:
— Что я, совсем дремучий, что ли?
Моряк посмеялся. Гай объяснил:
— Я книжку «Водители фрегатов» читал. Там про Крузенштерна и Лисянского целая повесть… А этот «Крузенштерн» быстрее клиперов ходит?
— Рекорды клиперов никакие большие парусники перекрыть не могли. Но винджаммеры ходили почти так же, а груза брали гораздо больше. И обходили мыс Горн при любых ветрах. Их иногда так и звали — «капгорнеры».
«Летающие „П“», «винджаммеры», «капгорнеры» — это как из какой-то морской баллады. И рассказывает о них настоящий моряк, такой, что сам под парусами ходил! Это уже само по себе как приключение. Гай млел от ощущения небывалого подарка судьбы. Чтобы не угас разговор, он торопливо спросил:
— А много еще на свете «Летающих „П“»?
— Да нет, дружок. Это последний.
— Жалко…
— Да… Десять лет назад погиб его собрат «Памир», учебное судно Западной Германии. Опрокинулся во время урагана…
Гай вопросительно вскинул глаза.
— Говорят, капитан распорядился взять в трюмы сыпучий груз, — сказал моряк. — А переборки убрали, чтобы выгадать объем. Ну а при крене груз вроде бы сместился к борту… Но надо сказать, что в эту версию не все верят. Трудно представить, чтобы опытные моряки сделали такой просчет…
— А тогда… почему?
— Возможно, необычная, непредвиденно большая волна. Такие иногда возникают в океане, явление это еще не изучено…
— А люди спаслись?
— Всего семь человек.
Гай оглянулся на «Крузенштерн». Барк был уже далеко, но виделся четко. Стройный, гордый, он казался в то же время и печальным. Черный на закате… Может, в этот вечерний час он грустил о погибших братьях? Невесело быть последним…
Но вдруг на корме «Крузенштерна» белой звездочкой мигнул огонь. Яркий, неунывающий. Живем, мол…
«Месяц звонкий и рогатый…»
Все было не так просто, как думалось Гаю. Инженер-конструктор Анатолий Нечаев решился взять с собой племянника не сразу. Были всякие сомнения. Но понимал Толик, что сестре Варваре очень надо повидаться с мужем, который застрял на строительстве где-то в африканских песках. Бывает в жизни, когда человеку что-то очень надо. Иначе бы Варя и не решилась отпустить своего Мишку с братом за три тыщи верст от дома.
Позволить, чтобы Мишкина бабушка — и его, Толика, мама — отказалась от санатория, он тоже не мог. Мама много лет маялась с печенью, да и вообще здоровье было неважное. Возраст-то уже за шестьдесят…
«Вот видишь, никуда не денешься», — сказал себе Толик, чтобы убедить себя окончательно. Потому что с точки зрения здравомыслящего человека это была явная авантюра: тащить с собой непоседливого мальчишку, когда едешь работать.
Но помимо всяких объективных причин для этой «авантюры» была еще одна причина — лично его, Толика.
Как многие взрослые люди, запоздавшие с устройством семейной жизни, он с глубоко спрятанной завистливой ласковостью смотрел на чужих детей. Особенно на мальчишек. Потому что в каждом мужчине живет мечта: чтобы у него был сын. Может быть, мечта эта не всегда и осознанная, дремлющая под пластами повседневных забот и жизненных сложностей, но она есть, она теплится и порой обжигает душу вспыхнувшим ревнивым огоньком — при виде растрепанной голосистой вольницы, гоняющей мяч на пустыре, или отчаянных велосипедистов, обогнавших тебя по поребрику тротуара (один на седле, другой на багажнике — ноги вразлет, зацепил, обормот, пыльным кедом по брючине), или при встрече с деловитым семилетним музыкантом, который несет по улице большущий, с себя ростом, футляр…
Сыновья — надежда, радость и гордость мужчин. Мечта о сыне — голос природы. И пока нет своего, смотришь на чужих пацанов с тайным вздохом нерастраченного отцовского чувства.
А Мишка-то не был чужим. Сын любимой сестры. И мудрено ли, что привязанность Толика к «белобрысому черкесу» была хотя и сдержанной, но прочной. Гораздо прочнее, чем можно было заметить со стороны. Правда, самому ему эта привязанность казалась не отцовской, а скорее как к младшему братишке. Но это, наверно, потому, что и себя-то инженер Нечаев не всегда ощущал взрослым.
В прошлом году, когда Варя с сыном гостила у брата, Толик с удовольствием возил Мишку по Москве, лазил с ним по крутым склонам Ленинских гор, по заросшим оврагам в Коломенском и купался на пляже в Химках. Мишка был непоседлив, неутомим, изредка капризничал, но, в общем-то, они жили душа в душу. И, видимо, поэтому Варя сейчас решилась без особых страхов отправить Мишку с Толиком.
Конечно, не предполагалось, что Гай будет болтаться один, пока Толик занят в лаборатории. Зимой Толик познакомился с молодым штурманом Васей Калюжным. Вася в то время только что списался с гидрографического судна «Шокальский» и поступил преподавателем в детскую морскую флотилию. Такой невыгодный для зарплаты и биографии шаг он сделал ради того, чтобы каждый день быть вместе с молодой супругой, ибо праздновал медовый месяц. У молодых были две комнаты в трехкомнатной квартире плюс кладовка-боковушка. Толик созвонился с Васей, и счастливый штурман охотно согласился пустить на месяц в боковушку Толика и Гая. Мало того, они договорились, что, когда Толик будет занят, Гай сможет с пользой проводить время с ребятами во флотилии. А со стороны Васиной супруги ожидался кой-какой «женский присмотр» за Гаем.
Увы, все складывалось настолько удачно, что на самом деле и быть не могло. Пока Толик и Гай готовились к путешествию, пока добирались до Севастополя с трехдневной остановкой в Москве, у супругов Калюжных произошла стремительная, но не редкая в наши дни драма. Недовольная тем, что муж теперь не ходит в выгодные заграничные рейсы, Васина жена вывезла на грузовике вещи и уехала с ними к маме. Было неясно, куда она денет мебель и телевизор в тесном мамином домишке, но скоро выяснилось, что у «мамы» черные усы, погоны старшего лейтенанта и должность начальника вещевого склада.
Штурман Калюжный с горя тут же уволился из флотилии и ушел третьим помощником на траулере, промышлявшем у кавказских берегов. А Толику оставил ключ и записку:
«Анатоль!
Такова жизнь, счастье недолговечно. Комнаты в твоем распоряжении. С этой стервой, если придет выскребать последнее имущество, обходись в соответствии с обстановкой, но лучше всего гони в шею. Одеяла, подушки и простыни — внутри дивана. Соседка — Агния Леонтьевна — покажет, где посуда, и сообщит подробности. Она (соседка) мрачна снаружи, но добра душой.
Привет тебе и племяннику, будь здоров. Не женись.
Базиль».Толик беспомощно выругал несчастного Базиля и его супругу, выслушал о деталях супружеской драмы от Агнии Леонтьевны — высокой полной тетки с суровым лицом и печальным голосом — и задумался. Но думай не думай, а не отправлять же Мишку обратно. Так и стали жить. Самостоятельно.
Конечно, Толик за Гая тревожился. С неугомонным мальчишкой случиться может всякое: тут море, скалы, пещеры и все такое. Слышал Толик и рассказы, как ребята нет-нет, да и откопают что-нибудь взрывчатое… Но, с другой стороны, Гай поклялся в ненужные места не соваться и непонятные штуки в руки не брать. А Толик знал, что, если Гай обещает, верить можно… И в конце концов, живут же нормальной вольной жизнью здешние пацаны.
Кроме того, у Толика была в душе необъяснимая теплая уверенность, что этот город ни ему, ни Гаю никакой беды не принесет. С первого приезда сюда, еще в шестидесятом году, Толика не оставляло чувство, что здесь люди по-особому добрые, море — самое теплое, улицы — ласковее и красивее, чем в других городах. Может быть, потому, что за этот город дрался и погиб здесь отец? Погиб — и своей жизнью, своей кровью защитил от будущих бед сына и внука…
Севастополь был для Толика городом удач. Всякая работа шла здесь у него «со знаком плюс». И сейчас аппарат оказался готов к спуску раньше, чем можно было ожидать.
…Это, конечно, великая удача, что упрямый Тасманов согласился наконец на изменения в схеме. Толик мог бы, как руководитель проектной группы, настоять на этом и вопреки Тасманову, но тогда возникла бы в группе та напряженная разобщенность, которая вызывает суеверное предчувствие неудачи. А сейчас у всех на душе праздник и ощущение каникул. Праздник — потому что вся логика, все расчеты, вся интуиция говорят, что испытания пройдут удачно. А каникулы — потому что все готово и остается ждать, когда начальство даст капитану «Стрельца» добро на выход. Едва ли даст раньше десятого сентября — срока, назначенного в соответствии с графиком.
Теперь пара дней отладки, последнее «ныряние» в бассейне, и пойдут дни относительно свободные и беззаботные. Толик еще вчера пообещал Гаю, что теперь они чаще будут вдвоем.
— Потому что выкинули этот ваш блок ДЗД? — спросил Гай.
— Угу…
— А что это такое? Объяснил бы хоть…
— Дополнительная защита двигателя. Идея ненаглядного Гришеньки Тасманова. Нужна как рыбе зонтик… Нет, в самом деле! Это все равно что в подводной лодке укутывать моторы в полиэтилен, а экипаж одевать на всякий случай в водолазные скафандры…
Гай вспомнил этот разговор, когда от причала ГРЭС карабкался по тропинкам к верхним улицам поселка. Уже сгущались сумерки. Вода в бухте была еще светлая (и силуэт «Крузенштерна», видимый с высоты, четко рисовался на ней), но кусты, в которых петляли тропинки, окутались мохнатой темнотой. Гай продирался по ним наугад. Любая тропинка приведет к верхней улице. А там еще немного по лестнице, и дом — вот он.
Этот двухэтажный белый дом был уже привычный, почти свой. И одно было плохо: далеко от города. И высоко. Вечером приезжаешь с гудящими ногами, с пустым желудком, а тут еще восхождение…
Ну, ничего. Вот уже и улица, и двор в акациях… Почему-то света нет в окне на втором этаже. А! Толик, наверно, на кухне…
Гай поднялся по кряхтящим ступенькам и оказался в коридорчике, где пахло керосином и копченой рыбой. Дернул дверь своей комнаты. Заперта! Он сунулся на кухню:
— Агния Леонтьевна! А где Толик?
— Не приходил еще, Мишенька… Ты голодный небось? Хочешь, супчику налью?
— Не… спасибо…
С упавшим сердцем Гай шагнул назад. Постоял. Нашарил в кармане ключ, отпер дверь. Нащупал выключатель.
Голая лампочка загорелась ярко, но сиротливо. Почти пустая побеленная комната (диван, раскладушка, табурет вместо стола) впервые показалась Гаю неуютной.
Гай потерянно сел на застеленный одеялом диван. Потом лег — затылком на валик…
День побежал в памяти, как запущенная с конца в начало кинолента: тропинки, катер, «Крузенштерн», каретта, Ася, дракончик, нора под камнем, купанье, пулеметчик… А перед этим — утро на причале. Толик:
— Если меня не будет, добирайся один. Значит, я уже дома, ужин готовлю…
Раньше Толик никогда не опаздывал. От Гая требовал точности, но и сам — если скажет, можно не сомневаться. А сейчас что? Беда какая-то?
Гай сказал себе, что никакой беды, конечно, нет. Толик застрял в лаборатории, споря с Тасмановым. Или просто опоздал к катеру на несколько минут. Приедет на следующем. Но это Гай умом понимал. А беспокойство никуда не девалось. Такое, что даже тоска брала.
Гай лежал, слушая, не простучат ли на улице шаги по ракушечной плитке. Иногда стучали, но не его, не Толика. Да и бессмысленно было ждать сейчас. Катера ходят через сорок минут.
«А если и тогда его не будет?» — заранее ужаснулся Гай.
Так или иначе, эти тоскливые минуты надо было пережить. Гай велел себе не раскисать и потянулся рукой назад, за изголовье. Там лежала на полу стопа книжек и журналов.
Под руку попало несколько «Огоньков», прошлогодние, за разные месяцы. Гай полистал… Повесть о шпионах (без начала, без конца — неинтересно). Мягкая посадка автоматической станции на Луну. Встреча Л. И. Брежнева с Иосипом Броз Тито… Рассказ о ташкентском землетрясении…
Как там, в Ташкенте, Галка?
И как дела дома?
Мама должна в эти дни уже вернуться…
Гай зажмурился и представил свой дом на Старореченской улице. Родной, привычный, с запахом вымытых половиц, с поскрипыванием тяжелых дверей. Будто прошелся по всем комнатам, полным книг и позванивания старых, еще прабабушкиных люстр… Но легче от этого не стало. Наоборот, почувствовал Гай, как далеко он от дома и какой он одинокий. И какой усталый до чертиков и голодный. И нога, оказывается, все еще болит…
И за что на него все это свалилось?
А может, есть за что? Может, так ему и надо? Судьба?.. Однако Гай прогнал эту мысль. В конце концов, если он заслужил наказание, то мало, что ли, дракончика?.. И вообще это чушь. Никакой судьбы не бывает.
«А там, когда граната закатилась, говорил: судьба…»
«Ну, закатилась, и черт с ней. Я про нее уже и не думаю…»
Гай сбросил на пол журналы и снова пошарил за изголовьем. Под руку попалась толстая книга в мягкой обложке. Оказалось — «Морской астрономический ежегодник» на 1965 год. Гай обиженно вздохнул и все же открыл книгу. На середине.
Цифры, цифры. Скучнейшие столбики чисел. Из слов — только названия месяцев, дней недели и небесных тел. Да еще какая-то «точка Овна»… Рядом с именами планет — особые значки. Потому что для каждой планеты астрономы придумали эмблему. Но и эти эмблемы были сухими, как математические знаки.
Лишь один значок — у Луны — нарушал неумолимую строгость. В страну сплошных цифр забрела еле заметная сказка. Это был крошечный полумесяц с глазом, носом и улыбающимся ртом. Вроде тех картонажных серебряных месяцев, что вешают на елки.
Гай вспомнил запах елки, который смешивается с запахом печи, истопленной березовыми дровами, лиловый вечер за морозными стеклами, позванивание шариков, ощущение спокойного праздника и уюта в старом, но крепком доме, где ничего плохого не может случиться, потому что каждому здесь хорошо и вся семья вместе… И маленький месяц подмигнул Гаю. Дружески так подмигнул, как прибежавший с улицы Юрка…
Гаю стало капельку легче. Однако тревога не уходила, притаилась рядышком. Гай сквозь дремоту продолжал слушать шаги на улице… И вздрогнул, испуганно сел: за стенкой, у Агнии Леонтьевны, пискнуло радио — девять часов.
Да что же это такое? Куда Толик провалился?
Может, пойти на причал, подождать там? Все же не так одиноко… Но при мысли о крутых тропинках беспомощно заболело все тело… Или позвонить с ближнего автомата в лабораторию? Телефонистки на заводском коммутаторе не очень-то охотно соединяют, но можно попробовать… Двушку надо…
Гай привстал, шаря по карманам… и внизу хлопнула дверь.
И шаги на ступенях!
И веселый голос его:
— Добрый вечер, Агния Леонтьевна! А этот пират уже дома?
Гай бухнулся навзничь и сделал вид, что внимательно читает «Ежегодник».
— Привет, Майк!
Он никогда не называл его Гаем. Говорил «Мишка», просто «Миш», а чаще полушутливо: «Майкл», «Мишель», «Майк»…
— Привет, — гробовым голосом сказал Гай.
— А чего валяешься? Меланхолия?
Он еще спрашивает!
Гай перевернул страницу. Толик постоял посреди комнаты. Проворчал, явно пряча за недовольством виноватость:
— Не ужинал, конечно… Мог бы и сготовить что-нибудь. Яичницу соорудить — дело нехитрое. Не маленький…
Это было уже слишком.
— Я приготовил бы яичницу, — стеклянным голосом сказал Гай из-за книги. — Если бы ты не провалился куда-то!
— Ох ты, господи! — Толик сел на табурет. — Мишель! Ну что такого случилось?
— Сам обещал, а сам… Если обещал, надо по-честному, а не врать… — Гай поперхнулся. Во-первых, ему что-то шепнуло, что про честность сегодня особенно-то не надо. Во-вторых, он прилагал старания, чтобы не разреветься.
— Ну, опоздал на катер. Обстоятельства всякие… Бывает же! — сказал Толик.
Гай старательно перевернул лист.
— Миш…
— Сам только и знаешь: «Я за тебя беспокоюсь, я за тебя волнуюсь…» — выдохнул Гай. — Думаешь, ты один умеешь беспокоиться?
— Ну, всего-то несчастных сорок минут…
— Почти час! А если бы я на столько опоздал?
— Ладно, — вздохнул Толик. — Ты уж меня прости…
А он и так простил! Сразу же! Внутри у Гая булькало ликование, что все в порядке и вот он, Толик! Прямо хоть на шею ему кидайся! Но Гай не кидался и даже не смотрел. Словно рядом с ним уселся на диван другой мальчишка — с упрямой обидой и зажатыми слезами.
— Хлеба-то мы не купили, — деловито размышлял вслух Толик. — Ладно, займем у доброй тетушки Агаши. И что-нибудь наскребем в холодильнике…
Гай безмолвствовал. Толик шагнул к нему:
— Что читаешь? — Глянул на обложку. — Батюшки, да что ты здесь нашел?
Гай слегка потеснил с дивана своего насупленного двойника. Хотя и суховато, но ответил:
— Нашел…
— Что?
— Вот… — Он показал на месяц. — Кругом математика, а он как с елки…
— А ведь правда! — Толик нагнулся, разглядывая месяц-малютку. И вдруг сказал доверительно (видимо, подлизываясь): — А он для меня старый знакомый. Тоже с елкой это связано… Я про него стихи сочинил, когда был такой, как ты.
— Ну? — с хмурой требовательностью сказал Гай.
— Что?
— Какие стихи-то?
Толик смущенно покряхтел.
— Такие вот…
Месяц звонкий и рогатый С неба звезды сгреб лопатой. Новый год, Новый год, Нынче все наоборот…«Наоборот» — это потому, что перед Новым годом всякие чудеса случаются… Ну как?
— Ничего, — сказал Гай. — Только похоже на другое:
Рыжий, рыжий, конопатый, Убил дедушку лопатой…Толик захохотал, схватил Гая за плечи.
— Ну, критик!.. За такую непочтительность к талантливому дядюшке — наряд на кухню!.. Пошли готовить глазунью.
Но Гай выскользнул из его ладоней. Пальцами притянул к носу рукав Толика.
— Та-ак… «Красная Москва», да? У нашей Галки такие же духи.
— Ну… и что? Не выдумывай давай.
— У меня, между прочим, нос как у охотничьей собаки…
— А у нас в лаборатории, между прочим, такими духами старушка машинистка Наталья Петровна себя опрыскивает. А я рядом с ней сидел, письмо диктовал гидрографам…
— А помада на щеке у тебя тоже от нее?
Толик хлопнул себя рядом с ухом, словно убивал комара.
— Я пошутил, — деревянным голосом сообщил Гай. — Нету помады.
— Знаешь ли, дорогой… — Толик встал. — Я не думал, что ты такой провокатор.
— Еще и обзывается, — буркнул Гай, чувствуя, что перегнул.
Толик стал перебирать на подоконнике тарелки. Гай сказал ему в спину:
— А стихи сочинять — это хорошо. Вот когда если гуляешь с кем-нибудь по парку или вообще… Девушкам нравится, когда им стихи читают.
— Ты-то откуда это знаешь? — осведомился Толик.
— Из книжек.
— Я стихи не сочиняю… Я в жизни всего два стихотворения написал. Про месяц да еще про Крузенштерна…
— Про кого? — Гай спустил с дивана ноги.
— Про Крузенштерна. Тоже в давнем розовом детстве… Я бы и не вспомнил, если бы не ты…
— А я-то при чем? Ты про Крузенштерна вспомнил, потому что корабль увидал…
— Какой еще корабль?
— Ой, будто ты не видел! Четырехмачтовый барк «Крузенштерн» стоит на бочке у Голландии. Такая громадина!
— Честное слово, не видел! Я внутри, в салоне, ехал, задумался… Возьми в холодильнике помидоры, помой на кухне.
Гай взял и помыл. Вернулся и сообщил:
— Я сегодня, между прочим, тоже познакомился с девч… с девочкой одной. — Он хотел сказать «с девчонкой», потому что термин «девочка» среди среднекамских друзей-приятелей считался излишне благопристойным и сентиментальным. Но слово «девчонка» Асе совершенно не подходило.
— Вот видишь! — обрадовался Толик. — А я, по-твоему, не имею права на личную жизнь?
— Имеешь, имеешь, — хмыкнул Гай. — Только не надо опаздывать. И не надо голову терять. А то даже океанский парусник на рейде не заметил! Куда уж дальше…
Толик разрезал на сковороде помидоры, вытер полотенцем нож и миролюбиво попросил:
— Чадо мое, хватит меня пилить. Лучше расскажи, что делал днем.
— Я сегодня на дракончика наступил. Наверно, помер бы, если бы не та… девочка. Она меня спасла.
Толик со звяканьем бросил нож:
— На кого наступил? Где?.. Какой ногой?
Гай дурашливо дрыгнул незашнурованным кедом, сбросил его. Качнул ступней (уже не болела). Толик стремительно присел, взял его за щиколотку.
— А-а-а! — Гай отлетел, спиной шмякнулся на диван.
— Что?! Так болит?!
— Да не болит! Я же щекотки боюсь!
— Дубина! — в сердцах сказал Толик.
— Тебя бы так за ногу…
— Когда девочка бралась, ты так же орал?
— Она лечила, а ты хватаешь.
— Сам хуже девочки. Цаца капризная, — буркнул Толик.
Рядом с Гаем опять уселся упрямый и обиженный мальчишка. Даже не рядом, а внутри Гая. Гай взял «Ежегодник».
Толик один поджарил яичницу и сказал из кухни:
— Иди лопать.
Гай лежал.
Толик подошел:
— Мишка, ты чего?
А чего он? Гай и сам не знал. В глазах и в горле словно жгучая соль. Он быстро лег на бок — лицом к диванной спинке.
— Ну, Майк, — осторожно сказал Толик. — Миш…
Гай подтянул к животу колени и прерывисто сопел. Толик сел рядом. Спутанные волосы Гая пахли водорослями. А сам он был пыльный, исцарапанный и несчастный.
Коротко вздохнув от виноватости и жалости, от резкого толчка нежности, Толик сказал:
— Гай…
Тот полежал тихо секунды три, рывком обернулся, метнулся к Толику. Облапил его, прижался лицом к рубашке.
Толик молча гладил его вихры…
Через полминуты Гай прошептал:
— А стихи прочитаешь?
— Какие?
— Про Крузенштерна.
— Может, сперва поедим все-таки?
— Ага…
— Иди умойся. Дитя портовых улиц…
Пропавшая рукопись
Они молча поужинали. Толик отскреб сковородку, а Гай вымыл тарелки. Из кухни в комнату Гай вернулся первым. Прилег на диван. Пришел и Толик, стал возиться в углу над чемоданом: выбирал себе чистую рубашку.
Гай смотрел на Толика и думал, что он совсем не похож на ученого. Похож на Галкиных однокурсников: по-мальчишечьи курносый, с короткой ершистой прической. Щуплый такой…
Щуплый-то щуплый, а дубовый стул крутит за переднюю ножку одной рукой. А если они с Гаем борются — кто чью ладонь прижмет к столу, — Гай давит на левую руку Толика двумя да еще пузом помогает, и никакого проку: Толик шевельнет рукой — и Гай весь припечатан к столешнице. А поглядишь — у Толика и мускулов-то вроде бы нет…
Мама сказала перед отъездом: «Толька, от тебя одни глаза остались. Вы там постарайтесь отдохнуть, ешьте как следует, фрукты покупайте…» — «Обязательно», — сказал Толик.
Первые вечера он приходил из лаборатории просто черный. Что-то не ладилось с этим ДЗД, какие-то неясности возникали в плане испытаний.
— Ты же говорил, что все отлажено, все в порядке, — сказал однажды Гай.
— Это у нас отлажено. А там… — Толик возвел глаза к потолку.
— В Москве? — понял Гай.
— Не все зависит от Москвы…
— А от кого?
Толик посмотрел на него без улыбки.
— От Байконура.
Гай вытаращил глаза.
— Да? Ай, да ты смеешься…
— Отнюдь… — вздохнул Толик.
— А… при чем тут ваши аппараты?
— Все связано. Это раньше мы были сами по себе, а теперь комплексная программа исследований.
— Секретная? — прошептал Гай.
— Не секретная… Но и не такая, чтобы идти на площадь, вставать у памятника Нахимову и громко вещать всем туристам…
— Я и не собираюсь, — обиделся Гай.
— Вот и молодец, — серьезно сказал Толик.
…В последние три дня он повеселел: дела наладились. Но все равно забот полно — руководитель конструкторско-исследовательской группы, или как там еще… В общем, командир, хотя и моложе всех. «Ох, несладко ему приходится. А тут еще я…» — не первый уже раз подумал Гай. И вздохнул:
— Ладно уж, не читай.
— Что «не читай»?
— Стихи. Которые обещал…
Толик отложил рубаху, сел рядом с Гаем.
— Я ведь понимаю, — сказал Гай. — Ты со мной и так замучился.
Толик притянул его к себе. Гай потерся облупленным ухом о майку Толика.
— Ладно уж, слушай, — сказал Толик. — Это было, когда мы с мамой жили в Новотуринске. Я тогда такой, как ты, был… Нет, поменьше, в четвертом классе… Под Новый год мама подарила мне книжку «Русские кругосветные мореплаватели». Там как раз все с Крузенштерна начинается. Я, конечно, зачитался… И вот в те же дни познакомился я с одним человеком. По фамилии Курганов… Пожилой он был, одинокий и, видимо, неудачливый в жизни. Но было у него дело, которое помогало ему жить: он писал повесть про Крузенштерна… Помню, он в новогоднюю ночь мне отрывки из этой повести читал; так получилось, что мы вместе сорок восьмой год встречали… Мы с ним, с Арсением Викторовичем, даже подружились, хотя я мальчишка был, а ему пятьдесят стукнуло… Вот как раз к его дню рождения я стихи и написал. В подарок. Неумелые стихи, конечно…
Толик повозился, покашлял и с таким выражением, что, мол, куда деваться-то, начал:
Когда Земля еще вся тайнами дышала И было много неизведанной земли, Два русских корабля вокруг земного шара Сквозь бури и шторма на поиски пошли. Далеких островов вдали вздымались скалы, И тайною была морская глубина, И Крузенштерн стоял отважно у штурвала, И билась о корабль могучая волна… И буду я всегда завидовать, наверно, Тем морякам, которые ушли в далекий путь. На карте начерчу дорогу Крузенштерна И, может, поплыву по ней когда-нибудь…— А говорил «неумелые», — сказал Гай. — Нормальные стихи, как у поэта. Хорошие… А говорил «не помню»…
— Начал читать и вспомнил… А вот еще:
Теперь Земля уже почти что вся открыта, Остались тайны только в синей глубине. Они — как старый клад, на острове зарытый, Но, может быть, одна откроется и мне.Но это я уже потом сочинил, эти строчки в эпиграф не вошли.
— Куда не вошли?
— В эпиграф… Ну, это такое как бы вступление маленькое к книге или рассказу…
— Да знаю я, что такое эпиграф! А к какой книге-то?!
— Я разве не сказал? Курганов стихи эти взял для своей повести «Острова в океане».
— И, значит, их в ней напечатали?!
— Да нет, ничего не напечатали… Курганов неожиданно умер, а рукопись пропала. У него был всего один экземпляр, после смерти его не нашли… У меня только эпилог остался. Тут так получилось: мама перепечатывала Курганову рукопись, а я копирку раскладывал и на последних страницах перепутал, не той стороной положил. Мама этого не заметила, а я начал потом разбирать готовые экземпляры и ахнул: первый-то отпечатан, и не только с лицевой стороны, но и сзади, по-зеркальному, второй — одна «зеркалка», а третий лист вовсе пустой… Ну и с перепугу сел перепечатывать сам. Умел немного… Напечатал заново, а те листы, с первой отпечаткой, сунул в подставку машинки, там вроде тайника было… А потом и эти страницы пропали вместе с машинкой.
— Почему?
— Мама ничего про тайник не знала, это мой секрет был… Когда приехали в Среднекамск, маме купили новую машинку, а эту она отдала ребятам в школьный музей. Мальчишки ходили по домам, выпрашивали разные предметы старого быта, а машинка-то была просто древняя, «Ундервуд». Мама и пожертвовала… Я понять не мог, как она решилась на такое. «Ундервуд» этот у нас был с довоенных времен, мама его так любила…
— И все-таки отдала!
— Я уж после догадался: потому и отдала, что любила. Машинка-то сломанная была, рассыпáлась. Вроде бы бесполезная вещь, место занимает, а выбросить жалко… И, видно, стеснялась мама этой привязанности. И подумала: в музее машинку сберегут, там она даже в почете будет… В общем, пришел я с уроков и вижу — машинки нет. Я в крик: что ты наделала!
— А вернуть нельзя было?
— Я ходил по школам, спрашивал, да не очень-то с мальчишкой разговаривали… К тому же, я думаю, те пацаны могли машинку в музей и не отдать. Может, она им так понравилась, что решили оставить себе. Там кое-какие клавиши еще работали, для игры годилась…
«Вот уж свинство-то!» — едва не сказал Гай, но вспомнил нору под камнем в Херсонесе и сердито засопел. И спросил:
— Если повесть с копиркой перепечатывали, почему у Курганова один экземпляр оказался? Остальные-то где?
— Это особая история… Курганов сжег два экземпляра. Прочитал после перепечатки, расстроился: показалось, что повесть никуда не годится. А нервы у него были, видимо, так себе. Вот и бросил в камин все: черновики и два отпечатанных экземпляра… А третий был у меня. Я, по правде говоря, хотел его замылить, Курганов о нем не знал…
От того, что и Толик в детстве мог что-нибудь «замылить», Гай почувствовал облегчение. Толик сказал:
— Мама про это узнала, мне, естественно, влетело… Но потом оказалось, что все к лучшему. Отдал я третий экземпляр, Курганов ожил…
— Но все равно потом и третий пропал, — вздохнул Гай.
— Да, но все-таки с Кургановым повесть была до конца. Ему было легче… Хотя в одном издательстве рукопись уже тогда раскритиковали и отказались печатать.
— Почему? Разве она плохая была?
— Да нет… Скорее непривычная. Не столько описание подвигов и открытий, сколько разбор всякого… ну, характеров, отношений. С Крузенштерном плыл посланником в Японию Николай Петрович Резанов, человек с капризным характером, вельможа. Они часто ссорились. Резанов даже обвинил Крузенштерна в бунте. Почти все офицеры поддерживали своего капитана, а молодой лейтенант Головачев встал на сторону Резанова…
— Почему?
— Ну, это надо всю повесть пересказывать.
— Толик… еще ведь и одиннадцати нет.
— Да я и до утра не кончу, если про все…
— Ну, ты хотя бы коротко… Толик, ведь человек-то писал, старался, а книга пропала. Пускай хоть кто-то про нее будет знать! Пока только вы с бабой Людой эту повесть знаете, а теперь и я буду. Получится, будто еще читатель прибавился.
— Уговаривать ты умеешь… — Толик опять притянул Гая к себе. — Ну, слушай…
Гаю было ясно, что рассказал Толик не все. Только основные эпизоды. Но и этого хватило, чтобы задуматься. Особенно о горькой судьбе Головачева, которого бросил и забыл Резанов.
— Зря он застрелился…
— Это мы понимаем. А он не понимал. Думал, что единственный выход, — сказал Толик.
— И никто не остановил…
— Не успели… Об этом и речь… Конечно, в повести хватало и приключений, и бурь, но главная мысль, по-моему, о человеческой вине.
— Как это?
— Вот так… Часто люди виноваты в несчастьях других людей. Не по закону виноваты, а перед своей совестью. И никуда от этого не денешься. И рад бы исправить вину, да поздно.
— И что тогда делать? — испуганно спросил Гай.
— Жить… Это, собственно, и была повесть о жизни и смерти. О том, что жить надо по-человечески, если даже тяжело. А если умирать, то и тогда думать о других… Мне кажется, Курганов хотел сказать, что Головачев умер просто ради смерти, а капитан Алабышев — ради жизни.
— Алабышев?
— Ох, я же эпилог-то еще не рассказал!.. Помнишь, в самом начале я говорил о кадетике Егоре Алабышеве? В эпилоге он — капитан-лейтенант. Крымская война, он приехал в Севастополь…
«Совпадения какие, — подумал Гай. — Алабышев был здесь, „Крузенштерн“ здесь, мы здесь…» И Толик понял его:
— Все в жизни переплетается… Я, когда читал про Алабышева, думал, что он похож на отца. То есть отец на него. Так казалось. Я ведь отца почти не помнил…
Гай виновато подумал, что, размышляя о совпадениях, забыл о дедушке.
— А разве Алабышев тоже погиб?.. Ах да, ты же сказал…
— Он погиб не на бастионе, а на улице, спасал ребятишек. Они играли в снежной крепости, Алабышев случайно там оказался, а в крепость влетела английская бомба. Точнее, артиллерийская граната, деваться некуда. Алабышев на гранату — грудью…
«Да что же это такое, — подумал Гай, — целый день про одно и то же, как нарочно!»
— А почему — граната? — сумрачно спросил он.
— Так небольшие круглые снаряды назывались. С запальными трубками…
Продолговато-круглый рубчатый снаряд с медной трубкой запала Гай словно ощутил в своей ладони. И сказал ему мысленно: «Чтоб ты провалился к чертовой бабушке! Знал бы, дак не связывался…» Но вспомнилась не только граната. Еще и ее хозяин — пулеметчик. Он — упрямый и жестко-неустрашимый — соединился в мыслях Гая с капитан-лейтенантом Алабышевым, хотя, казалось бы, ничего похожего не было. Нет, было… Бесстрашие.
И с горьким откровением, со злостью на себя Гай сказал:
— А я сегодня струсил. Вот.
— Да ну… — осторожно проговорил Толик. Видно, почувствовал, как задеревенело плечо Гая.
— Да! Вот так, — выговорил Гай. Хотелось очистить душу. — Мы играли в войну, а там, в камнях, залег пулеметчик. Я гранатами промазал. Все думали, что я сам кинусь на пулемет… а я не пошел. Надо бросаться вперед, а я лежу…
Толик помолчал. И медленно произнес:
— Наверно, ты не струсил, Гай. Ты задумался. Для всех была игра, а ты стал думать: а что, если бы это всерьез? Так?
— Ты откуда знаешь?!
— Знаю. Не с тобой одним это бывало.
— Нет, я не думал, что это всерьез, — вздохнул Гай. Но теперь он, кажется, понимал, что его остановило перед пулеметным гнездом. «Если бы кинулся — значит, будто обещание дал: когда по правде такое случится, сделаю так же», — подумал Гай. И вспомнил — но ведь сколько раз в войну играли: «Тах-тах, ты убит! Ура, в атаку!.. Ты убит, я убит, все убиты!»
«Тогда просто не думал про такое, — сказал он себе. — А в этот раз пришло в голову…»
Почему пришло? Может, потому, что видел обкатанные морем осколки костей? Может, потому, что в глубине души все время он помнил о дедушке — даже тогда, когда казалось, что забыл?
— Я не знаю, смог бы на самом деле или нет, — хмуро сказал Гай. — Наверно, ни за что на свете не смог бы…
Толик негромко и словно нехотя проговорил:
— Этого никто не знает до решительного момента.
Решительные моменты в жизни будут, Гай это понимал.
Он еще не знал, кем станет. Может, вовсе и не моряком, хотя при виде кораблей и флотской формы сердце стукало от волнения. Думая о своем острове, Гай представлял себя капитаном. Но можно быть и просто путешественником. Можно археологом: раскапывать города вроде Херсонеса. Можно пограничником…
Осенью учительница литературы задала пятиклассникам сочинение: «Почему я хочу быть космонавтом?» Гай написал, что не хочет. Во-первых, берут в космонавты очень немногих; во-вторых, на Земле куча интересных дел (и под водой тоже, как у Толика); в-третьих, все пишут, что хотят быть космонавтами, потому что так полагается писать, а на самом деле еще и не думали, кем станут. Это «в-третьих» особенно раздосадовало Аллу Григорьевну. Была вызвана мама. Вместо мамы пришел папа. Спокойный тихий папа, глядя сквозь толстенные очки, вежливо спросил Аллу Григорьевну, действительно ли она уверена, что каждый мальчик должен идти в космонавты? Алла Григорьевна сказала, что пойдет не каждый, но мечтать об этом обязан всякий советский школьник. Папа поинтересовался, сильно ли наступил на горло своей мечте сын Аллы Григорьевны, когда пошел в медицинский институт — приобретать профессию зубного врача. Алла Григорьевна спросила, на что папа намекает. Папа ответил, что намекает на следующее обстоятельство: нельзя ставить человеку двойку за то, что он честно излагает свои мысли.
Алла Григорьевна сказала, что пусть папа тогда сам учит своего сына. Но она не уверена, что при таких взглядах папы из пятиклассника Гаймуратова выйдет толк. Неизвестно, кем он станет.
Тут Гая дернуло за язык:
— Да уж не зубным врачом.
За это ему попало от Аллы Григорьевны и от папы, который велел перед Аллой Григорьевной извиниться. Потом ему (и папе заодно) попало дома от мамы, от бабушки и даже от деда.
— Я хотя и не зубной, но тоже врач, — сказал дед. — Неужели медики — столь презренная профессия?
Гай так совсем не считал. Он высказался в учительской просто назло Аллушке… Но, с другой стороны, он и в самом деле не мог представить себя зубным врачом. Так же, как, скажем, бухгалтером или директором магазина. Он твердо знал, что его жизнь будет связана с путешествиями, открытиями, испытаниями и приключениями. Для этого совсем не обязательно быть мореплавателем или космонавтом. Вон Толик инженер, а разве жизнь его не приключения? Все время изобретает, ищет, в моря ходит… Или папа. Уж вроде бы совсем «кабинетный» человек (подойдешь к нему, а он, сидя за столом, обнимет тебя одной рукой, а другой все пишет, пишет свои формулы и конспекты), а ухитрился в Африке оказаться. Или дед. Таким врачом и Гай не отказался бы стать! В тридцатых годах хирург Гаймуратов прыгал с парашютом на зимовки к заболевшим полярникам. А в сорок первом, когда немцы пытались ворваться в село, где был полевой госпиталь, дед прямо из окна операционной палил из пистолета (хотя и говорит, что ни в одного немца не попал и вообще стрелял по-боевому единственный раз за всю войну)…
Да, Гай не знал еще, кем станет, но то, что в жизни будут решительные моменты, он чувствовал.
А если и такой — самый решительный, — как сегодня? Только уже не в игре? Тогда что? Опять Гай прижмется к земле?
Гай сердито вздохнул, потому что ответа на вопрос не было. Вместо ответа лезли в голову всякие хмурые мысли. О том, что много в жизни у людей суровости и опасностей. Да к тому же и несправедливости! Как с Кургановым!
— Все-таки обидно…
— Что? — отозвался Толик.
— Курганов… Жил, книгу писал, а потом — ничего…
— Я об этом тоже думал… Я даже хотел назвать его именем свой первый аппарат, чтобы память о нем сохранилась. Об Арсении Викторовиче…
— Назвал?
— Не все так просто, как в детстве кажется…
— Не разрешили? — понял Гай.
— Но все-таки ту малютку группа и все испытатели называли «Толиком». Неофициально…
— А при чем Курганов?! — Гай даже возмутился.
— «Тайный Океанский Лазутчик Имени Курганова». Это я, еще когда маленький был, придумал…
— Все равно это не то, — непримиримо сказал Гай. — Все равно обидно.
— Что поделаешь…
— Толик, а Курганов моряк был?
— Вовсе нет. Типографский техник и немного журналист. Потом в конторе работал… Но, знаешь, Гай, он был моряк в душе. Когда я к нему приходил, казалось, будто в каюту к старому капитану попадаю… Я его комнату хорошо помню. Дома, когда хронометр стучит, закрою глаза и будто опять у Арсения Викторовича…
— А что за хронометр?
— Курганова. Он у меня остался, вроде как наследство.
— А почему я не видел?
— Когда вы с мамой приезжали, я его как раз отдавал в институт, для ремонта и проверки. Старенький уже… Но сейчас ничего, тикает исправно.
— Это морской хронометр?
— Да, корабельный. Его Курганову один капитан подарил. Старый морской волк, он в юности даже на клиперах ходил… Знаешь, что такое клипера?
— Здрасте, я ваша тетя, — обиделся Гай. — Я и про винджаммеры знаю. «Крузенштерн» был винджаммером. Он из серии «Летающие „П“». Был такой судовладелец, у него все названия…
— Да известно мне про «Летающие „П“», — сказал Толик. — Тоже не лыком шит. Про все рекорды «Падуи» слышал: от Гамбурга до Талькауно в Чили, вокруг мыса Горн за восемьдесят дней. От Гамбурга же до Австралии, до Порт-Линкольна, — шестьдесят семь суток. Похлеще некоторых клиперов…
— А ты откуда это знаешь? — ревниво спросил Гай.
— Читал… Я вообще старался про все читать, что с именем Крузенштерна связано. Этим меня Курганов на всю жизнь заразил… А кроме того, мне штурман Морозов про «Летающие „П“» рассказывал. Мы с ним в шестьдесят первом году познакомились. Он одно время на «Крузенштерне» служил…
— А сейчас он тоже там?
— Сейчас нет.
— А другие знакомые у тебя там есть?
— Н-нет… А что?
Гай посмотрел на Толика: «Ты еще спрашиваешь!»
— А вдруг все-таки есть, а? Мы бы подъехали к борту, ты бы спросил…
Желание оказаться на палубе «Крузенштерна» сотрясло Гая, как короткий озноб.
— Ну, ты придумал… — неуверенно сказал Толик. И в этой неуверенности Гай увидел зацепку.
— Толик! Ну, не съедят же! А вдруг пустят?!
— Вообще-то, — вздохнул Толик, — у меня были другие планы. Я думал, мы с тобой завтра полазим по пещерному городу в Инкермане, крепость Каламиту осмотрим…
— Значит, ты завтра свободен?! — возликовал Гай.
— Да. Но…
— То-лик… — шепотом сказал Гай. Отодвинулся и глянул из угла дивана умоляюще-восторженными глазами.
— Моя мама, — сказал Толик, — в подобных случаях говорила: «Мелкий авантюрист и вымогатель…»
— Ура! — Гай подскочил, будто в диване сорвались все пружины. — Завтра утром, да?!
— За что мне такое несчастье… — печально отозвался Толик.
— Ура!! Толик! Я за это… Я буду самый-самый-са…
— Брысь в постель. А то завтра тебя не поднимешь.
Демонстрируя сверхпослушание, Гай стремительно скинул шорты и майку и влетел на раскладушку. Вытянулся под простыней и затих. Потом одним глазом глянул на Толика.
— Что? — сказал Толик.
— А ты завтра совсем-совсем не занят?
— По крайней мере, до вечера.
— Ой… а вечером опять пропадешь?
— Слушай, ты что за хвост! Как трехлетнее дитя…
— Да ничуть. Просто интересно. На свидание пойдешь?
— Не ваше дело, сударь!
— Ну и пожалуйста… А ее как зовут?
— Стукну!
— Странное какое имя. Она иностранка?
Толик со зверским лицом стал подниматься с дивана.
— Сплю, — хихикнул Гай и натянул на голову простыню.
Вторая часть Под мачтами «Крузенштерна»
Встречи на палубе
Решили ехать в город, до Графской пристани, а там действовать по обстоятельствам. Вдруг встретятся курсанты или кто-то из экипажа «Крузенштерна»! Тогда можно будет завязать беседу и напроситься в гости. А есть и крайний вариант: зайти в диспетчерскую порта и выяснить, не пойдет ли к паруснику какой-нибудь служебный катер.
Но когда спустились от дома на причал ГРЭС, Толик придержал Гая за плечо.
— А ну, испытаем судьбу… — И громко сказал: — Дед! Напротив Голландии парусник стоит, знаешь? Подбрось, а?
В десятке метров от пирса, на ялике с растопыренными по бортам удилищами, сидел старичок с серебристой щетинкой на подбородке и в соломенной шляпе без донышка. Он отвечал Толику с ленивым непониманием, явно притворялся глуховатым. Но, услыхав, что платой за рейс будет трешка, проявил полную и даже несколько суетливую готовность…
Через две минуты ялик с Гаем и Толиком уже тутукал движком посреди бухты. Гай перегнулся через борт и, поддернув обшлаг новенькой желтой футболки, бултыхал в воде ладонью. В зеленой глубине колыхались медузы. Утреннее солнце старательно грело Гаю спину. Вода казалась почти гладкой, но незаметная глазу, очень пологая зыбь медленно приподнимала и опускала ялик. И внутри у Гая что-то приподнималось и опускалось.
Но это не от качки, конечно! От собственного волнения, от какой-то праздничной тревоги.
Гай не выдержал:
— Толик… А если не пустят?
— Весьма возможно. Если бы я один был, другое дело. А так скажут: куда с таким обормотом?
— Почему это я обормот?! Я — вот… — Гай пошевелил плечами в футболке. Он считал, что новой майки вполне достаточно для парадного вида. По крайней мере, в данном случае.
— А космы-то… Целыми днями шландаешь, в парикмахерскую зайти не можешь… И ухи все облезлые, кожура висит. Что за привычка: с собственных ушей шкуру драть…
— Ты ко мне придираешься, потому что сам боишься, что не пустят на «Крузенштерн», — проницательно сказал Гай.
— Боюсь. Потому что втравил ты меня в авантюру. Думаешь, на кораблях жалуют незваных гостей?
— А ты придумай что-нибудь…
Толик хмыкнул.
Утро было безоблачное. Рубки высоких теплоходов сияли такой белизной, что синева неба сгущалась вокруг них фиолетовым контуром. И даже старый тускло-сизый крейсер, ждущий ремонта, сегодня чисто и молодо голубел под солнцем.
«Крузенштерн» издали казался небольшим, как модель в музее. И приближался сперва медленно, незаметно. А потом вдруг стал расти, расти, взметнул опутанные такелажем мачты в бесконечную высоту и навис над Гаем громадой белого борта.
По борту косо опускался к воде трап — лесенка с леерным ограждением и площадкой внизу. Но, видимо, рассчитан был трап на катера с высокими палубами или просто приподнят. Когда ялик подошел, площадка оказалась на уровне груди у вставшего Толика. Толик прочно положил на нее ладони.
Недавно признавшись Гаю в робости, Толик теперь вел себя уверенно. Вполне по-флотски. Гаю понравилось.
Вскинув лицо, Толик решительно крикнул:
— На «Крузенштерне»!
Высоко вверху перегнулся через планшир смуглый мужчина в белой рубашке с погончиками.
— Слушаю вас!
— Я инженер Нечаев с морзавода, — заявил Толик. — Разрешите на борт? Есть дело!
В словах Толика была лишь капелька правды. К морзаводу он имел самое-самое маленькое отношение. Но Гай не осудил дядюшку за хитрость.
— Прошу! — сказал наверху моряк. И оглянулся: — Ребята, приспустите трап!
— Не надо! — Толик легко метнулся на площадку, ухватил за руки Гая и дернул его к себе из качнувшегося ялика. Гай, разумеется, зацепился коленом и зашипел.
Деду Толик сказал быстро и вполголоса:
— Все, папаша, спасибо. Теперь давай от трапа подальше…
Борт был ой-ей-ей какой высоты, и Гаю казалось, что поднимаются они по дрожащему трапу страшно долго. Цепляясь за канат-поручень, Гай шагал за Толиком. Он прихрамывал, но про боль в колене уже не думал. Он был торжественно-счастлив.
До сих пор Гай (сейчас-то он понимал это) жил здесь в ожидании необыкновенного случая. Все время шевелилось едва заметное предчувствие, что эти мелькающие приморские дни — предисловие к какому-то главному событию. К волшебному и загадочному, похожему на сказку об острове.
И вот сейчас оно наступило. Наверно, и вправду сказка. И уж по крайней мере — приключение. Ну, в самом деле: не из обычных же дней, не из простой жизни пятиклассника Гаймуратова такое сверкающее утро, синева бухты и белый корабль-великан!
Гай чувствовал, что эти мгновения у него уже никто не отберет. Пускай хоть что будет потом! Пускай хоть через пять минут скажут: выметайтесь с судна!.. Впрочем, куда выметаться-то? Умница Толик — спровадил яличника!
Они шагнули на палубу. Смуглый моряк сказал с какой-то полувоенной вежливостью:
— Вахтенный штурман Радченко. Слушаю вас…
У штурмана была повязка — синяя с белой полосой.
Гай поймал себя на том, что ему хочется подтянуть шорты и опустить по швам руки. Он так и сделал.
— Инженер Нечаев… — опять сказал Толик. — Я здесь в командировке. Узнав, что на рейде стоит барк «Крузенштерн», взял на себя смелость приехать, чтобы повидаться с давним знакомым — третьим помощником Морозовым…
Гаю вспомнился Станюкович — в его рассказах офицеры корветов и клиперов объяснялись с такой же суховатой, но безукоризненной учтивостью. И правильно. Здесь тоже парусник…
Но штурман Радченко не выдержал стиля беседы:
— Да как же так?! Третий помощник — я! А Морозова у нас нет!
— Но…
— А до меня был Бурцев! Он сейчас второй!
— Какая досада, — произнес Толик без всякой досады. — В шестьдесят первом году, после капремонта…
— А, так это было вон когда! — Радченко виновато заулыбался. — Я-то здесь всего год. Я познакомлю вас с первым помощником, он у нас давно. Вы подождите…
Штурман ушел. Толик подмигнул Гаю. Тот рассеянно улыбнулся и посмотрел вокруг и вверх с ощущением чудес и простора.
Казалось, он не просто на палубе, а в каком-то корабельном городе. На площади, где белые дома с чисто-синими стеклами и медью иллюминаторов, вышки с локаторами и прожекторами, перекинутые в воздухе мостики со спасательными кругами на поручнях. А еще — громадные, повисшие на изогнутых балках шлюпки, наклонные грузовые стрелы, какие-то белые бочки, кольца толстенных тросов… Но «площадь», выложенная чистыми желтыми досками, не казалась загроможденной. Она была просторна, и десятки людей на ней были словно редкие прохожие.
Курсанты в робах с форменными флотскими воротниками и матросы без всякой формы возились с бухтой троса, красили борт у спущенного на палубу баркаса, сновали туда-сюда. Два растрепанных бородатых человека, не похожие ни на курсантов, ни на матросов, пронесли странное зеркало — обтянутый фольгой громадный щит в прямоугольной раме… В общем, корабль-город жил своей, непонятной для посторонних жизнью…
А над этой жизнью, над простором корабельной площади возносился окутанный переплетением тросов, лестниц, тонких концов с блоками и украшенных какими-то мохнатыми муфтами канатов мачтовый лес.
Мачт было всего четыре, но Гай все равно ощущал себя в лесу. Густота снастей создавала впечатление чащи. Сбегавшийся к верхушкам такелаж делал мачты похожими на острые, чудовищной высоты ели. Двадцатипятиметровая парашютная вышка в парке Среднекамска была малюткой по сравнению с ними. Чайка, севшая на клотик, с палубы казалась тополиной пушинкой.
Но эта громадность была не страшной. В ней чудился радостный размах — под стать синим ветрам и солнечным океанам. И Гай прерывисто, толчками, вздохнул, вбирая в себя эту высоту, этот простор, это счастливое великанское чудо.
— …Первый помощник капитана Ауниньш.
Гай вздрогнул и опять опустил руки по швам.
У подошедшего высокого моряка было твердое лицо с чуть раздвоенным подбородком и очень светлые глаза.
— Чем могу служить? — спросил он. Его едва заметный прибалтийский акцент понравился Гаю. Так же, как нравилось тут все остальное.
— Инженер Нечаев, — уже третий раз сказал Толик и покосился на Гая. — А это мой племянник… М… Михаил.
Ауниньш наклонил гладко причесанную голову, сказал Гаю:
— Станислав Янович… — И снова вопросительно взглянул на Толика. Тот вздохнул:
— Ваш коллега уже сообщил мне, что штурман Морозов на «Крузенштерне» больше не служит…
— Да. Он ушел два года назад.
— Понятно. Я познакомился с ним гораздо раньше…
— Значит, вы уже не первый раз у нас на барке? — осведомился Станислав Янович.
— Первый. С Морозовым мы встречались на «Сатурне», он был туда на время откомандирован… Проект «Дина». Слышали?
— О, — сказал первый помощник и глянул внимательно.
— Да… — кивнул Толик, и Гай почуял, что он слегка расслабился. — Это было славное время.
— Значит, вы тоже гидрограф? — спросил Ауниньш. Как-то незаметно получилось, что они уже не стояли, а втроем неторопливо шли вдоль борта.
— Я не гидрограф… Точнее — не совсем гидрограф. Я был в группе технического обеспечения.
Ауниньш глянул так, словно снова хотел сказать «о». Но сказал другое:
— А мы вот превратились в плавучую школу. К Министерству рыбного хозяйства приписаны.
— Жалеете? — с пониманием спросил Толик.
— Дело нужное. Но трудно перестраиваться, привык под синим флагом… — И он объяснил уже специально для Гая: — До недавнего времени мы были гидрографическим судном военного флота. У гидрографов флаг синий. Только в углу на нем — военно-морской флажок.
— Почти как флаг вспомогательных судов, — слегка гордясь своим знанием, сказал Гай.
— Так. Но на нашем флаге еще белый круг с маяком.
— Я знаю. В Южной бухте много таких…
— Да… А теперь у нас в каждом рейсе больше полутора сотен практикантов. Масса хлопот…
— Можно представить, — посочувствовал Толик.
— Да… Но не это самое опасное. Вы, наверно, слышали уже: нас взяли на абордаж две киностудии, «Ленфильм» и «Молдова-фильм». Кому-то пришла фантазия снимать на учебном судне художественную кинокартину. Можете полюбоваться.
Навстречу шли три густобородатых матроса в широченных штанах, атласных блузах и шапочках с помпонами. Они серьезно приложили к шапочкам пальцы.
— Самые бестолковые курсанты — ангелы по сравнению с ними, — отчетливо сказал Станислав Янович. — Где кино — там порядка нет вообще. Эти понятия несовместимы.
Толик сочувственно кивнул. И спросил:
— А что за фильм-то?
— «Корабли в Лиссе». По Александру Грину.
— Да? Ну и… как у них получается?
— Я не знаток, — ответил Ауниньш, тоном давая понять, что не одобряет легкомысленного интереса инженера Нечаева. — Не могу судить… Но, по-моему, слишком много пустой экзотики.
Толик, видимо, не удержался:
— Наверно, вы не любите Грина?
Станислав Янович сбоку медленно посмотрел на Толика:
— Как ни странно, я люблю Грина… Хотя есть мнение, что латыши — люди излишне хладнокровные и не склонные к романтике… Но я считаю, что Грина облепили розовыми слюнями: ах, мечты, порывы души к несбывшемуся, ах, зов блистающего мира… А потом — кафе «Алые паруса», косметический набор «Ассоль» и на том же уровне — пошлые статейки о «кудеснике из Зурбагана».
— Но есть и другое. Например, у вас на Балтике — траулер «Зурбаган». Название гриновского города на борту судна — чем плохо?
— Так. Это хорошо. Но это не кино, а флот… Кино с флотом надо держать подальше друг от друга. Для обоюдной пользы… Кстати, поэтому я не одобряю вашего товарища, Морозова, если правда то, что про него говорят.
— А что говорят?
— Будто бы он ушел консультантом на Ялтинскую киностудию. Там строят шхуну для «Острова сокровищ», искали специалиста для проводки бегучего такелажа. Морозов якобы согласился.
Толик помолчал. Потом сказал с коротким смешком:
— Станислав Янович, не хочу дальнейшее знакомство омрачать хитростью. Во-первых, Морозов не товарищ мой, а почти случайный знакомый. Во-вторых, я знал, что он уже не на «Крузенштерне». Я просто придумал повод, чтобы попасть на судно. Мой племянник так страстно мечтал об этом, что я не устоял.
Они оба глянули на Гая, и он засопел, опустив голову. И мысленно сказал Толику: «Вот попрут сейчас, будешь знать».
Ауниньш помолчал и суховато улыбнулся:
— Я подозревал что-то похожее. В командировку не ездят с племянниками…
— Нет, здесь я не хитрил… — Толик был, видимо, уязвлен. — Я и правда приехал по делу. А Михаила пришлось взять с собой по семейным обстоятельствам. Днем я на работе, а он свищет по окрестностям. К счастью, сегодня я оказался свободен… Мы просим извинить за вторжение.
— Ага, — сказал Гай и постарался глянуть на первого помощника ясно и доверчиво. Тот усмехнулся:
— Причина, я думаю, все равно уважительная… Но я, к сожалению, должен оставить вас: дела… Я дам практиканта потолковее, он будет для вас экскурсоводом. Только… — Ауниньш посмотрел на Гая.
— Я понял, — кивнул Толик. — Не спущу глаз.
Ауниньш окликнул пробегавшего паренька в форме и попросил показать экскурсантам судно. Слово «экскурсанты» досадливо царапнуло Гая, но он тут же забыл об этом.
Курсант Лебедев, угловатый, с пушком на губе, на ходу сбивчиво начал лекцию. Сообщил, что «Крузенштерн» неправильно называть кораблем и надо говорить «барк» или «судно», потому что кораблями именуют лишь суда с парусным вооружением фрегатов, то есть с реями на всех мачтах, а здесь бизань — «сухая», с гафелями и гиком… Потом он перепутал год постройки и парусность, и Толик опасливо глянул на Гая: не вмешивайся.
А Гай и не вмешивался. И почти не слушал уже известные сведения. Корабельная сказка опять взяла его в плен. Так, что Гай казался себе легким, будто чайка. Весело кружилась голова.
— …Лебедев! — гаркнули из темного дверного проема рубки. — Тебя где носит? Сейчас консультация по прокладке!
— А мне первый велел гостей водить!
— Вот пускай тебе первый и ставит зачет!
Лебедев беспомощно глянул на Толика.
— А вы идите, — улыбнулся Толик. — Про барк я кое-что знаю, мы тут сами… сориентируемся.
Лебедев с облегчением исчез.
— Хватит голову задирать, — сказал Толик Гаю. — Позвонки свихнешь. Смотри лучше, какой табор…
На кормовой палубе, у подножия необъятной бизань-мачты и у громадного двойного штурвала, расположились разноцветные матросы — вроде тех, что недавно повстречались у борта. Живописная компания беседовала, закусывала и, судя по смеху, травила анекдоты. Среди пиратов (а это были явно пираты, не просто моряки) сновали озабоченные люди в обычной одежде. Сияли несколько матовых зеркал (одно такое Гай недавно уже видел). Возвышался помост на колесах, на нем — тренога с камерой. С помоста прыгнул тощий лысый дядька в мятых шортах и распахнутой рубахе. Закричал тонко:
— Александр Яковлевич, я так не могу! Через час начало, а троих еще нет! Это не работа, это моя родная мама не скажет, что это такое!
— Это кино! — ответствовал курчавый невысокий парень. Он поддернул парусиновые брюки, ловко завязал узлом на животе расстегнутую ковбойку и с удовольствием зашлепал босыми ногами по теплой палубе.
— Александр Яковлевич! — кинулась ему вслед квадратная, увешанная фотоаппаратами девица с мужской прической.
Тот, не оглядываясь, помахал рукой:
— Сейчас, сейчас! Берегите творческий запал для съемки! — И помчался куда-то. Проскочил мимо Гая и Толика.
Толик сжал Гаю плечо.
— Постой-ка, Майк… — и смотрел вслед курчавому Александру Яковлевичу непонятно.
— Что? — недовольно сказал Гай. Он не хотел отвлекаться.
— Сейчас… подожди.
Толик оставил Гая и шагнул к девице с аппаратами.
— Простите. Этот кудрявый молодой человек… он кто?
— Этот кудрявый молодой человек — второй режиссер, — сумрачно сказала она. — Общий мучитель. Скоро я его убью.
— Не раньше, чем скажете его фамилию, — попросил Толик.
Девица-фотограф возвела на Толика волоокие, не подходящие ее мужскому лицу глаза.
— О Боже. Есть люди, которые не знают Ревского?
— Мерси, — задумчиво сказал Толик. Вернулся к Гаю. Таинственный Ревский уже стремительно шагал обратно и размахивал над рыжеватой шевелюрой мятыми листами. Радостно голосил:
— Если кто-то скажет, что такого эпизода нет в сценарии, я этого человека…
Он промчался мимо Толика и Гая, скользнув по ним веселым, но нелюбопытным взглядом. И вдруг замедлил шаги, встал. Обернулся. Глянул странно: и пристально, и нерешительно.
— Шурка… — негромко сказал Толик.
Тот мигнул, наклонил голову («Похож на Пушкина», — мельком подумал Гай).
— Толик… Нечаев?
С точки зрения Гая, они повели себя непонятно. Сперва шагнули друг к другу, будто обняться хотели. Не обнялись, но крепко взяли друг друга за локти. Потом словно застеснялись, расцепили руки. Подумав, обменялись медленным рукопожатием.
Толик стоял к Гаю спиной, лица не было видно. А Ревский улыбался — не сильно, а словно о чем-то спрашивал. Потом он сказал:
— Вот черт… Все какие-то затертые фразы вертятся. «Гора с горой не сходятся, а человек…»
— Или «как тесен мир», — со смехом вставил Толик.
— Да, неисповедимы пути морские… Ты теперь здесь живешь, в Севастополе?
— Мы в командировке… — Толик оглянулся и притянул к себе Гая.
— Сын? — спросил Ревский.
— Племянник. Михаил…
Гай негромко, но внятно сказал:
— Если еще раз обзовешь Михаилом, я прыгну за борт.
Толик растрепал ему волосы.
— Уличная братия кличет его Гаем. Потому как потомок князей Гаймуратовых.
Ревский сдвинул босые пятки и протянул руку:
— Рад познакомиться, князь. Позвольте представиться. Александр Ревский, давний знакомый вашего дядюшки. Я сказал бы… — Ревский запнулся, и Гай почуял, что он прячет за улыбкой какую-то виноватость. — Я сказал бы, друг детства… если бы не боялся, что…
— А ты не бойся, — тихо произнес Толик. — Хватит тебе бояться.
Питомец флибустьеров
Ревский, сложив рупором ладони, крикнул киношной братии, чтобы ни одна живая душа (если хочет и впредь оставаться живой) не звала и не искала его в течение получаса.
Затем он увлек Толика и Гая на другой конец судна, к фок-мачте. Здесь они в тени этой мачты в относительной тишине и безлюдье продолжили разговор. Потрепав Гая по плечу, Ревский спросил Толика:
— Своих-то нет еще?
— Женитьба — как лотерея, — вздохнул Толик. — Раз попробовал — обжегся.
— Извини…
— Да что ты, дело житейское.
— А у меня семейство в Ленинграде. Два пацана, близнецы-первоклассники.
— Такие же кучерявые?
— Нет, в жену. Белобрысые…
— А ты и сам еще как пацан, — сказал Толик чуть дурашливо и ласково. — Все такой же, лишь в параметрах увеличился.
— Да и тебе не дашь тридцати… Тридцать ведь, да? В сорок восьмом тебе шел двенадцатый?
— Угу… Шурка, вот посмотри: ведь ничего особенного вроде и не было тогда. Ну, бегали, играли. Ну, ссорились. А потом в жизни столько всего случалось серьезного, важного. Но вот запомнилось — лето сорок восьмого…
— Толик, — тихо и серьезно сказал Ревский. — Ты, по-моему, не прав. Особенное было. Я не из тех, что смотрит на детство со снисходительной улыбкой.
— Да и я не смотрю. Наоборот… Почти двадцать лет прошло, а нет-нет, да и царапнет душу: как расстались тогда…
— Ты, Толик, хорошо расстался. Правильно. Это я был такой… максималист.
— Да нет, ты был тоже прав.
— Наверно. С тогдашних позиций… Толик, а я ведь прибегал к поезду… Ну, когда ты уезжал…
— Да? — быстро спросил Толик. — И что, опоздал?
— Нет, я тебя видел… Я за киоском на перроне прятался.
— И не подошел… Почему, Шурик?
— Все потому же. Думал, если подойду, значит, изменю ему.
— Да-а… Ну а он-то где сейчас?
— А ты не слыхал? Товарищ Наклонов стали писателем. Сперва даже поэтом. Вышла не то в Среднекамске, не то в Свердловске книжечка его стихов. «Первоцвет» называется… Он факультет журналистики окончил, потом с геологами ходил, жил на Сахалине. Очерки печатал. В каком-то областном журнале была его повесть про рыбаков. Говорят, новую книжку готовит.
Толик осторожно сказал:
— Что-то не слышу в твоих словах прежнего обожания…
— Ты не думай, мы не ссорились… Он был, конечно, деспот, но я ему за многое благодарен. Все-таки именно он научил меня быть мальчишкой… Ну а стали постарше и как-то разошлись потихоньку. У каждого оказалось свое.
— Встречаетесь?
— А как же! И весьма по-дружески. Он мне свой «Первоцвет» подарил… Последний раз два года назад виделись, в Одессе. Я был там в командировке, а он на Одесскую студию сценарий привез.
— Хороший?
— Н-ну… Кстати, в кино есть свои парадоксы. Хорошие сценарии, бывает, лежат, а те, что так себе, глядишь — уже в работе.
— У него в работе?
— Нет пока. Но приняли…
Толик сказал с ехидцей:
— А то, что вы сейчас снимаете, значит, тоже «так себе»?
— А вот и нет! — Ревский вдохновенно взъерошил шевелюру. — Это будет блеск! Но каких трудов стоило пробить!.. Знаешь, о чем?
— Говорят, по рассказу Грина. «Корабли в Лиссе»?
— От рассказа только название. А вообще это фильм о юности Грина. Но со вставными сюжетами из его книг… Грин как бы сливается иногда с героями своих рассказов. Например, с капитаном корсарского фрегата. То есть сначала он просто молодой матрос на этом корабле, но капитан — такой замшелый морской волк — умирает, а этого парня экипаж выбирает командиром… Сегодня как раз снимаем похороны капитана.
— И можно посмотреть? — ввернулся Гай.
— О чем разговор!
— Экзюпери сказал: «Все мы родом из детства», — вздохнул Толик. — Помнишь свой «Фотокор» на треноге?
— Он говорит «помнишь»! Эта штука и сейчас у меня в сохранности! Реликвия…
— А у меня снимок сохранился. Ты после концерта в саду всех нас щелкнул. Помнишь?
…Это было, конечно, прекрасно. Встреча двух друзей, воспоминания давних лет и так далее. Но это касалось Толика и его друга. А Гаю так и переминаться с ноги на ногу рядышком?
Заметив, что Гай потихоньку «линяет» в сторону, Толик рассеянно показал ему кулак. Гай жестами дал понять, что будет образцом благоразумия.
С минуту Гай ходил вокруг фок-мачты, потом вверх по трапу скользнул на бак. То есть на носовую палубу.
Широкая треугольная палуба светилась желтизной и дышала запахом чистого дерева. Гай постоял на носу, полюбовался громадным стволом бушприта с тросами и сетью, восхищенно подышал у сияющего колокола с надписью «Padujа» и подавил в себе преступное желание щелкнуть по медному краю ногтем. Потом оглянулся и радостно охнул: увидел пятиметровый адмиралтейский якорь. Видимо, запасной. Он был закреплен на палубе.
Гай присел рядом с якорем на корточки. Стал гладить теплое от солнца тело якоря, как добродушного дремлющего великана. За этим занятием застал Гая пожилой усатый моряк (наверно, боцман). Он посмотрел на Гая молча, но так внимательно, что тот без звука и почти на цыпочках поспешил с бака.
Толик и Ревский продолжали свои «а помнишь».
— Кудымовы куда-то уехали, ничего о них не знаю, — рассказывал Ревский. — Витек стал военным, капитан сейчас, а Рафик — он почти мой коллега, тоже в кино.
— Режиссер? — удивился Толик по поводу какого-то Рафика.
— Художник-мультипликатор.
— А, ну он к тому и шел! А Мишка Гельман где? Не знаешь?
— Мишка в шестнадцать лет сел за банальное дело — групповое ограбление киоска. Через год выпустили по амнистии. Он взялся за ум, окончил физкультурный техникум, работал учителем в интернате, женился, мотоцикл купил. А потом сел снова.
— За что? Опять за то же?
— Нет. Он ударил на уроке мальчика. Да не рассчитал, видать, тот головой о батарею. Травма… Ну и пошел Миша в знакомые места…
— За это стоит, — сказал Толик.
— А мальчик? — спросил Гай.
— Что? — глянул на него Ревский.
— Его вылечили?
— Да, конечно…
Гай снова осторожно отошел. Шажок, еще шажок… Вот и поручни. А рядом — могучие тросы вант… Про такие моменты в жизни Гая мама говорила: «Ему бес пятки щекочет». Гай оглянулся, взялся за трос. Встал на нижний прут поручней. На верхний… На перекладину вант. Еще на одну. Тросы и ступеньки еле ощутимо дрогнули под легоньким Гаем…
Как бы ни щекотал пятки бес, а у Гая хватило ума не увлекаться. Поднялся на десяток ступенек — и стоп. И так вон какая высота! От воды до палубы метров пять, да от нее еще столько же. Как на крыше трехэтажного дома.
Севастополь раскинулся по обрывистым слоисто-желтым берегам, по высоким склонам. Белые дома, спуски, лестницы, пыльная зелень пустырей, меловые срезы скал, путаница старых кварталов на откосах. Груды деревьев — как выплеснувшаяся через гребни домов малахитовая пена…
Городу тесно на холмах и берегах, он сбегает к бухте переплетением эстакад. И здесь — будто продолжение улиц: теплоходы, танкеры, крейсера с их многоэтажными рубками-домами, с башнями, мачтами и праздничным трепетаньем флагов.
А за кораблями, за белым нагромождением береговых зданий, за плоским Константиновским мысом с его старинной крепостью — бескрайность открытого моря. И там, приподнявшись над горизонтом, опять туманно обрисовывался остров.
Гай вздохнул, покрепче взялся за ванты. Они еле заметно дрожали. А точнее — неслышно гудели, отзывались то ли на внутреннюю жизнь населенного сотнями людей гиганта-барка, то ли на касание соленого ветерка, что летел с открытого моря.
Это был совсем легкий, «шелковый» ветер, но он обмахивал свежестью лицо, шевелил волосы, и Гай не чувствовал жары, хотя солнце крепко припекало плечи и темя.
Ветер шел с моря, рябь на воде бежала оттуда же, и казалось, что «Крузенштерн» движется к выходу из бухты. Остров плавно вырастал над горизонтом. Чайки восторженно орали, приветствуя капитана Гая…
У совершенно счастливых минут есть одно плохое свойство — они коротки. Гай услышал на палубе стук официальных шагов.
Он увидел под собой аккуратный пробор первого помощника и его черные погончики с квадратными вензелями.
Станислав Янович сказал Ревскому:
— Александр Яковлевич. Ваши коллеги сейчас, забыв о природной интеллигентности, разнесут ют, спардек и шканцы. Они ведут себя возбужденно и все требуют вас.
— О Боже! Ну почему все я да я? Там есть Карбенев!
— Режиссер-постановщик сказал, что занят творческим процессом, а за оргвопросы отвечаете вы.
— А вы скажите ему…
— Нет, это уж вы скажите ему все, что считаете нужным, — перебил Ауниньш учтиво, но, кажется, с легким злорадством.
— Девятнадцать лет не виделся с человеком! — рыдающе произнес Ревский. — И поговорить не дают, изуверы!
Толик попытался «смягчить напряженность»:
— Представляете, какая неожиданность, Станислав Янович! Случайно оказался на судне и вдруг встретил друга детства…
— Поздравляю вас, — Ауниньш наклонил голову с пробором. — Если только это не новый повод для пребывания на борту…
Он, кажется, хотел придать словам оттенок шутки. Но Толик глянул на него в упор и спросил тонко и задиристо:
— Следует ли думать, что я здесь кому-то помешал?
— Ни в малейшей степени. Но вы обещали присматривать за племянником.
Ауниньш ни разу не посмотрел вверх, но Гай ощутил, что первый помощник видит его как облупленного. Будто на темени Станислава Яновича третий глаз.
Гай пристыженно полез вниз. Толик проследил за ним обещающим взглядом. Ауниньш, так и не взглянув на Гая, сказал:
— Впрочем, гости не знают судовых правил. Но вы-то, Александр Яковлевич, могли объяснить мальчику…
— Я и объяснил, — невозмутимо сообщил Ревский. — Велел соблюдать осторожность. Это я послал мальчика на ванты: тренировка для съемки.
Гай, который переминался в стороне, приоткрыл рот.
Ауниньш не сдержал удивления:
— Он что, уже ваш артист? Так быстро?
— Товарищ первый помощник, — назидательно проговорил Ревский. — Вы привыкли считать деятелей кино неорганизованными людьми, и в этом суждении есть доля горькой правды. Но иногда мы действуем оперативно.
— А вы уверены, что съемка ребенка на вантах находится в соответствии с техникой безопасности?
Ревский сказал печально:
— Станислав Янович. Кино ни с чем не находится в соответствии. Даже с самим собой. Оно как религия, искать в нем логику бессмысленно. Можно только или отрицать его, или верить в него со всем пылом преданной души.
— Я не склонен к религиозному экстазу, — сумрачно возразил Ауниньш. — У меня масса земных проблем. Кстати, вынужден вас опечалить. С берега сообщили, что днем катера не будет, только после двадцати часов. Так что готовьтесь кормить правоверных служителей киноискусства здесь… Гости наши тоже оказались неожиданными пленниками.
Гай тихо возликовал. А Ревский взвыл:
— О боги! Чем кормить-то?! Это диверсия!..
— Ну, только не с моей стороны, — усмехнулся Ауниньш. — Я попросил изыскать возможности на камбузе… Но остатки курсантского рациона — это не меню ресторана «Приморский».
— Мы всегда обедаем в «Волне», — вздохнул Ревский. — Но я прощаю вам неосведомленность. И неверие в магическую власть кинематографа. Несмотря на ваш унылый педантизм, в вас все же мелькает порой нечто человеческое.
— Я тронут. — Ауниньш кивнул и зашагал прочь. И лишь тогда глянул на отскочившего с пути Гая. В лице у первого помощника появилось что-то необычное. И он украдкой (совсем непохоже на себя и очень похоже на Толика) показал Гаю кулак.
Гай мигнул и… среагировал: сделал дурашливо-послушное лицо и встал по стойке смирно.
Толик ничего этого не заметил. Виновато посмотрев на Ревского, он сказал Гаю злым полушепотом:
— Башка дырявая. Из-за тебя Шурику… Александру Яковлевичу пришлось врать.
— А я не врал! — живо отозвался Ревский. — Я его в самом деле возьму в работу.
— Ой! Как?! — подскочил Гай.
— Ты что? Вправду? — не поверил Толик.
— Есть идея! Славка Карбенев завоет от радости! Понимаете, мы ломали головы: что-то не получается с пиратским экипажем, пресный он какой-то. Чего-то человеческого нет. Не всерьез, а будто оперетта… А тут пацан в экипаже! Юнга, воспитанник. Представляете, какая деталь, а?
— Но для съемок-то время надо, — попытался возражать Толик. — Не говоря уж о таланте…
— Какое время? Один-два эпизода! Сейчас и начнем! А талант — что? В этом возрасте все талантливы, вспомни, как в Новотуринске шпионскую пьесу ставили!.. Гай, ты не бойся, будешь сам собой, вот и все!
Режиссер-постановщик «Славка» Карбенев оказался молодым высоким мужчиной со впалыми щеками и скорбным взглядом. Он выслушал идею Ревского и без восторга произнес:
— Хуже не будет. Давай…
Затем он поставил Гая между колен и толково разъяснил, что он, Гай, вместе со взрослыми флибустьерами будет стоять в шеренге, мимо которой понесут умершего капитана. Юнга этого капитана не то чтобы любил, но крепко уважал и теперь, конечно, печалится.
— Ты только не пытайся что-то нарочно изображать, притворяться, — наставлял Карбенев. — Представь, что это по правде. Ну и… в общем, смотри сам.
Потом он сказал Ревскому:
— Ты давай преобрази его слегка. В одиннадцать начнем…
В тени кормовой рубки стояли фанерные сундуки с трафаретными названиями «Молдова-филм» (без мягкого знака). На сундуках ворохами лежали разноцветные плащи, кружевные рубахи и драные тельняшки. Среди этого хозяйства сердито хлопотала симпатичная темноволосая девушка. Увидев ее, Ревский присмирел.
— Настенька, тут такое дело. Надо этого отрока превратить в пиратского юнгу… А?
— А где вы раньше были, Александр Яковлевич? Откуда мальчик? Я знала, что на него нужен костюм? Как на охоту ехать, так собак… — Настенька замолчала, зацепившись глазами за обаятельную улыбку Толика.
— Мадемуазель, — бархатисто сказал Толик. — Позвольте представиться. Анатолий Нечаев, инженер-конструктор, давний друг вашего беспутного второго режиссера и дядюшка этого юнги. Не гневайтесь за нарушение графика. Здесь стихийные обстоятельства, форс-мажор, как говорят моряки…
Настенька хмыкнула, пряча улыбку, и скрылась в рубке.
— Волшебник, — шепотом сказал Ревский. — Иди в помрежи, а? По линии укрощения строптивых костюмерш…
Настя появилась опять, и не одна, а с пухлой белокурой тетенькой. За ними шагнул старый толстый дядька с седой шевелюрой. Он, словно быстрыми пальцами, ощупал Гая веселыми голубыми глазами. Так, что захотелось хихикнуть, будто от щекотки.
— Прекрасно!.. — пророкотал дядька. — Шурик, это вы добыли пиратское дитя?.. Хорош. Настенька, добудь юному джентльмену какое-нибудь рубище с матросского плеча. Питомцу флибустьеров совсем не обязательно выглядеть инфантом.
— Игорь Васильич, это годится? — Настя извлекла из тряпичных ворохов драную легкую фуфайку крупной вязки. Фуфайка была похожа на тельняшку, только полосы — шириной в ладонь. Гаю велели надеть ее на голое тело, чтобы не просвечивала современная майка. «Рубище» повисло на нем крупными складками.
— Вполне, — сказал Игорь Васильевич.
— А штаны не слишком современные? — подала голос Настя.
— Сойдут, — решил Игорь Васильевич. — Все равно их почти не видать. А голые ноги и ободранные колени суть признаки мальчишек всех времен и народов… Меня смущают только кеды. Они явно несовместимы с парусной эпохой…
— А можно босиком! — Гай раздернул шнурки и дрыгнул ногами, кеды разлетелись по палубе. Гай трепетал от счастливого возбуждения и полон был желания делать все как можно лучше.
— Гм… — Игорь Васильевич огорченно взялся за мясистый подбородок. — Вы, сударь мой, как все нынешние дети, мало ходите босиком. Ваши нежные ступни весьма контрастируют…
— Покрасим, Игорь Васильич, — деловито сказала белокурая тетенька по имени Рая. — Крем номер пять, средний загар…
Гай опасливо хихикнул, заранее боясь щекочущих пальцев.
— Нет, нужны башмаки, — сказал Ревский. — Иначе ступеньки на вантах будут ноги резать.
— Как на вантах? — заволновался Толик. — Шурка, ты что, по правде решил его на верхотуру загонять?
— Не бойся. Есть идея, потом объясню…
— Мы в самом деле попали в плен к пиратам, — печально сказал Толик. — Живыми не выпустят… Еще немного, и ты, Шурик, заставишь сниматься и меня.
— А что? Вполне подходящий типаж. Молодой матрос, попавший в пираты из интеллигентов. Волею обстоятельств…
— Сам ты пират из интеллигентов! Джек-потрошитель с дипломом!
— Да ты подожди! Я серьезно! Мужиков-то в массовке не хватает! Двое заболели, один где-то загулял. Пиратская шеренга как картечью повыбита… Давай, Толик!
— Толик, давай! — подскочил Гай.
— Да идите вы! Какой я артист!
— Не артист, а статист, — разъяснил режиссер Ревский. — Мы тебя вместе с Гаем в ведомость запишем. Гонорар получишь. Лишний он тебе, что ли?
— Толик, давай, а? — попросил Гай. — А то я один боюсь.
— Надо же! Он боится.
Ревский сдвинул брови, сморщил веснушчатую переносицу и с кавказским акцентом закричал на Толика:
— Ты, дорогой, сюда зачем приехал, а?! Катера до вечера не будет, ты здесь что делать будешь? Просто так будешь, да?! Кушать захочешь, думаешь, тебя тут даром кормить будут, да?! Ты спроси, кино когда кого кормило даром, а?
— Грубый шантаж, — сказал Толик. — Экономический нажим и выкручивание рук… Но чтобы никакого грима. Не терплю косметики.
— Только припудрим, — сказала тетя Рая.
Гаю тоже припудрили лоб и нос.
— Чтобы не бликовали, — объяснила тетя Рая. Гай дурашливо морщился и смотрел на Толика.
Толик был теперь в узких серых штанах, в сапогах с отворотами и белой рубашке с кружевами. Талию обматывала пунцовая шаль с бахромой. Поверх рубашки — замшевая безрукавка.
Освободившись от гримерши тети Раи, Гай восхищенно обошел вокруг Толика.
— Ух ты-ы… Ходи так всегда! Это тебе к лицу! «Причина», из-за которой ты вчера застрял в городе, будет без ума.
Толик ухватил хохочущего Гая за полосатый подол и вляпал ему ладонью по синему квадрату на месте оторванного кармана. Гай вырвался, отскочил, загремев твердыми башмаками с медными пряжками (эти маленькие, но вполне пиратские туфли отыскала для него Настя). Толик прыгнул следом.
— Стоп! Сохраняйте энергию для съемки! — цыкнул на них Ревский. — Толик, дай гляну на тебя… Тебе для полноты облика нужно оружие. Скажем, пистоль за пояс.
— А мне? — подскочил Гай.
— А вам, князь, ни к чему. Это выглядело бы опереточно. К тому же у вас нет паспорта… Толик, у тебя есть какой-нибудь документ?.. Прекрасно. Пошли!
В тени бизань-мачты на кованом (явно пиратском) сундуке прочно сидел круглолицый парень в плоском беретике и брезентовой куртке (в такую-то жару!). У парня были озабоченные глаза.
— Это Костя, — сказал Ревский. — Толик, дай этому человеку паспорт, и тогда он выдаст тебе кремневую пушку или какой-нибудь «смит-вессон». Но без документа к нему не подходи.
Костя нехотя поднялся с горбатой крышки. И сказал не Ревскому и не Толику, а почему-то Гаю:
— Если всем давать без документов, я бы уже заработал себе приговоров в общей сумме на девяносто девять лет, как в Америке…
Он взял у Толика паспорт и поднял тяжелую крышку.
Батюшки, чего только не было в сундуке! Кинжалы, шпаги с витыми рукоятями, короткие римские мечи, длинные пистолеты с узорными замками, мушкеты с гранеными стволами…
Костя дал Толику двухствольный пистолет с медными завитушками и большущим курком-собачкой. У Гая, конечно, руки сами умоляюще потянулись к этой штуке. Костя глянул на Гая и вдруг протянул ему длинный матово-серебристый револьвер.
— На, пощелкай. «Кольт», сорок четвертый калибр. Одна тысяча восемьсот девяностый год… Только в людей не целься, не полагается.
— Кому-то, значит, можно и без документа, — поддел Костю Ревский.
— Пацаны — они люди аккуратные, Александр Яковлевич. Я с ними хлопот никогда не имел. А ваш Витя Храпченко вчера толедский кинжал семнадцатого века за борт булькнул. Теперь пускай расплачивается, вещь уникальная…
«Кольт» был увесистый и прохладный. Курок у него взводился с упругой легкостью, барабан при этом поворачивался. Гай щелкал курком, пока Толик не сказал шепотом, что надо иметь совесть. Гай со вздохом протянул револьвер Косте:
— Спасибо.
Костя подмигнул Гаю. На Костином брезентовом рукаве шевелилась нашивка — синий квадрат с черным шариком посредине и язычком пламени над ним. Гай тронул нашивку мизинцем:
— Это что означает?
— Означает, что я оружейник и пиротехник на «Ленфильме». Видишь, бомба с горящим фитилем. Точнее, старинная граната…
Как одно слово может все изменить!
Воспоминание о гранате, спрятанной в норе под камнем, сделало радостное утро тусклым и неуютным. Гай отошел и зябко обхватил себя за плечи (левое плечо торчало из прорехи).
«Ну, чего ты!» — сердито и жалобно сказал себе Гай. Однако черная дробина уже забегала по белому фаянсовому дну. Видимо, она-то и шепнула Гаю:
«Сам знаешь чего…»
«Но я же не взял эту проклятую гранату!»
«А хотел…»
«Но я же не взял!»
«А спрятал…»
«Ну, я достану и отдам! — отчаянно поклялся Гай. — Завтра же! Скажу, что нашел, и отдам! — Ему страшно стало, что это утро со всеми радостями и чудесами пропадет совсем! И чтобы умилостивить судьбу и убедить совесть, он добавил с сердитой плаксивостью: — Мне вчера за это и так досталось».
«Не выкручивайся, — пробурчала совесть, но уже без прежней непримиримости. — На дракончика ты наступил случайно, с гранатой это никак не связано…»
«Нет, связано, — возразил Гай. — Если бы не граната, я бы в тот раз не вернулся в Херсонес. И не наступил бы…»
«Не выкручивайся, тебе говорят».
«Но я же сказал, что отдам!»
«Смотри…» — Совесть неохотно припрятала дробину в каком-то незаметном уголке, и Гай с облегчением вздохнул. Но прежняя искристая радость к нему уже не вернулась. Он словно избавился от опасности, но опасность эта была еще недалеко…
Ревский хлопнул его по голому плечу:
— Что, князь, невесел, что призадумался? Или входишь в образ?
Гай осторожно пожал плечом.
Как хоронят капитанов
Хотя Станислав Янович Ауниньш и утверждал, что кино и порядок несовместимы, в одиннадцать все было готово для съемки.
Часть палубы между первой и второй грот-мачтами покрасили водным раствором охры, чтобы не бликовала (как Гаев нос!). Расставили матовые зеркала. Гай изумился: неужели без них мало света? Оказалось, что для цветной пленки — и с зеркалами мало. Включили еще и кинопрожекторы.
Курсанты приспустили с нижних реев оба грота, и парусина повисла красивыми фестонами, как на старинных фрегатах.
Карбенев и темный, как мулат, оператор в полосатых плавках и белой кепочке устроились на высокой площадке у камеры. На мостик взбежал тонкий паренек в белой рубашке с распахнутым воротом, встал у поручней, на которых висел круг с надписью «FELIZATA». Сейчас «Крузенштерн» изображал пиратскую «Фелицату», а паренек был главный герой — юный Александр Грин.
У мачты, взявшись за толстенный канат, остановился старик в берете с помпоном и в полосатой, как у Гая, фуфайке. Ревский на ходу шепнул Гаю и Толику, что это знаменитый Симонов, который еще до войны играл Петра Первого в известном фильме. А здесь он играет старого боцмана. У знаменитого артиста было хмурое складчатое лицо. Может, он «вживался в образ»?
А Гай в грустную роль вжиться не мог. Прежней радостной прыгучести в нем не было, но ощущение праздника вернулось. И с веселым любопытством он вертел головой.
Ревский выстроил экипаж «Фелицаты» между мачтами, лицом к борту. Пираты были всякие — молодые и старые, бритые и бородатые, франтоватые и в лохмотьях. В треуголках, беретах, косынках. С пистолетами за широкими поясами. В тельняшках и безрукавках. Но больше всего — в атласных широких голландках с большими воротниками и галстуками, как у детских матросок.
Толик оказался рядом с лысым чернобородым дядькой в драном камзоле. На глазу у дядьки чернела повязка.
— Я вместе с Толиком, — быстро сказал Гай.
Ревский кивнул. И торопливо предупредил:
— В камеру только не зыркай, смотри на процессию…
Он вскочил на помост к Карбеневу и оператору. И сразу откуда-то сверху громкий голос динамика властно произнес:
— Эпизод «Похороны капитана». Все готовы? Внимание… Дубль первый. Мотор!
Упруго и очень громко ударили из динамика печальные аккорды. Толик положил Гаю руку на плечо. Гай быстро сделал грустное лицо и задеревенел. Но музыка тут же выключилась.
— Сто-оп! — сердито завопил динамик. — Какого черта? Локатор в кадре торчит! Замотайте его хотя бы!
Девица-фотограф полезла по скобам к площадке судового локатора, начала обвешивать поручни золотистой фольгой.
Одноглазый пират сказал:
— Так и будем маяться. Не могли с деревянной баркентиной договориться, вроде «Альфы». Здесь не парусник, а «Титаник».
Гай понимал, что локатор на пиратском судне — штука лишняя. Но все равно было досадно, что на «Крузенштерне» кому-то что-то не нравится. Он даже подумал: не сказать ли что-нибудь одноглазому? Но опять прозвучала команда: «Мотор!»
И снова — музыка.
Нет, это был не похоронный марш. Это было вступление к песне, и вот сама песня тяжело растеклась над палубой, над бухтой. Все пространство заполнили сумрачные мужские голоса:
Опускается ночь — все чернее и злей, — Но звезду в тучах выбрал секстан. После жизни на твердой и грешной земле Нас не может пугать океан.Гай опять застыл, помня, что надо быть печальным. Песня неожиданно надавила на нервы, сердце толкнулось невпопад.
Не ворчи, океан, ты не так уж суров, Для вражды нам причин не найти. Милосердный Владыка морей и ветров Да хранит нас на зыбком пути…Шестеро матросов «Фелицаты» — в одинаковых алых блузах и с непокрытыми головами — вышли из-за кормовой рубки. На плечах они держали носилки из шлюпочных весел. Длинный серый тюк на них вызвал у Гая толчок суеверной тревоги. Особенно торчащие, туго обтянутые парусиной ступни. Гай понимал, что там чучело, но легче от этого не было.
Моряки шли медленно и мерно, лишь один споткнулся о протянутый на палубных досках трос — и носилки косо качнулись.
…Тот светло-коричневый, как мебель, длинный гроб совсем не похож был на эти носилки с парусиновым коконом. Но качнулся он в точности так же, когда солдаты споткнулись в воротах. Мертво и беспомощно качнулся… Это было год назад, когда хоронили отставного летчика, жившего в соседнем доме. Сосед был старый, летать кончил еще в тридцатых годах, во время войны служил в каком-то штабе, а потом вернулся в родной Среднекамск. Он был дедушкин товарищ.
У дедушки в те дни тяжко разболелась нога, и он с трудом стоял на тротуаре, опираясь на палку и на плечо Гая. Когда отрыдал оркестр и печальная вереница автобусов скрылась за углом, дедушка тихо выдохнул над Гаем:
— Все… Отвоевался наш капитан.
Рука деда больно давила плечо. Гай хмуро спросил:
— Почему капитан? Он же полковник.
— Он для нас был капитан. Когда мы мальчишками морские бои на пруду устраивали. И потом… Капитан, Мишенька, это такое звание… Иногда главнее полковника и генерала…
Гай плохо знал соседа и не чувствовал большой печали. Он тревожился за деда.
— Дедушка, пойдем, тебе вредно стоять…
Потом ногу деду вылечили. Сейчас он ходит бодро, хотя ему семьдесят пять… «Но ведь уже семьдесят пять, — вдруг подумалось Гаю. — И если…»
(А матросы все шли, шли — почему-то очень долго, и Гай уже не разбирал слов песни.)
…Если только ничего не случится с ним, с Гаем, тогда… не очень уж много времени пройдет, и ему придется провожать дедушку… как того капитана…
А потом… Гай в семье самый маленький. Все, кого он любит, старше его. Значит, и они… тоже? И папа, и мама?
Но тогда зачем на свете все хорошее? Зачем солнце, море?..
В Гае не было страха за себя. Но печаль будущих расставаний поднялась к его сердцу, как холодная вода. Печаль и жалость к людям, которым судьба предназначила уйти с земли раньше его…
От тебя, океан, мы не прячем лица, Подымай хоть какую волну. Но того, кто тебя не пройдет до конца, Без упрека прими в глубину…«Ну, что ты! — перепуганно сказал себе Гай, стараясь унять дрожь подбородка. — Перестань, дурак!»
Что же это будет сейчас! Скандал какой, съемка сорвется! Но не было сил сдержаться, и Гай, мотнув головой, уткнул лицо в локоть Толику.
Он всхлипывал, чудовищно стыдясь этих слез и ожидая, что музыку оборвет гневный радиоголос: «Что там случилось с мальчишкой? Уберите его!» Но песня все звучала в своем рокочущем ритме раскатистой волны. А еще Гай слышал тихие слова. Даже не слышал, а будто чувствовал их сквозь прочную и теплую ладонь Толика, которая прижималась к дрожащему плечу: «Гай… Успокойся, Гай. Ну, перестань, малыш. Не горюй, я с тобой…»
Песня стихла, и голос прозвучал, но совсем не сердито:
— Отлично, ребята! Через десять минут повторим, а пока — все как надо!
Пиратская шеренга распалась, все запереговаривались. Гай стыдливо глянул из-под мокрых ресниц. Но никто на него не смотрел. Лишь Толик сказал вполголоса:
— Ты что расстроился? Представилось, что все всерьез?
Гай не знал, как объяснить, и только дернул плечом.
Подошел Ревский.
— Молодчина, Гай. Врубился. Так и держись.
Это было уже чересчур. Гай ощетинился, готовый сказать, что никуда он не «врубался» и кино здесь ни при чем! Надо вырезать эти кадры из ленты!.. Но он увидел зеленовато-желтые глаза Ревского. Понимающие были глаза и говорили совсем не то, что слова. Гай засопел и уперся взглядом в свои башмаки.
Сняли еще два дубля, и больше Гай, конечно, не плакал. Только с боязливой хмуростью следил исподлобья, как шагают матросы с носилками. Толик, тревожась за него, сказал шепотом:
— Ничего, Гай. Все хорошо…
А что хорошего?
Но настоящей печали теперь не было. Уже пришла успокоительная мысль, что дедушка еще крепок, а здоровые люди живут иногда и до ста пятидесяти лет. И вообще, если что-то когда-то будет в жизни грустное, то очень не скоро… А в парусину зашит легкий пустотелый манекен. Кино — это ведь игра. И Гай теперь старательно играл опечаленного пиратского юнгу.
Играл, видимо, неплохо, потому что Ревский в перерыве снова сказал, что Гай молодец. Серьезно так сказал. И Гай наконец нерешительно улыбнулся.
После съемок обедали. Операторы, режиссеры, помрежи, осветители и гримеры вперемешку с актерами расположились группами кто где (лишь бы тень была). Толика и Гая Ревский позвал в компанию, где оказались знакомые: художник-постановщик Игорь Васильевич, оружейник Костя и одноглазый пират, что стоял во время съемок рядом с Толиком.
Гай поглядывал смущенно и виновато. Стыд за неожиданные слезы все еще сидел в нем. Но, впрочем, в стыде этом не было тяжести, потому что в слезах не было вины. Гай хотел только, чтобы никто не вспоминал про это и не расспрашивал.
Никто ничего и не сказал. Многие, наверно, и не заметили того случая. Другие, возможно, решили, что так и полагалось. А если кто-то о чем-то догадался, то, спасибо ему, не подал вида.
Изнемогшая от жары тетя Рая принесла бачок с курсантским рассольником, но на нее замахали руками: никому не хотелось горячего. Появились откуда-то помидоры, булки, вывалянная в укропе вареная картошка, копченая скумбрия, бутерброды и бутылки с минеральной водой (Гай взял одну и вздрогнул от удовольствия: какая холодная; где, интересно, хранили?).
Рыбьего хвоста, картофелины и двух помидоров Гаю хватило, чтобы осоловеть от сытости. Но тут Костя выкатил на брезент арбуз. И показал Гаю нож с зеркальным волнистым лезвием:
— «Человека-амфибию» смотрел? Это нож Ихтиандра.
— Ух ты-ы… — Гай понял, что чудеса продолжаются и день по-прежнему хорош.
После арбуза Гай в поисках заведения, именуемого флотским термином «гальюн», заблудился внутри «Крузенштерна» среди коридоров и трапов. Повстречались два курсанта, узнали, что Гай из киногруппы, а не просто так болтается по судну, и со смесью покровительства и уважения показали все, что нужно. Устроили Гаю экскурсию по длинным кубрикам с двухъярусными койками и подвесными столами, заглянули с ним в кают-компанию и на камбуз и даже, испросивши разрешения у механика, стаскали Гая в «машину». Здесь, среди гладкой блестящей меди, изогнутых труб и запахов смазки, тоже было интересно. Только о парусах уже ничего не напоминало. И Гай наконец с удовольствием выбрался к солнцу, под гигантские мачты.
Перепуганный и злой Толик ухватил его за шиворот:
— Где тебя носило?
Гай, вертя шеей, объяснил. Толик дал ему легкого леща, велел быть рядом и спросил подошедшего Ревского, нельзя ли вставить в фильм сцену, где беспутного юнгу дерут линьками.
Ревский улыбнулся Гаю и сказал, что, к сожалению, нельзя: не позволяет лимит пленки. Юнгу еще придется снимать на вантах, под распущенными парусами, когда он кричит матросам долгожданную весть: «Остров! Вижу остров!» Это будет во какой финал фильма! С Карбеневым уже договорились.
Слово «остров» отозвалось в Гае сладким и тревожным эхом. И он не подскочил, не завопил от радости, а спросил тихо:
— Сегодня?
— Ну, что ты, дорогой, где сегодня? Это надо снимать на ходу, в плавании. Дня через три…
— Шурик, ты спятил? — возмутился Толик. — Я, между прочим, в этом городе на работе!
Но Ревский сказал, что снимать будет не Толика. Его роль уже сыграна и, безусловно, войдет в историю мирового кино. А Гаю на сутки придется выйти с киногруппой в море. Ничего с ним, с Гаем, не случится, смотреть будут в десять глаз. А Толик пускай спокойно сидит в лаборатории и конструирует свои хитрые аппараты во славу отечественной науки…
— Ага, буду я сидеть спокойно, когда он шастает по вантам!
— Разве лучше, когда князь Гаймуратов один шастает по окрестностям? — ехидно спросил Ревский. Толик вздохнул.
При мысли о плавании под парусами радость Гая стала настолько громадной, что даже как-то придавила. Он отошел к фальшборту и сел в узкой тени. И с полчаса был такой — съежившийся и присмиревший. Боялся: не захочет ли судьба уравновесить его счастье каким-нибудь печальным случаем? Потому что в жизни всегда все перемешано, а сегодня что-то слишком много навалилось на Гая одних только счастливых неожиданностей.
Хотя нет, не только. Мысли его о горьких расставаниях и слезы — это, может быть, и есть та черная гирька, чтобы уравнять на весах радость и печаль? А воспоминание о гранате!
«Ну, чего ты? Чего ты опять?» — сказал себе Гай.
Все-таки радостей было не в пример больше. Гай привалился к фальшборту, вытянул на горячее солнце ноги и закрыл глаза. Кричали чайки…
В четыре часа опять началась съемка. Но уже без Гая, без шеренги пиратов. Снимали только тех шестерых. Как они подходят к борту и зашитый в парусину капитан с привязанным к ногам ядром скользит с носилок, чтобы скрыться в пучине.
На самом деле в пучине он не скрывался. Внизу у борта стояла шлюпка с курсантами, они ловили манекен. Сцену снимали трижды, и всякий раз из шлюпки долетали сердитые вопли: чучело было увесистым, ядро, хотя и деревянное, — крепким.
Теперь Гай смотрел на похоронный обряд спокойно. Прежняя печаль еле заметным осадком еще лежала на душе, но грустных мыслей не было. И Гай наконец разобрал последние строки песни:
После тысячи миль в ураганах и тьме На рассвете взойдут острова. Беззаботен и смел там мальчишечий смех, Там по плечи густая трава. Мы останемся жить навсегда-навсегда В этой лучшей из найденных стран. А пока среди туч нам сияет звезда — Та, которую выбрал секстан.«Опять про острова», — подумал Гай. В этих совпадениях с его собственной сказкой чудилась счастливая примета…
Пираты сдавали Косте оружие. Гаю довелось подержать две кривые сабли и пощелкать курками трех пистолетов. Девица-фотограф по имени Иза (то есть Изольда) сняла его одним из многочисленных аппаратов, когда он стоял с саблей под мышкой и «кольтами» навскидку. Обещала карточку.
Подошел одноглазый пират. Оказалось, что это и есть Витя Храпченко, утопивший толедский кинжал. Витя отцепил бороду, сдвинул на лоб повязку и сказал, что кинжал вот он. Витя его не топил, а только сделал вид. По просьбе курсантов. Они надеялись, что начальство разрешит понырять за пропажей, но старпом даже думать об этом запретил: глубина-то больше пятнадцати метров. Костя сказал, что за такие шуточки Вите следует «выставить глаз всерьез». Витя заржал…
День, словно спохватившись, что был длиннее всяких пределов, поспешно сменился вечером. Солнце светилось красной медью и быстро съезжало к сизой облачной полоске над морем у Константиновского равелина. С топотом выбегали и выстраивались курсанты. Когда солнце совсем утонуло в дымке, на военных кораблях негромко и слегка печально заиграли трубачи — сигнал «спуск флага». Красный флаг «Крузенштерна», хотя и без сигнала, тоже пополз с кормового флагштока. Гай торопливо встал прямо. Конечно, он стоял в стороне от курсантского строя, но флаг «Крузенштерна» был теперь немного и его флаг.
Гая окликнула Настя. Велела сдавать казенное имущество: башмаки и фуфайку. Гай с сожалением переоделся. А катер все не приходил. Небо стало совсем ночным. Круглая луна, которая недавно была почти незаметной и розовой от смущения, засияла, как прожектор. Палуба отливала желтым светом, рубки волшебно белели. От мачт и снастей падали четкие тени.
Гай вдохнул посвежевший воздух с запахом моря и корабля, с лунным светом, и на миг показалось, что все ему снится. Он подошел к Толику и Ревскому, которые беседовали у фальшборта. Толик молча притянул Гая к себе. Ревский сказал:
— Накладок сегодня кошмарное количество. Но с Гаем получилось здорово. Лучшие кадры.
Гай съежил плечи.
— Не надо эти кадры. Выключите их из картины…
— Да ты что! Зачем?
— Ну… — Гай ощутил, как опять царапнулись в горле слезинки. — Потому что это не так…
— Что не так, Гай? — осторожно спросил Ревский.
— Потому что… нечестно. Я не про этого капитана думал…
— Я понял, — мягко проговорил Ревский. — Конечно, ты думал не про эту куклу на носилках. Про что-то свое… Но ведь горе-то не бывает нечестным. Люди будут смотреть этот фильм, и, может, каждый вспомнит какую-то свою печаль. На то, брат ты мой, искусство и существует. Согласен?
— Не знаю, — вздохнул Гай.
Толик сказал:
— У меня, по правде говоря, тогда тоже в горле заскребло.
Гай поднял глаза: правда?
— Вспомнил, как в детстве про лейтенанта Головачева читал, — задумчиво объяснил Толик. — Как его хоронили на острове Святой Елены. А потом про Курганова…
— Ты о чем это? — спросил Шурик.
— А помнишь ту папку, с которой вы меня поймали? Ну, в первый день знакомства… Я тащил рукопись для перепечатки…
Толик стал рассказывать Ревскому то, что Гай уже знал (знал, а все равно интересно слушать). Гай стоял рядом, и ему было хорошо, только слегка покачивало на гудящих от усталости ногах. Вдруг заныл в ступне вчерашний ядовитый укол. Гай сбросил незашнурованный кед и поставил ногу на теплую черную тень на досках палубы. Боль угасла.
— …Такие вот совпадения: и тогда Крузенштерн, и сейчас. И снова встреча… — сказал Толик.
— Это хорошо, что снова, — тихо отозвался Ревский. — Это даже представить невозможно, как здорово… А то ведь…
— Да… А знаешь, Шурик, эта рукопись была для меня тогда не просто повесть. Она… ну, как бы часть жизни. Я все, что читал в ней, на себя прикидывал. И она помогла мне в те дни… Ну, после той истории, когда я сбежал от вас в походе… Как вспомню этот случай, тошно становится. До сих пор…
Шурик спрятал серьезность под шутливым полувопросом:
— Наверно, сейчас инженер-конструктор Нечаев уже не боится гроз…
Гай почувствовал невидимую в тени улыбку Толика.
— Да и ты, Шурка, не тот. Внешне все такой же, а характер… Посмотрел я, как ты тут командуешь, подумал: «Где тот мальчик в матроске?»
— В нашем деле иначе нельзя, пропадешь… Но мальчик во мне, внутри, — без улыбки сказал Ревский. — Я с ним иногда советуюсь, если трудно.
Подошел Женя Корнилов — тот паренек, что играл Грина.
— Почему это катера до сих пор нет? Потонул?
— Не ворчи, старик, — сказал Ревский. — Я заметил, что ты сегодня вообще не в ударе. Крупные планы придется переснимать. Не оставишь свою меланхолию — разжалуем в юнги. А в новые капитаны выберем вот его, — он хлопнул Гая по спине.
Женя ответил как-то излишне серьезно:
— Не выйдет. Его время еще не пришло. Сперва пришлось бы похоронить меня, а до этого далеко… Вон катер стучит…
До причала ГРЭС было ближе, чем до города, но ведь не станешь просить, чтобы ради двух пассажиров катер делал крюк почти в три мили.
Пришлось ехать с киногруппой до Графской пристани, а оттуда уже рейсовым инкерманским катером домой.
Толик и Гай сидели на корме. Гай почти спал, прислонившись к твердой спинке скамьи. Но когда опять проходили мимо «Крузенштерна», он подскочил и шагнул к борту.
Парусник, черный на фоне лунного неба, казался безлюдным и таинственным. Луна без остановки прокатилась через его четыре мачты и густой такелаж. Это был как бы еще один кадр в бесконечном фильме сегодняшнего дня. Гай вздохнул устало и благодарно.
Толик встал рядом.
— Все хорошо, Гай, да?
Гай кивнул. Толик сказал неуверенно:
— Немного обидно только, что не повидал я нынче одного человека… Ну, он знает, что сегодня я мог и не прийти.
— А эту… человека как зовут? — сонно пошутил Гай.
Толик молча взъерошил ему затылок.
— Зато ты с Шуриком своим повстречался, — сказал Гай.
— Это самое главное. Подарок судьбы… Мы и знали-то друг друга с ним недолго, одно лето, а вот осталось это на всю жизнь… А расстались тогда мы по-обидному, чуть до драки дело не дошло.
— Из-за чего?
— Не умели до конца стать друзьями. Третий мешал…
— Не умели, а говоришь «друг детства»…
— Сейчас-то ясно, что друг. И знаешь — будто камень у меня с души…
— По-моему, и у него, — сказал Гай.
— Наверно… Некоторые считают, что в детстве все будто игрушки. Беды, мол, ненастоящие, обиды пустяковые. И вообще будто детство — время несерьезное. Ты этим дуракам не верь.
Гай пожал плечами. Верить дуракам он не собирался. Как он мог считать несерьезной всю свою жизнь?
Пестрые дни
Следующие сутки показались Гаю длинными, как целое лето.
Утром Толик сказал:
— Мишель! Я сдаю тебя на поруки режиссеру Ревскому. Мы договорились вчера. Днем у меня совещание с моряками, а вечером…
— Личная жизнь.
— Именно. Я иду в театр и вернусь только ночью. Чтобы ты не изводился и не дрожал от страха в одиночестве, переночуешь у Шурика в гостинице.
Ликуя в душе, Гай все же яростно возмутился:
— Кто дрожит от страха в одиночестве? Да я за тебя боюсь, когда ты где-то болтаешься допоздна!
— За меня?! А что может случиться со мной?
— А со мной? Ты за меня все время трясешься, а я за тебя не должен?
— Ну… — сказал Толик потише. — Я уже большой мальчик.
— Думаешь, с большими никогда ничего не случается?
— Со мной ничего не случится, — пообещал Толик. — А ты на судне не болтайся в неположенных местах и старайся не мозолить глаза Станиславу Яновичу.
— Хм… — сказал Гай.
День Гай провел чудесно. Сначала он помогал чистить тонкие трехгранные шпаги оружейнику Косте и между делом щелкал курками мушкетов и пистолетов всех систем. Потом смотрел, как снимается эпизод «Спор о капитане». Дело в том, что на «Фелицате» после смерти старого капитана команда разделилась на две враждебные группы. Одна — со штурманом Дженнером, другая — с лейтенантом Реджем. Шел отчаянный спор: кого ставить новым капитаном. Казалось, дело вот-вот дойдет до ножей и пистолетов (они уже поблескивали в руках матросов). Но Женька (тот, что юный Грин и он же юнга Аян) бросил свой пистолет на палубу и заговорил — о том, что корабль один, путь в океане длинный, и если люди всерьез хотят бросить неверное и бесчестное пиратское ремесло и отыскать дальний желанный остров, надо не волками смотреть друг на друга, а помнить о морском товариществе. Иначе — лучше уж сразу спуститься в трюм и пробить в днище дыры.
В трюм никто не пошел, а смелого Аяна обе группы выбрали капитаном.
…Потом фотокорреспондент «Ленфильма» Иза попросила Гая помочь ей отпечатать снимки. Печатали в железной кладовке, где у стен лежали спасательные жилеты. Там стояла жара от горячего глянцевателя и от солнца, которое снаружи разогрело стену рубки. Но снимки были интересные — с разными сценами из фильма, с «Крузенштерном» на якоре, с картинками из корабельной жизни. Гай увидел и себя. Сначала — как он развлекается пистолетами, а затем — в шеренге с матросами, рядом с Толиком (слава Богу, еще до той минуты со слезами). А потом — на палубе, с громадным ломтем арбуза у рта. Иза сказала, что подберет Гаю на память целую пачку карточек. Благодарный Гай старался вовсю — выхватывал из воды мокрые фотографии и лихо накатывал их на горячую жесть глянцевателя. А Иза мурлыкала:
Вне цивилизации, Вне культурных зон Без жены, без рации Жил-был Робинзон. Не имея сведений О людских делах, Проживал безбедно он, Но однажды — ах!..Напевала Иза только этот куплет. Проявит снимок, со словом «ах» кинет его в фиксаж и начинает песенку снова. Гай наконец собрался спросить: что же случилось с простодушным Робинзоном? Но открылась дверь, и под негодующие Изины вопли о засвеченной бумаге Ревский сказал:
— Мон шер принц! Адмиральская гичка у трапа. Окажите честь своим участием в общем скромном обеде… Изольдушка, ты едешь с нами? Оревуар… — И нагнулся, уклоняясь от пущенного в него резинового валика.
Ну, это было зрелище! Чтобы не тратить время на переодевание, актеры поехали обедать прямо в пиратских костюмах. Бородатые, в косынках, в пестрых фуфайках и блузах. Да и те, кто сегодня в съемках не участвовал, выглядели не менее живописно. Гай шел между братьями Карповыми — Володей и Сашей. Оба еще совсем молодые, как Толик, но для съемок отрастили волосы до плеч и густые бороды — настоящие, не то что у Вити Храпченко. Карповы шли в мятых белых шортах и расписных рубахах, завязанных узлами на животе. Когда шагали от Графской пристани к ресторану-веранде «Волна» на Приморском бульваре, прохожие открывали рты, и Гай мучительно досадовал, что не попросил у Насти свою полосатую фуфайку.
Две седые интеллигентные старушки печально посмотрели на братьев Карповых, и одна внятно сказала:
— До чего дошло. Священнослужители, а одеты как дети малые. Срам…
— Вас приняли за дьяконов, — хихикнул Гай.
— Старая женщина недалека от истины, — солидно сказал Володя. — Мы почти что священнослужители. Жрецы искусства…
Второй «жрец» довольно погладил бороду.
После обеда Гай притерся к группе курсантов, которая на баке занималась с морскими инструментами. Сперва скромно стоял поодаль, но ему подмигнули, и он осмелел. Здесь Гай увидел наяву, что такое секстан, о котором он раньше читал в книжках и слышал во вчерашней песне. Молодой штурман-преподаватель и курсант Алик дали Гаю заглянуть в окуляр секстана, посмотреть на солнце. Сквозь коричневый фильтр солнце казалось вишневым шаром. Вдруг оно раскололось вдоль, и одна половинка поползла вниз: это Гай двинул рычаг с зеркалом — алидаду…
Потом Гай увидел капитана. Первый раз. Коренастый мужчина с седыми висками и коричневым лицом, в кремовой тужурке с орденскими планками, в тяжелой фуражке с золотыми листьями на козырьке прошел вдоль борта и спустился по трапу на катер. Проходя, он задержал взгляд на Гае, и тому захотелось, как вчера перед вахтенным штурманом, встать по стойке смирно.
Затем Гай встретил Станислава Яновича — когда с курсантами Аликом и Федей ходил в учебную рубку, чтобы посмотреть морские карты. Весело поздоровался.
— Осваиваешься? — спросил первый помощник.
— Так точно… Но, куда нельзя, я уже не суюсь, — с насмешливой скромностью сообщил Гай.
— Зато суешься, куда только можно. Так? — усмехнулся Станислав Янович.
…Вечером поужинали в «Волне» и пошли купаться на городской пляж — здесь же, на набережной. Были уже сумерки, стало прохладно, и вода оказалась гораздо теплее воздуха. Когда раздеваешься — зябко, а нырнешь — как в теплое молоко…
В гостинице Гая устроили на выпрошенной у горничных раскладушке, в номере, где жили Ревский и оператор по имени Сергей. Гай уснул стремительно, спал без всяких снов и утром поднялся только после ощутимых толчков Ревского.
К причалу они с Ревским пришли, когда вся группа была уже там. Ждали катер, который, естественно, запаздывал. Карбенев ходил к диспетчеру и ругался. Иза тренькала на гитаре. Гай опять хотел спросить о судьбе Робинзона, но почуял чей-то взгляд. Затылком ощутил. Обернулся.
Шагах в пяти от него, прислонившись к трубчатому поручню пирса, стояла девочка. У Гая затеплели уши — от радости, смущения и виноватости. Это была Ася.
Гай быстро подошел и потупился.
— Здравствуй…
Она тоже сказала «здравствуй». Тихонько.
— Ты здесь… чего? — осипнув от неловкости, глупо спросил Гай. — Так просто?
— Так просто. А ты позавчера… не поехал в город?
Гай со всей полнотой ощутил, какая он свинья. Ни позавчера, ни вчера, ни сегодня, закрученный корабельной радостной жизнью, он не вспомнил об Асе. То есть воспоминания мелькали, только без всякой связи с их разговором: «Вы каким катером приезжаете?» — «Обычно в восемь сорок пять…»
А разве это не договоренность о встрече была? Ася, конечно, и позавчера, и вчера приходила на пристань. А он…
— От меня ничего не зависело, — беспомощно пробормотал Гай. — Потому что так получилось. Я на «Крузенштерне»…
— Где?
Она совсем не сердилась. Только радовалась, что встретила его, и немного смущалась. Гай приободрился. Отодрал от облупленного уха лоскут кожи и объяснил, хмуро усмехаясь:
— В артисты записали. Вон к ним…
Он рассказал все, что случилось за эти два дня. И все в рассказе было правдой, только невольно получалось, что он, Гай, и рад был бы оказаться на берегу в нужное время, да не было никакой возможности. Впрочем, сейчас Гай верил в это сам.
— Ты счастливый, — вздохнула Ася. — Я всю жизнь у моря живу, а на паруснике никогда не была.
Гай решительно взял ее за руку и повел к Ревскому.
— Александр Яковлевич, это Ася.
— Вижу, — вздохнул Ревский, — что не Петя и не Гриша. Здравствуйте, мадемуазель…
Ася стояла перед ним тоненькая, прямая и серьезная.
Гай смотрел Ревскому в глаза.
— Я понял, — печально сказал Ревский. — Если я отвечу «нет», то что? Ты заявишь мне, что в таком случае и ты остаешься на берегу. Так?
— Ага! — весело согласился Гай.
— А я до четырнадцати ноль-ноль отвечаю за тебя головой и, естественно, оставить не могу. Пользуясь этим обстоятельством, ты меня вынуждаешь идти на уступки и зарабатывать себе новые неприятности. Это недостойный прием. Единственно, что тебя оправдывает, это некоторое благородство цели…
— Значит, можно?! — возликовал Гай.
— Но мадемуазель Ася должна иметь в виду, что обратный катер будет лишь в обед.
— Это ничего, — сказала Ася.
Когда шли на катере к барку, Гай успел рассказать Асе про «Летающих „П“», а затем о мореплавателе Крузенштерне, о рукописи Курганова и о капитан-лейтенанте Алабышеве. Наверно, не очень толково он рассказывал, сбивчиво, но Ася не перебивала. Гаю нравилось, как она слушает, и вообще он был счастлив, что случилась такая встреча и что они вместе едут на «Крузенштерн». С запоздалым испугом он думал, что могли ведь и не встретиться. Но испуг быстро проходил, и оставалось только радостное возбуждение. И он говорил, говорил — бестолково, но весело.
А Ревский, сидевший неподалеку, вдруг сказал:
— Прямо роман.
— Это вы о чем? — подозрительно спросил Гай.
— Это я о пропавшей рукописи. Вчера, когда Толик рассказывал, я как-то не особенно вник. А сейчас…
Полдня промелькнули в пестроте, солнце, суете съемок и путешествии по громадному барку. Гай смело «совался, куда только можно», и таскал за собой Асю. И везде их встречали по-хорошему. И он почти не выпускал Асину руку…
В половине второго киношно-пиратская компания погрузилась на катер и отправилась обедать. На пирсе Гай увидел Толика.
— Толик, это Ася… Ну, как погулял?
Толик щелкнул его по носу.
Подошел Ревский.
— Толик! Такое дело. Хочешь выступить в роли миротворца крупного масштаба?
— С Гаем поссорились? — испугался Толик.
— Бог с тобой! Дело в другом. Ты заметил, наверно, что наши отношения с моряками несколько шероховаты. А?
— Еще бы…
— Вообще-то моряков понять можно. График, рейсы, курсанты, а тут еще на их головы свалилось кино…
— Шурик, я-то при чем?
— Выступи перед курсантами с лекцией, а? Мы проведем это как мероприятие, организованное киногруппой. Умаслим Ауниньша, отвечающего за воспитательную работу…
— Шурик, ты рехнулся?
— Да нет, ты меня послушай…
— Вы — артисты. Почему вам самим не выступить?
— Да мы уже всем там глаза намозолили. А твоя лекция…
— О, Аллах! Какая моя лекция?
— О Крузенштерне, о той рукописи. Понимаешь, это связано с названием судна, с историей. Это для курсантов было бы самое подходящее… Толик! Две студии — «Молдова» и «Ленфильм» — поставят тебе на своей территории гипсовые бюсты.
— Иди ты…
— Мраморные… Бронзовые, черт побери!
— Шурик, ты за эти годы поглупел. Я тебе кто? Лектор общества «Знание»? Я понятия не имею, как выступают перед людьми!
Ревский наклонил набок курчавую голову.
— Он «не имеет»… На всяких симпозиумах выступать может, на конгрессе в Монако (знаю, знаю!) сумел. А здесь, видите ли…
— Там я о деле говорил. О своей работе. К тому же у меня текст был читаный-перечитаный и многократно утвержденный, если хочешь знать. Я готовился месяц!
— Здесь тоже подготовишься. У тебя целых два дня.
Лекция под грот-марселем
Вечер был темный, теплый и тихий. На барке, посреди бухты, слышно было, как трещат на берегу цикады.
На нижнем марса-рее второй грот-мачты распустили парус. Два прожектора уперлись в него широкими лучами. Марсель сделался похож на громадный киноэкран и отразил на палубу мягкий свет.
Между грот-мачтами, на верхней палубе, которую здесь называли спардеком, собралось человек сто пятьдесят. В основном курсанты, но были и актеры, и матросы, и штурманы. Большинство сели прямо на доски, кое-кто устроился на планшире ограждения, а иные — даже на спасательных шлюпках.
Ася и Гай примостились на поручнях, где начинался ходовой мостик. Рядом уселись Иза и Ревский. Толик вышел к нактоузу главного компаса. Перед этим он сказал Ревскому:
— Ну, Шурочка, втравил в историю… Я тебе припомню.
— Держитесь, юноша, — ответствовал Ревский. — Вспомните концерт в саду на Ямской. Там было страшнее.
— А что за концерт? — сунулся Гай.
— Будущий исследователь океанов читал там свои стихи.
— Про Крузенштерна?
— А! Ты знаешь… Ну вот, будем считать, что сейчас продолжение той же программы. — Шурик говорил шутливо, но, кажется, тоже волновался.
Выступление начал не Толик, а Станислав Янович:
— Товарищи, я хочу представить нашего гостя. Это инженер-конструктор Анатолий Сергеевич Нечаев. Кандидат технических наук. Специалист по аппаратам для глубоководных исследований. Он здесь, в этом городе, в связи с испытаниями новой техники… Анатолий Сергеевич — руководитель группы, которая ведет испытания. Как мне объясняли… — Ауниньш глянул на Толика, — в научном мире такое явление — почти уникальное. Это все равно что вы видели бы перед собой тридцатилетнего адмирала… — Он заметил движение Толика и торопливо сказал: — Но речь не об этом. О своей работе Анатолий Сергеевич расскажет в другой раз. Сегодня мы попросили товарища Нечаева рассказать о Крузенштерне. О знаменитом адмирале, чье имя носит наше учебно-парусное судно. Анатолий Сергеевич с детства интересовался биографией мореплавателя и знает много интересного… — Толик опять сделал нетерпеливое движение, и Ауниньш быстро закончил: — Впрочем, слово нашему гостю!
Все зааплодировали, и Толик, съежив плечи, дождался, когда стихнут хлопки. Потом кашлянул и сказал негромко:
— Тут определенная путаница…
— Погромче, пожалуйста! — сразу крикнули с дальней шлюпки.
Толик оглядел всех, кто сидел близко и поодаль. И вдруг заговорил уже иначе — звучно и слегка сердито:
— Видимо, придется начать с разбора путаницы!.. Станислав Янович сравнил меня с адмиралом. Это не так. Если сравнивать научные чины с военными, должность моя не больше, чем капитанская. И далеко не первого ранга… Впрочем, Иван Федорович Крузенштерн, когда совершал кругосветное плавание, тоже был не адмиралом, а капитан-лейтенантом… Нет, я это не для сравнения говорю, а так, для связи, что ли. Чтобы перейти к Крузенштерну…
Но тут опять недоразумение. Получилось, что я вроде бы какой-то исследователь биографии мореплавателя. Ничего подобного. Конечно, я интересовался, читал, но многого не знаю до сих пор… Вот, например, известно, что Крузенштерн, когда его назначили начальником экспедиции, вовсе этому не радовался. Потому что недавно женился и жена ждала ребенка. Про это во многих книжках написано. А дальше о его семейных делах — никаких сведений… Неожиданно наткнулся я у Жюля Верна: он в своем трехтомном труде «Открытие земли» описывает плавание Отто Коцебу на шлюпе «Предприятие» и сообщает, что с ним шел старший сын Крузенштерна. Откопал я эту книгу (она почти полтора века назад выпущена), в ней список участников экспедиции, но никакого Крузенштерна в списке нет. Есть Головнин — видимо, сын другого знаменитого капитана. Скорее всего, Жюль Верн перепутал…
Да, но, кажется, я начал не с того. Начать, пожалуй, надо с города. С Севастополя… У меня с Севастополем связано в жизни очень многое. В августе сорок второго здесь погиб мой отец, ротный политрук Нечаев. Приморская армия тогда из последних сил отбивалась от немцев на Херсонесском полуострове. Рота должна была идти в контратаку, в это время в одном взводе убило командира. Говорят, командир роты попросил политрука заменить взводного. Ну, отец побежал к тому взводу через открытую площадку, а ему под ноги — мина… Вот такая история. Обычная для той войны и для Севастопольской обороны…
Толик замолчал, было слышно, как дышат люди, жужжат прожекторы и стучит движок рейсового катера. Толик сказал:
— Конечно, отец мог погибнуть и в другом месте, война есть война. Но такая уж судьба. А потом пришлось приехать сюда мне… Но меня привязала к Севастополю не только память об отце и работа. Еще и Крузенштерн, хотя он никогда не бывал здесь. То есть не сам Крузенштерн, а повесть о нем… В общем, так. В сорок восьмом году в городке Новотуринске жил-был человек…
И дальше Толик стал рассказывать то, что Гай уже знал: о Курганове, о Российско-Американской компании, о Крузенштерне и Резанове. О Головачеве. Об истории с машинкой. Гай слушал уже не очень внимательно. То есть слушал, но и кругом смотрел — вбирал в себя этот вечер: смутно-черные громады мачт, уходящие к звездам; огоньки на берегах; светящиеся складки грот-марселя; доносящееся с мыса Голландия цвирканье цикад, ровные шумы рейда, запах морской соли и палубных досок. Дыхание Аси… И голос Толика был частью этого всего.
Гай встряхнулся и стал слушать внимательней, когда из заднего ряда сидящих поднялся высокий курсант.
— Скажите, — ломким и дерзким голосом начал он, — а зачем все это надо было писать? Про историю с Головачевым, про ссоры? Какое это имеет значение?
— Значение — для кого? — напряженно спросил Толик.
— Вообще! Для всех нас! Мы знаем, что Крузенштерн и Лисянский обошли вокруг света, первые из русских. Это важно. А не все ли равно, что там у них было, какие подробности жизни?
Гай опять услышал в тишине жужжанье прожекторов.
Толик отчетливо и неторопливо сказал:
— Иногда бывает невозможно на один короткий вопрос дать столь же лаконичный и однозначный ответ…
— Ага! Одному дураку иногда сто мудрецов не ответят! — донесся со шлюпки веселый, совсем мальчишечий голос.
— Нет, — сказал Толик, — я не хотел никого обидеть. Вопрос действительно сложный… Зачем об этом писать?.. Зачем нам вообще детали прошлой жизни? Сразу и не скажешь. Ну, наверно, для того, чтобы знать всю правду. Чтобы знать не только что было, но и как было. Какой ценой, какими путями… Наверно, для того, чтобы ошибок не повторять… Вот про последнюю войну сколько книг написано? Наверно, тысячи. Вся ли правда в этих книгах? Я помню, мы еще студентами об этом спорили. Одни кричат: «Зачем писать об ошибках? Главное, что победили, до рейхстага дошли, этим все сказано!» А другие: «А сколько времени шли! А сколько миллионов полегло! Почему сперва „шли“ до Москвы, а потом уже обратно? А если снова начнется, опять, что ли, так же будем?! Кто виноват?..» Вот и здесь, в Севастополе… Тут про каждого человека, который дрался, можно, наверно, книгу писать. Каждый был героем. Но разве не лучше было бы, если бы этих героев больше осталось в живых? Когда фашисты прижали их к Херсонесским обрывам, сколько погибло потому, что не продуман был план эвакуации?.. Не кашляйте, Станислав Янович, это грустные факты, но это факты, и ребята должны их тоже знать…
— Я кашляю не из-за грустных фактов и считаю, что вы все говорите правильно, — отозвался первый помощник. — Но меня беспокоит курсант Коровин, который вон там, сзади, тянет руку. Курсант Коровин имеет привычку задавать вопросы с единственной целью — поставить говорящего в тупик и развлечь слушателей.
— Ничего, пусть спрашивает! — запальчиво разрешил Толик.
— Я никого не хочу развлекать, — сообщил Коровин унылым баском. — У меня серьезный вопрос. О Головачеве. Чего его дернуло стреляться-то? Наверно, у него любимой девушки не было…
По слушателям побежали смешки. Но Коровин повысил голос:
— Чего сразу «ха-ха»? Ждала бы любовь его на берегу, он бы прежде всего про нее думал, а не хватался бы за пистолет. Ну, подумаешь, с офицерами у него нелады пошли! Ну, Резанов его забыл! А больше, что ли, никого у него на свете не было?
Смешки опять пробежали и сразу угасли. Толик сказал:
— Смешного ничего нет. Курсант Коровин прав…
— У него опыт! — выкрикнул кто-то, и послышалась короткая возня. Зашикали.
— Ну и хорошо, что опыт, — усмехнулся Толик. — А была ли у лейтенанта Головачева любимая девушка, я не знаю. И, наверно, никто на свете сейчас не знает… Но если даже не было девушки, были родители, братья. Они — тоже любимые люди, родные. И думать о них Головачев был обязан… Видимо, у Головачева беда вытеснила из души все остальное — в этом его вина… Но Арсений Викторович Курганов писал свою повесть не для того, чтобы на ком-то поставить штамп: «Виноват». Он, по-моему, просто хотел разобраться и понять…
— Значит, он и Резанова не обвинял? — послышался вопрос.
— Он вовсе не показывал его злодеем… Наверно, если бы Резанов предвидел гибель Головачева, он бы ужаснулся. Наверно, сделал бы все, чтобы его спасти…
Поднялся кто-то из артистов (Гай не знал его имени).
— Анатолий Сергеевич! А вы уверены, что лейтенант Головачев покончил с собой, потому что его бросил Резанов?
Толик помолчал.
— Я-то уверен, — сказал он медленно. — Когда я читал повесть, я был в этом убежден… Другое дело, что я не смог пересказать вам ее убедительно. Это моя вина, а не Курганова.
— Ну, допустим, это было написано убедительно, — возразил актер. — Но так ли это было на самом деле? Может быть, это лишь точка зрения автора?
— Ну… возможно… — Толик, кажется, пожал плечами. — Тут уж, видимо, законы искусства действуют, вы в них больше разбираетесь… Например, историки говорят, что Сальери вовсе не травил Моцарта. Но Пушкин написал, и миллионы людей это приняли за истину…
— А какое право он имел зря на человека писать? — раздался звонкий голос.
— Это уж вы Пушкина спросите, — ответил Толик довольно резко. Потом объяснил помягче, словно извиняясь: — Он же не сам все это придумал, отталкивался от какой-то версии, легенды… Пушкину главное было показать, что зависть и злодейство с гением несовместны… Так, кажется, эту трагедию объясняют?.. А Курганов, по-моему, хотел в случае с Резановым и Головачевым показать, как губительно равнодушие. И как равнодушие переходит в измену… И должен сказать, что линия отношений Головачева и Резанова, как она была описана у Курганова, кажется мне убедительной с исторической точки зрения. Например, эпизод с бюстом строго документален. Головачев действительно заказал свой бюст у резчика-китайца и завещал этот деревянный портрет Резанову. «Бюст мой старшему по чину принадлежит». Тут и прощание, и упрек, и намек на то, что он, Головачев, именно Резанова, а не Крузенштерна считал начальником экспедиции и потому теперь пьет свою горькую чашу… Конечно, с этой версией можно спорить. Но она, по крайней мере, больше подтверждена свидетелями, чем история Сальери и Моцарта у Пушкина…
— Но Курганов — это все-таки не Пушкин, — сказали из толпы. Без насмешки, даже сочувственно.
— Разумеется, — согласился Толик. — И вообще, я сейчас не могу судить, какой был литературный талант у Арсения Викторовича. Я был мальчишкой. Но тогда повесть меня захватила. И это несмотря на то, что не так уж много в ней было приключений… Я, можно сказать, жил внутри этой повести, в ее мире. И она меня в трудные минуты многому учила… Вот, кстати, еще один ответ на вопрос «зачем все это писать». Связь с людьми ощущается — с теми, кто жил раньше. Начинаешь понимать, что твоя жизнь — это частичка общей жизни — тех, кто был до тебя, и тех, кто будет после… Конечно, это я сейчас так связно излагаю. А может, и бессвязно… А тогда не излагал, а просто чувствовал. И жил этим.
«У него тоже был свой остров», — подумал Гай.
— …Гай, а куда потом девался бюст Головачева? — прошептала Ася.
— Не знаю. Толик не говорил.
А Толик в это время продолжал:
— Сейчас можно только гадать, что было бы с повестью Курганова, если бы ее напечатали. Может быть, она осталась бы незамеченной, так с тысячами книг бывает… Но я думаю, что кто-нибудь эту книгу все равно прочитал бы. И уверен, что хоть кого-то она научила бы чему-то хорошему, как меня… Но этого не случилось. От повести остался только эпилог…
— Вы же сказали, что он пропал вместе с машинкой! — раздался знакомый мальчишечий голос.
— Пропал… Но ведь я сам перепечатывал его, а потом, после смерти Курганова, много раз перечитывал. Я помнил его почти слово в слово. И когда машинка исчезла, я сел и записал его в тетрадку… Я и сейчас его помню почти наизусть.
— Прочитайте! — сказали сразу несколько голосов.
— Хорошо. Если есть у вас терпение на полчаса, я прочитаю… Повесть «Острова в океане» читали всего три человека: моя мама, я и редактор в издательстве — тот, который ее забраковал. Мне его не хочется принимать в расчет… Вчера мой племянник — вы его многие тут знаете — мне сказал: «Ты мне расскажи эту историю, и получится, что появился еще один читатель…» Судьба была несправедлива к Арсению Викторовичу Курганову. Я хочу хоть на самую малость исправить эту несправедливость. Пусть у автора «Островов» появится полторы сотни читателей. Ну, не читателей, а слушателей, и не всей повести, а только эпилога, но все-таки… Тем более что действие эпилога происходит как раз здесь, в Севастополе…
Толик помолчал секунды три и заговорил ровно и ясно, будто читая по бумаге:
— «Конец тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года в Крыму был необычным…»
Когда шли на катере к городу, Ревский сказал:
— Толик, исправь еще одну несправедливость судьбы.
— Ну? — подозрительно отозвался Толик.
— Еще не поздно. Плюнь на свои подводные дела и иди в артисты. Так держать внимание аудитории может лишь истинный талант.
— Надо поразмыслить… Нет, у вас зарплата маленькая. А я, чего доброго, жениться надумаю…
— К тому идет, — подал голос Гай.
— Что — зарплата! Звание заслуженного получишь — прибавят. Зато — искусство.
— Нет уж… Мне хватит сегодняшнего выступления.
— Какой талант гибнет, — скорбно сказал Ревский.
— Пускай за меня Гай отдувается перед киношной музой… Кстати, когда съемка? Ему двадцать восьмого домой…
— Скоро, скоро съемка.
Они сидели в тесном кормовом салоне катера: Ревский рядом с Толиком, а Гай и Ася — напротив. Желтый свет плафона и равномерный стук движка нагоняли дремоту. Но Гай встряхнулся, чтобы упрекнуть Толика:
— А мне ничего не говорил, что помнишь наизусть эпилог.
— Конечно. Ты бы тут же и начал: рассказывай, мол…
— Анатолий Сергеевич, — вдруг спросила Ася, — а что стало с бюстом Головачева? Не знаете?
— Не знаю. К Резанову он явно не попал… Скорее всего, передали родственникам.
— Родственники — они ведь тоже моряки были?
— Братья — да… А что?
— Я подумала… Может, они этот бюст с собой на кораблях возили и в Севастополь завезли?.. У одной нашей знакомой есть деревянный бюст офицера. Старый такой…
Гая словно током прошило:
— Правда?!
— Ну-ну, — сказал Толик. — Сейчас нашему Гаю взбредет масса фантазий… А впрочем… Ася, а что это за знакомая?
— Старая уже, баба Ксана ее зовут. Она всю жизнь в Севастополе прожила, и бюст этот у нее, кажется, еще до войны был… Но я точно не знаю. Мы с дедушкой к ним как-то заходили, он дяде Алеше помогал мотор чинить, а я так… Ну и увидела в комнате у бабы Ксаны…
— А ты можешь узнать все точно? — дернулся Гай.
— Я попробую… А если хочешь, вместе сходим.
— Завтра!.. А может, сегодня не поздно?
— Дитя спятило, — сказал Толик. — Двенадцатый час ночи… Кстати, Ася, тебе не влетит за позднее возвращение?
— Мне-то? — тихонько засмеялась Ася. — Не от кого. Мама в Симферополе, дедушка с Котькой спят, я им сказала, что поздно вернусь… Да за меня вообще никогда не волнуются, говорят, что самостоятельная.
— Мне бы такое демократичное детство, — заметил Ревский.
— Но самостоятельного товарища мы все же проводим до дома, — решил Толик.
— Да не надо, мне совсем недалеко. На троллейбусе до рынка, а там по лестнице — и дом почти рядом.
— Вот и поглядим, где живешь, — бодро сказал Гай.
— Вам же еще на ГРЭС ехать… И зачем вы в такую даль забрались?
— Так получилось, — виновато сказал Толик. Он вроде бы робел перед этой девочкой. — Сперва — обстоятельства, потом не до того было, чтобы квартиру менять.
Ася посмотрела на Гая, на Толика.
— Знаете что? У нас соседка комнату приезжим сдает. Катерина Степановна. Гай, помнишь, та контролерша, что нас в аквариум пустила? У нее всем нравится… Спросить? Она и постирать, и приготовить может, если надо…
Гай обрадованно поглядел на Толика.
Но Ася вдруг огорчилась:
— Хотя у вас там бесплатно, а она по рублю с человека берет…
— Да Бог с ними, с рублями, — торопливо сказал Толик. — Зато на катерах не мотаться. Мне эти челночные рейсы уже во как поперек горла… А это, значит, недалеко от центра?
— Конечно. Артиллерийская слободка…
Третья часть Артиллерийская слободка
Севастопольцы
Ночью стало прохладно. Гай, спавший у открытого окна, кутался в простыню с головой. Проснулся он рано. Утро было серенькое, пахло дождем. Гай босиком вышел на влажное дощатое крыльцо. Воздух во дворе, сплошь укрытом сырыми виноградными листьями, казался зеленоватым. Гай с удовольствием потянулся и вздохнул. Он понял, как утомила его многодневная жара и какая это хорошая штука — дождик.
Двор был полон нехитрой дождевой музыкой. Капли рассыпчато щелкали в листьях и шуршали в них. Где-то звучало равномерное жестяное «дон-дон-дон». А время от времени: «бом-дзинь-зинь-зинннь…» — это с большого виноградного листа срывалась на перевернутое корыто накопившаяся вода…
Из раскрытого окна кухни долетало звяканье ложки о стакан — тоже вплеталось в мелодию дождя.
Потом в окно выглянула хозяйка:
— Мишенька! Встал уже?.. Я вам чайник горячий в телогрейку заверну, оставлю на табурете. А заварка на столе.
— Ага! Спасибо, Катерина Степановна…
Они приехали сюда вчера. На эту старую одноэтажную улицу Гусева, в дом, словно наспех составленный из больших белых кубов, крытых оранжевыми лотками черепицы. В заросшем дворе висел на каменной побеленной стенке эмалированный рукомойник, а в фанерном курятнике обитало семейство хохлаток с мирным, приветливым петухом.
Катерина Степановна оказалась доброй, хотя и немного шумной теткой. Сказала, что с постояльцев она будет брать по рублю за сутки («как везде») и что днем «живите как знаете, а уж вечером буду кормить вас сама, а то оба вон до чего тощие, шпангоуты сквозь обшивку торчат». Сравнив ребра со шпангоутами, Катерина Степановна выдала свою принадлежность к флоту. Оказалось, что в прежние годы, «пока не знала, с какой стороны сердце», ходила она судовым поваром на сейнерах. А теперь у нее уже младшая дочь замужем, внук есть, да и с хозяйством полно забот — вот и осела Катерина Степановна на берегу.
— От мужика какая польза? С утра до вечера в своих мастерских. А как придет, все одно: пузо в потолок да разговоры про иностранную политику да про космос…
Потом она по-свойски отругала Толика за то, что «запустил ребенка», в тазу с горячей водой вымыла Гаю голову с пропыленными и слипшимися от соли волосами, забрала в стирку белье и дала новым жильцам две тарелки вареников с творогом.
Толик сказал, сглотнув последний вареник:
— Об одном жалею: что не поселились здесь сразу.
— Ага, — согласился Гай. Но тут же сообразил: тогда не ходил бы он на катере по всей Северной бухте, не увидел бы вблизи столько разных кораблей. И, скорее всего, не попал на «Крузенштерн». Все это Гай изложил Толику и добавил: — И ты со своим Шуриком не встретился бы.
— Значит, все к лучшему, — заключил Толик. — Не будем роптать на судьбу.
После завтрака Толик сказал:
— Надолго не исчезай. Я наведаюсь в лабораторию и скоро вернусь. Поедем на Северную…
Гай кивнул и снова выскочил во двор. Забрался на шаткий курятник (хохлатки заволновались). Лег животом на плоский верх каменного забора, глянул в Асин двор. Ася стояла уже у калитки. Держала за руку братишку: четырехлетнего смирного Костика, которого надо было отвести в детский сад.
Гай тихонько свистнул и помахал рукой. Ася улыбнулась:
— Ну что, идем?
И они пошли по низким белым улицам, мимо крытых черепицей, беспорядочно слепленных домиков и каменных изгородей с тесными калитками, по стертым ракушечным лесенкам, кремнистым тропинкам и площадкам, где среди голой земли островками возвышались густые кусты с пушистыми бордовыми шариками и высокая трава с желтыми соцветиями. У калиток распускали перья растения, похожие на маленькие пальмы. Над заборами, на крышах сараев горбились темные перевернутые лодки. С веселым повизгиванием крутились на шестах деревянные вертушки…
Дождик уже кончился, проглядывало солнце, мокрые камни быстро высыхали. Пахло теплой травой и морем…
Костик, знавший дорогу, резво шагал впереди. Ася и Гай — бок о бок. Гай вертел головой.
— Пошли, пошли, — сказала Ася. — А то Котька в садик опоздает.
Гай сказал:
— Ну почему ты не хочешь пойти со мной к этой бабе Ксане?
— Я же тебе объяснила: она при знакомых стесняется разговаривать. Память слабая у нее, вот она и боится, что будет повторять то, что много раз говорила. Понимаешь, ей кажется, будто про нее подумают: «Совсем старая, ум потеряла…»
— А с чего ты взяла, что мне она все расскажет?
— Вот увидишь.
— Лучше бы все-таки с тобой, — вздохнул Гай.
Ася покачала головой:
— И кто это придумал, что мальчишки смелее девочек?
— Смелее, — вдруг обернулся Костик. — У нас в садике, когда уколы, девочки все визжат. А мальчики — нет.
— А у нас в классе наоборот, — сказала Ася.
По каменному спуску они вышли на улочку с солидным названием 8 Марта. У двухоконного маленького дома, перед которым дремали в палисаднике рыжие георгины, Ася сказала:
— Здесь. — И толкнула зеленую калитку.
По двору — от сарайчика к дому — неспешно шла старуха.
Гай раньше думал, что такие старухи бывают лишь на картинках и в кино. Высокая, сутулая, с жилистыми руками и худым коричневым лицом. С отполированным ладонями узловатым посохом.
— Баба Ксана, здрасте! До вас мальчик пришел! — громко сообщила Ася. Подтолкнула Гая: — Иди… — И закрыла за ним калитку. Вот и все. Не убегать же…
Старуха глянула на Гая темно-синими глазами, утонувшими в тени глубоких впадин.
— Здрасте… — потерянно выдохнул Гай.
Баба Ксана вдруг заулыбалась, показав редкие желтые зубы. И стала словно меньше ростом.
— Здравствуй. Ты до Сергийки? Та он же уехал в Феодосию с мамой. Теперь он к самой школе только и вернется…
— Нет, я к вам, — все еще робея, сказал Гай.
— Ох ты, лышенько, — встревожилась старуха. — А я и не чуяла, что с утра будут гости… Та заходи же, дитятко, шо у тебе за дило до старой бабки? — Она говорила с мягкой примесью украинского языка и одесского акцента. Этот ласковый говор Гай слышал уже на рынке у пожилых теток.
Бодро стукая посохом и улыбчиво оглядываясь, баба Ксана пошла к двери. Там пропустила Гая перед собой.
Они оказались в кухне с побеленной плитой, со связками лука и трав на стенах, с грудой помидоров на подоконнике. Баба Ксана села у непокрытого стола, оперлась о посох.
— Сидай, дитятко. Та говори, я послухаю…
Гай присел на высокий табурет. Подумал: с чего бы начать? Не придумал, решительно качнул ногой и выдал напрямик:
— А правда, что у вас есть деревянный бюст?
Баба Ксана смотрела с лаской и непониманием. Гаю вдруг показалось, что она может не знать такого слова — «бюст». Вдруг здесь это как-то по-другому называется?
— Ну, вроде портрета такого, из дерева.
Баба Ксана покивала:
— Я чую… Та я же говорила вашей вожатой и хлопчикам тем говорила: не могу я его в музей… Вот уж помру, тогда ладно. А пока я живая, он уж со мной…
— Да я не для музея! — испуганно сказал Гай. — Что вы! Я просто узнать… Я даже не из здешней школы.
Баба Ксана молча улыбалась. Будто опять не понимала.
— Это старинная история, — начал объяснять Гай без уверенности, что баба Ксана уловит суть. — Давным-давно один офицер плавал вокруг света и заказал себе такой бюст… такой портрет за границей. Ему китаец его вырезал. А потом этот бюст неизвестно куда девался… Вот я и подумал, что вдруг…
Он увидел, что баба Ксана мелко смеется и покачивает головой:
— Та ни, дитятко… Его не китаец зробыл, а Маркуша Вайнштейн. Хлопчик такой жил тут. С Гришенькой моим были дружки… Гришенька-то постарше был, а тот зовсим невылычкий, а все вместе они с Гришею… Рисовал карандашиком да красками. Похоже так: море, да берег, да хаты наши. А еще ножиком резал с дерева игрушки всякие да куколок… А потом говорит: «Тетечка Ксана, я кусок дерева нашел, теперь такого героя зроблю…»
Она замолчала, передохнула.
— Какого героя? — шепотом спросил Гай.
— А пойдем, покажу…
Баба Ксана тяжело встала. Следом за ней Гай вошел в тесную, с двумя оконцами белую комнату. Мельком увидел на стенах блеклые фотографии под стеклами. На узкой черной кровати спала серо-полосатая кошка.
С комода, уставленного коробочками, аптечными пузырьками и узкими стеклянными вазами с пучками ковыля, баба Ксана взяла небольшой, высотой сантиметров пятнадцать, бюст.
Это было уверенно вырезанное изображение молодого офицера в мундире с маленькими эполетами. Офицер слегка насупленно смотрел из-под сведенных бровей. У него были твердые скулы, крупный нос, широкие губы — пухлые, но сжатые упрямо. Что-то знакомое почудилось Гаю. Попробовал вспомнить, не смог…
Дерево оказалось серо-коричневым, старым, кое-где в трещинках. А одна трещина была большая, шла через грудь от нижнего среза до ворота. Местами бюст покрывали похожие на лишаи темные пятна. Левое плечо с эполетом почернело. Гай понял, что когда-то оно обуглилось, а потом его оттирали, но полностью отчистить не смогли.
— Посмотри, посмотри, — вздохнула баба Ксана.
Гай осторожно покачал увесистый бюст в ладонях, вглядываясь в строгое лицо. Потом поставил на край комода. Но продолжал смотреть…
— А ты сядь, — сказала баба Ксана. — Сядь, я тебя инжиром угощу. Вот я зáраз…
Она ушла. Гай оглянулся, стульев не было. Он осторожно сел на край кровати под черным одеялом. Погладил кошку. Она, не просыпаясь, муркнула.
Баба Ксана вернулась без посоха — в одной руке табурет, в другой тарелка с какими-то лиловыми не то ягодами, не то лепешками, обсыпанными крупой. Поставила тарелку на табурет.
— Кушай, дитятко…
— Это что? — неуверенно сказал Гай.
— Та инжир же. Разве не пробовал?
— Не… У нас не растет. — Гай сунул мягкую инжирину в рот. Она была сладкой, как мармелад, зернышки похрустывали. Гай жевал, но по-прежнему смотрел на бюст. — Баба Ксана, а он кто?
Она села на другом конце кровати.
— Не помню, дитятко… Севастопольский он… Маркуша говорил, что герой. Еще с той обороны, при адмирале Нахимове… Маркуша его с картинки делал, положит картинку на лавочку, а сам сидит рядом и быстро так ножиком… А после и говорит Гришеньке моему… «Я, — говорит, — не с портрета, а с тебя, Гриша, его делать буду, вы похожие, а у тебя лицо даже лучше, живое оно…» Я побачила, а он и правда похож…
Гай увидел, что баба Ксана тихонько раскачивается и на него не глядит, смотрит лишь на бюст. О Гае она словно забыла.
— А как ночью забомбили, да как потом сказали, что германцы на нас идуть, Сашко, старший мой, сразу ушел. Иванко, брат мой, сразу ушел… А Гришеньку сперва не брали, годков было мало, только школу кончил. Я говорю: ну и добре. Отца-то давно не было, еще в тридцать пятом помер. Гришеньке говорю: хоть ты с нами будешь… А он все одно: пойду и я… Ну и пийшов с комсомольцами, як вороги до городу подступыли…
Баба Ксана говорила все тише, и украинские слова мешались с русскими все чаще.
— Любушка, жинка Сашкова, с внучком моим Олесем уихалы на Большую землю, на «Ташкенте» их увезли прямо с-под огня. У меня полгоря с плеч… Маркуша с мамой своей уихав. Мама его все боялась, что нимцы прийдут, они евреев-то всех под корень губыли… А Маркуша не хотел, говорил: воевать пойду… А куда же воевать, он Гришеньки на три года младше был… Ну, уихалы, та и сгинули. Пароход их разбомбили… От Сашкá одно письмо было с-под Одессы, а потом сюда же он вернулся с Приморской армией, повидались еще, а потом его у Фиолента убило… А где Гришенька мий косточки сложив, нихто мене не оповидае…
Гай положил на край тарелки надкушенную лепешку инжира и не дышал. Тихое горе расходилось от бабы Ксаны, как круги по темной воде…
— А як нимцы ворвалысь да стали наших хватать, на мене хто-то и донес, що актывистка… А яка я актывистка була? Щели рыла, молоко носыла у госпиталь, робыла, що могла, як уси люди… Ну, взяли мене, и в лагерь. Надывылась горюшка… В Унгарии була, в Романештии була та в самой Германии лютой… А потом прийшлы наши, да такое щастье — серед командиров один севастопольский, с Иванком, братом моим, до войны работал. «Оксана Ондриевна, да то ж вы!» И сразу мене дорогу домой схлопоталы, спасибо добрым людям…
Гай понимал, что баба Ксана в мыслях сейчас далеко-далеко, в другом времени. Она все качалась тихонько, глядела то ли на бюст, то ли на что-то давнее, Гаю неведомое…
— А дома что? Камни одни, полхаты погорело… Стали строить… Иван вернулся, хоть без ноги, да с руками, все же работник… Любушка с Олесем вернулись. Да она скоро подорвалась на снаряде, когда развалины разбирали на Корабельной… Олесь тогда остался такой, як Сергийко сейчас. Сергийко-то сынок его, правнучек мой… Олесь хоть и малый был, а помощник. Мы с ним камни до хаты на тачке возили. Подберем, где получше да поближе, и везем… Мне тогда уже шестой десяток шел, да и хворая была после плену, да все ж не такая… Я бы и зараз робыла еще, у меня бабка до восьми десятков сама воду из крыницы носила, а мене того меньше. Та согнула мене война раньше сроку… А хату все ж достроила… Один раз камни подбирала неподалеку, где Вайншейнов двор был, гляжу, а он лежит под черепицей… — Баба Ксана неожиданно быстро поднялась, шагнула к комоду. Коричневую, перевитую шнурами вен руку положила рядом с бюстом на вязаную салфетку. Пальцем коснулась обугленного эполета. — Пролежал столько, ничего. Земля у нас сухая… Увидала я, да и себя не помню от слез… Карточек-то Гришиных не осталось, все сгорели, а тут он будто сам на меня глянул… Ой, лышенько, не дождалась я тебя, ридный мий…
Баба Ксана вдруг глянула на Гая синими влажными глазами из коричневых впадин. Сказала тихо, но ясно:
— Не дам я его никому. Шо мне все говорят: герой, герой? Он мне Гришенька мой… Глазыньки его на эту головку глядели, рученьки его ее трогали… — Темные пальцы бабы Ксаны дрожали и суетливо гладили обожженное плечо и деревянные пряди прически. Голос ее угасал, переходил в бормотанье: — Не помню я ничóго, сожгли память вороги лютые. Гришеньку помню… Ой, лышенько, як же на свете жить можно после того… Ой, лышенько, не приведи Господи людям такого… Рученьки его головку эту трогали… Гришеньки… его…
Она замолчала, глядя мимо Гая.
— Я пойду… — шепотом сказал он и встал.
Сказать «до свиданья» или «спасибо» не решился.
Когда Гай вернулся, Аси дома еще не было: наверно, пошла на рынок. Пришел Толик. И отправились они вдвоем на песчаный пляж Учкуевку, где давно собирались побывать.
Сначала — катером на Северную сторону, потом автобусом до «Катькиной версты» — каменного столба, что поставлен в давние времена в память побывавшей в Крыму Екатерины Второй. Затем — пешком, к распахнувшемуся за посадками кипарисов морю.
Пока ехали, Гай молчал. Ответит одним словом на какой-нибудь вопрос Толика, и опять будто на замок заперся.
— Да что с тобой? — не выдержал Толик. — С Асей, что ли, поссорились?
— Ну вот еще… Просто думаю.
И когда шли от остановки до Укчуевских обрывов, Гай сумрачно рассказал про бабу Ксану. Про бюст с обгорелым плечом.
— Да… — проговорил Толик. — Вот тебе и бюст лейтенанта Головачева…
Гай глянул удивленно и досадливо: при чем тут Головачев?
Толик вдруг сказал:
— Я знаю, про что ты подумал. Головачев, мол, это прежнее время, о нем печалиться нечего, а здесь живая баба Ксана горюет… Да только горе — это все равно горе. Если матери Головачева бюст отдали, думаешь, ей легче было, чем бабе Ксане?
Гай от неловкости, что Толик угадал его мысли, буркнул:
— Гриша на войне погиб. А Головачеву кто велел стреляться?
— Трудно сказать. Может быть, честь велела, а может быть, тоски не выдержал… Война — это ведь не только когда бомбы кругом. Иногда человек так воюет, что другим и незаметно. Бывает, что сам с собой…
«Бывает…» — вздохнул про себя Гай.
Толик вдруг спросил:
— А ты не сказал, что дедушка под Севастополем погиб?
Гай помотал головой. Толик все-таки чего-то не понимал. Он не видел бабы Ксаны… Дедушка погиб, это верно. Однако Гай дедушку не знал и горя, по правде говоря, не чувствовал. Гордость была, это да. Но ни разу не схватывало горло так, как при рассказе бабы Ксаны… «Рученьки его головку эту трогали…» Если бы Гай там начал говорить про дедушку, получилось бы, что он хочет как-то и себя причислить к севастопольцам. В разговоре с мальчишками или с Асей это еще можно, а с бабой Ксаной… Да она в те минуты и не услышала бы Гая.
От утреннего дождика не осталось и воспоминания. Опять небо стало высоким, и желтые облака не закрывали солнца. Ровный ветер с моря усмирял жару и гнал на пески ровные валы с шипучими гребешками. Гай сперва робел перед большими волнами, но быстро освоился. Дождавшись самого высокого — «девятого» — вала, нырял под гребень, «съезжал» на животе по водяному склону или мчался на верхушке волны к пляжу. Раза два его, зазевавшегося, волны сшибали у берега с ног, катили по песку и галечнику, который обдирал на ребрах кожу. Но царапины не огорчали Гая. Все равно волны были друзьями. И солнце зажигало на мокрых ресницах салюты радужных звезд…
А то, что было утром, спряталось на донышке памяти…
На обратном пути Толик сказал, что пусть Гай топает домой и до вечера ведет самостоятельную жизнь. А он, Толик, сегодня вернется к девяти часам.
— Ну и гуляй, — хмыкнул Гай. И добавил: — Хоть бы познакомил.
Толик важно сказал, что всему свое время.
Гай пришел к Асе. Она, конечно, захотела узнать про разговор с бабой Ксаной. Гай неохотно рассказал. И нахмурился:
— Ты сама-то разве про это не знала?
— Вообще-то знала. Кое-что. Но не точно. Мы ведь не так уж хорошо знакомы… А еще я подумала…
— Что?
— Ну… пускай ты от бабы Ксаны сам все узнаешь. Это ведь лучше, чем от меня.
— Она не помнит, что за герой это… А может, ты знаешь?
Ася качнула головой.
— Но ты же сразу знала, что никакой это не Головачев!
Ася порозовела и кивнула.
— А чего тогда было сочинять… — неловко сказал Гай.
Ася быстро глянула на него светлыми глазами и опять потупилась. Проговорила тихо, но твердо:
— Я, конечно, виновата. Я хотела, чтобы ты поближе переехал. Теперь сердись, если хочешь.
Гай почувствовал, как теплеют уши.
— Чё мне сердиться-то… Пойдем погуляем.
— Куда? — шепотом спросила она.
— Ну, так просто… Здесь такие улицы…
Они долго бродили по запутанным переулкам, лестницам-трапам и крошечным площадям. В просветах между каменными заборами или над черепицей крыш, за узкими темными тополями открывался то городской холм с многоэтажными домами и сверкающим крестом над полуразрушенным куполом Владимирского собора, то бухты с толчеей кораблей, то далекие развалины Херсонеса на фоне темного, слегка взъерошенного моря. Было солнечно и пусто. Артиллерийская слободка лежала на хребте и склонах длинного холма — как старинный остров среди большого города. Ветер, летевший над крышами, словно только что касался парусов нахимовских линейных кораблей.
…И Гаю стало казаться, что он попал на свой придуманный остров — туда, где много негромких праздников и где в каждом закоулке прячутся начала таинственных историй.
Особенно понравился Гаю узкий переулок, наклонно бегущий с улицы Гусева на улицу Киянченко. Даже не переулок, а метровой ширины проход между высоченным, сложенным из серого камня забором и такой же бугристой стеной дома. В стене на высоте второго этажа виднелось единственное окошко. Посреди прохода тянулся каменистый желоб водостока. Гулко отдавались шаги.
«И правда, будто в крепости на острове», — подумал Гай…
Настоящей крепости здесь не было, но небольшая старинная башня все-таки нашлась — на углу Шестой Бастионной и Катерной. Приземистая, из нетесаных камней, с узкими бойницами.
— Это что? — удивился и обрадовался Гай.
— Здесь был Шестой бастион. В Первую оборону… А дальше, где лестница к рынку, сохранилась стена Седьмого бастиона… А вон там была батарея Шемякина, только от нее ничего не осталось…
— Ты все здесь знаешь, — с завистью сказал Гай.
— У меня же мама экскурсоводом работает, в туристическом бюро. Я сколько раз с ней на экскурсиях была, многое прямо наизусть выучила… Но я не только потому, что мама. Самой интересно. — И она взглянула, словно спросила: «А тебе?»
«Еще бы!» — посмотрел на нее Гай.
— А если хочешь, я маму попрошу, она тебя хоть в какую экскурсию возьмет, по всему Крыму.
— Хорошо бы, — вздохнул Гай. — Только мне нельзя уезжать. Каждый день может случиться, что на съемки позовут.
— Ну, тогда… если хочешь, я сама покажу, что знаю. Здесь, в городе…
— В городе — это самое главное, — сказал Гай.
…Бродили они до заката.
Вечерняя встреча
Дома Катерина Степановна покормила Гая ужином и поворчала, что «братец твой — старший, но непутевый — ходит где-то голодный».
В девять часов Толик не пришел.
Гай понимал, что «дело житейское» и причин для беспокойства нет. Но затосковал. И еще через двадцать минут со смесью тревоги и привычной злости на Толика пошел его встречать.
Переулком Гай вышел на Шестую Бастионную. Фонарей на улице не было, окошки светились неярко. За шторками мерцали телевизоры. Чужой уют еще сильнее растравлял одиночество и тревогу Гая. Неумолчно и с какой-то скрытой угрозой сверлили сумрак трели цикад.
Никого не встретив, Гай дотопал до Крепостного переулка, что у бастионной стены. Встал на верхней площадке лестницы.
Он видел с высоты холма город и рейд. На улицах и кораблях переливалась электрическая россыпь. Мигали огоньки на сигнальных буях, вспыхивал на чьем-то мостике прожектор. Змеились отражения. Алой звездочкой горел выше других огней первый маяк Инкерманского створа.
Шептались пирамидальные тополя. С Приморского бульвара доносилась музыка духового оркестра. Гай подумал, как все было бы прекрасно, если бы рядом сейчас стоял Толик.
Прошло минут десять. Несколько прохожих поднялись по лестнице, не обратив внимания на мальчишку, съежившегося на бетонном парапете под неяркой лампочкой.
Потом что-то беспокойно и радостно толкнулось в Гае. Словно сработал чуткий локатор. Гай еще вроде бы никого не видел и не слышал, но соскочил с парапета, всмотрелся в темную глубину, куда убегала лестница.
На нижней площадке возникли две фигуры. Мужчина и женщина. Они торопливо шагали вверх и о чем-то весело и сбивчиво говорили. Мужчина был, несомненно, Толик.
Гай сжал губы и опять уселся на бетонном уступе.
— О! — сказал Толик. — Это ты? Ты тут… чего?
— Любуюсь ночным городом, — официально ответствовал Гай, надавив на слово «ночным».
— Меня, что ли, ждешь?
— А кого?! — взвинтился Гай. — Может, адмирала Крузенштерна?! — И подумал: «Не зареветь бы…»
— Я же говорил: попадет мне, — сказал Толик спутнице.
Она коротко и как-то бархатисто рассмеялась. Гай покосился. Девушка была рослая, плотная, с тяжелой черной косой. При свете лампочки Гаю показалось, что у нее очень красный большой рот и похожие на сливы глаза.
— Гай, познакомься, — сказал Толик. — Это Алина. Для полноты информации — Алина Михаевна.
— Очень приятно, — с предельной ядовитостью отозвался Гай. Он смотрел на Инкерманский маяк.
— Гай, будь к ней снисходителен — это как-никак твоя будущая тетя.
Гай резко обернулся.
— Алина — моя невеста, — церемонно сказал Толик. — И, без сомнения, станет моей женой.
Гай, не вставая с парапета, поклонился:
— Очень рад.
Эти два слова можно было перевести длинной фразой, смысл которой сводился к тому, что тетушка нужна Гаю, как дельфину брюки, и что забывать из-за будущей родственницы — даже невесты — других родственников (не будущих, а настоящих) — потрясающее свинство, и что Толик поступает так не первый раз и поэтому Гай забывать свои обиды легко и скоро не собирается.
— Толик, — глубоким грудным голосом произнесла Алина. — Мальчик думает, что ты задержался из-за меня.
— Придется перейти на язык документов, — со вздохом произнес Толик и протянул Гаю бумажку. Это были два билета в кино.
— Ну и что? — сумрачно спросил Гай.
— Доказательство. Видишь, контроль не оторван? Мы собирались чинно-благородно в кинотеатр «Приморский» на семь часов. В девять я был бы дома перед вашими строгими очами. Но экстремальные обстоятельства помешали и тому и другому. То есть кино и своевременному возвращению…
— На него хулиганы напали, — сказала Алина.
Толик взял Гая за плечо:
— Пойдем.
Когда прошли шагов двадцать, Гай неловко спросил:
— Правда, что ли?
— Что?
— Ну… хулиганы…
Толик неловко хихикнул.
— Главное, день еще белый, солнце не зашло, а они подходят на бульваре, два пижона. Обычный диалог: «Дай закурить». — «Не курю». — «Жалко, да?» — «Гуляйте, мальчики…» — «Ах, мы мальчики, а ты — дядя?» — И ручкой на дядю…
— Ну и что? — нервно спросил Гай.
— Ну, что… Я одного посадил на время под акацию, а другому стал разъяснять, что он не прав, он обмяк как-то сразу… Я думал, слегка постукаю их по очереди, с педагогической целью, и отпущу. Но не тут-то было. Алина Михаевна проявила излишнюю инициативу. Куда-то кинулась, тут же явилась с морским патрулем, а те милиционера кликнули… Ну и пришлось «Лимонадного Джо» поменять на визит в отделение… Интересно, что сперва чуть-чуть сам не оказался виноватым: побил, мол, мирных прохожих. Хорошо, умный капитан подошел, разобрался… У одного свинчатку из кармана выудили…
— Даже не верится, — вздохнул Гай.
— Что? То, что свинчатку нашли?
— Вообще… Что в таком городе такие гады…
— Всякое бывает… Хотя они, кажется, ялтинские… А этот «Лимонадный Джо» для меня какой-то заколдованный. В Москве, помню, купил билеты — и срочно в институт вызвали. Был в Ленинграде, увидел афишу, побежал в кассу — ногу подвернул, вместо кино в травмопункт попал… Тьфу… А так хотелось посмотреть, говорят, веселая штука.
— Мура, — сказал Гай. — Все думают, что это про правдашних ковбоев, а это чушь. Одно издевательство…
— Это же комедия!
— Не комедия, а чепуха. Я смотрел и плевался…
— А где ты сумел? Дети до шестнадцати не допускаются!
— Ох уж! Где не допускаются, а у нас в ДК судостроителей — пожалуйста… Толик…
— Что?
— А они тебя… ничего?
— Да ну… хлипкие личности, — бодро сказал Толик.
— Все-таки двое…
— Я так перепугалась, — сказала Алина.
— Ну и я тоже, — засмеялся Толик. — В том-то и дело. Мне с перепугу как раз все и удается в самом лучшем виде… Я и диссертацию раньше срока защитил тоже с перепугу. Потому что прихожу однажды к шефу, а он говорит…
— Да знаю, знаю, — сказал Гай. — Я эту историю четыре раза слышал.
— Ох уж, четыре…
— Да. Один раз ты папе рассказывал, два раза мне и маме и один раз кому-то по телефону…
— Вот такой у меня братец-племянничек, — сказал Толик.
— Хороший, — отозвалась Алина и наклонилась к Гаю (он учуял запах «Красной Москвы»). — А Толик в самом деле все делает с перепугу. Он в любви мне так признался. Со страху…
— Да, — вздохнул Толик. — Было…
— Как это? — недовольно спросил Гай.
Алина бархатисто смеялась в темноте, платье ее шуршало.
— А вот так… Идем мы по Синопскому спуску, он молчит, я спрашиваю: «Толик, о чем ты думаешь?» А он… я в точности запомнила: «О принципе прямого преобразования направленного электромагнитного излучения в акустическую волну». Я чуть на ступени не села.
— Это единственно реальная возможность прямой связи космоса с глубиной, — доверительно объяснил Толик Гаю. — Женщинам этого не понять… хотя Алина и работает в пресс-бюро при лаборатории.
— Не перебивай, — сказала Алина. — Я ему и говорю: «Ты не мог найти для девушки более подходящих слов?» А он: «Я это… мог бы… Будь моей женой…»
— А вы? — холодновато спросил Гай.
— А что я? — засмеялась Алина. — Сразу и согласилась. Потому что я эгоистка. Люблю счастливых людей, у их счастья можно греться, как у печки.
— Разве Толик такой уж счастливый?
— Конечно, — серьезно ответила Алина. — Он счастливый в самом главном, он свое дело нашел. И удач у него в этом деле — выше головы.
— Тьфу-тьфу-тьфу… — суеверно плюнул Толик.
— Ничего не «тьфу»… Про него за границей пишут. В сорок лет он станет академиком, а я толстой и важной супругой академика… Разве плохо?
— Не знаю, — сказал Гай и повернулся к Толику. — Лишь бы ты сам не сделался толстым и важным.
— Ни за что на свете… Гай, давай проводим Алину, а потом уж домой…
— А где живет… Алина Михайловна?
— Недалеко, за площадью Коммунаров… Только не Михайловна, а Михаевна.
— У меня папа был молдаванин, — сказала она.
— Михай… так румынского короля звали, — брякнул Гай.
Алина засмеялась:
— В отцовском селе чуть не каждого второго так зовут. Это все равно что русское имя Михаил. Как у тебя.
Гай поморщился. Толик быстро объяснил:
— Князь Гаймуратов свое имя терпеть не могут-с.
— Хватит обзываться-то, — сказал Гай.
— Виноват-с… Кстати, сегодня получил от твоей мамы письмо. Одно на двоих. Пишет, что съездила прекрасно, соскучилась по ненаглядному Гаю и ждет не дождется, когда он явится домой… Еще пишет, что Галина уже отстроила пол-Ташкента и приедет в сентябре…
— Получил и молчит! — возмутился Гай. — Что еще пишет?
— Сообщает, что некий Юра Веденеев извелся по Гаю, все спрашивает, когда приедет.
Гай вздохнул радостно и виновато.
— Соскучился? — ласково спросила Алина. — Хочется домой-то?
— Хочется… и уезжать не хочется.
— Душа пополам. Диалектика жизни, — заметил Толик. — Ничего, тебе осталась еще неделя. Догуляешь — и к родным пенатам…
— Толик, а от Ревского ничего не слышно? Вдруг не успею отсняться?
— Он обещал завтра со мной связаться. Успеешь, выход назначен, кажется, через два дня.
— Ура…
— А завтра у меня свободный день и у Алины отгул. Может, втроем закатимся куда-нибудь, а?
— А вот и нет, — сказал Гай.
— Что так?
— У тебя своя личная жизнь, у меня своя. Завтра мы с Асей пойдем по городу. По всей линии Обороны…
Линия обороны
Гай натянул прохладную чистую рубашку — васильковую с латунными пуговками. Со дна чемодана вытащил новенькие, ни разу не надетые шорты «военно-полевого» цвета. Закинул под кровать пыльные растоптанные кеды и застегнул блестящие пряжки скрипучих лаковых сандалий. С удовольствием потоптался.
— Расчеши космы, — предложил Толик, — и будешь совсем лондонский денди на брегах Тавриды.
Гай, сопя от натуги, расчесал.
— Я буду дома от четырех до шести, — сказал Толик. — Постарайся возникнуть в этом промежутке. Возможно, поступит информация от Шурика…
— Есть, товарищ главный конструктор Атлантиды!
— Сгинь…
Ася ждала Гая у калитки. Тоже принаряженная, серьезная, в белом платьице с якорями и синей лентой на волосах. Помахивала голубой пластмассовой сумкой — на ней тоже якорь.
— Ну? Топаем? — излишне бодро спросил Гай.
— Пошли… — Ася нерешительно посмотрела на его сандалии. — Ноги не натрешь ремешками? Дорога будет длинная.
— Все нормально… — Гай упруго попрыгал.
По улице Генерала Петрова они бодро дошагали до гостиницы «Севастополь» и сели на троллейбус.
— Поедем на Корабельную, — сказала Ася. — Начинать надо с Первого бастиона, по порядку. А потом все ближе и ближе к дому, до Седьмого. К дому идти всегда легче…
Но сразу к Первому бастиону они не попали. Вышли на улице Розы Люксембург, и Ася потащила Гая на горку у железнодорожной насыпи. Горка была как игрушечный городок, с белыми домиками, лестницами, закоулками и двориками на крутых склонах. Похоже на Артиллерийскую слободку, только все уменьшено и словно собрано в горсть. Как на сцене для приключенческой сказки.
Ася сказала, что это знаменитая Аполлоновка.
Аполлоновка была горячей от солнца.
Ася и Гай через заросли дрока спустились к старым каменным аркам.
— Это бывший водопровод, — объяснила Ася. — Его еще адмирал Ушаков строил…
Под аркой они прошли на берег Аполлоновой бухты. На громадных бетонных блоках, в беспорядке сваленных на берегу, загорали мальчишки. И прыгали с этих кубических глыб в очень синюю воду. Гай им позавидовал, и Ася тут же сказала:
— Давай искупаемся. А то нам шагать и шагать, а моря на пути уже не будет.
Они нашли на теплом бетоне свободное местечко. Мальчишка лет десяти — конопатый и с ободранным подбородком — сказал:
— Чего пришли? Это наших аполлоновских пацанов камни…
Гаю стало неуютно. Он знал ревнивую непримиримость мальчишечьих компаний к чужакам. Но Ася ответила, не повышая голоса:
— Сиди, аполлоновский. А то и на носу царапины будут.
И никто больше не придирался…
Они ныряли и плавали минут пятнадцать. Потом Ася сбегала куда-то, чтобы выжать купальник, вернулась уже одетая и сказала между прочим:
— А вон в том домике родился Папанин. Помнишь, который на Северном полюсе?
Гай, конечно, помнил. Недавно читал в «Пионере» о высадке папанинской четверки на полюс — как раз отмечалось тридцатилетие этой экспедиции. Но он не знал, что Папанин родился в Севастополе. Гаю казалось, что полярный исследователь должен быть уроженцем каких-то северных мест.
…После купанья жизнь стала еще лучезарнее, хотя дорога была совсем не ровная. Спустились по откосу широкого, заросшего, как сад, оврага и поднялись по другому склону. Гай часто дышал. Ася сказала, что они пересекли Ушакову балку.
Через несколько минут они оказались на обрыве — над небольшой, полной кораблей и катеров бухтой.
— Это Килен-бухта. А вот памятник.
Над обрывом Гай увидел гранитную открытую беседку и серый, грубо отесанный камень с надписью:
1-й бастiонъ
— Вот отсюда и начиналась линия Первой обороны, — объяснила Ася. — Когда французы и англичане подошли, бастионов и батарей почти не было, адмирал Корнилов весь город поднял на строительство. Даже арестантов освободил… Ну, пошли.
Гаю эта дорога запомнилась как солнечная круговерть улиц с белыми домами, спусков, тропок и заваленных ползучими кустами каменных изгородей. И заросших высокой жесткой травой балок-оврагов. В этой траве прятались сложенные из пористого камня стенки с нагретыми солнцем чугунными плитами. На плитах — выпуклые буквы с названиями и номерами батарей.
Было жарко, и хотелось пить. Гай и Ася пили у водонапорных колонок, дурачась и осыпая брызгами друг друга.
Они постояли у глыбы-памятника Второму бастиону и зашагали к Малахову кургану.
На перекрестке Второй Бастионной и какого-то переулка, на заросшей колючками и сурепкой площадке, гоняла красно-синий мяч ребячья компания. Мальчишка лет семи стоял в стороне, плаксиво вытирал подолом полосатой майки нос и косился на игроков. Потом глянул сырыми глазами на Асю и Гая.
— Ты чего? — спросила Ася.
— А чего они… — буркнул мальчишка.
— Не берут играть?
Он засопел.
— Пошли. — Ася взяла его за руку. Гай — что делать — двинулся следом. Сунул руки в карманы и постарался придать лицу решительное выражение.
Игра остановилась. Ася сказала длинному голубоглазому мальчишке, который был, кажется, главным:
— Вы чего маленького не берете?
Тихо сказала, спокойно.
Мальчишка удивленно возвел выгоревшие брови:
— Тебе-то что?
— Мне-то ничего. А ему плохо.
Подошли другие ребята. Крепыш с бинтами на обеих коленках объяснил:
— Он пищит и под ногами путается.
— Вы поставьте его на край и пасуйте иногда, вот и не будет путаться, — разъяснила Ася. — А если прогонять, он когда играть научится?
Длинный поглядел на Асю, на Гая, сказал пацаненку:
— Иди на тот край. И пинай, когда мячик подадут, а сам не лезь.
Малыш ускакал.
Ребята, оглядываясь на Асю, снова начали игру.
— Ну, ты даешь… — с тихим восхищением сказал Гай.
— Что?
— Ну… ты просто как хозяйка. Везде. Хозяйка Севастополя.
— Смеешься, да?
— Я правду говорю. Все тебя слушаются. Такая решительная.
— Вовсе я не решительная, а трусиха… Я тебе признаться хочу…
— В чем? — встревожился и смутился Гай.
— Ох… не обижайся, ладно? Я тебя нарочно одного к бабе Ксане отправила. Потому что я боюсь ее слушать. Просто реветь хочется.
— Это я понимаю, — сказал Гай.
На Малаховом кургане Гай уже бывал. Но сейчас они поднялись не по главной лестнице, а боковой тропинкой. И вышли прямо к оборонительной башне, где над черной чашей факела металось пламя вечного огня — оранжевое, яркое, несмотря на солнце.
Вокруг площади перед башней толпились зрители, а на открытом пространстве выстроились артековцы. Гай и Ася ввинтились между взрослыми и просочились вперед.
Перед пионерским строем стоял и говорил что-то седой моряк в белом кителе со множеством сияющих медалей. Когда Гай и Ася оказались близко, он уже кончил речь. Девочка в синей пилотке и громадных, как аэростаты, бантах повязала моряку пионерский галстук. Уверенно и красиво застучали барабаны, мелодично запела фанфара (сразу ясно, что трубач знает свое дело — не какой-нибудь неумелый школьный дударь, выбранный в горнисты за хорошие отметки). Счастливчики-артековцы вскинули в салюте руки. И Гай пожалел, что не надел пионерский галстук, — тогда бы он тоже имел право салютовать барабанщикам, знамени, что алело на правом фланге строя, и этому моряку, который наверняка воевал в здешних местах (может быть, рядом с дедушкой?).
Артековцы четким строем ушли с площади по главной аллее. А Гай и Ася мимо развалин памятника адмиралу Корнилову, который разбили немцы, мимо старинных пушек батареи Жерве спустились по склону Докового оврага.
И опять — кружение солнца на белых улочках, сухой шелест акаций, блеск твердых кремнистых тропинок, тишина, которую разгоняют иногда мальчишки на звонких велосипедах…
Неужели здесь когда-то гремели взрывы?
— Вон там недавно саперы два снаряда выкопали, — сказала Ася. — Невзорвавшиеся. Прямо из-под дома. Хорошо, что успели. Бывает, что не успевают…
От солнца и усталости у Гая немного кружилась голова. К тому же Ася оказалась права: ремешок сандалии натирал ногу — левую, когда-то уколотую дракончиком… И все же Гай был рад, в глубине души жила догадка: стертая нога заживет, усталость улетучится, а этот солнечный день останется в памяти навсегда. Может быть, потом, через годы, среди синих зимних сумерек вспомнится все: и теплые камни бастионов, и блестки в белой пыли, и седой моряк перед артековцами, и спокойная девочка с якорями на платье…
Когда от обелиска на месте Третьего бастиона они запутанными переулками спускались к Лабораторной балке, Ася сказала:
— Вот это все и есть Корабельная сторона. Здесь самые отчаянные бои были в Первую оборону…
— А во Вторую?
— Тоже, — вздохнула Ася.
Гай понимал, что между Первой и Второй оборонами лежал почти век. Но все равно эти времена в голове смешивались, и казалось, что Севастополь сражался непрерывно много-много лет подряд. Что рядом с нахимовскими матросами дрались на Малаховом кургане морские пехотинцы, пришедшие сюда с эсминцев и крейсеров, и вместе с усатыми солдатами старинных полков — Якутского и Тобольского, Минского и Модлинского, Одесского и Тарутинского и многих-многих других — бросались в атаки на врага красноармейцы и командиры в белых от солнца и пота гимнастерках и пилотках — бойцы Приморской армии, в которой воевал и политрук Нечаев…
Гай уже не раз — с Толиком и один — побывал в Музее флота, на Сапун-горе, в Панораме, слышал много рассказов о боях и подвигах севастопольцев. Да и раньше читал об этом — «Севастопольского мальчика» Станюковича, «Морскую душу» Соболева и даже «Севастопольские рассказы» Толстого (у дедушки была такая большая плоская книга с похожими на фотоснимки иллюстрациями). Но никогда Гай не мог (да, по правде говоря, и не пытался) разобраться в том, что по-научному называется «обилием информации». Имена адмиралов и командиров, названия люнетов и редутов, подвиг Тридцатой батареи в сорок втором году и Балаклавское сражение в прошлом веке вспоминались вперемешку. Наверно, так все бывает перемешано в дыму, грохоте и сумятице большого боя…
Когда Ася предложила пойти по линии Первой обороны, Гай подумал, что теперь в его знаниях появится хоть какой-то порядок. И правда, номера бастионов, наименования батарей, названия бухт и балок нанизывались, словно бусины, на одну нитку…
На улицах по-прежнему лежала солнечная тишина, и все сражения казались бесконечно давними и далекими. Так, наверно, и должно быть. Затем и защищают в боях люди свои города, чтобы потом был вот такой тихий, безоблачный и неколебимый мир. Чтобы мальчик и девочка могли беззаботно идти по старым бастионам, а на заросшем сурепкой перекрестке мальчишки весело гоняли красно-синий мяч…
— Ася… А ведь где-то в этих местах был снежный бастион, да? Ну, в котором погиб Алабышев.
— Да. Скорее всего, вон там, — Ася махнула легкой пластмассовой сумкой с якорем, — где ребята в мячик играли.
— Я про них и подумал… И вспомнил…
Но, подумав о снежном бастионе, о мальчишках в нем, Гай, конечно, вспомнил и гранату, которую закрыл собой Алабышев. И другую гранату… И других мальчишек — в Херсонесе, — к которым так и не собрался в эти дни. И опять покатилась у него внутри черная дробинка.
— Ах ты черт… — в сердцах сказал Гай.
— Что? Трет ногу? — встревожилась Ася. (Они уже останавливались из-за этого, и Ася положила Гаю в носок прохладный мягкий листик.)
— Да нет… Просто вспомнил. Надо, в конце концов, съездить в Херсонес, того пацана разыскать. Который был пулеметчик с гранатой…
Они спускались по каменному трапу среди заросших двориков на склоне Лабораторной балки. Ася удивленно остановилась.
— Сержика разыскать?
— Ну да…
— А зачем в Херсонес-то ехать?
— Ребят спросить, я же его не знаю… Ой, а ты знаешь?!
Ася помолчала, что-то соображая. Тихонько засмеялась:
— Ты бы сразу меня спросил. Это же внук бабы Ксаны. То есть правнук, сын ее внука, дяди Алеши.
— Вот это да… — выдохнул Гай.
— Разве ты не знал?.. Ну да, ты не спрашивал, я не говорила… А разве ты его у бабы Ксаны не встретил?
— Не… Она сказала, что какой-то Сергийко уехал в Феодосию. Только к школе вернется.
— Он и есть.
— Здесь просто чудеса какие-то, в этом городе. Сплошные совпадения…
— Да какие совпадения? Просто он в тот день за мной в Херсонес увязался. А там я к дедушке пошла, а он с вами остался играть, вот и все…
Сперва Гай обрадовался. Но тут же расстроился:
— Значит, я его не увижу. Я двадцать восьмого домой улечу.
— Жалко… — вздохнула Ася. Непонятно было, что «жалко». Что улетит или что не увидится с Сержиком?
— Еще бы, — сказал Гай. Тоже непонятно.
— А какое у тебя к нему дело? Может, я помогу?
— Помоги… Помнишь, он тогда гранату потерял? Я знаю, где она… Ну, потом сообразил. Завалилась она там в одно место. Я достану, а ты ему отдашь.
— Еще чего. Я ее тут же в море выкину.
— С ума сошла?
— Это вы, мальчишки, все с ума посходили. Нашли себе игрушки…
— Она же ненастоящая!
— Баба Ксана от этой «ненастоящей» себе нервы извела… А знаешь сколько было случаев? Сперва — ненастоящая, а потом и настоящую откопают…
— Ася…
— Выкину, — сказала она. И Гай подумал, что даже с самыми хорошими девчонками можно разговаривать не о всех делах.
— Получается что? — озабоченно сказал Гай. — Он не знает, где она лежит, а я знаю. Выходит, я будто ее стащил…
Ася быстро глянула на него, и Гай почувствовал, что краснеет.
— Не ты же ее туда спрятал, — сказала Ася.
— Все равно… Эх, жалко, что его нет. — Гаю теперь хотелось увести разговор от гранаты. — Мне еще и поговорить с ним надо. Про бюст… Ты вот не знаешь, что это за герой, а он, наверно, знает… А вдруг это капитан-лейтенант Алабышев, а?
Такая догадка лишь сейчас мелькнула у Гая и в первую секунду показалась невероятной. Но ведь в этом городе, где столько удивительных совпадений и встреч, все возможно.
— Наверно, и дядя Алеша знает, — рассудила Ася. — Ох, я забыла: он же в рейсе… Гай…
— Что?
— Гай… — тихо сказала Ася и махнула сумкой по головкам чертополоха. — А может, тебе не улетать двадцать восьмого?
— А… как?
— Ну, поживи здесь еще… Сержика дождешься. И вообще… У нас в сентябре знаешь как хорошо.
— А школа? — озадаченно спросил Гай.
— Поучился бы в нашей… Кто отдыхает здесь осенью с ребятами, часто устраивают их в здешние школы… Я могу с нашей Мариной Викторовной поговорить, она знаешь какая хорошая…
— Ха! А Толик? С ним кто поговорит? Он со мной тут и так замаялся, — самокритично высказался Гай. — И билет на самолет уже давно взят. Билет в кассе менять — думаешь, это легко? Там не протолкнешься…
— А зато… — начала Ася и замолчала.
— Что?
— Ну… когда еще потом приедешь-то…
«Это верно», — подумал Гай. И тоскливое предчувствие скорого расставания с морем, с Севастополем, со всей этой полной удивительных событий жизнью уже не первый раз толкнуло его.
Домой, конечно, хотелось (особенно когда о маме думал; и Юрка вот, мама пишет, все спрашивает: когда Гай приедет?). Но он все равно скоро приедет! И будет дома всегда. На долгие годы. А здесь — словно что-то не закончено. Словно все еще не случилось главного события. Словно ступил на неведомый остров, успел полюбить его, а узнать до конца не успел…
Если бы еще десяток дней такой жизни, а? Неожиданный подарок, прибавление к той короткой неделе каникул, которая здесь осталась Гаю! Он бы со всеми ребятами еще раз встретился, облазил бы напоследок все полюбившиеся места, искупался на всех пляжах, обошел берега над всеми бухтами… И с Пулеметчиком бы решил дело как надо. И… вот и Ася хочет, чтобы он остался…
Конечно, потом все равно придет день расставания, но будет уже легче. Потому что он, Гай, все успеет.
Гай понимал, что в чем-то он обманывает себя. Проще и легче, наверно, не будет. Но, по крайней мере, печаль прощания отодвинулась бы еще на какие-то дни. И дни эти были бы, наверно, тоже радостные и разноцветные…
— Толик не разрешит, — грустно сказал Гай.
— Попроси изо всех сил.
— А школа… У меня и формы-то нет. Только лыжный костюм на всякий случай, если холод…
— А это чем не форма? — Ася прошлась по Гаю глазами. — У нас многие мальчишки так всю первую четверть ходят, до самых холодов.
— Ну да? — Сентябрь в понятии Гая был прочно увязан с плотным серым сукном школьной униформы, без которой и не думай явиться на уроки, пусть хоть какая жара на улице.
— Здесь же юг, — сказала Ася.
— А учебники? Где я возьму?
— Что нам, моих не хватит?
«А зачем тебе надо, чтобы я задержался?» — подумал Гай. Но понял, что спросить это не решится ни за что в жизни.
— Ох… я попробую с Толиком поговорить, — сказал Гай.
— Конечно! Попробуй…
— А Пулеметчик… Сержик этот в твоей школе учится?
— Да. Он в пятый перешел.
— Ну? Я думал, он меньше. На вид такой… октябренок.
Они пересекли Лабораторную балку, и Ася объяснила, что от линии Обороны отклонились. Зато поднимутся на Зеленую гору, с которой виден весь город.
И они стали подниматься. Ноги у Гая ныли и гудели, и он думал, что Ася — просто железный человек. Иногда хотелось плюнуть на гордость и сказать: «Слушай, давай посидим, а?»
Зато с горы Гай увидел Севастополь во всем его праздничном сверкании. А за ним — громадное пространство моря. Там уверенно двигались корабли.
Радостно и беспокойно толкнулось сердце: не хочу уезжать!
Если бы Гаю предложили остаться здесь навсегда, он бы не согласился. Даже если бы вместе со всеми здесь жить — с мамой и отцом, с Галкой, дедушкой и бабушкой — все равно не захотел бы. Он любил Среднекамск и свой дом. Там была вся его жизнь. А здесь — праздник, хотя и не лишенный печалей.
Не может вся жизнь быть праздником. Но так хочется, чтобы его было больше…
Сошли по тропинке к зеленому «Т-34» на каменном постаменте — памятнику героям-танкистам. Постояли у него. Потом по извилистой лестнице, сквозь рощу дубов и акаций, мимо белой школы спустились к вокзалу. Ася предупредила:
— Скоро последний подъем… Я тебя замучила?
— Ты не девочка, а какой-то… землепроходец, — сказал Гай. Но он уже не чувствовал прежней усталости. Ноги, правда, гудели, как и раньше, но пришло какое-то пружинистое веселье. Немного нервное, с примесью тревоги: «А что скажет Толик?»
Поднимались опять среди старых, увитых виноградом двориков, где орали петухи и ходили деловитые кошки. Одна такая улочка-тропинка-лесенка называлась Лагерный переулок. Интересно, когда и какой лагерь здесь был? На этом месте, где только и гляди чтобы не загреметь под откос…
Поднялись к Четвертому бастиону с его черными пушками и брустверами из корзин и мешков (мешки и корзины были отлиты из бетона, но очень походили на настоящие). Потом прошли мимо Панорамы. Здесь толпились экскурсии, к дверям тянулась бесконечная очередь. Гай посмотрел на нее снисходительно: ему не надо стоять, он был здесь дважды.
В парке у Панорамы стояла парашютная вышка, вверху колыхался шелковый купол.
— Прыгнешь? — спросила Ася.
— А пустят?.. У нас в Среднекамске тоже есть такая, там ребят не пускают… Но у нас там инструктор знакомый, он пацанов, которых знает, пускал, я четыре раза прыгал… Первый раз жуть такая, второй раз еще страшнее, а потом ничего… — Гай говорил весело и беззаботно, потому что все было полной правдой. — А здесь ребят пускают?
— Нет, — вздохнула Ася. — Я хотела, сказали: маленькая.
Они пообедали в полупустом кафе на Историческом бульваре. Взяли по полтарелки теплой окрошки и по блинчику с мясом. Пока шли, Гаю казалось, что он голодный, но сейчас аппетит вдруг пропал. Наверно, от растущего беспокойства: «Что же все-таки скажет Толик?»
Теплый ветер колыхал парусиновый навес, по пластмассовым столам прыгали воробьи. Ноги у Гая отдохнули, даже натертая пятка не болела. Но росло тревожное нетерпение.
Когда они мимо памятника Тотлебену спустились с бульвара на площадь Ушакова, куранты на башне Матросского клуба пробили три часа. Торжественные колокола сыграли «Легендарный Севастополь». Гай сказал:
— Ася, на Пятом бастионе я уже был. Это ведь на кладбище Коммунаров, где могила лейтенанта Шмидта, да?.. А мимо Шестого и Седьмого и так каждый день ходим…
— Устал? — спросила она спокойно и ничуть не обидно.
— Нет… Не в этом дело. Скоро Толик придет домой. Я хочу, чтобы уж сразу разговор…
Четырех еще не было, но Толик оказался дома. Гладил белые брюки: брызгал на них, раздувая щеки, и лихо водил шипучим утюгом. Весело глянул на Гая.
Гай сел у стола, положил подбородок на локти.
— Толик…
— А?.. Пфу… Что, дитя мое?
— Толик… Хочешь увидеть необыкновенное? Самое-самое.
— Что… пфу… именно?
— Самого образцового на свете пятиклассника… то есть шестиклассника. Самого-самого послушного, дисциплинированного и всякого-всякого… Хочешь, я таким сделаюсь?
— В обмен на что? — проницательно спросил Толик.
— Ох… — тихонько простонал Гай.
— Что «ох»? Какая идея возникла в твоей кудлатой голове?.. — Толик выключил утюг, пальчиками поднял брюки и полюбовался. — Ну? Слушаю вас, сударь…
— Ага, «слушаю»… А потом скажешь «нет».
— Скорее всего.
— Ты только не говори сразу «нет», а? Ты сперва послушай, потом… ну, потом отругай меня. И скажи «ладно»… А?
— Выкладывай… — Толик уже слегка встревожился.
— Ох… — опять сказал Гай. Зажмурился и выпалил: — Не отправляй меня двадцать восьмого! Можно, я еще немножко здесь поживу?
Толик молчал. Гай приоткрыл один глаз. Толик смотрел, словно говорил: «Лю-бо-пытно… Что еще придумаешь?»
— Ну, вот… — уныло произнес Гай. Открыл второй глаз и стал безнадежно смотреть на Толика. Тот в самом деле сказал:
— Лю-бо-пытно… Давно придумал?
— Сегодня, — скорбно отозвался Гай. И вдруг в молчании Толика ощутил нерешительность. И капелька надежды сверкнула, как дождинка на солнышке… — Толик… Я тебе, конечно, надоел, я понимаю. Но вот если бы ты согласился… не надолго ведь, еще деньков на десять, а? Я бы тогда…
— Школу прогуливать? — хмыкнул Толик.
— Нет! — Гай подскочил. — Ни за что на свете! Ася договорится со своей классной! Толик… я бы одни пятерки здесь…
Надежда уже не искоркой сверкала, а горела ярким фонариком. Гай даже позволил себе слегка дурашливый тон:
— Я бы стал образцом успеваемости… и этой… кротости.
— Неужели не соскучился по дому?
— Ох, соскучился. Иногда даже… хоть пешком беги. Но все равно! Толик, мне здесь надо еще! У меня причины.
— Кое о каких догадываюсь…
— Ты думаешь, я из-за Аси? — в упор спросил Гай. — Ну и… Но не только. Много всего… Одного мальчишку надо встретить, внука бабы Ксаны. Он лишь к первому сентября приедет.
— А он-то тебе зачем?
— Наверно, он про бюст знает… Ну, кто там изображен.
— Но ведь ясно же, что не Головачев.
— А может… вдруг Алабышев?
— Ну и фантазия у ребенка, — сказал в пространство Толик.
— А что! Бывают же всякие совпадения, сам говорил. Ты вот, например, здесь своего Шурика встретил. Разве не чудо?
Толик усмехнулся и медленно проговорил:
— Да, встретил… Шурика и благодари.
— За что?! — подскочил Гай.
— У них, видите ли, выход в море на съемку задерживается до начала сентября… «Ах, как мы без Гая? Ах, уже со сценаристом согласовали этот эпизод! Не губите гениальный финал фильма…» Даже билет сам переоформить обещает…
Встав на голову, Гай зацепил ногами стол и сшиб утюг.
— Это и есть образец кротости, — печально сказал Толик. И огрел Гая глажеными брюками.
К Асе Гай прибежал только около семи часов.
— Ты где пропадал?
— С Толиком на почтамт ходили, Среднекамск по срочному тарифу вызывали… Ох, Аська, досталось нам от мамы!
— Значит, остаешься? — расцвела она.
— Ты думаешь, это легко было?.. А мама потом даже всхлипывать начала по телефону. Я уж совсем решил, что ладно, поеду домой. А потом вспомнил: фильм-то…
— А что — фильм?
Гай поведал про удачу с задержкой киносъемки.
— Теперь, даже если в школу не возьмут, все равно придется остаться.
— Возьмут, не радуйся…
Марина Викторовна жила в двухэтажном доме на углу Бакинской, Ася и Гай нашли ее во дворе. Асина «классная» развешивала выстиранное белье. Была она молодая, коротко стриженная и в своем спортивном костюме походила на учительницу физкультуры, а не истории. Асе она обрадовалась, а заодно и Гаю. Они помогли ей развесить на веревке тяжелую клетчатую скатерть.
Насчет занятий в школе Марина Викторовна сказала, что пусть старший брат Миши Гаймуратова напишет заявление. А когда Миша будет уезжать, ему заверят дневник с оценками, вот и все. И улыбнулась:
— Надеюсь, оценки будут приличные.
Гай сказал, что он тоже надеется. И спросил:
— А правда, что можно без формы, вот так?
— Ну, совсем «так», наверно, не стоит. Галстук надо бы надеть. Пионер ведь? Вот… И, конечно, подстричься. У нашего директора отношение к прическам строгое.
— Ой, а стричься как раз нельзя, — встревожился Гай. — Режиссер не велел. Я им там с волосами нужен.
— Да? Ну, решим как-нибудь и этот вопрос… Пойдемте ко мне ужинать, а? Я сегодня одна, муж на репетиции в оркестре, Витька у мамы… Блинчиков с медом хотите? Вижу, что хотите, пошли, пошли. Только жарить будем вместе.
Толик предупредил Гая, что вернется поздно и что «пусть впечатлительный ребенок не изводится, а спокойно дрыхнет».
— На здоровье, — согласился счастливый Гай. — Гуляй хоть до утра. Только не связывайся больше с хулиганами.
— Это пусть они со мной не связываются…
— Привет Алине Михаевне, — сказал Гай и слегка покривил душой: — Она мне очень понравилась.
На самом деле он не знал, понравилась ли ему невеста Толика. Что тут скажешь, если и разглядеть-то не сумел как следует? Впрочем, Толику виднее…
Вечером Гай не тревожился, но и не спал. Дождался, когда Толик вернулся.
— Что не спишь?
— Думаю, — сказал Гай.
— О чем, не секрет?
— Так, обо всем… Толик, а почему ты считаешь, что это не может быть бюст Алабышева?
— А почему — его? Во-первых, в Севастополе были тысячи героев…
— Ну а вдруг все-таки?
— …А во-вторых, Алабышев, скорее всего, вымышленный герой. Курганов его просто придумал.
— Значит, ничего не было? — огорчился Гай.
— Чего «не было»?
— Ну… как он ребят спас…
Толик сел на край скрипучей раскладушки Гая.
— Такое-то как раз было. И люди вроде Алабышева были. На гранаты кидались, ребятишек прикрывали и товарищей своих… Я когда в первом классе учился, в соседней школе был случай. На уроке военного дела граната оказалась не учебная, а боевая. И военрук, фронтовик-инвалид, тоже грудью на нее… Ребята кругом были…
Гаю стало зябко, и он сказал с непонятной виноватостью:
— Это, наверно, не всякий может. Только герой…
— Наверно, — сказал Толик.
— Даже представить нельзя, что человек думает, когда вот так… последние секунды…
— Этого никто не знает, — сумрачно сказал Толик. — С кем такое случается, тот потом не расскажет… И вообще, спал бы ты. Что за мысли на ночь…
— Это потому, что мы сегодня с Асей были где снежный бастион стоял…
— Нагулялся за день-то? Небось ноги отваливаются?
— Ага… Даже пятку натер. Вот… — Гай выставил из-под простыни ногу.
— Ну-ка покажи. Может, пластырем залепить? Дай гляну…
— Ай! — Гай спрятал ногу. — Щекотно же будет!
— Какая зануда, — сказал Толик.
Ветер
Ася дала Гаю потрепанный, но прочный портфель. А про учебники снова сказала: «Хватит нам с тобой моих». Гай купил в «Детском мире» у рынка десяток тетрадей и дневник. Погладил старенький пионерский галстук (он его прихватил в поездку на всякий случай). На этом и кончилась подготовка к школе.
В классе Гая встретили без особого любопытства, но по-хорошему. Председатель совета отряда Костик Блинов сказал:
— Жалко, что ты к нам ненадолго. В классе у женской половины перевес, нас затюкали совсем…
Девчонки с радостными воплями погнались за Костиком по партам и слегка поколотили в углу. Двое мальчишек выхватили из сумок пистолеты-брызгалки и атаковали девчонок с тыла.
— И в этом сумасшедшем доме я староста, — сказала Гаю Ася. — Ну-ка, тихо вы…
Ощущение веселья не покидало Гая с первого школьного часа. Во всем было такое беззаботно-праздничное настроение, что школа даже казалась ненастоящей. Мельтешило солнце, врываясь в распахнутые окна сквозь листву каштанов; задиристо трезвонил колокольчик, вызывая всех на перемену; уроки казались короткими, а перемены с беготней во дворе, с переброской мячами, с лазаньем по каштанам — длиннее уроков. Радостная пестрота была в смехе и перекличке, в топоте по аллеям и коридорным половицам, в мелькании разноцветных рубашек… Кое-кто из мальчишек пришел и в форме, но форма эта оказалась совсем непохожей на суконные серые костюмы, к которым привык в Среднекамске Гай. Она лишь добавила зеленовато-голубые блики в красочную круговерть первого школьного дня…
В этой круговерти Гай не сразу вспомнил о Пулеметчике. И лишь после четвертого урока прошелся у дверей пятого «Б». Потом заглянул в класс.
Он увидел и узнал Сержика, но не сразу. Пятиклассник Снежко мало походил на Пулеметчика в Херсонесе. И не в том дело, что оказался Сержик аккуратно подстрижен и не было на нем пыли и ржавчины. Главное, что не было кинжальной ощетиненности, которая больше всего запомнилась Гаю.
Но смелость в этом мальчишке ощущалась по-прежнему. Этакая веселая независимость. Он стоял в кругу ребят и что-то рассказывал им и молодой учительнице (волосы ее сияли в потоке солнца). Сине-зеленый форменный пиджачок был надет на Сержике, как гусарский ментик: левый рукав — на руке, правое плечо — внакидку. Правой ладонью Сержик чертил в воздухе какие-то знаки. И смеялся. И ребята смеялись, и учительница.
На миг Сержик встретился глазами с Гаем. Не узнал, конечно. А Гай почему-то испугался. Будто его поймали на подглядывании. Быстро шагнул от порога. Но издалека он успел заметить в открытую дверь, как все вдруг расхохотались, а учительница — высокая, гибкая — взъерошила Сержику волосы, схватила его под мышки и сильно закружила по воздуху. Сержик тоже хохотал, стриг воздух похожими на коричневые карандаши ногами, а слетевший с плеча пиджачок развевался над ним, как флаг…
Было понятно, что Сержика Снежко здесь любят за ясность характера, за веселость и смелость, хотя ростом он, кажется, меньше всех в классе — щуплый, тонко-угловатый, похожий на третьеклассника… И Гай не решился подойти. Показалось, что пятиклассники глянут ревниво и недовольно: «Что тебе надо от нашего Сержика?»
Можно было, конечно, забежать после школы к Сержику домой. Но тогда могло случиться, что Ася захотела бы пойти с Гаем. А ему надо было поговорить с Пулеметчиком один на один…
«Успеется, — успокоил себя Гай. — Не последний же день». Он хитрил с собой. Во-первых, не хотелось терять оставшуюся капельку надежды, что бюст как-то связан с повестью Курганова (а то, что надежда рассыплется при разговоре, Гай отчетливо понимал). Во-вторых, будущий разговор о гранате тоже беспокоил. Казалось бы, чего тревожиться? Сержик обрадуется, еще спасибо скажет… Но когда Гай думал об этом, опять начинала кататься в душе черная дробинка. «Ладно, завтра», — сказал себе Гай.
Но завтра оказалось, что у шестиклассников пять уроков, а у пятого «Б» всего три и Сержик Снежко ушел из школы рано.
А третьего числа было воскресенье. И Гай — с Толиком, Алиной и Ревским — поехал в Ялту. На «Комете» с подводными крыльями.
Поездка Гаю не понравилась. «Комета» ехала по морю, как автобус, это быстро надоело. Ялта с курортной суетой и переполненными пляжами показалась утомительной и скучной. Стоило ли уезжать из прекрасного Севастополя ради бесцельного болтания по забитым людьми улицам, кафе и магазинам?
Хотели сходить в дом Чехова, но он оказался закрыт.
Толик, Алина и Ревский болтали о своих делах, вспоминали детство, а Гай томился. Нет, он не вредничал и не ворчал, но в нем нарастало раздражение…
В Севастополь Гай вернулся, будто домой из дальней поездки. По-родному светились окна Артиллерийской слободки. Радостно трещали цикады…
При прощании Ревский сказал:
— Приношу свои извинения за беспокойство, князь, но завтра вам надлежит быть на судне. Долг зовет вас под флаги «Фелицаты». В два часа жду на причале…
И опять не оказалось времени для Сержика.
На «Крузенштерне» Гая встретили шумными приветствиями, хлопаньем по плечу и упреками, что «забыл своих коллег по пиратскому ремеслу». Гай весело отбивался: я, мол, не только пират, но и ученик, сейчас даже для джентльменов удачи обязательное восьмилетнее образование…
Прикинули, на каких вантах и на какой высоте будет стоять Гай во время съемки. Карбенев решил, что оператора придется «выносить» за борт — на специальной стреле. Игорь Васильевич сказал, что для финальных кадров драная полосатая фуфайка Гая не годится. Финал — праздничный: «Фелицата» подходит к заветному острову, поэтому вся команда принаряжена. Значит, и юнге оставаться оборванцем негоже.
Костюмерша Настя сняла с Гая мерку и уже через час прикинула на него сметанную блузу из алого атласа. Широкую, легкую, с летучим квадратным воротником, похожим на белый с голубыми полосками флаг.
— Но стричься — ни-ни, — сказал Игорь Васильевич. — Волосы должны живописно разлетаться на ветру.
— Пускай разлетаются, — вздохнул Гай. — Хотя сегодня дежурные уже два раза придирались.
— Терпи, — сказал Ревский. — Не так уж долго тебе осталось подрывать основы педагогики. Съемка через четыре дня…
— Ура! — подскочил Гай.
— Если не испортится погода, — вставил «пират» Витя Храпченко. — Чегой-то задувает, братцы. А?
И правда, с моря дул не ветерок — ветер. Когда шли на «Крузенштерн», портовый катер ощутимо болтало, и он не сразу ошвартовался у трапа. А на обратном пути встречная волна «дала прикурить», как выразился Витя Храпченко. Катер то зарывался по палубу, то взлетал носом на гребни. Брызги летели над палубой и рубкой от форштевня до кормы. Все укрылись внизу, но Гай все время высовывался из маленького люка впереди рубки по пояс, а то и по колени. Несмотря на ветер, небо оставалось ясным, и крылья взлетающей пены были просвечены янтарными и оранжевыми вспышками…
Чем ближе к городу, тем сильнее делались волны. Оглядываясь, Гай видел вверху, за мокрыми стеклами рубки, молодое скуластое лицо капитана. Скулы были напряжены. Но Гай не ощущал никакой тревоги. Только восторг.
Наконец качнуло так, что он не удержался и загремел вниз, ободрав ногу на окованной ступеньке трапа.
— Сударь, вы доигрались, — сказал Ревский.
— Пфе… — ответил Гай и опять рванулся наверх.
— Куда ты! И так мокрый насквозь! — Ревский схватил его за щиколотку. Гай заорал, испугавшись щекотки. Ревский с перепугу отпустил его. Гай высунулся, подставил под брызги руки, мокрой ладонью стер с ноги кровь и вцепился в комингс люка — навстречу летел такой пенный гребень! Хлестко ударило в лицо, солью заполнило рот. Гай отплевывался и хохотал.
Его стянули вниз, капитан спохватился и велел задраить люк. Гай смеялся и отлеплял от живота мокрую рубашку.
— Передай Толику, что я просил его применить к тебе педагогические санкции, — сказал Ревский. — Искренне сочувствую дядюшке такого племянника.
Гай весело сопел…
Утром ветер продувал город насквозь и устраивал на улицах кутерьму. Летели с платанов и акаций листья. Сыпались на головы прохожих и лопались спелые каштаны. Словно узкие марсели клиперов, надувались натянутые поперек улиц лозунги: «Севастопольцы! Городу нужны ваши руки, ваши сердца, ваши улыбки!», «Город и флот! Пятидесятилетию Октября — наш ударный труд!» Лозунги были написаны голубыми буквами на серой, как суровая парусина, материи.
На улице и площадке перед школой кружилась разноцветная метель. Это носилась по асфальту пестрая октябрятская малышня в трепещущих рубашках, летели с голов белые, голубые и алые испанки, реяли галстуки. У кого-то вырвалась и, как перепуганная курица, умчалась по воздуху тетрадь… И все это вперемешку с летящими листьями и проблесками солнца. Солнце среди рваных и очень быстрых облаков — серых и белых — словно махало желтыми крыльями…
Было похоже, что ветер растрепал и школьный распорядок. По крайней мере, Гай и Ася услыхали от дежурной учительницы, что сегодня и завтра шестиклассники будут учиться со второй смены. «Из-за сложностей с расписанием».
— Ну и ладно, — обрадовалась Ася. — У нас с мамой дел всяких по хозяйству… Надо комнату белить. Сейчас и займемся.
— Может, помочь? — нерешительно предложил Гай.
— Ну да! Тебя там и не хватало…
— Тогда скажи Толику, что я погуляю до школы. В Музей флота еще раз схожу…
— Только не суйся к воде.
— Я что, из ума выжил?
Даже вот здесь, у школы, был слышен штормовой прибой.
…Но все же он сунулся к воде. Обошел Артиллерийскую бухту и через Хрустальный мыс, по слоистым уступам песчаника, мимо строящегося наверху похожего на корабль здания спустился к наветренным скалам.
Ух, что тут делалось! Гай, наверно, два часа смотрел, как вздымается море у желтых обвалившихся глыб, как встают многоэтажные стены из пены и брызг. Когда стены падали, видно было зеленовато-сизое пространство, по которому шли от горизонта неторопливые валы с белыми гребнями, и Константиновский мыс, где прибой штурмовал старинную крепость. А потом опять вырастали пенные взрывы… Редкие травинки прижимались к камням.
Гай наконец продрог от ветра и брызг. Но пока он шагал к Музею флота, взмахи солнечных крыльев согрели его, а ветер высушил рубашку и волосы.
«Ну и пусть шторм! — весело думал Гай. — Ну и пусть задержится съемка! Куда спешить-то?»
Потом он долго и неторопливо ходил по прохладным залам музея с моделями фрегатов и крейсеров, с портретами адмиралов и картинами сражений. Наконец он в витрине с оружием последней войны, среди касок, автоматов с круглыми магазинами и пулеметных лент увидел несколько гранат-лимонок.
И тревожно насупился.
И со злостью на себя подумал, что хватит уже тянуть резину и себе самому портить настроение. Все так хорошо в жизни, и лишь чертова граната — как болячка на душе.
«А сегодня Сержика опять не встречу, — с досадой понял Гай. — Из-за этой дурацкой второй смены…»
Когда Гай вернулся к школе, уже тренькал колокольчик. Дежурная учительница — худая, остроносая и, видимо, всем недовольная, кричала с порога, чтобы торопились, а не плелись.
Заторопился и Гай. Но учительница ухватила его за рукав:
— А для тебя школьные порядки не существуют?
— А… чего? — растерялся Гай.
— А «того». Космы твои! Не знаешь распоряжения?
— Дак я же с киносъемки! Спросите хоть кого! Я…
— А мне хоть из-за границы! Здесь школа, а не кино!
— Но как же сниматься-то? Да все уже в школе знают.
— А я не знаю! Фамилия? Класс?
— Пожалуйста! Гаймуратов, шестой «А»… Ну, я же…
— Он еще и «пожалуйста»! Марш в парикмахерскую, а потом пойдешь к директору! Вместе с родителями.
— Да где я их возьму вам, родителей? — не выдержал Гай.
— Ты мне еще погруби! — Она уже не слушала, держала за воротник какого-то несчастного второклассника.
Гай вытянул шею, надеясь разглядеть в вестибюле знакомых ребят или Марину Викторовну.
— Ты еще здесь?
— Ну и на здоровье! — сказал Гай. Ушел и сел на скамейку против школьного крыльца. По темени стукнул его колючий каштан. Это рассмешило Гая, и он подумал, что злиться не стоит.
Все равно все было хорошо: и город, и «Крузенштерн», и школа. И не станет белый свет хуже от того, что встретилась одна… такая вот… Ей же потом Марина Викторовна нахлобучку даст за бестолковость, когда узнает про этот случай…
Гай решил дождаться перемены. Может быть, тогда он сумеет проскочить в школу или через ребят передаст Марине Викторовне «СОС». Он сидел, потирая вчерашнюю «штормовую» ссадину и щурясь на проблески солнца. Школьная дверь скрипуче запела, приоткрылась, выпустила на ступени стайку мальчишек. И среди них был Сержик.
Гай заволновался, будто должно было случиться что-то важное.
А что? Ну, пойдет сейчас пятиклассник Снежко с приятелями от школы, ребята один за другим начнут отставать, сворачивать к своим улицам, подъездам и калиткам. Наконец Сержик окажется один, и Гай окликнет его…
Сержик остался один даже раньше, чем рассчитывал Гай. Мальчишки дошли вместе до угла и весело разбежались кто куда. Сержик зашагал сам по себе. Но не домой. Он свернул к Артиллерийской бухте и двинулся по набережной.
Даже здесь, в бухте, защищенной от моря высоким Хрустальным мысом, волны разгулялись вовсю. Пена и брызги летели на ракушечные плиты. Сержик то подходил к самому краю, то отскакивал, увидев крупный гребень. И, кажется, смеялся. Его расстегнутый пиджачок трепыхался на ветру, а волосы вставали торчком.
Гай шел шагах в двадцати.
Теперь никто не мешал окликнуть Сержика, но Гай ощущал боязливую неуверенность. Робость перед щуплым независимым мальчишкой. И злился на себя.
Бухта кончилась, мыс перестал прикрывать набережную от идущих с моря волн. Пришлось подняться на бульвар. Там прошагали они еще минут пять. Потом, пройдя мимо театра, Сержик остановился у каменной балюстрады, рядом с лестницей. Лестница вела на площадку, что лежала между высокой набережной и морем. Даже не площадку, а площадь — широкую, выложенную плитами.
По плитам скакала мокрая веселая малышня. Пятеро мальчишек — по виду первоклассники. Они побросали у гранитного отвеса набережной ранцы и обувь и дразнили штормовой прибой. В секунды затишья подбирались к самому краю площадки и ждали, когда с гулким ударом встанут над плитами многометровые водяные взрывы. И прибой вставал. Великанские гребни замирали на секунду и рушились на площадку могучей тяжестью зеленой воды, сокрушительным градом брызг. Мальчишки радостно верещали и удирали из-под водопадов. А вода, грянувшись на плиты, бурлила и устремлялась назад к морю. Заливала бесшабашным пацанятам ноги по колени, старалась утянуть мальчишек с собой…
«А ведь и утянет!» — вдруг понял Гай. Потому что увидел, как один из ребят еле устоял в бурлящем потоке, а второй сел на корточки, цепляясь за щель между плитами, — вода накрыла его по плечи.
Пойти да разогнать, что ли?
Сержик в этот миг что-то звонко, но неразборчиво крикнул. Его не услышали. Трое мальчишек вели вымокшего приятеля подальше от волн, к стене. Он вздрагивал и что-то весело говорил… Сержик вдруг метнулся вниз по лестнице! Потом по плитам. Куда? И Гай увидел, что пятый мальчишка в беде.
На площадке был желоб водостока. Сперва почти незаметный, он ближе к морю углублялся, а у самого края нырял под плиту. За эту плиту сейчас и цеплялся светлоголовый пацаненок. Шумная вода утянула его под каменный козырек почти по грудь. И затягивала дальше. Мальчишка беспомощно дергался. Застрял.
Новый удар прибоя тряхнул берег, и опять обрушились каскады, бурлящая вода накрыла мальчишку до ушей. Но, кажется, он засел в желобе прочно, и это на сей раз спасло его.
А в следующую секунду его спас Сержик Снежко. Пулеметчик.
Он ухватил мальчишку за плечи, оттащил вверх по желобу, рывком поставил на ноги. Прибой снова обрушился и раскатился по площадке. Сержик прижал мальчишку к себе. Вода закрутила у их ног шумные водовороты и сошла. Сержик оторвал от себя перепуганного малыша, дал ему подзатыльник и отвесил пинка — такого, что от мокрых штанов разлетелись брызги.
…И все это случилось быстро. И все это Гай видел, когда отчаянно мчался сперва вдоль балюстрады, потом по ступеням. А когда прыгнул на плиты, помощь его была не нужна.
Сержик посмотрел на Гая, улыбнулся и сказал виновато:
— Я его не сильно. Просто чтоб в себя пришел…
— Это что вы здесь делаете, а? Кто разрешил?! — Грозный голос донесся с лестницы, и Гай увидел молодого милиционера. Тот скачками спускался по ступеням. Его белая рубашка была обтянута ветром, ремешок фуражки охватывал подбородок.
— Что за игра?! Жить надоело?!
Малыши подхватили свои ранцы, носки и сандалетки и дунули вдоль гранитного отвеса к другой лестнице.
— А ну, стойте!
Ага, такие дурни они, что ли? Спасенный из водостока пацаненок улепетывал впереди всех.
Старшина милиции подступил к Сержику и Гаю:
— Ну, они-то несмышленыши! А вы? Мозги имеются? Или баловство дороже головы?
Вода шипучим языком издалека подползла к их ногам. Милиционер переступил начищенными ботинками. Сделал вдох, чтобы продолжить воспитательную речь. Гай сказал, кивнув на Сержика:
— Он человека спас, а вы кричите.
— Разговорчики… Кто кого спас?
— Вот он… Вон оттуда вытащил маленького. Его чуть в море не стащило…
— Сперва лезете черту в зубы, а потом спасаете, — буркнул милиционер. — Кто вас сюда звал?
— Он что, баловался? — обиженно сказал Гай. Подбородком показал на промокшие вельветовые полуботинки Сержика. — Кто же обутый нарочно по воде бегает?
Старшина недоверчиво глянул на Сержика и расстегнул сумку. Достал блокнот.
— А тех обормотов как зовут? Вот сообщим родителям, чтобы взгрели…
— Я откуда знаю? — усмехнулся Сержик.
— Понятно. Сам помирай, а товарища не выдавай… А если товарищи голову сломят по своей дурости?
Сержик бесстрашно пожал плечами.
— Уже не сломят, удрали… Если бы я знал, я, конечно, все равно не сказал бы. Но я правда не знаю.
— Какой герой! Отведу в отделение, там все скажешь.
— Что, по-вашему, мы должны всех мальчишек в городе знать? — огрызнулся Гай. Он хотел часть милицейского гнева отвести на себя.
Но гнева уже не было. Старшина проворчал:
— Вам игрушки, а за вас отвечай потом!
— А зачем вам за нас отвечать? — спросил Сержик.
— А затем, что я на посту.
Сержик поднял глаза — насмешливые и дерзкие:
— Правда? А почему вы тогда не здесь, а все около нашей школы ходите? Особенно когда учительница физкультуры во дворе урок ведет? Все ребята заметили…
Старшина помигал и спросил казенным голосом:
— Фамилия?
— Учительницы?
— Твоя.
— Снежко Сергей, пятый «Б», сорок четвертая школа.
— Гаймуратов Михаил, — сказал Гай с веселым страхом. — Шестой «А».
Старшина записал. Сержик объяснил ему:
— За то, что мы какого-то первоклассника из водослива вытащили, нам двойки за поведение не поставят.
— Это он вытащил, — сказал Гай.
— То, что вытащил, дело особое. А вот то, что грубишь старшему, который к тому же при исполнении, доложу вашему директору.
— А как я грубил, тоже доложите? — поинтересовался Сержик.
Старшина спрятал блокнот и вздохнул:
— Не буду я докладывать. Я тебе просто уши накручу.
— А вот это нельзя, — серьезно сказал Сержик. — Вам от начальства попадет. За нарушение закона. «При исполнении».
— Начальство не поверит. Я у него на хорошем счету.
— А я свидетель, — сказал Гай.
— А ты помолчи, лохматый. А то накручу обоим. Будет два пострадавших и ни одного свидетеля. Тогда доказывайте.
Сержик отпрыгнул, как кузнечик. Засмеялся:
— Двоих еще поймать надо.
— Катитесь отсюда, — печально сказал милиционер.
Сержик и Гай пошли вверх по лестнице.
— Стойте! — окликнул милиционер. Они оглянулись. Старшина деловито спросил: — В порядке уточнения. У той учительницы физкультуры как имя-отчество?
— Нина Андреевна, — вежливо разъяснил Сержик. — Очень хорошая… учительница. Но она замужем, товарищ старшина.
Милиционер поправил фуражку и быстрыми шагами двинулся к лестнице. Сержик подхватил у балюстрады свой портфель, и они с Гаем помчались по аллее. Оглядываясь и хохоча…
«Пусть лежит…»
Бежали, пока не запыхались. Потом сели на скамейку позади длинного пластмассового киоска. Киоск заслонил их от ветра, в окруженном кустами закутке было тепло и тихо.
Гай спросил (просто так, чтобы затеять разговор):
— А этот старшина правда пасется у школы?
— Я его три раза видел. И ребята говорят… — Сержик сбросил раскисшие башмаки и, кряхтя, стягивал тугие мокрые гольфы. Словно кожу сдирал: гольфы были одного цвета с загорелыми ногами Пулеметчика.
— А что, если он накапает на нас в школе? — сказал Гай и сразу испугался: вдруг Сержик решит, что он боится?
— Не накапает… — выдохнул Сержик, выкручивая гольфы. — Что он, совсем глупый? Ему же и попадет, что не был на посту.
Гай торопливо объяснил:
— Мне-то все равно, я скоро уеду. А вот тебе…
Сержик удивленно глянул на Гая. Видно, подумал: что за странный мальчишка? Зачем увязался следом? Чего хочет?
Гай опустил глаза.
— Ты меня, наверно, забыл. Мы один раз вместе играли. Когда ты был пулеметчик…
Сержик мигнул… Улыбнулся… Вспомнил:
— А, ты на пулемет с гранатами лез! А потом пропал куда-то. А тут эти с арканом… Я тогда так разозлился!
«Я помню», — подумал Гай.
— Так обидно стало, — вздохнул Пулеметчик. — Если бы гранатами закидали, тогда еще понятно. А то веревка… Хорошо, что у меня была граната. — Он с веселым недоумением взглянул на Гая. — Куда она потом подевалась? Пропала, будто по правде взорвалась — на мелкие пылинки…
Гай тихо сказал:
— Если бы по правде, тогда никого бы из нас не было.
— Ну да… — Сержик понимающе кивнул. — Знаешь, я как-то даже испугался. На одну секунду…
— Чего… испугался? — осторожно спросил Гай.
— Ну… — Сержик смотрел доверчиво. Может, видел в Гае товарища по суровой игре, который его поймет. Может, вообще был у Сержика Снежко такой вот открытый характер. — Я так разозлился, что взяли хитростью… Показалось, будто в самом деле на войне. Ка-ак дерну кольцо… А потом уж смотрю — это же наши ребята кругом.
«Значит, если бы не ребята, а враги, ты бы и правда дернул? Настоящую?» — едва не спросил Гай. Но не решился.
Да и чего было спрашивать? Он вспомнил тот кинжальный взгляд Пулеметчика. А сегодня! Риск там, у водостока, был, может, и не смертельный, но и не шуточный.
Сержик тоже вспомнил спасенного малыша и его приятелей.
— До чего бестолковые… Сушись теперь из-за них. Если с мокрыми ногами приду, бабка сразу в оборот возьмет.
— За что? Ты же человека спас!.. Ты объясни!
— Ага, будет она слушать! Сразу за шиворот, и получ-чай, милый внучек… — Сержик хлопнул мокрыми гольфами по скамейке и засмеялся: — Знаешь, какая решительная бабушка…
— Баба Ксана? Я думал, она прабабушка.
Сержик очень удивился:
— Ты ее знаешь?
— Я… — смешался Гай. — Случайно. То есть не случайно, но… В общем, я когда с ней познакомился, я не знал, что ты ее внук… или правнук. Мне уж потом Ася Новицкая сказала.
Сержик молчал и смотрел вопросительно. Гай объяснил:
— Про бабу Ксану мне тоже Ася сказала. Потому что мы про бюст заговорили. Ну, про тот деревянный портрет офицера, что у нее стоит. Знаешь?
— Знаю, конечно… — Сержик по-прежнему смотрел недоуменно. И, кажется, слегка насторожился. Может, решил, как и баба Ксана, что речь пойдет о музее? — А чего он тебе, этот бюст?..
— Да он как раз не «этот», — вздохнул Гай. — Я думал, что он с «Надежды», которой Крузенштерн командовал… Это давняя история, про одного лейтенанта и его бюст… Я подумал: а вдруг это тот самый? А баба Ксана говорит, что нет. Что это какой-то севастопольский герой… И что его друг ее сына вырезал…
— Ну да, — сказал Сержик, словно спрашивал: «Что здесь удивительного?»
— А кто этот офицер? Не знаешь?
— Знаю, конечно. Лев Толстой.
Гай изумленно заморгал. Сержик засмеялся:
— Это не тогда Лев Толстой, когда он с бородой, старый, а раньше. Когда он здесь на бастионах воевал. Ты, что ли, не слышал про это?
Гай, конечно, слышал и читал. И памятник Толстому видел на Четвертом бастионе — черный камень с белым барельефом. И сейчас понял, что барельеф и бюст похожи. И еще вспомнил портрет молодого Толстого в книге «Севастопольские рассказы». Можно было бы сразу догадаться…
«Или что? Ты все-таки надеялся, что это по правде Алабышев?» — с хмурым ехидством спросил себя Гай.
Сержик сказал, словно извиняясь:
— Вообще-то сходство там, наверно, не очень хорошее. Не художник ведь делал.
— Нет, хорошее. Теперь я понял, — вздохнул Гай. — Просто до этого я о другом думал… А баба Ксана почему не знает, что это Лев Толстой?
— Ей говорили, да она не помнит. Старая ведь уже… А потом и говорить не стали. Пусть думает, что Гриша…
«Конечно, пусть…» — мысленно согласился Гай. И сказал:
— А она мне совсем не показалась злой… баба Ксана… Наоборот…
Сержик тихо улыбнулся:
— А она и есть наоборот. Просто она притворяется сердитой. Чтобы судьбу обмануть.
— Зачем?
Сержик опять глянул доверчиво.
— Ну, понимаешь, она же суеверная. Потому что возраст… Ей кажется, будто за ней кто-то невидимый следит, навредить хочет. И если она кого-то сильно полюбит, этот невидимка может тому человеку зло сделать… Или совсем погубить, как Гришу.
— Кто? Бог, что ли? — смущенно спросил Гай.
— Да нет. Она говорит, что Бог-то как раз добрый… Пока церковь на Большой Морской работала, она туда каждую неделю ходила. А сейчас в другую ходит, на кладбище… Но она говорит, что Бог не может каждого от злой судьбы защитить, людей-то вон сколько… Вот она и притворяется, чтобы горе отвести. Чуть что — сразу меня веником или рушником: «Ах ты, злодий, я ж тебя зáраз!..» — Сержик засмеялся, но сразу замолчал и вдруг сказал полушепотом: — А если думает, что сплю, сядет рядом и волосы мои трогает. Шепчет что-то… Мне тогда ее жалко…
Гай робко кивнул: «Понимаю…»
Сержик негромко проговорил:
— Что прабабушка, что бабушка, не все ли равно? Отец ее мамой зовет, хотя на самом деле внук. Она его вырастила…
— Ага, она говорила…
Разговор угас на печальной ноте, и Сержик, видимо, ощутил неловкость. Встряхнулся, сказал весело:
— А иногда она и в самом деле так рассердится, что ой-ей! Тогда из-за гранаты на меня вон как напустилась: «Чтоб тебя с этой страхилатиной поганой дома не было!» Я и пошел куда глаза глядят… Аську встретил — и с ней в Херсонес: она к деду, а я так… А там Руслан, мы с ним раньше вместе учились…
— Рыжий такой?
— Да… Говорит: «Играть с нами будешь? Иди в засаду». Граната сперва в сумке у Аськи была, потом я ее с собой в укрытие взял, незаметно… А потом она — фью! — бабе Ксане на радость… И куда провалилась? — Сержик забавно развел руками.
Вот и настал наконец этот момент. Гай коротко вздохнул и сказал решительно:
— Я знаю, где твоя граната.
Сержик удивился. Так же, как в тот раз, когда услышал о «прабабушке». Смешно замигал, рот округлил.
— Ее не там искали, — сказал Гай. — Она попала под большой камень, там такая яма, вроде норы… Выше по склону…
— А сейчас она где?
— Наверно, и сейчас там. Куда она денется? — хмуро сказал Гай. — Там незаметно…
— А почему ты не достал?
— Ну а куда я с ней?.. Я ее не сразу нашел, ребят уже не было… А больше я туда не ездил, закрутился…
Сержик рассеянно кивнул.
Гай виновато проговорил:
— Я тебя потом искал, чтобы сказать. А ты уехал.
Сержик ничего не ответил. В его молчании Гаю почудилось недоверие. Гай предложил торопливо:
— Давай съездим, я покажу, где она… Или сам привезу, если хочешь.
Сержик с сопением натягивал подсохшие гольфы. И вдруг сказал:
— Да ну ее… Пусть лежит.
— Как? — удивился и не поверил Гай.
— Да ну ее… Это сперва с ней интересно, а потом не знаешь, что делать.
— Как что… Играть, — неуверенно сказал Гай.
Сержик мотнул головой.
— С ней трудно играется. Она почти настоящая. У всех оружие деревянное, а она такая… все только на нее и смотрят. Получается, будто ты сильнее всех, если такая граната…
Он сказал то, что Гай чувствовал еще в Херсонесе. Но Гай тогда и подумать не мог, что у Пулеметчика такие же мысли.
Сержик нехотя объяснил:
— Если настоящая война, там все настоящее. А если игра, все должно быть игрушечное, а то нечестно…
— Значит, тебе ее совсем не надо? — недоверчиво спросил Гай.
— Пусть лежит… Бабе Ксане спокойнее… А если хочешь, бери ее себе!
— Нет! — быстро сказал Гай.
Сержик не удивился.
— Ну, нет так нет. — И повторил: — Пусть лежит…
— Но ты же говорил, что это подарок, — напомнил Гай.
— Ну и что? Это такой подарок… просто довесок. Андрей мне вообще-то самострел подарил с резиной, а про нее сказал: «Ладно, забирай и ее заодно, если надо…»
Сержик обулся, встал, весело потопал.
— Сырые еще. Ладно, сойдет…
«Вот и все», — сказал себе Гай. Глупая история с гранатой кончилась.
Но облегчения Гай не почувствовал. Черная дробина по-прежнему шевелилась в нем. И Гай знал почему.
Этому городу, морю, «Крузенштерну» — всему, что было вокруг, — нужен был другой Гай. Острову капитана Гая нужен был другой Гай. И самому Гаю нужен был другой Гай. Честный до конца.
А если есть в душе хоть капля обмана, так и будешь смотреть на всех с тайной опаской, со скрытой виноватостью. И остров будет исчезать или тонуть за горизонтом раньше, чем к нему подплывешь.
«Но не все ли теперь равно? Ведь главное-то я сказал!» — огрызнулся на себя Гай.
— Ты где живешь? — спросил Сержик.
— Рядом с Асей…
— Я и не знал. Тогда пошли? Нам по пути.
— Мне в школу надо…
Гай скомканно рассказал о стычке с учительницей, а заодно и почему нельзя стричься, и откуда он приехал; и что сейчас надо попасть в школу, потому что Ася, наверно, беспокоится: куда он девался? И два ее учебника у него в портфеле…
— Вот это да… — выдохнул Сержик. — Значит, мы тебя в кино увидим?
— Ну… наверно. Если получится.
— Жалко, — вдруг сказал он.
— Что жалко? — испуганно спросил Гай.
— Да я не про кино. Жалко, что скоро уедешь. — Сержик посмотрел на Гая ясно и улыбчиво.
И тогда, словно шагая с высокого берега, Гай сказал:
— Сержик, ты меня прости…
Глаза у Сержика сделались большими от изумления.
— Я наврал, что случайно нашел гранату, — выдавил Гай, глядя в землю. — Я сразу видел, куда она упала… Я думал: никто не знает, ну и я… в общем, думал: возьму себе потом…
Гай понимал, какой он сейчас жалкий, растрепанный, красный, несмотря на загар. Чувствовал себя пришибленным и маленьким перед пятиклассником Сержиком, который ему чуть выше плеча, но у которого бесстрашная и чистая душа.
Ох как тошно… И все-таки вместе с этой мукой он испытывал облегчение. Словно разбил стекло в душной комнате.
Гай заставил себя поднять глаза. Сержик смотрел растерянно. Так, словно это он, а не Гай виноват. И сказал скомканно:
— Да чего… Да это хоть с кем бывает. Я один раз тоже, когда моторчик у Андрея увидел… А после… — Он тряхнул головой, сделался спокойнее и строже. Утешил Гая: — Не надо про нее… Ты же не взял.
Щеки у Гая все еще горели. Но вздохнул он так, словно вынырнул из глубины. Прошептал:
— Не взял, конечно… Это я сперва…
Сержик вдруг обрадованно взметнул ресницы:
— Послушай! Но раз тебе ее надо, то возьми! Все равно она там без дела валяется.
— Да нет же! Я тогда… ну, просто дурак был. Не надо мне ее сейчас.
Сейчас ему надо было другое: чтобы Сержик не затаил обиды.
Однако Сержик теперь смотрел непонятно. И оказал нехотя:
— Не надо так не надо… Я пойду тогда… А ты тоже иди, второй урок уже, наверно, кончается.
Отчуждение прошло между ними, как тень пасмурного облака.
— Ага… Пока… — потерянно отозвался Гай.
И они разошлись.
Гай медленно шел к школе и нес в себе ощущение потери, нес свою печаль. И все-таки он ни о чем не жалел. Он знал, что похожая на крошечную гранату дробина больше не станет его тревожить.
И еще одно грело Гая. Легонько грело, как солнечный зайчик. Воспоминание, как он мчался на помощь Сержику к водостоку. Гай не успел, но это не его вина. Он ни одного мига не сдерживал себя, рвался изо всех сил. И если бы смыло Сержика или того пацаненка, он, Гай, ни секунды не думая, ринулся бы в прибой. Он знал это тогда и помнил теперь. И шаги его понемногу делались крепче…
— Эй!
Гай не оглянулся. Мало ли кого окликают на улице.
Сзади нарастал частый топот.
— Подожди! Миша!.. Гаймуратов!
Сержик догонял его, трепеща своим летучим пиджачком.
Откуда он знает имя? Ах да! Из разговора с милиционером…
Сержик остановился, часто дыша.
— Я… забыл спросить… У тебя сколько уроков?
— Да кто их знает! — поспешно сказал Гай. — Такое бестолковое расписание…
— А ты… может, придешь к нам вечером, а?
— Я? Ладно!.. Если хочешь.
Ветер все шумел, гнал по стенам, по асфальту летучие солнечные лоскутья. Веселый такой ветер. Просто смеяться хотелось.
Сержик пнул подкатившийся под ногу каштан, и они с Гаем смотрели, как колючий шарик прыгает по тротуару.
Потом Сержик посмотрел на Гая:
— Та история… про лейтенанта и про бюст… Я так ничего и не понял. Расскажешь?
Остров
Голос Карбенева:
— Внимание — камера!
Голос Ревского:
— Гай… давай!
Гай взлетает на планшир, прыгает на первую ступеньку вант. И пошел наверх! Легкий, радостный, дождавшийся своего часа…
Гай босиком. В башмаках с пряжками оказалось тяжело и неловко. А широкие планки вовсе и не режут ноги. Правда, пришлось утром подставить гримерше тете Рае свои ступни для крема номер пять, но, взвизгивая и обмирая от щекотки, Гай выдержал эту пытку. Ради искусства…
На двенадцатой ступеньке Гай останавливается. Ветер дует ему в затылок и правую щеку, треплет и путает волосы, полощет алую голландку, закидывает на голову белый воротник.
Паруса — над Гаем и вокруг него. Всюду. Громадные. Золотисто-белые на солнце и голубые в тени. Туго и круто выгнутые, они кажутся твердыми, как фарфор: щелкни пальцем — и зазвенят.
Судно идет с креном на левый борт. Сзади и сбоку его пытаются догнать зеленовато-синие волны, кое-где на них вспыхивает пена. Волны не очень большие, стальную четырехмачтовую громаду им не раскачать. Но, рассекая воду, гулкий стометровый корпус винджаммера ровно вздрагивает и ощутимо звенит. Басовито-струнным гудением отзывается такелаж. Плетеная сталь вантовых тросов дрожит, как натянутые мышцы, и это напряженно-радостное дрожание передается Гаю…
С борта вынесена ажурная стрела крана с площадкой для оператора. У камеры сам Карбенев. Темно-синий выпуклый объектив издалека нацелен на Гая.
— Гай — давай!
Держась за трос одной рукой, Гай вытягивается вперед (ух и ветер!). В синеве и солнце встают далекие желтые берега. На них — блестки белых домов.
— Остров!
Гай оборачивается. Ветер откидывает назад волосы, хлопает воротником. И Гай кричит опять — тем, кто на палубе:
— Вижу остров!
…В море они ушли накануне, под вечер. Когда махина «Крузенштерна», постукивая машиной, выбралась за боны, солнце уже скатывалось к горизонту. Слева тянулся изрезанный бухтами Каркинитский берег. Издалека его желто-полосатые обрывы казались невысокими. Оранжевыми маячками вспыхивали от закатных лучей стекла. Медленно двигались красные огоньки Лукулльского створа. Если свернуть на них, когда они окажутся друг над другом, выйдешь прямо к центру Херсонеса… Но «Крузенштерн», конечно, никуда не сворачивал, шел в открытое море.
Закат разукрасил море разноцветными зигзагами. Носились темные чайки. Наступал «режим» — короткое время ясных сумерек, в которых операторы снимают ночные сцены. Зашипели, засияли голубым светом юпитеры. Началась съемка сцены «Рассказ Битт-Боя». Лоцман Битт-Бой по прозвищу Приносящий Счастье рассказывал морякам о далеком счастливом острове. Он взялся привести «Фелицату» к этому острову. И никто не знал — какой ценой! Никто пока не ведал, что Битт-Бой смертельно болен и самому ему на этом острове не жить…
В толпе матросов, окружавших Битт-Боя, снялся и Гай…
Когда почти стемнело, «Крузенштерн» ошвартовался у пятимильной бочки — громадной плавучей цистерны, поставленной на мертвый якорь в пяти милях от Херсонесского мыса. Курсанты шепотом поговаривали, что капитан нервничал: боялся, что в темноте бочку не отыщут и придется всю ночь лежать в дрейфе. Ну, ничего, нашли. Стали. «Крузенштерн» засветил якорные огни.
Молодой месяц (звонкий и рогатый) повис над морем и отразился неяркой желтой цепочкой. Далекий Севастополь сквозь дымку светил переливчатыми огоньками — уличными, корабельными, маячными. Они дрожали на горизонте, как блестки, как светлая пыль. А в южной части темного моря разгоралась, затухала и вспыхивала опять электрическая звезда Херсонесского маяка.
Включили магнитофон. Знакомая песня — «Опускается ночь все чернее и злей, но звезду в тучах выбрал секстан» — разнеслась из динамика над тихим морем. Хорошая песня, сурово-печальная и смелая. Гай ее запомнит навсегда. Но сейчас ночь была совсем не зловещая, звезды светили ясно и по-доброму. И, наверно, поэтому песня угасла, словно кто-то плавно повернул до нуля регулятор громкости.
Большая компания молодых актеров и курсантов собралась на корме. Светил фонарь. Иза взяла гитару. Кто-то попросил:
— Давай «Апрельскую»…
Иза тронула струны и запела задумчиво и чисто:
…А по Москве горят костры — Сжигают старый мусор. И дым плывет по пустырям Такой же, как в лесу… Я дом ищу, где он живет — Мальчишка темно-русый. Он не пришел — и я ношу Тревогу на весу…Песня была, наверно, хорошая, мотив красивый. Но Гай слушал с досадой: тут ночь в почти открытом море, палуба, дальний маяк, огни проходящего теплохода — и вдруг поют совсем не о том. Костры какие-то, улицы сухопутные, свидания…
А гитара неторопливо пересыпала звонкие аккорды, Иза пела:
Скатилось солнце за дома, Поднялся месяц светлый — Глядит на улицы с высот Светло и озорно. И вот мальчишка тот идет — Спокоен он и весел, Как будто в душу не ронял Тревожное зерно.Месяц и сейчас был такой — светлый и немного озорной. И это примирило Гая с песней. Слова про «тревожное зерно» напомнили ему о черной дробинке, но в напоминании не было упрека: Гай с облегчением еще раз подумал, что развязался с этой историей навсегда.
А последний куплет был совсем хороший.
И будет песенка его — Как огонек в ладонях: Про корабли, про острова, Про синий блеск морей… И летний запах костровой По переулкам гонит Врасплох застигнувший Москву Безоблачный апрель…Гай понял, что, когда он услышит эту песню снова, будет думать не о Москве, не об апреле и кострах, а вспомнит эту ночь и палубу «Крузенштерна». И мальчишка с огоньком в ладонях, с песенкой о синем блеске морей и островах показался ему похожим не то на Сержика, не то на Юрку Веденеева, хотя Юрка и Сержик друг на друга нисколько не были похожи… А слово «костровой» послышалось Гаю как «островой», хотя такого прилагательного в русском языке, кажется, нет.
…С этими мыслями Гай и пошел спать в курсантский кубрик — там нашли для него свободную койку.
Утро было без единого облачка. У курсантов начались учения. Боцмана кричали в мегафоны раскатистые команды. Ребята умело разбегались по вантам и реям. Гай, заломив назад голову, завороженно следил, как распускаются и обвисают тяжелыми складками паруса… Но складки были неподвижны. Карбенев и Ревский нервничали. Однако второй штурман Бурцев сказал:
— Спокойствие, товарищи, к полудню задует. У нас все по графику.
В самом деле — после одиннадцати часов море взъерошилось, потянул ветер. И не с норд-веста, как ждали, а с зюйд-веста. Лучшего и желать было невозможно. Именно при этом ветре «Крузенштерн» мог идти курсом крутой бакштаг, лучшим для такого парусника, и так, чтобы и солнце оказалось с нужной стороны.
— Брасы и шкоты на левую! Отдать носовой!..
— Гай — давай!
Он снова пружинисто взлетает по вантам. В кино эпизод займет несколько секунд, но надо, чтобы эти секунды запомнились зрителям надолго. Чтобы на экране было все как можно лучше: и высвеченные солнцем ярусы парусины, и мальчишка с разметавшимися на ветру волосами. И радость этого мальчишки, первым заметившего долгожданную землю.
И Гай опять, вцепившись правой рукой в гудящий трос, левую выкидывает вперед:
— Остров! Вижу остров!
Он кричит это друзьям-морякам, себе, небу, морю, желтым берегам, которые вырастают из синевы, распахиваются, как крылья. Городу кричит, который встает над берегами!
Это и есть его остров! Не надо его придумывать! Оказалось, что он — на самом деле. Такой, о котором Гай мечтал: со скалистыми обрывами, старыми крепостями, запутанными улицами и лестницами, со старинными пушками на бастионах. С тайнами оборонительных башен и подземелий. С суровыми легендами о героях…
Он, этот остров, складывался в сознании Гая, как складывается постепенно из рассыпанных кубиков целая картина. И теперь — вот он, весь! И крик Гая — не для кино. Это его настоящая радость, его открытие:
— Остров! Вижу остров!
Берега все круче, город все ближе — сверкающий, радостный…
Нет, не только радостный. Справа тянется берег, где перемешаны с камнями и землей кровь и кости. Впереди, на дальнем склоне, различимы хатки и заборы Артиллерийской слободки, и в одном из домов живет баба Ксана, не дождавшаяся с войны сыновей… Сколько их было — тех, кто здесь полег… Сколько сейчас горя у тех, кто не дождался…
Но город все равно встает светлый, веселый, уверенный в своем праве на радость. И как стальное подтверждение этого права — синеют в глубине Большой бухты эсминцы и крейсера с их ступенчатыми башнями, стволами и решетчатыми парусами локаторов…
Парусник мчится к входу на Северный рейд, и Гай летит над морем. Навстречу городу, навстречу своему Острову.
Навстречу друзьям.
…Они нырнули со скользких, обросших зеленью свай в Артбухте. Разом, втроем. Гай вынырнул первым. Почти сразу за ним — Ася. И лишь через полминуты — Сержик. Он помахал рукой с добычей — большой раковиной-рапаной.
На берегу Сержик ловко подрезал ножичком спайки моллюска, ударил зажатой в ладонях раковиной о колено и вытряхнул мякоть. Выдул из ракушки капли. Прижал к уху:
— Шумит?.. Шумит. Бери, Гай.
Потом нашли еще несколько рапан — в основном Сержик, но и Гай нащупал на дне одну, маленькую. Но та, первая, от Сержика, — дороже всех.
…Когда проводили Сержика до калитки и шли по улице Киянченко, Гай снова приложил большую раковину к уху. И вдруг спросил Асю:
— Ты тогда, в Херсонесе, когда я на дракончика наступил, случайно меня увидела?
Ася помолчала. Сказала шепотом:
— Нет.
Гай больше ничего спросить не посмел.
Ася проговорила с запинкой:
— Я еще там… наверху… Вижу: ты немножко не такой, как все… Мне интересно стало…
— Почему «не такой»?
— Ну, все бегают, гранату ищут, а ты стоишь задумчивый…
Гай стиснул раковину двумя ладонями. Сказал сипло:
— Ася… Я не задумчивый, а скотина был. Я с самого начала знал, где лежит граната. И молчал.
— Ну и правильно молчал.
— Нет, я не потому, что правильно. Я… в общем, я Сержику уже сказал про это… Я думал тогда: раз никто не знает, я ее потом… ну, забрал себе и все…
Он искоса глянул на Асю. Она шла, опустив голову.
— Я свинья, верно? — тихо сказал Гай.
— Не… — вздохнула Ася. — Вы, мальчишки, просто иногда какие-то глупые. Все запутаете и сами мучаетесь. И уж потом только: трах, трах!..
— Что «трах»? — удивился Гай.
— Ну, как тот Сережка… Из книжки «Судьба барабанщика».
— А… при чем тут я-то? — испуганно изумился Гай. — Я же в шпионов не стрелял.
— Все равно… Ты мне сразу показался на него похожим.
— На Барабанщика? Ну, ты даешь…
Негромко, но строго Ася сказала:
— Ты меня спросил, я ответила. Честно. Не смейся…
— Я смеюсь, что ли… — пробормотал он.
— …А потом я иду по берегу, вижу — ты сидишь, за ногу держишься…
— Ага, «сидишь», — усмехнулся Гай. — Катался и корчился… Если бы не ты, наверно, помер бы.
— Ну уж… — усмехнулась Ася.
Гай сказал:
— Так я и не собрался в Херсонес. А сейчас той компании, наверно, уже нет. Кто разъехался, кому просто некогда — уроки… Хотя бы Артура встретить.
…С Артуром он так и не встретился. Зато однажды они увидели «ушастого воробышка» Вовку.
Гай, Сержик и Ася шли по Матросскому бульвару. За памятником Казарскому — каменной пирамидой с бронзовым древнегреческим кораблем — аллея вела к фонтану. На краю круглого бассейна и сидел Вовка. Он смотрел на каменного мальчишку в бескозырке. Мальчишка стоял на валуне посреди бассейна и, наклонившись, собирался пустить в воду модель крейсера.
— Вовчик! — обрадовался Гай.
Воробышек не удивился. Коричневыми круглыми глазами глянул на всех троих по очереди. Спросил:
— Как вы думаете, они кусачие? — И показал на воду. Среди плоских плавучих листьев видны были золотисто-красные рыбки. Даже не рыбки — рыбы. Они двигались медленно и уверенно.
— С чего им кусаться? Не пираньи ведь какие-нибудь, — сказал Сержик. — А тебе-то что?
Вовка кивнул на каменного мальчика:
— Мне к нему надо.
— Зачем? — удивился Гай.
Вовка подумал и показал маленький пластмассовый компас.
— Хочу ему вот это… на руку…
— Зачем? — удивился теперь Сержик.
Вовка насупился. Спрятал компас в кулаке.
Гай стряхнул сандалеты.
— Садись.
Воробышек молча и благодарно уселся ему на закорки. И Гай понес его к центру бассейна. Мысль о том, что рыбы могут противно ткнуться губастыми мордами в ноги, заставляла поеживаться. Но все-таки Гай решительно шагал, раздвигая коленями листья. Потому что ушастому воробышку Вовке, видимо, очень нужно было подарить каменному мальчишке свой компас. Может быть, Вовка знал, что этот мальчик — заколдованный и по ночам оживает и пускает свой кораблик в бассейн. Может, это был Вовкин друг. Может — житель какой-то сказочной страны или Вовкиного острова. Потому что очень даже возможно, что у Вовки тоже есть свой остров.
…Наверно, у всякого человека есть Остров. У каждого свой. У одного настоящий, у другого придуманный, но все равно он есть. У кого-то — целый город, а у кого-то — просто уголок в душе или лужайка в городском сквере за непролазными кустами акации. Или прочитанная в детстве книжка. Или сказка, которую сочинил сам…
Остров — это место, где человек может быть радостен и тревожен, счастлив и несчастен, но даже в тревогах и печали на Острове все честно и ясно. И самому хочется быть чистым душой, чтобы Остров, который ты открыл, принял тебя…
И у Аси есть Остров… Может быть, это книжка «Судьба барабанщика»?
И у Сержика есть… Какой? Гай не знает. На чужой Остров не высадишься непрошеным гостем. И не всякого позовешь на свой. А может быть, и не надо? Вот шагают рядом Ася и Сержик и не знают, что они — жители Острова капитана Гая. Ну и пусть не знают. Главное, что они есть.
И, может, для Юрки Веденеева Гай — тоже островитянин. Может быть, речной обрыв с кривым тополем и подвешенным к нему канатом с обручем — это берег Острова, лежащего в дальнем море? Там, на обрыве, Гай и познакомился с Юркой. Юрка ложился грудью внутри обруча, отталкивался и летел по широкой дуге в пустоте, над рекой, которая глубоко внизу кружила желтую воду. Летел, пока сила тяжести не приносила его назад на кромку берега… Гай вышел из-за другого тополя и смотрел с завистью и удовольствием на отчаянного мальчишку в разодранной на боку ковбойке. А тот, растрепанный и веселый, приземлился рядом и не оттолкнул Гая взглядом, не насупился, не сказал «чё зыришь?». Улыбнулся, как знакомому:
— Хочешь полетать?
И Гай выдохнул испуганно и благодарно:
— Хочу…
…Юрке Гай все-таки расскажет про свой Остров. Не так, как в прошлый раз — стесняясь и глупо хихикая, а серьезно и подробно. Про нынешний Остров расскажет, про все, что здесь было. Про то, как перемешиваются иногда жизнь и сказка, радость и печаль, прошлое и теперешнее время. Про синие от моря и горячие от солнца дни. И, может быть, Юрка почувствует все это. Даже обязательно почувствует. И они словно возьмутся за руки и вместе прыгнут на твердый песок из подошедшей к Острову шлюпки…
— Вижу Остров!
Потом Гай будет кричать это с тысяч экранов…
Когда-нибудь зимой в Среднекамске появятся разноцветные афиши — «Корабли в Лиссе». И мальчишки в классе будут хлопать Гая по плечу, пряча зависть за насмешливым одобрением, а девчонки переглядываться и таращить на него глаза. И Алла Григорьевна, учительница по литературе, проговорит медовым голосом (она умеет так, если хочет): «Я думаю, Гаймуратов расскажет нам на классном часе об участии в съемках этого замечательного фильма…» И Гай, наверно, расскажет. О «Крузенштерне», об артистах, об оружейнике Косте. Но расскажет, конечно, не как об Острове. О нем — только Юрке. В хорошую минуту…
Барк вышел на Инкерманский створ и убрал паруса. Начал вдвигаться, стуча машиной, в бухту. Казалось, весь город смотрит, как движется мимо высоких берегов, белых зданий, маяков и старых фортов винджаммер с поднебесными мачтами.
Через полчаса «Крузенштерн» встал у бочки против Голландии. Еще не закончили швартовку, как подлетел к борту взмыленный катерок под гидрографическим флагом. С него что-то решительно прокричали в рупор. И понеслось по палубам:
— Гай!.. За Гаем приехали!.. Мишу Гаймуратова к трапу!
На борт поднялся незнакомый парень в морской куртке без нашивок. Гай подбежал — весь в тревоге: что случилось?
— Письмо тебе от Нечаева. Собирайся.
Гай развернул сложенный вчетверо листок.
«Гай! Переменились планы. Завтра выходим на испытания. Это неожиданно и срочно. Тебе — сегодня вечером на самолет, иначе нельзя. Гай, торопись…»
Он не удивился. В глубине души он даже предчувствовал что-то такое… На Острове не живут долго. К нему долго плывут, а когда он открыт — сказка быстро катится к концу.
Потом будешь вспоминать Остров всю жизнь, будешь снова стремиться к нему и, может быть, приплывешь еще не раз. Но это если и будет — потом. С радостью, но без прежнего счастья открытия. Грустная эта догадка тоже шевельнулась у Гая.
«А может, и хорошо, что так сразу, без лишней печали», — мелькнула мысль. И все же Гай растерянно оглянулся на Ревского.
Тот взял письмо.
— Я поеду… — прошептал Гай.
— Да… Нет, подожди! — И Ревский сказал посланцу Толика: — Всего две минуты, прошу вас…
Он отошел, и скоро из динамика разнесся его голос:
— Съемочной группе собраться на спардеке! Михаилу Гаймуратову — на спардек!
…Еще не переодевшихся после съемок артистов Ревский выстроил в шеренгу. Не всех, конечно, а тех, кто оказался поближе. Тех, с кем Гай был уже хорошо знаком. Здесь же оказались Иза, оружейник Костя, Настя и тетя Рая. И сам Карбенев.
— Друзья, — сказал Ревский. — Сегодня Гай улетает домой, так повернулась судьба. Слава Богу, мы успели снять все, что хотели… Гай нас не забудет, мы его тоже…
— Гип-гип-ура! — гаркнул Витя Храпченко, оттянув на подбородке искусственную бороду.
— …Гип-гип-ура! Гип-гип-ура! Ура! Ура! — дружно, вполне по-матросски грянула пестрая шеренга. И Ревский повел Гая вдоль строя, и каждый пожимал Гаю руку, и у него перехватило горло и намокли глаза.
Когда подошли к Насте, Гай шепотом сказал:
— Ох, надо ведь сдать… — Он потянул через голову алую блузу.
— Оставь, — сказала Настя. — Как-нибудь спишем. Пускай будет на память.
Иза дала Гаю сверток с фотоснимками и так хлопнула по плечу, что в ушах словно струны отозвались! «А по Москве горят костры…» — почему-то вспомнил Гай и слабо улыбнулся…
Уже у трапа Гая остановил Ауниньш. Протянул папку.
— Здесь вымпел и снимки «Крузенштерна». От команды… Может, когда-нибудь придешь на «Крузенштерн» капитаном. А? — Он строго пожал Гаю руку, а потом по-мальчишечьи подмигнул.
Катер помчался не к Графской пристани, а свернул в Южную бухту. Она, как улица домами, была с обеих сторон заставлена судами всех размеров, типов и расцветок. Проскочив у кормы с названием «Стрелец» и синим флагом гидрографов, катер закачался у белого борта.
На палубе Гая встретил Толик. Слегка насупленный, весь в своих заботах, для которых Гай был только помехой. Однако улыбнулся:
— Какой ты живописный… Ну вот, Майк, так получилось, мы сами не ждали… Знаешь, каких трудов стоило сменить опять твой билет! Пришлось просить броню в горкоме…
Гай сумрачно сказал:
— Если самолет вечером, чё уж так горячку-то гнать…
— Вылет в двадцать ноль-ноль, за час надо быть на регистрации, два часа ехать до аэропорта. Билет на автобус еле-еле достал, везде очереди. Автобус отходит без десяти пять. Сейчас пойдем собираться… А ночью будешь уже дома. Я и маме позвонил, чтобы встретила.
А ведь правда — совсем скоро он будет дома!
И Гай коротко и шумно вздохнул — от радости. Он понял, как отчаянно соскучился по маме, по деду, по бабушке, по Галке (и по отцу, конечно, тоже, но до него так просто не долетишь). И просто по дому соскучился, по своей улице, где сейчас пахнет палым тополиным листом. По своей школе с ее веселой толкотней, с запахом мокрых от дождя курток в раздевалке, с окликами: «Гай, привет! Гай, тебя Веденеев искал!» По сентябрьскому ветру с реки, по сизым облакам над заречными горизонтами, по ярким гроздьям рябин в скверах и палисадниках…
По Юрке…
Они поднялись по головокружительной лестнице, ведущей от пирса к площади Ушакова. Толик все поглядывал на Гая к наконец спросил:
— Ты так и будешь ходить? В этой романтической хламиде?
— А что? — огрызнулся Гай. Он по-прежнему был в алой матросской блузе, а его рубашка вместе с полотенцем, зубной пастой и прочим имуществом лежала в портфеле. В Асином портфеле, с которым Гай ходил в школу и с которым вчера отправился на «Крузенштерн». Там же лежали и подаренные фотоснимки.
— Да ничего, — сдержанно сказал Толик. — Просто привлекаешь внимание…
— Жалко, что ли?
— Не жалко… Гай, ты будто считаешь, что это я виноват, что у нас завтра срочный выход…
— Не считаю. Даже хорошо, что так получилось.
— Вот и я думаю, что хорошо.
— Но я не успел, — сказал Гай.
— Что? Сняться?
— Нет… Вообще… Толик, отпусти меня на два часа! К четырем я буду дома как штык! Честное слово!
Он теперь понимал, чего ему не хватило. Попрощаться с Херсонесом! Ведь именно с тех мест началась его любовь к этой земле, к этому городу. Будто именно там он впервые высадился на Остров.
— Толик, я съезжу в Херсонес… А?
— Ох, не нравится мне это, — честно сказал Толик.
— Я знаю. Ты будешь смотреть на часы и нервничать. Будешь думать: не случилось ли чего в последний момент. Да?
— Видишь, ты понимаешь…
— Но ты ведь тоже понимаешь. Мне правда надо. Чтобы последний раз… Когда я еще здесь окажусь?
Гай все больше чувствовал, как отчаянно ему это надо. Чтобы потом не тосковать, не чувствовать себя так, словно кого-то забыл или обидел.
Гай хотел даже сказать: «Ты же знаешь, там дедушка». Но это было бы нечестно. Во-первых, не только в дедушке дело. Во-вторых, вообще нельзя об этом, когда что-то просишь.
Но Толик понял и так.
— Я поехал бы с тобой, но у меня прорва дел, — неуверенно сказал он.
— Не надо. Один-то я — бегом!.. Толик, я там никуда не полезу. И даже купаться не буду…
— Давай. Но смотри…
Гай дернул с себя алую голландку, выхватил из портфеля и натянул рубашку. Портфель и блузу сунул в руки Толику.
— Я — точно к четырем!
Граната
Гай рассчитал, что для Херсонеса у него не меньше часа. Он попрощался со здешними местами без суеты. От остатков башни на мысу у Песочной бухты он прошел через весь заповедник — то галечными пляжами и обрывами, то среди развалин.
Ветер стих, день стоял нежаркий, но солнечный, летали бабочки. Было пустынно. Никого из ребят Гай, конечно, не встретил и, по правде говоря, не жалел об этом: что, кроме грусти, принес бы короткий разговор перед расставанием?
Гай гладил пористые камни крепостных стен, теплый мрамор колонн. Сунул в нагрудный карман желтое созвездие сурепки и пыльно-синий цветок цикория — чтобы засушить потом в книжке. У одинокой колонны среди низкорослого терновника Гай стоял минуты три — смотрел, как бегает вверх-вниз по отвесному мрамору ящерка-геккон, и не первый раз удивлялся: как она держится на гладкой вертикали?
У полукруглого гнезда берегового орудия Гай стоял дольше. Винтовые штыри, на которых когда-то крепился орудийный станок, ржаво темнели на бетонном дне. Из трещин росла трава. Гай подумал, что в сорок втором году это гнездо на скальной круче (из которого торчал тогда длинный ствол корабельной пушки) видел, наверно, не раз политрук Нечаев.
В гнезде на темном бетоне стенки темнели ровные крупные буквы: «Прощай, дружище Севастополь! Мы дети „Потемкина“, внуки Петра. Ревком „Краб“». Это написали коричневой масляной краской студенты-археологи еще в позапрошлом году (Славка, сын профессора, тогда тоже был с ними). Гай видел надпись не первый раз. Раньше он всегда испытывал досаду: мало ли кто чей внук, зачем краской-то ляпать там, где люди воевали? И Севастополь никакой не «дружище», он просто Севастополь. Чего его по плечу похлопывать?.. Но сейчас Гаю почудилась в словах на бетоне ласковая грусть прощания…
Гай дошагал до западного мыса Карантинной бухты, прошел по ее обрывистому берегу и вернулся к колоколу. Гладким камешком бросил в зелено-черный узорчатый обод. Побитый осколками колокол прощально погудел…
Гай вздохнул и спустился на пляж, где когда-то наступил на дракончика и познакомился с Асей. Мелкая волна с шорохом накатывалась на гальку, оставляя пузырчатую пену. Гай вобрал в себя запах влажных скал и водорослей, сел на корточки, попересыпал из ладони в ладонь мокрые камешки и осторожно положил всю горсть…
Потом он скинул сандалеты. Скользя по камням и усмехаясь собственной робости (а вдруг опять дракончик?), он по щиколотку вошел в воду. Он обещал не купаться, но вот так-то можно попрощаться с морем…
Вода плавно подкатила, поднялась до колен и, отступая, потянула Гая за собой. Не уезжай, мол, останься.
«Нельзя», — вздохнул Гай. Вышел на берег. Надел сандалеты на мокрые ступни. Поднялся по бетонной лестнице на обрыв. И… сделал то, чего не хотел. О чем старался даже не думать. Пошел на бугор у серой разваленной стенки, встал на колени у кубического камня, сунул руку в темную щель…
Граната была, конечно, там. Тяжелая, рубчатая, прохладная, она легла в ладонь так ловко, будто все дни ждала Гая.
Он достал ее. Была граната все такая же — новенькая, черно-блестящая, словно только что с военного склада. Гай дернул кольцо, послушал шипящее дребезжание пружинки. Поставил чеку на место, покачал гранату — словно побаюкал.
И понял, что положить ее обратно — ну просто выше сил.
Во-первых, словно сама граната просила: «Не надо! Не хочу туда, в темноту!» Во-вторых, Гай почувствовал, какая она уверенно-грозная, хотя и без начинки. Увесистая, почти настоящая, она вливала в ладонь ощущение боевой мощи. Была она… да, красивая! В смертельном оружии тоже есть своя красота.
Юрка ошалел бы от такого подарка…
Сержик прав, играть «лимонкой» не станешь. Но показать в классе… Все ребята губы развесили бы… А потом, когда она Юрке надоест, самое правильное дело — отдать ее в школьный музей. Положили бы под стекло, табличку бы сделали: «Дар ученика 6-го кл. „А“ Михаила Гаймуратова». То есть «Михаила Гаймуратова и Юрия Веденеева»…
«Нет уж, — сказал себе Гай. — Ведь решили: пусть лежит…»
Но Сержик сказал еще: «Если хочешь — бери…» Он же сам это предложил!
«И я же не для себя. Я для Юрки…»
Совесть шепнула Гаю, что если для Юрки — это немного и для себя.
«Ну и что? Я же не без спросу! Сейчас зайду к Сержику и скажу: „Можно, я возьму, как ты говорил? Я ее подарить хочу… А если нельзя — вот она, делай с ней что хочешь“…»
Гай понимал, что это беспроигрышный вариант. Конечно, Сержик скажет: «Бери». Будет, пожалуй, немного неловко, но зато — честно. И никакие щипки совести Гая тревожить не станут. Фиг ей. Он все сделает открыто, без капельки обмана!
И было непонятно, почему шевельнулось в душе сомнение. Словно шепоток на ухо: «Ох, Гай, не надо…» И почему он, выпрямляясь, оглянулся с опаской?
Наверно, это была просто память о прежней стыдливой боязни — той, что жила в Гае, пока он не признался Сержику.
А теперь-то что?
…Гай понимал — такую игрушку в автобусе открыто не повезешь. Среди камней он подобрал обрывок старой газеты, завернул «лимонку» в желтую ломкую бумагу.
Потом посмотрел на море. Оно было ясным и чисто-синим. И все вокруг было спокойно-ласковым. Ни в чем Гай не уловил упрека. И черная дробина, которой боялся Гай, не шевелилась в душе. Гай с облегчением расправил плечи. Торопливо пошел к главным воротам…
Чтобы заскочить к Сержику по пути, Гай вышел из автобуса на улице Галины Петровой. Переулки и дворики Артиллерийской слободки террасами громоздились на склоне холма. Гай тропинками и лесенками взбежал к Восьмому Марта.
И сразу увидел бабу Ксану.
Она шла, огибая растущие посреди каменистой дороги кусты с бордовыми головками. Высокая, сутулая, с длинным своим посохом. Смотрела прямо перед собой.
— Здрасте, баба Ксана… — Гай на всякий случай спрятал за спину завернутую «лимонку».
Баба Ксана глянула из коричневых впадин синими глазами.
— Здравствуй, дитятко. К Сергийке бежишь?
— Ага! Он дома?
— Та ни… Они с школою на Максимову дачу поихалы, до вечеру…
— До свиданья… — растерянно сказал Гай. И подумал: «Ох ты черт…» Но под огорчением шевельнулась тайная радость. Оттого, что не надо объяснять Сержику, что взял гранату… Потом он про все напишет. Даже так напишет: «Если хочешь, я пришлю ее обратно». И в самом деле пришлет, если Сержик ее потребует…
А сейчас если не взять, то куда ее девать? Не отдавать же бабе Ксане!
Гай посмотрел Сержиковой прабабушке вслед. Она шла вниз по улице, все такая же сгорбленная, неторопливая, строгая. Даже сейчас Гай слышал, как постукивает посох: туп-туп-туп… Он вдруг подумал, что, скорее всего, видит бабу Ксану последний раз в жизни. Неизвестно, когда он приедет сюда снова. Приедет, конечно, только едва ли прабабушка Пулеметчика и тогда будет живая. Сколько ей осталось на этом свете с ее горем, с ее хитро спрятанной любовью к Сержику?..
Гай неожиданно почувствовал те же слезы, что на палубе при сцене «Похороны капитана». Мигая и переглатывая, он смотрел бабе Ксане вслед, пока она не скрылась за угловым домом…
Гай встряхнулся. Надо было спешить. Даже бежать.
Он выскочил на улицу Киянченко, а затем свернул к улице Гусева, в проход с плоским желобом водостока — такой узкий, что разведи руки, и упрешься в каменные стены.
Навстречу спускался Толик.
Гай удивленно затормозил.
— Вот это да! Ты здесь… что?
Толик тоже остановился. Шагах в пяти.
— Гуляю. Волнуюсь, тебя поджидаючи. Так и знал, что ты здесь пойдешь, эта щель полюбилась твоей романтической натуре… — Толик усмехнулся. Гаю показалось, что он сердится.
— Я же не опоздал.
— Да нет, все в порядке… — Толик взглянул на часы. — Это я так, нервы… Что это у тебя?
Гай откинул ненужную теперь бумагу, подбросил гранату:
— Вот…
Солнце светило Гаю в спину. Он увидел, как стремительно окаменело лицо Толика. Испугался:
— Да что ты! Она же…
— Не трогай и не шевелись! Замри!
Толик замер и сам — словно боялся, что неосторожным движением погубит Гая, даст ему смертельный толчок.
— Да что ты! — с виноватым смехом сказал Гай. — Она пустая — вот! — Он поднял «лимонку» за кольцо, чека вырвалась из трубки, граната упала Гаю в ладонь. Он бросил ее Толику: — На, смотри!
И все это было в одну секунду. А в следующую секунду Гай увидел, как освещенный желтым солнцем Толик ловит «лимонку», прижимает ее к животу, складывается пополам и падает в желоб водостока. И словно вжимается в бетон…
— …Толик, ну сделай со мной что-нибудь, — всхлипывая, попросил Гай.
Они шли, забыв про время, по пустым улицам слободки неизвестно куда. И Толик молчал или неразборчиво говорил «отстань». Гранату он держал перед собой, крутил иногда трубку запала, трогал колечко. Пожимал плечами.
— Толик…
— Что тебе?
— Отлупи меня, а? — с отчаянием сказал Гай. — Хоть ремнем, хоть чем… Я даже не пикну. Меня никогда дома не лупили, а ты изо всех сил, ладно?
— Зачем?
— Ну… тебе легче будет.
— Дурак, — устало сказал Толик. — Оно и видно, что не лупили.
Гай брел за Толиком чуть в стороне и позади. Смотрел на его худую спину под желтой тенниской, на острые локти, на поросшую короткими волосками шею… Снова и снова вспоминал, как освещенный солнцем Толик в тесной щели прохода сгибается, валится, резко вытягивается в плоской бетонной канаве, закрывая собой «лимонку». И снова содрогался, представляя, что пережил Толик за эти секунды… Гай заплакал в голос:
— Я же тебе крикнул, что она пустая!
— Еще и ревет… Он «крикнул». Будто я что-то слышал в такой момент… Поймал, а она шипит… Вот так! — Толик дернул кольцо и поднес «лимонку» к уху. Казалось, с каким-то болезненным удовольствием.
— Ну а зачем под себя-то?! — захлебываясь слезами, крикнул Гай. — Кидал бы назад!
— Да? Там сзади, на улице, бабка и пацанята с трехколесным великом… А впереди ваше сиятельство. И ведь выбрал же место, с-стервец. Как труба…
— Ну, откуда я знал, что ты подумаешь?.. Это же игрушка!
— Это — игрушка? — Толик повернул к Гаю такое лицо, что разом застыли слезы. Гай прошептал беспомощно:
— Я же крикнул… пустая…
— Сам ты… башка пустая, — вдруг вздохнул Толик. — Иди сюда! — Он выдернул из брючного кармана платок, начал сердито вытирать Гаю лицо.
Гай безнадежно сказал в платок:
— Теперь ты будешь меня ненавидеть всю жизнь.
— Больше мне делать нечего, — огрызнулся Толик. И Гай понял, что ненавидеть Толик не будет. Но и… вообще ничего не будет. Граната все-таки взорвалась, только бесшумно. Толика не убила, но убила его дружбу с Гаем. Развеяла взрывом в черную пыль все хорошее, что случилось в жизни Гая здесь, в Севастополе.
Отомстила.
И такая тоска взяла Гая, что все в нем выключилось. Не осталось ни капельки сил. Он сел, где стоял, — на плоскую глыбу ракушечника в пыльной траве у тротуара. Уткнулся лбом в колени. Умереть бы…
— …Ну-ка встань! — вдруг крикнул Толик. Прежним голосом, тем, который был у него раньше, до гранаты. Он дернул Гая за воротник. — Ты мальчишка или нервная барышня? — яростно сказал Толик. Но злость была не на него, не на Гая! Гай уловил это каждым нервом. Злость была, чтобы встряхнуть Гая. А может быть, и самого Толика. Гай вскочил. Украдкой, но уже с надеждой глянул Толику в лицо. Опустил голову и шепотом повторил все то же:
— Кричал ведь — пустая… — И опять всхлипнул.
Толик хлопнул его пальцами по затылку.
— Голова пустая…
— Ага… — выдохнул Гай.
— Где ты взял эту штуку?
Не скрывая ничего, Гай выложил историю с гранатой. От начала до конца. Будто наружу себя вывернул. Толик слушал и порой называл Гая то бестолочью, то олухом.
Они вышли на Катерную и теперь неторопливо шагали вниз. Толик завернул гранату в платок — попадались прохожие. Гай заметил, что кое-кто с удивлением поглядывает на его зареванное лицо, но ему было все равно. Один раз у Гая мелькнула мысль: а не опоздают ли на самолет? Но и это было не важно. Главное, что Толик делался такой, как раньше.
Когда Гай кончил рассказ (и по инерции еще раз всхлипнул), Толик сказал:
— Фокусник… Надавать бы тебе за такие дела…
— Да я же и говорю! — радостно вскинулся Гай.
— Сегодня уже некогда. Приеду в Среднекамск — займусь.
— Ладно… Толик, а чего мы все идем да идем… Нет, это хорошо, что идем, но мы не опоздаем в аэропорт?
— Думаешь, я такой глупый? Я нарочно сказал, что отлет в восемь. На всякий случай. А на самом деле в девять пятнадцать. И автобус не в пять, а в шесть.
— Хитрый… — слабо улыбнулся Гай.
Катерная, сделав плавный поворот, кончилась на восточном берегу Карантинной бухты. Дорога шла над обрывом. Внизу тянулся узкий пляж — маленький, известный лишь местным жителям.
Толик и Гай спустились на песок по головоломной тропинке. Поодаль купались мальчишки, а вблизи никого не было. Толик развернул гранату, сильно размахнулся и швырнул ее в море. Прежде чем плеснуть в тихой воде, «лимонка» черным зернышком зависла на миг в воздухе — словно точку поставила. Точку на всей этой истории.
Гай с облегчением вздохнул.
— Иди умойся, — сказал Толик. — Или лучше окунись. Не купался ведь сегодня? Вот и давай на прощанье.
Гай обрадованно и суетливо разделся. Окунуться напоследок в море — это было счастье, хотя и с оттенком грусти. Но главное счастье (тоже с привкусом печали) — было в прощении, полученном от Толика.
Гай с разбега врезался в глубину, выдохнул воздух и завис в невесомости. Он старался навсегда впитать в себя бархатисто-прохладное прикосновение морской воды, ее вкус, ее ласковую плотность… Потом он вынырнул, проплыл метров десять вразмашку, лег на спину, увидел над собой маленькое желтое облако, прошитое реактивным следом, вспомнил, что скоро будет там, в небе, на такой же высоте… Резко повернулся и поплыл к берегу.
Накинув рубашку, Гай быстро выжал плавки. Толик усмехнулся:
— Ох и обугленный ты. Я лишь сейчас заметил, по сравнению с… нормальным цветом кожи. Раньше еще лапы были светлые, а теперь и они загорели…
— Лапы крашеные, — хмуро объяснил Гай. — Все еще не отмылись…
— В аэропорту костюм надень. В Среднекамске всего семь градусов. Мама пальто к самолету принесет.
— Ага… Толик…
— Что?
— Толик… ты меня совсем простил?
— Совсем, — серьезно сказал Толик. — Хватит уж об этом.
— Да, «хватит»… Ты все еще вон какой…
— Какой, интересно?
— Ну… молчаливый.
— Здрасте! Веселиться прикажешь? После всего… И не вздумай никому рассказывать… про все про это.
— Что я, дурак, что ли? То есть дурак, конечно, но не такой уж…
— Это я не хочу выглядеть дураком.
— А ты-то при чем? — изумился Гай. — Ты же, наоборот… это… — Он оробел, но все же выговорил: — Подвиг совершил.
— Че-во? — сказал Толик.
Гай струхнул еще больше. Но пролепетал:
— А что ли, нет? Ты же не знал… что не по правде…
— Я сейчас, кажется, в самом деле дам тебе по шее.
— Ну, дай, — покорно вздохнул Гай. — А все равно…
— Пошли наверх!
Они молча поднялись по тропинке. С обрыва Гай еще раз глянул на море, на развалины Херсонесского храма на другом берегу. Воздух принимал уже неуловимо золотистый вечерний оттенок. А может, это золотились волоски непросохших ресниц. Гай видел все словно сквозь искристую дымку: сквозь виноватость, и прощение, и неуверенность в этом прощении, и сквозь надежду, что все случившееся — не так уж страшно. Море все-таки осталось его морем. Берег — его берегом. И Остров — остался…
— Пошли, — повторил Толик.
Они зашагали по обрыву, потом по Катерной, и Гай наконец набрался смелости:
— Я все же не понимаю… Почему ты говоришь, что ты дурак? Ты же не знал…
— Воображаю, как это выглядело со стороны.
Гай вспомнил, что выглядело это страшно. И сказать не посмел. Сказал другое:
— Зато ты единственный…
— Что — единственный?
— Ну… ты только не сердись… Помнишь, ты говорил?
— Не помню… Про что?
— Когда такое… Никто не знает, что человек думает в последние секунды… Ты теперь знаешь.
Гай даже зажмурился, ожидая чего угодно. Однако не жалел о своих словах. Не сказать этого он почему-то не мог.
Толик не ответил. Гай покосился на него. Толик растерянно улыбался. Потом сказал удивленно:
— А я ни о чем не думал.
Гай опасливо и недоверчиво молчал.
— Нет, думал… — тихо проговорил Толик. — Вспомнил… Думал, скорей бы… Да, а потом еще: что же с этим дураком, с Гаем, теперь будет? В самом деле…
Гай втянул голову.
— Но никакая «вся жизнь» перед глазами не проносилась, — словно неторопливо размышляя вслух, сообщил Толик. — Вот еще что. Подумал: Тасманов же не знает, куда я положил коричневую папку с последней документацией… А! Потом вот что: черт, как обидно — перед самыми испытаниями…
— А говоришь «ни о чем», — вздохнул Гай.
— Хм… А в самом деле, как много, оказывается, можно подумать… за такое время.
…Тех секунд — с тишиной и растерянностью — было две или три. А потом Гай со слезами тряс Толика за плечо, тянул за рубашку, и тот медленно, с непонимающим лицом встал на колени. Потом вскочил…
Лучше не вспоминать…
А как — не вспоминать?
Толик сказал, будто сам себе:
— Потом еще мысль: значит, судьба…
— Почему? — прошептал Гай.
— «Почему»… Отец — здесь. И про Алабышева сколько раз читал и думал… Все одно к одному… И забыл, дурак, простую истину: история повторяется дважды — сперва как трагедия, потом как фарс. Как пародия то есть…
— Что? — робко переспросил Гай.
— Это еще Маркс сказал…
— Не про тебя ведь он сказал, — буркнул Гай.
— Нет, но это, видимо, общая формула. Применима и к государствам, и к отдельным людям… Вообще-то он это про Наполеонов сказал. Один был великий, а другой пыжился и подражал ему. И кличка была Маленький. Хотя ростом он удался не в пример первому Бонапарту… Кстати, это он послал армию под Севастополь.
Гай с минуту шел молча, сердито размышлял о «великом» и «маленьком» Наполеонах. О битве под Бородино и о севастопольских бастионах. Наконец сумрачно возразил:
— Великого мы прогнали с треском. А Маленький-то… все-таки французы взяли тогда Малахов курган…
— Мало ли что… Наполеон Первый тоже сперва Москву взял. Важны не отдельные военные эпизоды, а вообще… Ты что, с Марксом решил поспорить?
— Не с ним, а с тобой… Ты же все сделал правильно, ты не знал… Зато теперь знаешь.
— Ты очень понятно изъясняешься: «Не знал, знаешь…»
Тихо, но упрямо Гай сказал:
— Ты знаешь, что можешь такое… если надо…
Толик посмотрел удивленно. Потом усмехнулся:
— Вряд ли… Наверно, каждый раз человек это решает заново… И послушай, дорогой, хватит об этом, а? Если без конца переживать, рехнуться можно. А у меня завтра дел — во! — Он ладонью провел над макушкой.
— Ладно, — неуверенно сказал Гай.
— И не терзайся, как старый грешник пред вратами ада. Мы оба хороши… Если хочешь знать, я тебе даже благодарен.
Это была, кажется, неправда. Но Гай обрадовался такой неправде — понял, что Толик опять прощает и жалеет его.
— Почему благодарен?
— Раз ты мне такое устроил… Я будто смерть обманул. Значит, буду теперь жить до ста лет.
— Да? — повеселел Гай.
— Да.
— Ну, смотри!
— Ну, смотрю…
Обратный билет
Через четыре часа Гай сидел в ровно гудящем самолете. В темном иллюминаторе слабо светился серебристый край крыла. По нему равномерно пролетали отблески рубиновых сигнальных вспышек. Рядом с Гаем посапывал сосед — лысоватый добродушный инженер, которого Толик попросил в аэропорту «присмотреть за братцем». Ровно светились плафоны, бесшумно и с улыбкой двигалась между креслами стюардесса… Раньше, когда приходилось лететь, у Гая порой вертелась боязливая мысль: «Не случилось бы чего с самолетом…» Но сейчас было так уютно, что Гай чувствовал себя полностью спокойным и беззаботным.
Как всегда бывает в середине дороги, мысли ходили туда-сюда. То к дому, куда Гай мчался со скоростью звука, то назад — к Севастополю и «Крузенштерну». О доме думалось, конечно, с радостью, о Севастополе — с грустью. Радость была спокойная, потому что дом — это то, чего у Гая впереди будет много. Это — надолго. Печаль тоже была спокойная, потому что Гай знал: все, что было хорошего, с ним останется навсегда. Жить на Острове постоянно нельзя, но вспоминать его можно все время. И как вспомнишь — он словно опять рядом. А грустно — потому что все-таки не совсем рядом. Не перегнешься через каменный забор, не крикнешь в полуоткрытую дверь дома: «Ася!..»
…Асю перед отъездом он так и не увидел. Когда они с Толиком пришли домой, оказалось, что Ася отправилась за братишкой в детский сад. А ждать уже было нельзя. Времени оставалось, только чтобы подхватить чемодан — и на автостанцию.
«А может, и к лучшему», — опять подумал Толик со смесью горечи и облегчения. Он боялся прощания. Догадывался, что оба станут неловко молчать или говорить неважные, ничего не значащие слова. «Может, и к лучшему…»
— Я ей все объясню, — пообещал Толик. — А ты потом напишешь.
— Ага.
На автостанции случилась неприятность. Толик растерянно зашарил по карманам:
— Черт… Этого еще не хватало…
— Что?
— Билеты… — Толик, роняя пятаки, расческу, записную книжку, вывернул карманы.
— Потерял? — испугался Гай.
Толик сердито сопел.
— У тебя дурацкая привычка таскать деньги и документы в карманах штанов, — в сердцах сказал Гай.
— В зубах мне их носить, если я без пиджака?.. Стой здесь.
Толик исчез и появился лишь через десять минут.
— Пошли! Я изловил такси.
— Ура! Это даже лучше!
— Для чего лучше? Для моего бюджета?.. И где я эти билеты посеял, дьявол их разнеси…
— Наверно, там, на улице. Когда платок доставал, — неловко сказал Гай. Он вспомнил, что в тот момент вроде бы вылетели у Толика из кармана какие-то кусочки бумаги или картона. Но тогда до бумажек ли было Гаю!
— Теперь обратно придется пилить на электричке… — проворчал Толик. — Пошли.
— А у тебя что, был и обратный билет на автобус?
— Пошли, пошли…
На полпути к Симферополю спустило колесо (бывает же так — все одно к одному!). И водитель с Толиком, наверно, целый час возились с запаской. В аэропорт они успели «под самую завязку».
Попрощались коротко:
— Привет там всем дома…
— Ага. А ты — Алине привет.
— Ладно. Спасибо.
— Ни пуха ни пера на испытаниях…
— К черту! — И они обнялись.
Защипало в глазах, но Гай храбро улыбнулся. И уже в тамбуре, ведущем на поле, оглянулся еще раз. Увидел Толика в свете желтого плафона. Толик смотрел серьезно. Встал на цыпочки и помахал рукой над головами…
В теплом покое, почти в полудреме, Гай думал, как самолет сядет в среднекамском аэропорту Крылово. Гай побежит навстречу маме, а она, смеясь и целуя его, станет натягивать на него пальто: «Стой, егоза, не крутись. Здесь тебе не Крым». И как он завтра наверняка проспит и в школу не пойдет, тем более что все равно суббота, а начинать все на свете, в том числе и учебу, лучше с понедельника. Но к Юрке он побежит сразу после уроков и узнает у него все новости о школе, о ребятах, о самом Юрке — как он жил тут без Гая целую вечность. И сам расскажет Юрке все-все…
Это «все» ровно побежало перед глазами Гая: «Крузенштерн», съемки, Артиллерийская слободка, Ася, Сержик, баба Ксана, Херсонес, ребята, граната…
Нет, о гранате, наверно, не надо. Канула она в море — и точка. Есть и без нее о чем рассказать. Например, о рукописи Курганова, об Алабышеве, о лекции Толика на вечерней палубе…
Гай, тихо улыбаясь, стал думать о Толике.
«Наверно, сейчас дремлет в электричке… Или нет, не дремлет. Думает про завтра, про отплытие…»
Гай не мог, конечно, знать, что в электричку Толик не попал.
На вокзал Толик приехал, билет купил, но до поезда оставалось полчаса. Толик пошел по вокзальной площади: надеялся купить какой-нибудь журнал, почитать в дороге.
Киоски ярко светились, но все уже были закрыты. Не очень огорчившись, Толик пошел обратно — в проходе между тыльной стороной стоявших в ряд киосков и временным забором, который огораживал не то стройку, не то какую-то ремонтную площадку. Над забором горела в черном небе лампочка.
Толик услышал сзади торопливые шаги, но оглянулся не сразу. Потому что впереди увидел щуплую фигуру в длинном клетчатом пиджаке. Тип в пиджаке ухмылялся. Толик встал спиной к шаткому забору и лишь тогда посмотрел налево. Оттуда подходил смазливый чернявый парень.
«Как в том проходе, — вспомнилось Толику. — Ни туда, ни сюда…»
Он сказал с улыбкой:
— Знакомые все лица. Опять хотите прикурить?
— Да не… — гнусаво ответил белобрысый тип в пиджаке. — Мы же знаем, что не куришь. Поговорить решили. Должок у тебя…
Пробуя левой ступней асфальт — хорошо ли для толчка? — Толик спросил:
— И не лень было следить за мной?
— Да что ты, дядя. Случайная встреча…
— И что теперь «дядя» вам должен? «Кошелек или жизнь»?
— Видели мы твой кошелек в…
— А это видели? — быстро спросил Толик и поднял левую руку, держа пальцы щепоткой — словно хотел что-то посолить в воздухе. У клетчатого типа приоткрылся рот и машинально вскинулась для защиты ладонь. Толик ухватил его за рукав, дернул на себя, ударил гада головой под грудь и кинул его, согнувшегося, через плечо.
Кинул так, чтобы длинное обмякшее тело ударило сзади другого противника.
Наверно, тот все же успел отскочить. А Толика стукнула в щиколотку какая-то деревянная боль. «Неужели вывихнул? Ах ты, черт…» Теперь оставалось развернуться и встретить смазливого сопляка прямым ударом в зубы. Придется мальчику походить к дантисту. Ну, сам винов…
Что-то колючее, длинное вошло Толику под левую лопатку, и боль была такая, что не осталось мыслей. Толик хрипло вскрикнул, рванулся вперед и снял себя с этой боли, как с гвоздя. Хватанул ртом воздух. «Достали все же, сволочи! Ну, погодите…» Он стал поворачиваться для удара. Боль мягко угасала, но не было зато и прежней пружинистой силы. Руки противно ослабели, и Толик с беспомощной злостью подумал, что, кажется, уже не свалит чернявого одним ударом… Самому бы устоять… Ах как глупо… Перед самым выходом в море. Теперь, чего доброго, еще в больницу засунут, перевязки всякие…
Хорошо, что Гай улетел…
Странно, что асфальт мягкий, как губчатая резина: падаешь, а не больно. Будто во сне… Надо все-таки встать. Люди увидят, решат черт знает что…
Но лежать было хорошо. Шевельнешься — и колючая боль, а если не двигаться — обволакивает мягкое спокойствие. И Толик понял, что надо подождать несколько минут, набраться сил.
Лампочку он не видел — она или погасла, или горела с другой стороны. Те двое куда-то исчезли. Но Толик о них уже не думал. Сверху в просвет между киосками и забором смотрел тонкий месяц.
«Ты меня не бросай, — сказал ему Толик. И не удержался, ласково поддразнил: — Месяц тонкий и рогатый с неба звезды сгреб лопатой… Куда ты девался, а?.. Месяц звонкий и рогатый… Месяц…»
Ничего этого Гай знать не мог, и никаких предчувствий у него не было. Спокойный и счастливый летел он домой.
…Известие о Толике придет в Среднекамск лишь через четыре дня. Это потрясение, первое в жизни настоящее горе надолго обесцветит для Гая все, что есть вокруг, приглушит до хрипа и шепота все в мире звуки, а все мысли сведет к горькому вопросу: «Как же так: был — и нет? Почему? Откуда на свете такое?» Этот его вопрос навсегда свяжется в сознании с почерневшим сухим лицом бабушки — мамы Толика…
Дни пройдут, мама и бабушка вернутся оттуда, с похорон, и мама положит ему руку на лоб, а он тихо скажет, лишь бы что-то сказать:
— Вы быстро приехали…
— У нас были обратные билеты.
И тогда болью и страхом — сильнее всех других горьких мыслей — прошьет его мысль: «А у Толика тоже был обратный билет!»
Он был! Но Толик выронил его вместе с другими, когда доставал платок.
А доставал платок он, чтобы вытереть Гаю лицо и потом завернуть гранату.
Значит — все из-за гранаты!
Если бы билет остался, Толик поехал бы обратно на автобусе, не оказался бы на вокзале. Не встретился бы с теми.
…Какой прок, что их поймали и, скорее всего, расстреляют? Что с того, что друзья Толика написали куда-то письмо, чтобы новое гидрографическое судно назвали «Анатолий Нечаев»? Смертью бандитов не оживишь Толика. Имя не заменит живого человека, хоть весь флот назови этим именем! Гаю нужен живой Толик — который смеется, опаздывает со свиданий, рассказывает про Крузенштерна, дурачится, дразнит Гая за облупленные уши и рычит «брысь», когда тот надоедает… Толика не будет…
И все из-за гранаты… Из-за того, что он, Гай, взял гранату из тайника!
Днем и ночью, даже во сне, Гай будет вести этот бесконечный, отчаянный и безнадежный спор с собой:
«Но я же не знал, что так случится!!»
«А кому легче оттого, что не знал? Все равно это из-за гранаты».
«Но я же не знал…»
«А зачем ты ее взял? Ведь понимал же, что обман…»
«Не обман!! Сержик сам говорил: хочешь — бери себе!»
«Обман был раньше. Тогда, когда все искали, а ты молчал. С этого все и пошло…»
«Но я же не взял тогда! Я же признался! Я — честно…»
«Значит, не всякую беду можно исправить признанием… Ты не взял тогда, но она лежала, ждала своей поры. И отомстила».
«За что?! — в отчаянии будет кричать он себе. — За такой пустяк?! И кому отомстила?! Толик-то при чем?!»
«А она не думает. Она — граната…»
И когда уже не будет сил, когда сердце станет останавливаться от тоскливой вины, придет спасительная мысль:
«А откуда ты взял, что был обратный билет? Ты спросил, а Толик в ответ: поехали, поехали…»
«Но он же говорил: теперь обратно придется ехать на электричке…»
«Может, потому, что сперва хотел вернуться в Севастополь на такси, а денег не осталось — истратили на дорогу вперед…»
Может быть, и так… Но утешение будет приходить ненадолго. И ощущение неискупимой вины снова станет наваливаться глухой черной тяжестью. Такой вины, которая не менее страшна, чем само ощущение потери.
Через месяц Гай уже не станет спорить сам с собой. Зачем? Все сказано много раз. Не станет мучить себя вопросами: был ли билет? Ответить на вопрос мог бы один Толик. Но он не ответит — и вину с Гая не снимет никто.
Гай будет ходить в школу, учить уроки, получать отметки. Будет даже смотреть иногда телевизор, отвечать на мамины вопросы. Порой будет даже улыбаться. И всем, даже маме, станет казаться, что он понемногу успокоился и живет нормально.
И никто не узнает, как гонит от себя Гай память об августовских и сентябрьских днях. Память о всем, что раньше было для него Островом. Потому что горе и вина закрыли к Острову дорогу.
И так будет до того дня, когда Юрка (именно Юрка, а не кто-то другой) приведет его к себе домой и скажет угрюмо и жестко:
— Гай, ты так свихнешься. Или умрешь… Гай! Ты что?
— А что я? Я…
Слезы рванутся безудержно. Слезы — невыносимые, изматывающие душу, тяжкие, как рвота. До судорог в горле, до крика. И в этом крике прорвутся слова о Толике, о гранате, о билете… И Юрка захлопнет дверь и яростно, словно удерживая Гая от броска в пропасть, прижмет к себе.
— Гай… Гай!! Ну при чем здесь ты?! При чем здесь мы?! Не мы же придумали на свете гранаты!
Гай стихнет, вздрагивая. Юрка скажет:
— Так нельзя. Ты живи.
Гай то ли вздрогнет опять, то ли кивнет…
— Ты живи, — снова скажет Юрка. — Дерись.
— С кем?
— Вообще… дерись.
И Гай станет драться. Всю жизнь. За себя и за других. Драться с человеческими бедами и со своей виной — не зная до конца, была ли она. Драться за право изредка возвращаться на свой Остров.
Такой Остров есть у каждого, и потерять его — подобно смерти. Остров называется Детство.









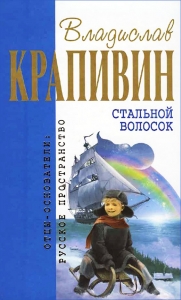


Комментарии к книге «Граната», Владислав Крапивин
Всего 0 комментариев