Владислав КРАПИВИН «Мушкетер и фея»
МУШКЕТЕР И ФЕЯ и другие истории из жизни Джонни Воробьева
БЕГСТВО РОГАТЫХ ВИКИНГОВ
Герои наших историй живут в подмосковном городке. На улице, которая называется Крепостная. Дело в том, что в давние времена, когда по полям шастали орды кочевников, здесь стояла крепость. Небольшая, деревянная, с бревенчатыми восьмиугольными башнями. Потом она сгорела и разрушилась. Остался только земляной вал да овраг, который раньше, говорят, был крепостным рвом. Но скорее всего это просто легенда, потому что овраг далеко от вала. Да ещё название улицы напоминает о старине.
Вал густо порос одуванчиками. В овраге растёт крапива, булькает ручеёк и живут стрекозы и лягушки. На Крепостной улице живут мальчишки.
Конечно, там есть и взрослые, но речь главным образом пойдёт о мальчишках.
Улица широкая, но тихая. Машины по ней не ходят, потому что она упирается в овраг. Дорога заросла, и даже сквозь узкий асфальтовый тротуар пробиваются лопухи. Домики прячутся в палисадниках с сиренью.
Сами понимаете, что такая улица — рай для футбола. И для всяких других игр.
Серёжка возвращался поздно вечером и на кухне, сдержанно кряхтя, начинал заклеивать пластырем ссадины на ногах.
— Ну и побоища у вас! — сказал я однажды. — Каждый раз с отметинами приходишь.
Серёжка, вытянув шею, пытался облизать ссаженный локоть.
— Подумаешь… побоища, — ответил он. — Какие это… побоища… Чушь… Вот в прошлом году…
И, лизнув наконец локоть, поведал эту историю.
В конце июня их осталось пятеро. Почти все "овражники" — ребята с этого конца — разъехались кто куда: в лагерь, к бабушкам, на юг, а один даже в тайгу с отцом-геологом.
А из компании Тольки Самохина никто не разъехался. Или сговорились, или случайно так получилось, но их как было, так и осталось шестнадцать, не считая всякой мелкоты.
У пятиклассника Серёжки Волошина и его друзей никогда не было прочного мира с Толькиной компанией. Кто тут виноват, сказать нелегко. Однако все отмечали, что Самохин — человек въедливый и зловредный. Он ко всем придирался и никогда ничего не прощал. Серёжке он, видно, не мог простить, что тот не подчиняется. Не считает его, Тольку командира в здешних местах, а сам имеет "армию". Правда, Серёжкина армия была не такая большая и воинственная, но пока она была в сборе, могла постоять за себя. И вдруг неприятность — разъехались!
Те, кто остался, жили в одном дворе. В двухэтажном доме — мальчишки, а в маленьком, в глубине двора, — девчонка Виктория. Или попросту Вика. Одноклассница Сергея.
Викины родители были путешественники. Они не поднимались на снежные вершины, не искали рудные залежи и не раскапывали в песках древние города, они просто ездили. Каждый отпуск они проводили с туристскими группами то на Чёрном море, то в Ленинграде, то на Волге. А воспитывать Вику приглашали папину сестру Нину Валерьевну.
Нина Валерьевна была худая, длинноносая и печальная женщина. То, что она тяжело больна, подразумевалось само собой. Это все знали, когда ещё Виктории на свете не было. А если кто-нибудь спохватывался и пытался узнать о её болезнях подробнее, Нина Валерьевна медленно и выразительно поднимала глаза на невежу. "Как же вам не стыдно? — говорил этот взгляд. — Мучить бедную женщину, жизнь которой висит на паутинке!" И невеже становилось стыдно.
Чтобы окружающие не забывали о её страданиях, Нина Валерьевна постоянно сообщала: "Ах, как у меня болит голова". Фразу эту она произносила регулярно через каждые четыре с половиной минуты.
То, что ей приходилось воспитывать Вику, Нина Валерьевна считала подвигом. Она так и говорила: "Надеюсь, люди когда-нибудь поймут, какой подвиг я совершаю".
Может быть, Викины родители это понимали, но они были далеко. А Вика не понимала.
— Уик-то-о-риа-а! — на иностранный манер голосила по вечерам Нина Валерьевна. — Пора домой! Слышишь?! Все нормальные дети уже спят! Уик… (ах, как у меня болит голова! )… ториа. Не заставляй меня снова принимать валокордин!
— Выходит, я ненормальная! — шептала в каком-нибудь укрытии Вика. — Ну и отлично. Тогда мы ещё погуляем. Ага, мальчики?
Как все нормальные девчонки, Вика гоняла с ребятами футбол, временами дралась, ныряла с полузатопленной баржи и никогда не забывала, что она девочка. Довольно часто Вика появлялась во дворе в модном сарафане или платье и вопросительно поглядывала на ребят. Мальчишки понимали девчоночью слабость и сдержанно хвалили обнову.
Платья и сарафаны Виктория кроила из прошлогодних туристских нарядов матери и шила на расхлябанной швейной машинке, которая постоянно ломалась. Чинили машинку братья Дорины.
Братья были близнецы, хотя и ничуть не похожие: Стасик белобрысый, а Борька худой и темноволосый. Жили они душа в душу. И увлечения у Дориных были одинаковые. Больше всего они любили книжки про технику и роботов. Дома у них был механический кот для ловли мышей, звали его Меркурий. Правда, ни одной мыши он не поймал, зато бросался под ноги гостям и хватал их за ботинки железными челюстями…
Ещё в этой компании был первоклассник Джонни. Вернее, даже не первоклассник. В школу он лишь собирался, а пока ходил в "подготовишку" — самую старшую группу детсада. Но ведь те, кто, например, только перешёл в пятый класс, тут же называют себя пятиклассниками, не дожидаясь новой осени. Вот и Джонни не стал ждать.
Имя Джонни было ненастоящее. Вообще-то его звали Женька. Но Женькин язык имел маленькую странность: не умел выговаривать букву "ж". Получалось "дж". Вместо "железо" Женька говорил "джелезо", вместо "жулик" — "джулик". И себя называл Дженькой. Но что за имя — Дженька! Вот и переделали в Джонни.
Детсадовскую жизнь и порядки Джонни холодно презирал. Он отлично умел читать и решать примеры с "иксами", знал, как устроены космические ракеты и электропробки, и терпеть не мог всякие хороводы и "гуси-лебеди". Чахлая программа подготовительной группы была не для него.
В группу Джонни являлся в потрепанных техасских штанах с мордастым ковбоем на заднем кармане и выцветшей футболке. "Техасы" подметали бахромой паркет и пылили, как мотоцикл на деревенской улице. Воспитательницу Веру Сергеевну этот костюм доводил до истерики, но Джонни оставался спокоен. Во-первых, Вера Сергеевна была его двоюродной сестрой, во-вторых, он никогда не унижался до споров с начальством. Если жизнь в группе становилась нестерпимой, он просто брал под мышку "Сказки братьев Гримм" и уходил к малышам. Малыши смотрели на Джонни, как новобранцы на прославленного генерала. А их воспитательница на него чуть не молилась: Джонни избавлял её от многих забот.
Ребят из младшей и средней группы Джонни любил. Конечно, они были народ необразованный, но это по малолетству, а не по глупости. И носов они не задирали. А как они слушали сказки!
Малыши верили в Джонни и чуть что бежали к нему. И в тот воскресный день, когда викинги совершили первое преступление, два пятилетних гонца отыскали Джонни. А Джонни отыскал друзей.
Серёжка, Виктория, Стасик и Борька сидели на верхней перекладине забора, которая называлась "насест". Это было их любимое место. Они сидели и бездельничали. Хмурый Джонни влез на насест и сообщил:
— Самохин опять пиратничает…
— Что? — напружиненно переспросил Сергей.
— Понаделали всякого оружия и на всех лезут. У Митьки Волкова и Павлика Гаврина плотину сломали. Они её в овраге на ручье делали, а они растоптали.
— Шакалы! — искренне сказала Вика. — Нашли на кого нападать!
Серёжка прищурился и медленно произнёс:
— Думают, если Санька уехал, Митьку можно задевать…
Санька был братом пятилетнего Митьки и приятелем Сергея.
— Пошли поговорим с ними, — деловито предложил Борис.
— Их шестнадцать, — сказал Джонни. — И мечи, и щиты, и копья. Вот они скоро здесь проходить будут, увидите.
И правда, через минуту раздался дружный топот и бренчанье. Топала Толькина компания, а бренчали доспехи.
— Укройсь, — велел Сережка. Они прыгнули с забора и прильнули к щелям.
По дороге шло грозное войско.
Необычный был у войска строй. Впереди шел один человек, за ним два — плечом к плечу, потом шеренга из трех, за ней — из четырех. А дальше снова шли три, два и один. Получался остроконечный четырехугольник — ромб.
Каждый воин держал громадный, как цирковая афиша, щит, который закрывал хозяина от щиколоток до плеч. Все щиты смыкались краями и опоясывали строй, как сплошная броня.
Но удивительней всего оказались шлемы. Чего здесь только не было!
Ржавые каски, кастрюли с прорезями для глаз, колпаки от автомобильных фар, алюминиевые тазики. И каждый шлем был с рогами! Рога из железных трубок, из проволоки, из жести — припаянные, приклепанные, прикрученные — торчали грозно и вызывающе.
Самохин шел первым. На нем сверкал никелированный чайник. Из носика чайника получился отличный рог. Второй рог — такой же — был припаян с другой стороны. Крышка, видно, тоже была припаяна. Чайник закрывал лицо до подбородка. На блестящем металле чернели прорези для глаз.
Над щитами, над шлемами гордо подымались копья. Мочальные хвосты и пестрые флажки реяли у наконечников.
— Ну и стадо, — сказала Вика.
— Смех смехом, а не подступиться, — возразил Борька. — Даже из рогаток не прошибешь.
В середине строя, за щитами, дробно стучал металлический барабан.
— Понятно, — зло сказал Сережка. — Начитался Самохин про викингов. Есть такая книжка — "Черный ярл". Слыхали, кто такие викинги? Это морские бродяги были, вроде пиратов. Давно еще. Они в Скандинавии жили, где сейчас Швеция и Норвегия… В пешем строю они всегда таким ромбом ходили. Закроются с четырех сторон щитами, и не подступишься. И шлемы у них рогатые были, чтобы страх нагонять.
— Ну и страх! Потеха одна! — громко заявила Вика. — Что-то вы побледнели, мальчики. Животы в порядке?
— Уикториа-а! — укоризненно протянул Стасик. — Зачем ты так говоришь? Не заставляй нас принимать валерьянку.
— А ярл — это кто? — спросил Борис.
— Это значит вождь, — объяснил Сережка. — Вроде князя.
— Он негр? — поинтересовался Джонни.
— Почему?
— Ну, раз черный!
— Да это прозвище. Тоже для страха.
— А ярда в чайнике мы тоже боимся? — спросила Вика.
— Мы его вечером поймаем, — решил Сережка. — Когда будет без чайника.
Тольку Самохина друзья повстречали у входа в летний кинотеатр.
Толька хотел попасть на двухсерийный фильм про трех мушкетеров. Он не попал. Его прижали спиной к решетчатой оградке, над которой поднималась трехметровая фанерная афиша. На афише д'Артаньян ловко раскидывал длинной рапирой целый взвод кардинальских гвардейцев, но Тольке от этого было не легче.
— Поговорим? — сказал Сережка.
— Четверо на одного? — сказал Толька.
— А разве много? — язвительно спросила Вика. — Вас-то сколько было, когда плотину у двух малышей раздавили?
— Мы? Раздавили?
— А не давили, да?
— Мы по ней только через ручей прошли! У нас на той стороне тактические занятия были! Мы что, знали, что она сломается?
— Думать надо было, — наставительно сказал Борька.
— Головой, — добавил Стасик.
— А у него не голова, — произнес остроумный Джонни. — У него джестянка с рогами.
— Ты мои рога не тронь, — мрачно сказал предводитель викингов.
— Можно и потрогать, — заметил Сережка.
— Четверо на одного?
— Пятеро!! — взвился уязвленный в самое сердце Джонни. Только сейчас он понял, что Самохин не желает его даже считать. — Вот как вделаю по уху!
— Козявка, — сказал викинг. — Вделай.
Джонни зажмурился и "вделал"…
В общем, Самохин вырвался из окружения помятый и взъерошенный. Наверно, хотелось ему зареветь. Но он не заревел. Он, часто дыша, сказал издали:
— Ну, увидимся еще! Не будет вам жизни теперь ни ночью ни днем.
Друзья озабоченно молчали и не смотрели друг на друга.
— Вот что, люди, — заговорил наконец командир Сережка. — Давайте-ка топать на свою территорию. И поскорее. Полезное это будет дело.
Он оказался прав. Едва укрылись во дворе, как Джонни известил с "насеста":
— Идут!
Все забрались на перекладину.
Противник двигался в боевом порядке. Мерно колыхались копья и звякало железо.
— Красиво идут, черти, — со вздохом сказал Сережка. Наверное, все-таки завидовал, что нет у него такой могучей армии.
— Ну и красота! Понацепляли утильсырье… — откликнулась Вика.
Викинги приближались. Толька шел впереди. Рогатый чайник его вспыхивал на вечернем солнце. Лучи отскакивали от него, как оранжевые стрелы. Справа и позади командира шагал верный адъютант Вовка Песков по прозвищу Пескарь. Впрочем, знающие люди утверждают, что прозвище это надо писать через "и", потому что оно не от фамилии, а от Вовкиной писклявости. Пескарь (или Пискарь) тоже был в чайнике, только не в блестящем, а в эмалированном. Крышки у чайника не было, и в круглом отверстии торчал белобрысый хохол.
Строй викингов остановился, нацелившись острием на забор.
— Ну, чего расселись, как курицы? — глухо спросил Самохин из-под шлема. — Идите, побеседуем.
— Сено к корове не ходит, — сказал Сережка.
— Трусы, — заявил Толька, презрительно глядя сквозь прорези. — Это вам не пятеро на одного.
Джонни гордо улыбнулся.
— И не шестнадцать на двух малышей, — сказала Вика.
— Пескарь, давай, — приказал Самохин.
Адъютант вышел из строя и приблизился к забору. Тонким голосом он отрапортовал:
— Объявляем вам всем смертельную войну до полной победы, чтоб не было вам нигде проходу!
— Все? — спросил Сережка.
— Все, — сказал Пескарь и нерешительно оглянулся на ярла.
— Объявил и катись отсюда, — хмуро предложил Сережка.
— Сам катись, — ответил Пескарь, потому что приказа отступать не было.
Джонни деловито плюнул, целясь в неприкрытую макушку викинга, но не попал. Оскорбленный Пескарь поднял копье, чтобы отомстить обидчику. Борька и Стасик ухватили копье за наконечник, дернули к себе. Пескарь не ожидал такого фокуса и выпустил оружие. Дорины тупым концом копья трахнули Пескаря по щиту, и посол викингов шлепнулся на асфальт, раскидав худые, как циркуль, ноги.
Викинги склонили копья и ринулись к забору. Пятеро друзей, как парашютисты, посыпались вниз, во двор.
— Минуточку! — крикнула Вика и метнулась к своему крыльцу. Буквально через несколько секунд она примчалась с ведерком. Вода блестящим языком перехлестнула через забор. Послышались яростные крики, и викинги отступили. Вика снова уселась на шатком заборе.
— Эй вы, мелкий рогатый скот! — радовалась она. — Обезьяны в дырявых мисках! Получили? Мы вас всех переловим по одному, рога пообломаем!
— Уикто-ориа-а! — раздался позади возмущенный вопль. — Что ты говоришь! Сию же минуту ступай домой! Ты сведешь меня в могилу!
— Сведешь тебя… — проворчала Вика и шумно упала с забора. — До завтра, мальчики. Сегодня меня весь вечер будут перевоспитывать.
— Держись, — откликнулся Сережка. — Утро вечера мудренее.
Но утро не оказалось мудренее. Оно не принесло ни радостей, ни свежих мыслей, ни особых новостей. Была только одна новость: Джонни оказался именинником. Ему исполнилось семь лет, и он на законных основаниях не пошел в детский сад.
— Уговаривали, — сказал Джонни. — Хотели, чтобы я туда до самой осени таскался. Я сказал, что фиг. Джирно будет.
Не было теперь нужды дразнить своим видом воспитателей. Поэтому Джонни явился к друзьям не в обычном ковбойском костюме, а в октябрятской форме, купленной вчера в магазине "Светлячок".
— Джонни, ты — генерал, — сказала Вика, разглядывая синюю пилотку и голубую рубашку с погончиками. — Тебя, именинника, надо бы за уши потаскать, да я подступиться боюсь.
— Мы ему железного кота подарим, — пообещал Стасик.
Слова о генерале повернули все мысли к военным делам.
— Эти паразиты вчера до ночи маршировали, — сказал Борька.
Сережка вздохнул. Это был вздох полководца без армии. Сережка сказал:
— Набрать бы человек двадцать, поставить бы впереди всех Джонни с барабаном… Дали бы мы этой рогатой банде!
— Может, на них вашего кота напустить? — спросил Джонни у Дориных.
— Мелковат, — сказал Борька.
— А если что-нибудь покрупнее смастерить? — оживилась Вика.
— Пушку? — спросил Борька.
— За пушку влетит, — рассудительно заметил Джонни.
— Броневик бы склепать… — задумчиво произнес Стасик. — И на всем ходу на них: др-р-р-р!
— "Др-р-р!" — передразнил Борька. — На каком ходу? Двигатель где возьмешь?
— А на педалях?
— Много ты наездишь на педалях? — спросил Сережка. — Тебя в этом "броневике" как в мышеловке накроют.
— Мы и так, как в мышеловке, — сказал Стасик. — На улицу не сунешься, чтоб футбол погонять.
— Вот в августе вернутся наши, тогда мы дадим жизни, — мечтательно сказала Вика.
— В августе! — возмутился Джонни. — А сейчас как воевать?
Настроение было неважное, и Вике захотелось поспорить:
— Вам, мальчишкам, только воевать да футбол гонять!
— А что делать? Взаперти сидеть?
— Не обязательно сидеть. Тыщу дел можно придумать, самых интересных!
— Не надо тыщу. Придумай одно, — попросил Сергей.
Ничего не придумывалось, но отступать было нельзя, и с разгона Вика заявила:
— Ну… звено можно организовать! Для шефской работы. Как в зоне пионерского действия. Помогать там кому-нибудь или еще что…
— Бабушкам водичку с колонки носить, — вставил Стасик.
— Ну и что? Рассыплешься?
— Не рассыплемся, — ответил за брата Борька. — Только пока ей воду таскаешь, она будет на рынке земляникой торговать.. Знаю я таких.
— Не все же такие.
— Не все! Есть и другие, которые во двор не пустят. Сунешься, а там кобель здоровенный. Враз штаны оборвет.
Вмешался Сережка и сказал, что затея так себе. Никаких бабушек и стариков, которым помощь нужна, не найдешь. У каждого толпа здоровенных родственников и детей. Это раньше были одинокие старушки, а сейчас…
— Есть одна бабушка, — вдруг сказал Джонни. — Она без никого живет. Ее бабкой Наташей зовут. Да вы же знаете, у нее щенок Родька.
Щенка Родьку знали. Он был веселый и добродушный. А хозяйка…
— Неподходящая бабка, — твердо сказал Сергей. — Ерунду ты выдумал, Джонни. Она ребят просто видеть не может.
— Кричит, что все мы бандиты, — заметила Вика.
— Ну… — нерешительно сказал Джонни. — Мы, наверно, сами виноваты…
— Мы?! — хором возмутились Дорины.
— Ну… то есть, наверно, я… Я в прошлом году нечаянно свой вертолет ей в огород пустил. И полез за ним… И там нечаянно два огурца сорвал…
— А она нечаянно тебе уши надрала, — обрадованно добавил Стасик.
— Нет, не успела. Только я от нее по парникам убегал, по стеклам…
— Понятно, почему она кричит, — задумчиво сказала Вика.
— Я там все ноги изрезал, — огрызнулся Джонни.
— Теперь к ней не сунешься, — сказал Борька.
Сережка молчал. Он обдумывал. И все тоже замолчали, вопросительно глядя на командира.
— А может, попробуем? — спросил Сережка. — Трудно, конечно… А вдруг перевоспитаем бабку? Все-таки польза для человечества.
Решили попробовать.
На разведку пошли Стасик и Борька.
Бабка Наташа жила в угловом домике. Домишко был старый, осевший в землю одним углом. Словно кто-то сверху стукнул его кулаком по краю. Калитка тоже была старая. Она оказалась запертой, но Борька просунул в щель руку и отодвинул засов.
По двору ходили Куры и петух Гарька (полное имя Маргарин). Из фанерного ящика выкатился толстопузый Родька, тявкнул и помчался к разведчикам, виляя хвостиком, похожим на указательный палец. В углу двора из ветхого сарайчика появилась бабка Наташа.
Бабка была еще крепкая. Высокая, худая и сутулая. Она колюче глянула на ребят из-под клочкастых бровей, и Стасик торопливо посмотрел назад: открыта ли калитка.
— Здрасте… — сказал Борька.
— Нету макулатуры! — заговорила бабка голосом, неожиданно чистым и громким. — И железа нету! Ничего нету!
— И не надо, — поспешно сказал Борька. — Мы к вам, бабушка, по другому делу.
— И никаких делов нету! Хулиганство одно, — неприступно отвечала бабка Наташа, зачем-то подбирая с земли хворостину, похожую на гигантский крысиный хвост.
Стасик жалобно сказал:
— Никакого хулиганства. Мы совсем наоборот…
— Ну и шагайте отседова, раз наоборот. И нечего собаку со двора сманивать! Брысь! — Она подняла хворостину, и Родька пушечным ядром влетел в ящик. Стасик и Борька зажмурились, но остались на месте.
— Непонятно вы говорите, — начал Борька, приоткрывая один глаз. — При чем тут хулиганство? Разве можно считать хулиганами всех людей?
— Я про людей и не говорю, — ворчливо ответила бабка. — А вас еще сколько надо палкой учить, пока людями станете.
— Не все же палкой. Можно и по-хорошему, — ввернул Стасик.
— С вами-то?
— С нами, — твердо сказал Борька. — Мы к вам по хорошему делу пришли. Починить что-нибудь, если надо, помочь где-нибудь. У нас пионерское звено для этого создано. Шефская работа.
— И чего это мне помогать… — неуверенно сказала бабка.
— Мало ли чего! — перешел в наступление Борька. — Забор починить или крыльцо… Или вон дверь на сарае! Ну, что за дверь!
— Чихнешь — и отпадет, — сказал Стасик.
Дверь и правда была никудышная. Три кое-как сбитых доски висели на одной петле.
— Мы бы вам такую дверь отгрохали, — мечтательно сказал Стасик.
— "Отгрохали", — опасливо повторила бабка. — Еще стянете чего-нибудь из сарая-то.
Братья Дорины оскорбленно вскинули головы.
— Во-первых, — сказал Борька, — мы не жулики…
— Во-вторых, — сказал Стасик, — было бы что тянуть! Золото, что ли, там спрятано?
— Там у меня коза, — с достоинством ответила бабка Наташа.
Борька вздохнул и устало спросил:
— Бабушка! Ну подумайте, зачем нам коза? В велосипед запрягать?
Бабка смотрела то на ребят, то на дверь. Дорины с обиженным видом ждали. Родька опять вылез из ящика и тявкал на Маргарина.
— А… почем возьмете-то? — поинтересовалась бабка Наташа.
— Да что вы, бабушка! — хором сказали братья.
Дверь делали у себя во дворе. Доски для нее собрали старые, разные, но Борька прошелся по ним фуганком, опилил концы, и они заблестели — одна к одной. Потом их сбили двумя поперечными брусьями. Стасик притащил из своих запасов две тяжелые дверные петли и щеколду. Сережка у себя в чулане оторвал от старого сундука узорную медную ручку. Вика отыскала полбанки оранжевой краски, которой покрывают деревянные полы. Краска осталась от ремонта дома.
Один Джонни бездельничал. В начале работы он треснул молотком по пальцу, и его отправили "на отдых". Сказали, что, во-первых, он именинник, во-вторых, испачкает свою форму, а в-третьих, кто его знает: может быть, в другой раз он стукнет не по своему пальцу, а по чужому. Джонни сидел на Викином крыльце и канючил, что хочет работать.
Потом, когда развернулись главные события, Джонни поэтому и отвоевал себе основную роль. "Хватит заджимать человека, — сказал он. — Тогда не дали работать и сейчас не пускаете?" И его пустили… Но это было после. А пока друзья возились с дверью.
Они унесли готовую дверь в бабкин двор, приладили к сараю и взялись за кисти. Через полчаса дверь снаружи полыхала оранжевым пламенем. Сияла на солнце. Бабка Наташа тоже сияла. Вся ее суровость растаяла, как эскимо на солнцепеке.
— Голубчики, — повторяла она. — Работнички! Я вам конфеточек… — И она заспешила к дому.
— А ну, пошли, ребята, — распорядился Сережка. — А то еще правда начнет конфетки совать.
Они побежали на улицу.
Джонни задержался в калитке. Опустился на колено. Его заторопили.
— Идите! — откликнулся он. — Я догоню! Только сандаль поправлю! Ремешок порвался…
Вся компания, кроме Джонни, устроилась на крыльце у Вики. Вика чинила Борькину рубашку. Борька, сидя на корточках, чистил бензином штаны Стасика. Стасик оглядывался и давал советы. Сережка зачем-то старался укусить свою ладонь.
— У-ик-то-о-ориа-а! — доносилось изредка из дома. — Почему ты не идешь обедать? Я напишу папе и маме!
— Ах, как у меня болит голова, — деревянным голосом сказала Вика.
— Джонни куда-то исчез, — озабоченно заметил Сережка. — А тут еще эта заноза…
— Ты имеешь в виду мою тетю? — спросила Вика.
— Я имею в виду настоящую занозу. В ладони сидит..
— Вот он, Джонни, бежит, — сказал Борька.
Встрепанный Джонни подлетел к друзьям и перевел дух.
— Викинги? — спросил Сергей.
— Братцы, — громким шепотом сказал Джонни. — Липа взбесилась.
Борька приоткрыл рот и вылил на Стасика бензин. Вика воткнула в палец иголку. Сережка лязгнул зубами и проглотил занозу.
Липа взбесилась! Все знали бабкину Липу как пожилую мирную козу. Что случилось?
… Случилось вот что. Хитрый Джонни услыхал от бабки про конфеты и решил не упускать случая. Поэтому и застрял в калитке, а никакой ремешок у него не рвался. Ребята ушли, а Джонни сидел на корточках, теребил у сандалии пряжку и поглядывал на крыльцо.
Появилась бабка Наташа, но без конфет. На Джонни она не взглянула, видно, не заметила. Бабка побрела к сарайчику, полюбовалась дверью, осторожно открыла ее и медовым голосом позвала :
— Иди сюда, голубушка, иди сюда, сладкая…
Появилась "сладкая голубушка" Липа. При свете солнца особенно заметно было, какая она худая и клочкастая. Бабка распутала у нее на рогах веревку.
— Пойдем, матушка, я тебя привяжу, травки пощиплешь.
Липа ничего не имела против. Сонно качая бородой, она побрела за хозяйкой. Но тут нахальный петух Гарька боком начал подбираться к открытой двери. У бабки, видно, были причины, чтобы Гарьку туда не пускать.
— Брысь, нечистая сила! — гаркнула она. Оставила козу и побежала к сараю. Петух развязной походкой удалился в курятник. Бабка Наташа прикрыла дверь и заложила щеколду, приговаривая:
— Сейчас, сейчас, моя Липушка.
Липа лениво оглянулась…
И увидела дверь.
Никто никогда не узнает, что произошло в ее душе. Козья душа — потемки. Но Джонни видел, как Липины глаза вспыхнули желтой ненавистью. Липа сразу как-то помолодела.
— Им-ммэх! — энергично сказала она. Широко расставила ноги, подалась назад и, разбежавшись, врезала рогами по оранжевой двери.
— Голубушка! — ахнула бабка.
Липа тяжелой кавалерийской рысью вернулась на прежнее место и склонила рога.
— Ладушка… — позвала бабка Наташа и сделала к ней шаг. Липа рванулась и смела ее с дороги, как охапку соломы. Сарай слегка закачало от могучего удара.
— Спасите… — нерешительно сказала бабка и, пригибаясь, побежала за угол.
Джонни вскочил и, хлопая расстегнутой сандалией, помчался к друзьям…
Когда ребята ворвались в калитку. Липа готовилась к очередному штурму. Она дышала со свистом, словно внутри у нее работал дырявый насос. Рыла землю передним копытом и качала опущенными рогами. На рогах пламенели следы краски. Глаза у Липы тоже пламенели.
— М-мэу-ау, — хрипло сказала Липа и, наращивая скорость, устремилась к сараю.
Трах!
Дверь крякнула. Внутри сарайчика что-то заскрежетало и ухнуло. С козырька крыши посыпался мусор. В курятнике скандально завопил Гарька. В глубине своего ящика нерешительно вякнул Родька.
— Красавица моя… — плаксиво сказала бабка Наташа, укрываясь за кадкой.
"Красавица" гордо тряхнула бородой, встала на задние ноги, развернулась, как танцовщица, и бегом отправилась на исходную позицию. Там она снова ударила копытом и с ненавистью глянула на дверь.
Борька, срывая через голову рубашку, метнулся к взбесившейся козе. Коза метнулась к двери. Они сшиблись на полпути. Падая, Борька набросил рубашку Липе на рога. Клетчатый подол закрыл козью морду. Липа по инерции пробежала почти до сарая и остолбенело замерла.
— Мэ? — нерешительно спросила она.
Подскочила Вика и покрепче укутала рубашкой Липину голову.
Бабка Наташа выбралась из укрытия.
— Это что же? — спросила она со сдержанным упреком. — Значит, так оно и будет с нонешнего дня?
— А мы при чем? — огрызнулся Борька. Он ладонью растирал на голом боку кровоподтеки от Липиных рогов. — Дура бешеная! Больная, что ли?
— "Больная"! — обиделась бабка. — Да сроду она не болела! Вот что! Сымайте-ка вашу дверь, мне коза дороже!
— Ну, и… — со злостью начал Борька, но Сережка одними губами произнес:
— Тихо… — и повернулся к бабке.
— Дверь снять недолго, — покладисто сказал он. — Только как вы без двери будете? Старая-то совсем рассыпалась. Украдут ведь козу, бабушка. Или сбежит.
Бабка открыла рот, чтобы обрушить на Сережку гром и молнии… и не обрушила. Потому что без двери в самом деле как?
— Ироды, — плаксиво сказала она.
— Да вы не расстраивайтесь, бабушка, — убеждал Сережка. — Ну, разволновалась коза немножко. С непривычки. Бывает… А может быть, у козы вашей какая-нибудь испанская порода? Как у быков. Знаете, испанские быки на все такое яркое кидаются.
— Сам ты порода-урода! — опять взвилась бабка. — Значит, так и будет она кидаться?
— Да перекрасим дверь, — спокойно объяснил Сережка. — О чем разговор! В зеленый цвет перекрасим. Не будет она кидаться на зелень. Ведь на траву она не кидается.
Бабка подозрительно молчала. Но, подумав, решила, видимо, что нет Липе никакого резона кидаться на зеленую дверь.
— А когда перекрасите?
— Ну, сперва пусть эта краска высохнет… А пока мы Липушку в овраге попасем, — сладко пообещал Сережка. — Раз уж так получилось… Главное, вы не беспокойтесь. Мы ей дверь показывать не будем. Уведем и приведем аккуратненько. Там и травка густая, сочная, не то что здесь…
Когда Липу вывели за калитку, Борька в сердцах саданул ей коленом в худые ребра.
— У, кляча испанская!
— Вот и нашлось дело. А боялись, что заскучаем, — ехидно заметила Вика.
— Зачем связались? — возмущенно спросил Стасик. — Ну и пускай разносит сарай! Мы-то при чем? — И он треснул Липу с другой стороны.
— Не тронь дживотное, — сердито сказал Джонни.
— А в овраге нас викинги живьем возьмут, — заметил Стасик.
— Не возьмут. Мы за поворот уйдем, они туда не полезут в своих доспехах, — объяснил Сережка.
— Звено козопасов, — сказала Вика и вздохнула. — Да еще зеленую краску добывать надо. Предупреждаю: у меня нет.
— Зеленая подождет, — сказал Сережка. — Надо оранжевую. Осталась?
— А зачем?
— Осталась?
— Немножко, — сказала Вика. — А…
— Пока хватит немножко. А вообще… Фанера есть?
— Есть, — откликнулись Дорины.
— В чем дело, Сергей? — строго спросила Виктория.
Сережка зорко глянул по сторонам и шепотом сообщил:
— Есть одна мысль…
… В тот же день Джонни появился в детском саду. Он пришел на площадку независимой походкой вольного человека. Бывшая Джоннина группа хором вздохнула, завидуя его свободе и ослепительной форме. Вера Сергеевна сказала:
— Не понимаю, Воробьев, что тебе здесь нужно.
Джонни ответил непочтительно и отправился к малышам. В тенистом уголке за деревянной горкой Джонни собрал верных людей.
— Вот что, парни, — сказал он. — Есть важное дело.
Малыши часто дышали от внимания и почтительности.
— Кто знает, что такое ремонт?
— Это когда папка мотоцикл чинит, — сказал крошечный, как игрушка, Юрик Молчанов.
— Молодец, — сказал Джонни. — А еще?
— У нас был ремонт холодильника, — сообщил толстый Мишка Панин. — Только это плохой ремонт, потому что холодильник все равно не работает.
Два голоса вместе сказали, что бывает еще ремонт телевизора.
— Правильно, — терпеливо согласился Джонни.
— А у нас дома везде ремонт, — раздался голос у него за спиной.
Джонни обернулся, как охотник, услышавший зверя.
— И пол красят?
— Ага, — сказал стриженый малыш Дима.
— Вот! Это самое главное! — торжественно объявил Джонни. — Нам такой ремонт и нужен. Там, где есть оранжевая краска.
— Какая? — спросил Юрик Молчанов.
— О-ран-жевая. Ну, которой полы красят… Ну, вот, как штаны у Димки.
Все с уважением посмотрели на Димкины штаны с вышитым на кармане цыпленком.
— У нас есть такая!
— И у нас! — раздались голоса.
Джонни рассчитал правильно: летом хозяева деревянных домов всегда стараются заняться ремонтом: белят, шпаклюют, крыши чинят. Полы красят. Три Джонниных агента сразу пообещали добыть краску. Остальные сказали, что разведают у соседей.
— Приносите утром, — велел Джонни. — Каждый по консервной банке. И спрячьте там под… Ну, вы знаете где.
— Ага. А зачем? — спросил Мишка Панин.
— Потом скажу. Пока военная тайна. Если проболтаюсь, за язык повесят, — серьезно ответил Джонни. — И вы помалкивайте.
— Есть, — шепотом сказал Мишка.
Утром викинги снова ступили на тропу войны. Пестрые флажки реяли на ветру. Шлемы блестели и грозно брякали. Викинги шли на поиски подвигов и славы.
Но, чтобы совершить подвиг, надо победить врага. А врагов не было. Местные собаки заранее убирались с дороги и гавкали за крепкими заборами. Кошки смотрели с крыш зелеными глазами и тихо стонали от ненависти. Куры, заслышав мерный тяжелый шаг, разлетались по палисадникам, и даже заносчивый Маргарин поспешил исчезнуть в чужой подворотне.
Сомкнутый четырехугольник воинов прошел уже пол-улицы. Подвигов не предвиделось. Под рогатыми кастрюлями и чайниками начинали шевелиться недовольные мысли. Шаг стал сбивчивым. Кое-кто за спиной предводителя стянул со взмокшей головы шлем и взял его под мышку. Дисциплина падала.
Но зоркие глаза вождя разглядели впереди сине-голубую фигурку.
— Внимание!! — взревел обрадованный ярл. — Впереди вражеский лазутчик!
— Внимание! — тонким голосом поддержал его верный адъютант. — Впереди вражеский Джонни по прозвищу Карапуз!
Никогда не было у Джонни такого прозвища! И все это знали. Но Толька на ходу приказал:
— Полк, слушай боевую задачу! Изловить подлого Джонни Карапуза, взять его в заложники и выведать все военные секреты!
— Ура! — рявкнули воодушевленные викинги.
Джонни, однако, не хотел, чтобы его изловили. Он заметил врагов и поднажал, стараясь успеть к своей калитке раньше викингов.
Рогатое войско тоже поднажало.
Джонни был не такой противник, на которого надо идти сомкнутым строем. Викинги сломали ряды и кинулись за добычей наперегонки. Но быстро бежать им не давали щиты и копья.
А Джонни мешало бежать ведерко с краской. Он тащил его из детсада. Малыши постарались, и ведерко было полное. И тяжелое. Оно цеплялось липким боком за ногу, краска плескала через край, и за Джонни по асфальту тянулась рваная оранжевая цепочка. Ну как тут побежишь?
Наверное, поэтому Джонни не успел к калитке. Викинги опередили, и казалось, что спасенья нет.
Но спасенье было. Джонни затормозил и юркнул в проход между заборами.
Это был очень узкий коридор. Если бы Джонни развел руки, он коснулся бы того и другого забора. Проход вел к ручью, который журчал позади огородов. Зимой хозяйки ходили на ручей полоскать белье, а летом здесь никто не ходил, и проход зарос лопухами.
Джонни вошел в лопухи, повернулся и стал ждать.
Надо сказать, что кроме ведра у Джонни были две мочальные кисти, которыми белят стены. Ведерко он поставил перед собой, а кисти взял, как гранаты.
Громыхая щитами и шлемами, полезли в проход викинги. Впереди были Самохин и Пескарь.
— Только суньтесь, коровы, — холодно сказал Джонни. И по самый корень окунул в ведерко кисть.
Это непонятное движение слегка смутило суровых воинов. Они остановились.
— Сдавайся, — неуверенно сказал Пескарь.
Свободной рукой Джонни показал фигу. На этот возмутительный жест викинги ответили нестройными угрозами. Но не двинулись. Краска падала с кисти, и ее тяжелые капли щелкали по лопухам.
— А ну, положи свою мазилку, — устрашающим голосом сказал Самохин.
Джонни дерзко хмыкнул.
— Взять шпиона! — приказал Толька. Склонил копье и двинулся на противника.
Джонни изогнулся и метнул кисть в щит предводителя.
Бамм! Фанера тяжело ухнула, и на ней расцвела оранжевая клякса величиной с кошку. Кисть рикошетом ушла в задние ряды и зацепила еще несколько щитов.
— Я так не играю, у меня рубаха новая, — сказали оттуда.
— Молчать! Не отступать! — крикнул Самохин.
Джонни обмакнул вторую кисть.
— Джить надоело?
Викингам не надоело жить, но надо было спасать свой авторитет. Они опять склонили копья.
Бамм! Вторая кисть разукрасила щит Пескаря и щедро окропила других викингов. Джонни, не теряя секунды, схватил с земли гнилую палку, перешиб о колено и оба конца макнул в краску. Палки полетели вслед за кистями. Викинги яростно взревели. Безоружный Джонни подхватил ведерко и пустился к ручью.
Путаясь в лопухах, цепляясь друг за друга копьями и рогами, грозные покорители северных морей кинулись в погоню. Жажда мести подхлестывала их. Они догоняли беднягу Джонни.
Что делает охотник, когда его настигает разъяренный медведь? Он бросает по очереди зверю одну рукавицу, вторую, потом шапку… Рукавиц у Джонни не было, а новенькую пилотку он не отдал бы даже Змею Горынычу. И Джонни бросил врагам ведерко. Вернее, не бросил, а оставил в лопухах.
Неожиданный трофей на минуту задержал орущих викингов. Джонни оторвался от погони. Он, не снимая сандалий, перешел ручей, погрозил с того берега кулаком и по чужим огородам вернулся к своему забору.
Там его ждали.
— Получилось? — спросил Сережка, бледнея от нетерпения.
— Джелезно, — сказал Джонни. — Сейчас увидите.
Они повисли на заборе.
Викинги выбирались из прохода и смыкали ряды. К забору они подошли уже неприступным ромбом. Их щиты сверкали оранжевыми заплатами всех размеров.
— Вашего Джонни мы все равно поймаем, — сказал Толька, сдвигая на затылок чайник. — Оторвем ноги и приставим к ушам.
— Самохин, ты грабитель, — с достоинством ответил Сережка. — Вы не викинги, а мародеры. Такая банда — на одного первоклассника! Краску отобрали!
— Он ее сам бросил! — возмутился Толька.
— Сам! — хором подтвердили викинги.
— Вы бы не лезли, я бы не бросил! Джулье! — вмешался Джонни.
— До тебя мы еще доберемся, — пообещал Пескарь.
— Отдавайте краску! — потребовала Вика.
— Да? А сметаны не хотите? — язвительно спросил Талька. А услужливый Пескарь захохотал.
— Ну послушай, Толька, — сказал Сережка с неожиданным миролюбием. — Ну зачем она вам? А нам она правда нужна.
Самохин удивился: противник не ругался, а просил. Но Толька уступать не хотел.
— Сами виноваты, — непреклонно ответил он и нахлобучил чайник. — Зачем ваш Джонни нам щиты заляпал? Думаешь, мы такие ляпаные ходить будем?
— А что будете? — с подозрительным нетерпением спросила Виктория.
Талька мстительно сказал из-под чайника:
— Будем вашей краской наши щиты красить. Чтоб пятен не было. Чтоб одинаковые были. А остаточек вам вернем, так и быть.
— Чтоб вы подавились этим остаточком! — с восторгом в душе воскликнула Вика. И друзья посыпались с забора, чтобы враг не заметил их ликования.
Но они еще не были уверены до конца. Они сидели на Викином крыльце и ждали, и грызла их тревога.
В два часа дня появились в калитке два Джонниных пятилетних разведчика. Джонни, сдерживая нетерпение, пошел навстречу.
— Ну?
— Красят! — отчеканили разведчики.
— Красят, — небрежно сообщил Джонни, возвратившись на крыльцо.
— Джонки, ты великий человек, — проникновенно сказал Сережка.
— Мы подарим тебе Меркурия, — снова пообещал Борька.
Стасик в немом восторге встал на руки. А Вика… Ну что возьмешь с девчонки! На радостях она чмокнула героя в перемазанную краской щеку.
Джонни шарахнулся и покраснел…
— Ой! — спохватился Стасик и встал на ноги. — Борька, пора!
— Куда вы? — спросил Сережка.
— Липушку на выпас, — ласково сказал Борька.
— Липушку на тренировочку, — нежно добавил Стасик. — Тренировка — залог победы.
— Вы там не очень, — предупредил Сережка. — А то как снизит удои, да как запрет ее от нас бабка…
— Снизит?! — возмутился Стасик. — У нас режим! Программа! Распорядок. Все по-научному!
В тот же вечер Стасик Дорин бесстрашно явился во двор к Самохиным. В одной руке он держал пакет с пластилиновой печатью, в другой — лыжную палку с белым полотенцем.
— Что надо? — нелюбезно спросил предводитель викингов, появляясь на крыльце. Стасик повыше поднял флаг и протянул пакет. Толька с сожалением поглядел на полотенце. Никакие законы не разрешали отлупить посла. А так хотелось! Он вздохнул, разорвал пакет и вынул бумагу.
"Вызываем на бой!!! Послезавтра. В четверг. В девять часов утра", — прочитал он. Придраться было не к чему: ни одного оскорбительного выражения.
— Будет ответ? — вежливо спросил Стасик.
— Будет, — сказал Самохин. — Послезавтра в девять. Вам понравится.
— Вот и хорошо, — сказал Стасик.
Утро решающей битвы было безоблачным, синим, ослепительным. Не воевать бы, а радоваться. Но суровые покорители северных морей, повелители фиордов, грозные бойцы в рогатых шлемах созданы не для мирной жизни. Их дни проходят в боях… Правда, на этот раз они знали, что больших подвигов совершить не удастся. Велика ли заслуга — обратить в бегство маленький, почти беззащитный отряд! Но проучить непокорного врага следовало, и ровно в девять боевой четырехугольник викингов показался на улице. Заполыхали на солнце оранжевые щиты.
И вот викинги увидели противника.
— Тихо! — сурово сказал Самохин, потому что в рядах началось неприличное, подрывающее дисциплину веселье.
Ну а как было не веселиться? Противник был такой беспомощный, потешный! Пять человек стояли поперек дороги, вооруженные чем попало. У девчонки вместо щита была деревянная крышка от бочки. Джонни Карапуз держал игрушечный автомат, бесполезный в настоящем бою. У Сережки Волошина вообще не видно было оружия. Лишь братья Дорины укрылись за настоящими, как у викингов, щитами. Пятерка эта растянулась в редкую шеренгу, только Борька и Стасик стояли рядом, сдвинув некрашеные щиты.
— Сейчас побегут, — пропищал Пескарь. — Не будет никакого боя.
Но противник не бежал.
— Может быть, они решили геройски погибнуть? — с опаской спросил Пескарь.
— Помолчи, — обрезал предводитель. И, не оглядываясь, приказал: — Пленных заприте до вечера в нашем штабе. А Джонни — сразу ко мне. Я из него сделаю чучело.
…А Сережкин отряд молча ждал врага.
— Не тяни, — прошептал наконец Стасик. — Оставь место для разбега.
— Давай, — попросила Вика.
Викинги надвигались, как рыжий танк.
— Внимание… — сказал Сережка. — Старт!
Братья Дорины раздвинули щиты и убрали руки с Липиных рогов.
Липа глянула вдаль, и ее затрясло, как вентилятор со сломанной лопастью. Еще бы! Раньше она воевала только с одной отвратительно-оранжевой дверью, а сейчас такие двери двигались на нее толпой!
Липа коротко замычала. Вернее, это было не мычанье, а глухой утробный звук, похожий на стон раненого льва. Потом она тяжело встала на дыбы, оттолкнулась задними копытами и ринулась на врага, поднимая над дорогой клочковатые дымки пыли.
— Ха-ррашо идет, — сказал Сережка.
Викинги замедлили шаг. Едва ли они испугались. Скорее, просто удивились. А потом, разглядев, что мчится на них не носорог, не дикий бык и не баллистическая ракета, со смехом опустили щиты и склонили копья.
Ох, как это опасно — недооценивать врага! Что были тонкие копья для разъяренной Липы! Остановить ее удалось бы, пожалуй, только прямым попаданием из пушки.
Раздался сухой треск фанеры и нестройный крик растерявшихся викингов. Строй дрогнул и развалился. Липа исчезла в гуще копий, шлемов и щитов. Она бесновалась в середине толпы рогатых воинов.
В армии викингов стремительно нарастала паника.
— Бешеная! — раздался крик, и это было как сигнал.
Бойцы кинулись в калитки, на заборы и в подворотни, устилая поле брани рогатыми кастрюлями и огненными прямоугольниками щитов. Правда, четыре человека сомкнули ряд и хотели встретить грудью дикого врага, но пустились в бегство, едва Липа обратила на них горящий взгляд.
Не бросил оружие только ярл. Грозный вождь викингов не мог покинуть место битвы, оставив на нем меч и щит. Копье он тоже не хотел оставлять. Закинув щит за плечи и взяв копье под мышку, Самохин крупной рысью помчался к своей калитке. Блестящий шлем слетел с него на дорогу и несколько метров, бренча и прыгая, катился за хозяином. Потом застрял о травянистом кювете.
Если бы Толька догадался повернуть щит крашеной стороной к себе, он легко спасся бы от погони. Но фанерный квадрат прыгал у него на спине, сверкая оранжевой краской, и Липа расценила это как издевательство. Набирая скорость, она пустилась за последним викингом, настигла и атаковала с тыла. Шит рогами она не достала и ударила несколько ниже, но Тольке от этого было не легче.
Получив еще два удара. Толька понял, что не уйдет. Он бросил снаряжение у кривого тополя и с цирковой ловкостью взлетел на толстый сук.
Липа остановилась. Ее клочкастые бока взлетали и на дали от яростного дыхания. Она ударила копытом брошенный щит и с отвращением сказала:
— М-мэ!
Очевидно, она хотела сказать: "М-мэрзость!"
Толька смотрел на нее с тоскливой безнадежностью.
Победители окружили тополь.
— Сидишь? — почти ласково спросила Вика. — Ну и как там? Удобно?
— Да ничего, — уклончиво ответил Толька.
Он немного пришел в себя. Все-таки сейчас он был не один на один с бешеным зверем.
— Слезай, джаба с рогами, — потребовал Джонни.
— Фиг, — сказал Толька.
— Хуже будет, — предупредил Борька.
— За штаны стянем, — пообещал Стасик.
— Попробуй. Как врежу каблуком по носу.
Сережка молчал. Он считал, что побежденный враг не стоит разговоров. Он гладил Липу и чесал у нее за ухом. Липа хрипела и косилась на щит. Сережка повернул его краской вниз. Потом взглянул на Тольку и спросил у ребят:
— Что с ним делать?
— Дать ему джару, чтоб запомнил, — мрачно сказал Джонни.
— Десять раз по шее, — предложил Стасик.
— Точно, — откликнулся Борька.
— Нельзя, — с сожалением сказал Сережка. — Пленных лупить не полагается.
— А хоть два разика по шее можно пленному? — с надеждой спросил Стасик.
— Я еще не пленный, — подал голос Толька. — Вы меня еще сперва достаньте.
— Очень надо, — сказала Виктория. — Сиди. А мы здесь посидим. Спешить некуда. Кто кого пересидит?
Толька вдруг почувствовал, что сук очень твердый и не такой уж толстый. Он при каждом движении скрипел и потрескивал.
— Драться будете, если спущусь?
— Не будем, — сказал Сережка. — Нужен ты нам такой…
— Хватит с тебя козы, — усмехнулась Вика.
— Уберите ее, — хмуро сказал Толька. — И где нашли такую сатану…
Вика отвела Липу. Толька уцепился за сук, повис и прыгнул в траву.
Несколько секунд все молчали.
— Забирай барахло и топай, — сказал, наконец Сережка.
Толька поднял копье, меч и щит. Вика закрыла Липины глаза ладонями.
— Сколько рогатых не могли с одной козой справиться, — хмыкнул Джонни.
— Еще полезете — четырех боевых козлов выставим, — пообещал Сережка.
Конечно, сгоряча он прихвастнул. Четырех козлов не нашлось бы на всех окрестных улицах. Но Толька ничего не сказал. Волоча снаряжение, он уходил к своему дому.
История викингов кончилась.
СЛЕД КРОКОДИЛА
Когда Джонни Воробьев перешел во второй класс и достиг солидного восьмилетнего возраста, в его жизни случилась важная перемена. Джонни научился выговаривать букву "Ж". Теперь он уже не говорил "джаба" вместо "жаба" и не жаловался на "джуткую джизнь", когда его заставляли причесываться или смазывать зеленкой ссадины. А если коварное "дж" там, где не надо, проскакивало в его речи, это означало, что Джонни очень волнуется или крайне раздражен.
Чаще бывало наоборот. Джонни так гордился своим новым умением, что соседского пса называл иногда Жульбарсом, а не Джульбарсом, просил к чаю яблочный "жем", а в холодный день потребовал для себя "жинсы" и "жемпер".
И новый фильм, который шел в клубе швейной фабрики, Джонни называл "Жек, сын жунглей".
Это была история полудикого пса. Он подружился с бродячим охотником и не раз спасал его от смерти в джунглях девственных американских лесов.
Бывают фильмы, которые и один-то раз трудно досмотреть до конца. А бывают такие, что можно ходить на них десять раз, и чем больше смотришь, тем сильнее хочется увидеть их снова.
Джонни просто влюбился в громадного отважного Джека, в его смелого и благородного хозяина и даже в индейскую девушку Долорес, на которой хозяин Джека в конце концов женился. Кроме этих персонажей в фильме участвовали американские ковбои (отрицательные и положительные), индейцы, мексиканские пастухи в шляпах размером с вертолетную площадку, ягуары, мустанги и крокодилы.
В Джоннином сердце поселилась тоска по заморским странам, жгучим тайнам и приключениям.
Но на родной улице родного тихого городка тайн и приключений не предвиделось. Тоску можно было унять лишь одним способом: посмотреть кино еще раз. Пятый.
Но, во-первых, не было гривенника. Во-вторых, был выходной день. А в выходной поди купи билет, если даже раздобудешь гривенник!
Оставался один путь: использовать знакомства и родственные связи. Не очень достойный способ, но что делать? Тоска съедала сердце бедного Джонни.
Скрутив свою гордость, вздрагивая от презрения к себе, он пошел в соседнюю комнату и сказал сладким ненатуральным голосом:
— Вера, может, сходим в кино на "Жека"? А?
Двоюродная сестра Вера, точнее, Вера Сергеевна, была старше Джонни почти в четыре раза. Как вы помните, она работала воспитательницей в детском саду. Год назад она руководила старшей группой, в которую ходил тогда и Джонни.
День, когда Джонни стукнуло семь лет, Вера Сергеевна запомнила как светлый праздник: именинник твердо заявил об уходе из детского сада. С тех пор они с Верой старались вежливо не замечать друг друга, хотя и жили в одном доме. Правда, иногда Веру Сергеевну мучили угрызения совести. Гордый и свободный Джонни появлялся дома по вечерам нестриженый и лохматый, исцарапанный, с клочьями облезающего загара на плечах, с репьями на майке, со свежими ссадинами на локтях и коленях, со сдержанной удалью в глазах — вольное дитя заросших лопухами улиц.
— О чем думают родители? — горестно шептала Вера Сергеевна и укоряла себя, что за детсадовский период не смогла воспитать из Джонни приличного ребенка.
И вдруг Джонни (подумать только — сам! ) обратился к ней с просьбой!
Вера Сергеевна ощутила мгновенный прилив радости и педагогического рвения. Она сдержала, однако, эти чувства. Когда имеешь дело с детьми, надо владеть собой.
— Ну что ж… — почти равнодушно отозвалась она. — А собственно говоря, почему ты не идешь один?
— Билетов не достать. А если с тобой, Федя пропустит.
Киномеханик Федя был хороший знакомый Веры Сергеевны.
— Ты думаешь? — строго спросила Вера. — Ну, меня он, допустим, проведет. А тебя за какие заслуги?
— Мы же все-таки с тобой родственники… — пробормотал Джонни.
Это признание окончательно покорило Веру Сергеевну. К тому же долго упираться было опасно. Джонни мог повернуться и гордо уйти.
— Хорошо, — сказала она с некоторой поспешностью. — Но при одном условии. Вернее, при двух.
Джонни глянул с подозрением.
— Во-первых, ты будешь вести себя как воспитанный человек. Во-вторых, — продолжала Вера Сергеевна, — ты должен выглядеть как нормальный ребенок.
Джонни внутренне содрогнулся. Но выхода не было. Он промолчал.
Молчание — знак согласия. Вера Сергеевна велела Джонни умыться. Потом заставила его надеть все новое, чистое и глаженое. Дала ему белые носочки и новые лаковые полуботинки, которые были куплены недавно и хранились для торжественных случаев. Джонни мужественно прошел через эти испытания. И лишь когда Вера попыталась припудрить ему синяк на подбородке, он тихо проворчал насчет "дженских фокусов". Вера убрала пудру: поняла, что нельзя перегибать палку.
Потом она расчесала Джоннины волосы, которые в обычное время напоминали желтое пламя на ветру. Красивой прядкой она прикрыла великолепную лиловую шишку на его лбу. Джонни, который считал, что следы боев украшают мужчин, стерпел и это издевательство.
Вера старалась еще минут десять и наконец просветленно улыбнулась. Джонни стал похож на мальчика из журнала "Моды для детей", который издается в городе Риге. Вера была так довольна, что забыла о главном. О том, что ее двоюродный братец только снаружи сделался воспитанным и послушным. А внутри-то он остался прежним непричесанным и гордым Джонни.
Но сначала все шло хорошо. Джонни чинно шагал рядом с Верой. Он вел себя так безобидно, что Вера даже подумала: не взять ли его за руку? Но не решилась.
Потом Джонки увидел на тротуаре пустую консервную банку.
— Женя, — мягко сказала педагог Вера Сергеевна, — Ну, объясни, пожалуйста, зачем ты пнул эту банку? Ведь она тебе совершенно не мешала.
Джонни не мог объяснить. Он просто не понимал, как нормальный человек может пройти мимо такой банки и не пнуть.
— А чего она… на дороге. Ну, пнул. Жалко, что ли? — пробурчал он.
— Но ты поднял ненужный шум. И кроме того, ты мог исцарапать новую обувь.
"А холера с ней", — чуть не ответил Джонни, но вовремя сдержался. И послушно сказал:
— Я больше не буду.
Вера Сергеевна не заметила иронии и осталась довольна.
"Не такой уж он вредный, — размышляла она. — И характер его похож не на колючую проволоку, как мне казалось раньше, а скорее на мягкую круглую щетку — ершик для мытья бутылок. Если слегка тронуть — колется, а если сжать покрепче — "ершик" сомнется, и все в порядке". Она решила эту мысль сегодня же вечером записать в свой педагогический дневник. А пока продолжала воспитывать Джонни.
— Ну скажи, что у тебя за походка! Зачем ты елозишь руками по бокам?
Джонни елозил руками, потому что ладони его машинально искали карманы. Но на привычных местах карманов не попадалось. Джонни едва не плюнул с досады, но опять сдержался. На нем была не то рубашка, не то легкая курточка с матросским воротником, блестящими пуговками и плоскими кармашками у пояса. Джонни поднатужился и засунул в каждый кармашек по кулаку.
Стало гораздо легче жить. Но тут снова возвысила голос Вера Сергеевна.
— Женя! Ты сошел с ума! Вынь сейчас же руки! Ты растянешь карманы и подол.
Джонни вынул, но хмуро спросил:
— Ну и что?
— Как "что"? Будет некрасиво!
— А зачем карманы, если нельзя руки совать? — строптиво поинтересовался Джонни.
— Как зачем? Фасон такой. Ну и мало ли что… Например, платочек положить…
— Что положить? — с благородным возмущением спросил Джонни.
— Господи, что за ребенок! — вполголоса произнесла Вера Сергеевна.
Джонки стерпел и "ребенка".
Но у всего на свете есть границы. В том числе и у терпения.
— Женя, — печально сказала Вера. — Ну почему ты не можешь вести себя как все нормальные дети?
А что он сделал? Поднял с земли фанерку и пустил в воздух. Они шли как раз по краю оврага, и Джонни захотелось посмотреть, долетит ли фанерка до ручья.
Она не долетела.
— Женя…
Джонни круто развернулся и встал перед сестрицей. Снова сунул в кармашки кулаки. Смерил Веру Сергеевну взглядом от босоножек до завитков на прическе. И с чувством сказал:
— Иди ты… одна в кино, к своему Феде.
Затем он сделал шаг к откосу и бесстрашно ухнул вниз сквозь колючие кустарники и травы.
— Женя-а! Что ты делаешь!
Не оборачиваясь на жалобные крики, Джонни пробрался сквозь заросли к тропинке, которая вела к ручью и дальше, на другой берег оврага. Это был самый короткий путь к дому.
Джонни подошел к воде, мстительно поглядел на свои лаковые башмаки и, не снимая их, перешел ручей вброд. ("О-о-о-о! " — сказала наверху Вера Сергеевна.) Затем он шагнул на доски — остатки прогнившего тротуарчика, — глянул на песок рядом с досками… Замер. Опустился на колено…
Вера Сергеевна продолжала причитать и звать ушедшего брата. Смысл ее криков можно было выразить одной строчкой из старинного романса: "Вернись, я все прощу".
Но Джонни не слышал.
Помните Робинзона? Помните, что он почувствовал, когда увидел на песчаном берегу чужой след? То же самое испытывал сейчас и Джонни.
Не только у Джонни были в этот день неприятности. Его друзьям тоже не везло. Как по заказу.
Командир всей компании, шестиклассник Сережка Волошин, разочаровался в давнем своем приятеле Сане Волкове. С Волковым делалось неладное. Футбол и купание надоели ему. Про интересные истории, которые все по очереди рассказывали по вечерам на Викином крыльце, Саня сказал: "Муть! ". Саня перестал покупать в буфете на вокзале мороженое с клубникой и копил деньги на мопед. Он отказался читать книгу "Туманность Андромеды" и заявил, что там все неправда. С младшим братом Митькой он торговался из-за велосипеда и продавал очередь кататься по десять копеек за полчаса.
В общем, скучным человеком стал Волков. Нет, Сережка не ругался с ним и даже не говорил ничего. Но чувствовал: дружба не клеится. Не то что в прежние года.
Он поделился грустными мыслями с одноклассницей и соседкой Викой:
— Что-то не то с Санькой…
— Переходный возраст… — рассеянно откликнулась Вика.
— Не туда он переходит, — мрачно сказал Сергей.
Но Вика не ответила. Она переживала свои неудачи.
Только что Вика поссорилась со своим юным дядюшкой Петей Каледонцевым.
Петя был студент. Он приехал в гости к родственникам, в том числе и к Вике. В августе он собирался отправиться на стройку со студенческим отрядом, но до этого должен был пересдать экзамен: у Пети был "хвост" по органической химии. С "хвостом" его, конечно, в отряд не взяли бы.
Петя собирался в тихом городке отдохнуть как следует и подготовить химию. Отдыхал он успешно, а что касается химии… Но в конце концов он был взрослый человек и отвечал за свои дела сам. Не то что Вика. За Вику отвечала ее тетя, Нина Валерьевна, потому что Викины родители, как обычно, проводили отпуск в туристической поездке, на этот раз заграничной.
Нина Валерьевна, жалуясь на головную боль и прочие недуги, жаловалась заодно и на Вику. Та была "кошмар, а не девочка". А Петя — младший брат Нины Валерьевны — хороший. Он был вежлив, изящен, весел. У него были тонкие усики и внешность юного матадора.
Ребята сначала прозвали Петю Каледонцева "Дон Каледон", а потом — "Дон Педро".
Чтобы не скучать вдали от столицы, Дон Педро привез с собой портативный магнитофон с длинным иностранным названием.
Из-за этого магнитофона и вышла ссора. Вике хотелось послушать ультрамодные записи, а Дон не давал.
— Опять трогала? — грозно спросил он, когда увидел, что магнитофон стоит не на месте.
— Рассыплется, что ли? — сказала Вика.
— Сколько раз говорил: не лапай!
— Жадина? Иди тетушке пожалуйся!
— Чего это я буду жаловаться? — удивился Петя.
— Она меня отругает, а тебя пожалеет. Она и так все время: "Ко-ко-ко, мой Петенька! Ко-ко-ко, мой цыпленочек! Скушай котлеточку, деточка… "
Петя счел несолидным сердиться на девчоночьи выходки.
Он засмеялся и сказал:
— Очень похоже.
Обманутая этим смехом, Вика ласково попросила:
— Ну дай. Я только одну пленочку послушаю.
— Обойдешься, — сказал Петя, — без музыки. Маленькая еще.
Вика подошла к открытому окну и оттуда сказала:
— Жмот ты несчастный. Дон Педро… Дон Пудра… Дон Пыдро!
Петя пустил в нее толстым учебником органической химии. Вика пригнулась, и книга вылетела в окно, хлопая листами, будто курица крыльями.
Следом выскочила Вика.
Теперь они с Сергеем сидели на крыльце и грустно думали каждый о своем.
К ним подошли братья Дорины — Борька и Стасик. Борька прижимал к груди кота Меркурия.
Отец выгнал братьев из дома. Не насовсем, а до вечера. А кота Меркурия — насовсем.
Кот был не простой, а электронный. Братья сделали его два года назад, но до сих пор старались усовершенствовать. Мышей ловить Меркурий не умел, потому что придумать электронное обоняние Стасик и Борька не смогли. Зато он ловко хватал с пола стальными челюстями разные мелкие предметы и с жужжанием возил их по комнате.
Братья хотели сделать отцу сюрприз. Они придумали вот что. Когда отец, придет с работы, Меркурий схватит в зубы его домашние туфли и подвезет прямо к порогу.
Папа Дорин был очень аккуратный человек. Туфли его стояли всегда на одном месте, а приходил с работы он без восьми минут в пять часов.
Стасик и Борька долго налаживали кота. Рассчитали его путь из угла до туфель и до двери, проверили хватательные движения челюстей и реакцию на звонок. Из будильника они сделали реле времени, чтобы Меркурий зря не тратил энергию батареек и включился в полпятого.
Репетиция прошла отлично.
И конечно же, все испортила дурацкая случайность. Отец решил привести в гости свою начальницу. Маму он предупредил, а сыновьям ничего не сказал. Мама убрала с привычного места отцовские шлепанцы, чтобы не портили вид в коридоре. В последний момент убрала.
Когда раздался звонок и открылась дверь, Меркурий рванулся из своего угла, недоуменно щелкнул зубами над пустым местом, и от этого промаха в его организме что-то разладилось. Бедный кот взвыл электронным голосом, замигал зеленым глазом и, дребезжа, подкатил под ноги начальнице — пожилой представительной даме.
Дама в глубоком обмороке мягко осела на коврик у порога…
— Может, возьмешь пока к себе? — жалобно спросил Стасик у Вики и потер белобрысый затылок (в затылке все еще гудела отцовская затрещина).
— Возьми, — попросил и Борька (и пошевелил лопатками). — А то отец пообещал разломать до винтиков.
— Давайте. — сказала Вика. — Я его на Дона буду науськивать.
— Лучше разобрать на детали да продать тем, кто приемники делает, — предложил подошедший Саня Волков. — По крайней мере толк будет.
— Шиш, — сказала Вика. Она погладила Меркурия по алюминиевой спине и унесла в дом. Потом вернулась и села на ступеньку рядом с грустными друзьями.
В это время подошел Джонни.
Он встал в двух шагах и начал ждать, когда обратят на него внимание.
Первой обратила внимание Вика.
— Что с тобой, Джонни?
— В овраге что-то непонятное, — сдержанно сказал Джонни.
— Что непонятное?
— Там, где брод, на песке… след какой-то. Будто кто-то брюхом по песку полз и лапами по сторонам шлепал.
И Джонни помахал в воздухе растопыренными ладошками — показал, как шлепали лапы.
Друзья молча и вопросительно смотрели на него. Только Саня Волков хихикнул:
— Брюхом полз! Пьяница какой-нибудь к ручью лазил, чтобы протрезвиться.
Джонни поморщился. Он не любил дураков.
— Лапы-то не человечьи.
— А чьи? — разом спросили Борька и Стасик Дорины.
— Откуда я знаю чьи… Вроде как крокодильи.
Тогда все развеселились.
— Во дает! — сказал Стасик.
— Джонни, ты не перегрелся на солнышке? — спросила Вика и хотела пощупать у него лоб.
Джонии холодно отстранился.
— Новости науки! — торжественным голосом диктора объявил Сергей. — Чудо местных вод: большой зеленый крокодил. Школьник Джонни Воробьев едва не угодил в пасть чудовища. Академия наук выслала экспедицию на место происшествия.
Джонни подождал, когда кончится это неприличное веселье. Потом ответил им лаконично, как древний римлянин:
— Идите и посмотрите.
Если бы ждали их какие-то дела, интересная игра или еще что-нибудь, никто бы не пошел.
Но делать все равно было нечего. И компания, посмеявшись, двинулась к оврагу.
Следы были. В самом деле, словно кто-то волочил по песку тяжелое брюхо и неловко опирался на трехпалые нечеловечьи лапы.
Все осторожно, чтобы не задеть отпечатки, опустились на песок. Кто на корточки сел, кто на колени встал. Только Джонни стоял, сунув кулаки в карманы матроски (карманы уже слегка растянулись). Всем своим видом он говорил: "Убедились? То-то же. А еще хихикали… "
— Странные следы какие-то, — заметил Сережка. — Лапы то по бокам, то будто на брюхе растут.
— Может, у него походка такая, — заметил Стасик Дорин.
— Может, хромой крокодил, — поддержал его Борька.
— Бедненький, — сказала Вика. То ли крокодила пожалела, то ли Борьку за то, что он сделал такое глупое предположение.
— Да идите вы! — слегка обиженно сказал Саня Волков. — Вы что, по правде, что ли? Откуда здесь крокодилы?
— А откуда они вообще берутся? — подал голос Джонни. — Наверно, от сырости заводятся. Здесь место самое для них подходящее, заросли и вода. Будто на реке Конго.
Все сдержанно посмеялись. Саня решил, что смеются над Джонни, и тоже похихикал.
Борька Дорин вспомнил:
— В прошлом году в газете печатали, что из зоопарка макака сбежала. Только через три дня на каком-то чердаке поймали. Может, и этот…
— Макака — она же обезьяна, — возразил Саня. — Ей сбежать — раз плюнуть. А крокодил как уползет? .. Да у нас и зоопарка нет, не Москва ведь.
— До Москвы недалеко, — рассеянно заметил Сережка — А там зоопарк близко от реки.
— Ну и что?
— Ну и то. Сперва в реку, потом в канал, потом к нам в ручей… А что? Здесь тихо, спокойно. Сыро. Зелень, лягушки…
— Где лягушки? — быстро спросила Вика и встала.
— Одними лягушками не прокормишься, — заметил Стасик.
— В том-то и дело, — печально сказал Сережка. — Лягушки — это так, закуска. А вот пойдет через ручей какой-нибудь Джонни в новых башмаках…
Все разом глянули на Джоннины полуботинки. Они слегка поблекли и размякли от воды, но видно было все-таки — новые и лаковые.
—… идет он, — продолжал Сережка, — а крокодил хлоп своей пастью — и нету Джонни. Только башмаки пожевал и выплюнул.
— И то хорошо, — заметила Вика. — Все-таки родителям утешение и память.
Джонни посмотрел на друзей снисходительно, как на расшалившихся дошколят.
— Вот вы языками мелете, а следы-то все равно есть. Откуда?
Этот здравый вопрос всех сделал серьезными. Все опять уставились на отпечатки лап. Но смотри не смотри, а загадка от этого не станет проще.
Первому надоело Сане. Он встал и решительно отряхнул с колен песок.
— Сидите, если охота. Я пошел. В пять сорок пять по первой программе "Остров сокровищ".
Это известие у всех повернуло мысли в другую сторону. Ну подумаешь, непонятные следы! А по телевизору: пираты, паруса, клады и абордажные схватки! Даже Джонни встрепенулся.
Но, уходя, он посмотрел все-таки еще раз на берег ручья. Там на песке оставалась неразгаданная тайна.
На следующее утро Джонни встретил во дворе Саню и Сережку. Сказал будто между прочим:
— А следы-то опять… Не те, а свежие. Я ходил, смотрел.
— Да ну тебя со следами! — огрызнулся Саня. Он с грустью думал о потерянном гаечном ключе от велосипеда.
— "Ну тебя, ну тебя"! — вдруг вспылил Джонни. — У тебя мозги, как велосипедная шина! А если там правда кто завелся?
— Ну и завелся… Мне-то что?
— Там твой Митька с ребятами строить мельницу хотел. Вот сожрет эта скотина Митьку, тогда узнаешь.
— Его сожрешь… — откликнулся Саня, но слегка задумался. Видимо, судьба младшего брата была ему не совсем безразлична.
Сережка почесал переносицу и сказал:
— Джонни, позови-ка Дориных. И Викторию.
Они расселись на крыльце у Вики.
— Можно, конечно, шутить, — сказал Сережка. — Можно не верить… А следы-то есть… Вот я читал в одном журнале, что в Шотландии в каком-то озере доисторическое животное появилось. Там тоже пацаны по берегу бегали, тоже думали сперва: "Разве в нашем обыкновенном озере может что-нибудь случиться? "
— Если бы люди мимо всяких загадок проходили, они бы до сих пор и огонь-то разжигать не научились, — сказал Борис Дорин, а Стасик с упреком посмотрел на Саню Волкова.
Саня сказал:
— Ну а я что? Давайте тогда разведывать, кто там…
Вика осторожно спросила:
— Может, лучше сразу сообщить куда-нибудь? А то, пока охотимся, оно в самом деле кого-нибудь слопает.
А если никого в ручье нет? На смех поднимут, — сказал Сергей.
— А если есть, получится, что не мы его открыли, — поддержал Сергея Борька. — Пускай уж лучше мы сами. Рискнем… Если там кто-то завелся, то, наверно, не современный крокодил, а неизвестное чудовище вроде шотландского.
При слове "чудовище" у Джонни сладко заныло сердце. Настоящие, не "киношные" приключения надвигались на него. И заросли у ручья окутались романтикой, как джунгли Амазонки.
Однако романтика не сделала эти заросли более уютными. Дикая смородина, шиповник и какие-то ядовитые кусты с неизвестным названием царапались, как рассерженные кошки, — только шевельнись. Пролезшая между ветками крапива тоже вела себя подло. Джонни страдал. В отместку Вере Сергеевне он превратил свой вчерашний парадный костюм в повседневную одежду и теперь очень жалел: такая одежда не годилась для охоты в джунглях. С грустью Джонни вспоминал плотные техасы и футболку с длинными рукавами. Но наука требует самоотверженности и терпения. Джонни терпел. Остальные охотники тоже сидели в засаде молчаливо и почти неподвижно. Лишь изредка кто-нибудь не выдерживал и почесывал украдкой исцарапанные и ужаленные места. И тогда пятеро остальных косились на него со сдержанным негодованием.
Засада была устроена метрах в пятнадцати от песчаного пятачка с таинственными следами. Место было малолюдное. Когда-то здесь над ручьем построили мостик, потому что недалеко в овраге стояла избушка с огородом, колодцем и палисадником — крошечный такой хуторок. Потом избушку разобрали, мостик разрушился, от деревянного тротуарчика, ведущего на высокий берег, осталась редкая цепочка досок. А от мостика — узкая жердочка. Даже самым ловким мальчишкам и девчонкам не всегда удавалось пробежать по ней. Но ребятам-то не страшно: если и сыграют в ручей, беда не велика — глубина всего по колено. А взрослые почти никогда не пользовались этим переходом.
Ручей не везде был мелкий. Недалеко от песчаного брода, в тени сросшихся кустов, чернела глубокая вода. В тех ямах вполне мог поселиться крокодил… ну или не крокодил, а что-то похожее. В общем, тот, кто оставлял следы.
Следы эти хорошо видны были из укрытия: борозда от тяжелого брюха и отпечатки трехпалых неуклюжих лап. Но сегодня лапы были повернуты не от ручья, а к ручью. Может быть, крокодил (или не крокодил) всю ночь провел в зарослях и только под утро вернулся к себе в логово.
Вернуться-то вернулся, а вдруг потом опять вылез на берег в другом месте?
Мысль о том, что рядом ползает, может быть, что-то громадное, зубастое и скользкое, не доставляла особой радости. И разведчики прочно сжимали оружие. У Джонни было копье из лыжной палки. У Сани Волкова и Сережки — кинжалы из кухонных ножей. Братья Дорины — люди технически грамотные — вооружились на уровне современной техники: Борька соорудил скорострельную рогатку с оптическим прицелом (можно бить чудовище прямо в глаз), а у Стасика был двуствольный самострел. Причем один ствол бил прямо, а другой под углом, из укрытия.
Но оружие у разведчиков было лишь для самообороны. Они совсем не хотели вредить чудовищу. Для начала они собирались только выследить его и сфотографировать. Поэтому у Вики был на взводе аппарат "Смена" со специальной рукояткой, которую тоже сконструировали Дорины.
… Сидели долго. Ужасно долго. Целый час или два. Целых сто лет! Зловеще гудели в ядовитых листьях заблудившиеся осы. Среди влажной травы и корней что-то хлюпало и шевелилось. Кожа горела, будто ее искусали тысячи москитов.
А крокодила не было.
Компания начинала скучать. Первым откровенно и громко зевнул и почесался Саня Волков. На него зашипели, но уже не сердито, а по привычке. Саня хотел огрызнуться. И тут на берегу появился…
Нет, не крокодил.
Появился давний недруг всей компании Толька Самохин. Толька шагал к ручью со свитой адъютантов младшего и среднего возраста. Видимо, они возвращались с киносеанса из клуба.
На Тольке были восхитительные клеши с малиновыми обшлагами и серебряными пуговками. Ни подворачивать, ни мочить их Самохин, конечно, не хотел. А пройти по жердочке он не решился бы и под угрозой пистолета. Поэтому он выразительным кивком подозвал свиту, и голоногие адъютанты привычно подняли своего предводителя на руках. Затем вошли в воду.
Наверно, в давние времена доблестные воины так носили через реки своих императоров. По крайней мере Толька вполне чувствовал себя императором.
У Джонни даже сердце заболело от жгучего желания. Как он молил судьбу, чтобы кто-нибудь из адъютантов поскользнулся или запнулся! Позднее он узнал, что этого же всей душой желали и его друзья.
И судьба сделала им подарок. Маленький адъютант с медными веснушками на круглых щеках (он держал левую ногу предводителя) ойкнул и схватился за колено: видно, неловко ступил. Отпущенная Толькина нога стукнула его но спине. Второй адъютант у правой ноги от неожиданности сбил шаг и запнулся. Идущие сзади по инерции надавили на передних, равновесие нарушилось, чьи-то руки сорвались, и его высочество Самохин с плеском и высокими брызгами рухнул в ручей.
Перепуганная свита выскочила на берег и обалдело смотрела на упавшего с высот повелителя.
Толька несколько секунд сидел молча и даже как-то задумчиво. Из воды торчала его голова, плечи и облепленные мокрыми клешами колени.
— Ой, — вдруг негромко сказал Самохин. — Ой-ей, — повторил он тоненько и почти со слезами. — Ой-ей-ей-ей! ..
Он завозился, баламутя воду, зашарил под собой, осторожненько встал (ручьи бежали с него) и еще раз ойкнул. Одной рукой он держался за то место, на котором сидят, а в другой сжимал острый каменный осколок.
Видимо, на этот камень он крепко сел при падении.
— Паразиты, — жалобно сказал Самохин и пустил осколком в адъютантов. Не попал. Те стояли молчаливые и подавленные. Особенно веснушчатый адъютант. Всем своим видом он говорил: "Хочешь — казни, хочешь — милуй".
Самохин не стал казнить. Держась за раненое место, он прошел сквозь ряды свиты и двинулся к откосу. Он дал понять, что не желает иметь никакого дела с такими остолопами. Пусть ищут другого командира. Его подданные вздохнули и побрели следом.
Компания разведчиков давилась от восторженного хохота. Они зажимали себе рты, показывали друг другу кулаки, но смех прорывался, как пар из-под крышки закипевшего чайника.
Борька Дорин, слегка отдышавшись, сказал шепотом:
— Он когда заойкал, я думал, его крокодил ухватил…
Смех грянул в полную силу.
— Ну тихо вы! — с досадой крикнул Джонни. — Будто детский сад в цирке! Спугнете ведь!
— Да кого же теперь спугивать? — возразил Сережка. — Самохин его еще раньше напугал. Во как плюхнулся!
Но Джонни не хотел так легко отказываться от охоты на крокодила.
— Самохин! — презрительно сказал он. — Будет крокодил бояться какого-то Самохина… Он, может, сейчас как раз принюхивается к его следам, чтобы поймать и закусить. Вот возьмет и вылезет…
Эта мысль показалась довольно здравой. Всем, кроме Сани Волкова. Тот заговорил, что зря только время теряют, лучше бы купаться пошли. Но он подчинился большинству, когда все решили посидеть в засаде еще полчаса.
Однако не прошло и двух минут, как воздух будто просверлился от оглушительного визга.
Сначала никто ничего не понял, просто все схватились за уши. Потом сообразили, что визжит Вика. Решили было, что к ней вплотную подобрался крокодил и показал свою страшную улыбку. Схватились за оружие. Но крокодила не было. И скоро выяснилось, что на ногу Вике прыгнул маленький лягушонок — из породы травяных лягушек, что живут в сырых зарослях.
— Тьфу! — в сердцах сказал Джонни и первым выбрался из кустов. Он бросил копье, наклонился и уперся ладошками в колени. Будто от усталости. А на самом деле, чтобы не увидели, как его коленки прыгают от пережитого ужаса. Сердце тоже прыгало.
Из засады вылезли сердитые Дорины, а за ними Вика — тоже сердитая и очень красная.
— А чего! — сказала она. — Конечно! Он вон какой скользкий и противный!
— А крокодил?! — яростно спросил Борька Дорин. — Он что, мягонький и пушистый, как плюшевый мишка?
— Если ты от лягушонка так вопишь, то что будет при крокодиле? — поддержал его Стасик.
— Никакого крокодила здесь уже нет, — мрачно сообщил Сережка, выбираясь из колючек. — Если он и был, то сейчас чешет отсюда во все лопатки в Африку. После такого визга! Я сам-то чуть не рванул куда глаза глядят.
— Только время загробили, — заключил Саня Волков.
— "Время, время! " — огрызнулась Вика. — Дрожишь над своим временем, будто министр или академик.
— Время — деньги, — глубокомысленно ответил Саня.
Джонни перестал вздрагивать, распрямился и начал вытряхивать из спутанных волос листики и колючки. Он понял, что приключений не будет. Охота кончилась.
Охота и в самом деле кончилась бы, но через два дня опять был обнаружен след. Один-единственный, не очень четкий, но, без сомнения, свежий. Видно, крокодил на этот раз полз по траве и лишь случайно, один разик, ступил на песок.
След увидели Дорины, которые возвращались домой из-за оврага.
— Все ясно, — с усмешкой сказал Серега. — После Викиного визга он притих на два дня, а теперь опять ожил.
Но остальные были настроены серьезно.
— Что будем делать? — озабоченно спросил Борька Дорин.
— По-моему, это ночное животное, — сказал Стасик. — Следы обязательно утром обнаруживаются, после ночи…
— Ну уж спасибочки, ночью я в засаду не пойду. Меня тетка потом живьем съест, — заявила Вика.
— И не ходи, — сказал нетактичный Саня Волков. — А то опять заверещишь…
Вика замахнулась, и он отскочил.
— Ночью никого не пустят, — рассудительно заметил Сергей. — А если сбежим, сами знаете, что будет.
— Разик-то можно, — нерешительно сказал Джонни.
— А если с первого разика не получится?
— Надо способ придумать, чтобы точно получилось, — сказал Борька Дорин.
— Кто знает, как ловят крокодилов? — спросил Стасик.
Оказывается, знали многие. Саня Волков сказал, что, как только крокодил вылезет на берег, надо посветить ему в морду фонариком. Он сразу же ослепнет и обалдеет. Тут его и хватай!
— Вот и хватай, — сказал Сережка. — А мы посмотрим, как у тебя получится. Это тебе не котеночек.
— Кроме того, надо дождаться, чтобы вылез. А если не захочет? — сказала Вика.
— А я знаю, я читал! — подскочил Джонни — Это на реке Амазонке индейцы так аллигаторов ловят. Слушайте…
И он рассказал об удивительном способе. Самый ловкий и вертлявый индейский воин берет заостренный с двух концов метровый кол и идет на берег, туда, где должны быть аллигаторы. И начинает всячески кривляться, приплясывать — дразнить крокодилов. Крокодилы смотрят, смотрят на это безобразие, а потом… Ведь и у аллигаторов бывает конец терпению. Один из них выбирается на берег и широко раскрывает пасть, чтобы разом выяснить отношения с танцором. Вот тут-то и надо изловчиться: вставить поперек пасти кол! После этого крокодил никуда не денется — привязывай к колу веревочку и веди добычу хоть в зоопарк, хоть домой, хоть в Академию наук.
Такой способ охоты сначала всем понравился. Но Сережка деловито спросил:
— А дразнить крокодила и вставлять кол кто будет? Ты, Джонни?
— Везде я да я! — обиделся Джонни.
Тогда Стасик Дорин вспомнил, что читал в журнале "Знание — сила" про охоту на африканских крокодилов. Эти симпатичные животные имеют странную привычку: в воду они возвращаются по тому следу, который оставили, когда выползали на берег. Туземцы это знают и ждут, когда крокодил выберется из реки. Потом ставят на его пути острый нож — лезвием вверх. Глупый крокодил ползет обратно и сам распарывает себе брюхо.
— Вот и хорошо! — обрадовалась Вика. — Главное, не надо здесь ночью сидеть. Вечером поставим нож, а утром — забирай крокодильчика…
—… с распоротым пузом, — ехидно закончил Сергей. — Зачем нам распотрошенный крокодил? Его надо живым брать. Для науки все-таки…
— Стоп! — вдруг сказал Стасик и уставился в пространство, а остальные уставились на него. — Стоп… — снова произнес он. — Я думаю… Братцы! Помните, как Самохина в ручей уронили? Кто-то еще подумал, что его крокодил на зубок пробует?
— Ну? — нетерпеливо сказал Джонки.
— У меня уже тогда в голове вертелось, только никак до конца не придумывалось… Нужна приманка! И ловушка! Тогда ночью сидеть не надо, он сам поймается!
— А приманка — это Самохин, что ли? — спросил Саня Волков.
— При чем тут Самохин! Крокодилы больше всего маленьких поросят любят. Я в "Вокруг света" читал. Их так и ловят. Выроют яму, посадят поросеночка, а сверху — маскировка. Поросенок пищит с голоду, а у крокодила слюнки бегут. Ползет он, ползет на визг, а потом — трах!..
— Яму еще рыть… недовольно перебил Саня Волков.
— Не надо яму. Там старый колодец недалеко, метра четыре глубиной. А воды в нем всего по колено или меньше.
— А поросеночек? — сказал Сережка.
И все задумались.
План был что надо, но где взять поросеночка?
— Из-за такой мелочи вся операция проваливается, — хмуро сказала Вика. — Слушайте, люди… А если у старика Газетыча?
Все озадаченно уставились на Вику.
— Ты что? — спросил Сережка. Слегка сдвинулась? — И он покрутил пальцем у виска.
Старика все знали. И его поросеночка тоже. Старик, когда не работал, сидел на лавочке у своей калитки, а крошечный поросенок, привязанный к воткнутой в землю щепке, ходил и щипал травку. Симпатичный такой, кругленький Нуф-Нуф из сказки о трех поросятах.
— За такое дело все в милицию угодим, — уверенно сообщил Саня Волков. — Доказывайте потом, что для науки старались.
— Не насовсем ведь, а на время поросеночка-то… — сказала Вика.
— На время? — возмутился Сережка. — Думаешь, крокодил на него любоваться будет, когда сыграет в колодец?
— Вы это кончайте? — взволнованно потребовал Джонни. — Поросенок — еще ребенок, его джрать нельзя.
Вика с некоторым сожалением посмотрела на друзей. Словно хотела сказать: "Я-то думала, что вы умные…"
— Зачем его жрать? И в колодец зачем? Его всего-то на пять минут надо. Я возьму у Дона Педро магнитофон, поросеночек повизжит, мы его на пленочку запишем. А магнитофон уж пусть визжит без перерыва или, когда надо, включается. Это Борис и Стасик сделают…
С минуту компания молча обдумывала план. Он со всех сторон казался простым и гениальным. Действительно, поросенка отдавать на съедение не надо, пусть повизжит — только и всего. У него и у хозяина от этого ничего не убудет. Крокодилу все равно: визг-то натуральный поросячий, хоть и на пленке. Жрать магнитофон он не станет — несъедобно. Вот только как отнесется к этому Дон Педро?
— А я и спрашивать не буду, — сказала Вика. — Дон уже и не занимается им, запихал в шкаф на верхнюю полку. Он теперь каждый вечер в клуб на танцы бегает, влюбился, наверно… Я магнитофон вытащу, а футляр оставлю, будто все в порядке. Он и не заметит.
— Ну давай? — решил Сережка. — А кто пойдет за Нуф-Нуфом?
Пошел, конечно, Джонни. Как самый изворотливый и хитроумный. Он взял у Даримых мешок из-под картошки и проник во двор к старику.
По всем расчетам старик должен был находиться на работе. В это время он всегда торговал вечерними газетами в киоске у вокзала. Его тонкоголосую скороговорку знали все жители городка. "Граждане, газет-чку? Газет-чку, граждане? " Старика поэтому так и звали — Газетыч.
В свободное от торговли время Газетыч копался в огороде и воспитывал Нуф-Нуфа. Вместе со стариком жила взрослая дочь и ее муж. Они тоже любили копаться на грядках. Но днем они работали, а возвращались поздно. Никто не мог помешать Джонни похитить Нуф-Нуфа, а потом подсунуть обратно. Джонни боялся только одного: вдруг сарайчик окажется на замке.
Но и тут ему повезло: дверь была заперта на щеколду с просунутой в петлю палкой.
Окинув двор взглядом ковбоя и разведчика, Джонни скользнул к двери и освободил щеколду. Потянул дверь. Она открылась тяжело, но без скрипа. Джонни мягким шагом переступил порог.
"Ух-ух… Хря-хря… " — раздалось в углу. Круглый Нуф-Нуф поднялся с подстилки и добродушно заковылял к Джонни. Он был еще не опытен и не знал о людском коварстве.
Неуловимым пиратским движением Джонни вытянул из-под матроски (изрядно уже перемазанной) мешок.
— Иди сюда, мой хороший. Иди, я тебе животик почешу…
Нуф-Нуф приятельски хрюкнул и подошел вплотную. Джонни подмигнул ему, сел на корточки и попытался осторожно надеть мешок на свою добычу.
Он не сделал Нуф-Нуфу больно. Ни капельки! Но у того, видимо, с мешком были связаны какие-то скверные воспоминания. Нуф-Нуф ловко извернулся и наполнил сарайчик первосортным визгом повышенной громкости.
— Тихо ты, шашлык несчастный! — прошипел Джонни и зажмурился. А когда открыл глаза, в сарайчике стало темнее. Сначала Джонни решил, что от страха потемнело в глазах. Но оказалось, не от этого. Джонни оглянулся и увидел, что полуоткрытую дверь загораживает Газетыч.
Несколько секунд похититель и хозяин молча смотрели друг на друга. Потом Газетыч укоризненно спросил:
— Значит, этому вас учат в школе? Свиней воровать?
После таких слов Газетыч закрыл тяжелую дверь. Он закрыл ее по-особенному: торжественно и зловеще. Сначала дверь заскрипела, будто крепостные ворота, и медленно двинулась с места. Потом, набирая скорость, она завизжала пронзительно и захлопнулась с грохотом и силой. С потолка посыпалась труха. Так, наверно, захлопывались за узниками двери в средневековых темницах. Лязгнул засов. Навалилась тишина. И сумрак. Правда, солнце било в щели и отдушины, но в этот миг внутренность сарая показалась Джонни темной и мрачной, как ночь на кладбище.
Он вздохнул и поморгал, чтобы скорее приучить глаза к сумраку. Потом огляделся.
Путей для бегства не было. В сарае — ни одного окошка. Под потолком светились две квадратные отдушины, но в них пролезла бы только кошка, да и то не очень толстая.
"Скверное дело", — сказал себе Джонни, и, как всегда, от ожидания крупных неприятностей у него стало холодно в желудке.
Зато окаянный Нуф-Нуф был, видимо, счастлив: кончилось его одиночество! Он уже забыл о разбойничьих намерениях Джонни и мечтал о знакомстве. Сначала Нуф-Нуф деликатно похрюкивал в углу. Потом, стуча копытцами по доскам, подошел и потерся боком о Джоннину ногу. Бок был щетинистый и колючий, как ржавая проволочная сетка. Джонни отпихнул Нуф-Нуфа:
— Иди отсюда, джирная балда! На джаркое тебя…
По этим словам вы можете понять, как был расстроен и взвинчен Джонни.
Нуф-Нуф убрался в угол и хрюкал там обиженно и удивленно.
Джонни подошел к двери. Чуть повыше его глаз светилась в доске дырка от сучка. Джонни встал на цыпочки и глянул на волю.
Он увидел, что старик возвращается.
Газетыч направлялся к сараю решительным шагом. На согнутом локте он нес моток веревки. Может быть, он решил повесить Джонни, как пирата, на потолочной балке, может быть, хотел связать его и в таком виде доставить в милицию; а может быть, решил выдрать юного похитителя этой веревкой.
Сами понимаете, что ни один из этих вариантов Джонни не устраивал. Мозги его просто закипели — так лихорадочно искал он путь к избавлению. Но старик приближался, а спасительных мыслей не было. И тогда Джонни понял: выход один — самый простой и рискованный. Он встал в двух шагах от двери и напружинил ноги. Едва Газетыч потянул на себя дверь, как Джонни склонил голову и ринулся в светлую щель.
Газетыча отшатнуло в сторону.
— Стой! — заголосил он. — Стой, бандит, хуже будет!
Но Джонни знал, что хуже не будет. Он несся к забору. оставляя за собой в кустах малины и смородины прямую, как по линеечке, просеку.
Газетыч попытался метнуть ему вслед веревку, как ковбои кидают лассо. Но веревка полетела не туда и опутала Газетычу руки и плечи. А в ноги ему, как тугой мяч, ударился Нуф-Нуф, который вслед за Джонни вырвался на свободу.
Газетыч упал на четвереньки, называя нехорошими словами Нуф-Нуфа, юного грабителя, веревку и весь белый свет.
А Джонни изящно перелетел через забор, промчался по переулку и предстал перед друзьями. Встрепанный, поцарапанный. без мешка, но довольный.
— Ну история! — шумно дыша, сказал он. — Еле ушел. Сквозь джунгли. Как в кино получилось…
Он передохнул и открыл рот, чтобы живописно изложить подробности своего спасения. Его остановил Сережка.
— Где хряк? — холодно спросил он.
— Чего? — удивился Джонни.
— Поросеночек где? — угрожающе-ласковым голосом произнесла Вика. — Где Нуф-Нуф? Ты же клялся, что добудешь.
— Нуф-Нуф! — оскорбился Джонни. — Что б он околел раньше срока! Я и без него-то еле ноги унес от старика. Из-под замка вырвался!
Ища сочувствия, он обвел глазами лица друзей. Лица были сумрачны. Ни капли сострадания не увидел Джонни в ответных взглядах.
— Если бы знали, сами бы пошли, — обронил Стасик Дорин, а Борька добавил с искренним огорчением:
— И мешок посеял, растяпа! Нам теперь за мешок дома отдуваться…
Джонни заморгал.
— Мешок… — горько повторил он. — Тут человек, может, от гибели спасся, а вы… Мешок вам дороже…
Что-то дрогнуло в мрачных лицах. То ли искра жалости мелькнула, то ли проблеск совести. Но Санька Волков, который ни жалостью, ни совестью особенно не страдал, громко заявил:
— На мешок плевать. А где приманку брать для крокодила? Сорвал операцию, да еще в герои лезет, ковбой на палочке.
Джонни опустил плечи. Только сейчас понял: операция по поимке таинственного крокодила и вправду сорвана.
Джонни сгорбился и вздохнул. Он отошел от ребят, вскарабкался по наклонной поленнице на крышу дровяника и сел, свесив ноги. Вид у неудачливого похитителя свиней был очень сокрушенный. Джонни так низко опустил голову, что упавшие вперед волосы защекотали ему колени.
Но сквозь частую сетку волос хитрый Джонни внимательно следил за друзьями. И старательно соображал: не найдется ли способа спасти от провала операцию, а заодно и свой авторитет.
Способ не придумывался. А безжалостный Волков постарался совсем уничтожить бедного Джонни.
— Взять да засунуть самого в колодец! Пусть визжит и хрюкает заместо порося. Чтоб знал в другой раз…
И в этот миг у Джонни вспыхнула восхитительная идея!
Но он не заорал "ура". Не подпрыгнул и не стал аплодировать. Он покачал ногой в крепком еще, но уже потерявшем блеск полуботинке, взмахом головы отбросил назад волосы и задумчиво посмотрел на ребят.
— У меня не получится, — объяснил он миролюбиво. — Я визжать не умею. А вот если Вика… Пусть повизжит, а мы ее запишем вместо Нуф-Нуфа. Помните, как она в овраге визжала?
Саня Волков приоткрыл рот.
Братья Дорины переглянулись.
Сережка с интересом посмотрел сначала на Джонни, а потом на Вику. И никто от удивления не сказал ни слова. Кроме Вики. Вика сказала:
— Я тебя сейчас как стащу на землю, ты у меня сам завизжишь! Как целая свиноферма.
Она попробовала ухватить Джонни, но тот быстренько подобрал ноги.
— Постой… — нерешительно сказал Сережка. — А что… А может, правда?
— Что "правда"? — со сдержанной яростью спросила Вика — Я вам кто? Свинья?
— Ты, конечно, не свинья, — сообщил с высоты Джонни — но сейчас поступаешь по-свински. Тебя все просят, а ты для общего дела повизжать не можешь.
— Идите вы… — сказала Вика. Но, поскольку никто никуда не пошел, она сама удалилась на свое крыльцо и оскорбленно села там ко всем спиной.
Джонни торопливо спустился к друзьям. Надо было действовать, пока идея свежа и горяча.
— Это ничего, — зашептал он. — Пусть посидит. Это даже хорошо. Ты, Борька, бери магнитофон и пойдем потихоньку. Как подойдем, ты включай, а я ее пощекочу. Она знаешь как щекотки боится! ..
Борька вопросительно глянул на Сережку. Тот пожал плечами: что, мол, делать-то? Другого выхода нет.
Джонни и Борис на цыпочках двинулись к Вике. К ее упрямой и обиженной спине. Они подошли вплотную. Вика не оборачивалась. Борька мигнул Джонни и нажал клавишу записи. А Джонни пальцем ткнул Вику под ребро.
Думаете, Вика завизжала? Она завопила:
— Ой, мама!
Ловко повернулась и треснула Джонни по шее твердым, как дерево, кулачком.
Джонни отлетел в кусты репейника. Борька огорченно выключил магнитофон.
— Дура, — укоризненно сказал Джонни, выбираясь из пыльных зарослей. — Ну где ты слышала, чтобы поросята орали "ой, мама"? Ведь тебя по-человечески просят повизжать. То есть по-поросячьи. То есть… Тьфу! Ну жалко тебе, что ли?
Вика угрожающе подбоченилась. Глянула на Джонни так, что ему захотелось обратно в репейники.
Но тут случилось такое, что сразу изменило ход всей истории.
К Борьке подошел Стасик и что-то шепнул ему. Потом он встал перед Викой и негромко, но отчетливо сказал:
— Ля-гушка…
И поднял к Викиному носу растопыренную ладонь. На ладони прыгало что-то зеленое и мокро-блестящее.
Визг, раздавшийся в тот же миг, превзошел все ожидания. Он был длинный и такой пронзительный, что зачесалось в ушах. Дорины присели. Сережка зажмурился. Джонни прижал к ушам ладони. А Саня Волков сказал:
— Вот это да… Вот это да! — повторил он, когда Вика наконец, замолчала. — Как в цирке!
— Не бойся, это не настоящая лягушка, — объяснил Вике Стасик. — Я ее из подорожника сделал.
— Хорошо получилось, — с удовольствием заметил Борька. — Сейчас послушаем.
— Отдай магнитофон! — сверкнув глазами, потребовала Вика.
Борька прыгнул в сторону и отбежал шагов на десять. Потом опять нажал клавишу. И визг снова разрезал воздух. Правда, послушать его подольше не удалось. Вика поднялся с земли кирпич, и Борька моментально выключил звукозапись.
— Отдашь магнитофон? — медным голосом спросила Вика.
Борька посмотрел на Сергея.
— Стоп! — решительно сказал Сергей. — Хватит вам! Что ты, Виктория, как парижская графиня, ломаешься? Люди для науки жизнями рискуют, а тебе визга жалко. Убудет у тебя его, что ли?
— Провалитесь вы все… — откликнулась Виктория. — Мне не жалко… Только за лягушку ты, Стаська, все равно получишь, имей в виду… А что, крокодил, вы думаете, такой же олух, как вы? Думаете, он девочку от поросенка по голосу не отличит?
— Ну, а если и отличит? — задумчиво сказал Джонни. — Может, ему даже приятнее будет…
Больше звукозапись пробовать не стали, чтобы не привлекать внимания прохожих и Вику лишний раз не дразнить. Борька и Стасик склеили кусок пленки в кольцо и присоединили к магнитофону реле времени — будильник и жестяную коробку, в которой что-то звякало. Это было реле от кота Меркурия. С его помощью магнитофонный визг должен был включиться ровно в полночь…
В колодец опустили на веревке Бориса Дорина. Он детской лопаткой вырыл в земляной стенке нишу и укрыл там магнитофон. Иначе крокодил мог разбить его, когда угодит в ловушку.
— Ну как? Все в порядке? — спросил Сережка.
— Угу, — ответил из глубины Борис.
Его вытянули наверх.
Уже темнело. Было тихо. Только в глубине колодца еле слышно тикал будильник да падали сверху в воду земляные крошки.
Пахло сырой крапивой, туманом и тайнами.
Охотники закрыли колодец решеткой из веток и навалили сверху травы.
— Ну, пошли, — шепотом распорядился Сергей. — Значит, завтра в пять.
Нельзя сказать, что они спокойно спали в эту ночь.
Джонни ворочался и вскрикивал. Ему снилось, будто попал он в плен к дикому племени, и это племя хочет сделать его приманкой для крокодила — толкает в яму. А крокодил почему-то уже там и выжидающе улыбается. Джонни падал и просыпался…
Вике тоже снился крокодил. Он ходил по улицам, и в животе его играл проглоченный магнитофон. А Дон Педро грозно требовал: «Доставай теперь как хочешь!»
Какие сны видели Дорины и Сережка, не установлено, однако и они утром были хмурые и невыспавшиеся. Один Саня Волков пришел к Викиному крыльцу бодрый и веселый, несмотря на ранний час. В глубине души он не верил ни в какого крокодила и потому всю ночь спал без всяких снов.
Компания молча разобрала оружие.
— Ну… пошли, — скомандовал Сергей.
Они спустились в овраг.
У Джонни в животе было такое ощущение, словно он проглотил тяжелую холодную жабу.
Вика несколько раз спотыкалась и говорила: "Мамочки…"
Чем ближе к ловушке, тем сильнее колотились сердца у охотников. Они даже не прыгали в груди, а метались где-то между шеей и пятками.
— Стойте, вы… — вдруг со стоном сказал Борька Дорин. — Глядите…
Маскировка была провалена.
— Слушайте… — замирая, прошептала Вика.
В колодце что-то возилось и булькало…
Охотники встали на четвереньки. Так, на четвереньках, они подобрались к ловушке и заглянули в глубину.
Там было темно. И там стало тихо.
Сережка взял фонарик и направил вниз луч.
То, что увидели охотники за крокодилом, было ужасно.
Нет, крокодила там не было.
Но по колено в воде, с магнитофоном, прижатым к груди, облепленный мокрой травой и землей, стоял и смотрел вверх измученный и свирепый Дон Педро.
С испуга Сережка выключил фонарик.
— Так… — донесся из глубины хриплый голос. — Поиграли? А ну, давайте веревку…
Сережка опомнился первым.
— Братцы, — жалобным шепотом сказал он, — а ведь Дон-то думает, что мы это нарочно устроили. Для него…
Из колодца теперь буйным фонтаном извергались угрозы, требования и разные неприятные слова.
— Что же это теперь будет? — уныло спросила Вика.
Сережка привязал веревку к столбу от развалившегося забора и только тогда опустил другой конец в колодец.
— А теперь в бега! — сказал он. И охотники со скоростью гепардов ринулись из оврага.
— Се… реж… ка… — на бегу выдохнула Вика. — Твоя… бабушка дома? Можно, я… буду у нее… ночевать?
Остановились они только в скверике у вокзала.
— Наябедничает? — спросил Сережка.
Вика уже слегка пришла в себя.
— Не-а… — подумав, сказала она. — Ябедничать не будет. А отлупить может.
— Надо ему как-то объяснить, — рассудительно сказал Джонни.
Но объясниться с разгневанным Доном Педро они смогли только через два дня. К этому времени он слегка успокоился и милостиво согласился принять делегацию для переговоров.
Делегация принесла свои извинения. Потом сообщила, что охотились они не за Доном. За крокодилом охотились, вот! И чего его. Дона Педро, понесло в эту ловушку?
Вот тогда-то и узнали наконец, что случилось той злополучной ночью.
Петя Каледонцев около полуночи возвращался с танцевального вечера из клуба швейной фабрики. Чтобы сократить дорогу, он пошел через овраг. Легко и грациозно Петя перебежал по жердочке ручей, и в тот момент, когда нога его коснулась земли, из-за кустов донесся душераздирающий визг.
Может быть, крокодил и обманулся бы, но обмануть Петю было невозможно: визг своей племянницы Дон Педро знал преотлично.
Он не размышлял ни секунды. Он сразу понял, что на Вику напали разбойники.
Дон Педро был иногда легкомысленным человеком, но он никогда не был трусом. Он ухватил с земли какую-то палку и ринулся в бой!
А дальше что рассказывать?
Думаете, приятно торчать несколько часов по колено в воде, в темноте и неизвестности, проклиная вероломную Викторию и ее коварных приятелей? Хорошо хоть, что шею не сломал. И еще одна радость: магнитофон оказался целехонек.
— А пленка? — вдруг спросил Джонни.
— Что пленка? — не понял Дон.
Джонни покосился на Вику и с ехидной ноткой объяснил:
— Ну, та пленка, где она визжит… Ты не стер запись? Может, послушаем?
Вика показала Джонни небольшой, но крепкий кулак. Дон Педро неожиданно хмыкнул. Сережка тоже хмыкнул, сдерживая улыбку. Братья Дорины хихикнули. Саня сказал: "Гы… "
— Дурни, — произнесла Вика, стараясь сохранить обиженный вид. Но не сдержалась и фыркнула.
И тогда компания взорвалась таким хохотом, что электронный кот Меркурий, поселившийся в комнате у Дона, звякнул пружиной, замигал красным стоп-сигналом и с подвыванием бросился за этажерку.
Но это еще не конец истории. Всякая таинственная история кончается, когда решена задача.
Через неделю Саня Волков отыскал Джонни и хмуро сказал ему:
— Пойдем.
— Куда? — строптиво спросил Джонни, не любивший, когда им командовали.
— В овраг. Сам увидишь, зачем.
Он привел Джонни к переправе, и они засели в кустах. Джонни больше ни о чем не спрашивал, чтобы не унизить себя в Санькиных глазах любопытством и нетерпением. Через две минуты послышались вздохи и хлюпанье. Саня и Джонни глянули сквозь листья.
Подвернув широченные парусиновые штаны, через ручей брел с мешком Газетыч. Мешок был небольшой, но тугой и, очевидно, тяжелый. Газетыч нес его перед собой и приподнимал, стараясь не макнуть в воду. Он стукался о мешок коленками и выгибался назад.
Выбравшись на лежавшую у воды доску, Газетыч устало плюхнул свой груз на песок. Отдышался. Постонал тихонько, чертыхнулся и поволок мешок дальше. Сам он шагал по доске, а мешок волочился по песку. Через каждые два шага Газетыч останавливался и вздыхал. Наконец он подтащил свою ношу к зарослям черемухи, от которых начинался жиденький деревянный тротуарчик. Из кустов старик вытащил одноколесную тележку. Он взвалил мешок на тачку и довольно резво покатил ее по доскам.
— Третий рейс делает, — сказал Саня. — Там, наверху, трансформаторную будку строили, а цементу навозили будто на целый дом. Вот он и таскает. Нагребет и тянет потихоньку.
— Значит, он жулик? — злорадно спросил Джонни.
— Да никакой он не жулик. Цемент-то бросовый, стройку уже кончили.
— Куда ему столько? — удивился Джонни.
— Фундамент у сарая бетонирует. Хозяйство укрепляет. Понял?
— Ну, понял, — откликнулся Джонни, привычно почесываясь от комариных и крапивных укусов. — А мы-то здесь зачем сидим?
Саня дернул Джонни за синий воротник и вытащил из засады.
— Смотри, — сказал он убийственным тоном.
По песку тянулся "след крокодила".
Джонни и Саня с полминуты молча смотрели на него.
— У него на мешке заплата, будто звериная лапа. Он то потянет, то поставит. И отпечатывается. Понял?
— Понял! — восхищенно отозвался Джонни. — Молодец ты, Санька! Здорово разгадал!
Саня оттопырил губу.
— "Разгадал"! Буду я всякую чушь разгадывать! Это я случайно заметил. Это только у тебя на уме всякие загадки да разгадки.
Он смерил Джонни обидным взглядом и зашагал к подъему из оврага. Джонни пожал плечами и двинулся за ним. Санькиной досады он не понимал.
Уже наверху Саня сказал:
— Все из-за тебя… Ради драного мешка столько шума понаделал: "Крокодил, крокодил"! Только время зря потеряли…
Наверно, он думал, что Джонни сникнет и забормочет оправдания.
Джонни остановился. Саня тоже остановился. Джонни удивленно посмотрел снизу вверх на длинного бестолкового Саньку.
Потом он спросил:
— А зачем он тебе, этот крокодил? На веревочке водить?
Саня заморгал.
— Подумаешь, нет крокодила, — снисходительно сказал Джонни. — Все равно было приключение. Понимаешь, Санечка? Приклю-че-ни-е.
Он зажмурился и пошевелил языком, словно пробовал на вкус удивительное слово. Потом повернулся и независимо зашагал по краю обрыва.
Саня Волков смотрел вслед непонятному Джонни.
Тот шел, сунув кулаки в безнадежно растянутые карманы матроски. Матроска от этого натянулась на спине, и худые Джоннины лопатки торчали под ней, как маленькие прорастающие крылья. А воротник мотался на ветру. И желтые волосы Джонки полыхали на ветру и солнце, как протуберанцы.
И вся улица слышала веселую песню, которую свистел Джонни.
Потому что жизнь была прекрасна. И она еще только начиналась. Впереди были сотни и тысячи встреч с разными загадками и приключениями. Встретятся, наверно, и настоящие крокодилы.
МУШКЕТЕР И ФЕЯ
— Евгений! — сказал отец, нервно похрустывая пальцами. — Я пришел к выводу, что воспитывал тебя неправильно.
Третьеклассник Воробьев сидел с ногами в кресле и укрывался за пухлой растрепанной книгой. В ответ он слегка приподнял плечо. Это означало вопрос: "Что случилось? "
— Да! — продолжал отец. — Когда ты бывал виноват (а это случалось нередко), я ограничивался беседами. Теперь я понял, что тебя следовало попросту драть.
— Еще не поздно, — подала голос из своей комнаты двоюродная сестра Вера Сергеевна.
Необдуманную реплику Джонки оставил без внимания, а на отца поднял из-за книги левый глаз. С едва заметным любопытством.
— Совершенно верно, еще не поздно, — сурово и взволнованно произнес отец. — И очевидно, в ближайшее время я этим займусь.
— Как это? — рассеянно поинтересовался сын, снова исчезая за книгой.
— Что значит "как это"? — слегка растерялся родитель. — Ты что, не знаешь, как это делается?
Сын пожал плечами:
— Ты же сам сказал, что раньше только беседовал. Откуда мне знать?
— Хм! Откуда… Хотя бы из художественной литературы. Ты читаешь дни и ночи напролет. Даже когда разговариваешь с отцом.
— Про такую ерунду я не читаю, — гордо сказал Джонни.
— Положи книгу! — тонким голосом потребовал отец. — Или я… немедленно выполню свое обещание.
Джонни отложил пухлый том. Обнял согнутые у подбородка колени.
— Папа, — сказал он снисходительно. — Ничего ты не выполнишь.
— Это почему?
— Ну, во-первых, ты культурный человек… Во-вторых, ты не знаешь, как я бегаю. А тебя в ваших рес… рев… рес-таврационных мастерских ругали на собрании, потому что не хочешь сдавать нормы ГТО. Ты сам говорил.
— Не твое дело, за что меня ругали, — уязвление откликнулся отец. — А бегать за тобой я не собираюсь. Побегаешь и сам вернешься.
— Конечно, — вежливо согласился Женька. — Но к тому времени ты остынешь и поймешь, что я ни в чем не виноват.
Отец скрестил руки и в упор глянул на сына. Потом протянул почти ласково:
— Ах, не виноват…
— А что я сделал?
— Ты?.. Сделал?.. Твое поведение!.. О тебе ходят легенды! Ты позволяешь себе черт знает что… А сегодня? Как ты разговаривал с учительницей!
— Как?
— Ты посмел сказать ей: "Не ваше дело"!
Джонни вздохнул:
— Не так, папа. Я сказал: "Извините, но мои волосы — это мое дело".
— Вот-вот! Ты считаешь, что имеешь право так разговаривать с учителями?
— А чего ей надо от моих волос? Даже директор ничего не говорит, а она цепляется!
— "Цепляется"!
— Ну, придирается. Каждый день.
— Потому что твоя прическа ужасна! Ты, наверно, считаешь, что чем длиннее волосы, тем больше геройства? А на самом деле — сначала космы до плеч, потом сигарета в зубах, потом выпивка в подъезде…
— Потом кража, потом колония… — подхватил Джонни. — Это самое Инна Матвеевна и говорила.
— И совершенно справедливо!
— И совершенно глупо, — грустно сказал Джонки.
— Ну, знаешь ли!.. — взвинтился отец, но вспомнил, видимо, что сын считает его культурным человеком. Подумал и сдержанно попросил:
— Хорошо, тогда объясни, зачем тебе твои растрепанные локоны?
— Пожалуйста, — так же сдержанно откликнулся Джонни. — В каникулы будет Неделя детской книги. В Доме пионеров готовят карнавал книжных героев. Я хочу, чтобы у меня был костюм мушкетера. А кто видел мушкетеров со стриженым затылком?
Отец растерянно поскреб подбородок.
— Д-да? Ну… а почему ты не рассказал это Инне Матвеевне?
— Папа… — со вздохом сказал Джонни. — Подумай сам. Что можно объяснить рассерженной женщине?
Это заявление слегка обескуражило Воробьева-старшего. А пока он размышлял, из коридора донесся голос Джонниной мамы:
— Валерий! Иди сюда.
Джоннин папа растерянно глянул на сына и вышел в коридор.
— Валерий! — сказала мама. — Сколько раз я просила не ставить грязную обувь на чистый половик?
— Я не ставил, — мягко ответил папа. — Я только…
— Значит, это я поставила сюда твои ботинки?
— Во-первых, они не грязные, а во-вторых…
— А во-вторых, мне надоело. Я тысячу раз…
Джонни встал и деликатно прикрыл дверь. Он считал неприличным слушать родительские споры. Голоса сделались глуше, и можно было разобрать лишь отдельные фразы:
— Но я же пытаюсь объяснить…
— Мне нужны не объяснения, а чистота…
Потом папа с мамой удалились на кухню…
Через десять минут отец, слегка взволнованный и порозовевший, вернулся в комнату. Кажется, он готов был кое в чем согласиться с сыном. Но сына не было. В опустевшем кресле валялась книга с тремя скрещенными шпагами на облезлом переплете.
Пока родители выясняли вопрос о ботинках, Джонни оделся и ушел на прогулку.
Был ранний вечер — такое время, когда еще не очень темно и лишь кое-где зажигаются огоньки.
Стояла середина марта. Недавно звенели оттепели, а сегодня вернулась зима. Но была она не суровая. Падал щекочущий снежок. Он ложился на подстывшие лужи, на застекленевшие веточки. Джонни медленно шагал вдоль палисадников, ловил языком мохнатые снежинки и мечтал.
Одинокие прогулки Джонки полюбил — недавно — с той поры, когда встретил прекрасную незнакомку.
Это случилось в конце февраля. Тоже был вечер, только не такой, а холодный и неуютный. С ветром и колючим снегом. Настроение у Джонни тоже было неуютное и колючее. На последнем уроке он поспорил с Инной Матвеевной, и она в его дневнике написала длинное обращение к родителям. Все это было ужасно несправедливо. Неприятностей Джонни не боялся: родители все равно забывали смотреть его дневник. Но обида грызла Джоннино сердце. Обида требовала выхода. И Джонни сумрачно обрадовался, когда впереди различил фигурку в курточке с меховым воротником и вязаной шапке с белым шариком на макушке.
В такой курточке и шапке ходил Витька Шпаньков по прозвищу Шпуня.
"Та-ак", — сказал про себя Джонни и переложил боевой портфель из левой руки в правую. Шпуня был один из младших адъютантов небезызвестного Тольки Самохина, с которым Джонни и его друзья не ладили с давних пор. Кроме того, Джонни имел со Шпуней личный счет. В октябре, когда третьеклассника Воробьева принимали в пионеры, Витька Шпаньков на совете дружины рассказал, будто Джонни с приятелями угнал лодку у бедного старого пенсионера Газетыча. На самом деле лодка была ничья — гнилая и дырявая. Газетыч хотел завладеть ею без всякой справедливости. А Джонни с ребятами хотели построить крейсер, чтобы все играли. Джонни так и объяснил. Спокойно и подробно. А потом рассказал, что компания Самохина, где был и Шпуня, еще раньше хотела увести лодку (для себя! ), но Газетыч отбил это пиратское нападение, и в том бою Шпуня пострадал: получил по шее прошлогодним стеблем подсолнуха.
Совет веселился, Джонни, конечно, приняли, а Шпуня затаил зло. Он был не очень смелый, хотя и старше Джонни. Но он был ехидный и делал всякие гадости. То подкараулит со своими дружками и насыплет колючек за шиворот или набьет в волосы репьев, то расскажет, будто Джонни боится маленьких ручных хомяков (а это почти неправда! ). То завяжет тугими узлами штанины у новеньких Джонниных джинсов, пока тот мирно бултыхается в пруду… Конечно, Джонни не терпел обид. Он звал друзей и начинал принимать меры. Декабрьская операция "Зеленый слон" была проведена с использованием воздушных шаров, дымовых шашек для окуривания садов и старой аварийной сирены от буксирного катера. Она, эта операция, грозным эхом отозвалась в окрестных улицах и вызвала повышенный интерес у директора школы Бориса Ивановича. И когда Джоннин папа говорил про легенды, которые ходят о сыне, он был кое в чем прав… Но подлый Шпуня все равно не перевоспитывался. И вот теперь этот Джоннин враг беспечно шагал впереди. Один! Это была удача! Обычно Шпуня ходил с дружками.
Джонни перешел на мягкий кошачий шаг и прикинул расстояние. Если разогнаться, проскользить по накатанной ледяной дорожке тротуара, то в конце ее как раз можно настигнуть противника. И для начала врезать портфелем по хребту.
Конечно, нападать с тыла — не рыцарское дело. Но, во-первых, Шпуня старше и сильнее, а, во-вторых, сам-то он когда-нибудь нападал по-честному?
Джонни стремительно разбежался и понесся по ледяной полоске! Она была длинная — метров десять. Когда он долетел до середины, враг оказался в широком луче света. И Джонни обмер на лету. Дело в том, что Шпуне полагалось быть гораздо выше. Кроме того, он никогда не носил ярко-красные брючки. И у него не было темных кудряшек, которые падают из-под шапки и запутываются в меховом воротнике!
Одно дело напасть на противника, другое — на невиноватого человека. Да еще на девочку! Джонни берег свой авторитет и очень не любил попадать в глупые положения. Он отчаянно извернулся, проскочил мимо незнакомки и треснулся плечом и подбородком о телеграфный столб. Так треснулся, что тут же и сел на утоптанный снег.
Что должна была сделать нормальная девчонка? Сказать "дурак" и гордо пройти мимо. Или презрительно фыркнуть и тоже пройти. Без оглядки. Эта не прошла. Она ойкнула и подскочила к пострадавшему Джонни.
— Больно стукнулся?
— Вот еще! — сказал Джонни. Снял варежку и потрогал здоровую ссадину на подбородке.
— Вставай, — сказала девочка. — Еще простудишься. Или ты не можешь встать?
— Вот еще… — сказал Джонни и вскочил.
— Какая царапина, — с уважением сказала девочка, глядя ему на подбородок. — Больно?
Джонни сердито мотнул головой. В голове загудело.
— Хочешь, зайдем, смажем йодом, — будто знакомому, предложила девочка.
— Вот еще, — пробормотал Джонни, с отчаянием чувствуя, что лишь два эти дурацких слова остались в голове, а остальные куда-то выскочили.
Девочка слегка улыбнулась.
— Ну, смотри, — сказала она.
А он что? Он смотрел! Потому что свет из окна как раз падал на нее. На ее глаза. Такие синие были глаза, просто с ума сойти! Джонни с ума не сошел, но немного все же поглупел. Поэтому стоял и молчал. И думал, что лицо у нее какое-то совсем необыкновенное. Вернее, даже не думал, а чувствовал. Вроде бы ничего особенного — кудряшки да вздернутый нос. Да царапина над верхней губой. Но глаза — как синие фонарики. Теплые такие и веселые огоньки в них…
— Ну, пока… — сказала девочка и пошла.
"Вот еще", — чуть не сказал Джонни, но прикусил язык и закашлялся.
Она уходила, а он стоял, как полено, и ругал себя за глупость. Ну, почему не согласился пойти с ней и смазать ссадину? Они бы познакомились! Он бы знал, где она живет! Может, еще пришел бы…
Девочка была уже далеко. Джонни вздохнул и пошел следом. Конечно, если бы ему сказали, что он влюбился, он бы дал этому нахалу! Но… что-то же случилось, раз он брел следом за незнакомкой, хотя подбородок болел, а в голове гудело.
Через два квартала девочка свернула в калитку у одноэтажного дома с большими окнами. Перед окнами стояли заснеженные кусты рябины, и ничего нельзя было различить. Только свет пробивался через ветки — уютный и теплый.
Несколько минут Джонни печально топтался на тротуаре. Потом он услышал музыку.
Джонни и раньше любил музыку. Только не всякую. Ему нравились марши для духового оркестра, а на разные там скрипки и рояли он как-то не обращал внимания. Но эта музыка была особенная. Словно на тонкое стекло осторожно посыпались граненые стеклянные шарики. Они катились, и от них рассыпались искры и радужные зайчики. Потом шарики стали падать реже, музыка сделалась задумчивая, тихая совсем. И Джонни вспомнил, как прошлым летом он поздно вечером встречал на вокзале маму, один-одинешенек. Папа был в командировке. Вера на концерте, а мама вернулась из Москвы, и должен же был кто-то ее встретить. И она тогда так обрадовалась, тихонько засмеялась, и они неторопливо пошли домой, а ночь была светлая и очень теплая… И вот теперь Джонни будто снова шел с мамой, только рядом была и эта девочка…
Музыка кончилась. Джонни постоял еще. Потом у него замерзли в варежках кончики пальцев, и он побрел домой. У него было тихое настроение. Даже если бы Шпуня встретился, Джонни прошел бы мимо.
… Потом Джонни снова приходил к этому дому. Девочку он не видел, зато музыка была каждый вечер. Все та же. Джонни вставал за большой тополь и слушал. Он уже выучил наизусть знакомую мелодию, но она ему ни капельки не надоела. Джонни слушал и представлял, как девочка сидит у пианино, а пальцы ее ласково трогают белые клавиши. И думал, что когда-нибудь выйдет же она из калитки. И тогда… Что тогда, Джонни не очень знал. Но на всякий случай он каждый день расцарапывал ссадину на подбородке, чтобы подольше не заживала.
Но музыка кончалась, а девочка не выходила. Ссадина в конце концов зажила. Казалось бы, пора забыть случайную встречу. Но мелодия продолжала звучать в душе у Джонни, и он все так же ходил к знакомому дому.
Даже книга "Три мушкетера", которую дал Серёга Волошин. не отвлекала Джонни от мыслей о незнакомке. Даже заботы о мушкетерском костюме для праздника и те не отвлекли.
И сегодня Джонни снова пошел туда, где мягко светились окна и звучали стеклянные клавиши. Он стоял за тополем, и ему казалось, что по звонкой мостовой стеклянными копытами постукивают белые кони. Это едет в карете принцесса с темными кудряшками и синими глазами. Едет-едет…
и вдруг из темных переулков выскакивают кардинальские шпионы во главе с Толькой Самохиным и Шпуней. Они хватают лошадей под уздцы, сбрасывают на землю кучера и слуг. Рвут дверцу кареты… Все ясно. Пора! Джонни поддергивает отвороты на ботфортах и выходит на середину мостовой. Правой рукой вынимает шпагу, левой достает из-за пояса длинный пистолет.
"Эй, монсеньоры Самоха и Шпуня! Вы умеете воевать только с женщинами? "
А дальше… Дальше все понятно. Жаль только, что это не по правде. Жаль, что она не видит его в мушкетерском костюме…
Шляпу Джонни склеил сам. Из картона. А мама обтянула ее серым блестящим шелком от подкладки старого пальто. Джонни насобирал, где только мог, разных перьев, навязал их на изогнутую проволоку, и получился пышный хвост для шляпы, который называется "плюмаж".
К старым маминым сапожкам на каблуках Джонни пришил зубчатые отвороты из клеенки. Все остальное помогли ему сделать друзья: Серега Волошин, Вика и братья Дорины. Братья-близнецы Стасик и Борька теперь учились уже в седьмом классе, а Вика и Сергей в восьмом, но никто из них не смотрел на третьеклассника Джонни как на маленького. Это был их боевой товарищ, испытанный во многих славных делах. Он не раз выручал их. А они выручали его.
Стасик и Борька сделали для Джонни жестяные звонкие шпоры-звездочки и вырезали из дюралевой полоски тонкий мушкетерский клинок. Дюралюминий — это, конечно, не сталь, но шпага блестела и звякала вполне по-боевому. А ручка у нее была из твердой березы, с узорами и латунным щитком, чтобы закрывать руку.
Сергей отдал для этой шпаги широченный желтый ремень с узорной пряжкой (раньше Волошин подпоясывал им свои модные штаны).
Потом пришла на помощь Вика. Она знала толк в костюмах. Она занималась в кружке, где учат рисовать, и хотела стать художницей, но не такой, которые пишут картины и делают рисунки для книжек, а специальной: чтобы придумывать всякие новые одежды.
— А может быть, я буду заниматься рисунками для тканей, — мечтательно сказала Вика. — Представляешь, Джонни, идешь ты в ярко-желтой рубашке, а на ней — черные старинные аэропланы. Здорово, да?
Джонни согласился, что это очень здорово, но попросил Вику не отвлекаться и поскорее заняться его плащом. Вика послушалась. Она соорудила чудесную плащ-накидку — из голубого сатина с золотистой каймой и разноцветными мушкетерскими крестами, которые были нашиты на спине, на груди и на рукавах-крыльях.
Счастливый Джонни сказал Вике, что она обязательно будет лауреатом самой главной художественной премии, унес обновку домой и перед большим зеркалом надел полное обмундирование.
Все было прекрасно! Замечательно… Почти все. Только вот красные штаны от спортивного костюма выглядели слишком современно. Джонни кончиком шпаги почесал затылок, поразмыслил и вспомнил, что у мамы на старом халате есть блестящие большие пуговицы. Переливчатые, как алмазы! Если их пришить по бокам к штанинам, будет самый старинный вид!
Мама для порядка сказала, что Джонни со своим костюмом разорит весь ее гардероб, но пуговицы отдала.
Джонни устроился в кресле и взялся за дело. Он сидел, работал и никого не трогал. И вообще это был хороший вечер. Мама у настольной лампы читала фантастический роман в журнале "Вокруг света", папа смотрел передачу о фресках (это картины такие на стенах) в каком-то старинном монастыре, Джонни по одной пуговице отпарывал от халата и пришивал к штанам.
И тут принесло сестрицу Веру Сергеевну.
Она увидела, чем занимается Джонни, и громко удивилась. Она заявила, что ради своих глупых выдумок он портит хорошую вещь. Халат еще совсем новый! Кроме того, таких прекрасных пуговиц теперь не отыщешь в магазинах.
— Да ладно уж… — сказала мама, чтобы ей не мешали читать, а папа сел ближе к телевизору.
А Джонни промолчал. Он как раз вдевал нитку в иголку.
— Знаете, что меня всегда поражало в этом человеке? — произнесла сестрица Вера. — Его умение презрительно молчать! Он еще в детском саду изводил этим всех воспитателей!
Это была неправда: не всех, а только Веру Сергеевну, которая была воспитательницей его группы.
— Ты сама изводилась, — сдержанно заметил Джонни. — Сама привяжешься, а потом психуешь.
— Евгений… — сказала мама из-за журнала, а папа сел вплотную к экрану.
— Ну вот, — откликнулся Джонни. — Если молчишь — плохо. Если скажешь — опять плохо.
— Смотря что скажешь, — язвительно проговорила Вера Сергеевна. — Если такие слова, как своей учительнице, то любой человек не выдержит.
— А что случилось? — встревожилась мама. И отложила журнал.
Джонни задумчиво спросил:
— Папа, правда, что в старые времена доносчикам отрубали языки на площади?
Папа, который был знатоком старинных обычаев, рассеянно заметил, что, кажется, правда, вынул из тумбочки наушники и подключил к телевизору.
— Что он опять натворил? — поинтересовалась мама у Веры и неприятно посмотрела на Джонни.
— Я не доносчица, — гордо сообщила Вера. — Но сегодня я встретила Инну Матвеевну, и та чуть не плачет. Ваш любящий сын заявил ей, что ему не нравится ее прическа!
— Это правда? — нехорошим голосом произнесла мама.
Это опять была неправда. Инна Матвеевна снова сказала Джонни, что ее выводят из себя его космы. А Джонни ответил, что ему тоже, может быть, не по вкусу чьи-то крашеные волосы, но он к этому человеку не пристает.
Джонни сейчас так и объяснил маме. А она почему-то охнула и взялась за сердце.
— Чьи же волосы ты имел в виду? — почти ласково спросила Вера.
— Наташки Ткачевой. В детском саду она была белобрысая, а сейчас какая-то рыжая.
— Но смотрел ты не на Ткачеву, а на Инну Матвеевну!
— На кого же мне смотреть, если я говорю с учительницей? — невинно откликнулся Джонни.
— Ты изверг, — жалобно сказала мама. — За что ты так не любишь Инну Матвеевну?
— Я? Это она меня не любит!
Вера опять вмешалась и заявила, что Инна Матвеевна прекрасный педагог и очень любит детей.
— Детей — может быть… — заметил Джонни.
— Она всю жизнь мечтала быть учительницей! Я ее хорошо знаю. Мы учились на одном курсе.
— Тогда все ясно, — сказал Джонни.
— Что? — обиделась Вера Сергеевна. — Что тебе ясно?
— Да так… — уклонился Джонки. — Просто я не знал, что вы вместе учились. Она выглядит гораздо моложе тебя.
Мама перестала держаться за сердце, дотянулась и хлопнула Джонни по заросшему загривку.
Это было ни капельки не больно. Однако Джонни встал, отложил шитье, а потом, прямой и гордый, удалился в коридор. Нельзя сказать, что его душили слезы, но обида все же царапалась. "Опять несправедливость и насилие", — подумал Джонни. Оделся, вышел на улицу и зашагал знакомой дорогой. Он знал, что тихая музыка и мечты о прекрасной незнакомке успокоят его.
Кроме того, у Джонни появилось предчувствие, что сегодня что-то случится.
В этот вечер музыка звучала очень долго. И не только знакомая. Была и разная другая — тоже очень хорошая. Потом стало тихо, и Джонни одиноко стоял у тополя и смотрел, как под фонарем кружатся бабочки-снежинки. Он много времени стоял. И ждал. А потом подумал, что ждать нечего, потому что у него окоченели руки и ноги.
И тогда звякнула калитка.
Сердце у Джонни тоже звякнуло, а внутри стало так, словно он проглотил несколько холодных стеклянных шариков.
Но зря Джон н и вздрагивал. Из калитки вышла не девочка, а большой толстый мальчишка. Наверно, семиклассник.
Сначала Джонни очень огорчился. Если говорить честно, у него даже в глазах защипало. Но он быстренько с этим справился и подумал, что надо наконец что-то делать. Иначе сколько еще вечеров придется торчать под тополем?
Джонни мысленно подтянул воображаемые мушкетерские ботфорты и вышел на свет фонаря.
— Эй ты! — решительно сказал он мальчишке. — Ну-ка иди сюда!
Толстый незнакомец изумленно оглянулся, заметил Джонни, как слон замечает букашку в траве, пожал круглыми плечами и подошел.
Джонни все же оробел, но не подал вида.
— Слушай, — сказал он. — Вот что… Тут одна девчонка есть… В шапке с белым шариком. В этом доме живет… Ее как звать?
Круглое лицо мальчишки было внимательным.
— А тебе зачем?
— Надо, значит, — хмуро откликнулся Джонни. — Дело есть.
Мальчишка вдруг улыбнулся и сделался очень добродушным. Но Джонни было не до этой добродушности. Он нетерпеливо ждал.
— Ее зовут Катя, — сказал толстый мальчик. — Только она здесь не живет.
— Как это? — оторопел Джонни. — Она же заходила! Я видел.
— Она к нам приходила. Это моя двоюродная сестра.
— Врешь ты! А кто играет?
— Я играю. Родители заставляют. Мученье одно…
Снежная сказка с хрустальными огоньками рассыпалась и погасла. Джонни сделалось холодно и очень одиноко. Он представил толстого музыканта за роялем и глянул на него с ненавистью. А тот смотрел на Джонни с пониманием и сочувствием. И сказал:
— Все ясно. Еще один влюбленный…
В голове у Джонни взорвалась горячая граната.
— Ух ты, бегемот! — заорал он и замахнулся. А что еще оставалось делать?
Конечно, это было похоже, будто кузнечик нападает на крепостную башню. "Башня" перехватила могучей ладонью Джоннин кулак и удивилась:
— Ты чего? Да ладно тебе… В нее многие влюбляются, даже шестиклассники.
Джонни сник.
— Пусти, — шепотом попросил он.
Но мальчишка не отпустил.
— Ну-ка, пойдем, — сказал он со вздохом.
— Куда?
— Погреешься. Торчишь тут без рукавиц…
Джонни молча уперся. Но мальчишка ухватил его за плечи. В этом толстом парне было, видимо, столько же добродушия, сколько ширины и роста.
— Пошли, не бойся. У меня дома никого нет…
И Джонни пошел. Не потому, что подчинился нажиму. Просто у него оставалась еще смутная надежда…
Мальчишка сказал, что его зовут Тимофеем. Он привел Джонни в дом, вытряхнул из пальто и ботинок, усадил у большой печки. Печка была старинная, выложенная белыми блестящими плитками с разными цветами и узорами. Джонни таких и не видел раньше. Потом Тимофей принес фаянсовую кружку с какао. Кружка была словно родственница печки — такая же белая, блестящая, громадная и очень теплая.
Джонни глотал горячее какао и поглядывал по сторонам. В комнате было черное пианино, фотоувеличитель посреди стола и полки с книгами до самого потолка. Джонни тут же отметил это, хотя главные его мысли были о девчонке.
Тимофей эти мысли словно услышал. Сел напротив Джонни, подпер толстые щеки кулаками (словно добрая бабушка) и сказал:
— Ты не расстраивайся. В нее, конечно, многие влюбляются, да только она внимания не обращает.
Джонни стремительно покраснел и спрятал лицо за кружкой. Оттуда, из-за кружки, он спросил (голос получился хриплый и гулкий):
— А где она живет?
— На Песчаной, в больших домах.
Новые дома на Песчаной улице — это целый микрорайон. Двенадцатиэтажные корпуса, словно айсберги, нависли над деревянным городком, над его разноцветными крышами, скворечниками и тополями. Джонни в новых домах бывал множество раз. Во-первых, там жила половина ребят из его класса; во-вторых, он любил кататься на лифтах; в-третьих, там был детский стадион. В общем, Джонни прекрасно знал эти кварталы. И понимал, что найти там нужного человека не легче, чем получить книгу "Граф Монтекристо" в городской детской библиотеке. Но спросить точный адрес Джонни не решился.
— А я тебя давно замечал, — сказал Тимофей. — Только сразу не догадался, зачем ты там дежуришь под окнами.
— Я музыку слушал, — хмуро объяснил Джонни.
Тимофей смутился:
— Правда? А учительница говорит, что мне медведь на ухо наступил.
Джонни подумал, что если бы медведь решился на такой неосторожный поступок, то неизвестно, кому было бы хуже.
— Да нет, ты ничего играешь, — утешил он Тимофея. Потом опять спрятался за кружкой, снова покраснел и спросил: — А эта Катя… Тоже умеет играть?
— Умеет, — ворчливо сказал Тимофей. — Даже на концерте выступала… Подожди.
Он дотянулся до стола, приподнял увеличитель и вытащил из-под него несколько фотографий. Снимки были большие и, как сказал бы Джоннин папа, "вполне профессиональные".
— Сам снимал, — со скромной гордостью объяснил Тимофей.
— Здорово! — сказал Джонни. Но не потому, что фотографии были сделаны хорошо, а потому, что незнакомая девчонка, которую звали Катя, была на них очень красивая. Еще красивее, чем тогда на улице. Она сидела за роялем, в светлом платье, с большим бантом на кудряшках и отражалась в поднятой крышке, как белый букет. Она играла что-то быстрое и веселое. Это видно было, потому что она улыбалась и одна рука у нее расплылась в воздухе от стремительного взмаха…
На другом снимке Катя стояла на сцене с каким-то мальчишкой и они, кажется, пели. Мальчишка был маленький, в пестром костюмчике, с бантиком у воротника — дошкольник или первоклассник. Он не вызвал тревоги у Джонни.
На третьем снимке Катя сидела на диване с незнакомой тетенькой — это было не очень интересно.
А четвертое фото было удивительное. Катя стояла в пышном платьице с оборками, а вместо темных кудрей у нее были светлые локоны.
— Красивая… фотография, — со вздохом сказал Джонни. — А чего она… волосы такие?
— Это голубые волосы. Парик, — объяснил Тимофей — Мальвину изображает из "Золотого ключика".
— В театре? — удивился Джонни.
— Да нет, это костюм для карнавала. В Доме пионеров скоро будет…
Сами понимаете, что почувствовал Джонни? Он чуть не засиял от такого известия. Потому что был уверен: на празднике все обратят внимание на блестящего мушкетера. И Катя, конечно, обратит. А если Джонни получит какой-нибудь приз — тем более!
Чтобы не засиять открыто, Джонни еще внимательнее принялся разглядывать фотографию. И Тимофей вдруг сказал:
— Ладно уж, бери… Да не бойся, никому не скажу.
Глупо было отказываться. Все равно Тимофей видел Джонни насквозь. К тому же он был хороший парень.
Джонни честно посмотрел на нового друга и сказал:
— Спасибо.
Потом он стал заталкивать снимок за пазуху, но Тимофей остановил его и дал конверт от фотобумаги.
Когда Джонни одевался, Тимофей предложил:
— Заходи. Может, и она придет. Познакомлю.
— Зайду как-нибудь, — пообещал Джонни. — А знакомить не надо. Я сам.
Прежняя музыка звучала в его душе, и, прощаясь, он искренне сказал Тимофею:
— А на пианино ты здорово играешь.
Когда Джонки вернулся домой, мама пришивала к его мушкетерским штанам последнюю пуговицу. Кажется, она чувствовала себя немного виноватой. И все же она сказала:
— Зря ты обидел Веру.
— Я?
— Конечно. Ты намекнул ей на возраст. Иными словами ты назвал ее старухой.
У Джонни было радостное и мирное настроение. Он хотел, чтобы всем было хорошо. Он просунул голову в комнату двоюродной сестры и сказал:
— Вера, извини меня, пожалуйста. Я не хотел называть тебя старухой.
И улыбнулся.
Джонни умел улыбаться. Когда он это делал, глаза его становились как маленькие золотистые полумесяцы, на щеках появлялись ямочки, а еще не выпавшие молочные зубы сияли словно на картинке с коробочки от зубного порошка. Сразу было видно, что это милый, воспитанный, послушный и добрый ребенок. И если озорной, то самую-самую капельку. Взрослые говорили: "Обаятельнейшая улыбка". Но чаще всего это были взрослые, которые не очень хорошо знали Джонни. А Вера Сергеевна знала его хорошо. И цену его улыбке знала еще с детского сада. За этой улыбкой могло скрываться что угодно. Джонни мог улыбаться от души, но мог и обдумывать в это время планы черной мести. Именно с такой улыбкой он в декабре отдал приказ поставить вокруг самохинского штаба зеленую дымовую завесу и двинул на штурм отряд первоклассников-добровольцев, вооруженных особыми метательными снарядами. Начинка этих снарядов была глубочайшей военной тайной, которую Джонни не открыл даже директору школы. Он только дал обещание больше не применять этого оружия в уличных боях, чтобы не подвергать опасности мирное население.
Забрасывать снаряд в комнату своей бывшей воспитательницы Джонни не собирался, и улыбка его была сейчас почти искренней. Но Вера сказала:
— Брысь отсюда!
И закрыла дверь.
— Вот так, — сказал Джонни маме. — А ты говоришь…
Потом он забрался в свое кресло и взял книгу. Но читать не стал. Он стал думать о близком празднике. Он и раньше об этом думал, но как-то приблизительно, а сейчас начал подробно… И тут в мечтах его случилась заминка.
Наденет он свой героический костюм и, допустим, понравится девочке Кате. А дальше? Не побежит ведь она за ним следом, не станет звать:
"Давай познакомимся! " А сам он что может сделать? Ей не скажешь, как Тимофею: "Эй ты, иди сюда!"
Настроение у Джонни испортилось. Не так сильно, как раньше, но заметно. Ничего дельного он придумать не смог. Потом Джонни захотел спать и решил, что придумает утром.
Утро было хорошее. Снова началась весна, и посреди двора отливала синевой прекрасная, как океан, лужа. В ней отражались желтые животы пушистых облаков. В тополе за окном, как детсадовская группа на прогулке, галдели воробьи.
В такое утро мысли скачут веселее и быстрее, чем поздним вечером. Заскакали они и у Джонни. И после недолгого беспорядочного прыганья выстроились четко и разумно.
Джонни вспомнил, как проходил Праздник детской книги в прошлом году. Тогда героев одной сказки или повести вместе вызывали на середину зала, и они должны были сыграть какую-нибудь сценку. Наверно, и в этот раз будет так же. Катя — в костюме Мальвины из "Золотого ключика". Значит, выход один: Джонни должен быть в костюме Буратино.
Конечно, очень жаль расставаться с мушкетерским плащом и шпагой. Но что делать?
Чтобы набраться твердости, Джонни из тайного ящика вынул Катину фотографию и полминуты смотрел на нее. После этого он принял бесповоротное решение. Тем более что книжкин карнавал — не последний. В наряде д'Артаньяна можно будущей зимой сходить на новогодний маскарад…
Когда человек что-то твердо решил, у него спокойно и радостно на душе. Джонни сказал Вере "доброе утро". Потом без напоминания вынес мусорное ведро. За завтраком он не шипел и не свистел сквозь дырку от выпавшего зуба. Он сделал в этот день почти все уроки и не забыл взять в школу сменную обувь. Все было хорошо.
И только у самой школы, когда Джонни увидел ребят, он встревожился и приуныл.
Как он не сообразил? Все его друзья знают про мушкетерский костюм! Что они подумают, когда он явится в Дом пионеров в наряде Буратино? Люди же понимают, что нормальный человек так просто не поменяет шпагу на длинный нос, а блестящий плащ и ботфорты на легкомысленный костюмчик деревянной куклы. Они будут искать причину. И когда рядом с ними окажется девочка с голубыми волосами, друзья эту причину увидят. Ну, друзья — это ничего. Но догадаются и недруги!
Джонни представил ухмыляющуюся рожу Шпуни, и всё кругом помрачнело…
Если у человека такое состояние, его лучше не трогать. Но Инна Матвеевна про Джоннино состояние не знала. Она знала только, что прическа ученика Воробьева — это нарушение школьных правил. И раз он не хочет стричься, значит, ведет себя вызывающе. Он не подчиняется и подрывает авторитет учительницы. Поэтому прямо с порога она громко сказала:
— Воробьев! Ты опять явился нестриженым чучелом!
Джонни молча снес оскорбление. Он думал о своем.
— Я, по-моему, с тобой разговариваю, Воробьев!
— Со мной, — согласился Джонни.
— Почему ты не отвечаешь?
— А вы не спрашиваете. Вы просто сказали "чучело".
— Я спрашиваю, — сдержанно произнесла Инна Матвеевна. — Думаешь ты стричься?
— Думаю.
— Когда?
— После каникул.
— Меня не устраивает твое "после каникул"!
— Но это мои волосы. Меня устраивает, — вежливо сказал Джонни.
Класс с веселым интересом слушал разговор. Класс сочувствовал Джонни.
Инна Матвеевна это понимала. Авторитет падал, словно ртуть в градуснике, который из жаркой комнаты вынесли на мороз.
— Воробьев! — металлическим голосом произнесла Инна Матвеевна. — Если ты немедленно не отправишься стричься, я сама оттащу тебя в парикмахерскую за вихры и потребую постричь под машинку!
Инна Матвеевна любила повторять, что у нее большое терпение, но однажды оно может лопнуть. Видимо, сейчас оно лопнуло. Или, по крайней мере, затрещало по швам. Но никто никогда не интересовался, есть ли терпение у третьеклассника Воробьева. А Джонни почувствовал, что у него внутри тоже что-то лопнуло. И он приготовился сказать многое. Однако в тот же миг у него сверкнула блистательная мысль — как от крепкого удара по лбу! Джонни улыбнулся.
— Зачем же? — сказал он. — Зачем вам так трудиться?
И он вышел из притихшего класса.
Вернулся Джонни в конце урока. Класс дружно и горько ахнул. Голова у Воробьева стала похожа на яблоко с ушами. На ней блестела коротенькая золотистая щетинка.
— Можно мне сесть на место? — кротко спросил Джонни.
Класс опять ахнул, и все посмотрели на Инну Матвеевну — тридцать три ученика, шестьдесят шесть глаз. И в каждом глазу был упрек.
Инна Матвеевна опустилась на стул.
— Женя… Зачем ты это сделал?
Джонни взмахнул ресницами и поднял удивленные глаза.
— Вы же сами сказали…
— Но я же только просила: постригись покороче и поаккуратнее.
— Вы сказали: под машинку, — беспощадно уточнил Джонни.
— Но я же пошутила!
— Вы всегда так шутите? — печально спросил Джонни.
В классе нарастал шум.
— Джонни, а как теперь твой мушкетер? — громко спросили с задней парты.
Джонни горько пожал плечами.
— У него костюм мушкетерский! — раздались голоса. — Для праздника! Как он будет? Безволосых мушкетеров не бывает!
У Инны Матвеевны глаза стали круглые и блестящие.
— Женя! Почему же ты не объяснил?
— Я пробовал один раз. Вы сказали: "Садись, ничего не хочу слушать".
— Он хотел объяснить! — подтвердил класс.
Инна Матвеевна поставила на стол локти, подперла щеки ладонями и стала скорбно смотреть куда-то в пустоту. Класс притих.
— Женя, — сказала Инна Матвеевна. — Я виновата. Я не знала… Хочешь, я принесу тебе свой парик? У него прекрасные локоны. Вполне мушкетерские…
Джонни шевельнул плечом и улыбнулся как человек, которому вместо потерянного счастья предлагают петушка на палочке.
— И все-таки я принесу, — жалобно сказала Инна Матвеевна.
В это время грянул звонок.
На перемене ахнула вся школа. Джонни был известным человеком, и его прическу, похожую на желтый факел, помнили многие. Тем более что Джоннина фотография до операции "Зеленый слон" висела на пионерской Доске почета: он был передовиком в сборе макулатуры, потому что осенью на трех ручных тележках доставил в школу архив местной артели инвалидов.
Редактор школьной стенгазеты девятиклассник Игорь Палочкин притащил фотоаппарат и сделал с Джонни срочный снимок. Потом он разыскал у вожатой старую Джоннину фотографию, и через урок вышла "молния". На ней были два фотоснимка: Джонни с волосами и без. Вверху авторы "молнии" сделали надпись: "К вопросу о школьных прическах". Внизу чернели крупные печальные слова: "Кому это было надо?"
Директор Борис Иванович прочитал, хмыкнул и молча ушел в кабинет.
"Молния" провисела до вечера. Перед ней стояла толпа и глухо роптала. Мальчишки из двух шестых классов, которых тоже притесняли за длинные волосы, объявили, что завтра же в знак протеста остригутся наголо. К ним присоединился один четвертый класс и один седьмой. В учительской началась тихая паника.
К Джонни подходили сочувствующие. Многие знали про мушкетерский костюм и спрашивали, что теперь будет. Джонни хмуро отвечал:
— Какой уж тут костюм…
Вторым уроком была физкультура, третьим пение, и класс занимался не с Инной Матвеевной, а с физруком и учительницей музыки. Инна Матвеевна пришла только на четвертый урок — чтение. До самого звонка она не смотрела на Джонни, а с остальными разговаривала осторожно и ласково, как с больными.
После занятий, у раздевалки, она подошла к Джонни.
— Знаешь, — сказала она, — я ходила домой… и такое несчастье. Оказывается, мой парик безвозвратно погиб.
Джонни холодно промолчал: судьба парика его не волновала.
— Я понимаю, — печально произнесла Инна Матвеевна. — Ты имеешь право на меня обижаться. Но… не будешь же ты это делать все время, а, Женя? Когда перестанешь сердиться, подойди ко мне и скажи. Хорошо?
— Хорошо, — сказал Джонни. Таким голосом сказал, что Инне Матвеевне стало ясно: это случится не раньше, чем Воробьев выйдет на пенсию.
Джонни зашел в столярную мастерскую, где семиклассники лихорадочно достраивали скворечники. Он набрал полный портфель стружек — длинных и золотистых. Ведь именно такие стружки были у Буратино вместо волос.
Дома Джонни молча вынес мамины горькие вздохи и упреки. Не ответил на ехидные замечания сестрицы Веры Сергеевны. Он был согласен с отцом, что волосы — не голова, отрастут.
Утром, когда все ушли на работу, Джонни разыскал старую лыжную шапочку — белую с красными полосками. Он отогнул у нее отвороты, и получился длинный вязаный колпак. Изнутри к его краям Джонни прилепил резиновым клеем кудри из стружек. Потом свернул из плотной бумаги длинный острый нос и приклеил его к собственному носу жевательной резинкой. Глянул в зеркало.
Глянул — и увидел симпатичного веселого Буратино. Почти такого же, как в двухсерийной картине, которую недавно показывали по телевизору. Нос торчал по-боевому (правда, немного мешал смотреть, но к этому можно привыкнуть). Стружечный хохолок над лбом завивался задорно. В общем, начало было прекрасное. Нужно было теперь подумать об одежде. Ну да это — не мушкетерский костюм. Кто смотрел кино про Буратино, знает, что его наряд был почти такой же, как у обычных мальчишек.
Джонни разыскал голубую с белыми полосками рубашку и оранжевые шорты. Он их раньше почти не носил, потому что не любил за крикливый цвет, но теперь яркие краски были в самый раз.
А на ноги, чтобы смешнее было, Джонни надел большие отцовские носки — зеленые с желтыми клетками.
И здесь Джонни опять задумался. Что делать с обувью? Кеды или сандалии для деревянного Буратино не годились. Как там было в кино, Джонни совершенно не помнил, но из книжки знал, что у тонких, как лучинки, Буратиньих ног были большие остроконечные ступни. Они громко стучали по каменному тротуару, когда Буратино сбежал из каморки папы Карло.
Джонни подумал, что нужны деревянные башмаки… и вспомнил! У Вики есть такие!
Викины родители два года подряд ездили туристами за границу и привозили всякие сувениры. Из Голландии они привезли большущие деревянные туфли с загнутыми носами. Раньше местные жители ходили в таких туфлях у себя по Голландии, а сейчас продают их на память туристам.
Один башмак — Джонни это помнил точно — стоит на тумбочке у зеркала, и Вика хранит в нем разные шпильки, пуговицы и катушки с нитками. Наверно, и второй найдется!
Джонни-Буратино прыгнул в мамины резиновые сапоги и помчался к Вике: через двор, через лужу, в которой лежали цепочкой половинки кирпичей. По этим же кирпичам в луже, вниз головой, проскакал другой Буратино. Джонни подмигнул ему и показал язык.
Вика открыла дверь, молча втащила Джонни в коридор и лишь тогда сиплым голосом отругала за то, что он бегает по холоду раздетый.
— Схватишь ангину, будешь, как я, дома торчать.
Горло у нее было перевязано.
Джонни сказал, что он не дурак хватать ангину в последний день перед каникулами. И только после этого Вика поинтересовалась, что означает его странный наряд.
— Не видишь, что ли? Буратино.
— Вижу, что не Баба Яга. А зачем?
— Для карнавала. Зачем еще… Ты мне дашь ваши деревянные башмаки?
— А мушкетер?
Джонни снял колпак.
— С такой прической?
Вика не удивилась. Про Джоннину стрижку она уже знала.
— А зачем ты себя обкорнал? Такой был симпатичный ребенок…
— Сама ребенок! А что было делать? Все придираются — и в школе, и дома! Надоело!
Вика была проницательным человеком. К тому же она хорошо знала Джонни. Она сказала:
— Расскажите это вашей бабушке после двенадцати часов ночи.
— Да правда же…
— Не морочь голову. Зачем тебе костюм Буратино? Не скажешь — не дам башмаки. Зря я, что ли, мушкетерский плащ шила?
Вика была упряма. Джонни это знал. Он слегка покраснел и дерзко сказал, что могут же быть у человека личные причины.
Вика внимательно посмотрела на него, подумала и согласилась, что могут. Больше она не расспрашивала, вытряхнула швейную мелочь из деревянного башмака, и они с Джонни начали искать второй. Нашелся он почему-то в духовке газовой плиты.
Снаружи башмаки были большущие, а внутри — не очень просторные. Вика натолкала в них старых газет, и обувь стала совсем впору Джонни. Он с удовольствием потопал по половицам и завертелся перед зеркалом.
— Теперь все в порядке. Ага?
Вика смотрела на него прищуренным взглядом художницы.
— Не совсем "ага". Рубашка слишком обыкновенная. Неинтересно смотреть.
— Что же делать? — огорчился Джонни. — Они у меня все обыкновенные.
— Ладно уж… — сказала Вика. И принесла большой пестрый фартук. Викина мама купила его где-то в Италии Викиному папе: чтобы папа чаще занимался домашним хозяйством. Но он все равно не занимался, и фартук лежал без дела. А выглядел он великолепно! На материи были отпечатаны разноцветные рекламные наклейки, игральные карты и даже бутылочные этикетки знаменитых итальянских вин. На многих наклейках был нарисован длинноносый человечек в колпачке. Вика объяснила, что это не Буратино, а Пиноккио из итальянской книжки.
— Но у них очень похожие истории, — сказала она. — Не читал?
— Не читал… А в этой итальянской книжке есть девчонка с голубыми волосами? — спросил Джонни и чуть опять не покраснел.
— Есть. Но она не всегда девчонка. Она все время превращается… В общем, она фея.
"Фея — даже лучше", — подумал Джонни, и сердце у него сладко заныло. И чтобы Вика не догадалась, он опять начал разглядывать фартук.
— Ты из этой штуки мне рубашку сошьешь? — восхищенно спросил он.
— Все равно делать нечего, дома сижу, — хрипло сказала Вика.
— Карнавал завтра, — деликатно напомнил Джонни.
— Ладно, вечером заходи.
Джонни считал неприличным показывать нетерпение. Поэтому вечером он сначала поужинал, потом поспорил с Верой и только после этого отправился к Вике.
У Вики было тихо и уютно. Родители уехали в Польшу, тетушка Нина Валерьевна сообщила, что у нее предынсультное состояние и укрылась у себя в комнате. Видимо, гадала там на картах.
Готовая рубашка висела на спинке стула. Джонни так обрадовался, что даже не обратил внимания на Викино задумчиво-печальное настроение. Он быстренько обрядился в Буратиний костюм и гордо встал перед Викой, постукивая деревянной подошвой о половицу.
— Ну как?
Вика ответила с непонятной улыбкой и вздохом:
— Счастливый ты человек, Джонни…
— А ты разве несчастная? — удивился он.
— Я не про себя, — уклончиво сказала Вика. Потом велела Джонни встать на стул и начала искать недостатки в его костюме.
Оранжевые штаны показались Вике чересчур новыми, и она пришила к ним клетчатую заплату. Потом ей не понравился некрашеный бумажный нос.
— Будто в сметану обмакнутый. Он должен быть как деревянный.
Она полезла в шкаф за красками, еще раз глянула на Джонни и сообщила, что ноги у него ничуть не лучше носа.
— Белые, как макаронины. Весь загар за зиму облез. Давай я их тоже под орех разделаю.
— Как это? — опасливо спросил Джонни.
— Разрисую под дерево.
— А отмоется потом?
— Акварель-то? В момент.
— Валяй, — согласился Джонни. — Буду совсем превращаться в деревяшку…
Кисточки были мокрые и холодные, Джонни хихикал и пританцовывал на стуле.
Вика опять по-взрослому вздохнула:
— Эх, Джонни, Джонни… Беззаботное ты существо. Все бы тебе прыгать…
Джонни пригляделся с высоты и понял наконец: с Викой что-то неладное.
— С Сережкой поругалась? — спросил он.
Вика дернула плечом, поставила ему на ногу большую коричневую кляксу и грустно сказала:
— Больно мне надо ругаться с этим дураком.
— Ясно, — сказал Джонни. — Из-за чего опять?
— Ты разве не видел газету?
Джонни удивленно похлопал ресницами.
Вика взяла со стола газетный лист и сунула Джонни:
— Полюбуйся.
Это была городская газета за прошлое воскресенье. В нижнем углу страницы синим карандашом кто-то обвел стихотворение. Над ним было напечатано: "Творчество юных читателей". А пониже: "Другу детства". И подпись внизу: "С. Волошин. 8 класс, ср. Школа № 2".
— Ух ты! — восторженно сказал Джонни. — Это он сам написал?
— Кто еще может такую чушь сочинить? — язвительно откликнулась Вика. — Ты читай, читай.
Джонни встал на стуле, как памятник, и начал:
— "Мы с тобой играли в детстве… "
— Да не вслух, — поморщилась Вика.
Джонни тихонько зашевелил губами. И прочитал вот что:
Мы с тобой играли в детстве На дворе заросшем. Я тогда старался очень Быть с тобой хорошим. Ты тогда еще боялась Лягушат зеленых… А теперь промчалось детство Средь зеленых кленов. Ты с поры недавней стала Чуточку другою. Почему-то я робею, Встретившись с тобою.Джонни не очень любил стихи. Но сейчас, когда прочитал, он почему-то вспомнил девочку Катю и задумчиво сказал:
— Он настоящий поэт.
— Он настоящий болван! — вскипела Вика. — Все они там такие в своем литературном кружке! Рифмоплеты!
Джонни знал про Серёгу Волошина многое, но про стихи и про литературный кружок не знал. Поэтому он помолчал, переваривая новость. Потом спросил:
— А почему болван?
— Потому что все вранье! Робеет он! Позавчера пришел без меня, залез в шкаф и все варенье из банки стрескал! Тетушка заявила, что у нее отнялась левая нога после этого.
— Знаешь, Вика, это разные вещи… — мудро заметил Джонни.
— Ничего не разные! А еще пишет: "Старался быть хорошим! " Он меня в детстве за косы таскал!
— У тебя их никогда и не было, кос-то…
— Были, ты не помнишь. В первом классе.
— У-у… — насмешливо сказал Джонни. — Ты просто злишься за варенье.
— Я за лягушат злюсь! Весь город должен знать, что я их когда-то боялась, да?
— Это же давно было, — успокоил Джонни. — Подумаешь! Я в детстве хомячков боялся. Ну и что?
Вика опять грустно улыбнулась.
— Эх ты… "В детстве". У тебя, Джонни, еще все детство впереди. Не то что у меня.
Такие разговоры Вика вела впервые в жизни. Джонни обиделся. Он ехидно сказал:
— Ты, конечно, уже старуха… Ты давай дорисовывай вторую ногу, а то как я буду? На одной деревяшке, да? Как медведь на липовой ноге?
Вика опять взялась за работу, но сделалась такой печальной, что Джонни ее пожалел.
— Значит, Серега принес газету, а ты его прогнала? — проницательно спросил он.
Вика вздохнула так, что у ног Джонни закрутился воздушный вихрь.
— Ладно, помирю, — снисходительно сказал Джонни. Ему было не привыкать. — Сегодня же помирю. Давай рисуй живее.
Вика ничего не сказала, но заметно повеселела и недавнюю коричневую кляксу превратила в глазок от сучка. Совсем как настоящий.
Это был длинный вечер. Сначала Джонни привел Сергея и они с Викой две минуты дулись, а потом рассмеялись. После этого все пошли к Стасику и Борьке. Братья Дорины приостановили монтаж транзисторного охотничьего кота "Меркурий-2" и электролобзиком выпилили для Джонни большой фанерный ключ. Фанеру они покрыли быстросохнущей бронзовой краской.
Потом Вика заставила Сергея читать стихи про то, как он в шестом классе отвечал со шпаргалкой урок по геометрии и пытался найти у треугольника радиус.
Все долго хохотали. Во время этого хохота за Джонни пришла мама, потому что было уже почти одиннадцать часов. Мама очень удивилась, увидев ненаглядного сына в костюме Буратино. Впрочем, костюм ей понравился. Она только забеспокоилась, не перемажет ли крашеный Джонни постель. Но Вика сказала, что сухая акварель мажется не сильно, а Джонни добавил, что будет спать в пижаме.
Мама не считала, что перепачканная пижама лучше перепачканных простыней, но спорить не стала.
Джонни долго не спал. Он лежал и улыбался в темноте. Вспоминал Серегины стихи:
Мы с тобой играли в детство На дворе заросшем…Джонни тоже будет играть с Катей на заросших дворах и улицах, когда придет лето. Он возьмет Катю в плавание на крейсере, построенном из лодки. Потом они пойдут в лес и, может быть, заблудятся, как Том Сойер с Бекки Тэчер заблудились в пещере. Жаль, что поблизости нет пещер…
Но зато под крепостным холмом есть, говорят, подземный ход. Его можно отыскать и разведать. Если повезет, Джонни отыщет старинную кольчугу и подарит Кате…
Джонни беспокойно шевельнулся: честно говоря, ему стало немного жаль отдавать кольчугу. Но, в конце концов, можно найти не одну, а две…
Все будет хорошо. Завтра он обязательно познакомится с Катей. Сперва — просто окажется рядом. Потом они разговорятся. Затем, может быть, Джонни позовет ее к себе, покажет мушкетерское вооружение и коллекцию автомобильчиков…
Оттого что это будет уже завтра, у Джонни тревожно и обрадованно затюкало сердце. Чтобы его успокоить, Джонни повернулся на правый бок и закрыл глаза.
Он задремал, и ему показалось, что они с Катей плывут по реке. Только не в лодке, а в больших деревянных башмаках — он в одном, а Катя в другом. Течение крутит башмаки, и они иногда стукаются друг о друга. Джонни весело, а Катя немного боится, потому что башмаки неуправляемые — без весел и без руля.
"Ничего! — кричит Джонни. — Нас сейчас вынесет на мель! "
И правда, их "корабли" заскребли днищами о песок и остановились. Джонни хотел взять Катю на руки и вынести на берег. Но там из кустов вылез отвратительный Шпуня. Он стал плясать и кривляться, будто колдун из дикарского племени, и что-то кричать. Джонни не разобрал слов, но понятно было, что Шпуня кричит обидные вещи.
"Дай ему, — сказала Катя. — Что ты сидишь? "
"Сейчас", — заторопился Джонни и приготовился прыгнуть в воду.
"Прыгай, прыгай! — заорал Шпуня. — Не бойся, не потонешь, ты же деревяшка! "
Джонни не боялся потонуть. Было совсем мелко, он даже видел сквозь прозрачные струйки, как искрятся песчинки на дне. Но он вдруг сообразил: вода смоет с ног краску, и тогда Фея с Голубыми Волосами увидит, что Джонни вовсе не Буратино, а притворяльщик.
"Что же ты не идешь?! — кричала Катя и сердито встряхивала голубыми локонами. — Где твоя шпага?! "
"Дома", — растерянно сказал Джонни.
Шпуня безобразно захохотал. Тогда Джонни прыгнул. Но в этот миг Катина "лодка" снялась с мели и стала быстро уплывать. А Катя непонятно смотрела на него синими своими глазами и ничего не говорила. Что делать? Если плыть за Катей, она подумает, что он испугался Шпуни. Если идти лупить Шпуню, течение унесет Катю.
Джонни заметался, и тут песок начал быстро засасывать его. Вот вода уже по плечи, вот дошла до рта… Джонни стал захлебываться и проснулся.
— Тьфу ты… — сказал он и стал смотреть за окно, где среди тополиных веток застряла неполная луна, похожая на бледное оторванное ухо.
Эта луна напомнила Джонни его собственные уши, которые после стрижки сделались какими-то слишком большими и торчащими.
"Ладно, под деревянными кудрями не видно", — постарался успокоить себя Джонни. И снова закрыл глаза. Но спать не давал беспокойный червячок. Точил и точил. В чем же дело? Ведь все придумано здорово, костюм замечательный…
Джонни поворочался. Выбрался из постели. Выскользнул в коридор и включил свет. Здесь он осторожно натянул на себя Буратиний наряд и, стараясь не стучать башмаками, встал перед зеркалом.
Все было в порядке. Все было замечательно! Самый настоящий Буратино смотрел на Джонни из зеркала… Но… В том-то и дело: это был просто Буратино. Обаятельный, веселый, смешной. И ничуть не героический.
Конечно, он находчивый, смелый, но все-таки он деревянная кукла. И немножко клоун. Может быть, для кого-то такой характер в самый раз, но Джоннина рыцарская душа этого не принимала. Пока Джонни мастерил костюм, суетился, он не чувствовал сомнений, а теперь понял. Понял, что он изменник: отдал шпагу за пеструю рубашку.
Джонни сел на половик, уперся подбородком в раскрашенные коленки и горестно задумался. Он хотел обмануть судьбу: остригся будто бы из-за обиды, а на самом деле ради нового наряда. И судьба наказала его за хитрость.
Еще неизвестно, как завтра все сложится. Может быть, не только Джонни появится в костюме Буратино. Вдруг будут соперники? Если соперники появляются у мушкетера, спор можно решить поединком на шпагах. А если сойдется полдюжины Буратино? Что им, носами драться?
Кроме того, на карнавале обязательно будет Шпуня с приятелями. Разве он упустит случай обхихикать Джоннин колпак с деревянными завитками, клетчатую заплату на штанах и ноги, размалеванные не то под орех, не то под карельскую березу? Уж сам-то Шпуня не станет наряжаться куклой. Наверняка будет пиратом или индейцем.
Джонни встал и еще раз глянул на себя в зеркало. На подбородке отпечатался нарисованный сучок. Джонни решительно взялся за бумажный нос, оторвал и смял его. Потом он пошел в ванную и открыл краны.
Сидя на краю ванны и бултыхая ногами в теплой воде, Джонни расплел Верину капроновую мочалку и стал пришивать к мушкетерской шляпе искусственные кудри.
Шпуня нарядился не пиратом и не индейцем. У него был костюм ковбоя: загнутая с боков шляпа, короткая куртка и очень узкие брюки с широченными раструбами, с кожаными заплатами на заду и коленях. На шее у Шпуни красовался яркий платок, бедра опоясывал патронташ с настоящими револьверными гильзами, к патронташу была прицеплена кобура, из которой торчала изогнутая рукоятка с выжженными узорами. Красивый костюм и героический. Только цвет выбрал Шпуня не тот: куртка и штаны были сшиты из темно-розовой материи. Тощий Шпуня стал похож на свежевымытого дождевого червяка. Так, по крайней мере, сразу решил Джонни.
В фойе Дома пионеров шумели и толкались Красные Шапочки, оловянные солдатики, Золушки, Чиполлино, доктор Айболит со звериной свитой, Белоснежки и гномы. Над этой толпой сумрачно возвышались два Дон Кихота и заведующая детской библиотекой Эмма Глебовна, тоже похожая на Дон Кихота, только в юбке. А Кати не было.
К Джонни подскочили три верных друга-адъютанта: маленький Юрик Молчанов в голубой одежде гномика, Дима Васильков в костюме Незнайки и толстый Мишка Панин — без всякого маскарада, но зато с большим кульком ирисок. Юрик сквозь ватную бороду прошептал Джонни на ухо, что у Шпуни есть какой-то кошмарный план. Юрик видел, как он поглядывал на Джонни и шептался с приятелями.
— Вот он идет, — встревоженно сообщил Мишка Панин и перестал жевать ириску.
Джонни дерзко усмехнулся.
Шпуня подошел ковбойской походкой — слегка вихляя бедрами и кобурой. Сопровождали Шпуню три индейских вождя в штанах с бахромой и раскрашенными перьями на головах.
— Привет, сказал Шпуня.
— Привет, — сказал Джонни.
— Значит, в мушкетеры записался… — задумчиво произнес Шпуня.
— Я хотел в ковбои, да розовых штанов нигде не нашел, — сообщил Джонни.
— Ну ничего, — утешил Шпуня. — Тебе эта шляпа очень идет. У моей бабушки такая же.
— А свои штаны ты тоже у нее попросил? — поинтересовался Джонни.
Шпуня задумался. Индейские вожди угрожающе засопели. А Дима-Незнайка вдруг протянул руку к Шпуниному кольту и вежливо спросил:
— Можно посмотреть?
— Пожалуйста, — по-джентльменски откликнулся Шпуня.
Револьвер был сделан здорово: даже барабан крутился. Джонни вздохнул про себя и сказал:
— Жаль, что не стреляет. Деревяшка.
— Твоя шпага тоже вроде не из булата, — заметил Шпуня.
— Ну все-таки… Если надо, то врезать ею можно как следует.
— Врезать и кольтом можно, — разъяснил Шпуня. — Рукояткой.
Он сунул оружие в чехол, мило улыбнулся, полез за пазуху и… вытащил серого пушистого хомячка.
— Смотри, Джонни, какой симпатичный. Хочешь подержать?
У Джонни едва не стали дыбом капроновые кудри. А на позвоночнике выступили холодные крупные капли — по одной на каждом позвонке. Но он тоже улыбнулся и бестрепетно протянул ладонь.
Зверь шевелил усами и зловеще царапал ладошку коготками.
Джонни провел мизинцем по серой спинке.
— Он что, Шпуня, вместо лошади у тебя? Тощий какой-то. Не кормишь?
Шпуня расстроенно спрятал хомяка за пазуху. Джоннины друзья захихикали. А Джонни подумал о том, какое счастье, что он не в костюме Буратино: под мушкетерскими штанами не видно, как прыгают и дрожат колени.
Эмма Глебовна громко захлопала над головой ладонями и возвестила:
— Дети! Все идем в комнату сказок!
И в это время Джонни увидел Фею с Голубыми Волосами. Или Мальвину. В общем, Катю. И сразу подумал, что она похожа на маленькое белое облако с клочком голубого неба. Он заулыбался, отвернулся, опять посмотрел. А она прошла совсем рядом и тоже на него посмотрела. Уши у Джонни стали горячими, он согнулся и стал сердито поправлять отворот у сапога. Но тут же испугался, что потеряет Катю из виду, и пошел за ней, забыв про адъютантов.
Праздник был интересный. Сначала выступал настоящий писатель — он специально приехал из Москвы. Он всех поздравил, а потом читал рассказ про то, как отправился в кругосветное путешествие, когда был маленький. Все смеялись, потому что рассказ был веселый. И Джонни смеялся. Но он не забывал посматривать на Катю. И она, кажется, тоже на него посматривала. Один раз они встретились взглядами. У Джонни опять загорелись уши, и он стал стучать об пол каблуком со шпорой — так сильно, что Эмма Глебовна укоризненно посмотрела на него.
Потом затемнили окна, чтобы показать мультфильм про Винни-Пуха. Джонни эту кинокартину очень любил, но сейчас огорчился: в темноте Катю не разглядишь.
После кино был перерыв, но такой короткий, что Джонни не успел решиться подойти поближе к Кате. После перерыва все сели широким полукругом в несколько рядов и Эмма Глебовна стала по одному вызывать на середину комнаты ребят в костюмах, чтобы все угадывали, из какой они книжки. И зрители хором вопили:
— Робин Гуд!
— Дюймовочка!
— Гаврош!
— Мальчиш-Кибальчиш!
— Робинзон!
Иногда шум поднимался такой, что Эмма Глебовна выбегала на середину и принималась колотить ладонями над головой. Чтобы все немного утихли, она делала всякие интересные объявления. Одно объявление было вот о чем: сегодня только предварительный смотр карнавальных костюмов, а завтра в зрительном зале будет парад книжных героев. Каждый герой должен придумать какую-нибудь сценку (один или с товарищами), или прочитать стихи, или спеть что-нибудь. И тогда жюри распределит призы.
Джонни задумался было, что же такое ему показать на сцене, но опять стали вызывать книжных героев, и он решил, что придумает потом.
Он ждал, когда вызовут Катю. Все, конечно, начнут голосить, что это Мальвина из "Золотого ключика". И когда чуть утихнут, Джонни крикнет: "А еще фея из "Пиноккио"! И тогда Катя еще больше обратит на него внимание. А после праздника Джонни пройдет и небрежно скажет:
"Послушай, мы тут с одним поспорили: ты Фея или Мальвина? "
Главное — начать разговор…
Но Джонни не дождался, когда вызовут Катю. Эмма Глебовна воскликнула:
— Тихо, ребята! Сейчас мы пригласим на середину этого молодого храброго мушкетера!
Джонни встал и приосанился. Положил левую руку на эфес шпаги. Звякая шпорами, сделал два шага… Разве мог он подозревать, на какое вероломство способны его враги?! Когда он делал третий шаг, словно легким ветром сдуло с его головы шляпу!
Это было так неожиданно, что Джонни приоткрыл рот и взялся за стриженую макушку.
Секунду или две стояла тишина. И, оказавшись среди этой тишины, Джонни отчетливо понял, какой он сейчас нелепый: с круглой головой, торчащими ушами и глупым лицом.
Он бросился к шляпе, схватил. К ее полям была приклеена жевательной резинкой капроновая леска. Она тянулась за стулья, в задний ряд, где сидели Шпуня и вожди индейцев. Сидели они прямо, руки сложены на груди. Нарочно!
Шпуня нахально посмотрел на Джонни и громко сказал:
— Лысый мушкетер!
Джонни отчаянно нахлобучил шляпу до самых ушей, но было, конечно, поздно. Грохнул такой смех, что в голове зазвенело. И сквозь этот смех были слышны индейские вопли:
— Лысый мушкетер! С него скальп содрали!
Смеялись все, кроме Джонниных друзей.
И Катя смеялась!
Эмма Глебовна металась, как Дон Кихот, потерявший коня, и призывала успокоиться и отгадать, из какой книжки пришел этот герой. Несколько слабых голосов крикнули, что из "Трех мушкетеров", но смех не утихал.
Все было кончено.
Джонни пошел к двери.
Комната была большая, и шел он долго. И, видимо, как-то по-особенному шел, потому что смеяться стали тише, а когда Джонни был у двери, замолчали совсем.
Джонни обернулся и посмотрел на ребят. Это был взгляд человека, у которого все в жизни потеряно. Таким взглядом Джонни обвел ряды. И только сейчас заметил, что около Кати устроился какой-то Буратино. Джонни узнал того мальчишку, что был с Катей на фотографии. И машинально подумал, что он вовсе не дошкольник и не первоклассник, а такого же возраста, как они с Катей, только ростом небольшой. Но теперь это не имело никакого значения.
Ребята уже не улыбались. Только Шпуня нагло ухмылялся. глядя на Джонни.
— Червяк! — отчетливо сказал ему Джонни. — Тощий розовый червяк!
— Чир-рвяк! Чир-рвяк! — подхватил Джоннин друг Дима Васильков. И опять раздался смех. Но это был жиденький смех.
Джонни шагнул в коридор…
Джонни плакал очень редко. Еще в детском саду он приучил себя улыбаться, когда скребет в горле и щиплет в глазах. Но сейчас было, конечно, не до улыбки. Правда, и в этот горький час не блеснула бы у Джонни даже маленькая слезинка, если бы не встретилась Вика.
Но Вика встретилась. Она шла из поликлиники и увидела Джонни. Она посмотрела ему в лицо и сразу сказала:
— Джонни, что случилось?
Она с такой тревогой и заботой это сказала, что Джонни не выдержал.
Не думайте, что он заревел во весь голос или хотя бы начал громко хлюпать носом. Но ресницы у него сделались мокрые и стали слипаться. Джонни отвернул лицо и дернул плечом.
Этого было достаточно, чтобы Вика перепугалась: такого расстроенного Джонни она еще не видела.
— Ну-ка, пошли ко мне.
Джонни еще раз сердито дернул плечом, но пошел. Не все ли равно, куда идти?
Вика стащила с него пальто, усадила на диван и велела:
— Ну-ка, рассказывай.
Джонни мазнул рукавом по глазам, поцарапал спинку дивана и хрипло сказал:
— Да ну… этот червяк Шпуня…
И такими вот короткими и сбивчивыми предложениями рассказал про свое несчастье. Потому что они с Викой были друзья, а кому расскажешь о горе, если не другу?
— И все смеялись? — сердито спросила Вика.
Джонни мрачно шмыгнул носом.
— И она смеялась? — тихо спросила Вика, которая все понимала.
Джонни вздохнул так, что под его мушкетерской рубашкой разошлись и опять съехались вместе острые лопатки.
Вика долго молчала. Джонни тоже. Потом Вика сказала:
— Джонни, ты не должен сдаваться.
— А что делать?
И правда, что делать? Можно десять раз отлупить коварного Шпуню, но разве это поможет? Катя все равно каждый раз будет смеяться, когда вспомнит, как слетела шляпа и засверкала на всю комнату стриженая Джоннина голова.
Джонни скорчился на диване, словно у него заболел живот.
— Подожди страдать, — сказала Вика. — Надо что-то придумать.
Но сама придумать она ничего не смогла и пошла за Серегой Волошиным.
Очевидно, по дороге Вика все успела объяснить Сергею. Он, как вошел, сразу сказал:
— Ну, чего нос повесил? Ты завтра можешь отыграться.
— Как? — горько спросил Джонни.
— Слушай.
Они с Викой сели рядом с Джонни, с двух сторон.
Джонни слушал. Сначала просто из вежливости, потом с интересом и надеждой. Потом нерешительно ухмыльнулся.
— Понял? — спросил Сергей.
— Понял.
— Согласен?
— Не знаю…
— Почему "не знаю"? — рассердился Волошин. — Ты мушкетер или таракан со шпорами?
— Я не знаю, где такие стихи взять, — объяснил Джонни.
Сергей почему-то смутился.
— Ну, стихи… Это, конечно, самое сложное… Ты вечером ко мне зайди, может быть, что-то проклюнется…
Когда появляется светлая надежда, жизнь становится симпатичнее. Джонни настолько воспрянул духом, что с аппетитом пообедал. Потом он с удовольствием посмотрел телепрограмму "Для вас, родители". Затем поговорил с Верой Сергеевной насчет расплетенной мочалки. Разговор настроил его на решительный лад. Полтора часа подряд Джонни твердо шагал из угла в угол и думал о завтрашнем дне.
Когда за окнами совсем стемнело, Джонни пришел к Волошину.
Сергей неловко протянул выдранный из тетради листок.
— Вот погляди. Годится или нет…
Джонни стал читать. Он прочитал один раз, повертел листок. Словно удивляясь. Прочитал снова.
— Ну? — нервно спросил Сергей.
— Это ты сам сочинил?
— Не сам, — пробормотал Сергей. — То есть мы вместе… У меня не получалось, я пошел к нашему руководителю кружка… Годится?
— Еще бы… — с тихим восторгом сказал Джонни.
— А успеешь выучить?
— Да я уже запомнил.
— Только не забудь про выразительность.
— Будь спокоен, — сказал Джонни, мысленно подтягивая ботфорты.
Когда решительный Джонни в раздевалке Дома пионеров надевал мушкетерские доспехи, к нему подошли Дима, Юрик и Мишка. У них был смущенный вид. Им казалось, что вчера они не сумели защитить командира. Но Джонни им не сказал ни слова упрека. Адъютанты повеселели. Толстый Мишка сообщил, что подлый Шпуня приделал к своему кольту боевой механизм и уже два раза стрелял охотничьими капсюлями. А Юрик и Дима с возмущением рассказали про издевательские Шпунины разговоры. Тощий розовый ковбой рассуждал с индейцами, что можно было бы содрать с мушкетера скальп, но, к сожалению, стриженые скальпы совершенно не ценятся.
— Там видно будет, кто с кого сдерет, — сказал Джонни. Он это решительно сказал, но внутри у него появился боязливый холодок: вдруг ничего не выйдет?
И тут показалась Катя. Джонни издали увидел голубые локоны. Этого было достаточно. Позванивая шпорами, он пошел к Эмме Глебовне и заявил, что хочет обязательно выступить.
Эмма Глебовна, конечно, обрадовалась. Она сказала, что Женя Воробьев молодец, храбрый мальчик (Джонни поморщился) и что она тут же внесет его в список.
— Только, пожалуйста, после всех, — попросил Джонни.
Выступления были ничего, интересные. Руслан дрался с громадной головой из пенопласта, у которой открывался рот. Серый волк едва не слопал Красную Шапочку, но два охотника вовремя контузили его из ружья. Самодельная двухстволка грохнула так, что над передними рядами долго висело облако дыма (куда там Шпуниному кольту! ). Потом капитан Врунгель со своими матросами плясал "Яблочко", старик Хоттабыч глотал теннисные мячики, а Том Сойер с девочкой Бекки долго бродили по сцене и делали вид, что не могут найти выход из пещеры. Этому никто не поверил, все начали громко хихикать, и Эмме Глебовне вместе с двумя молоденькими вожатыми пришлось громко кричать: "Дети, внимание! Ти-ши-на!"
Зато сразу стало тихо, когда на сцену выскочили всадники в красных гимнастерках и буденовках и впереди всех Мальчиш-Кибальчиш (Петька Сухов из Джонниного класса). Всадники сперва спели песню про восемнадцатый год, а потом изобразили конную атаку. Им здорово хлопали, и никто даже не обратил внимания, что кони не настоящие, а палки с лошадиными головами. Потому что атака была настоящая.
Джонни все это было интересно. И все-таки он часто поворачивался и смотрел на Катю, которая сидела сзади. Его широкополая шляпа с перьями цеплялась за соседей, но они терпели, и никто не посоветовал Джонни снять свой пышный головной убор. Помнили вчерашний случай.
Но, оглянувшись двадцатый (или тридцатый) раз, Джонни встретился взглядом с Катей. Он даже не успел понять, какой у Кати взгляд: добрый или сердитый, серьезный или насмешливый. Он отвернулся так торопливо, что шляпные перья засвистели в воздухе. И больше не решался посмотреть назад.
Зато он скоро увидел Катю на сцене. Она воспитывала маленького Буратино: учила его хорошим манерам, письму и математике. Вы, конечно, помните, что из этого ничего не вышло. Кате пришлось отправить ученика в темный чулан, то есть за кулисы.
Потом она, легкая, как белый парашютик, прыгнула со сцены и мимо Джонни пошла на свое место. А Джонни услышал:
— Теперь выступит храбрый герой из книжки "Три мушкетера" Женя Воробьев!
Поднялся шум: смеялись и хлопали вперемешку. Джонни стиснул зубы и пошел на сцену.
Он поднялся и встал у края.
Маленький зал показался ему громадным, как Лужники. А людей в нем будто сто тысяч! И все смотрели на Джонни. И почти все улыбались. Шпуня тоже улыбался — очень ехидно — и что-то говорил соседу в индейском уборе.
И Катя… нет, она не улыбалась. И на Джонни она не смотрела. Она сидела, опустив лицо. Почему? Может быть, решила, что сейчас все опять будут смеяться над ним, и пожалела? А может быть, просто не хотела на него смотреть?
Если так, то и не надо…
Джонни снял шляпу, широким взмахом бросил ее на рояль в углу сцены.
Раздался смех, но тут же стих. Потому что даже самые непонятливые сообразили: не для того Джонни сбросил шляпу, чтобы дать посмеяться над собой.
Джонни расстегнул на плече мушкетерскую накидку, сбросил, скомкал и швырнул вслед за шляпой. Он остался в старенькой клетчатой рубашке, в которой пробегал все прошлое лето.
Сделалось совсем тихо. Стало слышно даже, как в соседнем переулке стучит мотор маленького экскаватора.
Джонни шагнул еще ближе к краю и сунул кулаки в карманы — так решительно, что от штанины отскочила и укатилась под ряды блестящая пуговица. На нее не обратили внимания.
Джонни отчетливо и звонко сказал:
Не нужны ни локоны до плеч. Ни большая шляпа и ни шпоры — Лишь бы мушкетер умел беречь Боевое званье мушкетера…Он вздохнул, успокоился и стал читать дальше:
Мушкетер известен не плащом И не шпагой, острой, как иголка. Мушкетеры могут быть хоть в чем: В запыленных кедах и футболках…Джонни замолчал на две секунды. Зал тоже молчал. И ждал. И у всех были серьезные лица. Только Шпуня еще слегка ухмылялся.
Джонни посмотрел на Шпуню, тоже усмехнулся (чуть-чуть) и продекламировал:
Честь и смелость сами не придут, Хоть надень оружие любое. Ведь и кольт на кожаном заду Сам собой не делает ковбоя…Он опять замолчал, чтобы перевести дыхание, и с удовольствием услышал несколько отчетливых смешков. И увидел, как головы поворачиваются к Шпуне.
Кружева и локоны — пустяк. Главное в бою — назад ни шага, —сказал Джонни. И закончил, уже не глядя на Шпуню (чего на него теперь смотреть):
А червяк — он все равно червяк, Если даже он прямой, как шпага.И опять стало тихо. И в этой тишине Джоннины адъютанты успели два раза негромко, но внятно сказать:
— Чир-рвяк. Чир-рвяк…
Потом все захлопали. Сильнее, сильнее! И шумели, и смеялись, но теперь уже, конечно, не над Джонни. А он хладнокровно забрал с рояля свое имущество и пошел на место. Он держался свободно и смело. Он храбро посмотрел на Катю. Она тоже смеялась и хлопала. И не отвела глаз, когда увидела, что Джонни на нее смотрит. Он почувствовал, что уши делаются теплыми, и поскорее сел на свой стул.
…Потом лучших участников приглашали на сцену, и Эмма Глебовна вручала призы. Джонни получил большой альбом для марок. Это был, кажется, не самый главный приз, но все равно Джонни чувствовал себя победителем.
Но победа победой, а с Катей он так и не познакомился. Ни на сцене, ни в зале они не были рядом. А праздник кончился, и время уходило.
В раздевалке была толкотня и неразбериха. Гномы, пираты и Красные Шапочки превращались в обыкновенных людей — натягивали пальто и шапки. Джонни тоже оделся. Затолкал в сумку сапоги и накидку. Он отпустил адъютантов, а сам с сумкой, шляпой и альбомом толкался у дверей. Оставался у него последний шанс: увидеть Катю, выйти, будто случайно, с ней вместе на улицу и о чем-нибудь спросить. Ну например: "Ты не знаешь, завтра библиотека открыта или там выходной? " А дальше видно будет. Лишь бы тот маленький Буратино не вздумал крутиться около нее.
Джонни смотрел во все глаза. Но пока смотрел, не заметил, что Катя оказалась рядом. Совсем-совсем рядом. Непонятно откуда. Она осторожно дернула Джонни за рукав.
Джонни обернулся и в первый миг даже не понял, что это Катя: она была без голубых волос, в шапочке и синей мальчишечьей курточке.
Катя протянула открытую ладошку с блестящей пуговицей от Джонниных мушкетерских штанов. Посмотрела ему в глаза, мигнула, отвернулась и тихонько сказала:
— Смотри… Это твоя?
— Ага, — пробормотал Джонни. Глотнул воздух и глупо спросил: — А где ты ее взяла?
— На полу валялась. Жалко, если потеряется…
— Да чепуха, — сказал Джонни, внимательно разглядывая пуговицу и не догадываясь взять. — Теперь уж костюм не нужен.
— Ну все равно жалко… Такая красивая.
Джонни наконец сообразил, что надо взять пуговицу и сказать спасибо.
— Пожалуйста, — шепотом ответила Катя.
— А где ты ее взяла? — опять спросил Джонни и проклял себя за скудоумие.
У Кати порозовели кончики ушей, и она опять объяснила, что нашла пуговицу на полу в зале.
"Что еще сказать? — думал Джонни, глядя на свои ботинки. — Ну что? Что? Что? " В голове у него была темная просторная пустота, и в ней, как коротенькие телеграфные ленточки с обрывками слов и предложений, носились клочки растрепанных мыслей. Джонни хотел посмотреть Кате в глаза, но решился взглянуть только на подбородок.
Катя чуть заметно вздохнула.
Джонни понял, что сейчас она уйдет. И почувствовал, что если он сию минуту не скажет что-нибудь умное, то будет ненавидеть себя до старческого возраста.
А что сказать?!!
И в этот отчаянный миг появился Шпуня!
Дорогой, милый спаситель Шпуня! Джонни разом простил ему все пакости! Потому что Шпуня вместе со своими индейцами прошел совсем рядом и довольно громко сказал приятелям насчет жениха и невесты.
Джонни поднял голову. Все встало на свои места. Катя смотрела растерянно, а Джонни смело глянул ей в лицо и улыбнулся.
— Подержи, пожалуйста, — попросил он и протянул Кате альбом, сумку и шляпу.
Потом догнал Шпуню и вежливо предложил ему пройти в угол за вешалки.
Через полминуты в углу возникло стремительное движение, от которого пальто на вешалках закачались и замахали рукавами. Потом оттуда торопливо вышел Шпуня, он прижимал к носу ладонь. Чуть погодя вышел Джонни. Он продолжал улыбаться и незаметно потирал правую щеку.
Катя ждала.
— Мы немножко поговорили со Шпуней, — объяснил Джонни.
Катя деликатно не заметила, что скула у него слегка потемнела.
— Какой замечательный альбом, — сказала она, отдавая Джонни имущество.
— Он, наверно, замечательный, — откликнулся Джонни. — Только зачем он мне?
— Разве ты не собираешь марки? — удивилась Катя.
Джонни считал собирание марок занятием легкомысленным и бесполезным. Он хотел примерно так и ответить, но спохватился.
— А ты собираешь?
— Конечно! Я всякие собираю: про зверей, про цветы, про знаменитых людей. Наши и заграничные. У меня больше тысячи.
— Тогда бери! — радостно сказал Джонни.
— Ну что ты! Это же твоя награда…
— Зачем мне такая бесполезная награда? А тебе пригодится.
Катя посмотрела на Джонни, на альбом, потом опять на Джонни. Вздохнула и покачала головой.
— Нет, я так не могу.
— Но почему? — отчаянно спросил Джонни.
— Ну… Не знаю… Давай меняться на что-нибудь!
— Давай! — обрадовался Джонни. — Хоть на что!
— Ты что-нибудь собираешь?
— Автомобильчики. Знаешь, такие модельки. У них мотор и багажник открываются.
— А какие автомобильчики? Современные или старинные?
— Всякие, — соврал Джонни. Старинных у него не было.
— У меня есть один, — обрадовалась Катя. — Смешной такой, на коляску похож. На них еще до революции ездили. Меняем?
— Давай… А как?
— Очень просто. Пойдем сейчас ко мне, и посмотришь. Если хочешь…
"Конечно, хочу! " — едва не завопил Джонни. Но помолчал секунду и сдержанно сказал:
— Пойдем.
Был такой прекрасный весенний день, что даже серые заборы казались разноцветными. Солнце припекало. У Дома пионеров на широком асфальте девчонки и два первоклассника расчертили классы и прыгали, скинув пальто и куртки. Катя и Джонни обошли их, чтобы не мешать, и зашагали к новым домам. Джонни нес шляпу в опущенной руке, и пышные перья чиркали по сверкающим лужицам. Но он не обращал внимания. Он сбоку поглядывал на Катю.
Катя посмотрела вверх, на маленькие пушистые облака, и вдруг сказала:
— Ты, наверно, не поверишь, но я, честное слово, вчера видела на солнцепеке настоящую живую бабочку.
— Что ты, я верю! — торопливо сказал Джонни.
— Жаль только, если она замерзнет ночью.
— Может, не замерзнет, — откликнулся Джонни. — Может, залетит куда-нибудь в тепло и переночует. И дождется, когда не будет холода.
Им одинаково хотелось, чтобы ранняя смелая бабочка дождалась настоящей весны. Они это чувствовали. И было приятно вдвоем тревожиться об одном и том же.
— Ты в какой школе учишься? — спросил Джонни.
— В пятой.
— А почему не в нашей, не во второй? Она ближе.
— Мама не хочет.
"Странная мама", — подумал Джонни. Но тут же забыл об этом, потому что Катя спросила:
— Хороший был праздник, верно?
— Хороший, — согласился Джонни. — Жаль, что быстро кончился.
— Ты здорово стихи читал, — сказала Катя.
— Это один мой друг из восьмого класса написал, — слегка прихвастнул Джонни. — Он как настоящий поэт стихи сочиняет. Особенно про любовь…
Потом они целый квартал шли молча, но это было не трудное молчание. Просто шли, поглядывали друг на друга и улыбались.
Наконец оказались у двенадцатиэтажного дома.
— Лифт не работает, — вздохнула Катя. — Придется топать на восьмой этаж.
— Дотопаем, — бодро сказал Джонни.
Они зашагали по лестнице, и перья Джонниной шляпы оставляли на ступеньках влажные полоски.
— Смотри, они мокрые, — сказала Катя. — Вдруг испортятся?
— Ну и пусть. Все равно карнавал кончился.
— Но он же не последний.
— А у меня другой костюм есть, — признался Джонни. — Буратино… Вот если я его в следующий раз надену, окажется, что мы из одной книжки. Ага?
Катя улыбнулась и кивнула.
— Да нет… — вдруг огорчился Джонни. — У тебя же есть знакомый Буратино. Который сегодня…
— А, это Вовка, — весело сказала Катя. — Мой двоюродный брат.
"Сколько у нее двоюродных братьев? " — подумал Джонни, вспомнив Тимофея.
— Мы его можем пуделем Артемоном нарядить, — предложила Катя. — У него собачья маска есть, и он здорово умеет тявкать.
Такой вариант вполне устраивал Джонни.
— А знаешь, — вдруг сказала Катя, — у меня Мальвинин костюм случайно получился. Я хотела быть Золушкой, но недавно, когда стирала, уронила в синьку мамин парик… Сперва она не знала, а через несколько дней увидела. Представляешь, какой был скандал?
— Представляю, — посочувствовал Джонни. — У моей двоюродной сестры есть парик, и она над ним трясется, как над любимой кошкой.
— Мама не тряслась, это был старый парик. Но она, оказывается, в этот день пообещала его какому-то мальчику в своем классе. Тоже для костюма…
Джонни не дрогнул. А если у него внутри и вздрогнуло что-то, он не подал вида. Они стояли уже на площадке восьмого этажа, перед дверью, и Джонни не сделал ни полшажочка назад. Он только тихо спросил:
— Катя, как зовут твою маму?
Но Катя не успела ответить. После короткого звонка сразу открылась дверь, и Катила мама изумленно глянула на гостя.
— Это Женя Воробьев, — сообщила Катя. — Мы познакомились на празднике. Мамочка, мы хотим есть…
И тогда Джонни улыбнулся. Может быть, у него была слегка растерянная улыбка, но никто из посторонних не мог бы это заметить. Может быть, чуть виноватая была улыбка, но про это знал только сам Джонни.
Он улыбнулся и сообщил:
— Здравствуйте. Я пришел сказать, что уже не сержусь.
ШЛЕМ ВИТЯЗЯ
Директор школы номер два Борис Иванович был молод и непоседлив.
Приехав из отпуска, он поспешил в свою школу, где летом располагался городской пионерским лагерь. Директору не терпелось повидаться со своими питомцами. Но школа встретила его гулкой пустотой. Оказалось, что ребят увели в парк слушать какую-то лекцию. Борис Иванович отправился туда же.
Июльский полдень плавился от солнца, но площадка перед летней эстрадой была укутана в тень: над скамейками склонялись большие березы. В этой березовой тени алели галстуки и сатиновые испанки. Словно кто-то рассыпал землянику.
Бориса Ивановича встретили веселыми кликами и наперебой сообщили, что из Москвы приехал ученый, который будет рассказывать про историю городка, про всякую старину и как лучше искать клады. А приветствовать ученого от имени ребят готовится известный Джонни Воробьев из третьего (то есть уже из четвертого) "А".
Услыхав последнюю новость, Борис Иванович задумчиво поднял правую бровь, почесал ее и быстрыми шагами пошел в комнату за эстрадой…
В комнатке было прохладно и малолюдно. В углу сидел и перебирал бумажки довольно молодой человек в клетчатом костюме. У человека была тонкая шея и круглая голова в коричневом берете, натянутом почти до ушей. Это и был ученый лектор.
Кроме того, здесь находились Джонни и педагог Вера Сергеевна — Джоннина двоюродная сестра.
Несколько лет назад Вера Сергеевна была воспитательницей детского сада, но недавно поняла, что ее призвание — в работе со школьниками младшего и среднего возраста. И устроилась в Дом пионеров. Сегодня она отвечала за проведение лекции. Именно она предложила, чтобы лектора приветствовал Джонни. Отношения Веры Сергеевны с двоюродным братцем редко бывали мирными, но сейчас у нее не оставалось выхода: другие ребята отказались выступать, стеснялись. Кроме того, они могли сбиться от волнения, а Джонни — Вера Сергеевна это знала — не смутился бы перед целой Академией наук. Что-то, а держаться перед людьми Джонни умел. Если хотел, конечно.
Джонни согласился выступить как-то слишком охотно, и это слегка встревожило Веру Сергеевну. Однако среди других волнений и хлопот перед началом лекции беспокойство забылось. Тем более что сегодня Джонни был восхитителен. Его парадная пионерская форма выглядела так, будто ее шили специально для этого случая у портных Людовика Четырнадцатого (из романа "Виконт де Бражелон"). Джонни носил ее с изяществом королевского пажа. Прическа его тоже была великолепна. В марте Джонни остригся под машинку, и после этой операции его подрастающие волосы стали почему-то курчавиться. К середине лета Джоннину голову украшала шапка золотистых кудряшек. Сейчас Вера Сергеевна расчесала эти кудряшки, а затем легким движением придала им некоторую небрежность. Джонни молча выдержал эту процедуру. И вообще он вел себя по-джентльменски. Обаятельной улыбкой встретил вошедшего директора, потом стал терпеливо слушать Верины последние наставления.
— Все запомнил? — суетливо спрашивала она. — Главное, не становись к зрителям спиной, это невежливо… А в конце не забудь сказать: "Мы все надеемся, что после вашей лекции будем еще больше любить наш замечательный город… "
— Хорошо, Вера, — ласково сказал Джонни. — Ты, пожалуйста, не волнуйся, я не подведу… Мне уже можно идти?
И он ушел, чтобы сесть среди ребят, а потом, когда выйдет лектор, подняться на эстраду.
Эстрада была заставлена плоскими фанерными елками: они остались от вчерашнего детского спектакля про Лису и Петуха. Из-за этого "леса" и появился лектор. Послышались нерешительные хлопки. Большинство ребят не знало, надо ли аплодировать сейчас или подождать до конца выступления.
На сцену легкой походкой взошел Джонни. Аплодисменты усилились. Джонни одарил улыбкой сначала слушателей, потом лектора. Дождался тишины и с чувством сказал:
— Уважаемый товарищ кандидат наук… Дорогой Валентин Эдуардович…
Вера Сергеевна за елками нервно мигнула: обращение по имени и отчеству не было запланировано. Однако дальше все пошло как надо. Джонни вдохновенно проговорил:
— От имени юных жителей нашего города позвольте приветствовать вас и признаться, что мы с нетерпением ждем вашей лекции…
Вера Сергеевна облегченно кивала.
Валентин Эдуардович слушал, вытянув шею и согнувшись над звонкоголосым Джонни, будто внимательный журавль над чирикающим птенцом. При последних словах он поправил очки и взволнованно стащил с головы берет. Голова оказалась абсолютно голой. Это вызвало в рядах слушателей незапланированное оживление. Джонни легким движением руки восстановил тишину. Валентин Эдуардович быстро потер лысину, и от этой протирки она заблестела еще сильнее. Солнечный луч, пробившись через березовую завесу, зажег на макушке кандидата наук яркий зайчик. Другой луч рассыпал искры по Джонниным кудрям. Джонни опять улыбнулся и продолжал:
— Мы, Валентин Эдуардович, очень любим наш город. Он у нас древний. Здесь все любят старину. Особенно с этой весны, когда начали ломать старый квартал на Песчаной улице и в одном доме нашли жестянку с золотыми монетами. Говорят, ее до революции какой-то купец запрятал…
— Женя… — беззвучно простонала за фанерным "лесом" Вера Сергеевна. — Не то!.. Ты же совсем не то…
Но Джонни, оживляясь все более, говорил:
— С тех пор все роют, и старые и малые. Клады ищут. Везде роют: и в подпольях, и в огородах…
За очками Валентина Эдуардовича блеснуло удивление, но Джонни уже не смотрел на лектора. Теперь он обращался к слушателям :
— Ну, в огородах копают — это их дело. А спортивную площадку, где мы в футбол играли, помните? Появились какие-то с палками и линейками и тоже давай мерить и канавки рыть! Мы спрашиваем: это зачем? А они говорят: экспедиция приедет, будем всякие древности раскапывать…
Валентин Эдуардович растерянно оглянулся и опять натянул берет. Ряды слушателей напряженно внимали Джонниной речи. А он так увлекся, что даже стал прохаживаться но сцене.
— Экспедиция — это, конечно, здорово. Может, мечи старинные найдут или кольчуги. Мы обрадовались, назавтра тоже лопаты взяли, чтобы помогать, приходим на площадку, а там железные гаражи стоят. Ничего себе экспедиция, а?!
Ряды зашумели. В этом шуме было одобрение Джонниным словам и негодование по адресу коварных владельцев гаражей. Тем более что история с гаражами многим была известна и раньше.
Джонни, подняв руку, вновь дождался тишины. И взволнованно проговорил :
— Мы эту площадку помните сколько расчищали? А теперь что? Опять посреди улицы мяч гонять… И еще вот что я вспомнил… — Он снова поднял руку, призывая к спокойствию, сделал шаг назад, оказался рядом с большой фанерной елью и… пропал.
Зрители успели заметить, как мелькнули в воздухе Джоннины коричневые ноги в белых носочках и начищенных для торжественного случая полуботинках. Все притихли от изумления.
Борис Иванович аккуратно поставил Джонни на пол в комнате за сценой.
— Приехали…
Возмущенно дыша, но не теряя достоинства, Джонни сказал:
— Это насилие.
— Да, — печально согласился Борис Иванович. — Я понимаю, что действовал не совсем законно. Только у меня не было выхода. Ты срывал мероприятие.
— Я? Срывал?
— Да. Человек приехал из Москвы, а ты едва не провалил ему выступление. Воспользовался оказанным тебе доверием и устроил этот цирк… Зачем, Воробьев? Тебе мало прежней скандальной известности? Решил еще раз привлечь к себе общее внимание?
— Не к себе, а к тем, кто ставит гаражи…
— Против гаражей надо было протестовать не так.
— А как?
— Шли бы с ребятами в горсовет. Или письмо бы написали в газету. Вон твой друг Волошин чуть не каждую неделю в газете стихи печатает, помог бы…
— Одно дело стихи, другое — письмо, — возразил Джонни — Волокиту разводить…
— А ты решил, что так легче и скорее! И вон что натворил… — Борис Иванович кивнул на дверь, за которой слышался нестройный шум и взволнованный голос Веры Сергеевны.
Директор с упреком сказал:
— Думаешь, легко теперь будет читать лекцию? Твои друзья расходились, как на стадионе.
— А может, им интереснее слушать меня, а не лекцию, — сердито брякнул Джонни.
— А вот это, милый мой, демагогия.
— Что-что? — насторожился Джонни. К незнакомым словам он относился с подозрением.
— Это греческое слово, — разъяснил директор. — Демагог — это человек, который говорит вроде бы правильные словеса, но прячет за ними всякие несправедливые мысли. Чаще всего в личных и корыстных целях.
— Значит, я в корыстных? — окончательно оскорбился Джонни. Отвернулся и стал разглядывать левую коленку. Он зацепился ею за край фанерной елки в момент похищения со сцены. На коленке была царапина. Длинная, но тонкая и неглубокая. Пустяк. Однако Джонни вспомнил, как бесславно покинул эстраду, и сказал:
— А еще директор…
— Я сейчас в отпуске, — возразил Борис Иванович. — Я действовал не как представитель школьной власти, а как частное лицо.
Джонни подумал, что в таком заявлении тоже достаточно демагогии, но высказать это не успел. В наступившей за дверью тишине раздался сильный и удивительно тонкий голос лектора:
— Товарищи дети! Приступая к этой лекции, я прежде всего хочу отметить, что в период усиления противоречий между удельными феодальными княжествами возникновение вашего города в данном регионе было заметным фактором, оказавшим влияние на ряд процессов, которые в свою очередь…
С полминуты Джонни внимательно слушал, а потом с чувством сказал :
— Д-да…
Борис Иванович опять приподнял и почесал правую бровь. Почему-то вздохнул, посмотрел на Джонни и непедагогично предложил ему японскую жевательную резинку с пингвином на фантике. Но Джонни отверг эту неуклюжую попытку примирения. Он холодно попрощался и ушел из парка.
Джонни брел руки в карманы, голова ниже плеч. Настроение было сами понимаете какое. Правда, главное он успел: сказал со сцены о гаражах. Но какой скандальный конец!..
Хорошо, хоть Катька этого не видела, она до завтра уехала к дедушке. Но другие-то видели! А ведь среди этих других были не только друзья…
— Эй, артист!
Джонни рывком обернулся. Оказалось, его догонял Шпуня — давний и прочный недруг. Шпуня улыбался.
— Привет, Джонни! А ты правда как народный артист выступал. Только в конце непонятно: фьють — ножки дрыгнулись и нет человека. Фокус, как у Кио… — Шпуня еще сильнее растянул свою безобразную, глупую, ехидную, гнусную и отвратительную улыбку и спросил: — А может, тебе от волненья кой-куда захотелось? Если брюхо болит, ждать, конечно, не будешь…
Отвечать на это было нечего, и Джонни приступил к действиям. Без слов. Он сделал красивый выпад, целясь кулаком точно в нос противника. Этот прием не раз помогал ему сбить со Шпуни лишнее нахальство. Но если не везет, так не везет! Джонни наткнулся на встречную атаку. Ему показалось, что в левом глазу вспыхнул бенгальский огонь. "Ох и синяк будет", — мельком подумал он и ухватил Шпуню за рубашку. Тот дал подножку, и оба покатились в неогороженный газон, где вместе с тощими цветами росла буйная уличная трава…
Сначала бой шел на равных, но скоро Джонни почему-то оказался лежащим на спине, а Шпуня, радостно сопя, сидел у него на груди. Джонни приготовился садануть его по хребту коленом и вдруг услыхал:
— Стоп! Нарушение правил!
Шпуню сдуло, как семя одуванчика. Только простучали затихающей дробью его подошвы. А над собой Джонни увидел Бориса Ивановича.
Директор поставил Джонни на тротуар и осторожно вынул из его кудрей щепочки и сухие стебельки. Потом заметил:
— Хорошо он тебя припечатал. И уложил как миленького…
— Он?! Уложил?! — взвинтился Джонни. — Да это у меня прием такой: сперва поддамся, а потом… Он бы сейчас уже носом в траве копался! Ну почему вы не даете ничего довести до конца?
— Дорогой мой! Значит, я должен идти мимо, когда два ненаглядных питомца вверенной мне школы сцепились, как гладиаторы на арене Колизея?.. Впрочем, второго я не разглядел. Ты его знаешь?
— Еще бы, — хмуро откликнулся Джонни.
— А кто это?
Джонни поднял на директора взгляд. В Джонниных глазах (в правом — большом и ясном и в левом — слегка заплывшем) было безграничное изумление: неужели ему, Джонни Воробьеву, предлагают стать ябедой?
— Ну-ну, — смутился Борис Иванович. — Ценю твое благородство. — Но скажи, тебе не кажется, что столько подвигов для одного дня — это чересчур?
— В самый раз, — буркнул Джонни, заправляя под ремешок парадную рубашку, которая была уже непарадная.
— Воробьев, — со вздохом сказал Борис Иванович. — Во мне крепнет желание обстоятельно побеседовать с твоими родителями.
— Вы в отпуске, — напомнил Джонни. — Вы сейчас не директор, а частное лицо.
— Да, верно… Что ж, это избавляет тебя от крупных неприятностей. На время…
Но судьба не избавила Джонни от неприятностей. Даже на время. Была суббота, и мама с папой оказались дома. Увидев сына с могучим синяком и в потрепанном состоянии, мама стала деловито капать себе валерьянку, а папа заходил по комнате и сказал:
— Опять… Какие же объяснения ты дашь на этот раз?
— Он первый начал, — сообщил Джонни, трогая синяк. Шпунины кулаки были небольшие, но очень твердые, и под глазом сильно болело.
— Ах, первый! — воскликнул папа. — Этот злодей подошел к моему сыну и ни с того ни с сего трахнул его по глазу!.. Так это понимать?
— По глазу — это уже потом, — уточнил Джонни.
— Но все-таки драку начал не ты? — спросил папа с надеждой и сомнением.
Джонни не стал унижаться до лжи. Просто сказал:
— А чего он каждый раз дразнится?
— Ах, он дразнится!.. А ты дерешься! То есть на слова отвечаешь кулаками!.. Неужели ты до сих пор не уяснил, что человек, который надеется лишь на грубую силу, никогда не станет культурным членом общества? Имей в виду, что агрессивность характера совершенно не способствует становлению гармонично развитой личности…
Джонни опять потрогал синяк и вздохнул:
— Ты, папа, говоришь, как этот…
— Кто?
— Ну, этот… сейчас вспомню. Греческое слово… Де… де… де…
— Демосфен? — спросил слегка польщенный отец.
— А это кто?
— Знаменитый оратор в древней Греции…
— Нет, не то. Похоже на "педагога". А, вспомнил! Де-ма-гог.
Воробьев-старший тихо икнул и оторопело уставился на сына. Мама стала капать валерьянку на свою белую юбку.
— Это ты мне? Своему родному отцу? — тонким голосом произнес наконец папа.
Джонни слегка струхнул.
— А что? Это же приличное слово. Научное. Мне его Борис Иванович сказал.
— Так это он сказал тебе! — взорвался отец. — Потому что ты в самом деле демагог, разгильдяй, уличный пират, бич школы и несчастье родителей!
На "несчастье родителей" Джонни обиделся. Он хотел даже возразить, что не сам себя воспитывал, а именно родители, но не успел. Появилась Вера Сергеевна. Она свистела от гнева, как перекипевшая кофеварка.
И все пошло снова…
Наконец пана грозно сообщил:
— Довольно? Терпение у меня лопнуло!
Терпение Воробьева-старшего лопалось довольно часто. Как правило, это не приносило Джонни заметных неприятностей. Но сегодня оно лопнуло окончательно. Поэтому Джонни будет сидеть дома до тех пор, пока не перевоспитается. Или по крайней мере два дня… Да, два дня он и носу не высунет на улицу! Будет заперт в этой комнате до понедельника! Где ключи от внутренних дверей? Почему в этом доме ничего никогда нельзя найти?
Мама с папой стали шарить по ящикам стола. Вера Сергеевна давала советы, где лучше искать. Джонни стоял посреди комнаты и молча наблюдал за этой суетой. Он считал ее неразумной по двум причинам. Во-первых, все старые ключи он давно отдал братьям Дориным, которые строили электронную модель марсианского ящера и собирали для деталей всяческую металлическую дребедень. Во-вторых, если арестанта запрут в этой комнате, где семья будет смотреть телевизор?
Наконец Джонни пожалел родителей и снисходительно сказал:
— Папа, зачем столько хлопот? По-моему, достаточно взять с меня слово, что я никуда не уйду.
— А ты дашь? — неуверенно спросил отец.
— Что же делать… — печально отозвался Джонни.
Он знал по опыту, что синяк все равно продержится не менее двух дней.
Вообще-то Джонни не стеснялся боевых отметин, однако ходить с "блямбой", полученной от Шпуни, было унизительно.
Какой несчастный день! Сначала дурацкая история на эстраде, потом этот "довесок". И главное, до сих пор так больно…
Воскресенье с утра до обеда Джонни провел, сидя на подоконнике. Сначала пятый раз читал "Трех мушкетеров". Потом, чтобы сделать приятное Вере, громко пел песни. Одну он даже повторил несколько раз. Это был боевой марш юнармейских отрядов школы № 2, который сочинил восьмиклассник Сергей Волошин — Джоннин друг и поэт:
… Пускай нам нынче утром В бою не повезло, Мы крепко стиснем зубы Противнику назло! Мы стиснем их покрепче, Полымем снова флаг И вдарим нынче вечером Противнику во фланг!Потом Джонни немного осип и стал слушать разговор, который вели за стенкой мама и Вера.
Мама говорила:
— Нет, Вера, ты совершенно не права. Он очень славный человек. И, кроме того, извини меня, но тебе уже тридцать лет… ну, пусть двадцать девять. Это не девятнадцать…
Джонни сразу понял, что речь идет о Валентине Эдуардовиче. Дело в том, что Валентин Эдуардович приезжал сюда не первый раз. Это перед ребятами он выступал вчера впервые (Вера уговорила), а взрослым он читал лекции и раньше. С Верой он познакомился еще в мае. Водил ее в кино и несколько раз приходил в гости…
Мама продолжала доказывать:
— Ну хорошо, хорошо, я понимаю, что дело не в машине и не в квартире, хотя и это не лишнее… Но он прекрасно к тебе относится!
Вера сказала с легким стоном:
— Да. Но он лысый, как коленка.
Джонни хмыкнул, сравнение ему понравилось. Он поставил левую ногу на подоконник — так, что коленка оказалась перед глазами. Джонни представил, что это лысина.
Лысина была загорелая и не очень чистая. Ее пересекал боевой рубец. То есть это была засохшая царапина, однако в масштабах лысины она вполне могла сойти за след сабельного удара.
Видимо, лысина принадлежала старому храброму рыцарю, который провел жизнь в походах и битвах. В какой-то схватке с него сбили шлем, и вот — шрам.
Джонни, который сам был рыцарем в душе, посочувствовал старому бойцу и решил подарить ему новый шлем. На папином столе громоздился письменный прибор, который когда-то купил Джоннин прадедушка. На приборе возвышались могучие чернильницы синего стекла (в которых сейчас хранились канцелярские кнопки и скрепки). Медные крышки чернильниц были похожи на шишаки русских витязей. Джонни снял одну крышку и, вернувшись на подоконник, примерил ее на коленку.
Шлем оказался маловат. Если набекрень, то ничего, а если по-боевому, "на лоб", то никак не лезет. Это огорчило Джонни. Он со вздохом надел крышку на палец, поднял над головой и крутнул…
И тут его насторожило воспоминание.
Смутное воспоминание, размытое. Просто Джонни подумал, что где-то уже видел такую картину: шлем, надетый на жердь или тонкий столб. Где видел? Когда?
Почему-то вспоминалась тесовая крыша сарая, теплый вечерний запах травы, шепот неуклюжего Мишки Панина… Ага! Они играли в разведчиков! Джонни и Мишка лежали на крыше в засаде. Джонни обводил подслеповатым биноклем окрестности. В сдвоенный круг бинокля попадали деревья, заборы, ленивые куры, а противников не было. Проплыл в поле зрения покосившийся дом бабки Наташи, потом гряды на ее огороде… а над грядами…
Почему он сразу не сообразил? Ведь уже тогда мелькнула мысль: "Что-то не так… " Но, кажется, в тот миг завопил "ура" и скатился с крыши в траву Мишка. Начались крики, погоня — и все это до позднего вечера. Дома Джонни бухнулся в постель как подрубленный и наутро ничего не помнил…
Но сейчас-то он вспомнил!
Может быть, еще не поздно? Может быть, пока никто не обратил внимания?
Ох, какой он дурак, что обещал сидеть дома! Если бы заперли, можно было бы удрать из окна. Подумаешь, второй этаж! А честное слово покрепче всякого замка.
Что ж, когда нельзя уйти, остается звать друзей. Лучше всего Катьку. Наверно, она уже вернулась от дедушки.
Джонни прыгнул к столу, дернул ящик, отыскал там карандаш и листок, нацарапал крупно: "Катя! Приходи, есть дело".
Потом задумался. Весной такого письма хватило бы. Но прошли времена раннего знакомства, когда Катька прибегала по первому зову. Сейчас она могла фыркнуть и рассудить, что Джоннина дело подождет. Пришлось писать подробности…
Когда не следишь за почерком и ошибками, пишется быстро, и Джонни сам не заметил, как накатал целую страницу (правда, очень крупными буквами). Внизу он расписался: "Дж". Теперь надо было искать гонца.
Минут семь или восемь Джонни сидел на подоконнике и нервно хлопал по коленке сложенным в треугольник письмом. Ждал. Наконец повезло.
— Юрик! — обрадованно завопил Джонни. — Эй, Юрка-а!
Второклассник Молчанов ростом походил на дошкольника, но был сообразителен и достаточно смел. Он и Джонни познакомились еще в давние детсадовские времена и с той поры участвовали во многих славных делах. Тех самых, где Джонни выступал как полководец, а Молчанов как умелый и верный солдат.
Лучшего гонца и желать не надо.
Юрик на лету поймал письмо и заверил обожаемого командира, что доставит пакет без промедления. Ах, если бы каждый знал, что ждет его через несколько минут!
Юрика ждали Шпуня и его приятель Рудольф Капустин. То есть они не ждали специально, а просто оказались на пути, когда Юрик со скоростью кавалериста вылетел из-за угла Крепостной на Песчаную. Рудольф Капустин был толстоват и выглядел неповоротливым, но в самом деле отличался быстротой решений и поступков. Правда, не всегда его поступки были благородными, однако это уже другой разговор… Юрик не успел ни отвернуть, ни затормозить — Рудька моментально сгреб его в охапку.
— Юрочка! — обрадовался Шпуня. — Куда мы так спешим? Как поживает славный генерал Джонни? Носит ли под глазом большой красивый орден?
Юрик забился, как мышонок в когтях безжалостного ястреба, и пропищал:
— Пустите! Меня в магазин послали.
— Нехорошо обманывать старших. В магазин без денег не бегают, — заметил проницательный Шпуня.
В самом деле: в руках Юрик ничего не держал, а карманов на парусиновых шортиках не было.
— Может быть, денежки в этой бумажке? — поинтересовался Шпуня. Спрятанный на животе треугольник предательски просвечивал сквозь сетчатую майку.
Шпуня выдернул подол майки и подобрал упавшее письмо. Юрик обмер. Как он теперь покажется на глаза Джонни. Шпуня стал неторопливо разворачивать листок. Юрик рванулся и бесстрашно попытался трахнуть Шпуню ногой. Тот, ухмыляясь, отошел и прочитал:
— "Катя… " Ага, сердечное послание…
Юрик опять хотел вырваться, чтобы отобрать письмо или погибнуть в бою, но Рудольф сдавил его и прижал спиной к своему мягкому пузу.
— "Приходи, есть дело… " — отчетливо читал мерзкий Шпуня.
Юрик начал колотить Рудьку затылком в грудь и пятками но ногам. Но это было все равно что бить куриным перышком асфальтовый каток.
— "На огороде у бабки Наташи стоит пугало, — продолжал Шпуня. — На башке у пугала, по-моему, старинный шлем. Я точно видел. Бабка его, наверно, выкопала на грядах. Катька, если это настоящий шлем, знаешь, какой это клад! В сто раз лучше, чем жестянка с монетами! Можно его отдать в школьный музей. Музей сразу станет знаменитый. Катька, жми ко мне, потому что сам я никак не могу, засадили дома… "
Шпуня довольно хмыкнул и свернул письмо. Посмотрел на Молчанова, который уже не вырывался, а внимательно слушал. Сказал с удовольствием:
— Ты, Юрочка, передай своему Джонни, что пускай сидит спокойно. Мы справимся с этим делом без него и без Катьки… Рудик, отпусти ребенка…
Освобожденный Молчанов отскочил на несколько шагов, сказал с этого расстояния Шпуне и Капустину, кто они такие, и, всхлипывая, убежал.
Шпуня задумчиво уложил письмо в карман.
— Ну? — нетерпеливо сказал Рудольф Капустин.
— Дело интересное. Надо обдумать, — откликнулся Шпуня.
Рудька возразил, что надо не думать, а лезть в бабкин огород. Иначе Джонни успеет раньше.
— Он же сидит, — напомнил Шпуня.
— Ха! Ты что, не знаешь Джонни?
Этой фразой он склонил Шпуню к немедленным действиям.
Юрик Молчанов не убежал далеко. Он укрылся за ближним палисадником, чтобы не упустить Шпуню и Рудьку. Юрик понимал, что может заслужить прощение только одним способом: проследить за врагами и постараться сорвать их планы.
Враги свернули на Крепостную, и Юрик последовал за ними, прячась у заборов за кустами дикого укропа и репейника.
Домик бабки Наташи был очень стар и кособок, а забор — высок, хотя и непрочен. Юрик увидел, как Шпуня и Рудька несколько раз прошлись вдоль этого забора и остановились в наиболее удобном месте. Лезть в чужой огород среди ясного дня — дело отчаянное. Но если время не терпит, приходится идти на риск. Шпуня кряхтя подсадил Рудольфа, а тот, оказавшись на заборе, легко вздернул за собой Шпуню. И оба скрылись.
Юрик не стал карабкаться за ними. Он знал, где есть узкая, но вполне подходящая для него лазейка. Этот ход прокопал себе бабкин лопоухий пес Родька — шалопай и приятель всех окрестных мальчишек. Ребята про лазейку знали, а бабка нет. Родька ей не признавался, мальчишки — тем более.
Раздвинув лопухи, Юрик скользнул в тесный лаз, прокрался вдоль забора и притаился в кустах смородины. Тут же подскочил Родька, узнал своего, лизнул Юрика в нос и побежал по делам — гонять от миски с кашей нахального петуха Маргарина.
Юрик взглядом индейского разведчика окинул территорию. Двухметровое пугало в остроконечном шлеме косо торчало над грядами. Недалеко от пугала качалась помидорная зелень. Там, видимо, пробирались по-пластунски Шпуня и Рудька.
Юрик решил, что выждет момент и поднимет шум, а сам ускользнет. Бабка выскочит и заметит похитителей. Тогда им будет не до шлема.
Но бабка Наташа появилась на крыльце без всякого зова. Раньше срока. Повертела головой и стала искать что-то в карманах передника. Юрик понял, что шуметь сейчас опасно: Шпуня с Рудькой притихнут, а бабка кинется ловить его, Юрика.
Могла и поймать. Она была подвижная и крепкая старуха, сама вела свое хозяйство и никогда ничем не болела. Только глаза ее стали в последнее время слабеть. Бабка обзавелась двумя парами очков: одни для ближнего расстояния, другие для дали. Эти очки бабка носила в многочисленных карманах цветастого передника и часто теряла их и путала.
Шпуня и Рудольф не видели бабку. Они видели теперь только свою цель — старинный шишкастый шлем витязя. Достигнув подножия пугала, похитители вскочили. Тощий и легкий Шпуня запрыгал, пытаясь дотянуться до шлема. Но тот висел слишком высоко. Тогда Рудька ухватил пугало за дерюгу, и оно со скрипом легло на гряды.
— Эй! Что ли, есть там кто? — раздался громкий и ясный бабкин голос.
Шпуня с Рудькой подскочили, оглянулись и только сейчас заметили опасность. Рудька стремительно упал между грядами и заполнил своим грузным телом всю межу. Шпуне падать стало некуда. Он поджал ногу и раскинул руки, стараясь доказать, что пугало — вот оно, никуда не делось.
Пока бабка Наташа была без нужных очков, такая замена могла сойти. Шпуня стоял не дыша, хотя у него сразу зачесался нос, а старые трикотажные штаны стали сползать, потому что резинка была слабая. Шпуня с завистью думал о толстом Рудькином животе, но сделать вдох боялся.
На бабкином носу появились блестящие окуляры. Шпуня замер и услышал, как звенит кругом мирная летняя тишина. В этой тишине бабка сказала:
— Тьфу, будьте вы неладны… — Значит, стекла оказались не те. Но бабка энергично продолжила поиски и почти сразу вынула другие очки. Все мальчишки знали, что в своих дальномерах она четко видит до самого горизонта. Бабка водрузила очки на нос, и Шпунины нервы не выдержали. Он ринулся в бега.
Рудольф бросился за Шпуней, и они в один миг достигли забора — как раз там, где была тайная лазейка. Шпуня рассчитал, что с размаха проскочит узкую дыру. И проскочил бы. Но толстый Капустин надеяться на это не мог и решил рывком преодолеть забор. Когда Шпуня стремительно ввинтился в лаз, Рудька вскочил на нижнюю перекладину. Она крякнула, опустилась и припечатала Шпунину поясницу.
Рудька упал с забора на улицу, вскочил и помчался с быстротой, удивительной для столь упитанного школьника. Напрасно Шпуня сдавленно вопил ему вслед, умоляя о помощи. Капустин скрылся. Проклиная предательство, Шпуня задергался в ловушке. Но осевшая балка будто крепкой ладонью прижимала к земле похитителя исторических ценностей.
Юрик видел из укрытия, как дрыгаются и скребут но траве Шпунины ноги в выгоревших трикотажных штанинах. Увидел это и пес Родька. Подскочил и весело загавкал. Он, конечно, не хотел Шпуне вреда, а просто решил, что это игра, и радовался от души.
На шум подошла бабка Наташа. Она сменила дальномеры на очки ближнего прицела и некоторое время наблюдала за суетливым дерганьем ног. Потом через калитку вышла на улицу. Шпуня безнадежно затих. Бабка с любопытством осмотрела его "с фасада". Они встретились глазами и ничего не сказали друг другу. Бабка задубелой ладонью бесстрашно ухватила и выдернула у забора крапивный стебель. Помахала им и пошла к калитке. Шпуня проводил ее тоскливым взглядом. Потом слабо дернулся еще раз и стал ждать неизбежного.
Ждать пришлось долго. Бабка не спешила. Юрик видел из кустов, как она пошла в сарайчик и вынесла оттуда скамеечку, на которую обычно садилась, чтобы подоить козу Липу. Она протерла сиденье передником, принесла скамеечку к Шпуниным ногам, удобно села, положила на колени крапиву и аккуратно поддернула пышные рукава кофты.
Юрик, замерев, как лягушонок вблизи от цапли, и не мигая, смотрел на зловещие бабкины приготовления…
А Шпуня ничего этого не видел и не чуял. Ему казалось, что времени прошло очень много. Он даже стал глупо надеяться, что бабка по старости лет про него забыла, крапиву отдала на обед Липе, а сама занялась хозяйственными делами. И может быть, сейчас на улице появится кто-нибудь из приятелей, освободит Шпуню, и они пойдут искать подлого и вероломного Рудольфа Капустина…
В конце улицы показался мальчишка-велосипедист. Шпуня задрожал от радостного нетерпения. Но тут же опечалился. Это был не союзник и вообще не мальчишка, а Катька Зарецкая в шортах и майке.
Шпуня схватил валявшуюся рядом суковатую палку и взял ее на изготовку, как автомат.
Катя подъехала и очень удивилась:
— Шпуня! Ты что здесь делаешь?
Именно в этот горький миг Шпуня ощутил, как заскорузлые бабкины пальцы взялись за резинку его штанов.
— Ды-ды-ды… — сказал он, делая вид, что ведет огонь короткими очередями. — Ды-ды-ды-ды… Ды-дых…
Катькины ресницы распахнулись от изумления.
— Уходи, — быстро сказал ей Шпуня. — Мы в войну играем, не мешай.
— С кем ты играешь? — опять удивилась Катька.
Вместо ответа Шпуня вдруг выкатил глаза и часто задышал.
— Шпуня, что с тобой?
— Ранили, — плаксиво сказал Шпуня. — Из огнемета… Да уходи ты!
— Кто тебя ранил? Никого не видно.
Шпуня опять задышал, будто глотнул горячей липкой каши, и со стоном объяснил:
— По тылам бьет зараза, из укрытия… Ой, ой, ой… Ну, уходи же скорее, ты меня демаскируешь! Человек в засаде, а она…
Катя пожала плечами и уехала, не оглянувшись на ненормального Шпанькова, который, видимо, совсем поглупел за каникулы…
Бабка тем временем отбросила измочаленный крапивный стебель, встала, ухватила крепкими руками перекладину и, кряхтя, приподняла ее.
Шпуня вылетел из лазейки, как… Можно сказать, как стрела, как пробка из бутылки, как ракета, как пуля. Но, пожалуй, он вылетел, как все это вместе взятое. И понесся, натягивая штаны почти до подмышек.
Бабка Наташа погрозила Родьке и понесла в сарай скамеечку. Юрик тихо подождал, когда она скроется. Потом проверил перекладину: не осядет ли опять? — и скользнул на улицу. Там он увидел Катю, которая возвращалась на велосипеде из магазина.
Юрик остановил ее и про все рассказал.
В ожидании Кати Джонни мечтал. Он закрывал глаза и представлял совсем как наяву, будто держит на коленях тяжелый, черный, рябой от старости шлем, с которого сыплются чешуйки ржавчины…
Вот это будет новость! На весь город. Надо попросить Серегу Волошина, чтобы написал в газету заметку. "Историческая находка школьника Евгения Воробьева…" Придется, конечно, ради справедливости и бабку Наташу упомянуть. И обязательно Катю… А Катни двоюродный брат Тимофей пусть сделает снимок для газеты. С подписью…
В музее надо повесить под шлемом подробную надпись: кто нашел шлем и когда. После этого ни Шпунин синяк, ни история в парке не смогут ни капельки повредить Джонниному авторитету.
Тут Джонни одернул себя: надо прежде всего думать не о личных целях, а о научной пользе. Но о личных целях все равно думалось: "Придется перед газетной съемкой припудрить синяк, а то Шпуня будет всем показывать снимок и хвастать: это я ему вделал… И хорошо бы сняться прямо в шлеме… "
Джонни размечтался так, что не заметил, как Юрик и Катя перебежали улицу и проскочили во двор.
Их пустили к Джонни беспрепятственно. Хотя он и сидел под домашним арестом, на свидания с друзьями запрета не было.
Перебивая друг друга и веселясь. Катя и Юрик поведали Джонни, как был наказан Шпуня за свою вредность и коварство.
Но Джонни не стал радоваться. Гордая Джоннина душа содрогнулась, когда он представил, какое поругание достоинства и чести выпало на долю его несчастного недруга.
— Чего смешного… — хмуро сказал он.
Катя, у которой был все же не такой рыцарский характер, заспорила. Шпуня, мол, сам виноват и получил, сколько заработал. Но Джонни сухо заметил, что есть вещи, которые нельзя желать даже врагу. И сделал строгий выговор Молчанову за то, что он не попытался освободить попавшего в ловушку противника.
Катя надулась, а Юрик нет, потому что безоговорочно верил Джонни. Он виновато отошел в сторону — обдумать недавние события и рассмотреть их с новой точки зрения.
Джонни покосился на сердитую Катьку и деловито сказал:
— Теперь надо срочно разработать операцию "Шлем витязя".
Катя хихикнула:
— Вляпаешься, как Шпуня, бабка устроит тебе операцию…
— А что делать?
— Да очень просто. Пойти к ней по-хорошему и спросить, где нашла шлем и не отдаст ли для музея.
Это был не такой романтичный, но, пожалуй, самый правильный вариант. Иначе что может выйти? Бабка прочитает в газете о находке и не обрадуется, а по вредности характера подымет крик: стащили нужную вещь с огорода. Разве ей докажешь, что исторические ценности — общее достояние?
— Думаешь, бабка отдаст? — усомнился Джонни.
— А зачем он ей? На чучело можно что-нибудь другое приспособить.
— У меня ржавая немецкая каска есть, — подал голос Юрик. — Я ее у ручья откопал. Для пугала в самый раз.
И Джонни с благодарностью подумал, что для газеты надо будет сфотографировать и Молчанова.
Но тут же он опять забеспокоился:
— А бабка нас послушает? Она толком никого не помнит, подумает, что мы вроде Шпуни…
— С Викой пойдем, — сказала Катя. — Вику-то она знает.
Это было хорошо придумано. Восьмиклассница Вика иногда помогала бабке Наташе по хозяйству и пользовалась у нее полным доверием. Однако Джонни опять огорчился:
— Вы-то пойдете. А я должен сидеть.
— Отпросись. Думаешь, не отпустят?
Джонни вздохнул. Он знал, что отпустят, если очень попросить. Но просить — значит унижаться.
И все же дело есть дело. Джонни пошел к отцу.
— Папа, — сказал он, стараясь не терять независимого вида, — я не хотел об этом говорить, но у меня очень важная причина…
— Я понял, — сказал отец. — Проси прощения и убирайся.
Это был не выход. Опечаленный Джонни объяснил:
— Не могу я, папа. Я попросил бы, если виноват. А как, если я прав…
— Тогда сиди, — рассудил отец. — Страдай за правду.
Джонни застонал в душе, но сохранил внешнюю сдержанность. Подумал и предложил:
— Я мог бы дострадать позже. Завтра или послезавтра. Какая разница?
— Гм… — сказал отец и задумался.
Джонни осторожно проговорил:
— В конце концов, даже преступников иногда отпускают под честное слово. Помнишь, мы итальянский фильм смотрели? Там у одного свадьба была, и его на день выпустили из тюрьмы…
Отец с интересом взглянул на единственного сына:
— А что, у тебя уже свадьба?
— Да в тыщу раз важнее?
— В таком случае иди, — смилостивился отец. — Но имей в виду: отсидишь не позднее чем через три дня.
Они отыскали Вику и объяснили, в чем дело. Вика сказала, что все это — Джоннина очередная фантазия и таких фантазий она слышала от него множество. Взять хотя бы историю с допотопным крокодилом, который будто бы завелся в ручье. Или случай с инопланетным кораблем, который сел на пустырь за стадионом! С ума сойти…
Но Джонни был Викин друг, и к бабке Наташе они пошли вместе. Позади всех шагал Юрик в громадной треснувшей каске. Он был в ней похож на тонкий несъедобный гриб…
Бабка Наташа встретила гостей во дворе. Вику она любила. поэтому и к спутникам ее отнеслась приветливо.
— Вот и ладно, что навестили. Как раз варенье клубничное свеженькое, чаек будем пить… Родька, брысь, не пыли хвостом!.. Вот это гости так гости. А то нонче один через забор пожаловал, так я его проводила по-своему… заходите в дом…
В тесной комнатке она принялась всех рассаживать за столом.
— Ты, детка, вон туда лезь, в уголок. Маленький, проберешься. А железяку пока под стул затолкай… Да знаю, что каска, насмотрелася на их в свое время… Ты с Викушкой вот тут садись, а ты, мальчик, туда…
— Это не мальчик, а Катя, — уточнил Джонни.
— Ну и ладно, что Катя, теперь не разберешь. Все в штанах, и волосы одинаково стриженые…
У Кати и правда прическа была как у Джонни, только кудряшки темные.
— Да я ничего, — продолжала бабка, — я не против нонешней моды. Пущай кто как хочет, так и одевается, лишь бы люди-то были добрые, не проходимцы всякие. А то сегодня пришли двое, сами в галстуках да в шляпах соломенных, а глаза-то жуликоватые. Даже Родька загавкал не по-хорошему…
Оказалось, что недавно к бабке приходили два дядьки. Они упрашивали подписать бумагу, что она, Кошкина Наталья Федосьевна, согласна получить новую однокомнатную благоустроенную квартиру, а дом ее пускай сносят. Соседние владельцы, мол, уже согласились. На будущий год место здесь выровняют и построят кооперативный гараж…
— Еще чего! — взвился над стулом Джонни и на миг даже забыл про шлем. — Мало им нашей площадки!
— Баба Ната, не соглашайтесь, — обеспокоенно сказала Вика. — Они не имеют права, здесь зеленая зона. И места исторические.
— Я сама знаю, что исторические. У в этом доме еще моя бабка жила, она его у вдовы Полуархиповой сама купила… А этим лишь бы поближе к центру. Весь город задымили окаянными своими "жигулями".
— Вы бы их гнали отсюда, как Шпуню, — посоветовала Катя.
— Я и то… Говорю: "Что мне квартира? У моей внучки с мужем в Москве квартира трехкомнатная, они меня к себе чуть не силком тянули: "Правнучек годовалый Димочка по вас, бабушка, так скучает". А я все равно не могу. Липу я куда дену? Да и Родьку бестолкового жалко, беспризорный останется. Так я этим с бумагой и сказала: "Покуда жива, от своего огорода не стронусь… " А они знаете что? С виду культурные, а говорят: "Вы же, бабушка, еще совсем крепкая, сколько ждать-то? " Тут уж Родька совсем лаем зашелся, они бумагу схватили да со двора…
Когда бабка закончила рассказ, Джонни постарался направить разговор в нужную сторону:
— Наталья Федосьевна, вы говорили, что дом у вас исторический. Может, здесь и вещи какие-нибудь находились исторические, не только ваша бабушка?
Бабка Наташа замигала, а Вика хихикнула и сказала в упор:
— Баба Ната, он вот про что: будто на вашем пугале старинный шлем висит, какие раньше у богатырей были.
Бабка снова замигала, соображая, и вдруг затряслась от мелкого смеха:
— Да не-е… Какие там богатыри. Это ступка. Шляпу-то с чучелы ветром сшибает, а ступка, она тяжелая, вот я ее и приспособила…
Это был удар. И по Джонниным планам, и по его самолюбию. Уши у Джонни загорелись, как стоп-сигналы, а кудрявая голова поникла.
Катя его пожалела.
— Что-то не похоже, — сказала она. — Ступки не такие, у них донышки широкие.
— Эта ступка особенная, — возразила бабка Наташа. — Она вроде бокала была, а потом ножка у нее поломалась… Это еще бабушки моей имущество. Бабка-то Катерина Никитишна, царство ей небесное, знаменитая была на всю округу, травами людей лечила. А в этой ступке она, значит, всякие корешки да цветочки толкла, чтобы лекарства варить…
Джонни поднял голову.
— Все-таки вещь старинная, — сказал он неуверенно. — Может, сгодится для музея? А на пугало мы каску наденем…
— Это можно, — охотно согласилась бабка Наташа. — Каска, она даже больше соответствует…
Все, кроме Вики, пошли в огород и "обезглавили" пугало. Джонни с печальным вздохом взял в руки то, что недавно считал шлемом витязя. Это была чугунная посудина. По форме она очень походила на фужер, у которого на папином дне рождения Джонни случайно перешиб ножку.
Пугало увенчали каской и вернулись в дом. Свой малоценный трофей Джонни положил в сенях на лавке.
Вика уже поставила на стол чашки и солидную плошку с вареньем. Теперь она, сидя у окна, листала растрепанную большую книгу. Джонни хмуро глянул через Викино плечо. Она смотрела подшивку древнего журнала. Журнал назывался "Нива". Это было написано сверху листа завитушечными буквами, вокруг которых заплетались цветы и прыгали совершенно голые толстые мальчишки. Они что-то поливали из лейки. Видимо, эту самую ниву. На всей странице пестрели объявления и надписи со старинными "ятями", твердыми знаками и другими старорежимными буквами. А внизу был напечатан портрет круглощекого мужчины с громадными черными усами.
Усы лихо загибались вверх. Рядом с портретом стояли слова:
ПЕРУИН-ПЕТО
Продираясь через "яти", Джонни прочитал: "Бесподобное, наилучшее и вернейшее средство для рощения волос. У кого едва видны мелкие волосы, скоро развивается пышная борода и роскошные, щегольские усы… "
Джонни вздохнул. Усы его не интересовали, а слова "Перуин-Пето" вызвали в голове печальные стишки:
Перуин-Пето, А шлема нету… Перуин-Пето, А шлема нету…Сели пить чай. С горя Джонни подцепил полную ложку варенья и осторожно потянул над скатертью.
— Не жадничал бы ты, — прошептала Вика. — И сядь как следует.
Джонни (он сидел боком) подтянул ноги, чтобы сунуть под стол, и уронил с ложки на колено крупную каплю. Он ловко подцепил ее пальцем и почему-то вспомнил про лысину.
Вот бы ругался старый рыцарь, если бы на макушку ему плюхнулась такая жидкая лепеха! Ведь шлема-то нету…
Шлема-то нету… Перуин — Пето…"Ой-ей-ей, — словно кто-то шепотом сказал внутри Джонни. — Ой-ей-ей, товарищи… " Это рождалась в нем новая блестящая идея…
С минуту Джонни сидел, одеревенев и тупо глядя перед собой. Катя наконец спросила:
— Что с тобой?
Джонни прошептал.
— Как ты думаешь, бабушка бабки… то есть Натальи Федосьевны от всех болезней лечила?
Катя пожала плечами, а Вика сказала вполголоса:
— Джонни, опомнись. Она же знахарка была. Наверно, совсем неграмотная.
Бабка Наташа, видно, уловила суть разговора. Но не обиделась. Она с достоинством сказала:
— Бабушка моя Катерина Никитишна была ученая. Даже по-французски знала. Всяким другим ученым письма писала. потому что травами лечить — это ведь тоже по науке надо.
— А от лысости она лечила? — нетерпеливо спросил Джонни.
— Чего-чего?
— Я в журнале прочитал про лекарство, чтоб усы отращивать. А может, было и такое, чтоб на лысине волосы появились?
— Джонни, ты что опять придумал? — с беспокойством прошептала Вика. Но бабка встретила Джоннин вопрос полным пониманием. Она разъяснила, что у Катерины Никитишны были средства от всех человеческих недугов (только от слабости зрения не было). Можно проверить. Книга с рецептами сохранилась до сих пор. Люди предлагали за нее бабке Наташе крупные деньги, только она не отдала. Мало ли что. Вдруг заболеет на старости лет, вот старинные рецепты и пригодятся.
— Джонни… — строго начала Вика, едва бабка вышла.
Но он сердитым шепотом сказал:
— Да подожди ты… Я, может, сделаю счастливыми двух человек.
Джонни слегка кривил душой. Он хотел сделать счастливыми троих: Веру, Валентина Эдуардовича и себя. Потому что, если Вера уедет с мужем в Москву и навсегда избавит Джонни от своей педагогики, разве это не будет счастьем?
Бабка Наташа вернулась с пухлой книгой, похожей на конторскую. Внутри книги на разлинованных желтых страницах были наклеены листочки с непонятными надписями, вырезки из газет и бумажные ленты со словами на иностранном языке.
— Ничего не понятно, — огорчился маленький Юрик. Джонни сердито засопел и сказал Вике, чтобы листала до конца.
Не зря сказал! В середине книги он увидел знакомое объявление с Перуином-Пето. Оно было наклеено в верхнем углу, а ниже — тонкий лист. Видимо, письмо. Его напечатали в давние годы на старинной машинке — тоже с "ятями" и множеством твердых знаков.
Взволнованным шепотом Джонни стал читать:
"Сударыня!
В ответ на Ваше любезнейшее письмо с ценными для меня советами посылаю Вам рецепт надежнейшего средства от облысения. Средство это разработано на основе знаменитого «Перуин-Пето», но действует во много раз сильнее. Посему опасайтесь, сударыня, касаться им незащищенных поверхностей кожи. Действие жидкости таково, что она через сутки вызывает произрастание волос даже на тех местах, где ранее они никогда не росли.
Рекомендуйте Вашим пациентам смазанный участок кожи укрыть и держать в тепле до появления первых признаков растительности.
Не сомневаясь в Вашей порядочности, сударыня, выражаю твердую надежду, что оный рецепт будете Вы содержать в полной тайне.
С совершенным почтением… "
Далее стоял витиеватый росчерк, а под ним порыжевшими чернилами были написаны столбиком непонятные слова. Иностранными буквами.
— По-английски, что ли? — пробормотал Джонни.
— По-латыни, — сказала Вика. — Интересно, кто это разберет?
— Давай перепишем, — сказала Катя.
— Господи, зачем?
— Знаю зачем. Давай, — повторила Катя, и Джонни взглянул на нее с благодарностью и надеждой.
— Есть человек, он разбирается, — объяснила Катя.
Вика пожала плечами и спросила:
— Баба Ната, можно переписать?
Бабка Наташа сказала, что для хороших людей ничего не жаль. Дала кусок оберточной бумаги, а у Кати в кармашке нашелся карандашик.
На всякий случай Джонни попросил Вику переписать все: и латинский рецепт, и письмо.
Пока Вика, ворча, занималась "этой бредятиной", Катя рассказала, что в ее доме живет Вова Шестопалов, которого зовут Алхимик. Он очень умный, разбирается во всяких веществах и ставит разные опыты. Еще в первом классе он изготовил из бритвенного крема, тертой селедки и черной туши искусственную осетровую икру, которую охотно ели все соседские кошки и сам Вовка. Наверно, ели бы и другие, но случайно на тюбик с икрой сел Вовкин папа. Он был в белых брюках, и опыт пришлось прекратить.
Потом Вовка два раза взрывался во время опытов, но научных занятий не оставил. Он очень умный…
Джонни слушал это внимательно и с некоторой ревностью. В последних словах Кати он уловил излишнее восхищение и спросил:
— Если он такой умный, зачем взрывался?
Но Катя объяснила, что это было давно, а теперь Алхимик достиг больших успехов и даже на отрядном сборе показывал научные фокусы.
Вика оторвалась от переписки. Она сказала:
— Чтобы опыты делать, надо химию знать. Ее с седьмого класса учат. А Вовка твой в котором?
Катя сообщила, что Алхимик перешел в пятый, но советоваться но химическим вопросам к нему ходят даже восьмиклассники.
— Хорошего конца у этой истории не будет, — уверенно произнесла Вика.
И все же отдала Джонни бумагу с рецептом.
Когда попрощались с бабкой Наташей и вышли в сени, Юрик напомнил:
— А ступка? Возьмем?
— Да ну ее к лешему, — сказал Джонни.
У Кати Зарецкой имелись три недостатка. Во-первых, она была дочкой Джонниной учительницы Инны Матвеевны. Во-вторых, она имела привычку ни с того ни с сего фыркать и обижаться. В-третьих, она ни в чем не хотела уступать Джонни.
Первый недостаток исчез, когда Джонни перешел в четвертый класс. Ко второму Джонни привык, потому что понял: обижается Катька не всерьез и не надолго. Минут пять дуется, потом глянет синими глазами — и будто ничего не случилось.
С третьим недостатком было труднее. Джонни, когда мог, сам по-рыцарски уступал Катькиным капризам, но не всегда была такая возможность.
Вот и сейчас. Велосипед был один, и Катька заявила, что станет крутить педали, а Джонни поедет на багажнике.
Джонни деликатно напомнил Катьке, что она все-таки девочка. А он все-таки мальчик и должен трудную часть работы взять на себя.
Катя в свою очередь напомнила, что велосипед-то принадлежит ей, девочке, а если некоторые мальчики хотят распоряжаться, пусть ездят на своих.
Джонни вежливо сказал, что с такими мыслями лучше жить за границей, где частная собственность.
Катька сказала, что если Джонни такой умный, не лучше ли ему одному идти к Вовке Шестопалову. И намекнула, что с незнакомыми людьми Вова разговаривает неохотно.
Джонни объяснил, что из-за ее, Катькиной, дурости и вредности пострадает не он, а два совсем невиновных человека: Валентин Эдуардович и Вера Сергеевна, у которых не получится семейное счастье.
Тогда Катя дала покататься на велосипеде обалдевшему от счастья Молчанову, а сама пошла с Джонни пешком.
Вовы Шестопалова дома не оказалось. Пришлось им два часа сидеть у Кати, смотреть передачу "Для тех, кому за тридцать" и беседовать с Инной Матвеевной, которая с грустью вспоминала свой бывший третий "А" и уверяла, что такого замечательного класса у нее уже не будет.
Алхимик появился дома под вечер.
Джонни думал, что Вовка Шестопалов — худенький мальчик в очках, похожий на вежливого отличника, но оказалось, что это крупный скуластый парнишка с желтыми нахальными глазами. Очки, правда, были, но не обычные, а защитные, из пластмассы. Возможно, Вовка готовился к опасному опыту и надел их, чтобы поберечь глаза.
— Чего пришли? — спросил Вовка не так любезно, как хотелось бы.
Катя протянула листок.
— Сделаешь?
Видимо, она знала, как разговаривать с Алхимиком.
Вовка молча провел их в комнату с громадным столом. Стол был заставлен всякими склянками и пробирками, завален прозрачными трубками и разноцветными пакетами. Горела спиртовка, а над ней в стеклянном пузыре булькала оранжевая жижа.
Алхимик оставил гостей у порога, сел к столу, сосредоточенно прочитал рецепт. Что-то несколько раз подчеркнул в нем. Встал на табурет и выволок с полки пухлую книгу, похожую на словарь. Деловито перелистал. В пузыре ухнуло, и над узким горлышком появился желтый дым, но Вовка не обернулся. Он шевелил губами. Наконец он шумно захлопнул книгу (в пузыре опять ухнуло) и произнес:
— Сернистого калия маловато… Ну, фиг с ним, попробуем.
— Вовочка, неужели сделаешь?! — возликовала Катя.
Это "Вовочка" неприятно кольнуло Джонни, однако надо было терпеть.
— Сделать можно, — сказал Вовка. — Только надо знать зачем.
— Тебе, что ли, не все равно? — неосторожно отозвался Джонни.
Шестопалов посмотрел на него в упор и жестко разъяснил, что за свою продукцию отвечает головой.
— Может, вы на пляже будете купальщикам пятки мазать. А я потом отдувайся?
Катя и Джонни заверили, что никогда не вынашивали столь бесчеловечных планов. Просто у Джонни есть знакомый, у которого из-за лысины висит на волоске (на единственном!) личное счастье.
Вовка смягчился, но спросил:
— А рецепт откуда?
Рассказали про бабку Наташу, про бабкину бабку Катерину Никитишну, про ее книгу. Между делом упомянули в разговоре про ступку.
Ступка почему-то Алхимика заинтересовала:
— Она где?
— Да оставили там…
— Тащите, — распорядился Вовка.
— Зачем? — недовольно спросил Джонни.
— Для дела, — объяснил Шестопалов. — Древние лекари, они не дураки были, у них все было рассчитано. Может, в этой ступке отложения всяких веществ. Они положительно влияют на реакцию. Слыхали такое слово — "катализатор"?
Джонни такого слова не слыхал и сказал, что в ступке только отложения ржавчины. И подставка отбита.
Вовка разъяснил, что ржавчину он уберет, а ступку зажмет в слесарных тисках. От дальнейшей беседы он отказался. Дал понять, что если будет ступка, будет и лекарство. А если нет — до свидания.
Пришлось бежать к бабке Наташе.
— Мы ваш подарок забыли. Можно забрать?
Но ступки в сенях не было.
— Куда же она, окаянная, запропастилась-то? — расстроилась бабка. — Я ее с той поры и не видала… Неужто этот охломон унес?
— Какой?! — разом воскликнули Джонни и Катя.
— Да звала я тут одного… Чтобы помог, значит… — почему-то смутилась бабка.
— А как он выглядит? Может, помните? — без большой надежды спросила Катя.
— Где упомнишь-то… Худущий такой, волосы из-под шапки белобрысые торчат во все стороны… А шапку помню, она с козырьком вот таким большущим…
— Это же Шпуня! — воскликнула Катя. — Тот самый, которого вы…
Джонни дернул ее за руку. Зачем лишние слова, когда все ясно.
Весь день Шпуня испытывал жгучие чувства. Самым жгучим было желание отомстить бабке Наташе за обиду. И он задумал хитрую месть.
Напротив бабкиных ворот стояла будка с гладкими цементными стенками. Раньше в ней продавали керосин, а сейчас она была закрыта. На серой стене рядом с железной дверью Шпуня решил нарисовать бабку Наташу в образе отвратительной ведьмы.
Рисовать Шпуня умел. Он запасся цветными мелками и отправился выполнять свой опасный замысел. На всякий случай Шпуня изменил внешность: вместо ненадежных трикотажных штанов надел прочный джинсовый комбинезон, а на голову — круглую кепочку с козырьком в двадцать сантиметров. Козырек замечательно прятал в тени лицо. Среди мальчишек эта кепка была знаменита, но Шпуня боялся не ребят, а бабки.
На тихой улице было пусто. Шпуня приступил к работе. Он изобразил бабку верхом на помеле, в драной развевающейся юбке, лохматую, с крючковатым носом и громадными отвратительными ушами. На носу сидели две пары очков…
Сходство было так себе, приблизительное, но Шпуня не огорчился. Он решил, что для ясности дополнит портрет надписью, а пока стал рисовать людоедские клыки, которые торчали из бабкиного рта.
Когда к художнику приходит вдохновение, он не видит и не слышит ничего кругом. Шпуня забыл про бдительность… И кто-то ухватил его за лямки!
Шпуня оглянулся, пискнул и уронил мел.
— Рисуешь, значит… — сказала бабка Наташа. — Вот и ладно. Пошли.
Пленник слабо заупрямился. Но бабка была крепкая, а Шпуня обмяк от неожиданного ужаса.
— Идем, идем, дело есть… — сказала бабка и повлекла добычу к своей калитке.
— Это не я! — заголосил Шпуня. — Не имеете права!… Я больше не буду! Меня и так…
Он попробовал присесть, но бабка Наташа приподняла его, как хозяйственную сумку, тряхнула и проговорила:
— Коли рисовать умеешь, значит, и писать можешь. А мне как раз писарь нужен. Чтоб, значит, писал по нонешней грамматике…
Шпуня наконец сообразил, что бабка его, кажется, не узнала. И себя на портрете не узнала тоже. Тут что-то другое…
Так оно и было.
После того как Вика, Джонни, Катя и Юрик ушли, почти сразу к бабке пожаловали вчерашние гости — с той же бумагой насчет сноса. Бабка взялась за швабру, а когда посетители убрались, она решила действовать активно. Вышла на улицу, чтобы найти кого-нибудь пограмотнее, изловила Шпуню и доставила в дом.
— Я говорить буду, а ты пиши. Без ошибок-то умеешь? — Она вынула из пыльного буфета чернильницу-непроливашку и дала Шпуне толстую ручку-вставочку со ржавым пером. Положила серый листок.
— Садись давай к столу.
— Ага, "садись". — с горькой ноткой сказал Шпуня и встал на табуретку коленями.
— Пиши, значит… "В городской совет от гражданки Кошкиной Натальи Федосьевны… "
И бабка продиктовала грозное заявление, в котором говорилось, что дом свой она, гражданка Кошкина одна тыща девятьсот одиннадцатого году рождения, сносить не даст и никуда отседова не поедет, потому как для гаражей есть специальные места, а здесь живут пожилые люди и играют пионеры и школьники, которым нужны свежий воздух и зелень.
Вспомнив о бабкиной зелени, Шпуня передернулся и поставил кляксу. Под этой кляксой бабка вывела свою корявую подпись и пошла на кухню, чтобы принести скороспелое яблочко и одарить грамотного помощника. Шпуня, однако, не стал ждать награды и выскользнул в сени.
Здесь он увидел шлем.
Джонни встретился со Шпуней один на один. Пришел к нему домой и спросил:
— Шпуня, ты стянул эту штуку?
— Ха, — сказал Шпуня, стоя на пороге. — Докажи.
— Зря старался. Это не шлем, — объяснил Джонни.
— Врешь.
— Честное слово, — печально сказал Джонни.
Шпуня задумался.
— Ну и что? — спросил он наконец.
Скрутив в себе гордость, Джонни мягко проговорил:
— Слушай, отдай ее мне. Пожалуйста. Это старая сломанная ступка. Зачем она тебе?
— А тебе? — язвительно поинтересовался Шпуня.
— Мне — до зарезу, — признался Джонни. — А тебе она все равно ни к чему.
— Главное, что она тебе "к чему", — рассудительно заметил Шпуня. — Чего ж я буду ее отдавать? Разве мы с тобой друзья-приятели?
Это была удивительно здравая мысль: сделать пользу врагу — значит сделать вред себе.
Джонни понял, что не разбудит в Викторе Шпанькове ни благородства, ни сочувствия. Все было кончено.
— Эх ты, Шпуня ты и есть Шпуня, — презрительно сказал Джонни. Тот грозно прищурился, но Джонни продолжал: — Если бы я захотел, ты бы эту ступку сам ко мне домой притащил…
— Ха! Как это?
— Очень просто. Я бы сказал: "Шпуня, тащи. Или всем расскажу, как ты вляпался бабке в капкан, когда лазил за шлемом. Вот потеха!.. "
У Шпуни округлились глаза и отвисла губа. Джонни усмехнулся:
— Думаешь, никто не видел? Юрка Молчанов не дурак, он выследил. И Катька знает… Но ты не дрожи, Шпуня, мы никому не скажем, хоть ты и… Ну ладно. Это ты на нашем месте всем бы начал звонить, а мы не такие. Спи спокойно, Шпуня…
Гордый и печальный Джонни ушел домой, размышляя о том, из-за каких пустяков ломается порой человеческая судьба. Он хотел уже ложиться спать, когда мама сказала:
— Там к тебе какой-то мальчик пришел. Опять у вас приключения на ночь глядя?
Джонни выскочил в коридор.
Шпуня, отведя в сторону глаза, протянул ему тяжелый газетный сверток в авоське.
— Шпуня… — проговорил Джонни. — Витька, ты это… Спасибо.
— Сетку давай обратно, — угрюмо сказал Шпуня.
Катя не спала. Она не удивилась, что взмыленный Джонни примчался к ней за час до полуночи. Инна Матвеевна тоже не удивилась: за три года она привыкла к характеру своего ученика Жени Воробьева. Немного удивилась Вовкина мама, когда Джонни и Катя затрезвонили в квартиру Шестопаловых. Она покачала головой, но ничего не сказала и пошла звать своего знаменитого сына.
Алхимик появился, поддергивая трусы и зевая.
— Рехнулись? Вы бы еще в три часа ночи…
Но тут он заметил ступку и замолчал.
— Вот, — сказал Джонни, протягивая посудину.
Вовка с почтением взял увесистый ржавый сосуд, покачал в ладонях.
— Ничего, — с удовольствием пробормотал он.
— Мы знаешь как торопились! — объяснил Джонни. — Этот человек уезжает через два дня. Надо успеть.
— Два дня — это плохо, — сказал Вовка. — Это в обрез… Тут работы невпроворот, да еще испытания не меньше суток…
— Вовочка… — жалобно начала Катя (Джонни слегка поморщился). — Вовочка, а может быть, ты прямо сейчас начнешь работать? Чтобы не терять ни часика…
— А спать за меня будет Пушкин?
— Вовочка… Ну, ты же ученый. Ученые ради науки… они даже на костер шли!
— Идите вы сами на костер, — бесчувственно отрезал Вовка, но вдруг поморгал и спросил: — А ступка эта… Вы ее только на время даете? Или…
Джонни горячо заверил Алхимика, что замечательная ценная историческая ступка дарится ему на веки вечные.
— Ну ладно, — смягчился Вовка. — Завтра наведайтесь…
Наведываться не пришлось. Джонни еще спал, когда примчалась Катя.
— Готово!
Джонни взлетел с постели.
— Принесла?
— Нет. Оно в холодильнике остывает. Вовка сказал, что через полчаса можно забрать… Давай скорее, а то он заляжет спать, не достучимся!
Через минуту ранние прохожие вздрагивали и смотрели, как два курчавых мальчишки-велосипедиста летят, не разбирая дороги и пугая кур.
В конце Песчаной улицы, где начинались кварталы новых домов, светловолосый велосипедист хотел на скорости перескочить канаву и полетел в траву…
Джонни поднялся, качая головой. Катька подскочила и деловито ощупала его голову, руки и ноги. Она считала себя великим медиком.
— Да все в порядке, — нетерпеливо сказал Джонни.
— Не все, — возразила Катя. — Вон на коленке…
— Да это старая царапина!
— Я не про царапину. Вот здесь кожа чуть-чуть соскоблена.
— Да чуть-чуть же!
— Все равно. Если верхний слой кожи разрушен, могут проникнуть микробы и начнется воспаление… Придем к Вовке — продезинфицируем…
Джонни думал увидеть Вовку заспанным и хмурым, но Алхимик был весел и бодр — как истинный ученый, завершивший удачные опыты.
— Сейчас принесу. Хватит на дюжину лысых, — пообещал Вовка.
Но Катя, строго сказала:
— Постой. У тебя есть перекись водорода? Джонни коленку сбил.
Вовка пригляделся, пожал плечами, но ответил:
— Пожалуйста. У меня даже получше есть.
Он зачем-то притащил ком ваты, рулон бинта и плоский зеленый флакон. Скрутил ватный шиш и пропитал жидкостью из флакона.
— Давай ногу.
Джонни, привыкший уступать Катьке в мелочах (чтобы не уступать в серьезных вопросах), послушно поставил ногу на табурет.
У жидкости был странный, но приятный запах. Она холодила кожу.
— Все, — сказал Вовка, старательно помазав коленку. — Теперь надо забинтовать.
Тут уж Джонни вскипел:
— Да вы что, сумасшедшие оба? Даже не поцарапано, а вы…
— Надо сутки в тепле держать, — объяснил Вовка. — Там же сказано.
— Что сказано? Где?
— Здесь. — Алхимик взял со стола знакомый лист. — Вот… "Смазанный участок кожи укрыть и держать в тепле до появления первых признаков растительности… "
У Джонни захолодело в желудке.
— Ты что? — спросил он слабым голосом. — Ты мне… этой дрянью мазал?
Он хотел торопливо стереть Вовкино снадобье ладошкой, но тот поймал его за руку.
— Не вздумай! Тогда и на ладони волосы полезут. Да и бесполезно, уже впиталось…
Джонни посмотрел на Вовку в упор неприятным взглядом.
— Проверить-то надо, — хладнокровно объяснил Алхимик — Я за свою продукцию отвечаю.
— Ну и проверял бы на себе, дубина! — взвизгнул Джонни. — Мазал бы себе хоть… — он быстро взглянул на Катю, — хоть поясницу!
— Я, значит, делай, я мажь, я испытывай, — возразил Вовка. — Всю работу один. Я вам кто? Лошадь?
— Ты не лошадь. Ты осел, — печально возразил Джонни. — Как я теперь буду с волосатой коленкой?
Алхимик пожал плечами.
— Брить будешь, пока лето. А зимой все равно не видать. Даже теплее… По крайней мере, не будет ревматизма коленной чашечки.
В последних словах Джонни уловил издевательскую нотку и молча врезал коварному Алхимику по скуле. Вернее, хотел врезать. Вовка тоже был не промах, он защитился и двинул Джонни в плечо. Тот не устоял, но, падая, ухватил Вовку за ногу. Колбы на столе подпрыгнули и задребезжали…
Катя взяла с подоконника большую кастрюлю, тщательно понюхала содержимое, убедилась, что там вода, и аккуратно вылила ее на сцепившихся противников.
Джонни и Вовка, фыркая, разлетелись по углам комнаты. Вовка осторожно держался за нос, и это слегка примирило Джонни с действительностью.
— Я в общем-то и не хотел на тебе испытывать, — примирительно объяснил Вовка. — Я хотел помазать соседского кота, у него плешь от лишая. А ты сам, как нарочно, со своей коленкой…
— Джонни, — ласково позвала Катя. — Если уж Вовка сделал лекарство от облысения, то лекарство наоборот он еще легче сделает.
— Запросто!.. Со временем, — откликнулся Вовка.
— Давай бутылку, — хмуро сказал Джонни.
Вовка очень осторожно отлил половину жидкости из флакона в пузырек поменьше.
— Кое-что оставлю. Для кота… А ногу-то давай забинтуем. Всякий опыт надо доводить до конца.
Тугой бинт мешал сгибать ногу и крутить педали. Джонни и Катя пошли пешком, а велосипеды вели "под уздцы". Теперь Джонни размышлял спокойнее и находил, что у случившегося есть две стороны. Конечно, будут лишние хлопоты с бритьем, но в то же время он, Джонни Воробьев, станет единственным в мире человеком, у которого на коленке растут волосы. А быть в чем-то единственным всегда приятно: возможны известность и слава.
Джонни подумал, не поделиться ли этой мыслью с Катей, но Катя шла какая-то рассеянная и смотрела под ноги. Вдруг она сказала:
— А все-таки Шестопалов — молодец.
— Дурак он и нахал, твой Шестопалов! — моментально вспылил Джонни.
— Почему это мой?
— А кто все время "Вовочка, Вовочка"?
— А как бы я его упросила? С людьми надо лаской… Вот попробуй сам когда-нибудь — увидишь…
Джонни попробовал, когда начал разговор с Верой Сергеевной:
— Вера, скажи, пожалуйста, не могла бы ты объяснить мне, где живет Валентин Эдуардович? Извини, что я тебя отвлекаю, но мне очень-очень надо.
Ласка и вежливость не помогли.
— Уйди, чудовище, — сказала Вера. — Ты хочешь сделать ему очередную гадость?
Джонни потупил глаза.
— Я хочу извиниться… За тот случай…
Вера остолбенела. Она уронила черный грифель, которым красила ресницы, и забормотала:
— Тогда я… да, конечно… Сейчас… Женечка, а это правда?
— Честное слово, — мужественно сказал Джонни.
Вера суетливо написала ему гостиничный адрес.
— Только ты, Женечка, сегодня же… А то он завтра утром уедет.
— Ой! Он же хотел послезавтра!
— Его вызвали в институт принимать вступительные экзамены. Завтра в девять у него последняя лекция, а потом он на поезд… Ты иди лучше прямо сейчас, он у себя.
Джонни и сам понимал, что надо спешить. Но Вера уговорила его сперва надеть чистую рубашку, а потом припудрила синяк (который стал уже светло-желтым и называться синяком не имел права).
Видимо, она сбегала к телефонной будке и предупредила Валентина Эдуардовича, потому что он ждал Джонни. Он встретил его у входа в гостиницу, сказал надутой администраторше "это ко мне" и заговорил с Джонни, когда еще шли по коридору:
— Женя, я чрезвычайно рад, что вы пришли, но вы совершенно зря волнуетесь по поводу того случая. Уверяю, я на вас не в обиде… Вот моя комната… Вот, садитесь в кресло… Наоборот, ваше выступление доставило мне большое удовольствие. Оно было в меру темпераментным и крайне актуальным. В самом деле, эти безобразные современные постройки среди исторических кварталов у самого крепостного холма… Это чудовищно!
— Все-таки я виноват, — вздохнул Джонни, останавливаясь у громадного кресла. — Вы уж извините меня, Валентин Эдуардович… Но у меня еще один вопрос. Можно?
— Ну разумеется! Прошу.
— Можно прямо?
— Конечно!
— Совсем прямо…
— Да-да, Женя! Я весь внимание. Ваша прямота мне весьма импонирует.
Джонни встал за кресло, уперся подбородком в его шершавую спинку и поднял ясные глаза.
— Вам нравится Вера?
— А? — сказал Валентин Эдуардович и нервно погладил лысину. — М-м… То есть да. Да… Но, увы, мне кажется, я ей не нравлюсь.
— Это не так, — деловито объяснил Джонни. — Вы ей нравитесь. В общем. Ей не нравится только ваша прическа. То есть то, что прически нет…
Валентин Эдуардович опять хотел потереть свою блестящую голову, но раздумал. Снял очки и жалобно сощурился.
— Эх, Женя, — грустно сказал он. — Это не самый большой мой недостаток. Но, к сожалению, самый неисправимый.
— Может быть, исправимый, — возразил Джонни. — Вот. — И он протянул пузырек и бумагу, где был переписан рецепт и письмо неизвестного лекаря.
Узнав, какое снадобье принес ему Джонни, Валентин Эдуардович заметно разволновался. Сначала стал смеяться печальным смехом, потом заходил из угла в угол и начал говорить, что он очень ценит Джоннины старания и очень благодарен ему за доброе отношение, но (увы, увы и увы! ) в природе не существует сил, которые заставили бы облысевшую голову снова покрыться волосами. Если бы такие силы были, современная наука давно бы их открыла.
— Современная наука многое позабыла, — опять возразил Джонни. — Вот недавно в "Очевидном-невероятном" рассказывали про древнюю медицину. Там такие вещи делались, что сейчас никто не верит…
— Гм… — Валентин Эдуардович остановился. — В твоих рассуждениях много логики. Но… нет-нет, Женя. Спасибо, но я выглядел бы смешным в собственных глазах, если бы решился на такой эксперимент. Это недостойно здравомыслящего человека.
— Жаль… Ну, вам виднее, конечно, — вздохнул Джонни. — А пузырек я вам все же оставлю…
— Да зачем же он мне?
— А мне он и совсем ни за чем, — печально сказал Джонни.
Огорченный, он вышел на улицу. Странные люди — эти кандидаты наук. "Недостойно здравомыслящего человека… " Что тут недостойного? Взял бы да попробовал! Если Вовкино зелье действует, завтра утром, перед отъездом, Валентин Эдуардович был бы уже не лысый, а как бы стриженный под машинку. Сперва это некрасиво (Джонни знает по себе), но скоро волосы становятся длиннее, и тогда делай прическу и сватайся на здоровье.
Трудное ли это дело — помазать жидкостью башку? Так нет же, принцип не позволяет… Зря только бедного Алхимика заставили ночью колдовать. Всей пользы от этого — Джоннина волосатая коленка…
Но… Стоп! Если волосы на ней прорастут — это же доказательство!
Тогда уж Валентин Эдуардович не откажется. Надо завтра утром прибежать к нему и показать: "Вот! А вы спорили! Мажьтесь! "
А вдруг он уже вылил снадобье в раковину?
Джонни помчался назад, в гостиницу, но у самого входа вспомнил суровую администраторшу. Тогда он пошел вдоль здания, становясь на цыпочки у каждого окна: Валентин Эдуардович жил на первом этаже. В пятом или шестом окне Джонни увидел его.
Валентин Эдуардович стоял перед зеркальным шкафом и держал стеклянную пепельницу. Он осторожно макал в нее свернутый платок. Влажным платком Валентин Эдуардович старательно натирал свое блестящее темя.
Весь день Джонни хотелось посмотреть: что там с коленкой? Но Катя говорила:
— Не смей. Переохладишь, и сорвется опыт.
Иногда коленка чесалась, а порой кожу покалывало. Может быть, это проклевывались волоски.
Перед сном Джонни не выдержал и размотал бинт. Левая коленка была абсолютно гладкой — и на вид, и на ощупь. Она ничем не отличалась от правой, разве что была почище.
Сначала Джонни очень расстроился, но потом сказал себе, что горевать рано: прошло всего полсуток. Он снова забинтовал колено…
Проснулся Джонни рано. За ночь повязка сбилась. Джонни с замиранием души потянул из-под одеяла ногу…
И перестал дышать.
Коленка была черная.
Она была черная, как… Сказать, "как у негра"? Но любой самый темный негр позавидовал бы этой густой, без всяких оттенков черноте. Коленка была такой, словно ее осторожно обмакнули в блюдечко с тушью. Лишь посередине тянулся, как розовая нитка, след от облупившейся царапины.
— Ой, мамочка… — с тихим стоном сказал Джонни и на правой ноге, будто левая коленка не просто почернела, а была раздроблена картечью, поскакал в ванную.
Сначала он мыл коленку горячей водой и туалетным мылом. Потом Вериным шампунем. Потом скреб нейлоновой мочалкой и даже попробовал оттирать пастой "гои".
С таким же успехом можно было стараться отмыть добела черный резиновый мячик. Джонни лишь добился, что коленка стала блестеть, как носок офицерского сапога, начищенного перед парадом.
Закрывая коленку ладонями, Джонни упрыгал в свою комнату и влез в модные вельветовые брюки, которые ему недавно подарили на день рождения.
Потом он сел на край постели и с головой ушел в черные думы.
Таким и нашла его прибежавшая Катя.
Она увидела на Джонни вельветовые клеши и обрадованно спросила:
— Получилось?
Джонни встал и молча подтянул штанину.
— Ой-я-я, — тихо сказала Катя. Села на корточки, внимательно обследовала коленку и подняла на Джонни синие страдающие глаза. — Чем оттирал?
— Всем. Даже купоросом, — процедил Джонни. — Подлец твой Шестопалов. Неуч. Шарлатан… — Он опустил брючину и печально сказал: — Пойду.
— Бить Вовку? — понимающе спросила Катя.
— Вовка подождет. К Валентину Эдуардовичу… Катька, он же думает теперь, что я нарочно…
— Ой-я-я, — опять сказала Катя. — Про него-то я забыла.
— "Забыла"! Зато я только про него и думаю! Вот выходит он на сцену, снимает по привычке берет…
— Ну, мне кажется, он увидел свою голову раньше, — успокоила Катя.
— "Раньше"… Не все ли равно? Ой, Катька… Может, бежать в тайгу или в Антарктиду?
— Я с тобой, — мужественно сказала Катя.
— Нет, — решил Джонни. — Лучше уж пойду к нему. Сам. Навстречу грозе…
— Я с тобой, — снова твердо сказала Катя. — Идем?
Но идти не пришлось. Раздался звонок, Джонни услышал. как мама пошла открывать дверь, а потом в передней прозвучал отчетливый голос Веры Сергеевны:
— Где. Этот. Изверг?
Вот уж не знаешь, когда ждать беды, а когда спасения… Гроза обошла Джонни стороной. Едва задела крылом. Потому что папа, услыхав историю со старинным лекарством, вдруг согнулся пополам, будто ему в живот попали футбольным мячом, вытаращил глаза и начал дико хохотать. Он хохотал, икая, плача и даже булькая. Мама, которая пошла за валерьянкой для себя и для Веры, отдала ее папе.
Катя, увидев, что большой опасности для Джонни уже нет, незаметно подмигнула ему и тихонько исчезла.
Папа продолжал стонать от смеха. Мама вдруг начала кусать губы. А Джонни не улыбнулся. С непонятной грустью он смотрел,. как Вера укладывает чемоданы.
… Она уехала после обеда. Вслед за Валентином Эдуардовичем, который укатил еще утром в туго натянутом на уши берете. С мамой и папой Вера простилась очень ласково, а с Джонни сухо.
Вскоре после этого краска на Джонниной коленке пошла трещинками и кое-где зашелушилась. А еще через час начала отслаиваться тонкими пленками…
Под вечер Джонни сидел на подоконнике в покинутой Вериной комнате и задумчиво счищал с колена последние черные кожурки. Все в комнате было так же, как при Вере, — та забрала с собой только два чемодана, а крупные вещи решила увезти позднее.
Раньше Джонни приходил сюда — будто вступал на территорию, занятую враждебной армией, а теперь здесь ему ничего не грозило. И пришла к Джонни странная печаль.
В комнату заглянула мама. Задержалась в дверях. Внимательно посмотрела на Джонни и тихонько спросила:
— Ну? Что притих, искатель приключений?
Джонни поднял грустные глаза.
— Мам… А ведь в общем-то она совсем не плохой человек.
— Наконец ты это понял, — сказала мама.
— Да… — вздохнул Джонни. Иногда он умел быть самокритичным. — Знаешь, мама, мне даже кажется, что я буду по ней скучать…
Мама, как девочка, села на подоконник. Рядом с Джонни. Взяла его за плечи. Покачала туда-сюда.
— Эх ты, воробушек… Ничего, она будет ездить к нам в гости. А мы скоро поедем к ней на свадьбу.
— И я? — усомнился Джонни. — Думаешь, она мне обрадуется?
Мама засмеялась:
— Обрадуется. Не так уж она и сердится.
— А Валентин Эдуардович? Он-то, наверно, после этой истории меня и совсем видеть не захочет.
— Захочет. Знаешь, что он сказал? "Все это — досадная случайность. Я уверен, что Женя действовал из самых благородных побуждений… " А еще он попросил: "Передайте Жене, что он все равно кузнец моего счастья".
— Как это? — изумился Джонни.
— Ну, видишь ли… Когда Вера поняла, какие страдания он терпит, чтобы стать ее женихом, она больше не колебалась… В одной старинной пьесе есть такие слова: "Она меня за муки полюбила… "
Джонни задумчиво сказал:
— По-моему, она все решила еще раньше.
— Возможно. И все же этот случай был последней каплей…
Джонни подумал и хмыкнул:
— Ничего себе капля! Целый пузырек.
Мама посмеялась вместе с ним и поднялась.
— Посиди, — попросил Джонни. — Мне одному что-то скучно…
— Да, "посиди". А кто будет готовить ужин?.. Ты не заскучаешь, вон к тебе Катя идет.
— Где? — оживился Джонни. — Я не вижу… О-о-о! Вот это да!
Катька переходила улицу. Сейчас она была совсем не похожа на загорелого поцарапанного мальчишку. Она была прекрасна, как в тот день, когда Джонни первый раз увидел ее на весеннем карнавале. В светлом пышном платьице и белых босоножках, она походила на маленького лебедя из балета Чайковского, который недавно показывали по второй программе.
Джонни почему-то заволновался, поправил вельветовую штанину и разгладил воротничок.
Катя впорхнула в комнату. Играя белой сумочкой, спускавшейся с плеча на тонком ремешке, она прощебетала:
— Джонни, пойдем с нами в парк? Там выступает летний цирк, мама купила три билета.
— Как я пойду? — огорченно откликнулся Джонни. — Я досиживаю то, что осталось. Последний вечер сегодня…
— Отпросись, — пританцовывая, сказала Катя.
— Опять просить? Ну уж, фигушки!
— Тогда я сама… — Она выскочила за порог и через полминуты привела за руку Джонниного папу.
Поглядывая на Джонни, папа сказал:
— Вам, Екатерина Дмитриевна, я ни в чем отказать не могу. Этот герой может считать, что получил помилование.
— Не надо мне никакого помилования! — ощетинился Джонни.
— Здрасте, я ваша тетя! А что тебе надо?
— Милуют тех, кто виноват…
— Ага. А ты, конечно, во всем прав! Так?
— Так, — задумчиво сказал Джонни.
— И, значит, по-прежнему будешь кулаками выяснять отношения с этим… со Шпуней!
Джонни подумал.
— Нет, пожалуй… Кажется, мы помирились.
Папа сказал с облегчением:
— Один вопрос отпадает сам собой… А как насчет звания "демагога", которым ты наградил родного отца?
Джонни встрепенулся и даже обрадовался:
— Да, тут я конечно!.. Это от необразованности. Ты уж, папа, не сердись.
— То-то же, — сказал отец. — Остался вопрос о твоем выступлении в парке.
Джонни опять опечалился и с гордостью человека, готового до конца страдать за истину, проговорил:
— Тут я все равно прав. Мне сам Валентин Эдуардович сказал.
— Он просто деликатный человек…
— Нет! Он всерьез говорил, что я хорошо выступил.
— Да, — вмешалась Катя. — В газете ведь так же написано.
— В какой газете? — разом спросили папа и Джонни.
— Вы не читали? — удивилась Катя. — Вы, товарищи, совершенно отстали от жизни.
Она достала из сумочки порядком помятый лист городской газеты. Наверху страницы было крупно напечатано: "Горны трубят! Пионерское лето в разгаре!" Джонни увидел несколько фотоснимков, на которых ребята качались на качелях, куда-то бежали, взявшись за руки, и били в барабаны…
— Вот… — Катя показала на маленькую заметку в уголке листа. Заметка называлась "На важную тему".
Папа и Джонни, стукнувшись над газетой головами, стали читать:
"В субботу ребята из городского пионерского лагеря с удовольствием прослушали лекцию об истории нашего родного города. Ее прочитал приехавший из Москвы кандидат исторических наук В. Э. Верхотурский. Перед лекцией выступил четвероклассник школы № 2 Женя Воробьев. В своей короткой речи он поднял серьезный вопрос о том, что некоторые владельцы частных автомашин нарушают существующие правила и ставят свои гаражи в самых неподходящих местах, в том числе и на площадках, которые ребята сами построили для своих игр. Надо надеяться, что городские власти не оставят эту тревожную проблему без внимания.
Член молодежного литературного объединения, ученик девятого класса школы № 2 Сергей Волошин".
Джонни прыгнул к окошку и нырнул в него головой, словно хотел выброситься со второго этажа. Катя и отец в панике вцепились в его штанины. Перегнувшись вниз, Джонни завопил:
— Серега! Се-ре-га-а!
На первом этаже открылось окно и показалась голова Сережки Волошина.
— Чего голосишь? Я работаю!
— Работай на здоровье! Только скажи, как ты заметку про мою речь написал? Тебя же на лекции не было!
— Ну и что? Мне Борис Иванович рассказал. Он и в редакцию позвонил, просил, чтобы напечатали…
Джонни сел на подоконник и посмотрел на отца.
— Вот! А ты говоришь…
Джонни и Катя шагали по Песчаной улице к большим домам: надо было зайти за Катиной мамой. Вечер был очень теплый и хороший. Невысокое солнце будто рассыпало по крышам и тополям золотистый порошок. Было так красиво… И Катя была красивая. Джонни несколько раз отставал, чтобы полюбоваться ею с некоторого расстояния.
Красивая Катя наконец оглянулась и сказала:
— Что ты плетешься, как больная корова? И так проторчали у тебя дома с твоими спорами-разговорами. Вот опоздаем в цирк…
Джонни не терпел напрасных упреков. Ни от кого, даже от Катьки, будь она хоть сама принцесса. Он тут же ответил, что нечего было к нему приходить. Шла бы без него, если торопится.
Катя объяснила, что тогда бы пропал билет.
— Позвала бы своего Вовочку, — посоветовал Джонни.
Катя вздохнула:
— Вовочка не может. Он тоже сидит…
— Так ему и надо, — проворчал Джонни. Но все же поинтересовался: — А за что?
— Помнишь, в каком флаконе было его лекарство?
— Откуда я помню?.. В зеленом каком-то.
— Это флакон из-под лосьона…
— Из-под чего?
— Ну, жидкость такая, вроде одеколона. Чтобы освежаться после бритья.
— А, знаю! У папы есть. Ну и что?
Катя печально сказала:
— Ничего особенного. Вчера утром Вовкин папа перепутал флаконы. Он протер нашим лекарством побритые щеки.
ТАЙНА ПИРАМИД
Неудачный опыт
Дверь приоткрылась, в канцелярию просунулась кудлатая светло-желтая голова.
— Здрасте, Евдокия Герасимовна. Борис Иванович у себя?
— Директор занят, — без малейшей ласковости сообщила секретарша.
Голова вздохнула:
— Что же мне делать…
— Закрыть дверь, Воробьев, вот что. Слишком часто ты захаживаешь к директору без всякого дела. Нашел себе приятеля.
Евдокия Герасимовна работала в школе тридцать лет и была старше Бориса Ивановича вдвое. Она твердо знала, что ученики не должны приходить к директору. Их должны к нему приводить. Пятикласснику Джонни Воробьеву эта точка зрения была известна. Он не стал с ней спорить и разъяснил:
— Я не сам. Анна Викторовна велела.
Евдокия Герасимовна проявила некоторый интерес:
— Вот как? Она удалила тебя с занятий?
Джонни не успел ответить. Из-за приоткрытой кожаной двери кабинета донеслось:
— Евдокия Герасимовна, там кто-то пришел?
— Воробьев из пятого "А", — последовал сухой ответ.
— Пусть… — сумрачно сказал директор. И пятиклассник Воробьев мимо поджавшей губы секретарши ступил в кабинет.
Там он еще раз сказал "здрасте" и еще раз вздохнул.
Борис Иванович меланхолично перебирал на столе ведомости и объяснительные записки прогульщиков. Буркнул:
— Садись, не торчи.
Джонни сдержанно вздохнул третий раз и опустился на краешек стула у двери.
— Ну? — спросил Борис Иванович. — Опять?
— Анна Викторовна. Из-за пирамид…
Борис Иванович поднял от бумаг лицо.
— Каких пирамид? Вы что, в пятом классе за геометрию взялись?
— Это не геометрия… Из-за египетских.
— Еще не легче… Насколько я знаю, Анна Викторовна ведет математику, а не историю.
— Математику, — подтвердил Джонни, разглядывая портрет симпатичного педагога в очках по фамилии Ушинский.
— Изложи суть события, — сказал директор.
— Подробно? — оживился Джонни.
— Кратко.
— Ладно. Пирамиды — это шляпы. Из картона. Ученые считают, что под такими шляпами мозги работают активнее. Мы эти шляпы специально сделали, потому что по математике сегодня самостоятельная работа. Сели, надели, а она… Анна Викторовна то есть… она в крик. Говорит, сорвали урок… Вот…
— Дальше.
— Я хотел объяснить. Она говорит: "Объяснять будешь директору. Иди и объясняй". Я пришел.
— Всё?
— Всё, — сказал Джонни. Педагог по фамилии Ушинский смотрел на него с сочувствием. Борис Иванович — без. Он знал, что Джонни Воробьев не нуждается в сочувствии, особенно если считает себя правым. Борис Иванович смотрел со смесью утомления и любопытства. Утомления было больше.
— Свихнусь я тут с вами, — сообщил он. — Только вторая четверть началась, а у меня уже давление, как у хронического гипертоника…. В отпуск бы. На песочек, на берег. И чтобы лето кругом…
— Ой, хорошо бы, — искренне согласился Джонни.
Директор дотянулся до этажерки с газетами и папками. Из-под папок вытащил шахматы (они сухо громыхнули в клетчатой коробке; директор быстро оглянулся на дверь).
— Давай? — сказал он Джонни. — Мне разрядка нужна…
— Давайте…
Доску положили на объяснительные записки. Джонни перебрался на подлокотник могучего кресла у стола и начал расставлять фигуры.
— В той четверти счет у нас был два-два, — напомнил Борис Иванович.
Джонни кивнул.
— А все-таки что это за идея с пирамидами? — спросил Борис Иванович. — И чья? Твоя?
— Не моя, а француза Антуана Бови. Он египетские пирамиды изучал и один раз задумался: почему в них мумии так хорошо сохраняются? А потом еще увидел, что если какой-нибудь зверь забредет в пирамиду и там помрет, он тоже не портится… И тогда этот Бови стал делать опыты: накроет картонной пирамидой котлету, и она остается свежей несколько месяцев… Эта самая котлета… А где еще белая пешка? Ой, вот она… И другие ученые тоже опыты делали. Например, тупая бритва под пластмассовой пирамидой за несколько часов делается опять острая. В Чехословакии даже специально такие пирамидки продаются для бритв… И растения под пирамидой лучше растут…
— И мозги лучше варят. Да? — подал голос Борис Иванович. В голосе его было все, кроме доверия. Но Джонни подровнял ряд черных фигур и ответил спокойно:
— Мы не успели коллективно проверить. Но так говорят… То есть пишут.
— Где пишут?
Джонни сходил к оставленному у двери портфелю. Принес потрепанный журнал. Это был мартовский номер "Юного следопыта" за восемьдесят первый год (судя по всему, добытый из макулатуры).
— Вот тут заметка. "Магическая сила пирамид".
— Дай-ка эту "Магическую силу"… И ходи. Твои — белые, прошлый раз ты черными играл.
Джонни двинул пешку. Борис Иванович тоже. Джонни еще. Борис Иванович, поглядывая то на доску, то в журнал, сходил опять. Джонни задумался.
Борис Иванович бормотал:
— "… Если верить исследователям, процесс мышления облегчается и становится более интенсивным внутри пирамиды и в пирамидальной шляпе… Фактически перечень экспериментов бесконечен… Научного объяснения свойства пирамид пока не получили… "
— Я сходил, — напомнил Джонни.
— Сейчас… Ерунду какую-то напечатали, а вы верите… Тут и рубрика-то несерьезная: "Загадки, гипотезы, курьезы"…
— А почему тогда бритвы затачиваются?
— Ты это сам видел?
— А что, разве журнал может врать?
— Н-ну… Все равно чушь какая-то.
— Ну, пускай чушь, — покладисто сказал Джонни и вывел коня за линию пешек. — Все равно вреда от этого никакого нету. Чего было скандал устраивать?
— И большой был скандал? — нехотя спросил директор.
— Изложить в подробностях?
— М-м… нет. Анна Викторовна сама изложит на перемене.
— Со своих позиций, — сумрачно сказал Джонни и вывел на большую диагональ слона.
— Естественно, — заметил Борис Иванович. — Каждый заботится о своих позициях… Впрочем, ты не заботишься: смотри, сейчас тебе будет классическая вилка.
— Не будет, я вот сюда…
— А я так!
— Ах ты… — шепотом сказал Джонни и запустил пятерню в кудлатый затылок. С полминуты он сидел на подлокотнике в позе озадаченного павиана. Потом метнулся к портфелю и выхватил из него что-то плоское и картонное. Это "что-то" щелкнуло и развернулось. Джонни накрыл желтые космы картонной шляпой-пирамидой. Деловито вернулся к столу.
— Ну-ну, — сказал Борис Иванович. — Давай-давай…
Джонни "дал". Вывел ферзя из-под удара, спокойно посмотрел, как директор забирает белую ладью, и сказал:
— Шах.
— Подумаешь…
— Еще шах.
— Ну и…
— Ну и тогда ваш ферзь полетит.
— Ч-черт, — непедагогично высказался директор.
Ферзя он спас, но потерял коня и слона. И задумался. Надолго.
Наконец Джонни деликатно покашлял.
— Подожди, — поморщился Борис Иванович. — Дай-ка… — Неожиданно он снял с Джонни пирамиду и накрыл ею свою волнистую русую шевелюру. — Ага… Хитрый трюк с пешкой у вас, товарищ Воробьев, не выйдет…
— Как сказать, — отозвался Джонни.
— Вот так и ска…
Ласково закурлыкал телефон. Борис Иванович посмотрел на него, как на отпетого нарушителя дисциплины. Трубку не взял. Приоткрылась дверь. Директор судорожно снял шляпу и положил перед собой. Джонни оглянулся. Он успел заметить, что у возникшей на пороге Евдокии Герасимовны от изумления сами собой воздвиглись на лоб очки. Джонни съехал с подлокотника и укрылся за высокой спинкой. Евдокия Герасимовна с придыханием сказала:
— Борис Иванович, вам звонят.
— Меня нет, — страдальчески произнес директор.
— Но… это заведующий гороно.
— Я на показательном уроке.
Джонни сквозь спинку кресла ощутил взгляд секретарши. И отчетливо понял, что ему, Джонни, здесь не место. Ученики не должны знать, что директор умеет говорить неправду.
— Я надеюсь, вы пошутили, — деревянным голосом проговорила Евдокия Герасимовна. — Я уже сказала Игорю Степановичу, что вы сейчас возьмете трубку.
На худом лице Бориса Ивановича отчетливо нарисовалась зубная боль.
— Да… — обреченно сказал он в трубку. — Да… Привет и тебе, дорогой Игорь Степанович… Ну, не хочу я об этом сейчас, не время. Так не хочу, что даже просил соврать уважаемую Евдокию Герасимовну, что меня нет. Но она неколебима в своих убеждениях… Да, писал, сам знаешь, раз говоришь. Нет, не так. Пока только просил узнать, есть ли возможность… Не надо, Игорь Степаныч, мы оба знаем, что ты будешь рад… Зато спокойнее… Ну хорошо, хорошо. Потом… До вечера.
Он с облегчением плюхнул трубку на аппарат. Помолчал. Опять нахлобучил пирамиду, словно хотел ею защититься от всех неприятностей. Но тут же спохватился и надел ее на Джонни. И усмехнулся:
— Бедная Анна Викторовна… Представляю, что она испытала, когда увидела вместо ваших нечесаных макушек такие вот… четырехскатные крыши.
— Не знаю, что испытала, — насупился Джонни. — Но крик был большой… Она почему-то думает, что мы все ей назло делаем. А мы наоборот. Хотели процент успеваемости повысить.
— Не жалуйся, — сказал директор. — Она совсем не плохой человек.
Джонни защитил пешкой короля и пожал плечами:
— Никто не говорит, что плохой. Только неопытный… Мы на нее и не злимся. Если первый год человек с пятиклассниками работает, чего с него спрашивать… Может, еще воспитается.
— Будем надеяться, — сказал директор.
— А вы надеетесь? — осторожно спросил Джонни.
— Надеюсь… Я с Анной Викторовной как-то разговаривал про ее дела… и вообще про жизнь. Она говорит, что с детства мечтала учительницей стать. А раз человек мечтает… А то ведь есть такие, что идут в пединститут просто так, потому что больше некуда податься. А зачем соваться в педагоги, если сроду этого не хотели?
— А вы?.. — спросил Джонни и слегка испугался своей дерзости.
— Что?
— Ну, вы… хотели?
— Я хотел, — сказал Борис Иванович. — Я с восьмого класса с маленькими возился… А ты, кажется, с первого, да?
— При чем тут я? — подозрительно спросил Джонни.
— Это я так… Ах ты, как же я пешку-то прошляпил…
— Может, потом доиграем? — деликатно предложил Джонни. — А то вы сегодня какой-то… грустный.
— Думаешь, завтра буду веселее?
— Неприятности, наверно? Из-за нас, да? — посочувствовал Джонни.
— Не только из-за вас… Все одно к одному. Письмо вот пришло, что Ленка заболела. Дочка.
Джонни вскинул ресницы. Про дочку он слышал впервые. Директор жил один в комнате при школе.
— Она с матерью в Краснодаре, — объяснил Борис Иванович.
— А! Потому что здесь квартиру не дают, — догадался Джонни.
— Потому что… директор школы, а не доктор наук, — слишком ровным голосом сказал Борис Иванович. И вдруг смешал на доске фигуры. — Все, Джонни. Сдаюсь.
— Ну, зачем вы так? — смутился Джонни. — Могла быть ничья…
— Не люблю ничьих. Лучше давай еще раз. До звонка двадцать минут.
— Только вы возьмите сейчас мою шляпу. Чтобы равные шансы были, а то нечестно.
— Возьму…
"В этом что-то есть…"
Во второй партии Борису Ивановичу везло больше. Но он оставался невеселым. Неловко глянул на Джонни и сказал:
— Я тут слегка разболтался о семейных делах. Это между нами, ладно?
— Вы же меня знаете, — успокоил Джонни.
Борис Иванович наконец улыбнулся.
— Знаю… С самого начала. Мы ведь в один год с тобой в школу пришли. Ты в первый класс, я в директоры… А познакомились четвертого сентября, после шумной истории с водопроводом. Я тебя сушил в этом кабинете…
— Я помню, — поспешно сказал Джонни. — Вам шах, Борис Иванович. — Ему не хотелось касаться подробностей.
Борис Иванович поправил шляпу-пирамиду и продолжал вспоминать:
— А потом операция "Зеленый слон". Это уже в третьем классе…
Джонни заулыбался. Операция была героическая, стыдиться нечего.
— В общем, знаем мы друг друга пятый год, — подвел итог директор и задумчиво глянул из-под шляпы. — Поэтому ответь мне, Евгений Валерьевич, на один вопрос. Только честно.
— Если получится, — осторожно сказал Джонни.
— Получится. Скажи: какой я директор?
— Как это "какой"? — растерялся Джонни.
— Ну, какой? Плохой, хороший? Средний?
Джонни не думал ни секунды. Он сказал то, что знал:
— Самый хороший в Советском Союзе.
— Я серьезно…
— И я серьезно. Это все знают. — Джонни был даже слегка раздосадован. Он не любил говорить общеизвестные вещи.
— Все знают, — усмехнулся Борис Иванович. — Кто может знать про весь Советский Союз?
— Ну… это я так сказал. Просто лучше, чем вы, директору быть ни к чему…
— Ты, наверно, меня не понял, — вздохнул Борис Иванович. — Дело не в том, что мы играем с тобой в шахматы и я иногда прощаю твои фокусы…
— Ох уж, вы прощаете… — сказал Джонни.
— Однако… Согласись, что отношусь с пониманием.
— С пониманием вы ко всем относитесь, — холодновато сказал Джонни. — Я про это и говорю.
— Ты, кажется, обиделся… Или тебе показалось, что я напрашиваюсь на комплименты?
— Мне другое показалось, — хмуро сказал Джонни. — Кто-то считает, что вы не такой уж хороший директор, да? — И он посмотрел на телефон.
Борис Иванович тоже посмотрел на телефон.
— Вы им не верьте, — сказал Джонни.
— А ты не хотел бы стать директором? — вдруг спросил Борис Иванович.
— Как это? — изумился Джонни.
— Ну, не обязательно директором, а вообще учителем. Когда вырастешь.
Джонни не любил делиться планами на будущее. Даже с самыми хорошими людьми. Но сейчас разговор шел такой, что приходилось быть откровенным.
— Я еще точно не знаю, — неуверенно проговорил Джонни. — Вообще-то мне больше хотелось путешественником… Как Тур Хейердал, например. Или археологом, всякие тайны раскапывать. В общем, открытия делать.
— Хорошее занятие, — согласился Борис Иванович. — Я об этом тоже мечтал. Но, понимаешь… Тех, кто станет делать открытия, кто-то должен сначала учить…
— Я понимаю…
— И еще вот какая штука… Конечно, открытия делаются в экспедициях. И в лабораториях, и в космосе. Но не только. Есть еще работа: помогать людям делать открытия каждый день.
— Это, значит, нам помогать, — с пониманием сказал Джонни.
— Конечно. А разве нет? Разве, когда человек узнает букву "А", это не открытие? Или когда впервые слышит, что Земля круглая. Или про атомы…
— Или про пирамиды, — улыбнулся Джонни.
— Или про пирамиды… Кстати, в них, кажется, в самом деле что-то есть…
— Да? А почему вы решили?
— Потому что тебе мат, — с удовольствием сказал Борис Иванович.
— Как это?
— А вот так. Куда ты пойдешь? Сюда? Все равно…
Джонни не огорчился.
— Ладно. Значит, три — три, — сказал он и встал. Хотелось потянуться, но при директоре, особенно при самом лучшем, потягиваться неудобно.
Опять закурлыкал телефон. За дверью послышался сдержанный голос Евдокии Герасимовны:
— Бориса Ивановича нет, он на открытом уроке.
Джонни деликатно прикусил улыбку. Директор досадливо посопел. Потом сказал:
— А перед Анной Викторовной ты сегодня же извинись.
— Ну вот… — расстроенно откликнулся Джонни.
— Не "ну вот", а извинись.
— Я, конечно, могу, — снисходительно сказал Джонни. — Только это непедагогично.
— Что-о?
— Она решит, что я и правда виноват, а это неправда. А обманом никого не воспитаешь.
— Но ты же в самом деле виноват!
— Я?
— А кто же! Ты — зачинщик. Эксперимент затеял, а посоветоваться с Анной Викторовной не додумался. Отсюда и скандал. Какое ты имел право ставить опыт на ее уроке без ее разрешения?
Джонни озадаченно взлохматил затылок.
— Да… Это я не сообразил… Я так и скажу: "Извините, что забыл посоветоваться".
— Вот-вот. Так и скажи.
— Так и скажу.
Пожалейте дракона!
После третьего урока Джонни повстречал на лестнице Инну Матвеевну. Она ужасно обрадовалась. Она сказала, что ищет его целый день.
— Женя, ты должен меня спасти!
— Ладно, — сказал Джонни.
Он, конечно, не знал, от чего надо спасать Инну Матвеевну, которая в давние времена учила его в младших классах. Но понимал, что это его долг. Кроме того, Инна Матвеевна была мамой Катьки Зарецкой. Если Джонни ее не спасет, Катька решит, что он поступил так назло. Ей, Катьке, назло. А это было бы мелочно и недостойно.
— Спасу, — пообещал Джонни. — Сегодня?
— Да! Мы с моими третьеклассниками придумали новогоднее представление. Такой спектакль. Одна знакомая, одноклассница моя бывшая, она в библиотеке работает, написала целую пьесу. Очень славная пьеса, как раз для ребят, но там участвует чудовище…
У Джонни от сдержанного интереса под желтыми космами зашевелились уши.
— Прекрасное страшное чудовище. Змей Горыныч с тремя головами. Но его надо сделать, а никто не знает как. Они все у меня в классе какие-то бестолковые, ни капельки инициативы. Только галдят. Не то что были вы… Помнишь, каких прекрасных огнедышащих чертей вы мастерили во втором классе?
Джонни помнил. Он внутренне усмехнулся. Но он был джентльмен и не стал напоминать, что три года назад огнедышащие бесы из пенопласта и лампочек не вызывали у Инны Матвеевны столь большого восторга. Тем более что второклассники развлекались ими отнюдь не на празднике…
— Значит, чудовище… — задумчиво сказал он.
— Да! Женя, я дам тебе сценарий, он коротенький, ты его быстро прочитай, а после четвертого урока приходи к нам на классный час. Хорошо?
Джонни солидно кивнул.
— А почему ты к нам домой не заходишь, Женя? Так давно уже не был…
Джонни мигнул. Он умел себя сдерживать, но сейчас у него чуть-чуть не вырвалось:
"Спросите у Катьки".
И тогда, наверно, произошел бы такой разговор:
"У Кати? Женя… Неужели вы поссорились? "
"Вот еще… "
"А что же случилось? "
"Просто… как ни придешь — ее или дома нет, или торчит там Алхимик".
" Кто? "
"Ну, этот… Вовка Шестопалов из Катькиной школы. Шестиклассник… "
"Ах, этот… Я поговорю с Катей. Он, кстати, не очень мне нравится. Какой-то хулиганистый на вид".
"Что вы, Инна Матвеевна! Он нормальный парень! Он, знаете… такой целеустремленный. И способный. Мы с ним друг друга понимаем".
"Тогда почему нельзя дружить втроем? "
"Я это Катьке тоже говорил… И Алхимик, по-моему, говорил… "
"А она что? "
"Она?.. Да ну ее, Инна Матвеевна. Давайте лучше про чудовище… "
К счастью, этот горький и недостойный Джонниного характера диалог лишь стремительно прокрутился у него в голове и оборвался, будто пленка в испорченном магнитофоне.
— Уроков задают выше головы, Инна Матвеевна. Не третий класс, — неохотно сказал Джонни. И стал заталкивать в портфель мятую тетрадку со сценарием праздника.
Сценарий Джонни прочитал на уроке истории. Несколько раз он морщился, будто разжевывал гнилую сливу.
Но на классном часе в третьем "Б", когда Инна Матвеевна рассадила и успокоила галдящих питомцев, Джонни сказал:
— Это хорошая пьеса. Ваша знакомая, Инна Матвеевна, просто настоящая писательница… Только у меня тут одно маленькое замечаньице. Можно?
Инна Матвеевна радостно закивала.
— Значит, тут что… Двоечник Федя попал в Тридевятое царство, и этот Змей Горыныч должен его сожрать. Если Федя не решит задачку и не ответит на вопросы… А помогать Феде все ребята в зале должны, да?
— Совершенно верно. Это такой спектакль-игра…
— Игра хорошая, — вздохнул Джонни. — Только, наверно, ваша знакомая в школе давно училась. Сейчас программы посложнее. А тут задачка такая… уж совсем простенькая. Тут и думать нечего, даже двоечнику…
— Это, Женя, мы поправим. Нам главное — как со змеем быть!
— Я тоже думаю, как быть, — озабоченно произнес Джонни и обвел глазами класс.
В классе было разнообразное настроение. Кто-то слушал, кто-то зевал, кто-то на задних нартах затевал нешумные потасовки. Кто-то вполголоса беседовал о своих делах. Инна Матвеевна несколько раз громко призывала к спокойствию и обещала "взять дневники".
Джонни подумал и прямо сказал:
— Инна Матвеевна, вы ведь еще не обедали…
— Н-нет… А что?
— Вы сходите в столовую, пока там народу немного. А мы тут все обсудим. — Джонни глянул на Инну Матвеевну ясно и ласково. Именно поэтому она заволновалась. Но что она могла сделать? Спорить с Воробьевым, когда он за что-то берется всерьез, бессмысленно.
— Но… здесь все будет спокойно?
Джонни снисходительно улыбнулся:
— Как в тихий час в санатории для глухонемых.
Он проводил бывшую любимую учительницу (и Катькину маму) до двери, дверь прикрыл, повернулся на каблуках и отчетливо сказал третьему "Б":
— Встать!
В третьем "Б" сидел всякий народ. Но среди всякого народа было человек семь, которые знали Джонни с детского сада. Люди из славной Джонниной армии — той, что не раз прославила себя хитрыми операциями с красивыми названиями, а Крепостную улицу и ближние переулки потрясала громовыми схватками в войне за справедливость.
Боевая дисциплина у этих ветеранов была в крови. Они пружинисто рванулись из-за парт и вытянулись, преданно глядя на командира.
И весь класс поднялся за ними: кто-то по привычке, кто-то с испуга, кто-то решил, что идет завуч Василиса Рудольфовна.
— Смир-рно… — сказал Джонни.
Каблуки щелкнули, и надвинулась такая тишина, что стало слышно, как на четвертом этаже воспитательница с продленки жалобно требует вызвать чью-то маму. Это было неразумно: оттого и продленка на свете, что мамы на работе. Отметив про себя такую деталь, Джонни усмехнулся и заговорил:
— Вольно… Только без писка. Черт знает что! Вроде бы третий класс, а будто ясли на прогулке. Небось в пионеры скоро будете вступать, отряд появится. Ну и отряд будет! Стадо розовых мартышек!.. Димка, я тебе похихикаю… Слушайте все. Вопросы решаем коротко… Тебе что?
Белобрысая тощая девочка тянула руку. Она что-то пискнула — совсем неразборчиво от робости. Но чуткий Джонни уловил суть.
— В музыкальную школу? Пожалуйста. Музыка — вещь важная, без нее никуда. Кому еще в музыкальную? Тоже можешь идти. Кому во всякие бассейны и секции? Ух ты, сколько чемпионов! Ладно, топайте… А кто просто хочет гулять? В операции "Горыныч" будут участвовать только добровольцы, дело опасное… Ну, чего остановились? Кто пошел — гуляйте. А ты куда? Нет, вот ты, со звездой на рукаве! Ты командир звездочки? Командиры остаются на местах. Что значит "некогда"? Зачем тогда тебя выбирали? Инна Матвеевна назначила? Ну и… правильно назначила, если сами своими головами ничего не можете решить. А по закону командира должна выбирать звездочка. Ну-ка, эта звездочка, поднимите руки?.. Так. Предлагаю перевыборы. По-моему, самый хороший командир будет Мишка Панин… Кто там пищит "тройки"? Выбирают не за отметки, а за руководящий талант… Кто за? Кто против? Ясно, Мишка у нас скромный. Итак, Панин — командир. А ты, мальчик, теперь гуляй с чистой совестью… Кому попадет, мне? Тебе попадет? Ничего, скажешь: "Воробьев провел перевыборы"… Все, ближе к делу! Кто пошел — тот пошел, а добровольцы сели… Встать! Я сказал "сели", а не "грохнулись, как скелеты с балкона"… Се-ли… Вот так. Приступаем к первому вопросу. Пьесу все читали? Ясно. Понравилась?
"Добровольцы" молчали. Джоннины подчиненные презрительно, остальные — с вопросом в глазах и сомнениями в душе: какой ответ нужен решительному пятикласснику Воробьеву?
Джонни прошелся неторопливым взглядом по двум десяткам голов. И снисходительно сказал:
— Правильно. Пьеса "Федя и Змей Горыныч" — чушь на рыбьем жире. Манная каша… Таких глупых двоечников не бывает. Да и вообще! Стоит ехать в Тридевятое царство, чтоб таблицу умножения учить… Только вы про это Инне Матвеевне ни слова. А то она скажет знакомой, которая писала, а та страдать начнет. Писатели — они такие. У меня знакомый поэт есть в десятом классе, так с ним беда. Чуть покритикуешь, а он потом два дня ходит, как отравленная лошадь…
— А что делать? — спросил с передней парты Дима Васильков — давний Джоннин адъютант и соратник.
— Пьесу потихоньку переделаем, — пообещал Джонни. — Главное в конце. Это же свинство какое-то! Когда этот дурак Федя решает все задачки, Змей Горыныч подыхает! Зачем?
— Жалко Горыныча, — сумрачно сказал Мишка Панин.
— В том-то и дело! Он в пьесе самый симпатичный… И вообще, кто такой Змей Горыныч? По своей породе это трехголовый дракон. Животное самое редкое. Таких животных надо в Красную книгу заносить и охранять изо всех сил, а не наоборот… Ну кто там пищит, что сказка? В сказках они тоже повывелись. За последнее время ни одной сказки со Змеем Горынычем нет. Вот одну написали, да и то гробят зверя в конце. Надо, чтобы он не сдыхал, а подружился с Федей… Кто будет играть Федю?
— Он в бассейн ушел, — сказал Дима Васильков.
— А кто Горыныча играет, еще не назначили, — подал голос Панин. — Можно, я буду?
— Горыныча будут играть несколько человек, — разъяснил Джонни. — Это же громадина. Два человека надо, чтобы таскать такую махину, да по человеку на каждую голову.
Над партами взметнулись руки.
— Тогда я одну голову, — настаивал Панин.
— Ладно… Головы будут разные. Две пожилые, а одна молодая и веселая. Ну, вроде как мальчишка. Пускай ее зовут Стёпка или еще как-нибудь…
— Вовка!
— Лучше Никита!
— Сам ты Никита! Джонни, пускай Витька!
— Подумаем, — решил Джонни. — Эта голова раньше всех и подружится с Федей. И остальных уговорит… А играть ее лучше всего Юрику Молчанову, у него голос подходящий… А где Юрка?
Несколько человек нестройным хором объяснили, что Молчанов болеет уже две недели.
— Что с ним?
— Кажется, грипп…
— Не-а, он простыл…
— Или ангина…
— "Или ангина", — передразнил Джонни. — Две недели человек болеет, а вы к нему зайти не можете! — Он говорил сурово, чтобы приглушить голос собственной совести. — Лодыри. Небось всякие сборы про дружбу и товарищество проводите, а тут…
— Я заходил. Он весь простуженный, — сказал Панин. — И голосу никакого, только сипит и шепчет.
— За столько времени один раз один Панин заходил, — хмуро проговорил Джонни. — В разные свои бассейны и музыкальные школы каждый день мотаетесь, а к человеку зайти…
— Мы с Вадиком тоже ходили, — жалобно оправдывался Дима Васильков. — А его мама сказала, что он, может быть, заразный.
— Сами вы заразные. Ох, воспитывать вас и воспитывать… Ладно, слушайте задание. Операция "Горыныч", пункт номер один. Звездочка Панина пойдет на стройку у стадиона, там валяются куски проволоки. Нужны для каркаса. Остальные притащат из дома старые мешки (новые тоже можно) и всякий брезент. А все девочки — толстые иголки и нитки. Шить Горынычу шкуру.
— А огнем плеваться Горыныч будет? — спросили с задней парты.
— Огнедышащую часть я беру на себя. А вы вот что… Операция "Горыныч", пункт номер два. К субботе каждый принесет по десять донышек от консервных банок. Банки надо найти, а донышки аккуратно вырезать. Белые и желтые, золотистые… Ну что, сами не соображаете зачем? Чешуя у дракона сама не вырастет… А те, кто сегодня ушел, принесут по пятнадцать донышек, нечего от общего дела увиливать… Теперь встали. Тихо, справа по одному — в раздевалку и по домам.
Маленькая девочка с большущими бантами нерешительно сказала:
— Извините, но у нас еще вопрос на классном часе. Обсуждение успеваемости. Инна Матвеевна говорила…
— Пожалейте Инну Матвеевну, — нахмурился Джонни. — Сколько ей тут с вами толковать об одном и том же? У нее семья, ребенок… К тому же все равно полкласса разбежалось… А успеваемость надо не обсуждать, ее повышать надо.
— Как? — послышался робкий вопрос.
— Не словами, а делом. Я знаю один способ: с помощью пирамид… Только сперва посоветуюсь с Инной Матвеевной, а то вы тут нагородите фокусов…
Полупенни с корабликом
Маленький Юрик Молчанов был давним Джонниным адъютантом. Неизменным и беззаветным. Раньше он жил неподалеку от Джонни. Потом родители Юрика развелись, и он переехал с матерью к бабушке, в старый дом на краю оврага.
Дом был от Крепостной улицы за десять кварталов. Джонни заходил туда только один раз и, по правде говоря, не очень помнил дорогу.
Идти не хотелось. Беспокойства за Юрика Джонни не чувствовал. Простуда — дело обычное. Посидит Юрик дома, отдохнет от школьных забот, попьет чаю с бабушкиным вареньем — и снова за уроки.
Но не идти было нельзя. Всем известно, что Джонни — командир. У командира есть долг. Никуда не денешься. Особенно после того как обругал третьеклассников за нечуткость. Лучше уж сходить, чтобы потом совесть не кололась и не кусалась, как сухой репей за воротом. Джонни знал, какое это вредное существо — совесть. Связываться с ней — себе дороже…
Денек был серый и зябкий. На подстывшую грязь сеялись редкие снежинки. Порой за низкими облаками угадывалось солнце, но не надолго. Чтобы не плутать в переулках, Джонни двинулся тропинкой вдоль оврага. Он долго продирался через ломкий бурьян вдоль щелястых заборов, за которыми гавкали незнакомые псы. Шепотом чертыхался и отдирал от штанов ржавые колючки чертополоха.
Наконец он увидел дом Юрика. Дом стоял на самом краю оврага, а маленькая, похожая на граненый фонарь веранда вообще висела над пустотой. То есть не висела, конечно, а упиралась в бурьянный откос двумя тонкими столбами. Словно кто-то пристроил к старому кособокому дому стеклянную избушку на курьих ногах.
Крыльцо выходило в заросший кленами переулок (листья с кленов давно облетели, но семена-крылышки висели гроздьями и с тихим звоном терлись друг о друга). Джонни не нашел кнопки звонка и поколотил в дверь с осыпавшимся деревянным узором. Подождал, сердито пожал плечами, хотел поколотить еще… В сторонке, рядом с косыми воротами, звякнула щеколдой калитка. И Джонни увидел Юрика.
Юрик был в мохнатой шапке, в накинутом широком ватнике. Из-под ватника торчали длинные ноги в красных байковых штанинах, толстых носках и громадных калошах. Юрик улыбался с нерешительной радостью.
— Я тебя в окошко увидел, — сказал он тихонько и сипловато. — Иди сюда. Там дверь давно заколочена…
В доме пахло чистыми полами, влажной кадушкой из угла и почему-то березовыми листьями. Как у знакомой бабки Наташи, к которой Джонни заходил иногда в гости. Джонни увидел плетенные из тряпичных жгутов половики и начал торопливо дергать молнии на сапожках (их, как всегда, заедало). Юрик скинул ватник и калоши и теперь топтался рядом. Поверх красной теплой куртки он был обвязан крест-накрест пушистым платком.
— Я тебе бабушкины тапки дам, — сказал он.
— А бабушка в чем останется? — строго спросил Джонни и поймал себя на том, что неизвестно отчего стесняется.
Юрик тихонько засмеялся и объяснил:
— Бабушки дома нет. Она теперь на работу устроилась, дежурит в красном уголке при ЖЭКе… А мама тоже на работе, я совсем тут один, — добавил он. Видно, почуял Джоннину неловкость.
Джонни наконец стянул сапоги, снял куртку и шапку. Выпрямился. Спросил, чтобы поддержать разговор:
— Чего это бабушка работать надумала? Она ведь уж… ну, пожилая совсем.
— Она на полставки. Сорок рублей — тоже заработок, — с незнакомой для Джонни серьезностью сказал Юрик. — Мама у отца деньги за меня брать не хочет, а жить-то надо…
Юрик переступил вязаными носками и вздохнул. Он казался очень тонким, несмотря на байковый костюм и платок. За окнами темнело, в кухне горела яркая лампочка. От этой лампочки Юркино лицо было совсем бледным. На скулах проступили еле заметные веснушки.
Джонни ощутил что-то вроде виноватости перед верным своим адъютантом.
И подумал, что ничего он толком о Юркиной жизни не знает.
— С отцом, значит, совсем не встречаетесь? — тихонько спросил он.
— Мама его видеть не хочет, раз он… с другой женой теперь… А когда мамы нет, он приезжает… Два раза. Меня на мотоцикле катал… Джонни, ну чего мы на кухне стоим? Пошли!
В комнате тоже горел свет. На старинной кровати с медными шариками лежало скомканное одеяло, на одеяле — замусоленная книжка "Урфин Джюс и его деревянные солдаты". Юрик проговорил торопливо и опять сипловато:
— Джонни, ты садись. Вот хорошо, что пришел…
Джонни сел на краешек кровати (кровать задребезжала сеткой). Хмуро объяснил:
— Эти балбесы только сегодня сказали, что болеешь… Ангина или ОРЗ?
— Пневмония, — с оттенком гордости откликнулся Юрик. — Меня бабушка малиновым вареньем лечит, а мама антибиотиками… Только это варенье они прячут, когда уходят. Говорят: "Налопаешься его, вспотеешь и еще пуще простынешь". А смородиновое не прячут. Будешь со смородиновым чай пить?
— Буду, — решительно сказал Джонни. Во-первых, надо было прогнать дурацкую неловкость. Во-вторых, ни в школе, ни дома он не успел пообедать. — А поесть у тебя что-нибудь найдется?
Юрик заморгал.
— Только манная каша…
Джонни тихо передернулся.
— Я ее сам не ем, — виновато прошептал Юрик. — Мне оставят, а я так… Лучше уж чай.
— Значит, до вечера голодом сидишь? — почти по-настоящему возмутился Джонни. — И ничего приготовить не можешь? — Потом спохватился, вспомнив собственное раннее детство: — Или тебе не велят газ включать?
Юрик улыбнулся, блеснули ровненькие зубы (а петом он был щербатый):
— У нас электрическая плита… Почему не велят? Что я, дитя малое? Просто… Что готовить-то?
— Что готовить! А говоришь, не дитя… Картошка есть в доме? Чистить умеешь?
— Умею… Как-то не додумался.
— Пошли!
Если надо специально сидеть и разговаривать, бывает, что беседа не клеится. А за работой разговор идет сам собой.
Джонни и Юрик устроились на корточках перед корзиной с картошкой. Очистки сыпались на старую газету. Голые картофелины плюхались в кастрюлю, как веселые купальщики в бассейн. Джоннины — почаще, Юркины — не так быстро. Но все же Юрик чистил неплохо, старательно. Джонни его похвалил между делом и продолжал рассказ о пирамидах. О скандале в классе. И о том, как пирамида помогла директору выиграть шахматную встречу.
— Ну, правда, он и раньше играл неплохо, — признал Джонни заслуги противника.
— Удивительно, — вздохнул Юрик.
— Что? — не понял Джонни.
Он подумал: может, Юрик считает удивительным, что он, Джонни, играет в шахматы с директором?
Но Юрик говорил не про то. Он знал, что Джонни мог бы сыграть и с самим школьным министром.
— Удивительно, зачем этим древним египтянам такие пирамидищи? — Он поднял на Джонни очень серьезные глаза. — Вот этого я совершенно не понимаю…
— Это же фараоны велели для себя строить. Они думали, что если такие знаменитые, значит, памятник после смерти должен быть громадный.
Юрик пожал плечами, и пушистый платок на нем как-то зябко шевельнулся.
— А зачем громадный памятник, если человек умер? Вот когда у нас дедушка умер… а он знаешь какой знаменитый врач был на весь город… ему совсем небольшой памятник сделали. Просто камень, вот такой, — Юрик поднял над собой ладошку с ножом.
Джонни почуял Юркину печаль и какую-то тревогу. Он сказал осторожно, даже чуточку ласково:
— Ну ты, Юрка, подумай. Фараоны же ничего хорошего на свете не делали, только народ угнетали, их никто без пирамид и не запомнил бы. На фиг они нужны? А твоего дедушку и так все помнят, он вон сколько хорошего разным людям сделал.
— Ага… он хороший был врач… — шепотом отозвался Юрик и опять взялся за картошку. — Всех лечил. Только себя не смог. Он от легких умер… Джонни, а бабушка за меня боится, что у меня легкие такие же слабые. По наследству.
Чтобы с ходу успокоить Юрика, Джонни сказал сурово и не очень обдуманно:
— Вот уж ерунда! Наследственность от деда не бывает, она бывает от отца!
И сразу понял: об отце-то лишний раз не надо бы… Он досадливо покряхтел и пробормотал:
— Ну, хватит уж. Давай сковородку.
На сковороде, под широкой эмалированной миской, нарезанная картошка шипела, потрескивала, бормотала. Из-под миски постреливали капельки масла. От шкворчащих звуков на кухне было очень уютно.
За окнами тоже было хорошо. К вечеру облака разбежались, теперь над кухонной разноцветной занавеской был виден зеленоватый закат, а повыше заката светил похожий чем-то на Юрика месяц — тоже тоненький и бледный. Юрик сидел у блестящей белой плиты и смешно морщился, когда стреляло масло. Но не отодвигался. Он увидел, что Джонни смотрит в окно, и сказал:
— Я люблю, когда тонкий месяц…
— Я тоже, — признался Джонни. — Он такой… Сказочный немножко.
— Ага… А бывает еще тоньше. Совсем вот такой. И тогда знаешь что бывает? Внутри у этого месяца такой серый круг, чуть заметный. Джонни, ты видел?
— Видел. Это темная Луна. Она от нашей Земли свет отражает, поэтому ее видно немножко. Это лучше всего зимой смотреть…
— Да… Джонни, а один раз я видел знаешь что? Месяц вот совсем тоненький, будто ниточка. А вокруг того темного круга тоже ниточка светится, еще тоньше. Будто золотистый волосок.
— Такого я не помню, — признался Джонни.
— А я видел. Правда!
— Это, наверно, верхушки на лунных горах светились, — сказал Джонни. — На границе света и тени. Я где-то читал про такое… Эта граница как-то по-научному называется. Что-то вроде "термометра"… А, "терминатор"!
Юрик, вывернув шею, все смотрел в окошко. Покачал ногой, пожалел:
— Досадно только, что месяц редко такой тонкий бывает… А зато, когда потолстеет, он похож на кораблик. Я с ним играю.
— Как? — удивился Джонни.
— Ну… — Юрик засмущался, громко ойкнул от очередной капельки масла, потер щеку, а потом рассказал все-таки: — Это простая игра. Я спать лягу, а он из-за края окошка выплывает. Тихо-тихо так… Сперва нос, потом серединка, потом весь. Надо только головой не шевелить и смотреть одним глазом. А потом правый глаз закроешь, а левый откроешь — и месяц опять спрятался. И снова потихоньку показывается…
"Надо попробовать", — подумал Джонни. И вдруг встревожился, даже обиделся за Юрика:
— А разве ты на кухне спишь? В комнатах-то окна в другую сторону!
— Я… — Юрик запнулся. Потерся острым подбородком о платок на плече. Тихонько признался: — У меня каюта есть… Морская. Хочешь, покажу?
Если выражаться точно, это была не каюта, а скорее, корабельная рубка. Она располагалась внутри стеклянного "фонаря". С трех сторон светились прозрачные стенки в частых переплетах. За стеклами виден был дальний берег оврага с черными крышами и тополями. И месяц, конечно. Сейчас месяц казался гораздо ярче, потому что на него смотрели из темноты.
Юрик зажег лампочку. Она была слабая, желтоватая, но Джонни сразу увидел главное — штурвальное колесо посреди рубки. Конечно, колесо было не настоящее. Оно было велосипедное, с примотанными к спицам деревянными рукоятками. Рукоятки Юрик, видимо, выстругивал сам — они сохранили следы тупого кухонного ножа. Держалось колесо на сколоченной из досок стойке. К этой же стойке была прибита неструганая полочка, и на ней лежал маленький школьный компас. От пола к потолку уходила веревочная лесенка — будто ванты на парусном корабле.
Джонни мельком отметил про себя, что все это можно было сделать лучше. Аккуратнее, красивее и грамотнее. Но, если не придираться, здесь было неплохо. Да и что требовать от малыша Молчанова!
Джонни осторожно покрутил штурвал и сказал с уважением:
— Хорошо тут у тебя. Все как по правде…
Юрик заулыбался, вытащил из-за штурвальной стойки пухлую конторскую книгу.
— А вот еще… Это будто вахтенный журнал. Только я в него ничего не пишу, а наклеиваю. Я все про всякие корабли собираю.
В книге были открытки и марки, фотографии из журналов — с фрегатами и эсминцами, подводными лодками и старинными каравеллами. Были газетные вырезки с заметками про морские приключения и аварии. А еще — смешные картинки про разные случаи из морской жизни.
Джонни стало по-настоящему интересно. Сначала он листал стоя. Потом оглянулся: куда бы присесть. Увидел у стены голую раскладушку.
— Я на ней сплю, — объяснил Юрик. — То есть спал. Летом… Сейчас не разрешают, потому что здесь во все щели дует. Бабушка говорит, что я здесь и простудился…
— Ты давай не очень свою простуду затягивай, — предупредил Джонни. — Тебе нельзя с хриплым голосом. Кто будет Степку играть?
— Что… играть?
— Ой, я же не рассказал! Пошли, а то картошка подгорит.
Картошка не подгорела. Она оказалась в самый раз. Половину они съели, а половину оставили маме и бабушке ("Вот удивятся! — радовался Юрик. — И не надо будет с ужином возиться"). Пока расправлялись с картошкой, Джонни рассказал про операцию "Горыныч". И про то, что голову Стёпку должен обязательно играть Юрка. Она, эта голова, должна будет песенки петь, а у Юрки вон какой голос певучий. Он еще в детском садике на утренниках с этим голосом выступал.
Юрик всю историю слушал весело, но под конец загрустил.
— Наверно, у меня не получится, — прошептал он.
— Получится, — твердо сказал Джонни. — В твоем возрасте все люди талантливые.
— Ну и что, что талантливые… А меня, наверное, в санаторий до самых каникул отправят и даже еще на каникулы. Врач сказала, что надо в санатории лечить, мама сейчас о путевке хлопочет. Это зимний санаторий "Березка".. Для ребят. Там и школа есть.
— Жалко… — озадаченно сказал Джонни. И спохватился: — Ну, ничего. Зато вылечишься как надо. И там интересно, народу много. Это вроде пионерского лагеря.
Юрик, однако, не развеселился.
— А я в лагере ни разу не был… Джонни, мне что-то даже и не хочется. Дома, наверное, лучше. Я как-то привык…
И Джонни сразу понял: Юрик заранее боится, что будет скучать. По дому, по ребятам в классе, по своим кораблям. По маме и бабушке. И ведь в самом деле будет, никуда от этого не денешься. Такое почти с каждым бывает, кто уезжает надолго и впервые. И сам Джонни вроде не тихий мальчик, не плакса, а первые вечера в лагере, после отбоя… Да чего уж там…
Негромко и очень серьезно Джонни сказал:
— Надо перетерпеть, Юрик. Раз уж такое дело.
— Ага. Я буду… пере… терпливать. А может, еще и не получим путевку.
— Если поедешь, возьми с собой вахтенный журнал. Будешь и в санатории кораблики наклеивать.
— Ага, я буду…
Юрик сказал это так печально, что Джонни почувствовал себя виноватым.
Ему, Джонни, покидать родной дом не надо было. А помочь Юрику он не мог. И утешить ничем не мог… Хотя…
Он полез в карман.
— Юрик! Раз ты все про корабли собираешь, я тебе одну штуку подарю. Вот… — Джонни раскрыл кулак. На ладони лежала желтая, размером с пятак монетка.
Но это был не пятак, а британский полупенни 1957 года. (HALF PENNY — было написано по кругу. Значит, половинка пенса, английский грош). Летом на Джоннин день рождения монетку подарила Катька. Подарила и тут же спросила:
"Правда, я на нее похожа? " — и ткнула в крошечный профиль королевы Елизаветы.
Джонни совсем не хотелось в этот праздничный день ссориться. Но истина была дороже, и он осторожно сказал:
"М-м… У тебя нос кверху закорючкой, а у нее вон какой рубильник".
"Ну, подумаешь, нос. Зато шея похожа. И волосы… Особенно ленты".
Джонни с облегчением согласился, что ленты похожи. И сунул полупенни в карман. Так эта денежка и кочевала у него по карманам. Ни на что другое она не годилась: коллекции монет у Джонни не было, а сменять полупенни на что-нибудь интересное — как-то неловко. Подарок все-таки.
Но сейчас Джонни отдал монетку без раздумий. Ну и пусть подарок! Во-первых, он не главный, потому что Катька подарила еще книгу "Квентин Дорвард" из "Библиотеки приключений". Во-вторых, у него монетка все равно без дела, а Юрка обрадуется. В-третьих, пускай Катька дарит подарки Алхимику, а Джонни как-нибудь обойдется.
Юрик взял полупенни и даже дышать перестал. Конечно, не из-за королевы. На другой стороне был отчеканен старинный фрегат. Маленький, но такой… такой весь аккуратненький, четкий. Даже все ступеньки на вантах различимы, даже узор на вымпеле.
Юрик целую минуту смотрел на кораблик, улыбался и тихо качал монетку на ладони. Потом поднял на Джонни глаза. И глазами нерешительно спрашивал: "Это правда мне?.. А тебе не жалко? "
— Бери, бери, — сказал Джонни. — Я в них все равно не разбираюсь, а тебе пригодится.
— Это, кажется, "Золотая лань" Фрэнсиса Дрейка, — прошептал Юрик и погладил кораблик мизинцем. — Я на картинке видел.
— Вот и хорошо, что "Золотая лань"… Ладно, Юрка, я домой двинусь. Аннушка столько примеров задала решать! Это потому что самостоятельную работу в классе сорвали.
— А ты под пирамидой решай.
— Я и так… В журнале написано, что эти пирамиды во всех делах помогают.
— Надо мне тоже попробовать, — сказал Юрик.
Он опять натянул ватник и шапку, сунул ноги в калоши и проводил Джонни до дверей. Из сеней пахнуло холодом.
— Смотри опять не застудись, — ворчливо сказал Джонни.
— Ничего, я закутанный… Джонни…
— Что?
— Я забыл сказать… Спасибо за кораблик.
— Да ладно… — пробормотал Джонни и опять ощутил непонятную неловкость. Мельком глянул в лицо Юрика. Он привык смотреть на него сверху, но теперь Юркины глаза были почти вровень с Джонниными. Потому что Юрик стоял на пороге… Но нет, не на пороге он стоял: Джонни машинально посмотрел на Юркины калоши и увидел, что они на половицах. Рядом с Джонниными сапогами.
И наконец Джонни понял, почему Юрка сегодня кажется странным и чуточку незнакомым. Он очень вырос. Неужели за эти две недели? Или просто Джонни раньше не замечал?
"Когда люди болеют, они быстро растут, — подумал Джонни, — это все говорят".
Юрик сказал:
— Ты сейчас иди по этой улице до угла, там свернешь и сразу увидишь клуб строителей. А от него автобус прямо до Крепостной.
— Да ну его, этот автобус, он два раза в сутки ходит. Я пешком, напрямую…
— Тут переулки запутанные, а фонарей нет…
— По звездам дорогу найду, — усмехнулся Джонни.
Юрик вежливо засмеялся шутке.
— Да правда по звездам, — сказал Джонни. — Крепостной холм как раз на севере. По Полярной звезде доберусь.
— Ты все звезды знаешь?
— Да ну, "все"… Полярную, да еще Большую Медведицу, созвездие. Мне хватает… А Вовка Алхимик — он правда все созвездия сразу определяет. У него карта специальная есть… — Джонни и сам не знал, чего опять вспомнил Алхимика.
— А раньше еще звездные глобусы были. Старинные, — сказал Юрик. — Я видел в книге про Колумба.
— Они и сейчас есть, — возразил Джонни.
— Сейчас? По-моему, нету…
— Есть, — сказал Джонни. — Я сам видел в Москве. Там такой музей, называется "Выставка Морфлота", в старой церкви на Сретенке. В нем всего много: модели всякие, карты, приборы штурманские. И глобус тоже. Вот такой, не очень большой, в ящике. Желтый, а звезды на нем черные… Он для того, чтобы по звездам в море путь прокладывать…
У Юрика глаза сделались большие и темные.
— А еще что там есть? — спросил он шепотом.
— Еще?.. Ой, Юрка, там еще корабельная рубка есть! Как у тебя. Только настоящая, с ледокола.
— Я и не знал, что в Москве такой музей есть… Вот бы побывать.
— Поедешь в Москву и побываешь.
— Я туда редко езжу. Маме некогда, бабушка говорит, что болеет… Я последний раз был давно, еще в первом классе…
Что мог сказать Джонни? Он, конечно, сказал:
— Можем вдвоем съездить! Тебя отпустят?
Юрик просиял:
— Меня с тобой хоть куда отпустят!
— Мы там несколько дней можем прожить — вдохновился Джонни. — У Веры, у моей сестры двоюродной. Помнишь, в детском саду работала? Мы с ее мужем, с Валентином Эдуардовичем, знаешь какие друзья! Это тот, которому я прошлым летом нечаянно лысину покрасил. Помнишь?
Юрик радостно закивал. Как не помнить эту замечательную историю!
— Надо ему новый рецепт от облысения отвезти, — деловито сказал Джонни. — Древнегреческий. Вода, вскипяченная с семенами редьки. Я в одной газете вычитал…
— А когда поедем?
— Вернешься из санатория, и поедем. Дело нехитрое.
— Я в санатории буду дни считать, — серьезно сказал Юрик.
— Лучше не считай. Тогда они быстрее побегут, — посоветовал Джонни. — Ладно, Юрик, я пошел.
… Грязь окаменела от холода, снежная пыль на земляных комках серебрилась, когда из окон падал свет. И на дороге, в застывших колеях, блестела остекленевшая вода. Иногда в этих узких зеркальцах отражался месяц. Он светил Джонни в левую щеку. А впереди, под волнистым облаком, Джонни разыскал Полярную звезду. И улыбнулся. И подумал: "Почему это я не хотел идти к Юрику? Вон как хорошо все получилось".
Ближе к югу…
Как-то в начале декабря, после уроков, директор окликнул Джонни на улице, недалеко от школы:
— Воробьев! Придержи свой стремительный бег! Есть разговор…
— Ой, здрасте, Борис Иванович! — обрадовался Джонни.
— Здравствуй… Что-то давно не заходишь. Так и застряли мы на ничьей.
— Евдокия Герасимовна сердится, — со вздохом сказал Джонни. — Да и вы заняты все время. Комиссии какие-то…
— И ты занят сверх головы, я смотрю…
— Угу.
— Джонни… — задумчиво сказал Борис Иванович. (Взрослые никогда не называли так Воробьева, считали это имя несерьезным, но директор иногда называл. Только не часто и один на один). — Джонни… Дал бы ты мне доработать до конца полугодия…
— А что случилось? — перепугался Джонни. По-настоящему перепугался.
— Комиссии, про которые ты говоришь, ходят в школу не просто так. Ты не маленький, должен понимать. Они все смотрят и задают всякие вопросы. В том числе и такие: "Почему, уважаемый Борис Иванович, ваши младшие школьники по всему городу лазают на мусорных кучах и собирают всякую ржавую дрянь? "
— Это же операция "Горыныч"!
— Вот именно. Под руководством Евгения Воробьева, известного и другими скандальными операциями.
— Люди банки собирают, что тут такого? — обиделся Джон ни. — Из чего чешую Горынычу делать?
— Лазанье по свалкам — это антисанитарное явление, — деревянным голосом сказал директор.
— Как металлолом собирать — это пожалуйста, — огрызнулся Джонни. — Все комиссии только поздравляют и радуются. А как для Горыныча — сразу придираются…
— Придираются не к Горынычу, — сказал Борис Иванович.
— А к кому?
Борис Иванович усмехнулся.
— Ни к кому… Просто делают вполне справедливые замечания: "Почему в прошлом году школа нарушила план "Зарницы" и вместо состязаний на полосе препятствий устроила форменный бой? " "Почему дети в теплую погоду ходят в школу без установленной формы? " "Почему старшеклассники выпускают такие разухабистые стенгазеты и позволяют себе критиковать учебный процесс? " И кстати: "Что это за слухи об антинаучном эксперименте с пирамидами? "
— Теперь десять лет будут вспоминать, — буркнул Джонни.
— Будут, пока я директор… А тут еще твой Горыныч…
— Банки мы уже собрали, — успокоил Джонни. — На трех драконов хватит.
— Дело не только в банках. У вашего дракона три головы, и ты наверняка в каждую пасть вставишь огнедышащий аппарат…
— Ну…
— Вот именно что "ну". Давай сразу договоримся: чтобы никаких пиротехнических эффектов.
— Как это?
— "Так это". Чтобы ни пороха, ни селитры, ни секретных адских смесей…
— Я что, совсем идиот? — оскорбился Джонни. — Третьеклассники, они же еще маленькие, при чем тут смеси…
— А операция "Зеленый слон"? Там были первоклассники.
— Так я и сам тогда… ну, не очень был, — самокритично признался Джонни. — А сейчас мы в глотки Горынычу импульсные лампы вставим. От фотовспышек. Братцы Дорины обещали сконструировать систему.
— Это безопасно?
— У них всегда все безопасно. Специалисты же…
— Может, все же прицепить к Горынычу огнетушитель?
Джонни понял, что это шутка, и деликатно посмеялся. Но директор остался серьезным и задумчивым. Джонни сбоку глянул ему в лицо и спросил прямо:
— У вас опять неприятности, да?
— Как тебе сказать… Не очень крупные, но… постоянные какие-то. Я, товарищ Воробьев, не справляюсь со своей работой.
— Ну уж!.. Это кто так говорит? — возмутился Джонни.
— Те, кому положено. Многие…
— А вы сами тоже так думаете?
— То, что думаю я, мало кого интересует.
— А что думаем мы… ну, вся школа? Тоже никого не интересует?
— Боюсь, что тоже… Поскольку я вас распустил.
— Как это?
— Слушай, Воробьев? Ты же вполне интеллигентная личность. Откуда у тебя такая привычка: "как это"?
— Больше не буду. А как это вы нас распустили?
— "Так это" распустил. У меня излишне "пионерские" методы работы.
— Как э… Почему пионерские?
— Потому. Я же много лет работал вожатым. Вот и говорят: "Вы, Борис Иванович, до сих пор не забыли пионерское детство. А школа — не летний лагерь, здесь главное — дисциплина и стопроцентная успеваемость". Справедливо говорят, я это и сам отлично понимаю.
— Что, наша школа хуже других? — обиженно возразил Джонни.
— Отнюдь… В ней много хорошего. Но не директор.
— Ну уж… — опять сказал Джонни.
— Вот тебе и "ну уж". Так что постарайтесь не осложнять мне жизнь. Уяснил?
— Уяснил. Постараемся, — пообещал Джонни. И встревожился: — Только что-то мне все равно не нравится…
— Что?
— Вы сказали… Вот это: "Дай мне доработать до конца полугодия". А потом что?
Борис Иванович сказал медленно и внушительно:
— Милый Джонни Воробьев! Как, по-твоему, чем директор отличается от ученика? Подумай своей лохматой головой.
Джонни подумал.
— Ну… многим.
— Прежде всего тем, что ученика невозможно выставить из школы, если только это не законченный малолетний преступник… А с директором гораздо легче.
— Выставят? — шепотом спросил Джонни.
— Всякое может быть. Вот я и хочу дотянуть до зимних каникул, а там уступить место более опытным товарищам. Тихо и мирно.
— Не надо, — быстро сказал Джонни.
Борис Иванович невесело хмыкнул.
Джонни пообещал:
— Если мы виноваты, мы что-нибудь придумаем. Мы во всей школе…
— Дело не в вас. Дело во мне. Я не директор…
— Директор!
Борис Иванович тихонько засвистел на ходу. Это был "Марш юнармейцев школы №2", сочиненный Сергеем Волошиным.
— Куда же вы денетесь-то? — горько спросил Джонни.
— Поделиться с тобой жизненными планами?
— Ага, — сумрачно сказал Джонни.
— Ладно, раз уж начал… На Южном берегу Крыма строят пионерский лагерь. Одно геологическое управление строит для своих ребятишек. Хороший лагерь, вроде Артека, только поменьше. Меня туда зовут начальником.
— Кто зовет? — насупленно спросил Джонни.
— Зовут… Люди, которые помнят меня вожатым. Считают, что это дело как раз по мне… Там хорошо. Там то, что я люблю.
— А здесь… уже не любите, что ли? — не очень вежливо сказал Джонни.
— Не любил бы, так и не раздумывал бы. А теперь маюсь… Только, пока ломаю голову, может случиться, что не окажется у меня дела ни здесь, ни там.
— Посреди учебного года директоров не меняют, — напомнил Джонни. Кое-что в школьной жизни он понимал. — И не отпустят вас.
— Отпустят. У меня зав гороно давний друг, вместе учились. Он меня директором поставил… Он теперь и отпустит с радостью.
— Вот это "друг", — сурово проговорил Джонни.
— Зато на юге буду… К Ленке поближе. Тоже обстоятельство…
— Вы в нашу школу столько сил вгрохали, — напомнил Джонни.
— Ну и вгрохал. Думаю, что не зря.
— А теперь…
— А теперь… Ладно! Это все еще так, размытые в воздухе проекты. Может, ничего и не будет. Женька…
— Что, Борис Иванович?
— Только твое честное слово, что про это молчок.
— Я что, не понимаю?
— Знаю, что понимаешь. Только бывает, что разговорится человек с друзьями о жизни, захочет поделиться и не выдержит, сболтнет незаметно.
Джонни прикинул: с кем бы это он мог так разболтаться? И спросил хмуро:
— С кем, например?
— Ну… — Борис Иванович улыбнулся. — Например, с Катей Зарецкой.
— Вот уж!.. — вспыхнул Джонни.
— А что? Вы же такие друзья. Разве нет?
Джонни помолчал. Потом сказал, глядя под ноги:
— Не знаю…
— Да? Ну, извини… Кажется, я вторгся в личные дела.
— Да вторгайтесь, пожалуйста, — тихо сказал Джонни. — Только я правда не знаю.
Мама сердилась. Они с отцом пришли на обед, а сын болтается неизвестно где вместо того, чтобы разогреть суп и сходить за хлебом…
— Где ты был? У вас четыре урока…
— Сбор проводил у третьеклассников. Потом еще с директором беседовали.
— Господи… Что ты опять натворил?
Джонни обиделся:
— Сразу "натворил"! Просто так разговаривали, по-хорошему.
— О чем это можно по-хорошему разговаривать с директором школы?
— О жизни, — веско сказал Джонни. — Разве директор не человек?
— Он-то человек… — многозначительно произнес папа.
— "Не то что ты, дорогой Евгений", — закончил фразу Джонни.
— Именно… Я имел беседу с вашей учительницей математики. Что это за трюк с пирамидами?
— С ума сойти! Этими пирамидами меня будут изводить до пенсии. Даже собственные родители…
— Дело не в родителях, а в учительнице…
— Я же перед ней извинился!
— Она говорит: "Он извинился так, будто сделал большое одолжение".
— Мне что было, голову песком посыпать?
— Голову посыпали не песком, а пеплом, — назидательно сказал отец. — И не в знак раскаяния, а в знак траура. Не трогай древние обычаи, если ты такой невежда.
— Почему это невежа?
— Я сказал "не-веж-да". Значит, ужасно необразованный.
Джонни оскорбился:
— То ругаетесь, что меня от книжек не оторвешь, то необразованный…
— Смотря какие книжки, — заметила мама. — Ты читаешь всякую фантастическую дребедень. А надо читать классику.
— Классику я тоже читаю, — сказал Джонни, устраиваясь за столом.
— Вымой руки, читатель!
— Я уже мыл… Я недавно "Петра Первого" прочитал.
— "Петра" ты осилил, потому что там пахнет приключениями, — проницательно заметил отец.
— А Пушкин? Тоже приключения?
— Конечно. "Дубровский", "Пиковая дама"…
— Я и "Евгения Онегина" читал.
— Всего? — недоверчиво спросил отец.
— Угу, — жуя горбушку, ответствовал Джонни. — Интересно стало: он Евгений и я…
— Ах, ну если с этих позиций…
Мама спросила издалека, от газовой плиты:
— И что же ты там понял?
— То, что они оба болваны, — сообщил Джонни.
— Что-о? — сказала мама и уронила поварешку в горячую кастрюлю.
— Кто?! — сказал папа.
— Онегин и Ленский. Вздумали стрелять друг друга из-за такой бестолковой девицы… Это, значит, нам с Алхимиком тоже надо было дуэль устраивать?
Клей "Собачья преданность"
Никаких дуэлей у них не было, и отношения оставались вполне приятельские. Алхимик был парень деловой и надежный. Серьезный. И сейчас Джонни собирался к нему, чтобы клеить головы Горыныча. До сих пор это не получалось: упругие картонные выкройки разъезжались, канцелярский клей и мучной клейстер их не держали, эмульсия ПВА была лучше, но она тоже срабатывала не сразу. Место склейки надо было прижимать, а как сунешь под пресс драконью башку размером с бочонок?
Но вчера Алхимик сказал, что изобрел новый клей. Он схватывает сразу и намертво.
Это оказалось правдой. Когда Джонни пришел к Алхимику, тот клеил для третьеклассников шляпы-пирамиды. Вся работа занимала полминуты: ножницами — щелк-щелк, железной линейкой по линии сгиба — ж-жик, кисточкой по краям — р-раз! Согнул шапку, хлопнул по ней — готово!
— Держит, как электросварка, — похвастался Мишка Панин. Он и Димка Васильков уже сидели в новых шляпах. Еще двое мальчишек и третьеклассница Муравейкина ждали, когда Алхимик смастерит.
— Сделай и мне, — попросил Джонни. — Старая развалилась. А я привык, не могу без нее домашние задания делать, мозги выключаются.
— Неужели эти штуки по правде помогают? — усомнился Вовка Алхимик.
— У нас успеваемость на четыре процента повысилась, — похвастался Мишка. — Инна Матвеевна говорила.
— Только она говорила, что не из-за пирамид, а потому что Джонни стал наш вожатый, — уточнила Муравейкина.
— Это она в классе говорила, — подал голос робкий Дима Васильков. — А Катьке своей сказала, что, может быть, и пирамиды помогли. Потому что внушение получается. Как гипноз.
— Ну, если гипноз, тогда ладно, — сказал Алхимик. "Гипноз" — это было научно, а в науку он верил беззаветно.
А Джонни, услыхав про Катьку, насупился. Вчера у него с Катькой было очередное решительное объяснение. Джонни сказал, что, если она по уши втюрилась в Алхимика, это ее личное дело. Ему, Джонни, на это наплевать (к тому же Алхимик парень вполне подходящий). Но почему при этом Катька шарахается от друзей? Например, от него, от Джонни? Он просто пришел к Инне Матвеевне (а даже и не к Катьке), чтобы договориться о репетиции, а она, Катька, смотрит на него, будто он сейчас начнет объясняться в любви…
Катька сказала, что он балбес. Ни в кого она ни вот настолечко не втюрилась (это во-первых), а смотрит она так потому, что у нее смертельно болит голова (это во-вторых).
"Ах, у меня смертельно болит голова", — томно повторил Джонни и сказал, что так говорят лишь капризные дамы вроде Викиной тетушки Нины Валерьевны.
Катя сказала, что он законченный нахал и что все нынешние мальчишки совершенно не умеют себя вести с женщинами.
Джонни разъяснил, что она еще не женщина, а просто девчонка. То есть сплошное недоразумение. По-немецки, например, девчонка даже не женского, а среднего рода: "дас мэдхен".
Катька прищурилась, как в прежние хорошие времена. И сказала, что ответит сейчас по-японски. И потерла левой рукой ребро правой ладони.
Она две недели по самоучителю занималась каратэ и считала себя большим специалистом.
Джонни сообщил, что японских фокусов он не изучал, но может по-русски — сзади коленом.
Катька прикинула глазом расстояние до Джонни.
Джонни напомнил, что у нее "смертельно болит голова".
Катька сказала, что это ничего.
Тут вошла Инна Матвеевна и велела садиться за стол. За чаем Джонни и Катька слегка помирились, но досада в Джонниной душе осталась.
Сейчас, у Алхимика, чтобы эту досаду никто не заметил, Джонни торопливо проговорил:
— Сделай еще одну шляпу, для Юрика Молчанова. Он тоже обещал прийти.
— Он в больницу пошел, — сказал Панин.
— Опять, что ли, заболел?
— Да нет, на проверку какую-то…
— Все равно склей, — сказал Джонни Алхимику.
Тот послушался.
Потом взялись за Горыныча. Выкройки драконьих голов были сделаны заранее, сгибы размечены. Через пятнадцать минут первая башка красовалась на столе среди химических склянок, паяльников и банок с разноцветными смесями.
— Ох и страшилище! — восхитилась Вероника Муравейкина. — А когда раскрасим, совсем красавец станет.
— Это Виктория эскиз делала, — объяснил Джонни, — моя соседка. Она — талант, в художественный институт собирается. А Серега Волошин в своем литературном кружке пьесу про Горыныча переписывает. Чтобы не такая глупая была…
— Ох и друзей у тебя, — с почтением сказала Вероника. — Целый город!
А ее одноклассник Владик Пистолетов по прозвищу Наган (хотя наган это вовсе не пистолет, а револьвер) громким шепотом сказал:
— Ой…
Никто сперва не понял, почему "ой". Наган был человек веселый, круглолицый, с рыжеватыми торчащими волосами. Но теперь он вроде бы похудел, а волосы печально полегли.
— Встать не могу, — жалобно сказал Владик. — Наверно, на стуле клей был.
Алхимик бросился к нему, поднял за плечи. Легонький гнутый стул оторвался от пола и повис за спиной у Нагана. То есть даже не за спиной…
— Теперь все, — деловито сказал Алхимик. — Дело мертвое. Этот клей называется "Собачья преданность".
— Почему? — спросил приятель Нагана Саня Чибисов.
— Потому что вечный и самый крепкий. Как собачья верность. Собака хозяина ни за что не бросит, пусть он хоть какой. Хоть двоечник, хоть кто… Она не спрашивает. Привязалась навеки, вот и все…
И Алхимик вздохнул. Другие тоже из вежливости вздохнули. Все знали, что у Вовки Алхимика мечта — завести преданную собаку. Но он не мог себе это позволить. Собака требует забот, а Вовка всю свою жизнь посвятил научным открытиям.
— Мне такая преданность зачем? — отчаянно спросил Наган. — Мне так и ходить, что ли, с этим стулом дурацким?
Алхимик сказал, что стул можно разломать и оставить только фанерное сиденье. Оно не тяжелое.
— Балда, — уныло проговорил Наган и, кажется, подумал: не зареветь ли?
— Мне за штаны дома знаешь что будет? Они же школьные.
У Алхимика иногда в самые неподходящие моменты прорезался холодный юмор. Алхимик сказал, что, когда объясняешься с родителями, иметь сзади такой щит совсем не лишнее.
Джонни нахмурился. Третьеклассники — его подопечные, и он, как командир, обязан был защищать их от всяческих невзгод.
— Ты вот что, — сказал он Алхимику вполголоса, но решительно. — Давай изобретай какой-нибудь раствор, чтобы эту "преданность" отмачивать.
Алхимик понял наконец, что дело нешуточное.
— Растворитель для маникюрного лака надо. И скипидар… Скипидар есть, а растворителя… — Он развел пятнистыми от химикатов ладонями.
— У Кати Зарецкой есть, — сказала Вероника Муравейкина.
— Да ты что! — возмутился Панин. — Инна Матвеевна сроду маникюр не делала.
— Она не делала, а Катька пробовала, — невозмутимо сообщила Вероника. — Света Головкина рядом с ней живет, она говорила…
— Катька совсем рехнулась, — сказал Вовка Алхимик. — Я ей, дуре, покажу маникюр.
Джонни опять нахмурился. Маникюр — это, конечно, дурь, но какое право Алхимик имеет воспитывать Катьку?.. Однако прежде всего — штаны.
— Панин, дуй к Катьке за лаком, — приказал он. — А ты, Наган, вылазь из штанов, пока насквозь не проклеилось. Тогда совсем худо будет.
… Панин вернулся через двадцать минут. Вместе с Катей. Она принесла пузырек. Алхимик приготовил вонючий раствор. Штаны отодрали от стула вместе с тонким слоем фанерной дранки, потом отмочили растворителем и дранку. Наган снова сделался беззаботным и веселым. Пока штаны сохли, он, ловкий и вертлявый, в черном тренировочном костюме, радостно скакал по комнате, и рыжие прядки торчали у него как коротенькие рожки.
— А не вставить ли нам в спектакль чертенят? — раздумчиво проговорил Джонни. — Для массовости…
— В "Спутнике" кино идет "Чертенок", — поглядывая по сторонам, сказала Катя. — Сказочный фильм. У меня два билета есть… Вовка, может, пойдешь со мной?
— А Джонни? — хмуро спросил честный Алхимик.
— Ну… я же не знала, что он здесь, — ненатурально соврала Катька.
— Мишка, давай вторую башку клеить, — сказал Джонни.
Алхимик решительно произнес:
— Катерина, это свинство.
— Ох и грубиян ты, Алхимик.
— Какой есть…
— Можете идти без меня, вдвоем с Джонни, — сказала она голосом больной принцессы. — Могу оставить билеты.
— Можешь, так оставь, — отозвался Алхимик.
— Так, да?
— Так.
— Ну, и пожалуйста! А я пошла.
— До свиданья, — решительно сказал Алхимик.
Джонни отрешенно молчал.
— Пойдем в кино, Джонни, — сказал Алхимик. — Пусть… Доклеим вторую башку и пойдем…
Через полчаса они шагали к "Спутнику" и оба сердито молчали. Но, конечно, не друг на друга они сердились, а на глупую Катьку. А может, на самих себя. О чем думает Алхимик, Джонни не знал, а сам он думал, что Катька за последнее время кошмарно поглупела. Ей, дуре, только бы поиграть в любовь и ухаживание… Ну что же, случалось, что и сам Джонни был не прочь поиграть. Но не до такой же степени, чтобы портить другим жизнь. И не будет он из-за Катьки страдать. Человеческая дружба — не собачья преданность, здесь голову иметь надо…
— Переживем, — сказал Джонни.
— Угу… — отозвался Алхимик. — А вон идет твой Молчанов.
Юрик шел навстречу. Увидел Джонни и заулыбался.
— Ты зачем опять в больницу ходил? — строго спросил Джонни. — Снова кашляешь?
— Да я все время помаленьку кашляю, — признался Юрик. И перестал улыбаться. — А в больницу — для анализов. Меня все-таки в санаторий посылают, в "Березку". На целый месяц.
— Месяц — это немного, — утешил Джонни. — Ты держись.
— Ага, я буду… Джонни… А когда приеду, все равно съездим с тобой, да?
— Куда? — не понял Джонни.
— Ну, в Москву-то! На морскую выставку!
— А!.. — Джонни помигал, вспоминая. — Ну, о чем разговор! Мы же договорились.
Юрик опять заулыбался. И они пошли к "Спутнику" втроем.
— Можно, я с вами на "Чертенка" пойду? — попросил Юрик. — У меня десять копеек есть.
— Ну о чем разговор, — снова сказал Джонни.
Однако оказалось, что билетов на этот сеанс уже нет. Юрик печально посмотрел на захлопнутое окошечко и опустил руки в полосатых варежках.
Алхимик задумчиво глянул на него из-под растрепанной и прожженной шапки.
— Вы вот что… Идите-ка вдвоем, без меня, — предложил он. — Я на эту картину не очень-то рвусь, у меня дел по горло…
Джонни обрадовался в душе: с Юркой ему было проще и легче. А Юрик — тот вообще просиял открыто.
Из вежливости они проводили Алхимика до угла кинотеатра. Там Юрик спохватился:
— Ой, а деньги-то! Ты возьми за билет.
— Я же его не покупал.
— Все равно. Катьке отдашь, — дернуло за язык Джонни.
Алхимик хмыкнул:
— Давай.
Юрик нашарил в кармане гривенник и еще пятак. Гривенник отдал, пятак зажал в варежке.
Алхимик ушел, Джонни и Юрик прошли в фойе.
— Давай глотнем газировки, — предложил Джонни. — В горле дерет от скипидарного запаха…
— А мелочь есть?
— У тебя же есть пять копеек. Мы по полстакана…
Юрик тихонько улыбнулся:
— Это не пять копеек. Это твоя монетка с "Золотой ланью". — Он разжал ладошку.
— А-а… — улыбнулся и Джонни.
— Я ее всегда с собой ношу, — сказал Юрик.
Джонни кивнул.
— Джонни… — Юрик нерешительно поднял светлые глаза, в них была тревожная просьба. — Можно, я спрошу… про одно тайное дело? Совсем-совсем по-дружески, чтобы никому больше…
— Конечно! — Джонни отключился от других мыслей. У Юрки было что-то нешуточное.
— Джонни, я вот чего боюсь… там, в "Березке"… Если очень уж станет так… ну, домой захочется. Особенно вечером. В горле совсем заскребет… Может, от этого есть какие-нибудь таблетки? Ну, как от укачивания в самолете. Ты не знаешь?
— Не знаю… — растерянно ответил Джонни.
— Я боюсь, что вдруг не сдержусь…
— Юрка… Ну и не сдерживайся, — тихо сказал Джонни. — Если потихоньку, не при всех, то иногда можно… Даже помогает.
— Тогда ладно… — со вздохом проговорил Юрик. — А может, я и ничего… Я с собой эту монетку возьму. И буду сильно-сильно в руке сжимать, если заскучаю. — Юрик улыбнулся, но глаза его по-прежнему были серьезные. А Джонни вдруг опять подумал, что Юрка стал почти одного с ним роста.
Но мысль о Юрко тут же перемешалась с другой — снова о Катьке и Алхимике. Это была колючая мысль: а почему Алхимик отдал билет? Пожалел Юрика и пошел домой к своим колбам? Домой ли? С Катькой они живут совсем рядом.
Подозрительность — нехорошее свойство. Но, с другой стороны, Джонни знал, что даже самые благородные люди иногда подвержены слабостям.
— Твой санаторий — не самая большая беда, Юрик, — с грустной доверчивостью сказал он. — Ты только не вздумай влюбляться.
Юрик раскрыл глаза широко-широко.
— Я что, ненормальный?
В дальнюю дорогу
Спектакль "Федя Мудрецов и дракон Горыныч" прошел с громким успехом. С таким, что его пришлось повторить на вечере старшеклассников и на общешкольном родительском собрании.
От начального сценария в спектакле осталось мало. Федя из унылого двоечника превратился в неунывающего и находчивого человека. Дракон Горыныч был уже не кровожадным чудовищем, а довольно добродушным зверем, несчастным от одиночества и необразованности. В конце спектакля Горыныч и Федя становились друзьями и дракон поселялся у Мудрецовых в гараже. Там он принимался за учебу: голова Стёпка — по программе третьего класса, голова Эдуард Коленкорович — в Институте охраны природы (заочно). И только голова Филиппыч от ученья отказалась, заявив, что она уже на пенсии…
Серега Волошин с приятелями не только переделал пьесу. Он еще написал песенки: для Феди и для Горыныча — для каждой головы.
Кроме третьеклассника Мудрецова и дракона в пьесе участвовали Федины одноклассники, черти-подростки, родители, глупый волшебник Звездочеткин и учительница. И зрители утверждали, что все они исполняли свои роли, как народные артисты. Но, конечно, самый громадный успех был у Горыныча. Он хохотал, пел, танцевал, жаловался на судьбу, звенел и сверкал панцирной чешуей, махал перепончатыми крыльями. Пасти его полыхали электронными вспышками. На афише, где указывались исполнители, было написано: "Змей Горыныч — группа под управлением Е. Воробьева".
Группа — потому что Горыныча играли пять человек. Один двигал крыльями, еще один управлял электроникой (это был сообразительный Мишка Панин), и, кроме того, потребовался, как и было задумано, исполнитель для каждой головы. Голову Стёпку играла Вероника Муравейкина. У нее оказался звонкий мальчишечий голос. Правда, сама она была толстая и в очках, но под шкурой дракона этого все равно никто не видел…
Потом школьные праздники прошли, и начались новогодние каникулы.
Третьеклассники забрали Горыныча себе. Лишние механизмы из него вытряхнули, а громадное сверкающее чучело таскали по улицам на палках — с хохотом и бренчаньем. А еще интереснее было, когда они с Горынычем съезжали с крепостного вала.
С этого вала катались все мальчишки и девчонки города. Да и взрослые тоже. На санках, на специальных снегокатах, а чаще — на фанерках или пластмассовых подносах. Целые толпы с криками и смехом неслись вниз по накатанным обледенелым склонам и, как пестрый горох, рассыпались по площади, где стояла большущая елка.
И вот представьте себе: над разноцветными куртками и шапками, распахнувши зеленые крылья, летит с высокого склона серебристое и золотистое чудовище с тремя оскаленными головами?
Иногда компания третьеклассников, которая во время такого полета держала Горыныча над собой, рассыпалась по сторонам и дракон ехал вниз на собственном пузе. Но и тогда он высоко держал три головы с хохочущими зубастыми пастями. И выше всех — голову Стёпку, на которой красовалась детская бескозырка с надписью: "Герой". Бескозырка не падала — Алхимик приклеил ее "Собачьей преданностью".
Алхимика Джонни увидел сразу, как поднялся на вал. И Катьку. Стоял уже совсем вечер, темно-синие сумерки. Но елка бросала с площади на гребень вала разноцветный переливчатый свет, и всех было прекрасно видно, все лица различимы. По Катькиному лицу пролетали будто оранжевые и голубые прозрачные крылья. И черные кудряшки под вязаной шапкой искрились. И глаза… Джонни вздохнул: все-таки Катька была красивая.
— Привет, — сказал он. — Не могли уж зайти за мной, олухи…
— Мы хотели, — объяснил Алхимик слегка виновато. — Да, говорят, тебя сегодня дома не было.
Джонни хмыкнул и посмотрел на Катьку уже не так ласково. Ясно было, кто "говорят".
Но обижаться, ревновать и портить себе настроение не хотелось. Потому что был праздник и зимняя сказка вокруг. На площади у сияющей елки вертелись украшенные лампочками карусели. Мерцал и переливался ледяной терем. И всем-всем было весело.
Но Джонни не стал здесь кататься. Он снова сказал Катьке и Алхимику "привет" и пошел по гребню вала туда, где потише. К Песчаной улице. Здесь тоже была сказка, но другая, задумчивая. Огоньки внизу светили неярко, заснеженный сквер был похож на дед-морозовский лес, месяц вверху — уже не тонкий, налитой, похожий на запрокинутый кораблик — светил ярко. Небо вокруг него было зеленым, а клочковатые облачка серебрились. Старинные белые соборы высоко подымались над валом. Они казались вырубленными из громадных сахарных глыб, а сахар этот словно подсветили изнутри.
Народу в этом месте было немного. Но третьеклассники катались именно здесь. Человек десять. Они ездили со склона сами по себе, а утомившийся за день Горыныч отдыхал в кустах у подножия вала.
Третьеклассники шумно приветствовали Джонни, но кататься не перестали.
Джонни тоже стал кататься. У него был великолепный поднос из белой пластмассы. Такой громадный, что хоть втроем садись. Красными буквами на нем было написано "FLUGTALER". Поднос подарила Вика, она же сделала надпись. И объяснила, что это означает по-немецки "летающая тарелка".
Тарелка и в самом деле была летающая. Скользкая пластмасса свистела по накатанным склонам почти без трения и выносила легонького Джонни на середину сквера — на поляну, где торчали вырезанные из сухих стволов богатыри и колдуны…
Джонни съехал несколько раз, потом наверху разговорился с Мишкой Паниным.
— Сегодня днем Горыныча для телепередачи снимали, — сообщил Панин. — Дядька из Москвы приезжал с кинокамерой.
Джонни и обрадовался, и огорчился. Обидно стало, что его на съемке не оказалось.
— Мы сказали, что Горыныча ты придумал, — объяснил понимающий Панин. — Дядька твою фамилию записал.
Это Джонни утешило.
Панин сообщил еще одну новость:
— От Молчанова открытка пришла из санатория. С поздравлением.
— Мне тоже, — сказал Джонни слегка досадливо, потому что его царапнула совесть. А царапнула она из-за письма. Письмо от Юрика пришло еще давно, в середине декабря. Молчанов писал, что живет хорошо, не скучает, но дома все равно лучше, только ничего не поделаешь, потому что надо хроническую пневмонию вылечивать до конца. Еще писал, что в санатории есть школа и он учится нормально и что у них тоже будут каникулы. Плохо только, что каникулы эти придется провести в "Березке", потому что смена кончается десятого января.
"Жалко, что мы с тобой в каникулы не поедем в Москву, — выводил Юрик большими, но ровными буквами. — Но потом все равно поедем, да? "
В конце письма, как печать, чернел натертый карандашом кружок — оттиск полупенни с корабликом. И Джонни хорошо вспомнил вечерний разговор дома у Юрика, жареную картошку и тонкий месяц в окне. И подумал, что надо Юрке ответить. Сразу же. Но сразу не получилось, потому что позвонил Борис Дорин, велел прийти за вспышками для голов Горыныча.
Потом надо было учить математику, а то Анна Викторовна вкатает трояк за четверть (самое обидное, что все равно вкатала). Потом еще навалились какие-то дела… В общем, не написал Джонни ответ. А теперь и смысла нет писать. Пока письмо придет в "Березку", глядишь, и смена Юркина закончится…
— Ох, все-таки я такая свинья, — сказал Джонни. — Юрка мне и письмо, и открытку, а я так и не раскачался.
Обругав себя, он почувствовал кое-какое облегчение.
Мишка успокоил его еще больше:
— А мы писали ему от тебя привет. Димка писал. И что ты его вспоминаешь… Ну, помнишь, мы про него разговаривали, когда крылья Горынычу делали.
Джонни вспомнил: действительно разговаривали про Молчанова. Да и не раз, кажется… Он обрадовался:
— Спасибо, Мишка. Голова у тебя варит.
— Ага… Можно, мы вместе на твоей тарелке скатимся?
— Давай.
Мишка был грузноват, но пластмассовый "флюгталер" будто не ощутил двойной тяжести и унес обоих пассажиров далеко в сквер. И замер на утоптанной дорожке — прямо у ботинок высокого прохожего. Тот чуть не полетел с ног.
— Ой… мы нечаянно, — пискнул на всякий случай Мишка.
Прохожий сказал с высоты:
— Если не ошибаюсь, товарищ Михаил Панин и товарищ Евгений Воробьев…
— Здрасте, Борис Иваныч! — хором обрадовались Джонни и Мишка.
— Осваиваем снежные трассы?
— Ага! — Джонни вскочил и отряхнулся. — Хотите с нами?
— Очень хочу. Но совершенно не могу. Во-первых, модное пальто обдеру, во-вторых, иду по делу… Джонни…
— А? — в один миг насторожился Джонни.
— Раз уж повстречались, может, проводишь немножко?
Джонни сунул Мишке в варежку веревку от "флюгталера".
— Катайся пока на моей тарелке. Если задержусь, затащишь мне домой.
Осчастливленный Панин усвистал наверх.
Джонни и Борис Иванович неторопливо зашагали рядом и вышли из сквера на Песчаную. Горели желтые фонари, и утрамбованный на асфальте снежок тоже был от них желтым. На нем темнели переплетенные тени кленовых веток.
— Я на почту иду, — как-то нехотя сказал Борис Иванович. — Ты не торопишься?
— Нет…
Борис Иванович неловко усмехнулся:
— Я вот о чем подумал… Мы не первый раз так с тобой шагаем и беседуем о жизни.
— Мы пока еще ни о чем не беседуем, — осторожно напомнил Джонни.
— Да… В общем, так. Послезавтра еду в Москву, а оттуда лечу на юг.
— Зачем? — не понял Джонни.
— Ты разве забыл? Я говорил про лагерь.
— А… — сразу вспомнил Джонни. И опустил голову. И все стало… да нет, ничего не стало, все было прежним. Только скучно сделалось.
— Значит, насовсем? — негромко спросил Джонни.
— Пока на несколько дней. Посмотреть новое место, решить кое-какие вопросы. Потом вернусь еще, конечно, только ненадолго.
— А может, не надо? — сказал Джонни полушепотом. И получилось жалобно, как у малыша.
— Не надо возвращаться?
— Не надо уезжать, — произнес Джонни уже иначе, неласково. — Это же от вас зависит.
— Кое-что от меня. Кое-что нет. И это "нет", братец, мой, сейчас сильнее.
— Почему? — хмуро спросил Джонни.
— Обстоятельства. Ты ведь не маленький, должен понимать, что такое обстоятельства.
Джонни ровным голосом сказал:
— Я понимаю. Обстоятельства — это второстепенные члены предложения. Обстоятельства места, времени и образа действия.
— Угу… Только не всегда они второстепенные, если на самом деле. Они смешиваются — обстоятельства времени, образа действия и места. И получаются обстоятельства жизни.
— Вообще-то я слыхал, что человек бывает сильнее обстоятельств, — так же ровно отозвался Джонни. — Это иногда и в книжках пишут. Но я сам в этом пока не разбираюсь.
— Ты обиделся?
— Нет, — честно сказал Джонни. — Только жалко…
— Что?
— Что уедете…
— Может быть, другой директор будет лучше.
— Может быть… Не в этом дело.
— А в чем?
— Ну что вы, не понимаете, что ли? — тихо сказал Джонни и пнул смерзшийся комок.
— Что… не понимаю?
— Просто жалко… что больше не встретимся.
— Да… — выдохнул Борис Иванович и помолчал. — Думаешь, мне не жаль? Если говорить честно, Женька, ты был для меня в этой школе самое светлое пятно. Теперь-то я могу это сказать, бог с ней, с педагогикой.
— А я и так знал, — дерзко сказал Джонни.
Борис Иванович коротко засмеялся:
— Да? Ну и отлично.
— Ничего не отлично… Все равно больше не увидимся.
— Зачем уж так-то? "Больше не увидимся".
— А где? Ну, может, случайно когда-нибудь…
— Слушай! — Борис Иванович остановился. — Джонни! А давай я тебя летом в этот лагерь заберу! Мы с тобой там такие дела устроим! А? Давай! Хоть на все три смены!
Джонни тоже остановился. Потому что это была идея! Обстоятельства жизни сразу и сильно менялись.
— А это можно?
— А чего же? Я же буду начальник. В конце концов, не обязательно по путевке, будешь жить у меня.
Джонни задумался. Первая радость схлынула, теперь он размышлял спокойнее.
— Это хорошо, конечно… — вздохнул он. — Только на все лето нельзя. У меня и здесь куча дел. Раскопки под валом устраивать будем, крепостное подземелье искать…
— Но на одну-то смену можно!
— Да… — Джонни опять вздохнул. Потому что до лета было почти полгода. Целая бесконечность.
Борис Иванович его, кажется, понял. Помолчал, похлопал себя по карманам, будто искал сигареты, хотя не курил (по крайней мере при ребятах). Потоптался и вдруг предложил:
— А махнем сейчас вместе, а?
— Куда? — не понял Джонни.
— Туда, на юг. В лагерь… Мне одному лететь туда тоже как-то… несладко. А тут вдвоем. Веселее. А?
Джонни изумленно моргал.
— В самом деле! — Борис Иванович оживился. — Это же ненадолго! Туда и обратно — неделя, за каникулы управимся. Там сейчас, конечно, не лето, но все равно хорошо. Говорят, в этом году и зимы-то нет, бывает до десяти градусов тепла, а то и больше. Трава зеленая. В такую погоду даже миндаль начинает зацветать! Знаешь, как цветет миндаль? Листьев еще нет, а все ветки в цветах.
— Вы… это правда, что ли? — шепотом сказал Джонни.
— Конечно! Это же просто! Послезавтра вечером в Москву, там в аэропорт, а утром уже в Крыму… И к морю… Море всегда море, Джонни, не только летом… Вот сейчас так и слышу запах водорослей. Побродим по берегу… Ты был у моря?
Джонни был. Но очень давно, больше чем полжизни назад. Он с родителями жил в пансионате в Анапе. Потом ему вспомнилась толпа на знойных пляжах, взбаламученное мелководье и постоянные мамины страхи, что он утонет или потеряется. А настоящее море он не запомнил. Уже потом из книжек он узнал, что море — это целая жизнь приключений, открытий и путешествий. И очень жалел, что раньше по молодости лет не понимал этого.
Теперь-то он все понимает и познакомится с морем как следует!
Только… неужели это всерьез?
— Сейчас позвоню знакомому в Москву, чтобы заказал туда и обратно два билета, — решительно проговорил Борис Иванович.
— Ага… "два билета", — спохватился и приуныл Джонни. — Он сколько стоит, билет-то…
— У тебя же будет школьный, за полцены. Вернее, просто детский, тебе еще нет двенадцати.
— Полцены — это тоже… — грустно сказал Джонни. — Мы недавно холодильник новый купили.
— Как-нибудь… Я недавно получил гонорар за статью в "Семье и школе"… Я тебя в конце концов приглашаю. Ясно?
— Нет уж, — решительно возразил Джонни. — Лучше я скажу дома, что не надо к лету нового велосипеда. Этот год как-нибудь проверчусь на старом драндулете, Дорины починят… Только… — Он замолчал и виновато засопел.
— Что?
Джонни спросил тихо, будто он не храбрый пятиклассник Воробьев, а оробелый первоклашка:
— А вы не пошутили?
Желтый миндаль
Родители были ошарашены. По крайней мере мама. Она так и сказала:
— Я просто ошарашена. С чего это вдруг директору пришла такая мысль?
А папа добавил:
— Неужели ты ему не надоел в школе?
— Ну, во-первых, сейчас не школа, — возразил Джонни. — А во-вторых, мы все-таки друзья.
— О боже… — сказала мама.
— Бедный Борис Иванович, — сказал папа.
Потом они еще что-то говорили. Но это неважно. Важно, что в конце концов они согласились. Потому что они были лучшие на свете мама и папа (это Джонни знал твердо, хотя и усматривал у родителей отдельные недостатки). И потому что, когда просит сам директор школы, спорить неприлично. А то, что он уже не хочет быть директором, мама и папа не знали.
Конечно, они еще многое выясняли, уточняли, беседовали по телефону с Борисом Ивановичем и весь следующий день учил). Джонни, как себя вести в дороге. Но это было даже приятно. Это как бы входило в подготовку к путешествию.
Джонни сперва проявлял спокойствие и выдержку, но к вечеру не выдержал и объявил, что пора собираться. И выволок из-под шкафа пыльный чемодан.
— У тебя завтра еще целый день, — сказала мама.
— Ты сама говоришь, что я все делаю в последний момент, — упрекнул Джонни.
Он положил в чемодан общую тетрадь, чтобы вести путевой дневник. Потом карандаши — основной и два запасных. Мыло, пасту, щетку, полотенце. Фонарик — ночи на юге очень темные. Потом раскопал на антресолях кеды, а в шкафу полинялые шорты и две майки с изображением спортсмена-лучника.
— Джонни, ты спятил, — осторожно сказал папа. — Сейчас там не лето и даже не весна.
— Борис Иванович говорит, что в Крыму нынче очень тепло.
— Но не настолько же…
— Борис Иванович говорит, что, может быть, даже миндаль скоро зацветет.
— Миндаль цветет не раньше конца марта…
— А Борис Иванович говорит…
— Кроме того, миндаль совсем не свидетельствует о теплой погоде. Он…
— Ну, папа! — сказал Джонни, как человек, у которого отбирают сказку. — Чего раньше времени спорить? Там увидим.
Отец махнул рукой. Они с мамой собирались в Дом культуры на концерт московского пианиста. И через полчаса Джонни остался наедине с чемоданом.
Пусто стало и как-то сразу расхотелось торопиться. Но все же Джоннина радость не прошла. Просто она сделалась тихая и спокойная. Отчетливо тикал будильник, сделанный в виде золотого ключика. В кухне, как сытый медвежонок, урчал новый холодильник. Эти звуки отзывались еле слышным звоном в тонких елочных шарах. Шары тихонько поворачивались на длинных нитках.
Джонни прикрыл чемодан и подумал: чем бы заняться? Пойти покататься с вала или включить телевизор? Но вместо этого он устроился в кресле перед елкой и стал разглядывать игрушки.
Игрушки были разные. Некоторые Джонни помнил, как помнил себя, они появлялись на елке каждый год. Например, этот желтый ватный цыпленок (порядком потрепанный) и эти старые серебряные рыбки. Но были и совсем новые звезды, фонарики и несколько блестящих шаров — малиновых и зеленых. Они походили на маленькие планеты…
Джонни смотрел на елку и тихонько прощался с ней. С зимой, со снежными каникулами. Завтра вечером укатит в Москву, а потом — туда, где нет ни снега, ни холода и где цветет загадочный миндаль.
Что это за цветы? Джонни раньше слышал такое название, но внимания не обращал. А сейчас задумался.
"Мин-даль, — сказал он одними губами. — Мин… даль… " Слово перекатывалось на языке, как стеклянная бусина. Урони — и зазвонит на полу.
Интересно, что это слово значит? А может, оно из нескольких слов?
"Мин" — по-голландски значит "мой". В книге "Петр Первый" Мойщиков называл Петра "мин херц". Значит, "мое сердце". "Мин даль". Значит, "мой даль"? А что такое "даль"? Если бы даль "моя" — тогда понятно: широта какая-то, простор. Но здесь — "мой"… А если даль — это "он", тогда что?
Или кто?
Был человек с такой фамилией — Даль — друг Пушкина. Врач и писатель. Он еще словарь написал… Нет, цветы здесь ни при чем… Но зато словарь близко, у папы на стеллаже. И там слово "миндаль", конечно, есть!
Джонни вытянул с полки том с буквами "И — О" на корешке и нашел, что хотел. И узнал, что миндаль — это "дерево "Amygdalus communis" и плод или орех его… ". И дальше были еще объяснения про бобовник и персик и так далее. Но не было ни слова, какие у миндаля цветы. Джонни огорченно повертел книгу. Она была в ярко-желтом переплете. Папа купил словарь в букинистической лавке, тома были растрепанные, без корочек, и пришлось их отдать в переплетную мастерскую. В мастерской нашелся только такой коленкор — будто лепестки подсолнуха.
— Мин-даль… — опять сказал тихонько Джонни, и ему показалось, что цветы миндаля такого же цвета, как корочки словаря.
Он поставил книгу, но к елке не вернулся, а прилег на диван у отцовского письменного стола — щекой на упругий валик. И стал смотреть на оконное стекло, которое было с одного угла затянуто морозным кружевом. Ледяные узорчатые листья искрились, небо за окошком начинало зеленовато светиться. Джонни улыбнулся, он понял, что сейчас в оконный квадрат станет медленно вплывать желтый, запрокинутый на корму кораблик…
Джонни не дождался кораблика. Потому что небо стало синим и очень высоким. И его сделалось много. Кругом. А сам Джонни оказался на крепостном валу, но это был не тот знакомый вал в их городе. Гораздо выше. И невдалеке начиналось и убегало в дальнюю даль море, и оно было еще синее, чем небо.
На валу и на всем берегу сплошь цвели желтые деревья.
Это был не печальный осенний цвет, а солнечный, очень теплый. Летний. Как у одуванчиков, когда они в конце мая высыпают на лужайках. Цветущие деревья закрывали склоны и берег яркими грудами. Листьев не было, зато желтые гроздья цветов сплошь покрывали ветки и стволы. Громадные гроздья, по форме похожие на соцветия черемухи, только гораздо крупнее.
Цветочная гроздь качалась у самой Джонниной щеки. Джонни разглядел выпуклые лепестки, прожилки на них и мохнатые, как ножки шмеля, тычинки. От всплеска громадной радости Джонни зажмурился и глубоко-глубоко вдохнул теплый южный воздух. Солнце ласково трогало ресницы и лоб. У желтого миндаля запах был, как у одуванчиков, когда в них с размаха зароешься лицом.
— Ура… — шепотом сказал Джонни. — Ой, какое ура… — Раскинул тонкие, незагорелые еще руки, оттолкнулся упругими кедами и кинулся со склона к морю.
Солнечный цвет летел ему навстречу. Пушистые лепестки облепили белую майку со стрелком из лука, мягко чиркали по голым рукам и ногам, губы стали сладковатыми от пыльцы. А Джонни все мчался и теперь понимал, что бежит не с вала, а с крутой пирамиды, заросшей по самую верхушку желтым миндалем. Ветки делались все гуще, наконец сплелись в сетку, подхватили, подкинули над желтой рощей легонького Джонни… И он ничуть не испугался, потому что падать стал медленно-медленно. И купался в солнечном тепле. И знал, что мягкие ветки подбросят его снова…
Слово "миндаль" тихонько звенело в воздухе — как стекляшки, которые девчонки просыпали на каменные ступени. "Мин-даль… даль… даль… динь… длинь… "
И когда желтые деревья погасли и Джонни понял, что этот перезвон — телефонный сигнал в прихожей, он ничуть не огорчился. Короткий южный сон был как неожиданный подарок. Еще одна радость ко многим радостям, которые ждали Джонни впереди. В этом сне все было такое настоящее, что Джонни запомнит его навсегда.
Телефон сыпал негромкий, но длинный и настойчивый звон. Джонни понял: это междугородный сигнал. Он не удивился. Двоюродная сестра Вера часто звонила из Москвы. И сейчас это, конечно, она. Будет передавать приветы от себя, от Валентина Эдуардовича и спрашивать, не приедет ли Джонни в гости. Небось и билет на какую-нибудь столичную елку для него раздобыла.
А он не приедет, он не может! Скоро он будет далеко-далеко! У самого моря!
Джонни, сияя, выскочил в прихожую. Подхватил скользкую трубку.
— Это ты, Вера?
— Это я, — сказал тонкий голос. Чуточку знакомый, но непонятно чей. — Это ты, Джонни?
— Я… А ты? Ты кто?
— Юрка!
— Какой Юрка?
— Ну, это я! Молчанов!
Снова о пирамидах
Тревожиться было нечего. Совершенно нечего. И все-таки Джонни слегка вздрогнул. И спросил сердито, чтобы эту непонятную тревогу прогнать:
— Ты откуда взялся? Уже приехал?
— Нет, я из "Березки".
"А зачем звонишь? " — спросил Джонни. То есть нет, не спросил. Хотел только, но почему-то удержался. Сам не знал почему.
— Я не из самой "Березки", а со станции, — торопливо и звонко сказал Юрик (так чисто было слышно, будто он рядышком) — Тут будка автоматная, на ближние города, вот я и звоню. По пять копеек спускаю.
— А почему ты на станции? Ты что, сбежал?
— Да нет? — Юрик переливчато засмеялся. — Ко мне мама приехала. Она может меня домой забрать, если я хочу.
— А тебя отпустят? Ведь еще целая неделя…
— Меня отпустят, если я очень попрошу и мама! Потому что наш врач говорит, что у меня все хорошо. Потому что я под пирамидой лечился.
— Что? — спросил Джонни слегка обалдело.
— Да! Я такую пирамиду из картонного ящика сделал и над кроватью устроил и под ней спал в тихий час и ночью. Ты же сам говорил, что пирамиды для всего полезны, и для здоровья тоже.
Джонни тоже засмеялся:
— И тебе разрешили?
— Ага! Я же говорю, у нас такой хороший врач. Он на нашего директора похож. Он сперва хохотал, а потом сказал: спи на здоровье под пирамидой, если тебе это помогает. Говорит, хуже не будет… А мне даже лучше! Это на рентгене видно!
"А зачем ты звонишь-то? " — опять подумал Джонни. Вообще-то ничего удивительного не было: дорвался человек до телефона и трезвонит на радостях. Свобода! Домой еду! Но беспокойство опять царапнуло Джонни.
— Юрка! Значит, ты сейчас домой поедешь?
— Я не знаю! Мы с мамой пришли тебе позвонить, можно ли?
— А я-то при чем? — изумился Джонни.
— Ну, потому что я сказал Владимиру Геннадьевичу, врачу нашему, что мы с тобой должны на каникулах в Москву поехать, что это очень важное дело. И маме сказал. Ну вот, Владимир Геннадьевич и говорит: если правда поедете, то отпущу. Раз уж такое это неотложное дело! А мама говорит: давай сперва спросим Джонни… Джонни! Мы поедем?
Сон про желтый миндаль опять колыхнулся в глазах у Джонни. Только не было упругой сетки из цветов, а будто носом о твердый ствол…
— Джонни!.. — обеспокоенно зазвенел Юркни голос.
— Да подожди ты! — отчаянно сказал Джонни.
— Я жду… Только у меня деньги автоматные кончаются.
— Ты же писал, что десятого числа приедешь!
— Ну да! Вот мама и говорит: позвони, вдруг Джонни занят в каникулы! А ты ведь не занят?
"А вот как раз и занят! Откуда я знал, что ты, балда такая, сорвешься из "Березки" раньше времени? Что же мне, от Черного моря отказываться? Я на юг улетаю! " — Так Джонни должен был ответить по всем законам здравого смысла. Так он и ответит сейчас. Только секундочку он помедлил. Потому что дурацкое воображение не вовремя подсказало ему, как Юрка тихо опустит трубку и молча поднимет на мать невеселые глаза.
И ничего даже не скажет — и так все будет понятно… Ну и переживет!
Поспит еще недельку под своей пирамидой. Сам виноват. Кто его просил сваливаться как снег на голову…
Да не как снег. Он же спрашивает: можно или нет?
Вот и надо сказать: нельзя, уезжаю.
А может, соврать что-нибудь? Сказать, что сестрица Вера заболела и в Москву к ней сейчас нельзя? Тогда получится, что никто не виноват.
А разве сейчас кто-то виноват?
Не будет он врать. Не врал Джонни своим солдатам и адъютантам никогда в жизни. Всякое в жизни случалось, но такого не было. И сейчас не выйдет.
— Джонни! Ты что молчишь?
— Я думаю, — сумрачно сказал Джонни. Хотя чего было думать?
— Ты думай скорее, я последний пятак бросаю, — сказал Юрик уже с печальной ноткой. Почуял что-то.
— Я же не знал, что ты на неделю раньше…
— Я понимаю…
"А у меня самолетный билет до Симферополя! " Хотя еще неизвестно. Может, еще и не купили билет…
— Уже цифры зажглись, — как-то глухо сказал Юрик (теперь сразу слышно, что издалека).
— Ладно, я сейчас, — глупо ответил Джонни. — Я… Это… А что, больше нет денег?
— Нет… Подожди… Джонни, еще полминуты! — Голос Юрика звенел, как тугая струнка, которую дергают нервно и неумело. — Джонни!
— Что, нашел пятак? — совсем уже по-идиотски спросил Джонни.
— Нет! Я ту монетку спустил, с корабликом!
— Что-о?
— Потому что больше нету! Джонни! Ну, ты скажи, мне ехать или нет? Скорее! Нет или да?!
Если бы он спросил "да или нет", Джонни и ответил бы, наверно, что нет. "Нет, я не могу, Юрка! " Но Юркиным последним словом было "да". И в этом "да" звенел такой отчаянный нажим, что Джонни рявкнул беспомощно и зло. Будто в рифму:
— Да!
Потом, испугавшись этого крика, добавил помягче:
— Ладно, приезжай…
Кораблик
Бориса Ивановича Джонни встретил на углу Крепостной и Первомайской. Директор шел в магазин за сосисками для ужина. Джонни сразу сказал ему, что лететь в Крым не может. И сразу объяснил почему.
Они пошли рядом. Как вчера. По заснеженному тротуару — желтому от фонарей и узорчатому от переплетенных теней.
— Да… Значит, не судьба, — сказал Борис Иванович. — Или, вернее, как раз судьба…
— Как это? — сумрачно отозвался Джонни.
— Такая, значит, у тебя судьба, Джонни Воробьев, — повторил Борис Иванович. — Ты командир. Ты никого из своих не можешь ни бросить, ни обмануть… Видишь, я тебя даже и не уговариваю лететь.
— Да, — сказал Джонни. И на миг он гордо поднял голову.
Он командир. Это было объяснение. Все делалось простым и точным. Но… это для Бориса Ивановича так делалось. А Джонни почти сразу почувствовал: нет, все гораздо сложнее.
Если бы он был командир, никаких осложнений не получилось бы. Он сказал бы своей армии коротко и четко: "Операция переносится. Уезжаю по делам". Армия, может быть, вздохнула бы, но ни роптать, ни укорять Джонни не стала. Она привыкла верить командиру всегда и во всем. Потому что он никогда не подводил… Ну, а если бы ожидалось важное и неотложное дело, если бы уехать в самом деле было нельзя, Джонни подчинился бы судьбе спокойно и гордо. Что поделаешь, такая командирская доля.
Но сейчас-то никакого срочного дела не ожидалось! И армия беззаботно веселилась на каникулах, и для Юрика не был он в эти дни командиром. И ничего не случилось бы, если б бестолковый Молчанов еще недельку проторчал бы в санатории. Ну совершенно ничего не случилось бы…
И кой черт дернул Джонни за язык? "Ладно, приезжай"… Неужели человек не имеет права слетать на юг, если раз в жизни привалила удача?
Джонни разъедала досада. Жгучая, как растворитель Алхимика. И пожалуй, досада эта была сильнее самой жалости о потерянном путешествии. Потому что получилось глупо. Непонятно получилось, а Джонни любил в жизни ясность.
Он не мог объяснить себе, зачем это сделал. И чего он испугался? Почему не сказал "нет"?
— "К-р-р, к-р-р", — отчетливо говорил под подошвами снежок, и Джонни шел, глядя на свои сапожки, и молчал. И Борис Иванович тоже молчал.
"Завтра он улетит, — думал Джонни. — Сперва на неделю, потом насовсем… Там хорошо, там миндаль…" И сделалось Джонни как-то одиноко. Будто совсем не осталось друзей. Он даже сердито хмыкнул — таким неправдашным было это ощущение. Это у него-то нет друзей? Это он-то одинокий? Уж чего-чего, а друзей у Джонни хватало. С самого раннего детства. Еще в детском садике…
"Это не друзья", — шепнул кто-то Джонни. Или сам себе он шепнул в глубине своих мыслей.
"А кто? " — ощетинился Джонни.
"Это верные твои солдаты и адъютанты. Они тебя слушаются, они тебя любят. Только это еще не дружба. Дружба — это если на равных… "
"А в классе… "
"В классе? Да-а… В классе ты авторитет. Сказал слово — и все открыли рты. Посоветовал — и все слушают. Пирамиды сделали… И ждут: что еще новенького подкинет Джонни Воробьев? "
"А Серега и Вика! А Степан и Борька Дорины! "
"Они выросли… Ты для них всегда был маленький Джонни, а теперь совсем… Они почти взрослые, им не до тебя… "
"Неправда! — взъярился Джонни. — Они все равно настоящие, они меня никогда не предадут… "
И это была правда. Если что случится, все придут на помощь: и третьеклассники с храбрым командиром звездочки Мишкой Паниным, и весь Джоннин пятый "А", и Вика, и Сережка Волошин, и Дорины. И даже Катька Зарецкая кинется на выручку, это уж точно. И деловитый Алхимик… А если придет к Джонни удача, они от души будут радоваться за него…
Но если нет ни беды, ни радости, а только обыкновенная жизнь? Тогда с кем ты можешь побыть рядом просто так? И поговорить о своем? О плавании на плоту вокруг света или о тайнах подземелий. Или еще о чем-нибудь, как, например… Что "например"? С кем? Например, как с Молчановым, который тогда рассказывал о своих корабликах. И о "вахтенном журнале", и о корабельной рубке… И о тонком-тонком месяце вокруг темной луны…
С Катькой сейчас про такое не поговоришь. Раньше можно было, а теперь… С Борисом Ивановичем? Он скоро уедет насовсем. И, кроме того…
"Что? " — нахмурился Джонни.
"Кроме того, признайся: в этой дружбе была для тебя капелька хвастовства. Для самого себя. А? Тебе нравилось, что с тобой дружит директор… "
"Нет! — огрызнулся Джонни. — Неправда… Не в этом дело".
"А в чем? "
"Я-то для него никакой не директор, а он со мной тоже дружит… Но теперь все равно. Он уезжает… "
"Ну и что же, что уезжает? Может, ты думаешь, что он тебя предал?"
"Не думаю. Просто его вынуждают обстоятельства… Есть у взрослых такое дурацкое слово — "обстоятельства". Это когда надо объяснить уважительную причину… "
"Но у тебя-то нет уважительных обстоятельств… "
"Но я и не поехал! Я же остался, черт возьми! "
"А по-че-му? "
"Потому что я испугался", — подумал Джонни.
Он подумал это без обиды на себя, а только с тепловатым смущением, будто от чьей-то излишней ласки. Он коротко, но глубоко вздохнул и помотал головой (так, что распущенные уши мохнатой шапки захлопали по щекам). Стало чуточку яснее на душе. Проще.
"Я испугался… "
"Чего? "
Джонни объяснить не мог ни словами, ни мыслями. Но он чувствовал: если бы сказал тогда "не приезжай", порвалась бы незаметная, неуловимо тонкая ниточка. Как та светлая паутинка, что связывает концы узенького месяца в первый день новолуния. Ниточка между ним и Юркой.
Джонни отчетливо представил, как в тесной телефонной будке нетерпеливо переступает большущими валенками и толкает в щель монетку с корабликом — будто последний патрон расходует — этот маленький Юрик Молчанов… А почему маленький? Они уже почти одного роста. Велика ли разница в два года? Между старшей и младшей группой в детском саду велика. А между пятым и третьим классом — не очень. И чем дальше люди растут, тем больше эти два года стираются между ними… И кажется. Юрка понял это раньше Джонни. Понял, что теперь у них — по-другому…
—… Не в том дело… — вполголоса сказал Джонни.
— Что? — не понял Борис Иванович.
— Не в том дело, что я командир, — сказал Джонни, глядя под ноги, на желтый от фонарей снежок. — Юрка Молчанов, он вот никакой не командир, а он на моем месте тоже не уехал бы.
— Да? — рассеянно спросил Борис Иванович. Наверно, просто так, лишь бы как-нибудь отозваться. Но Джонни ответил уверенно, будто поставил точку:
— Да.
И вспомнил свое "да" в разговоре с Юриком. Такое резкое и досадливое. И вдруг испугался, что для Юрика оно могло быть как обидный толчок локтем. Будто не "да", а наоборот.
"Но ведь я сказал еще: ладно, приезжай".
"А если уже было поздно? И… если он решил, что ехать не надо? "
Джонни испугался этой мысли неожиданно и сильно. И колючий страх сразу перебил другие заботы и тревоги. Джонни задержал шаг.
"Да нет, он приедет, — сказал себе Джонни. — Не зря же он так ждал ответа. Раз любимую монетку с "Золотой ланью" не пожалел".
Конечно, Юрик приедет. Сейчас он уже, наверно, сидит в мамой в электричке и смотрит в темное окно (а за стеклом по черным елкам, как по крутым гребешкам зыби, мчится, не отставая, месяц-кораблик).
"Но ему сейчас не до месяца", — понял Джонни.
Юрко не до месяца, не до зимних сказок. Он сидит и томится: а почему Джонни говорил так хмуро? И как он его, Юрку, встретит?
Эту тревогу далекого еще Юрика Джонни ощутил какой-то глубокой, тайной ниточкой-нервом — безошибочно и ясно. Как ощутил, почему — трудно разгадать. Тайны человеческой души такие же запутанные и неизученные, как загадки пирамид. Или даже сложнее…
Джонни сказал:
— Борис Иванович, я пойду. Я на вокзал. Надо узнать, во сколько приходит Юркина электричка.
— Иди.
Борис Иванович стянул перчатку, а Джонни потрепанную свою варежку, и они пожали руки. Коротко и просто, без лишних слов, без всякого значительного молчания и вглядывания друг другу в глаза.
— Увидимся еще, — сказал Борис Иванович.
— Счастливо слетать… Я пошел.
И Джонни не пошел, а побежал к серебристо мерцающему крепостному валу.
Борис Иванович… Рука так и просится написать: "Борис Иванович стоял и смотрел ему вслед". Но это неточно. Он смотрел себе под ноги. На тени кленовых ветвей, на втоптанную в снежок коробку "Беломора"… А потом он посмотрел вверх, за снежные деревья. Там поднималась четырехэтажная школа. Она еле угадывалась в мутноватом ночном небе: окна были непривычно темны: уроков нет — каникулы, а новогодние вечера уже прошли. Лишь кое-где окна чуть искрились — то ли отражали рассеянный свет месяца, то ли мерцали сами по себе.
Очень хочется написать, что, посмотрев на окна своей школы, Борис Иванович сначала тихо, а потом все решительней зашагал к отделению почты. И там вечерней дежурной телеграфистке сдал телеграмму для своего товарища, что на юг он не поедет и начальником лагеря он не станет… Но мы этого не знаем. И расстаемся мы с директором школы номер два здесь, на улице, когда он о чем-то думает и что-то решает, глядя на темные окна дремлющих классов.
Ладно. В конце концов, не он главный наш герой. Главный — Джонни. Мы с ним расстаемся, но здесь проще. По крайней мере сейчас проще. Джонни с разгона, не заметив крутизны, взлетел по тропинке на вал, промчался по нему шагов двести и по заснеженному склону ринулся вниз — к желтоватым огонькам Вокзальной улицы. Он мчался без тропинки, сквозь мелкие березки, которыми зарос восточный скат крепостного вала. Заснеженные ветки быстро, но мягко задевали его щеки, и он вспомнил на миг сон про желтый миндаль. Но только на миг. Он спешил.
А над ветками летел запрокинутый месяц-кораблик с серебристым клочком облака, похожим на вздувшийся парус.
1969 — 1985 г.г.
СКАЗКИ СЕВКИ ГЛУЩЕНКО
ЧТО ТАКОЕ СТИХИЯ
На дальнем-дальнем Севере, где круглое лето днем и ночью светит солнце, а всю зиму — полярное сияние, жители строят дома из оленьих шкур. Очень просто. Берут они длинные шесты, втыкают их по кругу в землю или в снег, а вверху связывают вместе. Получается как бы скелет шалаша, но называется он не «скелет», а «каркас». На каркас набрасывают шкуры. Вот и готов дом.
За меховыми стенами крякает мороз и топчутся олени — роют снег, чтобы добыть на ужин мох; вверху через круглое отверстие заглядывают озябшие звезды, а холод не попадает: его прогоняет горячий дым от костра, который горит посреди шалаша.
Наверно, в таком доме тепло и уютно, и всё это напоминает сказку про Снежную королеву.
Одно непонятно: откуда северные жители берут шесты? В тундре только ползучие кустарники растут. Видимо, приходится запрягать в нарты оленей или собак и ездить за жердинами в тайгу…
Севке проще. Ему для шалаша нужен всего один шест, и ездить за ним никуда не надо. Еще в сентябре его подарил Севке Гришун.
Гришун учится в ремесленном училище и держит голубей. У него несколько шестов, которыми он этих голубей гоняет. Гришун совсем большой, он курит и ругается иногда совершенно жуткими словами. Но когда Севка подошел и спросил, можно ли взять один шест для важного дела, Гришун не пригрозил надавать по шее и никак не обозвал. Он сказал:
— Бери и уматывай на фиг, не путайся под сапогами…
Счастливый Севка втащил тонкую жердь в свое окно и уложил за кроватью вдоль плинтуса.
С тех пор Севка часто строил шалаш. Конечно, не в далекой тундре, а прямо в комнате, на кровати. Когда мамы не было дома.
В деревянном старом доме стояла тишина. Но не сильная, не до звона в ушах. За дощатой стенкой бубнила еле слышно Севкина соседка — четвероклассница Римка Романевская. Она учила правила по русскому языку. Эти правила она целыми днями долбила. Один раз Севка пошел в уборную в конце двора и слышит из-за дверцы:
«Мягкий знак после шипящих согласных в конце слова ставится у существительных женского рода… Мягкий знак после…» Севка стоял, стоял, переминаясь с ноги на ногу, а потом не выдержал:
— Эй ты, существительное женского рода! Скоро вылезешь? Мне тоже надо!
Но нахальная Римка сказала, что не скоро, и Севке пришлось идти за угол…
Кроме Римкиного бормотанья слышался очень далекий и приглушенный голос тети Даши Логиновой. Это уже не в доме, а на дворе. Тетя Даша ругала сына, первоклассника Гарика, и, конечно, грозила выпороть. Но это не страшно. Пока тетя Даша кричит, от беды далеко. А вот когда она становится молчаливой и решительной — держись, Гарик.
Отчетливо щелкали ходики, а в комнате Ивана Константиновича еле слышно играло радио. Эти звуки не прогоняли вечернюю тишину, а вплетались в нее, и тишина делалась спокойной и доброй.
И всё было хорошо. Жаль только, что мама придет еще не скоро.
Севка вытащил шест и положил его концами на спинки широкой маминой кровати. Потом накинул на него старый полушубок и свое одеяло. Подоткнул края под матрац.
В таком шалаше хорошо придумываются всякие приключения. Но сейчас придумывать не хотелось. Не такое было настроение. Севка достал из «Пушкинского календаря» маленькую мамину фотографию и с ней забрался в свое укрытие.
В той части шалаша, где крышей служил полушубок, стояла теплая мохнатая темнота. А вытертое одеяло просвечивало, и мелкие дырки сверкали, как электрические звездочки. Севка пристроил фотографию во вмятине подушки и сделал в шалаше щелку, чтобы луч от лампочки падал на мамино лицо.
И получилось, что он вдвоем с мамой.
Было немножко грустно и все-таки хорошо. Севка будто даже мамин голос услышал. Как она поет песню о тонкой рябине.
Севкина мама часто пела, когда что-нибудь делала дома. Чистит картошку, или зашивает продранные Севкины штаны, или белит известкой печку-плиту — и поет. Но это негромко, для себя. А иногда (правда, это нечасто бывало), если приходили гости, мама пела для всех, и все ее хвалили. А в давние времена, еще до войны, когда Севка был крошечным и они жили в Ростове, мама пела на концертах. За это ей однажды подарили книгу «Пушкинский календарь». Там на гладком листе было написано черными чернилами: «Татьяне Федоровне Глущенко за активное участие в художественной самодеятельности. Нач. кл. Сергиенко». «Нач. кл.» — значит начальник клуба моряков.
В сорок первом году, когда эвакуировались из Ростова, мама взяла «Пушкинский календарь» с собой. Потому что Севка очень любил эту книгу. Гладкие белые листы в начале и в конце книги он изрисовал разными картинками (очень уж хорошая была бумага!), с удовольствием разглядывал портреты и рисунки, узнавал на страницах знакомые буквы и цифры. А потом по стихам Пушкина мама учила его читать.
Тяжелый календарь в твердых коричневых корках был самой давней семейной вещью у Севки и мамы. Самой своей. Да еще большой потрепанный чемодан, с которым Севка и мама приехали в сибирские края. Все остальные вещи появились потом, постепенно: кровать, старый сундук, стол, две табуретки, рассохшийся фанерный шкаф, зеркало, посуда и всё другое, что необходимо людям, когда они живут на одном месте.
Появились и кое-какие книги, но всё равно «Пушкинский календарь» был самый любимый. Иногда Севка читал его один, а иногда с мамой. Благода-ря календарю и маме он узнал еще до школы очень важные вещи. Не только про Пушкина, но и про многое другое. Оказывается, цари были очень плохие люди. Они грабили и угнетали народ. Цари защищали помещиков, которые издевались над бедняками. Эти помещики били крестьян кнутами и прутьями и продавали их, будто коров или лошадей. Наконец народ не выдержал, и случилась революция. Царя, помещиков и всяких буржуев свергли. Пушкин тоже был за революцию, но он до нее не дожил, потому что один гад по имени Дантес смертельно ранил его на дуэли.
Пушкин умер десятого февраля 1837 года… А ровно через сто лет и один день родился на белый свет Севка Глущенко.
Это число в «Пушкинском календаре» мама обвела красным кружочком. Но Севка не любил стра-ницу со своим днем рождения. Там была напечатана маска Пушкина. Маску сделали, когда Пушкин умер, и она была с закрытыми глазами. И еще одну страницу — где Пушкин в гробу — Севка не любил. Страшновато было смотреть, а самое главное — очень жаль Пушкина. Ну почему, почему он не успел выстрелить первым?
Севка, уже который раз в жизни, пожалел Пушкина, разозлился на подлого буржуя Дантеса и по-двинул к себе «Календарь». Стал его листать. Свет из щели упал на восемьдесят третью страницу. Там была похожая на фотокарточку картинка: Пушкин стоял на скалистом берегу, плащ у него развевался, а перед ним кипели волны. Под картинкой были стихи, которые Севка очень любил. Вернее, любил их начало. Стихотворение было большое и не совсем понятное, но первые строчки — печальные и гор-дые — Севке нравились так, что каждый раз щипало в глазах.
Прощай, свободная стихия! Последний раз передо мной Ты катишь волны голубые И блещешь гордою красой.Мама объяснила, что Пушкин это написал, когда уезжал от моря и прощался с ним.
Севка тоже однажды уехал от моря. Но это было очень давно, и море Севке запомнилось плохо. Что-то серовато-синее, встающее неоглядной стеной. Но всё равно Севка его любил. Море — это была стихия. Севка однажды спросил у мамы, что такое стихия, и она объяснила. Стихия — это что-то громадное и сильное: бушующий ветер, гроза, землетрясение. И море…
И стихи Пушкина — тоже стихия:
«Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя…»
«Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна осве-щает снег летучий…»
«Ужасный день! Нева всю ночь рвалася к морю против бури…»
И если даже стихи не про бурю, не про ветер и море, стихия в них всё равно чувствуется, только она спокойная. Море ведь тоже бывает спокойным, но оно и тогда могучее…
Севка пошептал про себя четыре строчки про стихию, хотел еще полистать «Календарь» и услышал, что на улице, за двойными рамами с треснувшим стеклом, тоже просыпается стихия. Нарастал резкий ветер. Стекло начало потихоньку дребезжать, быстрый воздух свистел в сучьях тополей, которые росли у кирпичной стены пекарни.
Сразу было понятно, что ветер этот пронзительный и, наверно, завтра он принесет снег. Снег — это здорово, это веселая зима, санки, близкий Новый год. Он, этот сорок шестой год, будет очень хороший, потому что первый год без войны, так все говорили. Но пока от ветра делалось неуютно. Тоск-ливо даже. И мама не скоро придет, у нее в Заготживсырье опять собрание, и она должна печатать протокол. Она часто задерживается — то на этих дурацких собраниях, то на сверхурочной работе, на которую все должны ходить, хотя «сидишь в конторе как пень и делать абсолютно нечего».
Севка тревожился. Ходить поздно вечером по улицам опасно. Бывает, что нападают бандиты с финками, отбирают у прохожих деньги, продовольственные карточки и одежду. Иногда маму провожает с работы капитан Иван Константинович Кан, который живет в комнате за левой стенкой, — он возвращается домой из пехотного училища и заходит за мамой в Заготживсырье. Но сегодня он до утра на дежурстве.
Севка поворочался в своем шалаше, чтобы прогнать неспокойные мысли. Они, конечно, не про-гнались, они любят привязываться, когда человек один-одинешенек. Может, пойти к Романев-ским? Иногда там весело и даже покормить могут (а то свою порцию пшенной каши Севка слизнул сразу после школы, и в животе опять пусто). Но кажется, Соня еще не пришла, у нее шесть уроков во вторую смену, а бестолковая Римка всё долбит свои правила…
Севка выбрался из-под полушубка и подошел к окну.
Бумага, которая закрывала щель в стекле, оторвалась, от окна дуло. Пробившийся с улицы воздух стекал с подоконника, льдисто холодил сквозь чулки Севкины ноги. Но Севка не ушел. Сел на табурет, попытался натянуть на коленки штаны из гимнастерочной ткани, сунул ладони под мышки, спрятал подбородок в растянутый воротник тонкого хлопчатобумажного свитера и стал смотреть, какая за окнами ночь.
Ночь была с луной. Минуты две Севка размышлял, почему луна бывает разная: иногда громадная, будто стол в комнате Романевских, а порой — малюсенькая, с пятак. Сейчас луна была величиной с мячик. И очень яркая. Она висела неподвижно, потому что не было ни облачка. Если есть облака, луна всегда катится им навстречу — словно колобок, за которым гонится волк. Но сейчас резкий ветер выскреб небо — как метлой из жестких прутьев (такой метлой тетя Лиза в школе чистит крыльцо от слежавшегося снега и ледяных крошек; этой же метлой иногда награждает по спинам тех, кто носится сломя голову и мешает работать). Ветер этот дергал и мотал корявые черные ветки тополей.
Если долго смотреть, может показаться, что кто-то в ветках суетится, вертится. Может быть, разбойники или даже какие-нибудь страхилатины — например Баба Яга. В прошлом году Севка, если был вечером один, побаивался смотреть в чащу веток. А сейчас не боится, потому что никаких Баб Яг (или как — «Бабов Ягов»?) на свете совершенно не бывает. Поэтому сейчас и сказка начала придумываться не страшная. Будто в тополиных ветках поселились обезьяны. Не такие, как в Африке, а специальные — северные. У них густой мех, добрые желтые глаза, и сами они добродушные и дружелюбные. И у них есть детеныш — маленький обезьянчик (или обезьяненок? или обезьяныш?). Когда выпадет снег, он прыгнет сверху в мягкий сугроб и приковыляет к Севке в гости. Он пушистый, ласковый и веселый. И они с Севкой…
Что они будут делать, Севка не придумал. Что-то случилось. Всё осталось прежним — луна, ветки, скрежет и подвывание ветра, но Севка напрягся — с радостным ожиданием. Будто уловил еле слышный сигнал. Нет, это был совсем неслышный сигнал, даже непонятно что. Но Севка уже знал: идет мама.
С минуту он сидел с радостью и беспокойством — не ошибся ли? Но потом уже явно уловил мамины шаги на лестнице. Захлопали двери — в сенях, в коридоре. Вот мамин голос — она весело поздоро-валась с тетей Аней Романевской. И теперь уже у двери…
Севка дернулся, чтобы кинуться к порогу… и остался на табурете. Он был сдержанный человек, Севка. По крайней мере, старался быть сдержанным. И когда мама вошла, он только улыбнулся ей навстречу.
— Севёныш! Ты зачем у окна? Тебя всего просквозит!
— Не просквозит, я тут недолго… — Севка неторопливо встал, подошел, тронул щекой мамин рукав.
На улице еще не было снега, но северный ветер пропитал жесткое сукно льдистым воздухом, и от мамы пахло веселой зимой.
Мама торопливо разматывала пушистый платок. Севка поднял на нее глаза:
— А ты почему так рано? Говорила — собрание…
— Собрание получилось короткое… А ты что, не рад, что я пришла?
— Наоборот, — солидно сказал Севка. — Просто удивился.
Мама оглядела комнату:
— Я смотрю, ты тут поработал. Опять на кровати сооружение.
— Сейчас уберу.
— Вот-вот, убирай… А я печку растоплю, сварю макароны на молоке…
— И с сахаром, — облизнулся Севка.
Скоро печка гудела, стреляла, потрескивала и свистела, будто она топка скоростного паровоза. А кастрюля на плите пфыкала, как паровой котел. Мама кинула в нее целую охапку сухих трескучих макаронин (Севка ухватил одну и сунул в рот, как папиросу).
Печная дверца была приоткрыта, чтобы усилить тягу. Севка присел перед ней, стал смотреть на огонь и толкать в щель кусочки коры и щепочки. Вечер обещал быть прекрасным.
Но мама разбила Севкины мечты. Она со вздохом проговорила:
— За уроки ты, конечно, не брался…
— Ну, мама… — осторожно сказал Севка. — Ну можно же завтра.
— Знаю я это «завтра». Будут сплошные кляксы… Пока варятся макароны, садись и сделай хотя бы упражнение по письму.
— О Господи, ну что это за жизнь такая, — сокрушенно произнес Севка, надеясь разжалобить маму. — Только сел человек погреться…
— Если человек будет канючить, он не получит подарок…
— Какой? — Севка пружинисто встал.
— Какой просил.
— Ручку? — осторожно спросил Севка.
— Ручку, ручку…
Севка забыл, что надо всегда быть сдержанным. Он затанцевал вокруг мамы, как вылеченные обезьяны вокруг доктора Айболита. И мама, смеясь, достала из сумки подарок.
Это была металлическая коричневая трубка. С двух сторон из нее торчали, как тупые пистолетные пули из гильзы, блестящие колпачки. Вытащишь один — там перо. Переверни колпачок, вставь тупым концом в трубку и пиши. А во втором — карандашный огрызок. Если писать таким коротышкой, его и в пальцах не удержишь, а в трубке он — как настоящий большой карандаш.
Но главное — сама трубка. Это было оружие. Из нее отлично можно стрелять картофельными проб-ками. Надо зарядить трубку с двух сторон, крепко надавить сзади карандашом, и передняя пробка — чпок! — вылетает как пуля. В последние дни такое чпоканье то и дело слышалось в Севкином классе. Особенно на уроках чтения, пения и рисования, когда не надо писать и решать. Стреляли счастливчики, у которых были трубки. У Севки не было. Вот он и просил у мамы несколько дней подряд.
Мама, судя по всему, не догадывалась, зачем Севке эта ручка. Думала, что просто ему нравится такая: блестящая, с карандашиком. А сам Севка насчет стрельбы не объяснял. Не то чтобы скрывал специально, а зачем лишние подробности…
Попрыгав, Севка опять стал сдержанным и потащил к столу противогазную сумку, которая была у него вместо портфеля. Достал тетрадь по письму. Она была в самодельной газетной корочке: тетради в школе выдавали без обложек, говорили, что на фабрике не хватает плотной бумаги.
Взглянув на замусоленную тетрадь, мама опять вздохнула:
— Сядь как следует… Подстели газету, стол закапаешь чернилами… Покажи, какое упражнение задали?
Упражнение было небольшое, всего три строчки. Списать предложения, вставить в словах пропущенные буквы. Подумаешь!
Наверно оттого, что новая ручка помогала, Севка писал быстро и довольно аккуратно. И даже ни одной кляксочки не уронил: ни в тетрадь, ни на газету, ни на клеенку. Но мама всё беспокоилась: ей казалось, что Севка опрокинет пузырек с чернилами («макай аккуратней!»), помнет и без того жеваную тетрадку («не ставь на нее локоть»), искривит себе позвоночник («ну почему ты кособочишься за столом?»).
— И не торопись, никто за тобой не гонится. А то опять напишешь как курица лапой…
Севка хихикнул. Он тут же представил, как тощая грязная курица, одна из тех, что у Гарькиной матери, тети Даши, прыгнула на стол, сшибла крылом пузырек, ступила в чернильную лужу когтистой лапой и начала царапать на листе в косую линейку: «На поле растут рожь и пшеница…»
— Ну что ты веселишься? Вот увидит завтра Елена Дмитриевна твои каракули, опять расстроится.
— А у нас теперь по письму… то есть по русскому языку… теперь не Елена Дмитриевна, а Гета Ивановна. Она теперь часто нас учит, потому что у Елены Дмитриевны совсем глаза испортились.
— Ну и пусть Гета Ивановна. Думаешь, за такую писанину она тебе спасибо скажет?
— А она ничего не скажет, — деловито разъяснил Севка. — Она, если ей не нравится, ка-ак дернет листок из тетрадки… И — трах-трах его — на клочки. «Будешь переписывать после уроков!» Психопатка настоящая…
— Всеволод! Ты с ума сошел?
— А чего? Если она глупая…
— Учительница не бывает глупая! Заруби на носу. И чтобы больше я…
— Ага! А зачем она говорит «польта»?
— Что-что?
— «Польта»! «Кто не решил все примеры, по?льта не получат и домой не пойдут!»
— Ну… мало ли что. Она просто ошиблась.
— Да, «ошиблась». Она всегда так говорит. Я один раз встал и сказал ей: «Гета Ивановна, надо говорить не «польта», а «пальто», если их даже много, мне мама объясняла…»
— Д-да? — с интересом спросила мама. — И как же отнеслась к этому Гета Ивановна?
— Нормально отнеслась,— вздохнул Севка. — Даже не заругалась. Только сказала: «Если ты такой умный, иди учиться к своей маме».
— Вот видишь! Разве можно делать замечания учительнице! Да еще при всем классе.
— А как же быть? — удивился Севка. — Раз она неправильно…
— Ну… в крайнем случае, подошел бы, когда она одна, вежливо сказал ей: «Гета Ивановна, вам не кажется, что вы немножко ошибаетесь?»
— Да подходил я к ней и так… вежливо, — отмахнулся Севка. — Она недавно нам рассказывала про битву под Москвой и говорит: «Немецкие «мессер-шмитты» изо всех сил бомбили наши позиции, но ничего у них не получилось…» Я на перемене ей сказал тихонечко: «Гета Ивановна, «мессершмитты» не могут бомбить, это же истребители…» А она как заорет: «Надоел ты мне, как зубная боль! Вон отсюда!» Схватила меня за лямки и как потащит в коридор… — Севка пошевелил спиной. — У меня даже в пузе забулькало с перепугу…
— Ох уж какой боязливый! Подумаешь, из класса выставила. Не укусила ведь…
— Я не про то, что укусила… Я подумал: вдруг Елена Дмитриевна совсем от нас уйдет, а Гетушка вместо нее навсегда сделается.
— Не Гетушка, а Гета Ивановна, — не очень уверенно сказала мама. — Что это мы с тобой разболтались! Ну-ка, пиши, а то до ночи не кончишь.
— Уже кончил. Вот, словечко последнее осталось…
Севка дописал, закрыл ручку, и она опять стала похожа на удивительный патрон, у которого с двух сторон торчат пули. Севка подкинул ее на ладони.
— Эх, картошечку бы мне, — мечтательно сказал он. — Хотя бы одну…
С картофелиной можно было бы пробраться на кухню — там сейчас никого нет — и разок попробовать, как действует новое оружие. Но мама о Севкиных планах не догадывалась. Она решила, что Севка просто соскучился по жареной картошке — золотистой, хрустящей, на подсолнечном масле. И утешила:
— Скоро привезут. Иван Константинович обещал помочь с машиной.
Картошку, которую мама весной сажала, а летом окучивала (Севка помогал), давно выкопали, но огород был далеко за городом, а машину в маминой конторе вредный начальник Панчухов почему-то всё не давал. Мешки стояли в сарае у знакомого колхозника. Сарай назывался «стайка», в нем жила добрая корова Зорька с теленком Васькой. Васька Севке очень нравился, корова тоже, а хозяин был сумрачный и молчаливый.
— Не померзла бы картошечка-то, — озабоченно сказал Севка, слушая ледяной ветер. — Вот как выставит дядька мешки на двор, чё с него возьмешь…
Мама засмеялась:
— «Чё возьмешь». Сибирячок ты мой… Не выставит. Может быть, завтра уже привезем. Вот тогда нажарим, наварим. А пока давай макаронами ужинать.
Макароны, сваренные на молоке, посыпанные сахарным песком, были восхитительны. И главное, мама сварила их сегодня много. Севка наелся так, что сразу осоловел и начал засыпать прямо на табурете. Мама постелила ему, как всегда, на длинном сундуке, который остался от прежних жильцов, кинула поверх одеяла старый полушубок — чтобы не продуло хитрым, как вражеский разведчик, сквозняком от окна — и велела:
— Брысь в постель.
Севка послушно улегся. Но не уснул. Когда мама выключила свет и тоже легла, он пробрался к ней.
— Здрасте, это что за гость? — сказала мама.
— Я немножко с тобой полежу, я спросить хочу…
— Ой, а почему у тебя ноги как ледышки? Холодно там?
— Да не холодно, не холодно… Мама, а «стихи» и «стихия» — это родные слова?
— Как — родные?
— Ты же сама рассказывала, что некоторые слова от одного корня выросли, как ветки дерева. Ну, «самолет» и «летчик». «Наушник» и «подушка»… А «стихи» и «стихия»?
— Я… ой, Севка, я даже не знаю. Как-то не думала… Может быть… А сам ты как думаешь?
— Тоже не знаю. Если Пушкина стихи, то, конечно, это родные со стихией. Но ведь всякие бывают…
Они помолчали, и мама осторожно спросила:
— А ты больше никаких стихов не написал?
— Да ну… вот еще…
Дело в том, что перед Октябрьским праздником у Севки сами собой сочинились четыре строчки:
Свергнут царь, и свергнута вся свита. Не владеть землею паразитам. Знамя красное ярко горит — Власть Советов всегда победит!Маме эти стихи очень понравились, и она рассказала про них Елене Дмитриевне. Ну и началось! Сначала Севку упросили прочитать это «стихотворение» на утреннике, а потом еще поместили в стенгазете «За учебу», которая висела в деревянной рамке рядом с учительской. На утреннике Севке вежливо похлопали, в стенгазете стихи его, конечно, прочитали, и Севка, по правде говоря, даже слегка гордился. Поэтическая слава — штука приятная. Но после праздника Людка Чернецова, с которой он поругался из-за промокашки, сказала: «Дурак ты, хоть и Пушкин». Громко сказала, прямо на уроке. Елена Дмитриевна сделала ей справедливое замечание, но поздно — прозвище приклеилось к Севке. А через пару дней оно из «Пушкина» превратилось в «Пусю».
Раньше у Севки было обыкновенное прозвище — по фамилии, как у всех: Глуща, или Гуща, или, чаще всего, Гущик. А теперь какая-то Пуся…
Севка обиженно пошмыгал носом. Потом пробормотал, притворяясь, что засыпает:
— Чё писать-то… Разве я поэт?
— Кто тебя знает, — серьезно сказала мама. И добавила: — А ну-ка, беги к себе, а то уснешь.
— Я еще маленько полежу. Ну, самую чуточку…
Севка повернулся на спину и стал смотреть «кино». Над печкой высоко в углу была щель в дощатой стене. В нее падал свет из комнаты Романевских, и на другой стенке выступал из темноты желтоватый неровный квадрат с размытыми краями. Качалась в углу паутина, шевелился клочок оторванных обоев, суетились мелкие тени. И всё это складывалось в подвижные рисунки. Если приглядеться — очень интересные.
…Вот идет по пустыне медленный верблюд, вот летит над башнями старинного города большущая птица, а на спине у нее мальчишка. А вот спешит куда-то скособоченный человечек в остроконечной шляпе. Он тащит тяжелый ящик — наверно, шарманку. За ним увязалась добродушная лопоухая собачонка. Вернее, щенок… Щенка зовут Буль, он сперва был беспризорный, а потом подружился с кривобоким шарманщиком, и они вместе ходили по разным городам. Шарманщик играл всякую музыку, а Буль танцевал и кувыркался, и все их любили, но однажды…
— Севка, ты же совсем спишь.
— Нет, я еще маленько посмотрю.
— Что посмотришь, чудо ты заморское? Сон?
— Кино…
Шарманщик и Буль куда-то пропали, придется досматривать про них завтра…
А что, если бы по правде в углу над печкой было кино! Ложишься спать, а там включается маленький экранчик и начинается какой-нибудь фильм — не отрывочный и сбивчивый, а настоящий! Вот было бы счастье!
…Прошли годы. Севка сделался взрослым и даже пожилым Всеволодом Сергеевичем. Однажды он купил себе маленький транзисторный телевизор — похожий на игрушку, но совсем настоящий. Ночью, укладываясь в постель, он ставит иногда телевизор на стул и смотрит какую-нибудь кинокартину. Это ему нравится. Но особого счастья Всеволод Сергеевич не чувствует. Гораздо счастливее он был, когда смотрел в углу над печкой неясные коротенькие сказки, сотканные из желтых лучей и паутинок. Может быть, потому, что эти сказки сочинял он сам. А может быть, потому, что было ему всего восемь лет…
ШКОЛЬНЫЕ ЗАБОТЫ
Севка отодвинул черную от старости доску, и в заборе появилась щель. Севка бросил в нее сумку. Потом протиснулся сам. И оказался в Летнем саду. Сад, конечно, только назывался так — Летний. Теперь он был совершенно осенний. Севка пошел среди голых высоких берез. Он весело раскидывал ногами жухлые листья. На листьях блестела тонкая пыльца изморози. Новая кожа ботинок покрывалась от нее тонкими, как волоски, влажными полосками.
Севка шел в ботинках, а не в старых кирзовых бахилах, потому что в этот ярко-синий безоблачный день уличная грязь окаменела от холода.
Ботинки мама недавно получила по ордеру на товарном складе Облрыбкоопа. Но отпускать Севку в них в школу она сегодня боялась: говорила, что холодно. Тогда Севка сказал:
— Они и так мне жмут… самую чуточку. А к весне я вырасту, и они совсем не полезут, пропадут.
Мама засмеялась и сказала, что Севка слишком хитер для своих лет. И разрешила. Только велела вместо старого легкого ватничка надеть зимнее пальто.
— У-у… — сказал Севка.
— Ничего не «у». Зря я, что ли, шила его из своей почти новой тужурки?
Севка полагал, что зря. В телогрейке было ничуть не хуже. А пальто получилось длиннополое, и Севка считал, что в этой обновке он похож на тонконогую девчонку.
Но говорить этого Севка не стал. Ни к чему портить настроение, когда день такой солнечный, когда в сумке новая трубчатая ручка, когда уроки все (честное-пречестное, все!) сделаны, а завтра уже суббота, за которой придет счастливое долгожданное воскресенье…
Севка прошел мимо заколоченного летнего театра, где в мае они с классом смотрели кукольную пьесу «Веселый праздник», мимо заваленной листьями танцплощадки и через другую щель выбрался на деревянный, покрытый стылыми комками грязи тротуар. В квартале от школы. По обеим сторонам улицы шагали ребята: кто в школу, кто в другую сторону. Первая смена кончилась, вторая начнется через полчаса. Севка кинул на плечо брезентовый ремень сумки, расстегнул пальто — чтобы видно было, что под ним свитер и штаны, а не платьице — и двинулся вдоль забора, поглядывая по сторонам: нет ли знакомых?
Знакомых пока не было. Севка хотел перейти улицу, но из-за угла выскочила лихая полуторка. Ее встряхивало на булыжниках и выбоинах мостовой. В кузове, как живые, подпрыгивали мешки с картошкой. Один, видимо, лопнул — из кузова, когда тряхнуло особенно крепко, выскочили три картофелины. Несколько секунд они, кувыркаясь, мчались за машиной, будто надеялись догнать ее и прыгнуть в кузов. Но быстро устали и скатились в канаву на другой стороне улицы.
Вот это удача! Недаром Севка еще утром понял, что день будет счастливый. Лишь бы никто не опередил! Севка прыгнул через штакетник, продрался через сухие сорняки, которыми к осени заросли газоны (мертвые головки репейника вцепились в чулки и пальто), и выскочил на мостовую. Кинулся поперек улицы.
Твердый носок нового, еще не очень послушного ботинка зацепился за камень. И Севка, взмахнув, будто крыльями, полами пальто, распластался на булыжниках и замерзшей грязи.
Он поднялся почти сразу. Конечно, искры из глаз, а в колено словно гвоздь забили, но посреди дороги пусть лежат дураки и покойники. Машины-то всё время туда-сюда проносятся. Да и картошку может кто-нибудь схватить…
Хромая, Севка подбежал к канаве. Картофелины лежали в бурой траве. Две небольшие, ровные, а одна — крупная, вся в шишковатых наростах. Севка поморгал, чтобы стряхнуть с ресниц слезинки, и спрятал три клубня в сумку. И наконец посмотрел на правое колено, которое болело изо всех сил.
Чулок был порван. Дырка оказалась небольшая, но Севка знал, что скоро она поползет и к вечеру будет величиной с картошку, тут уж ничего не поделаешь. Постанывая (не вслух, а про себя), Севка опять перешел улицу. Через дыру в заборе снова пробрался в сад, подальше от посторонних глаз: ему не хотелось, чтобы кто-то видел его мокрые ресницы.
Края у дырки на чулке уже промокли от крови. Если так и оставить, они присохнут к коже и потом будет больно отдирать. Севка это знал по опыту. Морщась, он спустил чулок, отыскал в сумке са-мую свежую промокашку, свернул ее в четыре слоя, наложил на разбитую коленку. Снова натянул чулок. Промокашка сперва ярко заголубела среди коричневой рубчатой ткани, но почти сразу потемнела от крови. Стала почти незаметной. Севка решил, что всё в порядке. Боль ослабла. Теперь можно было заняться трофеями.
Севка вынул картофелины. Две были самые обыкновенные, а одна — большая — походила на забавную куклу. С круглой глазастой головкой, с пухлыми ручками-ножками (только ног было не две, а три), с хвостом-шариком. И рот был — широкий, улыбчивый: длинная складка на кожуре картофельной головки. Круглые ручки весело торчали по сторонам, а посреди выпуклого гладкого живота дерзко темнел большой пуп. Севка засмеялся и сразу решил, что картофельного кукленка зовут Кашарик. То есть картошка-шарик. И конечно, Кашарик не случайно выпал из кузова. Он просто-напросто удрал, чтобы отправиться в путешествие и поглядеть на белый свет. Ему, веселому и храброму, хотелось приключений и совсем не хотелось, чтобы его съели.
Севка решил, что варить или жарить Кашарика никому не даст. И резать из него пули не будет, на это хватит маленьких картошек. Он поселит Кашарика на подоконнике, сделает ему шалаш, и по вечерам они вдвоем будут смотреть на круглую Луну и наконец придумают, как до нее долететь. Может быть, на Луне живут человечки, похожие на Кашарика… А может быть, Кашарик и сам — такой человечек? Он прилетел с Луны, оказался на картофельном поле и случайно попал в мешок…
С той стороны забора протопало по тротуару множество быстрых ног. Севка сообразил, что это ребята бегут, боясь опоздать к звонку.
Сказки сказками, а в школу (куда деваться-то!) всё равно пора.
Начальная школа номер девятнадцать была маленькая, одноэтажная. Вернее, полутораэтажная, потому что под классами находился еще подвал — с пустыми гулкими комнатами и низким вестибюлем. Но в подвале всегда стоял промозглый холод, и там не занимались. Одно время внизу устроили просторную и удобную раздевалку, но ребячьи пальто и ватники за полдня успевали так отсыреть и промерзнуть, что директор Нина Васильевна распорядилась прибить вешалки прямо в классах. Потому что больше негде. Наверху всего четыре комнаты — с утра в них учатся два первых и два четвертых класса, а после обеда — два вторых и два третьих. Даже для учительской не нашлось отдельного помещения, и ее отгородили от вестибюля фанерной стенкой. На переменах в стенку ударяются с разбегу те, кто пробует играть в догонялки. Тогда из-за хлипкой фанеры слышится голос Нины Васильевны:
— Вы у меня побегайте, побегайте! Я вот сейчас выйду…
Но маленькую, седую Нину Васильевну никто не боится, она добрая. Другое дело, когда заорет Гета. Однако Гета Ивановна в школе бывает не всегда. Она не то студентка, не то практикантка какая-то. За-меняет Елену Дмитриевну, если та заболеет. Жаль только, что болезни эти случаются всё чаще…
Севка прихромал к школьным дверям, когда в руках у тети Лизы жидко дзенькал колокольчик. На ходу Севка стянул пальто, сунул в рукав свою мятую шапку со звездочкой. В классе отыскал на деревянной вешалке свободный колышек. Пальто — на вешалку, сумку — с плеча, сам — бух на скамейку за партой. Всё. Успел.
Севкина парта стояла в самой середине класса — во втором ряду четвертая по счету. Севка огляделся. Всё вокруг было привычно. И гомон стоял привычный: кто-то жалобно просил списать, кто-то кукарекал, кто-то дразнил толстого Насонова: «Насончик, дай халвы кусочек…» В воздухе, как обычно, реяли два или три бумажных самолетика, по ним стреляли шариками из жеваной промокашки. Запах тоже был привычный: пахло едкой меловой пылью от доски, березовым дымком от печки, пересохшей краской от парт.
А рядом сидела привычная соседка Алька Фалеева — белобрысая, с коротким прямым носиком и заботливыми глазами.
— Я уж боялась, что опоздаешь, — тихонько сказала она.
— Вот еще, — буркнул Севка.
Шум поулегся, самолетики сели на парты. Все встали. Это вошла Елена Дмитриевна. Потом стало еще спокойнее. Это Елена Дмитриевна сказала:
— Тихо, тихо, ребятки. Садитесь.
И начался урок чтения.
Чтение — это в общем-то и не урок. По крайней мере, для Севки. Не надо ни писать, ни решать примеры, а читает Севка так, что его почти никогда и не вызывают: ставят пятерку за четверть, вот и всё.
Короче говоря, пришло самое время, чтобы испытать трубчатое оружие. Севка выкатил из сумки на скамью мелкую картофелину. Алька скосила на нее глаза, но спросила про другое:
— Чулок-то где порвал?
— Запнулся, — недовольным шепотом отозвался Севка.
— Болит, наверно… — посочувствовала она.
— Пфы… — пренебрежительно сказал Севка. И незаметно поморщился: колено всё еще болело.
— И дыра такая… Попадет дома?
— Пфы, — опять сказал Севка сердито. И вздохнул.
Он знал, что не попадет. Но мама расстроится: вчера свитер порвал у ворота, сегодня опять «подарочек». Она сделается молчаливой, а на Севкины вопросы станет отвечать коротко и односложно. А наказания никакого не будет.
Мама только один раз в жизни отлупила Севку, да и то всё кончилось смехом. Это было в первом классе, тоже осенью. Мама побывала в школе и узнала от Елены Дмитриевны про Севкину двойку по письму, про драку с тогдашней соседкой по парте и про «слишком самостоятельные разговоры с учительницей». Вернулась мама сердитая и решительная. Спросила Севку, почему он заставляет ее краснеть.
Севка сказал, что ничуть не заставлял.
Мама сказала, что до сих пор неправильно его воспитывала. А теперь будет правильно.
Севка сказал, что пожалуйста.
— Ах, пожалуйста? — сказала мама. И достала из сундука старый брючный ремешок (он там валялся с давних времен, неизвестно откуда взявшийся). — Иди-ка сюда, — сказала мама.
Севка, разумеется, не пошел.
Мама потянула его за руку, села на стул, положила строптивого сына на колени и принялась деловито хлопать ремешком.
Ремешок был плоский и легкий. Сложенный вдвое, он громко щелкал, но плотные штаны из плащ-палатки не прошибал. Севка слушал эти щелчки и удивленно молчал. В такую передрягу он попал впервые и не знал, как себя вести.
Потом вдруг Севка сообразил, как это обидно и унизительно. Что он, крепостной крестьянин, что ли?
— Ты чё? — заорал он. — Чего дерешься! На маленького, да? Если сильнее, значит, можно, да?!
Раньше он так грубо никогда с мамой не разговаривал. Но ведь и она раньше так никогда…
Севка так возмущенно задрыгал ногами, что просторные валенки сорвались и улетели в разные углы. Один попал в кадку с фикусом, который им подарила соседка, глухая Елена Сидоровна.
Мама отпустила Севку и уронила ремень:
— Тьфу на тебя, ненормальный какой-то…
Севка отскочил за фикус и оттуда оскорбленно сверкал очами. Потом сердито спросил:
— Почему ненормальный?
— Конечно, — сказала мама. — Нормальные дети, когда их лупят, что вопят? «Ой, больше не буду!» А ты и тут про свои права…
Она махнула рукой и вдруг засмеялась. Сперва понемножку, а потом как следует. Севка подобрал из кадки с фикусом валенок, и ему тоже стало смешно. Они целую минуту смеялись вдвоем. Наконец мама сказала:
— Ну что с тобой делать? Даже драть бесполезно…
Севке показалось, что мама чувствует себя виноватой. Чтобы утешить ее, он сказал:
— Ты не расстраивайся, мне не больно… Вот когда тетя Даша летом Гарьку драла, он всё в точности орал, как ты говорила. Потому что крапивой…
— Хорошо, что надоумил, — усмехнулась мама. — В следующий раз я сделаю так же.
— Где же ты сейчас возьмешь крапиву? — снисходительно сказал Севка.
И они опять засмеялись.
Другое наказание было в тысячу раз страшнее.
Севка лежал на кровати и с холодной безнадеж-ностью смотрел, как мама укладывает его вещи. Он уже выревел все слезы и растратил все обещания, что «больше не будет». Ничто не помогло. Мама спокойно и деловито перебирала и прятала в чемодан его рубашки, майки, свитер, штопаный матросский костюм и стоптанные за лето сандалии.
— Игрушки возьмешь? — спросила мама. — Говори, какие, думай скорее. Много не надо, в детском доме игрушек достаточно…
Севка не ответил, потому что было всё равно. Он ощущал черное спокойствие человека, который приговорен к смерти и оставил надежду. Мама собирала его так тщательно, что было ясно: она и в самом деле твердо решила отправить сына в детский дом.
Какие игрушки, зачем они? Он всё равно умрет раньше, чем его туда отдадут. Разве сможет он без мамы и своего дома?
И хорошо, что умрет. Это теперь не страшно. По крайней мере, мама до конца будет рядом. Севка внимательно посмотрел на маму: на ее спину в пестрой кофточке, на острые локти, на темный узел волос, под которым дрожали на тонкой шее мелкие, не попавшие в прическу завитки. Глотнул и закрыл глаза. Сердце, кажется, уже не стучало, сильно за-кружилась голова, и свет, который пробивался даже сквозь закрытые веки, исчез. Всё сделалось тихое и черное…
Потом Севка узнал, что был без сознания минут пятнадцать и мама пролила над ним реки слез. После этого Севка лежал слабый, беспомощный и время от времени шепотом спрашивал, правда ли, что мама передумала и отправлять в детдом его не станет? Мама клялась, что никогда этого не хотела, и опять начинала плакать. Пришел знакомый врач Федор Евгеньевич, погрел над плитой пальцы, прощупал Севкины тощие ребра и сказал, что у Севки не столько нервное потрясение, сколько голодный обморок. Видимо, это была правда. У Севки и раньше часто кружилась голова, и всегда хотелось есть. А в этот раз он ничего не ел с прошлого вечера… По причине переживаний.
Теперь-то Севка большой, второклассник, и знает, что никогда ни в какой детский дом его не отправят. Мама тогда просто решила Севку попугать, а на самом деле никому его не отдаст. Да и не так-то легко устроить человека в детдом: еще набегаешься за всякими справками и путевками. И кто же даст Севке такую путевку, если он не круглый сирота?
Нет, они с мамой никогда не расстанутся. И поэтому стараются жить так, чтобы друг друга не огорчать. Правда, если честно говорить, Севка не всегда старается, иногда забывает, но это не нарочно…
Но Алька Фалеева про всё это не знала. И беспокоилась за Севку. И жалела его. Она сказала:
— Давай зашью.
— Как? Прямо на ноге?
— Ага. Я умею. Только нитки черные…
— Да это ладно. А не воткнешь?
— Я осторожненько.
Фалеева всегда тихо и ненадоедливо заботилась о Севке. Оборачивала газетами его учебники и тетрадки, давала новые перышки для ручки, умело подсказывала, если Севка не мог решить пример. Один раз подарила блестящую открытку со смешным лягушонком в шляпе, который куда-то плыл на кораблике с пузатым парусом. Такие открытки присылал Фалеевой из Германии ее отец. Он был майор и со своей частью стоял в каком-то немецком городке. Война кончилась, но домой его еще не отпускали — так же как Севкиного соседа Ивана Константиновича. Открытка Севке понравилась, и он тут же придумал про лягушонка сказку.
Благодаря Альке Севка не таскал в школу пузырек с чернилами. Он знал, что перед уроком Алька достанет из аккуратного мешочка фаянсовую непроливашку с голубым петушком на боку и поставит не перед собой, а в среднее гнездо на парте — на двоих.
Но не следует думать, что Севка с Алькой были друзья. Просто Фалеева была добрая (не то что невозможная злюка и ябеда Людка Чернецова, с которой он сидел в первом классе и наконец разодрался, и Елена Дмитриевна их рассадила). Добрые люди всегда заботятся о других, и Севка принимал Алькины заботы как обычное дело. Впрочем, сам он Альку не обижал и, если требовалось, даже заступался, хотя драться не очень-то умел…
Алька из-под воротника своей бумазейной курточки достала иголку с намотанной ниткой. Севка придвинул колено.
Сначала он опасливо ждал, что иголка возьмет да и воткнется в кожу. Но она только чиркала по твердой от высохшей крови промокашке. Алька штопала умело. Севка перестал бояться и стал готовиться к стрельбе.
Острые края трубки сочно врезались в картофелину. Севка покачал трубку и резко дернул. Она с чмоканьем выскочила, в картошке осталось очень круглое черное отверстие. А в трубке — белая пробка. Так же Севка зарядил трубку с другого конца. Длинным карандашом он слегка вдавил заднюю пробку — воздух в трубке сжался. Теперь нажать чуть сильнее — и будет выстрел.
Севка оглядел класс. Елена Дмитриевна сидела за столом и печально слушала, как двоечник Филю-тин у доски выдавливает из себя слова. Он читал по слогам, будто первоклассник с букварем. Круглая голова его дергалась на тонкой шее, как у петуха, который старается проглотить слишком крупное зерно. Севка в душе пренебрежительно пожалел Филютина и стал искать цель — среди стриженных «под ноль» мальчишечьих затылков. Целиться в девчонок бесполезно: пулька всё равно запутается в волосах.
Впереди, через парту от Севки, белел гладким теменем отличник Толик Приказчиков. Севка навел трубку и надавил карандаш. Пробка отчетливо чпокнула. И пролетела мимо оттопыренного Толькиного уха. И тюкнула в макушку второгодника Серегу Тощеева, которого Елена Дмитриевна недавно пересадила с «Камчатки» на первую парту.
Севка сложил руки и замер. Алька, не переставая шить, покачала головой: что, мол, с вами, мальчишками, поделаешь.
Тощеев оглянулся и показал кулак — не кому-то одному, а так, в пространство. На грязном кулаке чернилами был нарисован кривой якорь.
Елена Дмитриевна плохо видела, но слышала отлично. Она сказала:
— Кто это опять стреляет? Вот поотбираю все железные ручки, будете знать… Иди, Филютин, на место, слушать тебя тошно… Три с минусом… А к доске пойдет Сева Глущенко.
Вот это новость! Зачем он понадобился? Севка испуганно взглянул на Альку.
— Сейчас, сейчас… — шевельнула Алька губами, и пальцы ее с иголкой забегали очень быстро.
— Ну что же ты, Сева?
— Сейчас, сейчас, — пробормотал Севка и сделал вид, что хочет вылезти из-за парты. — У меня нога застряла…
Людка Чернецова сзади хихикнула. Алька наконец оторвала нитку и независимо сложила на парте руки. Севка встал, украдкой показал Людке кулак и пошел к доске.
— Почитай вот этот рассказ. Громко, для всех.
А, вот в чем дело! У Елены Дмитриевны болят глаза, и она решила, чтобы за нее почитал Глущенко. Что ж, пожалуйста…
Рассказ был давно знаком Севке. Назывался «Акула». Про то, как в море, недалеко от корабля, купались два мальчика — сын моряка-артиллериста и его товарищ, а хищная акула погналась за ними. И как все перепугались, а отец мальчика грохнул по акуле из пушки и застрелил ее. Севке рассказ нравился, потому что было интересно: про море, про корабль, про приключение. Сначала жутковато, а потом всё кончается хорошо.
Он читал неторопливо, громко. Без особого выражения, чтобы не подумали, будто воображает. Но и не очень монотонно. Ребята слушали. Елена Дмитриевна довольно кивала. А Севка иногда поглядывал из-за книжки на коленку. Зашито было прекрасно. Будто мамина работа. Только длинный обрывок нитки говорил о недавней торопливости…
Рассказ кончился. Севка получил очередную пятерку и вернулся на место. Алька спросила:
— Хочешь? — и показала коричневый стаканчик. Такие стаканчики — упругие, с рубчиками по краям — начал выпускать недавно местный завод пластмасс, и они были теперь в каждом доме.
В стакане оказался овсяный кисель. Загустевший, плотный. Такой вкусный даже издали! Севка вздохнул. Алька подцепила кисель чайной ложкой и поднесла к Севкиному рту. Севка слизнул. Кусочек упругого киселя сохранил форму ложки и лежал на языке, будто гладкая конфетка. Только гораздо вкуснее конфетки, хотя и не сладкий. Севка подержал его так, потом с сожалением разжевал и глотнул. Алька поднесла вторую ложку…
Отказываться было очень трудно. И всё же, когда в стаканчике осталась половина, Севка сказал с сожалением:
— Хватит. Себе оставь.
Алька не ответила, потому что затренькал звонок.
Сразу все зашумели, завертелись, хотя Елена Дмитриевна говорила, что урок не кончен. Все-таки урок был кончен. Алька сунула стаканчик в парту и пошла из класса. Севка смотрел ей вслед. Тонкие белобрысые косички Альки вздрагивали над воротником бумазейной лыжной курточки. Такие же, как курточка, лыжные штаны были заправлены в залатанные резиновые сапожки. Вокруг пояса моталась короткая юбочка — розовая в черную полоску. В проходе между партами закипала возня и легкие перепалки, но Алька шла спокойно. Ее никто не задевал, и она никого не задевала.
Алька была хорошая. Севка это понимал. Жаль, что она ничуть не походила на Инну Кузнецову из четвертого «Б», в которую Севка давно уже тайно влюбился.
Инна была красивая и всегда загадочно неулыбчивая. Тонкая, с темными глазами, с черной мальчишечьей челкой над бровями. И одетая всегда в черное. «В черный рубчик», — думал Севка. Инна носила хлопчатобумажный свитер с воротником до подбородка, вельветовую юбочку, всегда новенькие чулки в резинку. Она казалась нарисованной черным тонким карандашом. Только отглаженный сатиновый галстук ярким огоньком прорезал эту неприступную траурность. Инна была в школе каким-то пионерским командиром. Чуть ли не командиром над всеми пионерами. Вторым после вожатой Светы. Но Света появлялась в школе не каждый день, она была студентка, а Инна всегда находилась на своем посту.
Инна не догадывалась о Севкиной любви. Вряд ли она вообще замечала его среди стриженой одинаковой малышни — в этом Севка самокритично отдавал себе отчет. Да он и не рассчитывал на взаимность. Просто на переменах он смотрел на Кузнецову и придумывал сказку.
Однажды он сделает из медных трубок двуствольный пистолет-поджиг (как у Гришуна) и поздно вечером выйдет на улицу. А Инна будет возвращаться домой после очень долгого пионерского сбора. И тут из лога, в котором журчит речка Тюменка, вылезут в масках бандиты из шайки «Черная кошка». Чтобы ограбить Инну, исцарапать лицо железными когтями и скинуть ее с земляного моста. Вот тогда-то Севка спокойно поднимет пистолет и чиркнет по запалу спичечным коробком. Один раз — бах! Второй раз — бах! Два бандита — наповал, остальные — драпать. А Севка скажет со снисходительным упреком:
— Женщинам не полагается так поздно ходить одним. Время неспокойное.
— Что же делать? — жалобно спросит дрожащая Инна. — В школе столько дел…
— Разве твои пионеры не могут тебя проводить?
— Они все домой торопятся, боятся, что их мамы заругают… Вот если бы все были такие, как ты!
— Я-то как раз не такой, — сдержанно вздохнет Севка. — Я не пионер…
— Как — не пионер?! — изумится Инна. — Куда же мы до сих пор смотрели? Мы завтра же… Нет, сегодня же! Сейчас!
Она снимет свой галстук и всё еще дрожащими пальцами завяжет его на Севкиной шее. И Севка переложит дымящийся пистолет в левую руку, а правой отдаст салют, как отдают его ребята при встрече с вожатой Светой…
Так Севка мечтал в течение многих перемен, когда тайком наблюдал за Инной Кузнецовой.
Наблюдать и мечтать не трудно. В широком квадратном вестибюле на переменах не было большой беготни и возни (разве что в самом начале, когда выска-кивали из классов). Если хочешь орать и носиться, пробирайся в подвал или иди на двор играть в догонялки или в буру (это когда гоняют валенками застывшее яблоко конского помета и стараются попасть друг другу по ногам). А в полутемном вестибюле под желтыми лампочками водили хороводы. Девчонки — и среди них обязательно Инна Кузнецова — брались за руки, вставали в круг и с песней шагали в затылок друг другу.
Иногда шагали резво, потому что песни были бодрые: «Эх, хорошо в стране советской жить», «Есть на севере хороший городок», «Клен кудрявый». Иногда шагали помедленнее: «Хороша страна Болгария», «В далекий край товарищ улетает», «С берез неслышен, невесом спадает желтый лист». Порой шаг делался еще тише: «Жил в Ростове Витя Черевичкин», «Там вдали за рекой», «Таня, Таня»…
Случалось, что мальчишки лихой атакой (если не видела дежурная учительница) разрубали девичий круг и внутри его устраивали свой хоровод, поменьше. Он двигался в другую сторону, но пели вместе с девочками. И очень слаженно. А почему бы и не петь мальчишкам? Среди песен были очень боевые: «Мы не дрогнем в бою за столицу свою», «Артиллеристы, Сталин дал приказ», «Кони сытые бьют копытами»…
Песен знали множество и пели каждый день на каждой перемене. Все, кто хотел. И никого не надо было загонять в школьный хор, грозя двойками, как это стали делать потом — когда Севка вырос и у него появились свои дети…
Севка тоже часто пел в мальчишечьем хороводе. Не только потому, что любил песни. Еще и потому, что когда двигался в кругу, то и дело встречал Инну. И мог смотреть на нее совсем вблизи. И Севка смотрел. Душа его при этом сладко замирала. Но лицо он делал равнодушное и не сбивал ни шаг, ни песню…
В этот раз петь Севка не стал. Он прислонился к стене рядом с фанерной рамкой газеты «За учебу» (здесь еще недавно висели Севкины стихи, на которые, судя по всему, Инна Кузнецова не обратила внимания). Инна уже прошла мимо Севки в хороводе, но посмотреть на нее и помечтать ему не дали. Рядом появился Тощеев:
— Пуся, это ты пульнул в меня на уроке?
В Севке шевельнулся боязливый червячок. С Тощеевым связываться — ой-ёй-ёй. Но всё же он отозвался достойно:
— Сам ты «Пуся».
— Ну ладно, — примирительно сказал Серега. — Я же тебя, Гущик, по делу спрашиваю. Правда ты?
Имело смысл отпереться. Свидетелей не было. Но желание похвастаться оказалось крепче страха.
— Ага, — небрежно кивнул Севка. — С первого раза. Прицелился и — чпок… А чё такого? Больно, что ли?
— Да не больно… Тоже пострелять охота, а картохи нету. Дашь?
— Айда, — сказал Севка. Серегино миролюбие заслуживало награды.
Они пробились в класс мимо негодующих дежурных Гальки Рашидовой и Мишки Кальмана. Севка достал для Тощеева картофелину с дыркой (целую приберег для себя). Серега был рад и такой:
— Во, законная картошечка! Популяем на арифметике. Всё равно я ни фига не понимаю, как решать. Гета как заорет, у меня всё из головы выскакивает.
— А почему Гета? — испуганно спросил Севка. — Сегодня же Елена Дмитриевна…
— Ленушка в больницу идет, не слышал, что ли?
Севка расстроенно покачал головой: ничего он не слышал.
С Гетой Ивановной на уроке не порезвишься. Это лишь Тощеев такой бесстрашный… Серега сказал:
— После звонка все про это говорили… Ты бы меньше таращился кое на кого, а больше бы слушал…
— На кого… таращился? — в тихой панике спросил Севка, и уши у него стали горячими. — Ни на кого я… Дурак ты…
— Да ладно, — усмехнулся Тощеев. — Я не понимаю, что ли? — И отошел.
Севка плюхнулся на скамейку, охватил колючий затылок ладонями и сидел, пока не вошла в класс Гета Ивановна.
Гета Ивановна была высокая, молодая и очень решительная. И сильная: каждой рукой она могла поднять за воротник по второкласснику и донести до дверей, чтобы выставить за порог. Севке она казалась похожей на старинного солдата. Он видел таких на картинках в книжке про Петра Первого. Сперва эти солдаты насмешили его — они были похожи на женщин: в длинных, как платье, мундирах, в чулках и туфлях с пряжками. С дамскими волосами под шляпами. А теперь наоборот — Гета напоминала Севке пехотинца из какого-нибудь Преображенского или Семеновского полка. Ее зеленое платье с блестящими пуговицами было похоже на форменный камзол. Светлые волосы валиками лежали на ушах. Квадратные пряжки на тяжелых туфлях грозно блестели. Острую указку Гета Ивановна всегда держала как шпагу.
Тощеев рассказывал, что недавно Гета прогнала от себя мужа — молодого однорукого военрука из соседней школы-десятилетки. Севка не верил. Скорее всего, муж сбежал от такой ведьмы сам.
— Ну-ка, встали как полагается! — потребовала Гета Ивановна (хотя и так все стояли как надо). — Теперь сели. Руки на парты. Сегодня уроки буду вести я, Елену Дмитриевну вы совсем довели до глазной болезни. Вместо рисования на четвертом уроке будет чистописание.
— У-у… — горестно пронеслось по классу.
— Нечего подвывать! Писать совсем разучилися, хуже, чем в первом классе… Ну-ка, положьте раскрытые тетради на парты, я проверю домашние задания.
«БЕЛАЯ ЛОШАДЬ — ГОРЕ НЕ МОЕ»
На четвертом уроке дежурные раздали тетради по чистописанию. Гета Ивановна стала с указкой у доски — как полковой командир.
— Всем закрыть рты! Кальман, перестань жевать! Руки на парты! Сейчас будем писать. Не так, как вы пишете обычно, царап-царап, а чисто и красиво, чтобы потом всегда так писать… Кальман, я кому сказала, руки на парту, ты чего руку тянешь? Чернил у него нет! У тебя никогда нет чернил! У кого нет чернил, мочите взади… Все сложили руки, я еще не сказала — писать!.. Взяли ручки! Пишем!.. Кто будет торопиться и корябать, будет переписывать после уроков…
Севка открыл свою тетрадь с двумя кляксами на газетной обложке. Тетрадка была в «одноэтажную» косую линейку. Еще недавно они писали большими буквами, высотой в две строчки — как в первом классе. Но наконец это унижение кончилось, в начале второй четверти выдали тетрадки в одну косую линию — специально для второклассников. Елена Дмитриевна всех поздравила, а Гета Ивановна была недовольна. Она говорила, что мелкие буквы уродуют и без того скверный почерк учеников. И чтобы почерк совсем не испортился, она заставляла на чистописании вырисовывать каждую буковку.
Сегодня пришла очередь буквы «Ю». Две заглавные и две маленькие «Ю» были выведены твердой Гетиной рукой в начале строк. «Ох, мама…» — простонал про себя Севка. Придется писать целых четыре строчки.
«Ю» — сложная буква. Будто даже не одна, а две. Это слились «Н» и «О». Севка вздохнул, высунул кончик языка, макнул ручку и взялся за работу.
А работа была нелегкая. Надо следить за нажимом пера, надо выводить дурацкие завитушки у «палочки», надо выписывать «овал», который должен красиво смыкаться в левой верхней части. Потом «палочку» и «овал» необходимо соединить вол-нистой «перекладинкой»… Промучился, кажется, целых пять минут, а готова всего одна буква. Да и та почему-то с кривулиной…
Когда Севка вырастет и никто уже не станет ругать его за почерк, он будет писать букву «Ю» совсем не так. Он будет проводить прямую палочку, ставить рядом ровный кружок и соединять их резкой чертой — так, что палочка и левый край кружка окажутся перечеркнутыми. Такая буква написана в слове «Юрик» на корочке книжки «Доктор Айболит». Это буква Юрика. Настоящая буква «Ю». Не то что эта, с загогулинами, унылая и бесцветная.
Да, именно бесцветная.
Вообще-то у каждой буквы свой цвет. По крайней мере, так всегда казалось Севке. Букву «О», например, представлял он густо-коричневой, как шоколад, которым угощал его Иван Константинович. Буква «И» была пронзительно-синей, «Ш» — черной, «Э» — табачного цвета, «Е» — золотисто-желтая, «А» — белая.
Цвет настоящей буквы «Ю» был ярко-вишневый — как матроска Юрика, когда ее только сшили и она не успела выцвести.
Впрочем, когда Севка и Юрик познакомились, матроска была совсем старенькая и потеряла свой цвет.
Они встретились в хороший майский день, перед самыми каникулами. Было тепло. Счастливый пер-воклассник Сева Глущенко шагал домой из школы. Вернее, не шагал, а прыгал. Потому что земля и тротуары будто сами поддавали его в пятки. Севка радовался всему на свете. Тому, что кончилась война; тому, что цветут яблони; тому, что скоро переведут его во второй класс, а впереди — бесконечное лето. И тому, как хорошо прыгается и шагается. Он был в стареньких, но еще прочных сандалиях на босу ногу (с протертыми насквозь и потому почти невесомыми подошвами), в матросском костюме — тоже стареньком, еще в детский сад в нем ходил, но зато легком и таком привычном, будто это не костюм, а собственная кожа. И даже противогазная сумка с учебниками казалась удивительно легкой. Подбрось — и улетит за крыши.
Севке не хотелось домой, и он свернул на улицу Челюскинцев. Эта дорога была подлиннее, и, кроме того, здесь особенно густо цвели над заборами яб-лони.
В середине квартала стоял длинный коричневый дом с деревянными узорами вокруг окон. Узоры были красивые, но дом старый и покосившийся. На одном конце нижние края окон вросли в землю. Дом был грустный, заброшенный какой-то, и казалось удивительным, что перед ним скачет, как воробышек, мальчик. Такого роста, как Севка.
Тротуара рядом с домом не было, но просохшую землю пешеходы утрамбовали до каменной плотности. На земле белели начерченные мелом «классики», и мальчик прыгал по клеткам, гонял носком сапога баночку из-под крема. Севка сразу посочувствовал: «Такое тепло, а он в сапожищах». Пыльные кирзовые сапожки были небольшие, но очень широкие и сильно болтались. Мальчишкины ноги в полинялых коричневых чулках казались от этого слишком тонкими. Но всё это Севка отметил мельком. Главное было в другом. Главное — мат-роска.
Правда, матроска была не такая, как у Севки. Не синяя, а коричневато-бурая. Но тоже с якорем на рукаве, с полосками на широком воротнике. И Севка сразу почувствовал симпатию к мальчику. Будто они матросы с одного корабля.
Да и не только в матроске дело. Просто мальчик был славный. Прыгал так ловко, несмотря на сапоги. И при каждом прыжке у него вставал торчком светлый мягкий чубчик. У Севки тоже был чубчик, только темный и жесткий. Стричься полагалось наголо, но мама всегда просила знакомую парикмахершу Катю оставить Севке хоть какой-то намек на прическу: чтобы голова была не совсем как картошка. Гета много раз требовала «остричь эту безобразию на-чисто», но потом забывала.
Севка сам не заметил, как остановился.
Мальчик допрыгал до конца «классов» и поднял голову. И увидел Севку. И они встретились глазами. Глаза у мальчишки были синие, веселые и добрые. Не было в них никакой ощетиненности. Раньше, если Севка встречал незнакомых мальчишек, они смотрели задиристо и даже с насмешкой, будто говорили: «Откуда ты такой взялся? Наверно, слабачок». Потому что каждый хотел показать свою силу. А этот не хотел. Он улыбнулся.
Севка засмущался и тоже улыбнулся.
Мальчик сказал, словно они из одного класса:
— Давай поиграем вместе.
У Севки внутри сделалось тепло, будто солнце прогрело его насквозь. Он кинул сумку в пыльную траву у края земляной площадки. Сказал неловко и обрадованно:
— Ну… ладно. — Потом добавил посмелее: — А я тебя раньше никогда не видел. Я тут часто хожу…
Мальчик охотно объяснил:
— Мы здесь недавно живем. А раньше жили во-он там… — Он махнул куда-то за дома. — Далеко. За рекой. Только там хозяйка начала нас выживать, вот мы сюда и переехали…
Потом они сыграли в «классики» полный кон — с первого по десятый класс. И мальчик выиграл. И Севка ничуть не огорчился. Ему было так хорошо с новым знакомым. И тому, видимо, тоже было хорошо с Севкой. Мальчик прыгал по начерченным клеткам и, улыбаясь, поглядывал на Севку из-за плеча. Воротник матроски хлопал его по спине. Иногда прилетал ветерок, и воротник вскидывался и трепетал. Ткань матроски под ним не выгорела, она сохранила свой настоящий цвет — ярко-вишневый. Севку почему-то очень радовала мысль, что в прежние времена матроска мальчика была такого прекрасного цвета. Он вспомнил, что и его собственная матроска была раньше очень красивая — темно-голубая, — и обрадовался еще больше.
Когда игра кончилась, мальчик остановился, выдернул левую ногу из сапога, поджал ее, будто цапля, наклонил голову набок и посмотрел на Севку виновато. Кажется, ему было неловко за свой выигрыш. Потом он нерешительно сказал:
— Можно еще как-нибудь поиграть…
— Как? — обрадовался Севка.
— Можно в «бурное море»! — оживился мальчик.
Севка растерянно заморгал.
— Это надо забраться на сеновал, — объяснил мальчик. — У нас во дворе. Можно там кувыркаться в сене и нырять в него. Будто в волнах плывем. Хочешь?
Еще бы не хотеть! Севка ни разу в жизни не был на сеновале. И к тому же игра такая — в море! В стихию…
Двор оказался очень большой, с огородом, с яблонями за специальным палисадником. В конце двора стоял двухэтажный сарай — такой же старый и покосившийся, как дом. Мальчик привел Севку под навес. Оттуда по визгливо скрипящим ступенькам, через люк, они забрались на второй этаж. Окон там не было, но солнце свободно лилось в широкие щели рассохшихся дощатых стен.
Сено лежало за низкой перегородкой. Его оказалось немного, было оно старое, почти труха. Пахло не травой, а пылью. Да и откуда быть сену весной? Старые запасы корова слопала, новых не накосили. Севка, хоть и городской житель, сразу это понял.
Мальчик, однако, смело забрался на перегородку и лихо прыгнул в труху — только воротник взлетел за плечами. И Севка тоже забрался и тоже смело бухнулся вниз. Половицы крепко стукнули его по коленкам сквозь тонкий слой сена. Он сел, отплевываясь от пыльных соломин.
Мальчик сидел перед Севкой и держался за локоть. Сено запуталось в растрепанном чубчике. Синие глаза были виноватыми.
— Кажется, не получилось море, — со вздохом сказал он.
Да, это было не похоже на морскую стихию. Но Севку уже захлестывала другая стихия: теплые волны счастья оттого, что рядом этот неожиданный друг.
— Получится! — крикнул он. — Поплыли к тому берегу!
Плюхнулся на живот и, разгребая пыльные остатки сена руками и ногами, пополз к стене.
У стены они вскочили.
— Мы спаслись, как моряки Робинзоны! — воскликнул мальчик.
— Ура! — возликовал Севка и подкинул над головой ворох сенной трухи. — Салют! — Он чихнул от пыли и радостно посмотрел на мальчика.
Но тот на Севку не глядел. Прижался лицом к щели и что-то высматривал во дворе. Потом поднял палец — тише, мол, — и этим же пальцем поманил Севку. Севка тоже глянул в щель.
Посреди двора стояла высокая старуха с измя-тым сердитыми складками лицом. Севка ее узнал. Когда он бывал с мамой на рынке, он обязательно видел эту бабку за прилавком в молочном па-вильоне. Летом перед ней, как воины в шлемах, стояли зеленоватые бутыли-четверти, зимой громоздились белые круги замороженного молока. Старуха смотрела из-за них, неприветливо сжимая губы. Мама с Севкой никогда у нее ничего не покупали.
Сейчас старуха смотрела вверх, на сеновал.
— Услыхала, — прошептал мальчик. — Сейчас полезет сюда.
У Севки захолодела спина. Старуха вдруг спросила гулким голосом:
— Есть там кто али нету?
Потом не спеша двинулась к сараю.
Севка обмяк от страха. Но мальчик взглянул на него глазами смелыми и озорными:
— Пошли! Спасаемся от погони…
Севка напружинил мускулы. К страху примешалось веселье. Ожидалось какое-то жутковатое приключение. Мальчик бросился к другой стене, оттянул на себя и опустил конец тяжелой горизонтальной доски. Открылся широкий просвет.
— Лезь, — веселым шепотом сказал мальчик.
Севка очень боялся старухи. Но не совсем же он трус был! Он сказал:
— А ты?
— Я сразу за тобой.
Севка вывалился из дыры и повис на руках. До земли было метра четыре. Цепляясь за щели в досках и бревнах, срываясь и царапаясь, он спустился в сухой репейник и свежие лопухи (они были уже большие). Следом упала сумка. А Севка-то про нее совсем забыл! Из дыры ловко выбрался мальчик и тоже повис на секунду. Потом, по-обезьяньи работая руками и ногами, полез вниз. На полпути ноги сорвались, он замер, еле держась скрюченными пальцами за выступ доски. А штаны зацепились краешком за длинный гвоздь, натянулись и затрещали.
— Ой-ёй-ёй… — сдержанно сказал мальчик. — Ловушка… — Он зашевелил ногами, но не смог найти опору. И стал висеть неподвижно.
А что ему было делать? Дернешься — сорвешься. И штанам конец, и ржавый гвоздь бок раздерет. Севка молча кинулся на помощь. Кое-как вскарабкался по стене и, держась одной рукой, другой отчаянно потянул гвоздь вниз. Гвоздь согнулся. Слегка порвавшаяся материя соскользнула с него. Мальчик оттолкнулся ногами и прыгнул. Севка тоже.
Хорошо, что в лопухи. Но всё равно пятки отшибло крепко. Севка охнул и остался на четвереньках. Мальчик сидел перед ним на корточках. И глаза его были по-прежнему веселые.
— Вот это да… — сказал он.
— Вот это да… — согласился Севка.
— Ты меня спас, — сказал мальчик.
Севка скромно опустил глаза.
Мальчик взял его за руку, и они, прихватив сумку, уползли за большую бочку, что рассыхалась посреди лопухов.
— Чтобы хозяйка не заметила, если сюда при-дет, — весело прошептал мальчик.
— А она не догадается, кто там был? — Севка кивнул в сторону сеновала.
— Нет… если сапоги мои не найдет. Да она не заметит в сене.
Только сейчас понял Севка, что мальчик без обуви. К чулкам густо прилипло сено и прошлогодние репьи, ноги казались обросшими клочкастой шерстью. Как у чертенка или какого-то зверька. Севка засмеялся, но тут же встревожился:
— Как же ты теперь? Без сапогов-то…
— А… — беспечно сказал мальчик. — Потом раскопаю. А сейчас можно босиком, лето уже. — Он стянул чулки, похлестал ими о бочку, чтобы стряхнуть мусор. — Затолкай пока в сумку.
Севка затолкал. А заодно и свои сандалии. Босиком так босиком. Вместе. Одинаково.
— Надо выбираться отсюда, — обеспокоенно сказал мальчик и посмотрел вокруг, как разведчик.
Они были уже не в старухином дворе, а в соседнем. В дальнем, заросшем сорняками углу. Посреди двора сохло на длинных веревках белье.
— Мы выскочим через калитку, — сказал мальчик. — Там, у калитки, тоже есть опасность, но она привязанная…
Однако «опасность» оказалась не привязанной. Когда Севка с мальчиком, пригибаясь под мокрыми простынями, выбрались к воротам, навстречу бросился большой кудлатый пес. И оглушительно загавкал!
— Стой, — быстро сказал мальчик. — Нельзя бежать.
Какое там «бежать»! У Севки онемели ноги. Он замер, зажмурился и понял, что сию секунду с ним от ужаса случится кошмарная постыдная беда. Еле-еле сдержался.
Пес гавкал громко и равномерно. Севка приоткрыл один глаз. Клочкастое чудовище стояло в трех шагах и не приближалось. И… хвост у него мотался из стороны в сторону. И… в глазах не было злости, а блестели веселые точки. Севка перестал жмуриться.
— Ну что ты? — вдруг тонким голосом загово-рил мальчик. — Ты зачем лаешь, собака? Мы же не воры… Ты хороший. Ты Полкан. Я знаю, тебя зовут Полкан.
Клочкастый Полкан перестал гавкать. Растерянно мигнул. Потом хвост его заметался быстрее, а собачья пасть заулыбалась. Он сделал шаг к мальчишкам.
— Вот какой ты хороший… — осторожно сказал мальчик. Медленно запустил руку в треугольный вырез матроски и достал плоский газетный сверточек.
Свистя хвостом по траве, пес уселся и заинтересованно склонил набок голову. Мальчик развернул газету. В ней оказался ломоть хлеба. Пес облизнулся. Мальчик отломил краешек. Сел на корточки. На прямой, немного дрожащей ладошке протянул Полкану угощение. Тот деликатно слизнул его и глазами спросил: еще дашь? Мальчик дал еще. И сказал:
— А теперь хватит. Это нам. Мы пойдем, ладно?
Он взял Севку за руку, и они робко пошли к выходу со двора. Пес двинулся за ними, всё еще на что-то надеясь. Мальчик поднял тяжелую щеколду, отвел калитку. Подтолкнул в проход Севку, шагнул на улицу сам. А Полкану сказал, обернувшись:
— Тебе с нами нельзя. Тебе надо от воров белье караулить.
Калитка с лязгом закрылась. Полкан за ней обиженно взвыл. И тут же раздался сердитый женский вопль:
— Это там кто?! Кого это носит по двору?! Вот я вас!
Севка с мальчиком рванули вдоль улицы и остановились только в сквере у деревянного цирка, который ремонтировали пленные немцы.
Там они забрались в чащу желтой акации у деревянной решетчатой изгороди. Отдышались. Мальчик вытащил из пятки занозу, которая воткнулась на дощатом тротуаре. Заулыбался и сказал:
— Вот такие дела, братья-матросики…
Севке это очень понравилось — «братья-матросики»! Он тоже заулыбался и признался, ничуть не стесняясь:
— Я от страха чуть лужу не наделал, когда эта псина загавкала… А ты смелый.
— Ты тоже смелый. Вон как меня с гвоздя снял… А собака эта немножко знакомая. Я ей иногда с сеновала кусочки кидал. Она не злая.
— И хорошо еще, что она не ученая, — авторитетно заметил Севка. — Ученые собаки, если даже не злые, у чужих ничего не берут… А зачем ты хлеб с собой носишь?
— Это мой «сухой паек». Я когда гуляю, всегда хлебную норму беру. Захотел — поел, домой не надо идти… Давай поедим.
Мальчик разломил кусок и половинку протянул Севке. Они сжевали хлеб, слизнули с ладоней крошки. Выбрались из кустов. Снисходительно понаб-людали, как немцы неторопливо и очень аккуратно складывают в штабель золотисто-желтые доски. Злиться на немцев не имело смысла: война кончилась, это были уже не враги, а так…
— О, киндер… — обрадованно заговорил тощий фриц в глубокой пилотке. — Алле киндер это есть кха-рашоу.
— Сам ты киндер, — независимо отозвался Севка. — Навоевались вместе со своим вшивым фюрером, вот теперь работайте.
— Правильно. Это вам не бомбы кидать, — поддержал его мальчик. — Айн-цвай-драй, млеко, яйки, хенде хох, Гитлер — капут.
И они с Севкой пошли из этого сквера. Просто так, неизвестно куда.
Мальчик сказал, глядя, как ступают по занозистому тротуару его босые ноги:
— Когда мы ехали из Ленинграда, еще давно-давно, они наш поезд бомбили, гады. А мы с мамой в яме лежали. Меня всего оглушило. Мама меня за-крывала, а меня всё равно осколком царапнуло. Вот здесь… Хочешь, покажу?
Мальчик сильно оттянул назад ворот матроски, и Севка увидел повыше лопатки, у плеча, прямой белый рубчик.
Мальчик вздохнул:
— Только мама не велит мне показывать. Говорит, что нечем хвастаться: это же не в бою рана получена.
В бою не в бою, а всё равно мальчишка ранен на войне! Повезло человеку! Севка ощутил горячую зависть. И чтобы скрыть ее, небрежно сообщил:
— Нас когда эвакуировали из Ростова, тоже «юнкерсы» налетели. Но меня вот не задело.
Тогда и правда был налет, мама рассказывала. Но Севка ничего не помнил. Наревевшись от голода, он спал и не проснулся, когда ухнули три бомбы. Немцы промазали и улетели.
— У тебя сумка не тяжелая? Если устал, давай я понесу, — сказал мальчик.
— Да нисколько не тяжелая! — радостно откликнулся Севка.
В эту минуту из-за угла выползла тряская телега с длинной лежачей бочкой. Над горловиной бочки плескалась вода, а впереди сидел старый дядька с небритым веселым лицом. Как раз такой, про которого есть песня:
Удивительный вопрос: Почему я водовоз? Потому что без воды И ни туды и ни сюды!Севка остановился. Дело не в дядьке и не в песне было. Телегу тащила ленивая грязно-белая кобыла. Белая лошадь!
Это была примета.
Сейчас, когда лошади в городах повывелись, примету забыли. Но во времена Севкиного детства мальчишки и девчонки знали: увидеть белую лошадь — это не к добру. Севка торопливо сложил пальцы в за-мочек.
Но замочек помогает лишь от пустяков: если за-пнешься левой ногой, или сядет на тебя белая бабочка-капустница (коричневые крапивницы пусть садятся, они добрые), или зачешется левый глаз (что, как известно, обещает слезы). А от белой лошади была лишь одна защита: кому-то передать свое «горе». Полагалось поскорее хлопнуть ладонью того, кто оказался рядом, и сказать: «Белая лошадь — горе не мое».
Но кого хлопнешь? Мальчик с растерянной улыбкой смотрел на Севку. «Замочки» у него были на обеих руках. И даже на ногах он беспомощно пытался сдвинуть пальцы крест-накрест.
Севка ощутил прилив геройства и великодушия. Он протянул мальчику ладонь:
— Передавай.
Синие глаза мальчишки вмиг потемнели. В них появился не то испуг, не то упрек. Он сказал тихо и очень серьезно:
— Что ты. На друга разве передают?
«На друга»! Севку окутало счастьем, как горячим воздухом.
— Тогда… давай, — сбивчиво проговорил он и протянул руку со скрюченным мизинцем. — Давай тогда всё горе пополам.
— Давай!
Они сцепились мизинцами и весело рванули руки на себя. И стало сразу ничего не страшно. Подумаешь, лошадь! Да хоть белый медведь!
Они зашагали рядом — два друга, два первоклассника, два человека, побывавших под бомбами, два таких похожих друг на друга мальчишки!
Они познакомились каких-то два часа назад, но за это время в их жизни случилось всё, что нужно для настоящей дружбы. Они научились понимать друг друга по глазам и улыбкам. Они выручали друг друга во время опасности. Они пополам ломали кусок хлеба. И пополам решили делить любое горе.
Только одного они еще не знали: как зовут друг друга. Они могли вместе играть, вместе спасаться от беды, могли доверять друг другу тайны, а спросить «как тебя зовут?» было неловко. Это лишь девчонки так вежливо знакомятся. А мальчишки узнают имена между прочим, при случае. Но пришел и такой случай.
Заговорили про книжки, Севка рассказал про «Пушкинский календарь», а мальчик про свою любимую сказку «Доктор Айболит».
— Потому что там про зверей, про пиратов и вообще про приключения…
— Я знаю! — вспомнил Севка. — Нам зимой в школе эту книжку читали. Только я потом заболел и не знаю, как она кончилась… Жалко…
— А возьми у меня и почитай, — сразу предложил мальчик. — Хочешь?
Когда пришли к дому, где они познакомились, мальчик вынес большую потрепанную книгу. На треснувшей обложке был корабль, а на палубе у него сам доктор Айболит и множество зверей. В том числе и замечательный Тянитолкай. Такая прекрасная книга!
— Тебе не попадет за то, что ты ее дал мне? — осторожно спросил Севка.
— Почему же попадет? — удивился мальчик. — Я маме про тебя расскажу… Да я эту книжку могу без спросу давать, это же не мамина, а моя. Вот, даже подписано.
Он откинул корку. На ее внутренней стороне были крупные буквы:
Юрик Кошельков
Севка почему-то застеснялся, кивнул, открыл сумку, чтобы затолкать книгу… И выдернул свою тетрадку по арифметике. Неловко сказал:
— А у меня вот такая подпись.
Мальчик внимательно прочитал, что было на обложке. Серьезно проговорил:
— У нас в классе, где я раньше учился, тоже был Глущенко. Тоже хороший человек, только все-таки не такой… Рыжий и большой. И звали его Вовка.
— …Так! А это что такое?
Севка вздрогнул. Севка съежил плечи и поднял глаза. Высоко-высоко над собой он увидел голову Геты Ивановны с буклями военно-старинной прически. И плечи с частыми сборками, похожими на эполеты. Оттуда протянулась рука с наманикюренными пальцами. Взяла тетрадь, поднесла к Гетиным глазам и опять кинула на парту. Красный ноготь уперся в строчку.
— Это что? Это буква «Ю»? И это! И это? Они что у тебя, дистрофией больны? Или ты решил надо мной поиздеваться?
Севка не думал издеваться. Он вообще не думал о Гете, он думал о Юрике. А рука его сама выводила буквы. Как умела, как привыкла. Севкины плечи съежились еще сильнее. Рядом притихла Алька.
— Останешься после уроков и перепишешь все строчки! Нацарапал своей железякой кое-как… Завтра чтоб я ни у кого железных ручек не видела! Разболтались у Елены Дмитриевны, добротой ее пользуетесь…
Стуча каблуками, Гета Ивановна отошла. Строчки букв расплывались в глазах, превращались в размытые лиловые полоски, как на старой тельняшке. На последнюю букву упала большая прозрачная капля. Буква растеклась жидкой кляксой. Севка торопливо накрыл ее промокашкой.
ДВА ПОЭТА
После урока Гета Ивановна велела Севке (а еще Борьке Левину и Витьке Каранкевичу, которых то-же заставила переписывать буквы) сесть на задние парты. «Чтобы не торчали на глазах». А остальным тоже приказала не расходиться. Сообщила, что сейчас во второй «Б» придет гость. Это фронтовик, офицер-артиллерист и настоящий поэт. Он пишет стихи и даже печатает их в журналах. Стихи для взрослых и для ребят. Поэт может их почитать, если его попросят. И может рассказать про всякие военные дела. Только «все должны сидеть тихо, положить руки на парты, а если будут вопросы, поднять правую руку и ждать, когда вызовут, а не махать ей и не кривляться, как Тощеев и Кальман».
Севка очень обрадовался: значит, сидеть придется вместе со всеми — это в сто раз веселее, чем в пустом классе. И к тому же первый раз в жизни он увидит поэта. Конечно, не Пушкина, но всё равно настоящего. А буквы он перепишет аккуратненько, будут стоять, как гвардейцы на параде.
Поэт оказался молодым остроплечим человеком в суконной гимнастерке — с портупеей, но без погон. Одно плечо у него было повыше другого — будто поэт удивился чему-то, приподнял его и забыл опустить. Севка знал, что так бывает от контузии. На щеке поэта был небольшой коричневый шрам. «Зацепило осколком, — подумал Севка. — Повезло еще. Могло и голову пробить, а тут все-таки живой вернулся…»
У папы тоже был шрам. На подбородке, маленький, похожий на букву «С». Папа его получил не на войне, а гораздо раньше, когда Севки еще не было на свете, а сам он был молодым матросом. Зацепило крюком лебедки. Севка плохо помнил папино лицо, а эту маленькую букву «С» на узком, всегда гладко выбритом, чуть раздвоенном подбородке запомнил с младенчества… Поэту повезло, он вернулся. А Севкин папа уже не вернется…
Или все-таки вернется когда-нибудь? Ведь никто-никто не видел, как он погиб. Транспорт горел, команду с него снял английский эсминец, капитан и еще несколько моряков были убиты, а старпома Сергея Григорьевича Глущенко не оказалось ни среди живых, ни среди мертвых. Скорее всего, он был среди тех, кого первым взрывом сбросило в воду, и они погибли среди зимних волн от холода или от немецких пуль… Все решили, что было именно так… Но может быть, и не так? Севка знал, что на войне бывало всякое.
Может быть, и этот поэт не раз чудом спасался от смерти…
Поэт стеснялся. Немного заикаясь, он объяснил «товарищам второклассникам», что еще до войны, в школе, очень любил писать стихи. И даже на фронте, когда вроде бы уж совсем не до этого, он всё равно их писал. Для армейской газеты и просто так, для товарищей. Как-то само это получалось. И даже воевать от этого было чуточку легче.
— Вот до смешного доходило, ей-богу: недалеко снаряды грохают, может накрыть в любой момент, а в голове строчка вертится. Думаешь, как бы ее в стихи загнать… — Он виновато улыбнулся, дернул приподнятым плечом. — Ребята наши… ну, товарищи, с которыми в батарее был, меня дразнили: «Сашка, тебе бояться некогда, ты во время обстрела поэмы складываешь…»
— А вы правда не боялись? — спросила вредным голосом Людка Чернецова.
— Чернецова! Когда спрашиваешь, надо руку поднимать!
— Да не надо, — торопливо сказал поэт. — Почему не боялся? На войне все боятся, жизнь-то одна.
— Это трусы боятся, а смелые — нет, — заспорил Витька Каранкевич. Он был не очень умный.
— Каранкевич!
— Нет, — сказал поэт, — все боятся. Только трусы бегут, а обыкновенные люди воюют.
— А вы не бегали? — без насмешки, а скорее с опаской спросил Владик Сапожков.
— Сапожков! Сейчас вылетишь из класса!
Поэт сказал, будто извиняясь:
— Куда побежишь, если ты командир орудия, а потом командир взвода… Ты побежал — за тобой взвод, потом батарея, потом вся позиция начнет откатываться. А кто воевать будет? Конечно, если дают приказ отходить — это другое дело. А без приказа не положено…
— Значит, вы смелый, — с удовольствием сказал Сапожков. Он выяснил для себя всё, что хотел.
— На войне смелых солдат столько, что не сосчитать. Им и полагается быть смелыми… Я про другое хочу сказать. Я ребятишек видел таких, как вы… Ну или чуть побольше. Им тоже воевать пришлось. Вот это герои, честное слово. У меня про одного стихо-творение есть. Если хотите, я могу…
Все, не слушая Гету, закричали, что, конечно, хотят! И Севка закричал. Поэт ему нравился. Он был, разумеется, герой, только очень скромный. И про трусость и смелость говорил то же самое, что Севкин сосед Иван Константинович, значит, всё правильно.
Севка слушал поэта, машинально макая перо в непроливашку (он забрал ее у Альки). Так же машинально выводил злосчастную букву «Ю». Потому что это было не главное. Главное — стихи живого поэта, который читал их негромко, без особого выражения, но очень понятно.
В стихах рассказывалось, как наши освобождали от немцев маленький город.
Горели дома от воздушной атаки. Враги огрызались всё реже и реже… По мерзлой дороге с гуденьем и скрежетом К окраине шли краснозвездные танки…Но на пути у танков оказалась немецкая батарея. Она открыла такой огонь, что не пробиться. И тогда к танкистам — сквозь разрывы — пробрался с окраины мальчишка. В рваных сапогах и, несмотря на холод, в одной рубашке. Думать было некогда, мальчишку посадили на броню к автоматчикам: он обещал показать безопасный путь.
Рубашка рвалась наподобие флага. И сам он вперед рвался — зло и отточенно… И танки ударили с тыла и с фланга. И сбили фашистов. И бой был окончен.Севка видел всё это будто на самом деле. Или по крайней мере, как на экране кино. Мальчишка был похож на Юрика. И Севка отчаянно боялся, что его убьют. Нет, не убили.
Его, говорят, наградили медалью, Но это уж после, и там меня не было. А тут он шепнул: «Дайте, дяденька, хлеба. Немножко… Мы с мамой три дня голодали…»Сначала все сидели тихо. Потому что это такие стихи, что после них как-то не хочется шуметь и хлопать. Но потом всё же захлопали — сильнее и сильнее. Гета Ивановна что-то говорила поэту и медово улыбалась, а он переминался у стола.
Севка не хлопал: неудобно, ручка зажата в пальцах. Он проглотил застрявший в горле комок и стал писать дальше. Выстрелов и разрывов Севка не помнил, танки в тыл немцам не водил, но голодать вместе с мамой — это приходилось. Это он всё прекрасно понимал…
Поэт читал еще стихи: про бой с немецкими танками, про салют Победы. Потом рассказывал, как с товарищами брал «языка», когда служил в артиллерийской разведке. И всё было так здорово! Гета Ивановна уже ни на кого не кричала, когда шумели и спрашивали наперебой…
И вдруг всё кончилось! Раздался звонок с пятого урока, и оказалось, что поэту пора уходить. Ребята кричали: «Еще расскажите», но Гета Ивановна цыкнула. Поэт сказал «до свидания», Гета Ивановна увела его из класса, а все бросились к вешалке. Кроме Левина, Каранкевича и Севки.
Алька подошла и тихонько сказала:
— Чернилку завтра принесешь, ладно?
Севка сумрачно кивнул.
Когда класс почти опустел, Гета Ивановна вернулась. Посмотрела тетради у Борьки и Витьки, сказала, что всё равно каракули, но уж ладно на этот раз, пускай убираются домой. Подошла к Севке. Глянула с высоты:
— Ты, Глущенко, наверно, назло учительнице так царапаешь, да?
— Не… — шепотом сказал Севка.
— Напишешь еще строчку, потом пойдешь.
Она опять удалилась из класса. Свободные Каранкевич и Левин тоже выскочили за дверь. Стало тихо и тоскливо до жути. Даже накал в лампочках будто ослабел. Еле слышно, жалобно звенели в них волоски.
Севка опять начал глотать слезы. Написать еще строчку — дело не хитрое, но ведь Гета снова заявит, что не так. И до каких же пор он будет сидеть? Уморит Гетушка Севку. Это она ему мстит за разговор про «польта». А какое она имеет право? Она еще даже не настоящая учительница! Вот сейчас она придет, и он ей скажет…
Но Севка знал, что ничего не скажет. Во-первых, потому, что страшно. Во-вторых, Гета всё равно не возвращалась. Севка всхлипнул и взялся за ручку.
Открылась дверь… но вошла не Гета. Это вернулся поэт! Севка удивленно смотрел на него мокрыми глазами.
Поэт быстрым взглядом окинул класс, увидел на задней парте Севку, неловко улыбнулся. Сказал с запинкой:
— В-вот, имущество свое забыл…
Он взял со стула полевую сумку (такую же, как у Ивана Константиновича), шагнул к двери… и там огля-нулся. Посмотрел на Севку повнимательнее:
— А почему ты сидишь тут один?
Севка втянул разбухшим носом воздух и опустил голову: чтобы не видно было мокрых глаз.
Поэт постоял у двери и зашагал к Севке. Неуклюже присел рядышком (ноги, конечно, не влезли под парту и остались в проходе).
— Неприятности? — негромко спросил поэт.
У Севки не было сил гордо отпираться. Он кивнул.
— А что за беда случилась?
— Да вот… — сипло сказал Севка. — Буква эта проклятая. Никак не получается ровная, а она… Гета Ивановна… всё «пиши» да «пиши»…
Поэт понял всё моментально. Он же был военный человек.
— Дай-ка ручку, — сказал он. И придвинул Севкину тетрадку. — Левая рука у меня так себе, а правая пока работает как надо… Здесь писать?
И на строчке, где одиноко торчала косая Севкина буква, он вывел свою. Потом еще.
Севка с нарастающим восторгом следил, как послушные, подтянутые, со всеми положенными по уставу завитушками и перекладинками «Ю» выстраиваются в шеренгу. Поэт писал быстро. Рукав его гимнастерки двигался рядом с поджатым Севкиным плечом. От поэта пахло немножко одеколоном, немножко табаком, немножко старой кожей портупеи. И может быть (чуть-чуть!), порохом, запах которого въелся в ткань военной одежды со времени боев. Так же пахло от Ивана Константиновича, когда он подбрасывал хохочущего Севку к потолку или сажал рядом с собой на жесткую узкую кровать и давал пощелкать курком незаряженного браунинга — маленького и очень тяжелого. Так же, наверно, пахло от папы (только примешивался еще запах морской соли)…
Поэт закончил строчку и вопросительно взглянул на Севку:
— Еще?
— Ой, нет. Спасибо, она мне только одну велела…
Севка вздохнул. Строчка выглядела отлично, только поверит ли Гета? И как быть дальше? Ведь всё остальные в жизни буквы все равно придется писать самому.
Поэт понял Севку. И утешил:
— Ты не горюй. Красивый почерк — в жизни не главное. У многих великих людей почерк был такой, что ученые до сих пор не всё разобрали, что в их бумагах написано. Вот у Пушкина, например…
— Ой, правильно! — обрадовался Севка. Он вспомнил: — У меня есть книга «Пушкинский календарь», там на картинках рукописи Пушкина отпечатаны… — Севка засмеялся. — Гета Ивановна ему показала бы…
Засмеялся и поэт:
— Вот видишь. А ведь это Пушкин… Ты стихи Пушкина читал?
— Конечно, — сказал Севка ласково, будто взял в руки котенка. — Я его люблю. Я его часто читаю.
— И я люблю. На фронт из дому его книжку взял и всё время с собой возил, пока не сгорела…
— А вы знаете его стихи «Прощай, свободная стихия…»? — робко спросил Севка.
— Еще бы. Знаю, друг, — сказал поэт и положил на Севкино плечо ладонь.
Ладонь была твердая и очень теплая. Это чувствовалось через рубашку. Севка начал таять от этого тепла, от слова «друг», от радостного доверия к доброму и сильному человеку.
— А я… тоже стихи… иногда сочиняю, — задохнувшись от смущения, признался он. — Один раз… про революцию… Только они короткие. Хотите, я расскажу?
— Очень хочу, — серьезно сказал поэт.
Севка тут же раскаялся в своих словах. Он понял, какие неуклюжие у него стихи по сравнению с теми, что читал поэт.
— Да нет, — промямлил он. — Они плохие…
— Может быть, и не плохие. Ты уж прочитай, раз обещал.
Делать нечего. Севка обреченно продекламировал свое четверостишие. Уши Севкины словно варились в кипятке.
— Хорошие стихи, — сказал поэт. — Молодец… Удачно вышло, что мы с тобой встретились, верно? Мы с тобой похожие люди: Пушкина оба любим, стихи пишем…
Он хотел еще что-то сказать, но тут нечистая сила принесла Гету Ивановну.
— О-о… — приятным голосом сказала Гета. — Вы здесь! А я вас жду в учительской. О чем это вы беседуете, если не секрет?
— Да вот родственную душу встретил, — проговорил поэт и нехотя поднялся. — Человек тоже стихи пишет.
— Да, это за ним водится, — согласилась Гета. — Но только, чтобы писать стихи, надо сначала вообще научиться писать как следует. Приличный почерк отработать. Не правда ли? Вот вы скажите ему это.
— Да мы как раз насчет почерка и говорили, — сказал поэт и еле заметно подмигнул Севке.
Гета Ивановна глянула в тетрадь:
— Ну что же, Глущенко, иди… Оказывается, можешь писать, если постараешься.
— До свидания, — сказал Севка. Будто обоим сказал, но на самом деле — поэту.
— До свидания, — отозвался поэт и на прощанье легонько сжал Севкино плечо.
Когда Севка подходил к дому, почти совсем стемнело. Только в конце улицы светилась под черными облаками багровая щель. Будто в темной комнате приоткрыли дверцу горящей печки.
Дома, наверно, и в самом деле топится печка, потому что мама обещала прийти с работы пораньше. И может быть, привезла картошку. Тогда мама нажарит полную сковородку. Картошка будет до обалдения вкусная, чуть хрустящая, с золотистыми корочками от подсолнечного масла, которое позавчера получили по талону «жиры» — две бутылки. А еще можно будет напечь прямо на плите картофельные ломтики, посыпанные солью. Крупинки соли стреляют, а ломтики покрываются аппетитной коричневой пленкой с пузырьками.
От этих мыслей Севке было радостно. Но не только от них. Еще больше от встречи с поэтом.
Севка не запомнил его имени. И никогда в жизни больше его не встречал. Он не знал, стал ли этот поэт знаменитым или, наоборот, перестал писать стихи и выбрал другую работу. Но одно Севка знал всегда: это был очень хороший человек.
Впрочем, эти мысли появились у Севки потом. А пока, по дороге домой, занимала его одна подсказанная поэтом мысль: оказывается, можно стать хорошим человеком, если даже не научишься писать красиво.
А о том, что наоборот — не все люди с красивым почерком хорошие, Севка сам догадался, когда стал постарше.
Печка и в самом деле топилась — мама оказалась дома. И картошку привезли! Она была рассыпана по всей комнате — чтобы просохла. На полу остались только узкие проходы — как на минном поле.
Севка вспомнил про свои картофелины. Маленькую выложил на подоконник, для стрельбы (хотя стрелять уже не очень хотелось), а Кашарика показал маме.
Мама была в очень хорошем настроении. Она согласилась, что жарить или варить замечательного Кашарика с Луны ни в коем случае нельзя, пусть он живет у Севки на подоконнике.
Севка вздохнул:
— Только потом он станет старый и дряблый.
— Ничего. Весной из него проклюнутся ростки, мы их вырежем и посадим на огороде. И вырастет у Кашарика целая семья.
Севка обрадовался. И стал рассказывать про поэта. Но тут постучал и заглянул в комнату Иван Константинович:
— Татьяна Федоровна, можно Севу на минуточку? Сева, иди-ка сюда…
Севка выскочил в коридор, где высоко горела пыльная лампочка.
— Ой… — восхищенно сказал Севка. Несмотря на тусклый свет, он сразу разглядел на Иване Константиновиче новые погоны. — Вы теперь майор!
— Да, — улыбнулся Иван Константинович. — Видишь, присвоили. Я насчет демобилизации хло-почу, домой собираюсь, а мне — пожалуйста. Ну да ничего, всему свое время… А это тебе. На память, что был такой капитан Иван Константинович Кан.
Он протянул Севке свои старые капитанские погоны.
— Ой-й… — опять сказал Севка. И глупо спросил: — Насовсем?
— Конечно… Вот только если разжалуют, тогда попрошу назад.
Севка засмеялся: это Ивана-то Константиновича разжалуют?! Да его полковником надо сделать!
В комнате Севка с полчаса любовался сокровищем. Погоны были из золотистой, узорчато вытканной материи с малиновыми кантами по краям и такой же малиновой ленточкой посредине — просветом. На каждом блестели потертой латунью четыре выпуклые звездочки. Всё это было настоящее — военное, офицерское.
Севка выпросил у мамы две безопасные булавки и закрепил погоны на плечах — булавками у воротника, хлястиками на лямках штанов. Погоны оказались, конечно, велики, но это не убавило Севкиной радости. Он вертелся перед висячим зеркалом, пока опять не постучал Иван Константинович:
— Татьяна Федоровна, ко мне тут приятели сейчас заглянут. Говорят, что отметить полагается новое звание. Может быть, вы тоже зайдете, а?
Мама смутилась и заволновалась. Куда же она пойдет? В таком виде, растрепанная… И ужин готовить надо, Севку кормить…
Иван Константинович сказал, что приглашает маму вместе с Севкой и ужин готовить не надо, потому что у него есть консервы и еще кое-какие закуски. Вот если бы мама только сделала милость — помогла ему приготовить винегрет…
Через час мама и Севка сидели за столом в комнате Ивана Константиновича. Было еще трое гостей: пожилой веселый майор, черноусый капитан и круглолицая женщина с очень яркими губами — жена капитана. Все шумно разговаривали, пили красное вино из бутылки с пестрой наклейкой, ели консервы с жареной картошкой, винегрет и бутерброды с крупной оранжевой икрой. Ее шарики лопались на зубах и растекались во рту восхитительным солоноватым соком.
Севке вина, конечно, не давали, но на закуски он налегал вовсю. Мама даже сказала шепотом:
— Не старайся через силу. Помнишь, как объелся пряниками?
Севка помнил. Но всё равно старался. Не каждый день случается поесть до отвала и так вкусно.
Иван Константинович пошептался с друзьями, и они наперебой стали просить маму спеть. Мама стала отказываться, но Севка знал, что она всё равно согласится. И мама наконец сказала:
— Ну хорошо, только вы все подпевайте.
И запела замечательную песню, от которой у Севки всегда щипало в глазах:
Что стоишь, качаясь, Тонкая рябина…Все стали подпевать. Даже Севка — тихонько. Потом еще спели «Ночь коротка, спят облака» и «На позицию девушка провожала бойца»… А когда спели, услышали, что с суточного дежурства вернулась тетя Аня Романевская. Она ругала за невымытый пол Римку. Расхрабрившийся Иван Константинович встал и сказал:
— Сейчас я ее приведу сюда. Вместе с патефоном.
И правда, привел тетю Аню — слегка упирающуюся, но довольную. И патефон принесли.
Сначала поставили «Рио-Риту», потом быструю музыку, которую очень любила мама, — «Король джаза». Красногубая жена капитана оказалась ужасно веселой. Она подхватила со стула Севку и пустилась танцевать с ним. Она громко смеялась и говорила Севке «товарищ капитан». От нее пахло шелком, помадой и было горячо, как от печки. А настоящий капитан танцевал с Романевской.
Наконец все опять сели за стол. Севка слегка опьянел от сытости, шума и тепла. Все говорили наперебой, и он тоже пытался рассказать о своих делах: о том, что сегодня у них в классе был на-стоящий поэт и они познакомились. Но мама ска-зала:
— Подожди, не перебивай, потом расскажешь.
Севка слегка надулся. Иван Константинович заметил это, подмигнул Севке, сходил куда-то и дал ему большую шоколадную конфету в лаковой красной бумажке. Севка сроду таких не видел!
— Ну, Иван Константинович, — сказала мама. — Вы его всё время балуете.
— Н-ничуть, — очень твердо ответил Иван Константинович и опять подмигнул Севке.
Севка снова подумал, что поэт и майор Кан похожи друг на друга. И тоже подмигнул Ивану Константиновичу.
Разве мог он подумать, что через несколько дней сойдется с этим человеком в смертоубийственном поединке?
СУРОВОЕ РЕШЕНИЕ
Пришло время рассказать о доме, в котором жил Севка.
Дом был двухэтажный. Первый этаж из кирпича, второй деревянный. Говорили, что до революции в доме обитал владелец городских мельниц Малкин. Он сам, его жена и две дочери-гимназистки. Ну и прислуга, конечно, всякая: кухарки, кучер, дворник. Прислуга жила в кирпичном этаже и маленьком доме, который стоял в глубине двора. А семейство Малкиных располагалось в комнатах наверху. Четыре человека на целый этаж!
Сейчас там было, конечно, гораздо больше жильцов.
На второй этаж прямо от широкого трехступенчатого крыльца поднималась лестница. Почти такая же, как в школе. В давние времена ступени были покрыты желтой краской, но она стерлась, и остатки ее были заметны лишь по краям, у перил. Перила тоже когда-то покрасили — в зеленый цвет. Теперь краска потрескалась и местами осыпалась. Ее квадратные чешуйки легко отколупывались ногтем. В точеных балясинах чернели трещины. Летом из них то и дело выбегали муравьи. Может быть, они там жили, а может быть, что-то искали — Севка не знал.
Лестница кончалась на площадке, тоже окруженной перилами. Там были две разные двери. Шаткая дощатая дверь вела в холодный пристрой, где находились кладовки. А за другой, обитой клочкастым войлоком и старой клеенкой, начинался коридор.
В коридоре всегда стоял полумрак, потому что не было окон. У потолка висела сорокаваттная лампочка, покрытая пылью и мелкими пятнышками. Когда лампочка перегорала, жильцы начинали спорить, чья очередь идти на толкучку и покупать новую. Спорили иногда несколько вечеров. И всё это время в коридоре стояла тьма. Лишь в одном углу прошивали ее игольчатые лучики — они выбивались из комнаты слесаря дяди Шуры, который жил там с глухой тетушкой Еленой Сидоровной. Дяди Шу-рина дверь была стеклянная, замазанная масляной краской. Свет пробивался там, где краска треснула или отскочила.
Когда лампочку наконец покупали, дядя Шура зажигал свечку, отодвигал от стены старый комод Романевских (который стоял здесь, потому что в комнате места не хватало), ставил на него табурет и налаживал освещение. И все делались довольные. И несколько дней даже забывали ворчать на Романевских за то, что комод в коридоре всем мешает.
Комната дяди Шуры была первая от входа, с левой стороны. За ней располагалась каморка, в которой жила бабушка Евдокия Климентьевна. Она где-то работала сторожихой. Недавно к ней вернулся из армии ее внук Володя. Поступил на завод «Механик» и сразу женился. Теперь они ютились в комнатушке втроем. Римка Романевская сперва говорила: «Вот подождите, молодая-то покажет бабке…» Но Володина жена ничего не «показывала», жили они с Евдокией Климентьевной душа в душу.
Дальше была комната Романевских. Напротив них обитал Иван Константинович. А в конце коридора находилась дверь, которая вела в длинную узкую комнату Севки и мамы.
Была еще на этаже большая общая кухня. В ней пахло подгорелым луком, квашеной капустой и керосином от примусов…
Севке дом нравился. Севка знал, что есть дома, которые в сто раз больше, красивее и удобнее, но это его не касалось, он в них никогда не жил. А в этом доме провел три года своей жизни и полюбил его. Ему нравилась лестница и площадка над ней (немножко похожая на капитанский мостик). Нравилось, что с площадки можно через оконце вы-браться на широкий навес над крыльцом, — сиди там сколько хочешь, загорай, и никто не ругается. Нравилось, что в коридоре можно потихоньку отодрать верхние обои и под ними открываются наклеенные листы очень старых газет и журналов — с буквами «ять», с объявлениями о пианино «Юлий Генрихъ Циммерманъ», пишущих машинках «Эдуардъ Керберъ» и «знаменитейшихъ, новейшихъ граммофонахъ марки «Монархъ» с цветнымъ рупоромъ «Лотосъ».
По вечерам дом был полон звуков и голосов. Это делалось особенно заметным, когда Севка ложился спать.
Севка сворачивался калачиком на своем сундуке, закрывал глаза и превращался в радиостанцию, которая принимает разные сигналы.
За стеной спорили о книжках Римка и ее сестра семиклассница Соня. Дребезжаще пел репродуктор у Ивана Константиновича. Кашляли в своей комнате дядя Шура и его тетушка: они оба курили махорку. Стреляли дрова в крошечной печке у Евдокии Климентьевны. Потрескивали стены, и где-то тихонько звенело расшатавшееся в форточке стекло… А может быть, это звенел мотор маленького серебряного самолета, который летал над густым вечерним лесом. В лесу стреляли друг в друга путешественники и разбойники, а в темных болотах пел лягушачий хор. В чаще кашляли косматые великаны. Шумели деревья, бормотали ручьи…
Но были звуки, которые никак не вплетались в сказку. Они проникали с первого этажа, сквозь плотную, спрессованную Севкиной щекой подушку. Это был сердитый голос тети Даши, которая ругала Га-рика. Потом наступала тишина. Иногда она означала, что тетя Даша успокоилась. А иногда наоборот — что словесное воспитание кончилось и Гарькина мать ищет ремень. В этом случае вскоре слышалось жалобное хныканье, а потом громкий рев.
Порой оттуда же, из-под пола, доносились муж-ские крики и пронзительные вопли тети Даши. Гарькин отец был пьяница. Гарьку он никогда не лупил, но зато, вернувшись после выпивки с приятелями, колотил жену — чтобы не ругалась. Тетя Даша хватала сына и убегала из дому. Сама она шла ночевать к подруге, а Гарика приводила наверх, «к Глущенкам».
Мама устраивала Гарика на самодельной кровати из доски и стульев.
Гарик был маленький боязливый первоклассник. Тощий и какой-то всегда несчастный. Мама с жалостью говорила: «Золотушный ребенок». Севка не понимал, что значит «золотушный». Может быть, то, что на остреньком Гарькином лице были рассыпаны редкие веснушки — большие и золотистые? Севка иногда играл с Гариком, но дружить с ним по-настоящему не мог: очень уж тот тихий и затюканный. Севка и сам-то не слишком бойкий, но Гарька по сравнению с ним настоящий мышонок…
Когда Гарька начинал реветь от ремня, Севка отчаянно морщился и отрывал голову от подушки. Краснолицую горластую тетю Дашу он ненавидел, а Гарика жалел. Но что он мог сделать? Севка беспомощно смотрел в окно. Там глухо темнела стена пекарни.
Эта стена выходила в Севкин двор. А большую территорию, которая примыкала к пекарне, отгораживал от двора щелястый забор из досок. Из-за этого забора прилетал иногда такой вкусный запах, что у Севки до судорог сводило желудок и кружилась голова.
Со стороны пекарни к доскам были грудой навалены железные коробки разной величины — хлебные формы довоенного времени. Широкие и узкие, высокие и плоские. Иногда двойные и тройные — скрепленные ржавыми планками. Севка, глядя на них, поражался: сколько разного хлеба пекли в прежние времена! Теперь-то хлеб, который выдавали по карточкам, был всегда одинаковый — большие пря-моугольные буханки. Половина такой буханки в день приходилась на маму и Севку.
Однажды Гришун отодрал в заборе доску, и железные формы посыпались во двор. Ребята набрали целую груду. Несколько дней они играли грохочущими коробками — строили из них города и бронепоезда, делали пароходы и пускали в лужах. Потом эта игра надоела. Всем, кроме Гарика. Гарик утащил десяток форм домой и спрятал под кроватью. Когда отца с матерью не было, он играл в поезд: сцеплял коробки, как вагоны, ставил на переднюю пластмассовый стакан, будто трубу, и возил такой состав по половицам. Что же, игра была не хуже других.
Три железные коробки унесла к себе Римка Романевская. Теперь они стояли на подоконниках, и зимой в них зеленели проросший горох и овес. Просто так, на память о лете.
Романевских было четверо: две дочери, их мама — тетя Аня и отец — дядя Стас. В сорок первом году дяде Стасу отрезали отмороженную на фронте ступню. С тех пор он работал жестянщиком в артели инвалидов. Дядя Стас тоже был пьяница, но не скандальный. Когда он выпивший приходил домой, то сразу отстегивал протез, ложился на кровать, натягивал на голову старую шинель и засыпал. На него не обращали внимания. Или просто так стоит кровать, или с дядей Стасом — всё равно.
Старшая сестра — семиклассница Соня — была спокойная отличница с красивыми косами. А четвероклассница Римка — довольно вредная, с задранным, похожим на растоптанный валенок носом. Она считала, что знает всё на свете. А если с ней не соглашались, отчаянно спорила и могла стукнуть. Не всех, конечно, а Севку. Но, несмотря на это, Севка любил бывать у Романевских. Севку не прогоняли и ничего от него не скрывали, будто он свой. И если тетя Аня добывала где-то муку и пекла на кухне в духовке ватрушки с картошкой, Севке тоже давали. Но главное даже не в этом. Главное, что у Романевских всё время читали вслух.
Соня читала. Всякие рассказы. То, что задавали по литературе, и просто так. «Дубровского», «Гулливера», «Бежин луг», «Ночь перед Рождеством», «Принца и нищего»…
Это было так замечательно! Сядешь на стул верхом, положишь подбородок на спинку, привалишься плечом к теплой печке-голландке и слушаешь, слушаешь… Римка слушает, ни о чем не спорит, тетя Аня слушает. Гарька иногда зайдет и приткнется в уголке… И даже дядя Стас на кровати, кажется, не просто посапывает, а тоже прислушивается к выразительному чтению дочери-отличницы…
А когда не читали, то просто разговаривали обо всем на свете. Тут уж Римка была впереди всех. Только и слышно: «Вы давайте не спорьте, я же знаю!.. Не знаешь, дак помолчи и послушай!»
— Не знаешь, дак помолчи и не спорь, — заявила Римка. — Поэт — это если он только стихи пишет. А если всякие повести и романы, значит, он не поэт, а писатель. Значит, Лермонтов — писатель!
Перед этим Соня читала, как офицер по фамилии Печорин застрелил на дуэли другого офицера — Грушницкого. Севка опоздал к началу чтения. Когда оно кончилось, он стал расспрашивать, что за книжка. Соня сказала:
— Это роман Лермонтова «Герой нашего времени». Слышал про Лермонтова?
Севка даже глаза вытаращил: что за идиотский вопрос! У него в «Пушкинском календаре» напечатано стихотворение Лермонтова «Смерть поэта». И другие стихи его Севка знал давным-давно: «Парус», «Бородино», «Три пальмы» и еще много. Он брал книжку Лермонтова в детском отделе городской библиотеки, которая рядом со школой, в старинной белой церкви.
— Кто же его не знает? Это же великий знаменитый поэт!
Вот тут-то Римка и заявила: не поэт, мол, а писатель. Соня с ней заспорила. Севка тоже, а толку никакого.
Наконец Севка догадался, чем Римку победить:
— Пушкин тоже не только стихи писал! У него и «Дубровский» есть, и «Капитанская дочка», и еще много… не стихов. Значит, он тоже не поэт?
Римка хлопнула губами. Про то, что Пушкин — поэт, еще в детском саду говорят. Кажется, ее впервые в жизни переспорили. Она сердито хмыкнула и сказала:
— Сравнил тоже! Пушкин — это другое дело.
— Ничего не другое. Они похожие. Они даже погибли одинаково, их обоих на дуэли убили. Потому что их царь не любил. Он боялся, что они за революцию.
Римка опять зацепилась:
— Пушкина вовсе не поэтому убили! Просто царю хотелось за его женой ухаживать, а Пушкин не разрешал.
— Это совсем даже не главная причина!
— Нет, главная, — авторитетно возразила Рим-ка. — Царь за ней увивался, да еще этот Дантес. Все смеялись, а Пушкин злился. Вот и получилась дуэль. Если бы его жена поменьше по балам бегала, ничего бы и не было.
— Значит, жена виновата? — насмешливо спросил Севка.
Римка вздохнула и подперла щеку ладошкой. Проговорила с мечтательной ноткой:
— Может, и не виновата. Кто виноват, если любовь?
— Всё-то ты знаешь, — сказала Соня.
— А что такого? Любой женщине приятно, когда в любви объясняются. Особенно если сам царь.
Севка даже забулькал от возмущения: значит, какой-то паршивый буржуйский царь, который угнетал народ, лучше Пушкина?
— Царь по сравнению с Пушкиным — тьфу!
Но Римка, которая всё знала про любовь, опять мудро вздохнула:
— Эх, вы… Пушкин с утра до вечера только стихи писал, а жене хотелось, чтобы за ней ухаживали. Это всем приятно… Думаешь, твоей маме не приятно, когда Иван Константинович ее в кино водит?
Севка остолбенел. Потом он выдохнул:
— Что-о? Значит, по-твоему, он за ней ухаживает?
— А нет, что ли? — удивилась Римка.
— Ну-ка, придержи язык свой бессовестный! — прикрикнула тетя Аня. — Тебя тут спросили, да?
— А что такого? — обиделась Римка. — Они же по-хорошему. Может, даже поженятся.
— Дура ты окончательная! — тонким голосом сказал Севка. И хлопнул дверью.
Сперва Севка не чувствовал ничего, кроме злости на Римку. Вот ненормальная! Сказать такое про Ивана Константиновича!
Потом… потом как-то само собой подумалось, что ведь и правда: в кино Иван Константинович и мама ходят довольно часто…
«Перестань! — сурово сказал себе Севка. — Мало ли кто с кем ходит в кино? При чем здесь любовь?»
Да, но ведь не только в кино они ходят… Севке было известно из книжек такое выражение — «червь сомнения». Это когда что-то тревожит и не дают покоя мысли — тоскливые и неотвязные. Будто длинный тонкий червяк шевелится в человеке, противный и скользкий.
То, что в прежние дни Севке нравилось, теперь вспоминалось по-другому. Раньше он радовался, что Иван Константинович провожает маму домой, если та задерживается на работе. Но теперь он подумал: «А почему только маму? Романевскую ни разу не провожал или еще кого-нибудь…»
Конечно, замечательно, что Иван Константинович помог привезти дрова, а потом и картошку. Но… зачем он это делал? По доброте душевной или чтобы понравиться маме?
Угощал Севку конфетами, подарил карандаши, шоколадку, даже погоны… Тоже для того, чтобы мама видела, какой он хороший? Нет, не мог Севка поверить. Не мог расстаться так просто с прежним Иваном Константиновичем — добрым, храбрым человеком, который показывал Севке пистолет, сделал однажды из белой блестящей бумаги тетрадку для рисования, рассказывал про войну и лихо подбрасывал к самой потолочной балке. И главное — никогда не разговаривал с Севкой насмешливо и торопливо, как взрослые часто разговаривают с маленькими.
Но… что было, то было. Если вспомнить всё по порядку, то ясно — ухаживает. Духи однажды подарил маме: не на день рождения, а просто так. Иногда зайдет будто на минутку и сидит целый час. И чего-то вздыхает непонятно. И на недавней вечеринке танцевал только с мамой…
— Севка, ты что такой скучный, будто у тебя живот болит? — спросила мама.
— А? — растерянно вскинулся Севка. — Нет… Ничего не болит ни капельки.
Не скажешь ведь, что болит душа, изъеденная тем противным червяком.
— Ложись-ка спать.
Севка послушался. Мама была, конечно, ни при чем. Просто она доверчиво попадалась в ловушки, которые расставлял ей коварный капитан (а потом майор) Кан.
Уже в постели Севка вспомнил, что у Ивана Константиновича в Пензе есть жена и дочка-третьеклассница. Ну и что? Севка был не маленький, слышал он не раз истории, когда после войны такие вот «ухаживальщики» не возвращались домой к женам и детям, а заводили себе новые семьи. Про это и мама с тетей Аней беседовали, и Римка любила про такие дела поболтать. Римку всегда волновали вопросы любви, измены и замужества.
Севка уснул, но и после этого не было ему покоя. Снилась нехорошая чушь: длинные червяки с маленькими человечьими головками, урок чистописания в какой-то пещере с керосиновыми лампами и бандиты из шайки «Черная кошка», которые гонялись за Севкой по громадным пыльным сеновалам. Но это были пустяки по сравнению с последним сном. Под утро приснился Иван Константинович в мундире, похожем на платье Геты Ивановны. Севка сообразил, что это форма, какую носил офицер Печорин. Иван Константинович сидел на лавочке в сквере у цирка и чистил старинный пистолет, похожий на клюку.
Севка сразу понял, что делать. Он подошел, сдвинул брови и потребовал:
— Вы больше не смейте подходить к моей маме!
Майор Кан не удивился. Он продул ствол пистолета и, не глядя на Севку, сказал в точности как Римка:
— А что такого? Мы, может, даже поженимся.
— Нет!
— А тебе не указать, к носу палку привязать, а у палки есть ответ: ты дубина, а я нет.
— Тогда… — отчаянно сказал Севка. — Тогда я вас вызываю на дуэль.
И они сразу оказались на крошечной каменной площадке, окруженной облаками. Иван Константинович неприятно улыбнулся и поднял пистолет-клюку. Прямо в Севку прицелился! А у Севки была только железная трубка с картофельными пробками. Ну ничего, сгодилась бы и трубка, но Севка никак не мог попасть в нее карандашом, чтобы нажать и вы-стрелить. А Иван Константинович целился, целился… Как тут было не проснуться?
В школе на всех уроках Севка думал, как поступить. Сказать Ивану Константиновичу: «Не смейте ухаживать за мамой»? Он ответит: «Да что ты, Севочка, разве я ухаживаю? Кто тебе такую чушь сказал. Ты не волнуйся». И всё пойдет по-старому, взрослые не очень-то слушают маленьких. Подложить в комнату Ивана Константиновича само-дельную гранату из карбида, чтобы он испугался и уехал? Он не испугается, на фронте он и не такое видел.
А что-то делать было необходимо, хочешь не хочешь.
Севка не был храбрым человеком. Он очень неохотно дрался. Он боялся после второй смены возвращаться домой по темным улицам. Боялся грозы и городского сумасшедшего дяди Дуси, который мычал и гонялся за мальчишками, когда его дразнили. Но случалось в жизни, когда бойся не бойся, а деваться некуда. Если, например, дал честное слово, что прыгнешь с трехметрового навеса в сугроб, — помирай, но прыгай. Потому что честное слово нарушить невозможно. Если обещал маме сперва сделать уроки, а потом гулять, приходится (хотя и быстро-быстро) делать. Потому что маму обманывать нельзя: во-первых, бесполезно, во-вторых, потом самому тошно. А когда один раз на Гарика налетел третьеклассник Валька Прыгун и отобрал сосновый кораблик, Севка догнал Прыгуна и огрел по спине самодельным автоматом. Потому что за маленьких из своего дома полагается заступаться.
И теперь, как ни вертись, а выход был один. Севка наконец это понял отчетливо.
Приняв твердое решение, Севка слегка успокоился. Конечно, он всё равно чувствовал тревогу, но это была не растерянность, не поиски выхода, а волнение перед боем.
Всё складывалось удачно. Когда Севка вернулся с уроков, мама еще не приходила, а майор Кан был дома: накануне он дежурил по училищу и сегодня отдыхал. Или поджидал маму, чтобы опять куда-нибудь пригласить?
Севка стал готовиться. Надел матроску — это была его парадная одежда. Натянул длинные зимние штаны. Вообще-то он их ненавидел всей душой и надевал только в самые лютые холода: штаны были из такого колючего сукна, что даже сквозь чулки кусались не хуже крапивы. Но сейчас приходилось терпеть, чтобы выглядеть взрослее и мужественнее.
Потом Севка подумал, что следует вернуть подарки. Тетрадь он давно изрисовал, карандаши источил, шоколад, естественно, съел. Оставались погоны. Севка прогнал сожаление, сжал погоны в кулаке, встал посреди комнаты и несколько раз глубоко вздохнул — чтобы набраться решимости. В горле что-то само собой глоталось. Севка глотнул посильнее — последний раз — и строевым шагом вышел в коридор. Решительно постучал в дверь майора Кана.
— Сева, это ты? Входи, входи!
Иван Константинович, нагнувшись над столом, за-правлял в машинку чистый лист. Машинка была трофейная, только буквы у нее сменили на русские. Она была казенная. Ивану Константиновичу дали ее в училище, чтобы печатать всякие планы для занятий с курсантами. Иногда Иван Константинович разрешал Севке попечатать. Севка мечтал, что когда-нибудь сочинит настоящее длинное стихотворение и полностью напечатает его на этой машинке.
Нет, никогда этого не будет…
Иван Константинович, видимо, удивился: почему Севка стоит у порога и каменно молчит? Он оглянулся. Выпрямился:
— Что с тобой, Сева?
Севка сделал несколько деревянных шагов и отчетливо сказал:
— Нате ваши погоны.
Он метнул их на стол. Один погон застрял под машинкой, другой лег на самый край стола и закачался: упасть или нет? Не упал.
Севка заставил себя посмотреть Ивану Константиновичу в глаза.
— Севушка, что случилось?
Он был такой знакомый, такой добрый и привычный… Но нет, это был враг. Севка опять крупно глотнул и проговорил, не опуская глаз:
— Я вызываю вас на дуэль.
ДУЭЛЬ
Иван Константинович приоткрыл рот, мигнул. Хотел что-то сказать, но только тихо кашлянул. Опустился на стул. Спросил:
— Ты не шутишь?
— Нет, — сказал Севка и ощутил внутри неприятное замирание.
Иван Константинович опустил голову. Мельком взглянул на Севку, забарабанил пальцами по краю стола. Рядом с погоном.
— За что же ты меня так?
— Потому что… — Севка неожиданно осип. — Вы ухаживаете за мамой. А я не хочу… Вы не имеете права!
Иван Константинович подскочил как на шиле:
— Севка, да ты что! — Лицо у него стало жа-лобным.
«Сейчас начнет отпираться», — подумал Севка.
— Ты с ума сошел, — печально сказал Иван Константинович.
— Нет, не сошел. Может, вы на ней еще жениться хотите?
— Кто тебе наговорил такую чушь?
— Никто. Сам вижу, — сурово сказал Севка.
— Да я… — начал Иван Константинович и замолчал. Что-то непонятное мелькнуло на его лице. Он стал другим. — Дуэль — вещь серьезная. Может быть, ты еще подумаешь? — строго спросил он.
Севка опять ощутил неприятное замирание. Тайная надежда, что Иван Константинович откажется стреляться и поклянется не подходить к маме, испарилась. Да и глупая это была надежда! Если человека вызывают на дуэль, тот не имеет права отказаться. Это может сделать лишь самый последний трус, и тогда над ним всю жизнь будет висеть черный позор. Иван Константинович ни в коем случае не трус. Значит…
Что же, когда идешь на поединок, на мирный исход рассчитывать не стоит. Севка сказал как можно решительнее:
— Я думал уже два дня.
— Тогда конечно… — Иван Константинович встал. — Ни в чем я не виноват. Ни перед тобой, ни перед мамой. Это всё твои выдумки или чьи-то глупые разговоры. И я не стал бы принимать вызов из-за этого. Но ты швырнул мне мои погоны — это оскорбление офицерской чести. Я теперь просто не имею права уклоняться от дуэли… Каким оружием будем драться?
— Пи… пистолетом, — одними губами сказал Севка.
— У тебя есть пистолет?
— У вас же… есть…
— А! Ты предлагаешь стрелять по очереди?
Севка кивнул.
— Что же, можно и так. Давай начнем.
Внутри у Севки что-то ухнуло и тяжело замерло. Будто он выпил полведра воды, и вода эта в желудке моментально превратилась в ледяной ком. Но Севка не шевельнулся, не дрогнул. Не сделал даже крошечного шажочка назад.
— Давайте, — сказал очень тихо, но упрямо. Потому что деваться было некуда. Пускай уж скорее все кончится.
Иван Константинович быстро взглянул на Севку и опять стал смотреть в сторону. Деловито проговорил:
— Один из нас, по всей вероятности, будет убит или ранен. Надо, чтобы тот, кто останется невредимым, не попал под суд. Поэтому придется подписать договор.
— Какой договор? — шепотом спросил Севка.
— Сейчас… — Иван Константинович повернулся к машинке и, не садясь, защелкал клавишами. Потом выдернул лист и протянул Севке. Вот что было там напечатано:
ДОГОВОР
МЫ, УЧЕНИК 2-ГО КЛАССА ВСЕВОЛОД ГЛУЩЕНКО И МАЙОР КАН И. К., ДОГОВОРИЛИСЬ О ЧЕСТНОЙ ДУЭЛИ. ОСТАВШЕГОСЯ В ЖИВЫХ ПРОСИМ НЕ ПРИВЛЕКАТЬ К СУДУ.
Подписи ….. (Глущенко)
….. (Кан)
— Прочитал? — спросил Иван Константинович, и Севка увидел его строгие серые глаза.
— Да… — прошептал Севка.
«Неужели это правда? А что скажет мама?»
— Согласен? — спросил Иван Константинович.
— Да…
— Тогда подписывай. Вот здесь.
Он дал Севке ручку-самописку. Севка начал выводить фамилию. Ручка была тяжелая, скользкая, она вырывалась из пальцев. Перо царапало бумагу. Буквы получались очень корявые. Севка вдруг подумал, что, может быть, он пишет последний раз в жизни. Ему стало ужасно жаль себя. Просто хоть плачь. Но он не заплакал все-таки. Не хватало еще такого позора!
Севка поставил большую точку, аккуратно положил самописку и отступил от стола. Медленно поднял на Ивана Константиновича печальные глаза. Но Иван Константинович на Севку опять не смотрел. Он быстрым взмахом подписал договор и вы-прямился.
— Стрелять будем по одному разу, — решительно сказал он. — Патроны у меня казенные, мне за них отчитываться придется, если жив буду… А где брать секундантов? У тебя есть?
— Нету… — прошептал Севка, ощущая слабость в ногах.
— И у меня нет. Обойдемся без секундантов?
Севка кивнул. Он опять часто переглатывал.
— Давай тянуть жребий, — предложил Иван Константинович.
Севка шевельнул губами:
— Как?
— Надо же знать, кто будет стрелять первым… Вот смотри, я на этих бумажках напишу цифры «один» и «два», а ты будешь выбирать. Если вытянешь единицу — твоя очередь первая. А если двойку — вторая.
Иван Константинович что-то черкнул на бумажных клочках, скатал их и бросил в свою фуражку. Севка следил за ним, как следит за хозяином умная собака, когда тот готовит веревку и камень. В ушах у Севки стоял тихий неприятный звон. Сквозь этот звон он услышал:
— Выбирай.
Перед Севкой оказалась фуражка, на донышке которой белели бумажные трубочки. Они лежали далеко друг от друга на серой шелковой подкладке. В подкладке темнела крошечная, словно прожженная искрой, дырка. Посредине был пришит клеенчатый четырехугольник с какими-то неразборчивыми буквами. Севка машинально постарался их прочитать и не смог. «Стерлись о волосы», — подумал он. И услышал:
— Что же ты? Бери.
Да, ведь надо тянуть жребий! Никуда не денешься — дуэль. Севка постарался ухватить бумажную трубочку — ту, что поближе к середине. Пальцы были какие-то странные, долго не могли подцепить. Наконец Севка взял и развернул бумажку. Там была большая единица.
— Повезло тебе, — со вздохом сказал Иван Константинович. — Будешь стрелять первым. Ну а если промахнешься, тогда — я.
И Севка увидел, как он достал из ящика кобуру, расстегнул ее и положил на ладонь знакомый браунинг.
Положил, задумчиво покачал на ладони. Потом вынул из рукоятки обойму, щелчком выбил из нее на стол два патрона.
— Обойму я уберу, — объяснил он. — Будем вставлять по одному патрону. Выбирай, какой тебе нравится.
Патроны были коротенькие, аккуратные. С круглыми, похожими на орешки пулями. Такие безобидные на вид.
— Какой тебе нравится?
Севке никакой не нравился. Он отчетливо чувствовал, что в этих блестящих штучках сидит смерть. Но пути назад не было, и Севка дрожащим пальцем ткнул наугад.
— Вот его и зарядим, — проговорил Иван Константинович. Взял патрон, оттянул затвор у браунинга. Как-то неловко дернул рукой, и второй патрон нечаянно смахнул со стола.
— Ох я, растяпа… Подними, пожалуйста.
Севка громко стукнул ослабевшими коленками о половицы и полез под стол. Патрон лежал у дальней ножки стола. Севка поднял его. Патрон был очень холодный.
Выбираться на свет не хотелось, но Севка выбрался. Осторожно положил патрон в фуражку.
— Разойдемся по углам, — деловито сказал Иван Константинович. — Это будет дистанция. Бери пистолет и вставай вон туда, к двери. Курок взведен, твое дело только прицелиться и нажать.
Севка ощутил в ладони ребристую рукоятку. «Маленький, а какой тяжелый», — снова подумал он про браунинг. И слабыми шагами отправился в угол. Там, рядом с дверью, висела шинель Ивана Константиновича.
Когда Севка повернулся, Иван Константинович уже стоял в другом углу — у спинки кровати. Лицо его было спокойным и суровым.
— Стреляй, — холодно сказал он.
Это что же? Значит, всё на самом деле? И сию минуту Севка должен выстрелить из настоящего пистолета в Ивана Константиновича? По правде? И Иван Константинович закачается и упадет рядом со своей железной солдатской кроватью и его уже не будет на свете?
Севка же не хотел этого! Он только маму хотел защитить! А стрелять в живого человека, да еще в такого знакомого, просто родного — это не игра в войну, когда «кых-кых, ты убит!».
— Ну, что же ты? — устало спросил Иван Константинович.
Самое время было бросить пистолет и зареветь. Но законы чести — они как стальные тиски. И Севка стал поднимать браунинг. Он не будет стрелять в Ивана Константиновича, он просто промахнется.
Нет, он выстрелит в воздух, как Лермонтов на дуэли с Мартыновым!
Севка вскинул руку над головой. И только в этот миг сообразил, что пистолет грохает очень сильно. Севка боялся выстрелов. Когда Гришун у себя в сарае стрелял из поджига, Севка старался стоять подальше и, если никто не видел, зажимал уши.
Но здесь уши не зажмешь.
Севка зажмурился и надавил на спуск.
Раздался негромкий щелчок.
Севка изумленно открыл глаза. Иван Константинович быстро подошел к нему. Взял браунинг.
— Осечка, — сказал он и вздохнул. — Что поделаешь, пистолет старенький, я с ним всю войну прошел… Ну а по правилам дуэли осечка считается за выстрел. Да это и не важно, ты всё равно вверх стрелял. А теперь моя очередь… Я сменю патрон.
Он подошел к столу и передернул затвор…
«Неужели правда? — подумал Севка. — Неужели он будет в меня целиться и стрелять?»
Нет, не будет, конечно. Он так же, как Севка, выстрелит вверх.
А если нет?
Ну и пусть. В конце концов, Севка сделал всё, что требовалось по закону поединка. Он не струсил. Теперь всё равно…
С каким-то сонливым равнодушием Севка смотрел, как шагает Иван Константинович в свой угол. Он шагал очень медленно. Будто плыл по воздуху. И Севка тоже поплыл куда-то, а воздух стал густой, мягкий, потемнел, почернел и окутал Севку со всех сторон…
Холодная вода текла Севке на грудь через вырез матроски. Севка поднял веки и увидел белое лицо Ивана Константиновича.
— Севушка, милый мой, я же пошутил! Я же не хотел…
Значит, он, Севка, грохнулся у двери в обморок? Ужас какой… Какой чудовищный позор!
Севка локтями оттолкнулся от подушки:
— Это не от страха! Это потому, что я не поел, у меня так и раньше бывало от голода! Я встану, стреляйте, пожалуйста!
— Да лежи ты, лежи…
— Я не боюсь!
— Да знаю я, что не боишься!.. Я же пошутил, я не вставлял патроны!
— Эх, вы! — сказал Севка. — А еще майор…
— Дурак я старый, а не майор! Пороть меня надо, мерзавца… Ты как себя чувствуешь?
— Прекрасно я себя чувствую, — сурово сказал Севка, хотя мягко кружилась голова. Он откинулся на подушку. Было ясно, что дуэль окончена.
— Севушка, ты только маме не говори, ладно?
— Ладно, — вздохнул Севка. Не хватало еще, чтобы мама узнала эту историю!
— И не ухаживал я за ней вовсе, — жалобно сказал Иван Константинович. — Ну… если в кино сходим или в гости к вам зайду, что такого? Тоскливо ведь одному-то. Я своих уж сколько времени не видел… Ты все-таки дурень, Севка, честное слово… «Поженитесь»… У меня такая прекрасная жена, и Леночка тоже замечательная. Как же я их брошу?.. Ты мне веришь?
Севка верил. И удивлялся, как безмозглая Римка могла заморочить ему голову. Иван Константинович снова был свой, добрый, замечательный. Как хорошо, что эта глупая дуэль кончилась благополучно. Только… стыдно все-таки, что он свалился без памяти.
— Я от голода упал, честное слово. Я не боялся.
— Я знаю, — очень серьезно сказал Иван Константинович. — Я это отлично понимаю. Ты очень смелый человек и вел себя просто героически. И благородно… А голод кого хочешь свалит. Почему же ты не поел? Нечего?
— Нет, я забыл…
— Знаешь что? Мы сейчас откроем тушенку и пожарим с картошкой! А ты пока лежи…
Севка лежал и смотрел на Ивана Константиновича, который вспарывал ножом консервную банку.
— Если бы у вас не было жены и дочери, — сказал Севка, — и если бы я точно знал, что папа не вернется, тогда пожалуйста, женитесь на маме… Но вдруг папа все-таки вернется?
О ЧУДЕСАХ, СКАЗКАХ И ЖИЗНИ ВСЕРЬЕЗ
Вдруг он все-таки вернется?
У Севки была такая надежда. Не очень сильная, но была.
Сначала-то она была сильная. Год назад Севка часто говорил про это с мамой. Раз никто не видел, как папу убили или как он утонул, значит, он, может быть, спасся.
— Нет, Севушка, — печально объясняла мама. — Я писала, наводила справки. Всех, кто спасся, подобрали англичане.
— Может, не только англичане! Может, там еще был какой-нибудь корабль!
— Не было…
«Не было»! Откуда мама знает? В конце концов, раненого и оглушенного папу могли подобрать немцы. Их подводная лодка. Может быть, они забрали папу в плен, хотели, чтобы он выдал им военно-морские тайны, а он ничего не выдал и убежал из плена. И организовал партизанский отряд…
Мама, когда слышала такие разговоры, только вздыхала. И кажется, даже сердилась.
— Ох, Севка, Севка. Опять ты со своими сказками… Ну подумай: разве папа не разыскал бы нас, если бы остался жив?
Севка думал. Папа мог и не разыскать. Не так-то это легко.
Весной сорок первого года папу перевели из Ростова в Мурманск, а мама решила пока не ехать с маленьким Севкой. Неясно, как там с квартирой, да и лето на юге для Севки полезнее. А осенью они приедут…
Кто же думал, что осенью они окажутся в Ишиме, а еще через год в этом городке на берегу реки Туры?
Из Ростова эвакуировали их спешно. В трясущейся, набитой людьми теплушке мама написала отцу, что их везут за Урал, и бросила бумажный треугольник в ящик на какой-то станции. Потом она посылала еще много писем, но ответа не было. Видимо, потому, что папа был уже не в Мурманске, а где-то в другом месте. Наконец, в начале сорок третьего года пришел по почте какой-то документ, и мама долго плакала. Запомнились только слова: «Пропал без вести…»
— Это сперва так написали, — объясняла Севке мама, когда он подрос и донимал ее своими разговорами. — А потом я опять запрашивала, и сообщили, что погиб.
Мама показала Севке серый, сложенный вчетверо лист. На нем был чернильный штамп со звездой и якорем. И напечатанные на машинке слова, что «старший помощник капитана Сергей Григорьевич Глущенко числится в списках погибших членов экипажа транспорта «Ямал», который в составе конвоя… следовал… был атакован… затонул на траверзе острова… широта… долгота…».
И стояла подпись капитана третьего ранга Есина.
Капитан третьего ранга — это всё равно что в сухопутной армии майор. Такой человек зря писать не будет. К тому же мама и Севка получали деньги как семья погибшего при исполнении служебных обязанностей моряка-командира.
Но все-таки… Бывают же иногда чудеса! Вдруг папа найдется сам и будет искать маму и Севку? А где? Запросы в штаб флота мама писала еще из Ишима, здешний адрес никто в Мурманске не знает.
Все это не раз обдумывал Севка по вечерам, свернувшись на своем сундуке под одеялом и маминым полушубком. Но с мамой говорил про отца всё реже. Потому что она опять скажет: «Сказки всё это, Севка…» И сделается печальной.
Но ведь и сказки иногда сбываются. Вернулся же отец у Юрика!
Здесь надо продолжить рассказ о Юрике. О том дне, когда Севка и Юрик стремительно и радостно подружились.
Это был такой счастливый день.
Севка прибежал домой и сразу сел читать «Доктора Айболита». Замечательная такая книга! Севка решил, что обязательно прочитает ее до вечера. А завтра после уроков опять помчится к Юрику.
Но книжка была большая, и к маминому приходу Севка не осилил и половины. А когда пришла мама, стало не до чтения.
Мама принесла полную сумку соевых пряников. Их выдали в магазине по карточкам взамен жиров. В шестикратном размере. Вместо килограмма масла шесть килограммов пряников!
Мама высыпала их на стол и сказала, что Севка может лопать сколько хочет.
Вот это был пир! Севка ел пряники с чаем и просто так. И когда делал уроки. И когда рассказывал про Юрика. И когда опять читал «Айболита». Мама наконец испугалась:
— Ты ведь уже через силу жуешь. Заболеешь.
Севка засмеялся: кто же болеет от сладких замечательных пряников?
Но мама оказалась права. Ночью Севку затошнило, заболел живот. Севка стонал, крутился и один раз от сильной боли решил, что совсем пришел конец. Мама с ним намучилась.
Утром стало легче, но сильно кружилась голова, и Севка не мог подняться. И есть ничего не мог. Хорошо, что был выходной и мама не пошла на работу.
В понедельник Севка встал, но в школу и на улицу мама его не пустила. Ноги у него еще были жиденькие, а порой подкатывала тошнота. Особенно когда он смотрел на пряники.
Зато в этот день Севка дочитал «Айболита».
Во вторник утром он затолкал книгу в сумку, а после уроков (их было всего два!) побежал к дому Юрика.
Он был уверен, что Юрик так же, как в прошлый раз, прыгает на расчерченной мелом площадке. И ждет его, Севку.
Но Юрика не было. А стояла у калитки бабка, хозяйка дома.
Севка очень оробел. Даже подумал: «Может, потом прийти?» Но очень уж хотелось поскорее увидеть Юрика. Севка собрался с духом, подошел и пролепетал:
— Здрасьте… А Юрик дома?
Бабка не удивилась.
— Юрка-то? — неласково сказала она. — Уехали они вчерась.
— Как? — прошептал Севка. Он сразу понял, что больше Юрика не увидит.
— Так и уехали, раз отец за ними прикатил. Они и не ждали. А он как сумасшедший: поехали, скорей, скорей! Будто на пожар. Вот и собрались в один день.
— А куда? — беспомощно спросил Севка.
— В Ленинград свой, известное дело. Им в нашей берлоге, конечно, не житье…
«У, дура», — с ненавистью подумал Севка. Но сказал другое:
— Как же теперь быть?
— А чего тебе… — сумрачно отозвалась старуха. — Так и будешь.
— А у меня книжка его, — пробормотал Севка, хотя дело было совсем не в книжке.
Старуха нехотя сказала:
— Он тут вроде адрес какой-то писал на бумажке. Если, говорит, какой парнишка придет, то отдайте, мол. Да я мусор жгла на огороде и ее, видать, тоже замела…
На миг в ее глазах мелькнула виноватость.
Севка обмер: значит, был адрес, была надежда, значит, Юрик Севку не забыл, а эта старуха… Он сдержался. Он вежливо спросил:
— А может быть, не замели? Может быть, найдется? Поищите, пожалуйста.
— Да говорю, сожгла. Сама вот искала, чтоб написать, они у меня чугунок треснули, а деньги так и не отдали, я уж потом трещину-то увидела…
Севка повернулся и пошел. Но через несколько шагов обернулся.
— У, ведьма, — сказал он с задавленными слезами. И побежал.
Дома Севка разревелся. Он долго всхлипывал и гладил растрепанного «Айболита» — единственную память о Юрике. Но когда пришла мама, он уже успокоился, хотя всё равно был печальный.
— Ты что нос повесил? Уж не хотят ли тебя оставить на второй год?
Севка ответил, что не хотят. Зато Юрик уехал навсегда. Мама Севке посочувствовала. Но сказала, что унывать не надо. Может быть, Севка и Юрик еще встретятся в жизни, отыщут друг друга.
— Ага, «отыщут». Адреса-то нет… Может, папа тоже нас так ищет…
— Ох, Севка… Ну сколько можно про это?
— Но ведь у Юрика же папа вернулся!
— Да откуда ты взял, что он пропадал? Наверно, он просто был в другом городе, а потом приехал за семьей.
Но Севка знал, что всё не так. Папа у Юрика, наверно, тоже пропал во время войны, а потом нашелся. Ведь недаром Юрик ни слова не говорил про отца. Он просто ничего еще про него не знал…
Севка так и сказал маме. А мама грустно ответила, что верить в чудеса можно, пока ходишь в детский сад. А в школьном возрасте это уже несерьезно.
Севка, однако, верил в чудеса. Во всякие. И в большие, и в маленькие. И в некоторые приметы верил (например, в белую лошадь). Мало того, Севка верил в Бога.
До первого класса Севка никогда не думал о Боге всерьез. Что о нем думать, если его нет? Еще в детском садике объясняли, что Бога придумали в старину неграмотные люди, которые не знали, что гроза — это электричество. Но однажды зимой первоклассник Севка сидел у Романевских, и Римка вдруг сказала капризным голосом:
— Ох, опять ничего не успею выучить. Помолиться, что ли, чтоб не вызвали?
— Как помолиться? — изумился Севка.
— Очень просто. Попросить Бога, чтобы спас от двойки.
— Ты ненормальная? — спросил Севка.
— Сам ты ненормальный! Не знаешь, дак помолчи! У нас в классе одна девочка всё время Богу молится, и у нее одни пятерки, она сама говорила.
— Наверно, она уроки учит как следует, — заметила отличница Соня.
— Не знаешь, дак не спорь! Ничего она не учит, ей Бог помогает.
Соня только рукой махнула: с Римкой спорить — всё равно что головой о печку. Удивительно было другое: тетя Аня, которая всегда покрикивала на Римку, чтобы та придержала язык, на этот раз промолчала.
И Севке пришлось продолжать спор одному.
Он сказал, что в Бога верили только крепостные крестьяне, потому что их угнетали помещики. Они, эти крестьяне, в школах не учились. А Римка хоть и дотянула до третьего класса, а хуже, чем крепостная крестьянша… то есть крестьянка. Совсем бестолковая.
— Сам ты дубина, — ответила Римка. — Евдокия Климентьевна, что ли, тоже крепостная? А она недавно в церковь ходила.
Тогда Севка выдал самое крепкое доказательство:
— Если Бог есть, зачем он разрешил немцам войну устроить? Сколько хороших людей поубивали!
— Зато они попали в небесное царство, — невозмутимо возразила Римка.
Севка даже задохнулся от злости на такую беспросветную тупость! «Небесное царство»! Легче разве было бы папе, если бы он туда попал? Он домой хотел вернуться, к Севке, к маме…
Тетя Аня то ли шутя, то ли по правде сказала:
— Коли уж такая заваруха началась на земле, война эта проклятая, Богу за всеми не усмотреть. Кому поможет, а кому и не успеет…
С тетей Аней Севка спорить не решился. Да и к чему? Пускай Римка молится, если ей охота… Кстати, двойку она всё равно получила и ревела, потому что тетя Аня огрела ее самодельной калошей дяди Стаса…
Но случилось так, что через день Римка принесла чудовищную новость: прямо на Землю из мирового безвоздушного пространства летит не то комета, не то планета, не то просто кусок, отколовшийся от Солнца. В общем, какой-то громадный метеор. Грохнется он очень скоро и срединой своей как раз накроет несчастный городок Т. И всю близлежащую местность.
Севка сперва ничуточки не поверил: мало ли что Римка намелет. Но Соня сказала, что и правда говорят про какой-то метеор. Наверно, это ненаучные выдумки, но интересно, откуда они взялись?
Потом оказалось, что у тети Ани на работе тоже обсуждали эти слухи. И все знают: метеор этот или комета брякнется на Землю не позже чем через три дня.
— Врут небось, — сказала тетя Аня. — Ну а свалится на нашу голову, дак и ладно, забот меньше. Всё равно жизнь собачья, опять лежит и дрыхнет после водки, лодырь окаянный…
Дядя Стас посапывал: ему было наплевать на все метеоры и на сердитую тетю Аню.
А Севке было не наплевать. Он здорово перепугался. Он представил, какой это будет ужас, навалится сверху что-то огненное, расплавленное, громадное. Вот всё на миг вспыхнуло — и ничего нет… Это, наверно, пострашнее войны. Тем более, что война теперь далеко, в Германии, и должна скоро кончиться.
Подавленный и притихший, Севка ушел от Романевских к себе.
— Ты что? С Римкой опять поругался? — поинтересовалась мама.
— Ага, — соврал Севка. Признаться в своих страхах было стыдно. Он сказал небрежно: — Болтает всякую ерунду. Будто на Землю какая-то штука летит раскаленная…
— Ой, да все болтают, — неосторожно отозвалась мама, — даже взрослые. А с девочки что взять? Повторяет глупости…
Севка совсем упал духом. Если даже взрослые про это говорят, значит, что-то и вправду летит.
Он приткнулся у подоконника. Среди тополиных веток висела недозревшая луна. Одна щека у нее была круглее другой — раздутая, будто недавний флюс у соседки Елены Сидоровны. Луна светила непривычно, тревожным розоватым светом, и в самом лунном «лице» таилась зловещая тайна. Соседка Земли явно знала что-то о скорой катастрофе.
На следующий день в школе ребята всё время болтали о комете. Впрочем, без особого страха, даже со смехом. Не понимали, глупые, какая нависла опасность.
Владик Сапожков на уроке арифметики спросил у Елены Дмитриевны, правда ли, что на Землю скоро свалится кусок от Солнца. Елена Дмитриевна сказала, что не знает точно, свалится ли что-нибудь на Землю. Но она точно знает, что, если Сапожков не будет переписывать с доски примеры, а станет болтать чепуху, двойка ему в тетрадь свалится обязательно.
Севку опять обдало страхом. Ведь Елена Дмитриевна не сказала, что кометы нет. Она только ответила, что «не знает точно».
Какие уж тут примеры! Севка отложил ручку и тоскливо посмотрел в окно. Там было хорошо, светло. Солнце заливало белую стену церкви, где нахо-дилась библиотека. Это была старинная, очень красивая церковь. Ее башни, похожие на точеные шахматные фигуры, высоко поднимались над крышами городка. Когда-то люди ходили сюда молиться Богу. Специально для этого церковь и построили…
Вот такую громадную, красивую, высоченную. Ведь не безграмотные люди строили ее. Для такой работы нужны инженеры и эти… как их… ар-хи-текторы. Они-то были образованные. И всё равно в Бога верили? Если строили, значит, верили…
«Тогда… — подумал Севка. — Тогда… может, он и вправду есть?»
Севке нужна была защита от страха. От нависшей над всем белым светом беды. Севка не мог долго жить под тяжестью такой громадной угрозы…
Потом он этому научится. И все люди научатся. Привыкнут жить и даже смеяться и радоваться, хотя будут знать, что каждый миг может вспыхнуть огонь всеобщего уничтожения. И не из-за какой-то космической причины, а из-за собственного человеческого идиотизма, породившего термоядерную смерть.
Но в тот февральский день сорок пятого года Севка ничего этого не знал. Взрывы над Хиросимой и Нагасаки еще не встряхнули планету, и никто не верил, что бомба может быть страшнее самого громадного огненного метеора…
Итак, Севке нужен был щит от беды, летящей из черного безвоздушного пространства. Никто из людей не мог дать такую защиту. Даже Елена Дмитриевна не могла. Даже мама. И тогда Севка подумал: «Может, попросить Бога?»
В конце концов, что Севка терял? Если Бога нет — значит, нет. А если он вдруг все-таки где-то есть, что ему стоит помочь Севке? Самую чуточку отодвинет с пути эту комету — и дело с концом. Это же совсем не трудно, если заранее. Другое дело, если комета подлетит вплотную. Тогда ничего не поделаешь. Это как тяжелый грузовик: если он мчится с полной скоростью на телеграфный столб, то в метре от столба ему не свернуть. А если далеко — чуть шевельнул рулем — и мимо…
«Бог… — мысленно сказал Севка. — Ты, если есть на свете, помоги, ладно? Тебе же это совсем легко… Ну, пожалуйста! Я тебя очень-очень прошу!»
Севка поднял глаза к потолку. Какой из себя Бог, он понятия не имел. Скорее всего, он старый, большой и очень умный.
Севке придумался могучий седой старик, сидящий среди облаков на каменной глыбе… нет, не на глыбе, а на каменном крыльце перед высокой башней. Башня похожа на высоченный маяк, от ее верхушки разлетаются лучи света. Вокруг башни клубятся разноцветные тучи, а между ними плавают похожие на елочные шарики планеты. Каменная лестница обвивает башню, как змея, и уходит вверх.
На старике шерстяная морская тельняшка. У него разлохмаченная ветром борода и белые густые брови. И синие глаза…
Услышав Севку, старик слегка насупился: тебя, мол, мне еще не хватало. Но потом вроде бы усмехнулся и кивнул.
Так или иначе, а на Землю ничего не грохнулось, разговоры через день стали стихать. И к Севке вернулось спокойствие.
Но не надолго.
Прежний страх не прошел бесследно. Из-за него начали мучить Севку жуткие сны. Севке каждую ночь стал сниться город под черным небом. Красивый город, белые дома, яркое солнце, а небо абсолютно черное. В этой черноте назревала угроза. Люди ее чувствовали. Они собирались бежать, прятаться в какие-то пещеры. Севка тоже хотел бежать, но не мог, потому что куда-то подевалась мама. А на улицы вкатывались странные автомобили — медные, блестящие, похожие на громадные шахматные фигуры, которые положили на тележки с надутыми колесами. Верхом на этих фигурах сидели молчаливые человечки в черных касках и пилотских очках. Человечки были людоеды. Они чего-то ждали… А солнце в густой саже неба разгоралось, росло, хотело взорваться…
Каждый вечер Севка отчаянно боялся этого сна. И наконец догадался попросить Бога: пусть отметет от него, от Севки, черное небо, страшное солнце и людоедиков.
Жуткий сон больше не приходил.
Но скоро Севке приснилось, будто он умер. Неизвестно от чего. Лежит и двинуться не может. Ничего не видит, но всё слышит. Было не страшно, только очень жаль маму, которая сильно плакала.
Утром Севка задумался о жизни и смерти. Умирать не хотелось. Ни сейчас, ни потом. И Севка завел с мамой разговор: почему так по-дурацки устроено, что люди должны когда-нибудь умирать. Ну на войне это понятно: там пули, бомбы, сражения. А если в обыкновенной жизни, то зачем?
Мама погладила Севку по голове-ежику и сказала, что ему про это думать рано. Ему еще жить да жить.
— Всё равно думается, — возразил Севка.
— Ты не переживай — сказала мама. — Вот кончится война, все займутся мирными делами, и ученые придумают лекарство, чтобы люди не умирали. Когда-нибудь наука до этого всё равно дойдет.
— А когда?
— Ну… я думаю, ты доживешь.
Это обрадовало Севку. Но скоро появилась тревога: а доживет ли? Вдруг ученые провозятся еще сто лет? Это ведь не касторку придумать и не йод для смазки царапин.
«Знаешь что? — снова обратился Севка к Богу. — Не мог бы ты сделать, чтобы я жил подольше? Пока не придумают бессмертное лекарство? Постарайся, пожалуйста, если тебе не трудно. Ладно?»
Бог поразмышлял, подымил большой боцманской трубкой и кивнул. Сделать Севку бессмертным он не мог, он же не ученый, но помочь ему протянуть подольше на белом свете — почему бы и нет? До той поры, когда Севка проглотит нужные таблетки.
Так Севка договорился с Богом о бессмертии.
Но почти сразу Севку встревожила другая мысль: а мама? Севка-то, может, протянет лет сто, если будет делать зарядку и хорошо питаться. А мама-то уже… ну не то чтобы старая, но достаточно пожилая: три-дцать два года. И насчет нее Бог не мог дать никаких гарантий.
Севка отправился с этим вопросом непосредственно к маме.
— Мама, а у тебя какое здоровье?
— Здоровье? Да ничего… Голова иногда болит на работе, но это не так уж страшно. Ты с чего забеспокоился?
— Да так, — смущенно сказал Севка. — Ты ведь… еще не скоро умрешь?
Мама засмеялась. Она поняла Севку. Она прижала его к себе и дала честное слово, что умрет еще очень не скоро.
…Мама сдержала слово. Она умерла, когда Севка стал совсем взрослым, даже пожилым, и у него самого были дети.
Но в тот горький день, когда у мамы разорвалось сердце, Севка опять почувствовал себя маленьким. Потерявшимся в страшном городе под черным небом.
Взрослый Севка давно научил себя не плакать. Он не плакал, когда про стихи, над которыми он мучился долгими днями и ночами, говорили, что это скучная чепуха. Не плакал, когда в него стреляли. Не плакал, когда его предавали друзья. Не плакал в самолете, который, теряя управление, падал в море. Не плакал, когда ему в лицо швыряли несправедливые слова (и это было труднее всего). Он знал, что напишет другие стихи; понимал, что предатели были не друзья, а просто ошибка; надеялся, что стрелявшие промахнутся, а самолет выровняется в полете. А с несправедливостью он научился драться.
Но сейчас драться было не с кем и надеяться не на что. Мамы не будет никогда. И Севку (вернее, Всеволода Сергеевича) давили слезы. Как тяжелая рука на горле. Но он не плакал. Потому что приходили люди, о чем-то говорили, выражали сочувствие, надо было держаться. И наваливалась масса забот, с которыми связано грустное дело — похороны. Днем Севка ходил, зажав слезы в груди и в горле, и ждал ночи. И думал, что останется один и даст слезам волю. И станет капельку легче.
Но приходила ночь, и слезы застывали. Севка лежал с твердым комом под сердцем и вспоминал. Вспоминал мамин голос, мамины руки, мамины волосы. И как она ему, уже большому, говорила: «Осторожнее переходи улицу…» И как она пела:
Потом, когда всё кончилось и над глиняным холмиком поставили решетчатый обелиск, Севка понял, что всё равно надо жить и заниматься обычными делами. И завтра придется идти в редакцию журнала и спорить из-за своей поэмы о мореплавателе Крузенштерне. И надо срочно перепечатывать на машинке статью. А потом отправляться в домоуправление и договариваться о ремонте квартиры.
И утром Севка стал собираться в редакцию.
Надо было побриться. Он включил электробритву, а у нее внутри вспыхнуло, дернулся и замер мотор, запахло горелым. Почему-то оказался сдвинутым переключатель напряжения.
Это разозлило Севку. Ужасно разозлило, до ярости! Он размахнулся, чтобы запустить проклятой бритвой в стекло книжного шкафа. К черту! Вдребезги!
И остановил руку.
Бритва была беспомощно-теплая. Как только что остановившееся сердце. Она, коричневато-красная, круглая, и формой походила на сердце.
Севка осторожно положил ее на диванную по-душку.
В ванной он достал старенькую безопасную бритву, которую брал с собой в экспедиции и походы. Намылил перед зеркалом лицо, провел по щеке лезвием и сразу порезался.
И заплакал.
Не от боли, конечно, не от крови, а потому что вспомнил: «Осторожно, не порежься с непривычки». Это мама говорила, когда ему было шестнадцать и он только учился пользоваться папиной бритвой.
Севка заплакал сразу, громко, уронив голову на край холодной раковины. Хорошо, что никого не было дома. Он глотал розовый от крови и соленый от слез мыльный крем и колотил кулаком о ванну.
Он плакал, видимо, долго. Наконец слезы кончились и стало тихо-тихо.
«Ну что ты, Севушка, ну перестань, маленький», — сказала мама. Севка всхлипнул.
Звенели капли.
Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина…
Но всё это будет потом, в далекой взрослой жизни, о которой Севка почти не думал ноябрьским вечером сорок пятого года.
Он лежал на своем сундуке и размышлял: а вдруг папа все-таки вернется? Бывают же чудеса.
Конечно, просить о таком чуде Бога нельзя. Не имеет смысла.
К Богу можно было обращаться за обычной, реальной помощью. Например, чтобы не очень задерживалась на собрании мама. Или чтобы не напали бандиты, когда возвращаешься из школы. Или чтобы не вызвали, когда не выучил правила. Но уж если вызовут, глупо упрашивать Бога, чтобы Елена Дмитриевна или Гетушка не ставили двойку.
И насчет папы беседовать с Богом было бесполезно. Если папа погиб, что может сделать Бог? А если папа все-таки жив, он и так разыщет Севку и маму.
Вдруг все-таки разыщет?
Вся жизнь тогда пойдет по-другому. Они с папой будут ходить на реку, и папа научит Севку плавать. Они вместе будут читать книги про морские путе-шествия (даже такую толстую, как «Дети капитана Гранта»). Папа привезет Севку и маму к морю и прокатит на своем пароходе (у него обязательно будет пароход). И еще случится много замечательного, потому что папа такой же родной, как мама, и очень добрый. И красивый.
Севка не помнил папиного лица, а ни одной фотографии не сохранилось, потому что во время эвакуации у мамы украли сумочку (думали, что там деньги и хлебные карточки, а были в ней только документы и снимки). Мама рассказывала, что папа светловолосый и высокий. Севка похож на маму — такой же темный и кареглазый. «Но улыбка у тебя папина», — говорила мама.
Папину улыбку Севка чуть-чуть помнил: как весело раздвигались большие губы с трещинками и при этом на выбритом, чуть раздвоенном подбородке шевелился маленький шрам, похожий на букву «С»…
Папа приедет, стукнет в дверь, шагнет через порог — большой, в морской фуражке, в черной шинели. Улыбнется знакомо…
И тогда Севка закричит от счастья! Так, что крик его разнесется по всей Земле. Даже над полярными островами поднимутся от этого крика птичьи стаи… Мама рассказывала, что на Севере есть такие острова, там на скалах гнездятся миллионы птиц. В далеких и холодных морях, где плавал папа…
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Только в конце ноября на мерзлую землю стал падать настоящий густой снег. Севка сидел у окна и смотрел на эту удивительную сказку. Не так уж часто он видел первый в году снегопад. Сегодня — девятый раз в жизни. К тому же раньше он был маленький и не понимал такой красоты. А сейчас понимал и радовался.
Уже вся земля, крыши, поленницы были укрыты нетронутой белизной. Обросли мягким пухом тополиные ветки. А с пепельного неба все сыпались и сыпались хлопья.
Было воскресенье, никто никуда не спешил. Потрескивала печка. Но сквозь это потрескивание, сквозь голоса и шаги, которые слышались в доме, проступала уличная тишина. Она была там, за стеклами, висела над заснеженным городом. Она была похожа на спокойный праздник. Севка слышал ее сильнее всех звуков.
«Тихо, как во сне», — подумал Севка.
И к этой мысли сразу пристроились три слова: «Белый-белый снег».
Тихо, как во сне… Белый-белый снег.Это были уже почти стихи.
От ощущения тихого праздника Севке и вправду захотелось придумать стихи. Настоящие. И он стал сочинять:
«Вот зима пришла к нам в гости…» Ничего себе «в гости»! Она теперь надолго пришла. На целую зиму. Лучше вот так:
Вот зима пришла с морозом, Тихо, как во сне…А дальше что? Надо было приставить «белый-белый снег». И Севка пристроил:
И на землю к нам ложится Белый-белый снег!Ура, получилось! Он обрадовался, написал четыре строчки на краешке газеты и, смущаясь, показал маме. Мама похвалила. А потом сказала:
— Знаешь что? По-моему, ты немного поспешил. Можно сделать стихи еще лучше.
— Как? — ревниво спросил Севка. Он считал, что и так всё прекрасно.
— Вот, смотри… «Зима пришла с морозом». А сейчас разве мороз? Денек пушистый и совсем не холодный. И не очень ладно получилось: «…на землю к нам ложится». Понятно, что на землю. А вот ты придумай, куда еще. Чтобы сразу было видно. Чтобы кто стихи услышит, сразу запомнил. А то непонятно, про какую зиму написано: в поле, в городе или в лесу?
Севка слегка насупился. Но подумал, подумал и почувствовал, что мама правду сказала. «На землю» — это непонятно. Вернее, неточно. И зима не морозная…
А какая сегодня зима?
Севка опять устроился у окна. Вдоль стены пекарни брела по щиколотку в снегу соседка Евдокия Климентьевна. Протаптывала валенками тропинку к дровянику. Севке вдруг показалось, что своей походкой и немного сгорбленной спиной она похожа на школьную директоршу Нину Васильевну. Только Нина Васильевна еще старше, чем соседка, и со-всем седая. Волосы у нее совсем белые…
…Как снег…
…Как зима…
Значит, зима — седая? Конечно. Она тихая и добрая, как старушка, которая пришла рассказать сказку…
К нам пришла зима седая. Тихо, как во сне. И на землю…Нет, не на землю! На самого Севку (когда он пойдет гулять). И на всех людей, которые на улице.
И на шапки нам ложится…Нет, не ложится. Садится, мягко опускается. Оседает, как тополиный пух в безветренный день… Да, оседает! «Седая — оседает»! Вот здорово-то! Ура!
К нам зима пришла седая. Тихо, как во сне. И на шапки оседает Белый-белый снег…— Мама! Послушай…
Мама сказала, что теперь совсем хорошо. Просто за-мечательно. А может быть, Севка придумает продолжение? Севка вздохнул. Он знал, что дальше будет го-раздо труднее. У него всегда так: четыре строчки сочиняются просто, а потом — будто включаются тормоза.
И всё же Севка придумал продолжение. Только не в этот день, а гораздо позже. Перед зимними каникулами.
А в лесу озябли елки, Просятся к нам в дом, Потому что очень скоро Праздник Новый год.Конечно, эти строчки были не такие удачные, как первые. Но зато стихотворение стало в два раза длиннее. Как настоящее. Мама даже сказала: пусть Севка прочитает его на новогоднем утреннике. Но Севка ответил, что ни в коем случае. Хватит с него! До сих пор обзывают Пусей.
И на утреннике Севка ничего не читал, а только смотрел, как выступают другие. Ребята рассказывали стихи про Деда Мороза (не свои, конечно) и пели песни про елку. И танцевали. Сначала зайчата в бумажных масках, потом снежинки.
Главной у снежинок была Инна Кузнецова. Севка впервые видел ее не в черной одежде. Но и сейчас, в белой балетной юбочке, она была строгая и красивая. Даже красивее, чем раньше.
Алька тоже танцевала среди снежинок. Без привычного лыжного костюма она казалась очень худой и маленькой. Севка жалел ее: он был уверен, что Алька мерзнет в марлевом наряде снежинки. По крайней мере, сам он поеживался в своем тоненьком матросском костюме. В классе, где стояла елка, печь не протопили: видимо, боялись пожара.
В конце утренника завхоз дядя Андрей, наряженный Дедом Морозом, всем раздал склеенные из газет кульки с печеньем и слипшимися леденцами.
И начались каникулы…
В комнате у Севки и мамы в углу на табурете стояла аккуратная елочка. Весь декабрь Севка клеил для нее игрушки, флажки и цепи. Висели на елке и несколько блестящих шариков — мама купила их на толкучке.
А на подоконнике Севка устроил еще одну елочку — совсем крошечную, из ветки. Для Кашарика, лягушонка с Алькиной открытки, мраморного кролика, которого кто-то подарил маме (а мама Севке), старого тряпичного кота Матвея и красноармейца из папье-маше. Это были постоянные жители подоконника, Севкины друзья. Они всегда слушали Севкины сказки.
На этот раз Севка придумал для них кукольный спектакль «Доктор Айболит». Кукол он вырезал из бумаги, а ширму сделал из стульев и маминого платка.
Кроме жителей подоконника, представление смотрел Гарик. Очень внимательно, даже затаив дыхание…
Дни стояли мягкие, снежные. Во дворе, у стены пекарни, ребята решили сделать горку. Начали работать Севка, Гарик, Римка и даже Соня. А из соседнего двора пришли третьеклассник Вовка Неверов и пятиклассник Сашка Мурзинцев, по прозвищу Клоун. Потом подошел Гришун с большущей лопатой и здорово помог. И еще он помог возить на санях бочку с водой. На водокачку ездили несколько раз. Покрыли льдом всю гору и залили дорожку до самого Гришуновского дровяника.
Так замечательно было кататься с горы в своем дворе! Гораздо лучше, чем с гор на площади за рынком, где поставили елку с лампочками и вылепили из снега Деда Мороза и всяких зверей. Там было тесно, большие мальчишки отбирали фанерки для катания, устраивали кучу малу. А здесь все свои, никто не мешал и не толкался, только иногда боролись в шутку. А если кто озяб и обледенел, можно было погреться в блиндаже.
Блиндаж сделали внутри горки, вырыли в ней пещеру. В окошко вставили плоскую льдину, вход завесили старым мешком. Гришун принес из сарая мятую жестяную печурку и дал кучу щепок. Протянул наружу коленчатую трубу. Когда печку разжигали, она принималась гудеть, как самолетный мотор, и сразу становилось тепло, хотя стенки блиндажа были снежные. Все смотрели на огонь и делались притихшие и очень добрые. Даже Римка ни с кем не спорила. А у Севки придумывались зимние сказки, будто они плывут на льдине по холодному Северному океану, чтобы отыскать затерянный где-то у самого полюса корабль. Старинный корабль с елочными игрушками, который заколдовала Снежная королева… Она бы и Севку с ребятами заколдовала, но у них в печке горячее пламя.
Как в хорошей песне, которую любит мама:
Бьется в тесной печурке огонь…Каникулы кончились, елку убрали, это было грустно. Однако горка с блиндажом во дворе осталась, и это было хорошо.
Вообще хорошее и плохое в жизни перемешивалось всё время. Мама выписала Севке «Пионерскую правду», и он со жгучим нетерпением ждал, когда придет очередной номер. Он прочитывал ее всю — от названия, над которым нарисованные девочка и мальчик в галстуках вскидывали в салюте руки, до адреса редакции. Но больше всего Севке нравились приключения в картинках: например, смешные истории про Федю Печкина.
Однако случалось, что Римка раньше Севки вытаскивала «Пионерку» из общего почтового ящика и уносила к себе. Тогда приходилось добывать газету со скандалом:
— Опять сперла, ведьма! Отдавай сейчас же!
— У, жадюга! Прочитаю и отдам!
— Я первый должен читать! Не твоя газета!
Но зловредная Римка запиралась и хихикала…
В школе тоже хватало плохого и хорошего. Хорошо, что учиться стали в первую смену. Плохо, что совсем ушла Елена Дмитриевна и Гета стала полноправной учительницей. Зато хорошо, что в школе кончились дрова и в классах стоял холод почти как на улице. Правда, приходилось сидеть в пальто и мерзли руки, но зато не надо было писать, потому что застывали чернила.
Занимались только чтением и устным счетом, а после второго урока всех отпускали домой.
Дома надо было решать задачи, кучу примеров и писать по два упражнения каждый день — Гета Ивановна была щедра на домашние задания. «Покуда в школе приходится бездельничать, занимайтеся дома, а то и половина из вас в третий класс не переползет». Но вечером, когда уроки готовы, можно было пойти к Романевским, где читали удивительно интересную книжку про Тома Сойера…
В таких вот делах и заботах прошел январь, и совсем близким сделался Севкин день рождения.
Мама сказала, что надо отметить Севкины именины по-настоящему.
— Как? — обрадовался Севка.
— Испечем торт, позовем гостей. Согласен?
Севка был, конечно, согласен. Насчет торта. А насчет гостей…
— Кого звать-то?
— Как — кого? Ребят позови, с которыми играешь. Римму, Гарика, Алю Фалееву.
— Альку? — удивился Севка.
Ну, Римку и Гарика — это понятно. Всё же соседи, играют вместе. Можно сказать, приятели, хотя Римка и язва. А при чем здесь Фалеева?
— Разве вы не товарищи? Вы же полгода за одной партой сидите.
Севка почему-то смутился и пожал плечами. Мало ли кто с кем сидит за одной партой. Конечно, Алька добрая, помогает ему, но это же обычные школьные дела. А нигде, кроме школы, Севка с Алькой никогда не встречались и вместе не играли.
Мама даже слегка расстроилась:
— Ну почему ты такой равнодушный? Аля так к тебе… так хорошо всегда про тебя рассказывает, а ты…
— Алька? Кому рассказывает?
— Маме своей, Раисе Петровне.
— А ты откуда знаешь?
— Мы же вместе с ней работаем. Ты не знал?
«Вот так фокус», — подумал Севка. Ничего такого он не знал. Впрочем, это было не важно. Важно было другое.
— А что мы будем делать? Ну, я и гости…
— Чаю попьете, поиграете…
Севка задумался. Приглашать Альку он почему-то стеснялся. Но не пригласить — тоже нехорошо. Мама, наверно, уже договорилась про это с Раисой Петровной, Алькиной мамой. Да и вообще… Почему бы не позвать? Чем больше гостей, тем веселее…
Утром, на первом уроке, Севка помялся и неловко прошептал:
— Приходи на день рождения ко мне, ладно?
Алька не удивилась. Тихонько спросила:
— Одиннадцатого числа?
— Нет, десятого. Мы так решили, потому что воскресенье и праздник.
— Ага… Я приду…
— Ты знаешь, где я живу?
Алька чуть-чуть смутилась:
— Я найду… Я знаю.
— Кто будет болтать языком, сразу отправится за дверь, — сообщила Гета Ивановна и посмотрела на Севку и Альку.
Вообще-то десятое февраля — грустное число. День смерти Пушкина. Но в сорок шестом году это давнее событие отодвинулось и почти забылось. Потому что был всенародный праздник — выборы в Верховный Совет СССР. Во время войны выборы не устраивались, но теперь вернулась мирная жизнь, значит, всё должно быть как в прежние счастливые времена.
Еще в декабре по всему городу развесили фанерные плакаты в виде громадных календарей. На них ярко алело число «10 февраля», а сверху слова: «Все на выборы!» По домам ходили специальные люди — агитаторы — и рассказывали про тех, кого будут выбирать, про кандидатов в депутаты.
В том районе, где жил Севка, была кандидатом Фомина. Екатерина Андреевна. Учительница из ближней школы-десятилетки. Наверно, очень хорошая учительница, не то что Гетушка. Плохую не сделали бы кандидатом. И лицо ее на портретах было доброе. Вот повезло ребятам в ее классе!
Рано утром Севка и мама пошли на избирательный участок. Было темно и морозно, а всё равно весело. Много людей шло к участку, и где-то играл оркестр. В зале клуба железнодорожников среди знамен и плакатов стояли красные ящики с прорезями — урны. Над урнами висел портрет Сталина. Сталин был в фуражке и маршальских погонах. Он усмехался в усы и смотрел на Севку. Севка знал, что Сталин — это вождь. Самый добрый и самый мудрый. Про него на уроках пения разучивали песни, а на утренниках рассказывали стихи. А Гета недавно поведала об удивительном случае: в одном глухом городке заболел мальчик и врачи ничего не могли сделать, тогда мама этого мальчика послала товарищу Сталину телеграмму. Сталин велел прислать самое лучшее лекарство, и мальчик выздоровел.
Севке очень понравился рассказ. У него даже в горле защекотало, когда он услышал про счастливый конец. Но тут поднялся Владик Сапожков и осторожно спросил: не получится ли так, что все мамы заболевших мальчиков начнут посылать товарищу Сталину телеграммы? Тогда у него времени не останется ни на что другое, только ходи на почту и отправляй лекарства.
Гета Ивановна ужасно рассердилась. Прогнала Владика в коридор и сказала, что целую неделю будет оставлять его в школе «аж до ночи». Но потом, кажется, забыла…
Мама получила у длинного стола бюллетень. Севка раньше думал, что бюллетень — это справка, которую дают взрослым, когда они болеют. Но оказалось, что здесь это бумага, на которой напечатана фамилия кандидата. Чтобы голосовать.
Маленьким голосовать, конечно, не разрешалось, но мама дала Севке свой бюллетень. Севка встал на цыпочки и опустил его в щель. Получилось, что он тоже проголосовал за учительницу Фомину.
Домой Севка возвращался радостный. И вспоминал всё, что недавно было. И длинный стол, за которым тетеньки выдавали бюллетени, и красные урны, и веселых людей, и портрет на стене. У Сталина были пушистые усы и добродушно прищуренные глаза. И в то же время строгие… Чудак-человек этот Владик Сапожков! Разве Сталин сам стал бы бегать на почту? У него тыща важных дел каждый день. И конечно, тыща помощников-адъютантов. Он только глазом мигнет, и сразу кому положено помчатся отправлять посылки… Но вообще-то Владик правильно засомневался: если каждый будет Сталину писать, у того не останется времени, чтобы страной управлять.
Но тут Севку зацепила одна мысль, которая появлялась и раньше, только он с ней ни к кому не приставал (он хотя и всего-навсего второклассник, но кое-что соображает).
— Мама… А ведь Сталин — самый лучший, правда? Ну, самый хороший среди людей, да?
— Конечно, — сказала мама. И посмотрела по сторонам.
— Но ведь хороший — это значит и самый скромный, да?
— Ну… разумеется…
— Ты ведь сама говорила.
— Да. А с чего ты вдруг об этом…
— Ну, если он скромный, почему он разрешает, чтобы его так хвалили: «самый умный», «самый великий», «самый-самый»? Это ведь…
— Сева… — сказала мама деревянным голосом и пошла быстрее. — Надо понимать. Народ его очень любит. Такую любовь трудно сдержать…
— Ну уж трудно! Да он бы только словечко сказал — все сразу бы рты прихлопнули! Его же все слушаются.
— Всеволод! — Мама опять оглянулась и крепко взяла его за руку. — Давай не болтать на улице. Ты говоришь, не думаешь, а люди услышат — мало ли что будет… За длинный язык никого не хвалят.
— А никого близко нет, — понимающе отозвался Севка. — Я же соображаю.
— А раз соображаешь, то давай договоримся: такие вопросы ты пока никому задавать не будешь. И особенно посторонним.
— Ты же не посторонняя…
— И всё равно пока помолчи.
— А «пока» — это сколько?
— Пока не подрастешь.
Так строго сказала мама, что Севка покладисто кивнул:
— Ладно…
— Потому что Сталин хороший и мудрый… — Мама опять оглянулась. — Но дураков и мерзавцев на свете много. Они услышат и скажут, что это я тебя таким разговорам научила. И сообщат куда надо…
— В НКВД?
Мама не стала говорить «помолчи» или «не твое дело».
— Именно, — тихо сказала она.
— Да, там уж разбираться не будут: попал — и крышка… — вздохнул Севка.
— Господи! Ты чьи это слова повторяешь?
Севка повторял слова старой соседки Евдокии Климентьевны. Историю о том, как попал в НКВД и сгинул задолго до войны ее муж, он слышал не раз. А попал за то, что на демонстрации нечаянно уронил в лужу портрет Ворошилова, и по этому портрету прошлись по инерции несколько человек…
Севка так маме и объяснил.
— Всё, — сказала мама. — Ни слова об этом.
И Севка опять кивнул. Хотя еще один вопрос вертелся на языке: «Если Сталин такой умный и добрый, почему он не разгонит дураков и мерзавцев? Он же всё видит и понимает!»
Этот вопрос он задал маме позже, года через три, когда они говорили друг с другом совсем по-взрослому и Севка умел о многих вещах молчать каменно. И мама, зная про это его умение, рассказала ему о многом. О том, что знала, и о том, про что догадывалась… В самом деле, как могли стать иностранными шпионами столько людей с тихой улицы сибирского городка, где жил Севка. А ведь из каждого двора — это все знали — перед войной взяли по мужчине. Не в армию… И зачем героям-маршалам, которые в гражданскую войну лупили беляков, пришла бы в голову мысль делаться агентами гестапо?
В пятьдесят первом году семиклассник Сева Глущенко на уроке истории слушал рассказ учителя о неудачном походе Красной Армии против белополяков, на Варшаву. Иван Герасимович — не старый еще, но с сединой, со скрипучим протезом — сказал, что в неудаче виноват изменник Тухачевский, оторвавший армию от обозов. И тут Севкины глаза и глаза Ивана Герасимовича встретились. На миг. И оба они сразу же развели взгляды, почуяв мгновенную ниточку понимания. Севка увидел, что Иван Герасимович н е в е р и т. А тот понял, что не верит и Севка.
Старый друг отца, отыскавший семью Глущенко в том же пятьдесят первом году, после нескольких рюмок горько и трезво сказал вдруг, вспоминая свою последнюю атаку:
— Да чушь это, что кричали «За Сталина!». Когда подымались, такое кричали… что при Севке и не сказать…
Наверно, этот человек был не прав. Кто-то, наверно, кричал и про Сталина. Может быть, кричал даже и отец Витьки Быховского, большеглазого доверчивого пацана, с которым Севка подружился в шестом классе. Витькиному отцу повезло: из лагеря он был отправлен на фронт, в штрафбат, и чудом остался жив… А в лагерь он попал за любовь к старинным монетам. Выменивая тяжелый екатерининский пятак на полтинник двадцать четвертого года, он легкомысленно сказал: «Медная Катька тянет поболе нынешнего серебра». Через день Витькиного папу взяли за сочувствие самодержавному строю. А следом приписали и вредительство. Он во всем признался. Витька, у которого от Севки не было никаких секретов, шепотом рассказывал, к а к добивались от его отца признаний…
Поэтому Севка понял маму, когда она в начале пятьдесят третьего года не сдержалась, заплакала, услышав об аресте многих врачей: «Господи, что им там теперь придется вынести…» Сумрак снова навис над людьми…
Плакала мама и пятого марта, когда слушала сообщение о смерти того, кто правил страной три-дцать лет.
— Ты что, о н е м? — тихо спросил Севка.
— Вообще… обо всем, — так же тихо сказала мама.
Через много лет, когда Всеволод Сергеевич слышал, что «мы все верили, мы ничего не знали», он сжимал губы и вспоминал маму. И Витькиного отца, и самого Витьку, и учителя Ивана Герасимовича. И себя — мальчишку…
— Бросьте, — говорил он. — Молчали, это верно. Потому что лишнее слово было равно самоубийству. А насчет всеобщей веры…
Кое-кто с ним соглашался. А многие ругали и дразнили: «Какой провидец». Они были убеждены, что вера — это оправдание…
Но так было уже в другой, взрослой жизни, а пока Севка, прогнав тревожные мысли, шагал с мамой на свой именинный праздник.
Когда вернулись домой, мама стала делать именинный торт. Слоеный. Еще накануне она испекла для него сочни — такие твердые хрустящие блины из ржаной муки. Заранее была припасена банка сгущенного молока, и теперь мама принялась готовить из него крем. Севка стоял рядом и слизывал капли, которые падали с ложки на стол.
Мама смазала кремом сочни, сложила их в стопку, сверху положила фанерку и поставила чугунный утюг. На два часа.
Когда торт спрессовался, мама стала обрезать и выравнивать у него края. Севка подхватывал и жевал сладкие обрезки. Это было просто объедение. Сверху торт мама тоже облила кремом и украсила цифрами и буквами из разноцветных леденцов, которые приберегла с Нового года:
9 лет
— Даже жалко разрезать такое чудо, — вздохнул Севка.
— Это тебе жалко, потому что налопался обрезков. А придут гости и вмиг это чудо уничтожат.
Гости собрались к двенадцати часам.
Первой пришла Римка. Она была серьезная и совсем не вредная. Подарила Севке две книжечки «Новые приключения солдата Швейка» — приложение к журналу «Красноармеец». Севка не читал и старых приключений, но кто такой Швейк, знал. Он заглянул в книжки и понял сразу, что в них сплошной хохот. На каждой странице. Замечательный подарок!
За Римкой появился Гарик и принес для Севки черный резиновый мячик. У Севки был свой мячик, но большой, красно-синий. А этим можно играть летом в лунки, в штандер, в лапту, в стенку-стукалку. Ай да Гарик!
И наконец пришла Алька.
Севка услышал ее голос в коридоре и как-то напружинился. Мама торопливо открыла дверь. Алька возникла на пороге — румяная от мороза, но без улыбки. Очень серьезная. Тихо поздоровалась.
— Сева, ну что же ты! Помоги Але раздеться, — сказала мама.
— Чё, она сама не умеет, что ли? — буркнул Севка и зашмыгал носом.
— Я умею, — спокойно сказала Алька. — Я тебя поздравляю. Вот тебе подарок.
Она подала Севке плоский газетный сверток и стала разматывать шарф.
Мама сделала страшные глаза: «Спасибо кто будет говорить?»
— Спасибо, — выдохнул Севка. И разозлился на себя. Что он за балбес? Ведет себя так, будто к нему Гета Ивановна пришла, а не обыкновенная Алька Фалеева! — Ну-ка, давай!..
Он размотал на Альке шарф, вытряхнул ее из пальтишка, уволок одежду на вешалку. Ему стало просто и весело. Он вернулся, сказал Римке и Гарику:
— Это Алька Фалеева, мы на одной парте сидим. Да вы ее знаете, в одной же школе учимся.
Альку знали. И никто не удивился, что она пришла. Севкин день рождения — кого хочет, того и зовет.
— Сейчас будем чай с тортом пить, — распорядился Севка. — Давайте садитесь.
— Так сразу? — удивилась мама. — Ладно, желание именинника — закон.
Гости начали устраиваться за столом, а Севка развернул Алькин подарок.
В свертке была тетрадь. Толстая, в глянцевой зеленовато-голубой обложке. С блестящей бумагой в линейку. Видимо, трофейная. В нее оказался вложен карандаш — темно-красный, с нерусскими буквами. Значит, тоже иностранный. А еще была там лакированная открытка с двумя веселыми обезьянами, которые играли на трубе и бара-бане.
Севка чуть не растаял от радости. Из-за тетрадки. Он сразу понял, для чего она пригодится. Он запишет в нее все свои стихи: и про революцию, и про зиму, и еще несколько маленьких двустиший, которые сочинил в первом классе. Это будет начало. А потом он придумает много новых стихотворений, они займут всю тетрадку. Это будут хорошие стихи, потому что писать плохие в такой тетради просто не получится…
Севка не расстался с тетрадкой даже за столом, когда пили чай. Держал ее на коленях и гладил потихоньку.
Торта досталось каждому по два больших куска, а конфет-подушечек с начинкой мама каждому насыпала полное блюдце. Так что пир получился на славу. Правда, сперва все молчали, но потом Римка стала рассказывать про книжки, которые подарила Севке: как Швейк вредил фрицам, устраивал им всякие каверзы. И все развеселились. Даже мама хохотала.
Но скоро мама сказала, что должна уйти. В два часа на избирательном участке концерт самодеятельности, она там должна петь.
— А ты, Сева, будь хозяином, не давай гостям скучать… Но и не переверните комнату вверх дном, ладно?
— Ладно. Я кукольный театр про Айболита буду показывать.
«Приключение Айболита» все посмотрели с удовольствием. Даже Гарик, хотя видел спектакль второй раз. Севка расхрабрился: рычал, как настоящий Бармалей, верещал, как обезьяна Чичи, блеял, как Тянитолкай. Даже охрип слегка…
Потом стали играть в «собачку»: перекидывали друг другу мячик, а кто-то один ловил. Играли, пока мячик не брякнулся о раму. Хорошо, что не в стекло. Тогда пошли в коридор и устроили игру в пряталки.
Однако скоро игра кончилась, потому что на Севку, который спрятался за комодом Романевских, упал со стены велосипед дяди Шуры. На звон и грохот выскочили Евдокия Климентьевна и ее внук Володя. Севка, потирая спину, сказал про свой день рождения. Володя и Евдокия Климентьевна не стали ругаться. Поздравили Севку и помогли водрузить велосипед на место. Но когда они ушли, возникла в коридоре тетушка дяди Шуры Елена Сидоровна и стала кричать: почему хулиганят? Она была глухая, и объясняться с ней не имело смысла. Севка и гости вернулись в комнату.
Посмотрели по очереди калейдоскоп, который утром подарила Севке мама. Потом Гарик сбегал домой и приволок свои железные коробки. Из них составили поезд. Началась игра в партизан. Правда, Римка играть не стала: что она, маленькая? Больно надо ползать по полу, вскакивать и орать «ура!». Она ушла читать какую-то книжку про любовь. А Севка, Алька и Гарик стали готовиться к взрыву фашистского эшелона.
Гарику пришлось сделаться немецким машини-стом. Но он сказал, что станет машинистом не по правде, а «как будто», пока надо толкать поезд. А после взрыва он тоже станет партизаном, чтобы напасть на немцев, которые повыскакивают из горящих вагонов.
Эшелон с железным скрежетом выполз из-под стола и стал двигаться к мосту, сделанному из стиральной доски и учебников.
— Пора, — шепотом сказал Севка и прижался животом к половицам. — Лишь бы часовые не заметили.
— Если тебя заметят, я отвлеку огонь на себя, — очень серьезно пообещала Алька.
Севка посмотрел на Альку через плечо. Она была не очень похожа на партизана. Даже меньше, чем раньше, похожа, потому что не в обычном своем лыжном костюме, а в синем платьице с белым воротничком. Но лицо у нее было решительное. Севка благодарно кивнул.
Потом он пополз к железнодорожному мосту, вы-ждал момент и трахнул кулаками по концу дощечки, под которую был подложен кубик.
Дощечка другим концом вздыбила стиральную доску. Вагоны взлетели в воздух.
Дзынь! Трах! Ба-бам!
— Ура! Огонь!!
— Tax! Tax! Tax!
— Ды-ды-ды-ды…
Больше всех старался Гарик. Он мстил судьбе за свою недавнюю роль немецкого машиниста. Теперь он был партизан и палил из воображаемого пулемета так, будто лента с патронами была длиной в километр…
В разгар стрельбы пришла веселая мама. И ничуть не рассердилась, увидев подорванный поезд и всю картину боя. Дождалась, когда с противником будет покончено, и усадила снова всех пить чай. С остатками торта.
Алька и Гарик ушли, когда за окнами начал синеть вечер. А когда совсем стемнело, пришли взрослые гости: Алькина мама, тетя Аня Романевская с патефоном и Иван Константинович.
Иван Константинович подарил Севке суконную пилотку и новенькую, пахнущую кожей офицерскую сумку. С разными клапанами и гнездами для карандашей, с целлулоидным планшетом для карты. Севка обнял сумку и обалдел от счастья.
— Мне ее только что в училище выдали, — объяснил Иван Константинович. — А я решил, что дослужу со старой, я к ней привык.
— А вам не попадет? — опасливо поинтересовался Севка. — Сумка-то казенная.
Иван Константинович засмеялся:
— Как-нибудь выкручусь. Всё равно мне скоро уезжать. Насовсем.
Сразу всё сделалось другим. Не праздничным.
— Насовсем? — прошептал Севка.
— Да, к своим, Севушка. В Пензу.
— Демобилизовали? — упавшим голосом спросил Севка.
— Нет, пока переводят туда на службу. Но, думаю, скоро совсем уволят.
Ну и хорошо. Чего расстраиваться? Иван Константинович поедет к жене и дочке, он так давно этого ждал. Радоваться надо… Севка вздохнул. Не получалось радоваться.
Взрослые сели за стол. Поставили закуски. Усадили и Севку — все-таки именно он сегодня главный. Но у Севки уже не было именинного настроения. Видимо, он слишком долго и бурно веселился сегодня. Завод праздничной пружины кончился. А тут еще Иван Константинович со своей новостью про отъезд…
Севка тихо спросил:
— Иван Константинович, можно я посижу в вашей комнате?
Тот сразу понял Севку. Кивнул:
— Посиди. Конечно…
Севка забрал с собой сумку, Алькину тетрадь и карандаш. Он решил, что самое время записать все свои стихи. Это гораздо лучше, чем сидеть и слушать взрослые разговоры.
В комнате Ивана Константиновича всё было так знакомо… Койка под солдатским одеялом, покрытый газетами стол, машинка, на которой печатали договор о дуэли (ох, стыдно вспоминать). Шинель в углу. Полки из некрашеных досок, а на них военные непонятные учебники… Скоро ничего этого не будет, в комнату въедут незнакомые жильцы. А Иван Константинович окажется далеко-далеко, и, наверно, они с Севкой никогда не встретятся.
Где-то в Пензе есть счастливая девчонка, она будет говорить Ивану Константиновичу «папа».
А Севка никому говорить так не будет. Что поделаешь, война. У кого-то папы вернулись, у кого-то нет.
«Мой папа не вернулся с моря, — грустно и спокойно подумал Севка. — Наверно, он все-таки не спасся. Как спасешься, когда кругом волны? Стихия…»
«Прощай, свободная стихия… Мой папа не вернулся с моря…»
Севка достал из сумки тетрадь и карандаш.
В открытую дверь через коридор долетали веселые голоса. Потом заиграл патефон. «Рио-Рита»…
Севка притворил дверь.
Мой папа не вернулся с моря, Он навсегда погиб в воде…Нет, немного не так надо сказать. Надо, что он на войне был. А то получается, что просто купался…
Мой папа не вернулся с моря, Он на войне погиб в воде. Прощай, свободная стихия, Ему не плавать уж нигде…Севка перебрался со стула на койку Ивана Константиновича. Устроил тетрадку на подушке…
Мама несколько раз приоткрывала дверь, но, увидев, что Севка занят делом, не тревожила его. А когда гости разошлись и мама с Иваном Константиновичем пришли за Севкой, он спал. Скинул валенки и свернулся калачиком на одеяле, подложив под себя раскрытую тетрадку.
Иван Константинович осторожно взял Севку на руки. Тот не проснулся. Мама подняла тетрадь. На первой странице она увидела восемь строчек. По-следние четыре были такие:
Но я всё жду, что он вернется И постучит тихонько в дом. Он мне и маме улыбнется, И мы с ним в море поплывем.Мама вздохнула и показала стихи Ивану Константиновичу.
Тихо и почему-то виновато Иван Константинович сказал:
— Всё ждет…
Но он ошибался. Севка не ждал. Уже не ждал. И стихи он написал без надежды. Просто как печальную сказку. Он этими стихами попрощался с папой. Навсегда. Не поплывет он с папой в море. В самом деле пора понять, что таких чудес не бывает. Не маленький, девять лет уже, а не восемь. Вернее, девять будет завтра, но какое значение имеет один день…
БРЕМЯ СЛАВЫ
В конце февраля подули теплые пасмурные ветры. С крыш закапало, хотя солнце укрывалось за косматыми облаками. Взрослые говорили:
— Еще не весна, это оттепель.
Но в первые дни марта облака убежали куда-то, солнце засверкало изо всех сил, и стало еще теплее. Это была уже, без сомнения, настоящая весна.
Севка шел из школы и сочинял стихи, чтобы подарить их маме к празднику «Женский день».
У заборов снег растаял, Нам уж лень сидеть за партой, Прилетели птичьи стаи В мамин день Восьмого марта.Птицы еще не прилетели — ни скворцы, ни грачи. Снег лежал еще всюду, хотя и стал ноздреватым и грязным. Только на дороге машины и лошади размесили его и смешали с грязью. Поэтому в стихах правильной была лишь одна строчка: «Лень сидеть за партой». Однако Севка подозревал, что именно она меньше всего понравится маме.
Но у поэзии свои законы, ей нужны рифмы. «Восьмое марта» и «за партой» так хорошо складывались. А лень у Севки не потому, что он такой уж лодырь, а потому, что скоро весенние каникулы.
При мысли о каникулах Севка зашагал еще веселее.
По слякотной дороге, не спеша, но сохраняя строй, двигалась колонна немцев. Они ходили теперь без конвоиров. Потому что война всё равно кончилась и убегать было глупо. Скоро немцев и так отпустят из плена домой. Видно, они сами это понимали, поэтому шагали бодро. Некоторые даже улыбались.
— Айн, цвай, драй, — сказал Севка без всякой злости, просто так.
Он не ждал никакого результата, но немец, который шел сбоку от колонны, — толстоватый, в очках и почти новом кителе, — оглянулся и хмуро бросил:
— Без тебя знаю.
Чисто, по-русски сказал.
Севка слегка оторопел. И тут же рассердился — на себя за растерянность и на немцев за нахальство.
Вояки! Теперь осмелели, улыбаются. А на фронте небось как их прижали — сразу лапы вверх.
Севка громко сказал вслед толстому:
Нас огнем «катюши» кормят, Мы бежим, не чуя ног. Наступали в полной форме, Отступаем без штанов.Это были не Севкины стихи, а старая частушка про фрицев. Очень подходящая! Толстый не оглянулся, но спина его, кажется, поежилась. Видно, слово «катюши» было ему знакомо.
Эта стычка сделала Севку сердитым. Он вспомнил, как Гетушка его опять ругала за почерк (ей ведь не скажешь, что Пушкин тоже писал корявыми буквами). Подумал, что Борька Левин совсем обнаглел, запихал в его, Севкину, сумку дохлого воробья (придется, наверно, драться). Почувствовал, как сапог натирает пятку (в валенках теперь ходить сыро, в ботинках — еще холодно, вот и приходится хлюпать в маминых сапогах).
И уроков задали целую кучу!
Севка прогремел подошвами по лестнице, заглянул в почтовый ящик. Конечно, пусто! А сегодня точно должна быть «Пионерка»!
В коридоре Севка, не раздеваясь, заколотил в дверь Романевских:
— Римка, опять стырила газету?!
Было тихо. Севка снова шарахнул кулаком. Дверь открылась, и Римка встала на пороге — какая-то слишком смущенная. С газетой.
— Давай сюда, — булькая от праведной злости, потребовал Севка.
— Теперь зазна?ешься, да? — сказала Римка. Она пыталась говорить насмешливо, но получался нерешительный лепет. — Теперь ты, конечно…
— Чего?
Римка неуверенно хмыкнула:
— Будто не знаешь…
— Чё не знаю? Знаю, что ты головой о комод стукнутая…
— Ты, что ли, правда… не видел свои стихи?
— Какие еще стихи?
Тогда Римка заулыбалась и поднесла к его носу газету. Внизу страницы среди каких-то детских рисунков и стихотворных строчек Севку прямо ударили по глазам слова:
Мой папа не вернулся с моря…
Это что?
Это правда?!
Мой папа не вернулся с моря, Он на войне погиб в воде. Прощайте, дом родной и город, Ему не плавать уж нигде. Но я всё жду, что он вернется И постучит тихонько в дом. Он мне и маме улыбнется, И мы с ним в море поплывем.А внизу стояло: «Сева Глущенко, 9 лет. Город Т., школа № 19, 2-й класс «А».
Не слушая Римку, Севка ушел к себе, скинул сапоги и бухнулся на кровать. Лежал, смотрел в потолок и глупо улыбался. В голове была карусель.
Как стихи попали в газету?
Что теперь будет, когда прочитают в школе? Смеяться станут? Или поздравлять? Или завидовать?
А зачем изменили строчку про стихию? Потому что не Севкина, а пушкинская? Зато самая хорошая была, а Пушкину разве жалко одной строчки? Или все-таки правильно, что изменили? А то опять скажут «Пуся»… Да всё равно скажут…
Ну и пусть хоть что говорят! Зато его, Севкины, стихи напечатали в настоящей газете! Как у настоящего поэта!
Ой, неужели это правда? Может, приснилось? Нет, вот они, стихи. Вместе со стихами и рисун-ками других ребят. Сверху общее название: «Наши читатели пишут и рисуют». Вот стихотворение какой-то Светы Колдобиной из Москвы, называется «Мой щенок». Вот еще: «Стихи про Победу», Лева Ткаченко, город Киев… И рисунок «Атака морской пехоты». Художник — Толя Плетнев из Новосибирска, пятиклассник. Наверно, это замечательный пятиклассник, потому что картинка такая боевая: матросы в тельняшках, с гранатами, с военно-морским флагом, среди взрывов. А немцы от них драпают.
Хорошо, что этот рисунок рядом с Севкиным стихотворением. Наверно, их специально рядом поставили, потому что про моряков…
У Севкиных стихов нет названия. Сверху три звездочки, и сразу: «Мой папа не вернулся с моря…»
Жаль, что он никогда не вернется. А то он обязательно порадовался бы вместе с Севкой…
Мама очень обрадовалась, когда увидела газету. И сразу всё стало понятно.
— Стихи послала в газету Елена Дмитриевна, это несомненно. Она в феврале заходила к нам, я ей показала твою тетрадку, а она переписала… Я тебе говорила, разве ты забыл?
Севка не забыл. Он знал, что вскоре после дня рождения Елена Дмитриевна была у них дома. Она скучала по своим прежним ученикам и навещала их иногда. Севка в тот вечер катался на горке, Елена Дмитриевна беседовала с мамой. Да и стихи Севкины читала. Кажется, даже сказала: «Надо их кому-нибудь знающему показать». Но разве Севке могло прийти в голову, что она пошлет их в «Пионерку»?
— И подумать только, как быстро напечатали! — радовалась мама. — Видимо, твои стихи пришли в самый нужный момент… Только, пожалуйста, не зазнавайся, ладно?
Да что это все об одном? «Зазна?ешься», «не зазнавайся»… Он и не думает нос задирать. Он понимает, что со стихами в газете ему просто повезло и никакой он еще не поэт. Но… все-таки напечатали. Плохие стихи печатать не стали бы. Все-таки… значит, немножко поэт…
В школу Севка шел с радостью, но и с опаской: вдруг задразнят?
Сперва в классе всё было как раньше: будто и не печатали Севкиного стихотворения. Но вот влетела в класс Людка Чернецова и запела ехидно:
— А Пуся опять стихи сочинил, в «Пионерской правде» напечатали! Ай да Пусенька! Ай какой умненький…
Севка замер. Стало хуже, чем если ты не выучил басню, а тебе говорят: «Глущенко, к доске».
— Чего? Какие стихи? — сразу понеслось отовсюду. — Чего врешь?
Подлая Людка достала из портфеля газету. Помахала. И улыбалась так отвратительно, крыса…
Людку обступили. Загалдели, затолкались…
Севка на своей парте начал краснеть и съеживаться. Он был один, Алька еще не пришла.
Газета оказалась у Кальмана. Он влез на парту прямо в сапогах и начал читать клоунским голосом…
Первые две строчки — клоунским голосом. Потом как-то сбился. Начал опять, но уже обыкновенно, негромко. Потом еще тише…
И вдруг все перестали шуметь. Кальман кончил, но тишина всё не кончалась. Наконец Владик Сапожков проговорил:
— А я еще вчера это читал… А у меня папа тоже моряк был.
Витька Игнатюк — чернявый, худой и всегда молчаливый — пожал острыми плечами и проворчал:
— Прибежала, разоралась, будто он чего глупое написал… А он наоборот…
— Правильно! Пуся складно всё сочинил и по правде, — поддержал кто-то в толпе.
— Кто еще скажет «Пуся» — будет во! — раздался авторитетный голос Сереги Тощеева. И над стрижеными головами возник его кулак с чернильным якорем.
— Это что такое? Что за базар? Встали все как следует у своих парт!
Оказывается, уже был звонок и появилась Гета Ивановна. И Алька уже сидела рядом с Севкой.
— Вы что, глухие? Не знаете, что звонок с урока — для учителя, а звонок на урок — для вас?
— А у Глущенко стихи в «Пионерской правде», — звонко сказал Сапожков.
— Ты сейчас за дверь вылетишь вместе с Глу… Что? Какие стихи? Ты о чем?
Людка Чернецова дала ей газету.
В классе повисло молчание. Севке опять стало нехорошо.
Гета Ивановна подняла от газеты голову. Она улыбалась. Это было редкое зрелище.
— Ну что же… — бархатно произнесла Гета Ивановна. — Это очень приятно. Да. Я тебя, Сева, поздравляю. Мы все… Это большая честь. Я надеюсь, что теперь, когда про Глущенко известно всей стране, он подтянет успеваемость. Ну, мы об этом еще поговорим. А теперь приготовьте тетради с домашним заданием.
На переменке Севку похлопывали по спине, и ни-кто не говорил «Пуся». Людка Чернецова ходила среди девчонок из других классов и показывала на Севку глазами. Девчонки смотрели с почтением и шептались.
Одна Алька смотрела на него как на прежнего Севку. Вначале первого урока она просто сказала:
— Ты молодец. Мне очень понравилось.
Севка был ей благодарен за такую спокойную и прочную похвалу. Он смущенно признался:
— Я это в твоей тетрадке написал. В тот день…
После уроков подошла Нина Васильевна, директор школы:
— Молодец, Сева Глущенко, хорошо написал.
И многие в коридоре слышали это. Начиналась поэтическая слава.
Домой Севка прилетел на крыльях радости и вдохновения. Он был поэт, и такое звание обязывало его работать. Севка был уверен, что сядет за стол и напишет новые стихи — лучше всех прежних.
И он сел. И открыл тетрадь. Он хотел сочинить что-то сильное, могучее, героическое. Например, про бурю на море. Про стихию. Он даже придумал первую строчку:
Над морем двигалась гремучая гроза…Но дальше ничего придумать не успел. Постучала Римка и ласково предложила:
— Сева, пойдем в кино. На «Кощея Бессмерт-ного».
— Не хочу…
— Ну пойдем, а?
— Да отстань, видел я этого «Кощея»…
— Ну и что? Разве не интересно еще раз… Я тебе дам три рубля на билет. Взаймы…
Севка догадывался: в кино придут Римкины одноклассницы и ей приятно покрасоваться рядом со знаменитостью.
— Не пойду… Не видишь, человек работает?
Римка заводилась всегда с пол-оборота.
— Подумаешь, «работает»! Пушкин какой!
— Ты Пушкина не трогай, — сказал Севка и подумал: не пустить ли в гостью сапогом?
— Я не Пушкина, а тебя. Или ты считаешь, что между вами никакой разницы?
— А какая разница? — Севка повернулся вместе со стулом и в упор посмотрел на Римку. Он знал, что сбить ее с толку можно только самым неожиданным доказательством. — Ну скажи, какая? Пушкин писал стихи, и я пишу стихи. У Пушкина их печа-тали, и у меня печатают. Только у Пушкина бакенбарды были, а у меня нету. Дак еще вырастут. — Он покрутил у щек пальцами.
Римка обалдело замигала. Открыла рот… и тихо притворила дверь.
Севка посидел, съежившись: он переживал собственное чудовищное нахальство. А что, если Римка завтра про эти слова разболтает в школе? Впрочем, ничего особенного, наверно, не будет. Все помнят кулак Тощеева. Но самому как-то не по себе…
Но Севка же не по правде это сказал, а назло Римке.
Севка вздохнул и вернулся к поэтическим трудам. Они двигались туго. Разница между Севкой и Пушкиным определенно ощущалась. Выжать из себя хотя бы еще строчку Севка не мог. К слову «гроза» приклеивалась какая-то дурацкая «стрекоза», а что ей делать в штормовом океане?
Севка поерзал еще пять минут и вышел в коридор.
— Римка! Ладно, айда в кино.
Да, слава — вещь приятная, но стихи у Севки перестали получаться. Севка маялся три дня, потом со смущенными вздохами сказал про это маме.
— Ты, наверно, очень спешишь, — ответила ма-ма. — По-моему, тебе стало всё равно, про что писать, лишь бы новое стихотворение получилось поскорее. А так нельзя. Хорошие стихи поэты пишут только про то, что любят.
Севка задумался. Море он любил. Только совсем его не помнил. Может быть, поэтому и не пишется?
А что еще он любит? Больше всего — маму. Но про маму писать он почему-то стесняется. Тут какой-то закон природы. Наверно, из-за этого закона люди стесняются признаваться друг другу в любви (Севка читал об этом и кино смотрел). Другое дело — стихи д л я м а м ы. Но он уже написал восьмимартовские.
Еще Севка любит весну, кино, мороженое… Пушкина!
Любит ходить с мамой вечером через мост над Турой, когда под ним проплывают самоходные баржи с огоньками.
Любит свой подоконник со сказочными жителями.
Интересные книжки…
Пускать мыльные пузыри…
И про всё это писать? Тут никаких сил не хватит. Надо что-то выбирать.
Но ничего не выбиралось.
— Ты не спеши, — опять сказала мама. — Берись за стихи только тогда, когда очень захочется.
А Севке, по правде говоря, не хотелось. Весна манила на улицу. Горка с блиндажом осела и поте-ряла гладкость, но зато посреди двора Гришун построил новую голубятню. Севка и Гарик ему помогали — Гришун обещал им за это сделать тополиные свистки. Попозже, когда тополя набухнут соком.
Через несколько дней Гета Ивановна сказала в начале уроков:
— Ты, Глущенко, стал совсем знаменитый. Тебе уже письма приходят. — И отдала Севке четыре конверта.
На каждом был написан адрес с городом, номером школы, а дальше: «2-й класс «А», Глущенко Севе». Конверты оказались распечатанными: видать, Гета полюбопытствовала. Но Севка сообразил это после. А в первый момент просто удивился:
— Это от кого?
— От твоих читателей. Когда будешь писать ответы, постарайся не царапать, как в тетрадях. А то скажут: стихи сочиняет, а писать не умеет.
Севка только усмехнулся.
Все письма были от девчонок: из Свердловска, Кирова, какой-то деревни Одинцово и Казани. И почти все одинаковые, будто их диктовала одна учительница:
«Здравствуй, незнакомый друг Сева! Пишет тебе незнакомая девочка Таня (или Валя, или Света). Я прочитала в „Пионерской правде“ твои стихи. Они мне очень понравились. Я хочу с тобой переписываться. Напиши, как ты учишься и что любишь делать. Я учусь хорошо. Что еще писать, не знаю. Жду ответа, как соловей лета».
Мама сказала, что надо ответить. Севка насупился. Во-первых, писать было лень. Во-вторых, девчонки эти наверняка были глупыми и вредными, вроде Людки Чернецовой. Севка написал только одной — Вере Беляевой из Кирова. Верино письмо было не по-хоже на другие. Она писала, что ее папа тоже погиб и что она любит собирать картинки с самолетами, а один раз сочинила сказку про медвежонка, только ее нигде не печатали. Еще она просила Севку послать ей какие-нибудь свои стихи. Севка послал: про революцию и про зиму.
Через день после уроков Гета отдала ему еще два девчоночьих письма.
Севка прочитал их в коридоре, в уголке, чтобы не мешали. И разочарованно сунул в сумку. Письма были похожи на первые три. Он пошел к лестнице и услышал звонкий и твердый голос:
— Сева Глущенко. Подожди.
К нему шла Инна Кузнецова…
Прямо к нему шла Инна Кузнецова! Вот это да! Зачем?..
— Здравствуй, Сева. Это твои стихи напечатаны в «Пионерской правде»?
У Севки шевельнулась слегка горделивая мысль: раньше и не глядела на него, а теперь, смотри-ка, сама подошла. Но сразу он ощутил волнение и робость — как и раньше, когда видел Инну.
— Ага… — сказал он и потупился.
— Ты молодец. — Инна смотрела прямо и строго. — Мы в совете дружины думаем, что тебе пора вступать в пионеры. Вообще-то мы принимаем только с третьего класса, но самых активных второклассников иногда принимаем тоже. Потому что дружина у нас маленькая. Тебе сколько лет?
— Девять, — прошептал Севка, не смея верить.
— Ну ничего… Ты согласен?
Севка глотнул пересохшим горлом. Согласен ли? Да он, как о самой громадной сказке, мечтал об этом. О том, чтобы маршировать в строю, где впереди знамя, блестящий горн и барабан. О том, чтобы лихо салютовать вожатой, когда встретишь ее в коридоре. О том, чтобы приходить на сбор в белой рубашке с красным галстуком. О том, что (это уж совсем невероятно, однако вдруг когда-нибудь случится?) ему дадут поучиться играть на горне и, может быть, сделают горнистом. Пускай хоть запасным.
— А как это… надо вступать? — сипло спросил Севка, глядя на рыжие свои сапоги.
— Сначала выучишь Торжественное обещание. Завтра я принесу, а ты перепишешь. До свидания.
Севка глупо заулыбался и закивал. Торжественное обещание он знал с первого класса.
— Мама! Меня скоро примут в пионеры!
— Ой, ты сумасшедший! Ты меня перепугал! Ворвался…
— Мне сама Кузнецова сказала! Председатель совета дружины!.. Ой, а у меня ведь нет белой рубашки!
— Разве обязательно? Можно в матроске…
— Ну что ты, мама! Ведь надо чтобы форма! Вдруг не примут?
— Из-за рубашки-то? Так не бывает… Ну, не волнуйся, что-нибудь придумаем. Попросим тетю Аню перешить из моей блузки.
— Правда? Ура!
— Пионеры, между прочим, не скачут по ком-нате в грязных сапогах. И не швыряют сумки в угол.
— Да знаю, знаю!
Он всё знал: и про поведение, и про режим дня, и про учебу. И что пионеры должны быть смелые, должны помогать старшим. Честные должны быть. Да… и еще…
Как же быть?
Севка притих в углу на стуле. Неожиданная мысль озадачила его. Помимо всего прочего Севка вспомнил, что пионеры не верят в Бога.
Он не на шутку растерялся.
Конечно, о Севкином Боге не знал ни один человек на свете. Но сам-то Севка знал. Выходит, он будет не настоящий пионер?
Все станут думать, что настоящий, а на самом деле нет…
Севка размышлял долго. Сначала мысли суетливо прыгали, потом стали спокойные и серьезные.
Севка принял решение.
«Бог, ты не обижайся, — сказал он чуточку виновато. — Я не буду больше в тебя верить. Ты ведь сам видишь, что нельзя… Ты только постарайся, чтобы я дожил до бессмертных таблеток, ладно? А больше я тебя ни о чем просить не буду и верить не буду, потому что вступаю в пионеры. Вот и всё, Бог. Прощай».
Старик на крыльце башни-маяка, видимо, не рассердился. Вздохнул только и пожал плечами: что, мол, поделаешь, нельзя так нельзя.
До самого вечера Севке было грустно. Он успел привыкнуть к старому Богу в тельняшке, а с теми, к кому привыкаешь, расставаться всегда печально. К тому же Севка подозревал, что и Бог будет скучать без него. Как дед без внука. Но договор был твердым, и Севка ни разу не поколебался…
А наутро, перед уроками, в Севкин класс пришла Инна.
— Глущенко! Вот тебе Торжественное обещание. Можешь не переписывать, это я сама специально для тебя переписала. Учи. Сбор будет девятого мая. Но к работе мы будем привлекать тебя раньше.
— Ага… — сказал Севка и неловко закивал.
Инна, прямая и строгая, пошла к двери. Севка взволнованно разглядывал листок с круглым ровным почерком.
Алька сбоку посмотрела на Севку и без улыбки спросила. Вернее, просто сказала:
— Она тебе нравится…
— М-м? — ненатурально удивился Севка, и щеки у него стали теплыми. И тогда он сердито сказал: — А вот ничуточки.
АЛЬКА
Кузнецова ему нравилась раньше. А теперь уже не очень. То есть он по-прежнему знал, что она красивая, но думал об этом спокойно. Севкина любовь перегорела и угасла. Да и вообще любовь — это чушь собачья, выдумки взрослых. Даже непонятно, как серьезный человек Пушкин клюнул на такой крючок и писал стихи о сердечных страданиях. Севка на эту тему никогда ничего писать не будет.
Другое дело — настоящая мужская дружба. Мужская не потому, что обязательно между мужчинами, а потому, что крепкая и верная, как на фронте. Холодная и строгая отличница для такой дружбы не годилась.
А вот Алька вроде бы годилась.
Первый раз Севка так подумал еще в свой день рождения, когда играли в партизан и Алька сказала: «Если тебя заметят, я отвлеку огонь на себя». Тогда он почти сразу об этом забыл. Но потом иногда вспоминал, и как-то тепло делалось в груди, хорошо так, будто под майку сунули свежую, только что из духовки, булочку.
Алька была такая же, как раньше, но Севка порой смотрел на нее по-иному. И несколько раз даже подумал, что хорошо бы как-нибудь спасти Альку, если она где-нибудь провалится под лед, или заступиться за нее перед обидчиками.
Но получилось наоборот. Вовка Нохрин и Петька Муромцев из второго «Б» привязались к Севке на улице. Петька по кличке Глиста сунул ему за шиворот сосульку, а Нохрин сдернул и пнул Севкину шапку — она улетела в канаву с грязным раскисшим снегом. Севка подобрал шапку и назвал Глисту Глистой, а Нохрина не совсем хорошим словом. Тогда они обрадовались, подскочили, пнули Севку и сказали:
— А ну, беги отсюда!
Бежать — это хуже всего. Лучше уж провалиться на месте. Севка прижался спиной к белой стене библиотеки и приготовился отмахиваться и отпинываться.
Тут-то и подошла Алька.
Она легонько пихнула плечом Муромцева, ладошкой отодвинула Нохрина и сказала обычным своим тихим голосом:
— Двое на одного, да? Как дам сейчас. Ну-ка, брысь…
И они пошли. Оглянулись, правда, и Глиста противно сказал:
— Хы! Жених и невеста…
Но это было так глупо, что ни Севка, ни Алька даже не смутились. Уж кто-кто, а они-то ни капельки не «жених и невеста». Севка поправил на плече сумку и деловито сказал Альке:
— Чего ты вмешалась? Я бы и сам отмахался. Боюсь я, что ли, всяких Глистов…
— Вдвоем-то всё же лучше, — разъяснила Алька. И взяла Севку за рукав: — Повернись-ка. Весь извозился.
И она принялась хлопать его по ватнику, счищать со спины известку. Севка мигал от каждого хлопка и от неловкости, что не он спас Альку, а она его. Но при этом опять подумал, что друг из Альки получился бы хороший.
Однако этого мало для настоящей дружбы. Надо, чтобы и Алька про Севку думала так же, а про ее мысли он ничего не знал. Она была такой, как раньше: тихой, заботливой и незаметной. И когда Севка стал знаменитым, она к нему не лезла с разговорами и не примазывалась.
И Севка нисколько не врал, когда сказал, что Инна ему не нравится «ничуточки». И Алька сразу поверила. Она спокойно кивнула и сказала:
— Доставай «Родную речь», сейчас будет чтение.
«Родная речь» на чтении не понадобилась. Гета Ивановна стала рассказывать, что такое былины и кто такие богатыри. Оказалось, что богатырь — это «такой сильный воин, который ходит одетый в железную кольчугу со щитом и ездит верхом на ло-шаде?».
Севка еле слышно хмыкнул и посмотрел на Альку. Алька тоже взглянула на него и чуть-чуть улыбнулась. Но вообще-то она была сегодня слишком уж задумчивая. Больше, чем всегда. Эта мысль на миг кольнула Севку легкой тревогой, но тут же он отвлекся. Гета Ивановна повесила на доску картонный лист с наклеенной картиной. На картине был могучий бородатый дядька в островерхом шлеме, с красным щитом и тяжелым копьем. Он сидел на косматом и толстоногом белом битюге.
Битюг хотя и был нарисованный, а не настоящий, но всё равно — белая лошадь. В разных концах класса послышались легкие хлопки и прошелестело: «…горе не мое…».
Севка машинально сложил в замочек пальцы. Опять взглянул на Альку. И снова они встретились глазами. Она всё понимала, Алька. И «замочек» его сразу же заметила. А сама пальцы не скрестила. Конечно, разве это защита от белой лошади? Вот если бы передать кому-нибудь горе… Но Алька не решится. Не потому, что боязливая, а постесняется.
Севка вздохнул и разжал «замочек». Протянул Альке ладошку:
— Передавай…
У нее приоткрылся рот, а глаза сделались ка-кими-то беспомощными. Потом сдвинулись светлые бровки, и Алька сказала со снисходительным упреком:
— Что ты. На друга разве передают?
И сразу Севка услышал запах клейких тополиных листьев. И близко увидел синие Юркины глаза. Прогромыхала телега, которую тащила белая кляча. Ударило теплом майское солнце, и прозвучал Юркин голос: «Что ты. На друга разве передают?»
И всё стало ясно до конца. И Севка, переглотнув, опустил глаза и сказал одними губами:
— Тогда давай всё горе пополам…
И догадался, что она тоже сказала еле слышно:
— Давай.
Они слепили под партой мизинцы левых рук и резко дернули их. В этот очень короткий миг Севка почувствовал, какая у Альки теплая рука. Даже горячая…
— …А Глущенко пускай перестанет болтать языком с соседкой и слушает учительницу! Ну-ка, повтори, что я сейчас сказала!
Нет, не удастся Гете испортить Севкину радость! Он весело отчеканил:
— Богатырь — это старинный воин.
— Полным ответом!
— Богатырь, — сказал Севка, — это старинный воин, который воюет с Соловьем-разбойником, ходит в кольчуге и сидит на богатырской лошаде?.
В классе хихикнули. Гета хлопнула о стол:
— Это я давно говорила! А еще что? Зовут как?
— Лошадь?
— Сам ты лошадь. Богатырей!
— А! Илья Муромец, Алеша Попович и Никита Горыныч… Ой, нет, Добрыня. А Горыныч — это змей. Змей Добрыныч…
— Сядь, — при общем веселье снисходительно произнесла Гета Ивановна. — Стихи сочиняешь, а на уроках слушать таланта не хватает…
Смеясь в душе, Севка опустился на скамью. Алькины глаза тоже смеялись. Кажется, она одна поняла, что Севка дразнил Гету. Как Иван-царевич Змея Горыныча.
Когда кончился урок и Гета разрешила одеваться, Алька сразу встала и пошла к вешалке. Севка хотел пойти с ней. Но оказалось, что Владька Сапожков, который сидел сзади, привязал его за лямку к спинке парты. Марлевой тесемкой. Он и раньше иногда так шутил, и Севка не сердился. Владька был веселый, маленький и безобидный. Но сейчас, ругаясь и обрывая тесемку, Севка пообещал:
— Обожди, Сапог, на улице получишь.
Сапожков испуганно заморгал, но Севка тут же забыл про него. Он побежал за Алькой.
Среди толкотни и гвалта у вешалки Алька стояла, не двигаясь. Держала за рукав свое висящее на крючке пальтишко и прислонялась к нему щекой. На секунду Севке даже показалось, что она плачет. Но нет, она просто так стояла. Усталая какая-то.
— Ты чего? — встревожился Севка.
— Да не знаю я, — виновато сказала Алька. — Голова что-то кружится.
Их толкали, задевали плечами, и Севка растопырил локти, чтобы защитить Альку. И постарался ее успокоить:
— Это ничего, что кружится, это не опасно. У меня тоже бывало с голоду. Ты сегодня ела?
— Ела, конечно… Это не с голоду. Она еще болит почему-то.
Севка вдруг вспомнил, какие горячие были недавно Алькины пальцы. И торопливо взял ее руку. Рука обжигала.
— Да ты вся горишь, — озабоченно сказал он, как говорила мама, когда Севка валился с простудой.
Он сдернул Алькино, а заодно и свое пальто, вывел послушную Альку в вестибюль, кинул одежду и сумку к стене. Страдая от смущения, тревоги и непонятной нежности, тронул Алькин лоб. Он тоже был горячий.
— Ну вот, — снова сказал Севка маминым голосом. — Наверно, выскакивала на улицу раздетая…
— Нет, что ты… — слабо отозвалась она.
— Давай-ка…
Не боясь ничьих дразнилок, он помог Альке натянуть пальтишко и застегнуться. Взял ее портфель:
— Я тебя доведу до дому.
— Да зачем? Я же не падаю, — нерешительно заговорила Алька.
— Всякое бывает, — сумрачно отозвался Севка. — Если голова кружится, можешь и брякнуться. Со мной случалось…
Они вышли на яркую от солнца улицу. Их обгоняли веселые второклассники и третьеклассники. И воробьи в тополях и на дороге веселились, как школьники.
Алька опять заспорила:
— Тебе же совсем в другую сторону…
— Подумаешь, — сказал Севка.
И они пошли рядом. Неторопливо, но и не очень тихо. На свежем воздухе Алька повеселела, но портфель ей Севка всё же не отдал. Свою сумку Севка нес на ремне через плечо, портфель держал в левой руке, а правая была свободна. Севка подумал, потом сердитым толчком прогнал от себя нерешительность и взял за руку Альку. А как иначе? Не под ручку же ее вести. И совсем не держать тоже нельзя: вдруг все-таки закачается.
Алькины пальцы были по-прежнему горячие, и Севка строго сказал:
— Как придешь, сразу градусник поставь. Мама у тебя дома?
Это был глупый вопрос. Алькина и Севкина мамы работали в одной конторе и приходили не раньше семи вечера.
Алька сказала:
— Бабушка дома.
— Вот пусть и поставит градусник.
— Она знает. Она умеет меня лечить…
— Вот и пускай лечит как следует, — наставительно сказал Севка, чтобы не оборвался разговор.
Но он всё равно оборвался. И когда пошли молча, к Севке опять подкралось непонятное чувство: смесь тревоги и ласковости. И какой-то щемящей гордости, будто он выносил с поля боя раненого товарища. Но никакого поля не было, а были просохшие дощатые тротуары и пласты ноздреватого, перемешанного с грязными крошками снега вдоль дороги. И блестящая от луж дорога, по которой везла телегу с мешками пожилая лошадь (не белая, а рыжая).
Севка рассердился на себя за то, что слишком расчувствовался. Но как-то не слишком рассердился: не всерьез, а для порядка.
В эту минуту Алька сказала:
— У тебя рука такая… хорошая. Холодящая…
— Потому что у тебя горячая.
— Наверно…
Алька жила в трех кварталах от школы, в кирпичном двухэтажном доме.
— Дойдешь теперь? — спросил Севка около высокого каменного крыльца.
— Конечно, — чуть улыбнулась Алька.
Назавтра Алька не пришла.
Случалось и прежде, что она болела и пропускала уроки. Но тогда Севка не испытывал беспокойства. Только неудобства испытывал: нужно было макать ручку в чернильницу на задней парте. И хорошо, ес-ли чернильница была Владика Сапожкова. А если отвратительной Людки Чернецовой, тогда приходилось туго.
Но сегодня Севка огорчился не из-за чернил. Скучно было одному на парте, неуютно. И что же это получается? Просто злая судьба какая-то: лишь появится друг и — трах! — исчезает куда-то.
Ну конечно, Алька надолго не исчезнет, но всё равно обидно. И даже тревожно.
Нельзя сказать, что на всех четырех уроках Севка только и думал об Альке. Но если и забывал, отвлекался, червячок беспокойства всё равно шевелился в нем и мешал быть веселым. Даже несколько новых писем, которые после уроков отдала Гета Ивановна, не обрадовали его. Тем более, что Гета при этом не забыла сказать гадость:
— Когда будешь отвечать, следи за почерком, а то ведь стыд. Спросят: кто его учил писать?
Севка молча взял конверты и треугольники. Больно ему надо отвечать на такие глупости.
А что все-таки с Алькой? Может, сходить к ней домой? Но Севка ни разу у нее не был, неловко. И где там Алькина квартира в большом доме? А спрашивать почему-то стыдно…
Вечером, когда пришла мама, Севка вздохнул и небрежно сказал:
— Фалеева что-то в школе не появилась. Видать, заболела…
— Заболела, — сразу откликнулась мама. — Раиса Петровна сегодня с работы отпросилась: говорит, что у Али очень высокая температура и какая-то сыпь. Хорошо, если обыкновенная корь, а если сыпной тиф?
«Ну вот, — подумал Севка, — теперь это надолго…» И вдруг стало горько-горько, даже колючки в горле зашевелились. Севка сел на подоконник, вцепился в ручку на раме и щекой прислонился к холодному стеклу.
Было еще светло, мокрые ветки тополей от закатных лучей золотились, а стена пекарни была оранжевой. Дым из тонкой трубы торчком поднимался в сиреневое небо — он был похож на хвост великанского черного кота, спрыгнувшего с далекого облака… Но всё это не нужно было Севке! Не до сказок ему!
Мама остановилась рядом.
— Ну, что ты расстроился… — осторожно сказала она.
— Ни капельки, — хмуро отозвался Севка.
— Она поправится, — сказала мама. — Или ты боишься, что заразился? Не бойся, корью ты уже болел, а сыпняк… он же передается только… с этими, с насекомыми… Слава Богу, у тебя их нет.
Ни о какой заразе Севка и не думал. Однако мама тут же нагрела воды и вымыла его в корыте едким жидким мылом, потому что кто знает: вдруг случайное «насекомое» перепрыгнуло на Севку в классе.
Однако волновалась мама зря. Оказалось, что у Альки не тиф. И не корь. У нее была скарлатина. Севка узнал об этом от мамы на следующий день. Мама сказала, что Альку увезли в больницу и Раиса Петровна очень расстроена, потому что состояние у дочери тяжелое.
— Как — тяжелое? — сумрачно спросил Севка.
— Плохое, — вздохнула мама. — Температура высокая, горло запухло. Она даже бредит иногда. И с ногами что-то. Мама ее говорит, что синие стали и кожа блестит, как стеклянная.
Севка подавленно молчал. Мама сказала:
— Ты скарлатиной совсем легко переболел, хоть и крохой был. А с ней вот как получилось…
Севка понял: мама его успокаивает. Ты, мол, уже перенес когда-то эту болезнь, и теперь она тебе не страшна. Но Севка и не думал про себя. Вернее, думал: какая он все-таки свинья. Вчера и сегодня он страдал оттого, что нет Альки. Ему без нее было тревожно, плохо. А дело-то не в этом. Дело в том, что е й о ч е н ь п л о х о. Севку эта мысль проколола стремительно и болезненно. Он даже зажмурился и переглотнул.
Но чем он мог помочь Альке?
Севка взял «Пушкинский календарь» и забрался на мамину кровать. Он раскрыл нарочно самые печальные страницы — про дуэль и смерть Пушкина. Потому что ни о чем веселом думать не хотелось.
Так и заснул — одетый, с головой на раскрытой книге.
Наутро в школе все узнали, что во втором «А» не будет уроков. Ни в этот день, ни в другие дни, до самых весенних каникул. Потому что Фалеева за-болела скарлатиной и в классе назначен карантин. Другие классы завидовали, а второй «А» ликовал. Правда, Гета Ивановна задала на дом целую кучу примеров и упражнений и долго грозила всякими ужасами тем, кто не решит хотя бы одну задачку. Но никто не пугался — впереди были две недели свободы!
Севка рассеянно смотрел на общее веселье. Он не злился на ребят, он их понимал. Если бы из-за кого-то другого случился карантин, не из-за Альки, он бы тоже радовался.
Впрочем, и теперь Севка не очень огорчался, что отменили уроки. Всё равно без Альки в школе было скучно.
Дома Севка от нечего делать полдня клеил вареной картошкой бумажный домик для Кашарика. Домик получился кособокий и хлипкий, Севка потерял к нему интерес, кликнул Гарика, и они пошли во двор.
Во дворе сверкали отраженным синим небом и солнцем просторные лужи. Целые океаны. Гарик притащил свои хлебные коробки. Некоторые были проржавевшие и быстро потонули, зато из других получились прекрасные тяжелые броненосцы. Севка с Гариком разделили их на две эскадры и устроили морской бой.
Броненосцы хитрыми маневрами старались обойти друг друга, потом сталкивались в грохочущих таранах, иногда черпали воду и героически шли ко дну под ударами береговой артиллерии. Артиллерия била по ним обломками кирпичей. От самых тяжелых снарядов столбы воды поднимались выше головы. И падала вода не только на броненосцы, но и на Севку, и на Гарьку. И скоро оба они были — хоть выжимай. Но никто нисколечко не озяб, наоборот, жарко сделалось. И весело.
Даже в самой горячке боя Севка не забывал про Альку. Но теперь ему казалось, что Альке наверняка стало легче. Потому что ничего плохого не могло случиться в такой солнечный день, когда такие теплые пушистые облака и когда уже совсем настоящая весна.
Впрочем, Гарька напомнил, что плохое случиться все-таки может. Его определенно выдерут, если он не высушит пальто и штаны до прихода матери. Севка подумал, что и его мама не похвалит за мокрую одежду. Пришлось вытаскивать на берег броненосцы и топать домой.
Печка была еле тепленькая, и развешанная у нее одежда высохнуть не успела. Поэтому Севка не удивился, когда мама пришла и посмотрела на него хмуро. Но дело было не в промокших штанах и ватнике. Мама тихо и как-то осторожно сказала:
— Вот так, Севушка… Совсем плохо твоей по-дружке.
Севка даже не обратил внимания на нелепое слово «подружка». Приутихшие днем страх и тревога опять выросли. Зажали Севку, накрыли с головой, будто упало на него холодное одеяло. Севка передернулся, как от озноба.
— Почему плохо? — сдавленно спросил он.
Мама виновато развела руками:
— Такая вот болезнь… Ох, Севка, а почему ты в матросский костюм вырядился? А-а, промочил всё на улице! Ну что это такое? Тоже захотел в больницу? Почему ты не можешь играть как нормальные дети? Вот подожди, я займусь твоим воспитанием! Что за человек, не может спокойно пройти мимо лужи…
Она еще что-то говорила, а к Севке подкрадывалась догадка. Он сник, сел на табурет у печки, потом поднялся, подошел на ослабевших ногах к маме. Шепотом спросил:
— Значит, она по правде может умереть?
— Ну что ты, Севка… — ненастоящим каким-то голосом сказала мама. — Зачем ты так сразу… Может быть, всё еще пройдет.
И она отвела глаза.
Севка снова сел на табурет. И больше ничего не спрашивал и вообще не говорил. Что говорить, если мама отводит глаза…
Оранжевая кирпичная стена за окном потускнела, стала размытой и серой, а вечер сделался как густые синие чернила. Мама щелкнула выключателем, и за окнами совсем почернело.
Глухой это был вечер. Безнадежный и пустой какой-то, хотя лампочка светила полным накалом, дрова в печке весело стреляли, а кастрюля на плите уютно булькала.
— Севушка, ну что ты совсем скис? — жалобно сказала мама.
Он потоптался перед ней, потом попросил:
— Давай сходим к ней домой, а? К Альке… К ее маме. Может, теперь уже… получше ей…
Мама растерянно мигнула. Почему-то нерешительно оглянулась на дверь, на окна.
— Ну что ты, Севушка… Неудобно это. Раисе Петровне и бабушке не до нас, им и так тяжело…
— Мы же только спросим…
— Н-нет… Нет, Сева, не надо. Подождем до завтра. Я всё узнаю на работе.
И она опять стала смотреть не на Севку, а по сторонам как-то.
Севка понял. Дело не в том, что неудобно. Просто мама боится. Боится, что… уже. Что Альки нет уже на свете? Да?
Севка тихо задохнулся. Стиснул себя за локти и так напружинил плечи, что старая матроска затрещала на спине. Отошел от мамы. Она беспомощно сказала ему вслед:
— Мы же всё равно ничем не можем помочь ей…
Никто не может помочь. Может, в Москву на-писать товарищу Сталину? Но Владька Сапожков правильно говорил: откуда у Сталина время заниматься всеми больными? А если даже он и займется, велит прислать лекарство, сколько пройдет времени…
Севка долго молчал, сидя за столом и подперев кулаками щеки. Потом сказал негромко и решительно:
— Я спать буду.
— Так рано?
— Да. Мне хочется.
— А ты не заболел? — конечно, испугалась мама.
— Нет. Просто хочу спать.
Он не хотел спать. Он хотел остаться один — укрыться с головой и оказаться в темноте и тишине.
Полной тишины всё равно не получилось. Сквозь одеяло и старое мамино пальто, которые Севка натянул на голову, доносилось потрескивание дров и даже бубнящий Римкин голос из-за стенки — она опять долбила правила. На первом этаже — через пол, сундук и подушку — тоже слышались голоса: грозный тети Даши и жалобный Гарькин. Видимо, Гарьке доставалось за мокрую одежду. «Могут и выпороть», — мельком подумал Севка, но тут же перестал слушать все звуки. Он остался один, чтобы поговорить с Богом.
Севка понимал, что это нечестно. Он же пообещал Богу, что верить в него больше не будет и просить никогда ни о чем не станет. Но сейчас не было выхода. И главное, времени не было. Алька могла умереть в любую секунду, и тогда проси не проси…
Севка так и сказал:
«Я знаю, что это нехорошо, но ты меня прости, ладно? Потому что надо же ей помочь. Помоги ей, если не поздно, очень тебя прошу. Очень-очень… Ну, пожалуйста! Сделай, чтоб она поправилась…»
Седой могучий старик сидел, как и раньше, на ступенях у своей башни. Синий дым из его трубки уходил к разноцветным облакам, в разрывах которых кружились у громадного флюгера звезды и шарики-планеты. Старик задумчиво, даже немного сердито смотрел мимо Севки, и непонятно было, слушает он или нет.
«Я тебя последний раз беспокою, честное слово, — сказал ему Севка. — Больше никогда-никогда не буду…»
Ему показалось, что старик шевельнул бровями и чуть усмехнулся.
«Правда! — отчаянно сказал Севка. — Только помоги ей выздороветь. Больше мне от тебя ничего не надо!.. Ну… — Севка помедлил и словно шагнул через глубокую страшную яму… — Ну… если хочешь, не надо мне никакого бессмертия. Никаких бессмертных лекарств не надо. Только пускай Алька не умирает, пока маленькая, ладно?»
Старик быстро глянул на Севку из-под кустистых бровей, и непонятный был у него взгляд: то ли с недоверием, то ли с усмешкой.
«Я самую полную правду говорю, — поклялся Севка. — Ничего мне от тебя не надо. Только Алька… Пускай она…»
Старик опять глянул на Севку.
«Ты думаешь: в пионеры собрался, а Богу молится, — с тоской сказал Севка. — Но я же последний раз. Я знаю, что тебя нет, но что мне делать-то? Ну… Если иначе нельзя, пускай… Пускай не принимают в пионеры. Только пусть поправится Алька!»
Старик несколько секунд сидел неподвижно. Потом выколотил о ступень трубку, медленно встал. Не глядя больше на Севку, он стал подниматься по лестнице. Большой, сутулый, усталый какой-то. Куда он пошел? Может быть, на верхнюю площадку башни колдовать среди звезд и облаков, чтобы болезнь оставила Альку? Или просто Севка надоел ему своим бормотаньем?
«Ну, пожалуйста…» — беспомощно сказал ему вслед Севка. Он, кажется, это громко сказал. Потому что к сундуку тут же подошла мама:
— Ты что, Севушка? Ты не спишь?
Он притворился, что спит. Стал дышать ровно и тихо. Мама постояла и отошла. Потом она подходила еще несколько раз, но Севка снова притворялся спящим. Притворялся так долго, что в самом деле уснул. Ему приснилось, что Алька выздоровела и веселая, нетерпеливая прибежала в школу. За открытыми окнами класса шумело листьями полное солнечное лето, Алька была в новенькой вишневой матроске, а тоненькие белобрысые косы у нее растрепались…
Вдруг Алька стала строгой и спросила у Севки:
— С тобой никто не сидел, пока я болела?
— Что ты! — сказал Севка. — Я бы никого не пустил!
Алька улыбалась…
Но это был сон, а наяву все оказалось не так. День Севка промаялся дома и во дворе, где было пусто и пасмурно — то снег, то дождик. А вечером узнал от мамы, что Альке пока ничуть не лучше.
— Но и не хуже? — с остатками надежды спросил он.
— Да, конечно, — сказала мама. И Севка понял, что Альке не хуже, потому что хуже быть просто не может.
Еще мама сказала, что днем Раиса Петровна два раза ходила в больницу и, наверно, будет дежурить там ночью…
Севка больше не обращался к Богу. Накануне он сказал ему всё, что хотел, а канючить и повторять одно и то же бесполезно.
Утром Севка проснулся поздно. Мама, не разбудив его, ушла на работу. Севка позавтракал холодными макаронами, полистал «Доктора Айболита», но само слово «доктор» напоминало о больнице, и он отложил книгу. Хотел раскрасить бумажную избушку, взял картонку с акварельками, и в эту секунду на него навалилось ощущение тяжелой, только что случившейся беды.
Всхлипывая, давясь тоской и страхом, Севка натянул ватник и шапку, сунул ноги в сапоги и побежал к маме на работу.
Контора Заготживсырье находилась далеко: за рынком и площадью с водокачкой. Бежать было тяжело. Твердые ссохшиеся сапоги болтались на ногах и жесткими краями голенищ царапали сквозь чулки ноги. К тому же эти сапоги были дырявые, Севка бежал по лужам, и ноги скоро промокли. Ветер кидал навстречу, как плевки, клочья мокрого снега. Это кружила на улицах сырая мартовская метель, сквозь которую пробивалось неяркое желтое солнце.
Сильно закололо в боках. Севка пошел, отплевываясь от снега и вытирая мокрым рукавом лицо. Потом опять побежал…
Он бывал и раньше у мамы на работе, знал, где ее искать. В деревянном доме конторы пахло едкой известковой пылью, чернилами и ветхим картоном. Севка, топоча сапогами, взбежал на второй этаж. Мама работала в комнате номер три, слева от лестницы. Но сейчас… сейчас он увидел маму сразу. В коридоре. Она стояла у бачка с водой (такого же, как в школе) вместе с Раисой Петровной. Они рядом стояли. Вплотную друг к другу. Раиса Петровна положила голову на мамино плечо, а мама ей что-то говорила…
Грохнув последний раз сапогами, Севка остановился. Мама услышала его всхлипывающий вздох. Посмотрела…
Нет, она смотрела не так, как смотрят, если горе. Она вдруг улыбнулась. Качнула за плечи Раису Петровну и сказала:
— Раечка, смотри, вот он. Прибежал наш рыцарь…
Севка не сразу поверил счастью.
— Что? — громко спросил он у мамы.
Мама улыбалась. Раиса Петровна тоже улыбнулась, хотя лицо ее было мокрое.
— Ну что?! — отчаянно спросил у них Севка.
— Ничего, ничего, Севушка. Получше ей, — сказала мама. — Теперь, говорят, не опасно…
В конце коридора было широкое окно, за ним вперемешку с солнцем неслась, будто взмахивая крыльями, сумасшедшая от радости весенняя вьюга.
ВОТ ТАКАЯ РАЗНАЯ ВЕСНА…
Как награда за недавние страхи и тоску, пришли к Севке счастливые дни каникул. Безоблачные. Очень теплые, хоть в одной рубашке бегай во дворе (только мама не разрешает). Севкина оттаявшая душа рвалась к радостям. Он с утра убегал во двор, где добрый и безотказный Гарик всех ребят оделял своими «броненосцами» и закипали морские бои. Оказывается, в тот день, когда был самый первый бой, Гарьку ругали вовсе не за одежду, а за то, что не выхлопал половик. А лупить вовсе и не собирались. Поэтому Гарька сейчас не боялся сражений. А если уж очень промокал, Севка вел его к себе и сушил у печки.
Иногда вместо морской войны играли в сухопутную. За большой поленницей устраивали крепость и лепили гранаты из мокрого снега, который еще грудами лежал в тех углах двора, где было много тени. Снежные снаряды посвистывали в воздухе, ударялись о забор и прилипали к доскам серыми бугорками. От них тянулись вниз темные полоски влаги, и забор становился полосатым. У Севки придумались строчки:
От весны сверкает город, Солнце съело тучи. Полосатятся заборы От снежков летучих.Севку немножко беспокоило: есть ли такое слово — «полосатятся»? Но скоро он перестал об этом думать. Стихи сочинились легко и так же легко забылись. Даже в тетрадку Севка их не записал, не до того было. Он радовался вольной весенней жизни.
Альке становилось всё лучше, мама сообщала об этом каждый вечер. А в воскресенье она ска-зала:
— Можно сходить к Але в больницу.
— Как? — удивился Севка. — Это же заразная больница, в нее не пускают.
— А мы постоим под окнами. Согласен?
Севка почему-то смутился, засопел и кивнул. Оказалось, что больница совсем недалеко. Она была в доме, где раньше располагался детский сад. Тот самый, куда в давние времена ходил Севка.
Алькина палата была на втором этаже.
— Вон то окошко, — сказала мама. Она уже всё знала.
В окошке виден был большой круглоголовый мальчишка. Мама сложила у рта ладошки и крикнула:
— Женя, позови Алю Фалееву!
Мальчишка кивнул, исчез, и очень скоро в окне появился другой мальчик. Тощий, тоже остриженный наголо, с большими ушами. Он улыбался. Потом он встал на подоконник, открыл форточку и высунул свою большеухую голову.
Мама нетерпеливо посмотрела на Севку:
— Ну, что же ты? Поздоровайся с Алей.
Севка обалдело заморгал. Но тут же увидел: улыбается мальчишка знакомо, по-алькиному.
Севка опять смутился, зацарапал каблуком доску тротуара, потом сипло сказал:
— Здорово, Фалеева…
— Ох, Севка, Севка… — вздохнула мама и крикнула: — Аль, закрой форточку, простудишься!
— Не… здесь тепло.
— Закрой, закрой!
— А у нас из-за тебя карантин был, — сообщил Севка. Надо же было что-то сказать.
— Я знаю! — весело откликнулась Алька.
— Аля, закрой форточку!.. Что тебе принести?
— Книжку какую-нибудь! — обрадовалась Алька.
— Я принесу! — крикнул Севка.
Появилась девушка в белом халате, сняла Альку с подоконника, захлопнула форточку, погрозила маме и Севке пальцем. Алька прилипла носом к стеклу.
— Я принесу книжку! — опять крикнул Севка.
Алька закивала.
Севка и мама пошли, оборачиваясь и махая руками. И скоро Альку не стало видно, потому что в стекле отражалось очень синее небо и солнечный блеск.
— Какую же книжку ты ей отнесешь? — спросила мама.
— «Доктора Айболита», — решительно сказал Севка.
— Свою любимую? Тебе не жалко? Ее ведь не вернут из больницы.
— Пусть, — вздохнул Севка. Было, конечно, жаль, но что делать. Кроме того, Севка надеялся, что Алька прочитает, а потом бросит ему книжку в форточку.
На следующий день он пришел к больнице один. В окошке никого не было. Севка затоптался на тротуаре. Кричать он не решился. Кинуть снежком? А если не рассчитаешь и стекло высадишь? Вот скандал будет! И Альке влетит…
Пока он топтался, Алька сама появилась в окошке. Севка обрадованно замахал «Доктором Айболитом». Алька закивала, открыла форточку, спустила на длинной бечевке клеенчатую хозяйственную сумку. У них там, в больнице, видать, всё было продумано.
«Айболит» уехал в сумке наверх.
— Когда прочитаешь, спусти обратно!
— Конечно!
— Ладно, закрывай форточку, а то попадет!
— Ага… А ты еще придешь?
— Завтра!.. Тебя когда выпустят?
— К Первому мая!
До Первого мая было еще больше месяца. Севка вздохнул про себя и бодро сказал:
— Ничего. Это скоро.
Чтобы немножко поболтать с Алькой или просто помахать ей рукой, Севка стал прибегать каждый день.
Впрочем, дней в каникулах оказалось не так уж много, и пролетели они стремительно. И в самый последний из них Севка спохватился: «Батюшки, а уроки?!» Те самые упражнения и примеры, которые Гета Ивановна задала на дом из-за карантина.
Нет, Севка не стал надеяться на чудо: Гета, мол, забудет и не спросит. Севка проявил силу воли. С утра сел за стол и к середине дня сделал все задания. Примеры и задачки оказались нетрудные. С упражнениями было хуже — длиннющие такие. И нельзя сказать, что Севка очень следил за почерком, когда их дописывал. Но зато он сделал всё, что задали. И с облегчением запихал учебники и тетради в сумку. Впереди было еще полдня свободы…
А потом пришло первое апреля.
Считается, что это очень веселый день. Можно всех обманывать, устраивать всякие хитрости. Идешь, например, по улице и говоришь прохожему: «Дяденька, у вас шинель сзади в краске». Дяденька начинает вертеться, будто котенок, который ловит свой хвост. А потом всё понимает, но не сердится, только смеется и грозит пальцем. А еще можно придвинуть к дверям Романевских табуретку с пустым ведром, поколотить в стенку и заорать: «Римка, ты что?! Заснула? У тебя на кухне картошка подгорела!» — «Ой, мамочки!»
Дверь — трах, ведро — дзинь, бах! Римка: «А-а-а-а!»
Но омрачается этот день тем, что после веселых каникул надо топать в школу. И как назло — понедельник, до выходного целая вечность.
Погода была согласна с хмурым Севкой. Сеял дождик. Он съедал у заборов остатки снега и рябил в лужах воду. Лужи были серые, совсем не такие, как на каникулах. Мокрые сердитые воробьи не галдели и прятались под карнизами. У них словно тоже кончились каникулы.
Но… все-таки пахло весной. И все-таки до лета оставалось меньше двух месяцев. К тому же в кинотеатре имени 25-летия комсомола шел «Золотой ключик», и мама обещала дать три рубля на билет. Всё это слегка утешало Севку. А в школе стало совсем весело. Там бегали, хохотали, спорили и старались обманом отправить друг друга в учительскую: тебя, мол, директор вызывает. На эту хитрость попался только доверчивый Владик Сапожков…
Когда сели за парты, к Севке опять подкралась печаль. Потому что рядом не было Альки. Но тут Гета Ивановна сказала, чтобы дежурные собрали у всех тетрадки по русскому языку, велела всем решать примеры, а сама села проверять, как написаны домашние упражнения.
Когда кто-нибудь начинал шептаться, она поднимала голову и говорила:
— Опять болтовня!.. У Светухиной вместо четырех упражнений одно, а она языком болтает! Будешь писать после уроков! А у Иванникова где задание? Тоже посидишь… Я вам не Елена Дмитриевна. Ей вы на шею садилися, потому что очень добрая, а на мне много не покатаетесь…
Севка не болтал: не с кем было. И даже не оборачивался, чтобы обмакнуть ручку, потому что сам принес пузырек с чернилами. Он спокойно решал и ничего не боялся, поскольку все задания у него были сделаны. И он удивился, когда услышал:
— А это что такое?.. Глущенко!
— Что? — опасливо спросил Севка и встал.
— Вот это! — Гета Ивановна ткнула длинным ногтем в страницу. — Это что, буквы? Это бессовестные каракули! Елена Дмитриевна твое царапанье терпела, я тоже долго терпела, а теперь — хватит! Иди сюда!
С нехорошим холодком в животе Севка подошел к столу. И беспомощно затоптался перед Гетой.
Гета Ивановна торжественно поднесла к Севкиному носу тетрадь и медленно разорвала ее.
— Вот так! Перепишешь всё! От корочки до корочки!
Севка обалдел от ужаса. Всю тетрадку? Всё, что он писал целый месяц! Там же еще с февраля упражнения!
— Вы, наверно, сошли с ума, — сказал он тоненьким голосом.
Тут же Севка сообразил, какие ужасные слова он произнес. И понял, что сию минуту обрушатся на него страшные громы и молнии. Он сжался. Но грома не было.
— А-а… — почти ласково пропела Гета Ивановна. — Я сошла с ума… Я, конечно, слишком глупая, чтобы учить такого знаменитого гения. Нет, вы поглядите на него! Ему письма пишут со всего Советского Союза, он у нас лучше всех!.. А я вот возьму да напишу этим ребятам, какой ты на самом деле! Вот хотя бы этому Юре Кошелькову из Ленинграда, пускай он знает, какой тут у нас поэт…
Она достала из классного журнала белый конверт, и на нем — внизу, где обратный адрес, — Севка сразу увидел ровные крупные буквы: «Юре Кошелькову». И тут же всё сделалось неважным. Всё, кроме письма. Потому что буква «Ю» была знакомая-знакомая. С длинной перекладинкой, пересекающей палочку и колечко.
Севка, замерев от счастья, потянулся к конверту. Но Гета Ивановна живо отдернула письмо:
— Нет, голубчик! Хватит с тебя писем. Получишь, когда всё перепишешь и вести себя научишься. А пока оно у меня полежит. И другие тоже.
Севке не нужны были другие! Только это!
— Отдайте! Это от Юрика! — отчаянно сказал он.
— Ну-ка, помолчи! Он еще голос свой будет тут повышать!..
— Отдайте! Это же от Юрика!
— А хоть от Пушкина! Если будешь орать, я его вообще… — Она встала и взяла письмо так, будто хотела разорвать. Как тетрадку!
Севка прыгнул и вцепился ей в локоть:
— Не надо!
Она стряхнула Севку:
— Ах ты, негодяй!
Но он опять прыгнул и вцепился. Гета Ивановна за шиворот выволокла его в коридор и потащила к дверям учительской. Но Севке было уже всё равно. Пусть его хоть убивают, лишь бы отдали письмо Юрика!
— Отдавайте! — со слезами кричал он. — Отдавайте немедленно! Это мое! Это от Юрика! Не имеете права! Отдайте сейчас же!
Гета Ивановна рывком втащила его в учительскую, и он мельком увидел растерянное лицо Нины Васильевны. Гета Ивановна толкнула Севку на середину комнаты:
— Полюбуйтесь! Закатил истерику! Говорит, что я дура!
Севка тут же повернулся к ней:
— Отдайте письмо!
Он попытался схватить конверт, но Гетушка оттолкнула Севкины руки и выскочила за дверь. Дверь захлопнулась, она была с замком. Севка заколотил по ней кулаками, загудела фанерная перегородка. Страх, что письмо исчезнет, был сильнее всего. И еще была ненависть.
— Отдайте! Отдайте!! — рыдал он. — Вы в самом деле дура! Я маме скажу! Отдайте письмо!!
Нина Васильевна схватила его за плечи, оттащила. Он упал на пол.
— Пусть отдаст! Отдайте! Это же от Юрика!! Неужели они не понимают, что это от Юрика?! Почему они такие?
Нина Васильевна подтащила его к дивану, попыталась усадить. Он упал лицом на клеенчатый валик. Его опять усадили. В учительской, кроме Нины Васильевны, были теперь еще какие-то люди.
— Ну, по… жалуйста! — дергаясь от рыданий, кричал Севка. — Ну, пожалуйста! От… дай… те!..
— Да вот, вот твое письмо…
И конверт оказался у него в руках. Севка прижал его к промокшей от слез рубашке.
— Успокойся, Глущенко… Ну тише, тише…
Однако Севка не мог успокоиться. Рыдания встряхивали его, как взрывы. Ему дали воды в стакане, но вода выплеснулась на колени и на диван.
И только через много-много минут слезы стали отступать. Но еще долго Севка вздрагивал от всхлипов. Из учительской ушли все, кроме Нины Васильевны. Та опять дала Севке воды, и он сделал два глотка.
— Вот видишь, до чего ты себя довел, — сказала Нина Васильевна.
Он довел? Это его довели! Севка всхлипнул сильнее прежнего.
— Ну ладно, ладно, перестань, — торопливо заговорила Нина Васильевна. — Посиди вон там и успокойся.
Она взяла его за плечи, увела в угол, к вешалке, усадила там на стул. А сама вышла. И кажется, заперла дверь.
Севка повсхлипывал еще минут десять, потом совсем затих. И в школе было тихо. Уже отшумела перемена и шел второй урок. А может быть, и третий.
Севка не понимал, зачем его сюда посадили. В наказание или просто так? И что будет дальше? Но эти мысли проскакивали, не оставляя никакой тревоги. Севка ничего не боялся и никуда не спешил. Главное было у него в руках — его сокровище, письмо Юрика. Севка сначала прижимал конверт к животу, а потом затолкал под рубашку. Распечатывать и читать сейчас он не хотел. Вернее, просто об этом не думал. Самое важное, что Юрик нашелся…
А она хотела порвать письмо!
Севка опять шумно всхлипнул. Погладил письмо под рубашкой. Сел на стуле боком и привалился щекой к спинке.
Забрякал звонок, зашумела еще одна перемена. Севка напружинился. Сейчас придут сюда учительницы, будут разглядывать его и, может быть, ругать. Гета уж точно будет. А что, если спрятаться за пальто на вешалке?
Открылась дверь, и вместе с Ниной Васильевной вошла… мама.
Мама несла Севкин ватник, шапку и сумку.
— Одевайся, — сухо сказала она.
Севка, глядя в пол, засуетился, запутался в рукавах. Мама, не говоря ни слова, помогла ему. Потом подтолкнула к двери. У порога напомнила:
— Что надо сказать, когда уходишь?
— До свидания, — пробормотал Севка.
На улице и следа не осталось от утренней пасмурности. Ни одного облачка. День сиял, было тепло, как летом, и улица была разноцветная. Севка глубоко и прерывисто вздохнул, будто вырвался из жуткого плена.
Однако мама тут же поубавила его радость. Она проговорила ледяным голосом:
— Видимо, ты просто сошел с ума.
— Не сошел… — слабо огрызнулся Севка.
— Нет, сошел. Только сумасшедший может сказать учительнице такие слова.
— Какие?
— Ты что, не помнишь?
— Не помню, — искренне сказал Севка.
— По-твоему, можно говорить учительнице, что она дура?
Севка знал, что нельзя. Но злые слезы опять подкатили к горлу.
— А тетрадку рвать можно?! А письмо…
— Ну тише, тише, тише… Кстати, что за письмо? Раньше ты на эти письма внимания не обращал, а тут устроил такой бой…
— Ну от Юрика же!
Неужели и мама ничего не понимает?
— От какого Юрика?.. Постой, это от мальчика, который тебе книжку оставил? Наконец-то!
— Вот именно… — всхлипнул Севка.
— Но почему же ты ничего никому не объяснил?
Севка даже остановился.
— Я?! Не объяснил?! Да я только про это и твердил изо всех сил! А они… А она… порвать…
— Хватит, успокойся… Перестань. Ведь письмо-то теперь у тебя.
Да, это верно, письмо у него. И, оттеснив едкую обиду, к Севке вернулась радость…
Когда пришли домой, мама умыла Севку, велела зачем-то выпить крепкого и очень сладкого чая. И спросила:
— Ну а что он пишет, Юрик твой?
И Севка наконец распечатал письмо.
В последний момент он испугался: а вдруг это всё же не тот Юрик? Или вдруг письмо не такое, какое ждет Севка. Может, Юрик просто пишет: ты, мол, книжку не принес тогда, поэтому вышли теперь по почте…
Нет, письмо было самое такое, о каком Севка мечтал!
Крупными твердыми буквами далекий друг Юрик писал ему:
...
«Сева, здравствуй!
Я прочитал стихи в газете и сразу понял, что это ты. Я тогда очень жалел, что мы больше не увиделись. Мама говорила, что ты напишешь письмо, только письма всё нет и нет. Я понял, что бабка не дала тебе адрес. Она была такая вредная и всегда ругалась. Но теперь ты напишешь, ладно? Я тебе тоже еще напишу. А потом мы всё равно увидимся обязательно. Я недавно был на берегу Финского залива. Это часть настоящего Балтийского моря. Напиши мне обязательно. Твои стихи очень хорошие.
Твой друг Юрик».
Письмо занимало целую страницу и еще немного на другой стороне. А ниже подписи цветными карандашами была нарисована картинка: синее море, пароход с черными трубами и дымом и со звездой на борту, желтый берег, а на берегу мальчишка в красной матроске. Он стоял спиной к пароходу, лицом к Севке. И улыбался, подняв тонкую руку…
Мама тоже прочитала письмо и внимательно посмотрела на картинку.
— Видишь, какой хороший у тебя товарищ…
Она погладила Севку по колючей голове. Сейчас она была уже не сердитая и не строгая. Рассказала, что за ней на работу пришла школьная уборщица тетя Лиза: вас директор вызывает, ваш сын там школу разносит…
— «Разносит», — горько хмыкнул Севка.
— Придется тебе завтра как следует извиниться перед Гетой Ивановной, — сказала мама. — Если не хочешь, чтобы тебя исключили из школы…
Извиняться — это хуже всего. Это такая мука — краснеть и давить из себя: «Простите, я больше не буду…» Но Севка понимал, что никуда не денешься.
Ладно, в конце концов, это будет лишь завтра. А сегодня он целый день будет перечитывать письмо, разглядывать картинку и сочинять длинный-длинный ответ.
Мама велела Севке сидеть дома и ушла на работу. Он забрался на мамину кровать, разгладил письмо на подушке. Прилег на него щекой… и тут же уснул. И спал, вздрагивая во сне, пока не пришла мама.
Утром Севка и мама пошли в школу вместе. В шумном вестибюле Севка затравленно поглядывал на ребят. Но те пробегали мимо, веселые и равнодушные. Потом он увидел Гету Ивановну. Она шагнула из учительской — в своем «мундирном» платье с эполетами и с указкой-шпагой в руке. Прямая, твердая, как ручка от метлы, ненавистная.
— Иди, — тихо и сурово сказала мама. И подтолкнула Севку.
Он скрутил в себе отчаянный стыд и пошел. Пускай уж сразу…
— Гета Ивановна, — тонко и громко проговорил он, задрав голову. — Простите меня.
— Что-что?.. А, это Глущенко явился! Что ты сказал?
— Простите, я больше не буду, — сбивчиво и тихо повторил Севка и опустил голову.
Гетушка хмыкнула и посмотрела мимо Севки. И увидела маму.
— Здравствуйте! А вы что пришли? Вы не волнуйтесь, мы сами с этим героем разберемся, идите на работу.
Севка украдкой, из-за плеча, глянул на маму. Она вздохнула и стала спускаться по лестнице.
И остался Севка опять один, без всякой защиты.
— И-интересное дело, — слегка нараспев произнесла Гета Ивановна. — Обругал ты меня при всем классе, а извиняешься в уголочке, в коридорчике. Нет уж, ты это делай на уроке при всех ребятах… Иди в класс!
Севка пошел. Разделся. Сел. Владик Сапожков сочувственно спросил с задней парты:
— Досталось, да?
Севка шевельнул плечом. Серега Тощеев сказал издалека:
— Гетушка хоть кого доведет…
— А я скажу, что ты обзываешься! — злорадно сообщила Людка Чернецова.
— А я тебе косы выдеру и пришью… — серьезно пообещал Тощеев, тут же уточнив, к какому именно месту пришьет Людкины косы. И Севке стало немного легче.
Но в это время протренькал колокольчик и появилась Гета:
— Садитесь все… И ты, Иванников, сядь, не торчи… Ну, Глущенко, что ты хочешь нам сказать?
Севка поднялся и молчал, переглатывая новую порцию стыда.
— Ну-ка, выйди к доске.
Севка пошел, цепляясь ботинками за шероховатые половицы.
— Ну-ка, встань здесь и посмотри всем в глаза.
Севка встал, но в глаза, конечно, никому не смотрел.
— Дак что же ты собираешься сказать? — с некоторой торжественностью спросила Гета Ивановна.
Ладно, пусть. Всё равно сейчас пытка кончится. И всё равно есть на свете Юрик, эту радость у Севки никто не отберет. Севка зажмурился и, будто прыгая в крапиву, выпалил:
— Извините, я больше не буду!
— Что ты не будешь?
— Плохо себя вести, — механически сказал Севка.
— И не будешь больше называть свою учительницу дурой?
— Не буду, — пообещал Севка. И в глубине души у него шевельнулась смешинка. Очень тайная.
— Ну и на том спасибо, — скромно и с печалью отозвалась Гета. Потом щелкнула замком портфеля. — А это возьми.
Севка поднял глаза. Гета протягивала порванную тетрадь.
— К тому понедельнику всё перепишешь, как было сказано.
Что это? В самом деле? Она не забыла?
Целую тетрадь переписать! За шесть дней!
Холодное отчаяние накрыло Севку с головой.
— Не буду я ничего писать, — устало сказал он.
— Ты что?! Опять?! Будешь! Я своих слов назад не беру.
— А я беру, — сказал Севка. Ему было уже всё равно.
— Что ты берешь?
— Свои слова. Извинения, вот что! — крикнул Севка. — Не хочу я перед вами извиняться!
Потом его опять вели в учительскую и там что-то говорили и кричали. И опять Севка долго сидел в углу у вешалки, закостенев от тихой тоски. Он понимал, что теперь в его жизни всё хорошее кончилось навечно. И пусть кончилось…
Пришла мама. Вздыхая и покачивая седой головой, Нина Васильевна сказала, что ей очень жаль, но поведение Севы Глущенко стало совершенно ужасное. Такое ужасное, что учительница отказывается с ним заниматься. И ничего не поделаешь, Сева Глущенко заслужил суровое наказание. Придется его исключить из школы. На неделю…
ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА
Мама не ругала Севку. Нисколько не ругала. По дороге из школы она молчала, но не сердито, а как-то задумчиво. А дома сказала:
— Ну вот, достукался… Будешь теперь заниматься сам. Каждый день будешь решать и писать то, что я задам. А то запустишь учебу и останешься на второй год.
— Ну и пускай останусь, — буркнул Севка. — Зато Гетушки там не будет.
Мама не стала спорить. Отметила для Севки в задачнике два столбика примеров, а в учебнике по русскому упражнение и ушла в свое Заготживсырье.
Уроки Севка сделал быстро. Даже удивительно быстро. И… затосковал. Непонятно отчего. Раньше, когда случалось одному сидеть дома, Севка и не думал скучать. Даже радовался: можно заняться чем пожелаешь. Хочешь — книжку читай, хочешь — стихи сочиняй или сказки придумывай, хочешь — строй самолет из стульев или кукольный театр устраивай… Но сейчас ничего не хотелось. И тишина в доме была не такой, как прежде, и комната не такая, как всегда. И день за окном светил как-то непривычно.
И Севка понял наконец, почему это. Потому что сам он был не такой. Он был и с к л ю ч е н н ы й.
В прошлом полугодии у них в классе на целых две недели исключили Борьку Левина — за то, что прогуливал уроки, дрался и шарил по карманам в чужих пальто. Севка тогда смеялся про себя: что за наказание! Две недели свободы подарили человеку.
Но оказывается, несладко от такой свободы.
Нет, Севка не стал раскисать. Все-таки он был не нытик, не клякса какая-нибудь. Тем более, что исключили его несправедливо, не виноват он ни в чем, а виновата одна лишь зловредная Гета. И не будет он ни капельки переживать и мучиться. А будет он писать Юрику ответ на письмо, вот!
Севка аккуратно вынул из тетрадки со стихами двойной чистый лист и опять сел к столу. И написал очень-очень аккуратно: «Здравствуй, Юрик».
А что писать дальше?
Два дня назад Севка написал бы, что собирается вступать в пионеры. Про весну написал бы, про морские бои во дворе и про скворечник — его повесил на шесте над забором Гришун, и там уже поселилось певучее скворчиное семейство.
А теперь что писать? «Здравствуй, Юрик, меня сегодня исключили из школы…»
Нет, можно, конечно, и про это. Можно рассказать Юрику про всё, что случилось. Юрик обязательно поймет. Он тоже возненавидит Гетушку, а Севку сдержанно, по-дружески пожалеет…
Но писать про вчерашний и сегодняшний случай было тошно. Опять всё переживать заново…
А если не про это, а только про весну? Но весна — это было сейчас не главное. При чем тут весна, когда на душе черным-черно?
Захлопали двери в коридоре, послышалось песенное мурлыканье:
Клен кудрявый,
Клен зеленый, лист резной…
Здравствуй, парень… трам-там-там…
Это вернулась из школы Римка. Через полминуты она стукнула в Севкину дверь.
— Чего тебе? — сумрачно отозвался он.
— Сев… А правда, что тебя из школы исключили?
— Иди к черту, дура! — гаркнул Севка.
Римка хихикнула и пошла к себе.
Клен кудрявый…
Севка беспомощно посмотрел на дверь. Зачем заорал на Римку? Может, лучше было бы впустить ее и рассказать всё по-хорошему? Римка в общем-то не злая и не такая уж глупая. Наверно, посочувствовала бы. А теперь всем разболтает… Хотя и так, наверно, все знают…
Ну и пусть! А чего ему стыдиться? Он по чужим карманам не лазал, стекла не бил, с уроков не бегал…
Севка решительно встал. Письмо он потом напишет. Может быть, не просто письмо, а стихи сочинит — про то, как он когда-нибудь приедет в Ленинград и они с Юриком обязательно встретятся. На берегу Финского залива…
Севка вышел во двор. Лужи обмелели, земля местами просохла. Было совсем тепло. Севка распахнул ватник и подумал, что можно ходить уже не в шапке, а в пилотке, которую подарил Иван Константинович. (Как он теперь живет, что с ним? В конце февраля было одно письмо, что доехал благополучно, встретился с женой и дочкой, а больше — ни гугу… А в его комнату въехал внук Евдокии Климентьевны Володя с женой, потому что у них скоро будет ребенок.)
У кирпичной стены пекарни на сухой и утрамбованной полоске земли играли в чику Гришун, Петька Дрын из соседнего двора и незнакомый мальчишка. Севка подошел и стал смотреть.
— Чё зыришь? — неласково сказал длинный Петька Дрын. — Хошь играть — играй… Или мотай отсюда.
— Денег нет, — вздохнул Севка.
— Ну и… — начал Петька, но Гришун сказал:
— Пускай глядит. Не кино ведь, билеты не берут. — Потом спросил у Севки: — Хочешь пятак в долг?
Севка помотал головой:
— Не… Я всё равно проиграю… — И самокритично добавил: — У меня меткость еще не развитая.
— Сам ты весь неразвитый, — заметил Дрын.
Севка снисходительно промолчал. Уж кто-кто, а Дрын бы не вякал. Он по два года сидел в каждом классе и к тринадцати годам еле дотянул до четвертого.
Третий мальчишка — верткий, чернявый, с длинными грязными пальцами, — не говоря ни слова, метал биток и аккуратно обыгрывал и Дрына, и Гришуна. Когда у тех кончились пятаки, он молча ссыпал мелочь в карман длиннополого пиджака и, не оглядываясь, пошел со двора.
— Фиговая жизнь, — задумчиво подвел итог Гришун. И тоже побрел куда-то.
Севка догнал его:
— Гришун… А помнишь, ты говорил, что, когда весна будет, свисток мне сделаешь из тополя.
— Не. Не помню… Да ладно, сделаю. Там работы — раз чихнуть. Только ветку добудь свежую.
— Я добуду.
Гришун шел к себе в стайку — сарайчик, в котором лежали дрова, хранилось разное барахло и стоял верстак. Севка не отставал, а Гришун не прогонял.
В стайке Гришун деловито оглядел стенку с развешанным инструментом и сообщил:
— Надо мамке полку для кухни сколотить, а то ругается: некуда кувшины ставить.
— А ты почему не в училище? — осторожно спросил Севка и подумал: «Может, тоже исключили?»
— Мы сейчас на заводе вкалываем, а нынче отгул.
— Прогул? — удивился Севка.
— От-гул. В воскресенье работали, а сегодня вместо него гуляем…
Гришун потянул с поленницы доску. Севка посмотрел на него и сказал неожиданно:
— А меня из школы исключили. На целую не-делю…
— Ух ты! — удивился Гришун. Даже доску оставил. — Правда, что ли?
— Ага.
Гришун подумал, сел на верстак, приподнял за локти и посадил рядом с собой Севку. Спросил с интересом и сочувствием:
— За что тебя так? Ты же еще маленький.
— А вот так… — Севка вздохнул и покачал ботинками. И начал рассказывать.
Гришун слушал со спокойным вниманием, иногда покачивал головой: понятное, мол, дело. И Севка рассказал всё как было. Даже не стал скрывать, что долго плакал в учительской.
Когда он кончил, Гришун задумчиво проговорил:
— Вот ведь какая она… — и добавил про Гетушку такие слова, что у Севки полыхнули уши. Но всё равно Севка был доволен.
Гришун сказал:
— А свисток я сделаю. Только ветку надо найти подходящую…
После разговора с Гришуном у Севки на душе полегчало. Вечером он до самого сна читал «Пушкинский календарь» и думал, сколько несправедливости испытал в жизни Пушкин. В ссылки его отправляли, травили по-всякому и убили, наконец. А ведь он был великий поэт, а не какой-то Севка Глущенко.
Спать Севка лег усталый и успокоенный.
Но наутро Севка опять почувствовал, какой он неприкаянный. Он скрыл от мамы тоску и беспомощную тревогу, но, когда мама ушла на работу, надел ватник и пилотку, взял сумку и пошел из дому. Будто в школу…
И так он стал делать каждое утро.
Близко к школе Севка не подходил — увидят, и шум поднимется: «Эй, глядите, Глущенко приплелся! Исключенный Пуся пришел!»
Иногда Севка прятался в Летнем саду под рассохшейся деревянной эстрадой и печально играл там, будто он Том Сойер, заблудившийся в темной пещере. Но долго в сумраке и застоявшемся холоде не поиграешь. И чаще всего Севка просто бродил по улицам и смотрел на весну.
Весне дела не было до Севкиной беды. Она хозяйничала в городе. Снег остался только в темных углах, а у заборов проклевывались травинки и похожие на сморщенную капусту пучки лопухов. Несколько раз Севка даже видел коричневых бабочек.
Севка старался уходить подальше от дома — на те улицы, где его не могли увидеть знакомые. И шагать старался не лениво, а озабоченно: я, мол, не болтаюсь просто так, а иду по своим делам.
Но если поблизости не было прохожих, Севка устало замедлял шаги. Иногда отдыхал на лавочке у чьих-нибудь ворот, а бывало, что садился на корточки и рассматривал гибкие травяные стрелки. Это были первые разведчики будущего лета. Лето всё равно придет. Придет несмотря ни на что на свете. Несмотря на Севкины несчастья. Мысли об этом слегка утешали Севку. Он трогал мизинцем щекочущие кончики травинок и при этом почему-то вспоминал Альку.
Все эти дни Севка не навещал Альку. Даже близко не подходил к больнице. Потому что думал: вдруг Алька от своей мамы знает, что его исключили? Вдруг начнет громко расспрашивать из окна, как это случилось? Хотя нет, расспрашивать не станет, она понятливая. Но всё равно стыдно будет: не потому, что он в чем-то виноват, а потому, что такой вот… несчастный какой-то, прибитый…
Иногда, шагая по просохшим деревянным тротуарам, Севка начинал сочинять письмо Юрику. То в стихах, то обыкновенное. Но мысли убегали, первые же строчки разваливались и забывались. И скоро Севка окончательно понял, что эти пустые несчастливые дни — не время для письма.
В середине дня Севка приходил домой — как все школьники. Прибегала на обед мама, торопливо кормила Севку. Про школу она не говорила и не упрекала его. Только была какая-то невеселая.
Кажется, мама догадывалась о Севкиных прогулках. Один раз она сказала с печальной усмешкой:
— Загорел-то как под весенним солнышком. Небось целыми днями на улице…
— Не целыми, — буркнул Севка. — Я уроки делаю.
Он в самом деле подолгу сидел за учебниками и тетрадками. Писал и решал гораздо больше, чем задавала мама. И это было совсем не трудно. И на душе легче делалось: все-таки не совсем разжалованный из учеников — хотя и дома, но занимается…
С Гариком Севка не играл, к Романевским не заходил. Во дворе Севка виделся только с Гришуном. Гришун сам нашел нужную ветку и сделал Севке громкий тополиный свисток. На следующее утро Севка развлекался свистком в Летнем саду. Свистеть он научился по-всякому: протяжно и с перерывами, ровно и переливчато. А потом Севка сделал открытие: когда мелко дрожит кончик языка (будто говоришь букву «Р»), получается милицейская трель. Как у постового на углу улиц Республики и Первомайской.
Севка решил испытать свисток: напугать кого-нибудь. Раздвинул в заборе доски и выглянул из сада на улицу. Севке «повезло». По другой стороне шагал не кто-нибудь, а железнодорожный милиционер — в черной шинели с серебряными пуговицами, в кубанке с малиновым верхом и с казацкой шашкой на ремне. Севка не удержался. Зажмурился от собственного нахальства и дунул: «Тр-р-р-р…»
Милиционер остановился и смешно заоглядывался. Севка отпрыгнул от забора, с колотящимся сердцем продрался в лазейку под эстрадой и притих. Было весело, но еще больше было жутко. Если поймают и отведут в школу, тогда уж исключат не на неделю, а насовсем. С милицией шуточки добром не кончаются.
Но никто не стал Севку разыскивать. Он понемногу успокоился, озяб и выбрался на солнышко. Ватник и штаны были в мусоре, оба чулка на коленях продрались. Так и придется ходить. Альки рядом нет, зашить некому… А ведь были когда-то хорошие времена: сядешь за парту, а рядышком Алька, и в классе не Гетушка, а нисколько не сердитая замечательная Елена Дмитриевна. Давно это было. А сейчас…
Но как бы плохо ни было сейчас, а Севка вдруг понял, что соскучился по школе. Не по Гетушке, конечно (чтоб она совсем провалилась куда-нибудь), а по классу, где пахнет чернилами и дымком от печки. По тренькающему колокольчику тети Лизы. По Владику Сапожкову, по Сереге Тощееву, даже по вредной Людке Чернецовой… Даже по тишине во время письменных заданий, когда только скрипят и царапают шероховатую бумагу перья и надо с замиранием стараться, чтобы получались буквы, а не каракули…
И Севка не выдержал.
Воровато вертя головой, он пробрался в школьный двор, залез на кирпичный выступ, что тянулся в полутора метрах от земли и отделял подвал от главного этажа. Царапая пуговицами кирпичи, Севка двинулся к окнам своего класса.
Подоконники были на уровне носа. Севка раскинул руки, встал на цыпочки и, чтобы не слететь с карниза, прижался к стене грудью, коленками и растопыренными ладошками. Зацепился подбородком за нижний край оконной ниши.
Он увидел головы и плечи ребят, увидел Гету Ивановну. Ребята, кажется, что-то списывали с доски. Гета, как всегда похожая на преображенского офицера, ходила между рядами.
Севка провел глазами по косичкам одноклассниц и стриженым макушкам одноклассников. Там, где стояла Севкина и Алькина парта, голов, конечно, не было. А дальше — Владик Сапожков и Людка Чернецова. Людка писала, сердито сжав губы, а Владик чему-то улыбался. Севка тоже тихонько улыбнулся. Оттого, что он видит ребят, в нем шевельнулась ласковая и грустная радость.
А вон Серега Тощеев. Он вовсе не пишет, а что-то мастерит из листка. Наверно, голубя. Хочет пустить его под потолок. Вот Гетушка завопит: «Кто?! Оставлю после уроков!» Но Серега не очень-то боится Гетушку.
Тощеев то ли ощутил Севкин взгляд, то ли просто решил поглядеть в окно. Повернулся… и встретился с Севкой глазами. Севку от затылка до пяток прошило игольчатым страхом. Сейчас Тощеев радостно заорет: «Гуща в окошко глядит!» И что поднимется в классе!
Серега не заорал. Он просто смотрел. Его глаза будто жалели Севку.
«Не шуми, ладно?» — молча и отчаянно попросил Севка. И Тощеев понял. Он опустил ресницы. И, будто ничего не было, стал опять мастерить голубя. Для будущей радости Гетушке!
А Севка наконец почувствовал, какая здесь холодная стена. Солнце никогда не согревало ее, и кирпичная кладка будто впитала в себя всю стужу недавней зимы. Стена даже сквозь ватник холодила грудь, а ладони и коленки совсем заледенели. Севка зябко передернулся, попрощался глазами с классом и прыгнул вниз.
Он упал на четвереньки, разбрызгав грязь и воду из мелких лужиц. Поднялся, вытер о ватник ладони, повернулся… и увидел Нину Васильевну.
Он ее не сразу узнал. Он привык видеть директоршу в строгом синем платье, а сейчас это была старушка в сером шерстяном платке и потертом пальтишке.
Сперва они смотрели друг на друга молча. Потом Севка стыдливо сказал:
— Здрасьте…
— Здравствуй, — вздохнула Нина Васильевна. — Здравствуй… И что же ты здесь делаешь, Глущенко Сева?
Севка опустил голову. Переступил в лужице грязными ботинками… Но он был не из тех, кто долго стоит с опущенной головой, если не виноват. Он посмотрел на Нину Васильевну и негромко сказал:
— Я смотрел. Я ведь не заходил в школу, я отсюда смотрел. И никому не мешал.
— Вот видишь… — с укоризной начала Нина Васильевна и вдруг замолчала. И Севка вдруг понял ее, будто между ними протянулся тонкий проводок, чтобы слышать мысли. Нина Васильевна хотела сказать: «Вот видишь, Глущенко, к чему привело твое нехорошее поведение». И подумала: «А зачем? Всё равно он не будет считать себя виноватым. Он поймет, что я говорю это просто так: потому что я директор, а он второклассник…»
И она спросила:
— Соскучился по школе?
Севка подумал.
— По ребятам соскучился, — уклончиво сказал он.
Нина Васильевна, совсем как обычная бабушка, покивала и повздыхала. Наклонилась, заглянула Севке в лицо:
— Вот что… Сева. Пойдем-ка со мной в класс. Извинишься перед Гетой Ивановной, и будем считать, что кончилось твое исключение.
Все жилки в Севке радостно рванулись и запели: в класс!
Но…
— Нет, — сказал Севка.
Нет. И не потому, что надо извиняться. Это Севка как-нибудь перетерпел бы. Он сказал «нет», потому что иначе всё опять станет неправдой: Гета решит, что он почувствовал себя виноватым.
А ребята скажут: «Директорша поймала Пусю во дворе и привела извиняться».
— Нет, — опять сказал Севка и даже замотал головой и зажмурился.
— Ну, что же ты такой… упрямый? Так и будешь болтаться по улицам, пока не кончится твой срок?
Севка опять поднял глаза:
— Я не болтаюсь. Я уроки учу каждый день. Сам…
Она опять вздохнула и вдруг сказала то, что, наверно, не должен говорить директор:
— Не знаю, как мне вас помирить… А давай переведем тебя во второй «Б». Согласен? К Ирине Петровне. И Бог с ней, с Гетой Ивановной… А? Прямо сейчас и пойдем.
Во втором «Б» Севка знал почти всех ребят. Классы-то рядышком. Нормальные были ребята. А Ирина Петровна в тысячу, нет, в миллион раз лучше Гетушки. Хоть и кричит иногда, но не сердито нисколько. И с ребятами даже в хороводе иногда поет.
Но тогда как же…
— А как же Алька? — растерянно спросил он.
— Какая Алька?
— Ну… Фалеева. Мы с ней рядом сидим.
— А, это та девочка, которая сейчас в больнице? Вы с ней дружите?
Севка потупился и кивнул.
Нина Васильевна озабоченно сморщила лоб:
— Но ведь она столько пропустила из-за болезни. И еще пропустит. Я боюсь, не останется ли она на второй год.
— Она же не виновата!
— Я понимаю, Сева. Но знаний-то у нее всё равно не будет.
— Будут! — испуганно пообещал Севка. — Она догонит, она старательная…
— Ну хорошо, хорошо… А с тобой-то что делать?
Севка тихонько пожал плечами. Что с ним делать? Сегодня пятница, а во вторник он пойдет в школу. Осталось потерпеть два дня, потому что воскресенье не считается.
— Можно я пойду домой? — спросил Севка.
— Что ж… Ступай… Ох, а забрызгался-то как. И чумазый. И дырки вон…
— Я почищусь дома. И зашью, — пообещал Севка. — До свидания.
И он пошел со школьного двора.
В школе еле слышно забренчал звонок, и это значило, что сейчас на улицу выскочат ребята. Но Севка не бросился бежать или прятаться. Что-то произошло с ним. Он теперь не стыдился и не боялся. Ему даже хотелось: пускай повстречаются одноклассники. Не будут они дразниться. Тощеев недавно вон как по-хорошему взглянул.
Но в эти минуты Севку ждало еще одно испытание — внезапное и тяжкое.
Он был уже на улице и остановился у парадного школьного крыльца, когда распахнулись двери и стали выходить ребята. Именно выходить, а не выскакивать. Это были четвероклассники. Они сразу становились по трое. Длинный, очень серьезный мальчишка в танкистском шлеме вынес на плече свернутое знамя и встал впереди. На остром наконечнике неудержимо засияло солнце. Рядом со знаменосцем встали трубач с помятой, но сверкающей трубой и барабанщица. У барабана были празднично-красные бока и блестящие обручи.
Севка задохнулся от безнадежной зависти и тоски.
Да, было время, когда он верил, что скоро станет таким же. Будет повязывать треугольный сатиновый галстук (вон как они алеют своими узелками из-под воротников!). Будет, замирая от счастья, шагать в строю под громкий рокот барабана и бодрые выкрики горна.
Не будет… После того, что случилось, кто его примет?
А ребята всё выходили и строились. Наверно, пойдут на сбор в Клуб железнодорожников. А может быть, даже на экскурсию в пехотное училище.
Севка не уходил. Смотрел. Понимал, что лучше уйти, не терзать себя, но стоял. Появилась вожатая Света. А следом за Светой вышла о н а… всё такая же строгая, красивая. В коротком аккуратном пальтишке, новых блестящих ботиках и синей вязаной шапочке. Галстук у нее был повязан поверх пальто.
Она прошла совсем рядом и заметила Севку. Он не шевельнулся, но сжался внутри. И она сказала то, что должна была сказать:
— А, это Глущенко… Эх ты, а еще собирался в пионеры.
Из последних сил Севка сделал спокойное лицо и стал смотреть поверх голов.
Загудел барабан, отрывисто засигналила труба, и шеренги, прогибая доски тротуара, двинулись от школы.
И Севка двинулся. Но не за ребятами, а в другую сторону…
Задавленный тоской, глотая застывшие комки слез, он побрел наугад и оказался в проулке позади библиотеки. Это был проход между высоким деревянным забором и глухой стеной какого-то длинного склада. Здесь редко кто появлялся. Неподалеку были удобные проходы с тротуарами, а этот пересекал пустырь, на котором сейчас от края до края разлилась лужа.
Севка постоял на берегу. Посмотрел на отраженные облака — желтые и пушистые, на радужные нефтяные разводы. Идти обратно не хотелось. К стене склада лепилась полоска просохшей земли, там бы-ла тропинка. Севка двинулся туда и наткнулся на три доски, сбитые крепкими перекладинами. Это был приплывший откуда-то мосток.
Севка с большим усилием спихнул доски на воду. Подобрал в прошлогоднем бурьяне длинную гнилую рейку. Встал на доски.
Плот опасно качался. Эта опасность приятно погладила Севку щекочущей ладошкой. Слезы уже не давили. Впереди было хотя и маленькое, но все-таки приключение.
Севка вышел на середину плота, постоял, проверяя равновесие. Оттолкнулся рейкой. Плот медленно пошел. Он раздвигал редкие верхушки торчащего из-под воды бурьяна. Вода разбегалась от досок солнечными зигзагами. Доски покачивались. И Севка впервые в жизни ощутил волнующую радость движения по воде. Чувство Плавания… Кончилось плавание не совсем хорошо. Лужа была глубокая, рейка уходила в воду больше чем на полметра. А в одном месте совсем не достала дна — угодила в яму. Севка потерял равновесие и, чтобы не свалиться, соскочил в воду.
В яму он не попал, воды оказалось по колено. И была она не такой уж холодной — видимо, апрельское солнце прогрело это «море» до дна. Крушение случилось недалеко от края лужи, к которому плыл Севка. Он выбрался на берег, потом вздохнул, вернулся в воду и выволок на землю свой «корабль».
Трехметровые доски перегородили тропинку. Одним концом плотик уперся в стену склада, а другой конец остался в воде.
Севка подумал, снял ватник, расстелил на досках у стены. Сел на него. Разулся. Вытряхнул из ботинок воду, расстелил на солнышке мокрые чулки. Привалился спиной к бугристой штукатурке и закрыл глаза. Стало спокойно. Штукатурка была нагретая. Лучи солнца были теплые. Совсем как летом они припекали сквозь рубашку плечи и грудь, ласковыми ладошками гладили ноги. И тихо было так, что чувствовался даже шелест крыльев бабочки, которая залетела в этот прогретый безветренный переулок.
Севка испытывал, видимо, то чувство, которое заменяет радость жизни очень старым и утомленным людям: можно тихонько радоваться солнцу и никуда не спешить.
Севка не спешил. Куда торопиться? Ничего хорошего в будущем его всё равно не ждало. В пионеры не примут. Гета не оставит в покое.
Алька выйдет из больницы еще очень не скоро. И наверно, останется на второй год. Нина Васильевна не стала бы зря говорить. А в другом классе Алька сядет с другим мальчишкой и подружится с ним. Потому что мальчишка этот не будет свиньей, как Севка, и сразу поймет, какая Алька хорошая… А он, конечно, свинья, целых пять дней не подходил к больнице.
Была, правда, у Севки последняя радость: Юрик. Но Юрик так далеко, а письмо написать Севка до сих пор не собрался. И стихи для Юрика сочинить не сумел…
И вообще он никогда не сможет сочинить никаких настоящих стихов и никогда не сделается поэтом и писателем. Одно только более или менее хорошее стихотворение придумал — про папу, — да и то самая лучшая строчка не его, а Пушкина. А другие стихи — совсем чушь. Если бы не было лень шевелиться, можно было бы прямо сейчас вырвать из тетрадки все листки и сделать из них кораблики. Легко и бездумно Севка пустил бы их на воду.
Но двигаться не хотелось. Севка не шевельнулся, а только открыл глаза.
Небо над ним было очень синим, а маленькие кудрявые облака веселыми и быстрыми. Что им до Севки и его горестей! Они бежали к солнцу. Башня библиотеки — светло-желтая от солнца и голубоватая от теней, легкая, кружевная — словно плыла навстречу облакам, надвигаясь на Севку. Глядя на эту вырастающую из-за серого забора церковь, Севка опять подумал о своем Боге. Может быть, все беды из-за того, что Бог рассердился за тот последний разговор? Ведь Севка сказал тогда: «Ну и пускай не принимают в пионеры…» Но эта мысль скользнула и ушла, не взволновав Севку. Понимал Севка, что Бог не стал бы ему мстить. Что он, такой мелочный, что ли? Не стал бы он придираться к словам несчастного второклассника, который плачет в подушку. А кроме того, Севка знал — не только сейчас, но всегда знал в глубине души, — что этот седой старик на крыльце заоблачной башни — сказка. Одна из тех сказок, что придумывал Севка, чтобы жизнь была интереснее и радостнее.
А теперь сказка кончилась. Какие тут сказки, когда не Змеи Горынычи, не Бабы Яги, не страшные сны и опасливые мысли, а настоящие злые люди принесли Севке настоящую беду.
Когда Севка стал большой, он много думал, почему зло часто бывает сильнее, чем добро. Почему нахальные, жадные, нахрапистые люди побеждают хороших и великодушных? Почему умные и добрые иногда боятся злобных, безграмотных, безжалостных, тупых? Ведь и Нина Васильевна почему-то боялась Гету. Он понял до конца это после, но смутно чувствовал и в тот горький день.
Когда Севка вырос, он научился отвечать на такие вопросы. Научился даже давать отпор тем, кто делает зло. Не всегда получалось, но он старался. Отвечал иногда словами, иногда делом, а если надо, то и проще — по зубам. Но всё это было потом, а пока он сидел и думал: «Почему же так?»
Почему Нина Васильевна не возьмется сама учить второй «А» и не велит, чтобы Гета убиралась работать сторожем дровяного склада или продавщицей в рыночном киоске, — там ори и ругайся сколько хочешь. Почему вожатая Света не подойдет и не скажет: «Сева Глущенко, мы во всем разобрались и считаем, что ты всё же должен стать пионером». Почему не придет поскорее май и не выйдет из больницы Алька и не скажет тихо, но решительно: «Не буду я оставаться на второй год. Ни за что на свете…»
Если бы всё это случилось, это было бы лучше всяких сказок. Севка не знал, что со временем так всё и случится. Кроме одного: Гета уйдет не в сторожа и не в продавцы, а в инспекторы гороно. Она слегка располнеет, заведет шляпу, не станет больше говорить «по?льта» и «на лошаде?» и научится мило улыбаться. Но это не важно. Главное, что она уже не бу-дет учить ребят…
Ничего этого Севка не знал. Он сидел, вытянув ноги, прижимаясь к штукатурке, и глядел на башню и облака.
Потом опять закрыл глаза. Смотреть не хотелось, шевелиться тоже. Хорошо, что сидеть так придется долго: чулки и ботинки высохнут не скоро…
Когда послышались шаги на тропинке, Севка глаз не открыл. Только подтянул ноги, чтобы дать человеку пройти. Пусть проходит и ни о чем Севку не спрашивает. Севка никому не мешает, пусть его не трогают.
Но человек не прошел. Он сделал последний шаг — тяжелый и твердый — и остановился над Севкой.
— Мальчик, где школа номер девятнадцать? — негромко и как-то даже робко спросил мужчина. — Я тут совсем заблудился…
Севка и сейчас не открыл глаз, только махнул вдоль переулка рукой.
— А ты не из этой школы?
— Из этой, — сказал Севка. Ему было всё равно.
— А может быть, ты знаешь одного мальчика… из второго класса?..
Севка ощутил некоторый интерес. Правда, не настолько сильный, чтобы шевелиться. Но спросил всё же:
— Из «А» или из «Б»?
— Кажется, из «А». Да, из «А». Его зовут Сева Глущенко.
Севка насторожился, но тут же опять ослаб. Пусть. Одной бедой больше или меньше — какая разница. Он сразу понял, в чем дело: это железнодорожный милиционер, которого Севка подразнил свистком. Значит, заметил, запомнил, расспросил ребят, узнал имя… Не шевельнув головой, Севка поднял веки и скосил глаза на ноги мужчины.
Милиционеры ходят в сапогах, а Севка увидел начищенные ботинки. Забрызганные, но всё равно блестящие. Солнце горело на них желтыми искрами. Над ботинками нависали края черных суконных брюк с очень острыми складками.
По лезвиям складок Севкины глаза сами плавно заскользили вверх и зацепились за край черной шинели. С этого края, как с трамплина, они прыгнули выше и увидели опущенную руку в черной перчатке. Тугая, по неживому скрюченная перчатка прижимала к шинели знакомый до буковки номер «Пионерской правды».
Севкины глаза опять метнулись — вверх и наискосок. И по ним ударили медной вспышкой две пуговицы с якорями. Это был не только блеск. Это был как бы двойной удар колокола, которым на кораблях отбивают склянки: ди-донн…
И еще две пуговицы. Колокол — уже не корабельный, а громадный — ахнул над головой: бам-бах!..
И еще — во всё небо: тах! тамм!..
Над двойным рядом пуговиц, над черным ворот-ником и белым шелковым шарфом Севка увидел лицо с бритым, чуть раздвоенным подбородком. Лицо расплывалось, но четко-четко был виден маленький шрам, похожий на букву «С»…
Высоко-высоко над собой видел это Севка…
Он сидел еще очень долго. Миллионы отчаянных мгновений, которые слились в неслыханно долгую секунду. Потом тысячи пружин рванули Севкино тело вверх. Он ударился лицом о шинель и сразу утонул в ее спасительной, колючей, пахнувшей сукном черноте.
…И над полярными островами, над зубьями изъеденных снежным ветром скал тучи и тучи птиц поднялись от неистового Севкиного крика.
1982 г.
СТЕКЛЯННЫЕ СКАЗКИ СИМКИ ЗУЙКА роман совпадений
Памяти моего младшего брата Олега,
памяти нашего детства…
Часть первая СТЕКЛА
СТАРИННЫЙ ПЯТАК
Разве можно было ждать, что лучистое, пересыпанное желтыми одуванчиками утро начнется с неприятности…
В Нагорном переулке тротуар был дощатый, пружинистый такой. Вплотную к нему стоял низкий штакетник из реек. Одна рейка оторвалась от бруса и криво торчала над крайней доской. Симка на бегу не заметил рейку. О-о… В глазах — мокрые бенгальские огни! Симка стремительно сел на корточки, выпустил сумку, вспотевшими от боли ладонями вцепился в щиколотку. И, чтобы не разреветься на глазах у прохожих (правда, их не было, но вдруг появятся!), он включил внутри себя музыку.
Случается, что музыка помогает в трудные минуты. Не всегда, но случается. Может она задавить страх и унять душевную дрожь, может вернуть сбежавшую ясность ума (как, например, на годовой контрольной по арифметике, когда Симка запутался было в правилах деления дробей). Может силы дать, чтобы скрутить боль. Особенно такая, как эта — марш героических повстанцев «Двадцать шестое июля»:
Сражайтесь, кубинцы! Свобода родины пусть будет вам наградой! Сражайтесь, кубинцы! Тарам-там-там, тарам-там-там, там-там!…Слов Симка почти не знал, но достаточно было и мелодии. Боль обмякла, ослабела, как слабеет враг перед лицом героических бородатых бойцов в косо надвинутых беретах…
Симка сделал глубокий вдох и выдох, проглотил слюну. И осторожно убрал с ноги ладони. Ссадина была небольшая, без крови. Но кожа синевато потемнела, косточка припухла.
…— Чё, Зуёк, малость покалечился?
Симка, не разгибаясь, поднял лицо и увидел над собой Фатяню.
Фатяня был парень лет шестнадцати. Из тех, про кого в школе и милиции говорят «трудные подростки». А другие взрослые, попроще, говорят: «Обалдуй, тунеядец, шпана». К тому же он был двоечник, в шестом или седьмом классе сидел два года, да и в других учился еле-еле. Водил компанию с такими же балбесами, за которыми (это по слухам!) водились всякие нехорошие дела. Толстая инспекторша детской комнаты старший лейтенант Гулевина при встрече с ним печально, как добрая родственница, покачивала головой:
«Ох, Фатунов-Фатунов, когда ты возьмешься за ум? Не кончишь ты, Вова, добром…»
«А чё, Майя Борисовна, у вас разве против меня какой-то материал?»
«Да ты весь — сплошной материал для комиссии по делам несовершеннолетних, — сокрушенно убеждала его старшая лейтенантша. — Посмотри на себя…»
Тощий и малость косоплечий Фатяня ходил в похожей на заграничную рубахе с узором из пальм и мартышек. Уже одно это позволяло зачислить его в стиляги, за которыми охотятся в городском парке и на клубных танцплощадках комсомольские патрули. Правда, была рубаха изрядно замызганная, а в распахнутом вороте виднелась полинялая тельняшка. И стильные узкие штаны Фатяни тоже были неглаженые, с пузырями на коленях. А вместо иностранных (и полузапрещенных) башмаков на толстенной каучуковой подошве) были на Фатяне брезентовые полуботинки за двадцать два рубля пятьдесят копеек (почти такие, как у Симки, лишь разлапистей). Все это, пожалуй, мешало записать Фатяню в окончательные стиляги, из которых, как известно, американская недремлющая агентура вербует своих помощников. К тому же на танцы Фатяня не ходил, а развлекался тем, что гонял со своими большими приятелями на пустыре за водокачкой футбол или чинил дряхлый мопед «Рига» . А еще он собрал из старых деталей электропроигрыватель с динамиком, который иногда выставлял на подоконник своего кривого деревянного дома, и тогда из-за палисадника с ревом и барабанным боем неслась вредная для советской молодежи музыка под названием «Буги-вуги». Бабки и прочие взрослые соседи плевались, а девчонки всякого возраста собирались перед палисадником и вращали на себе пластмассовые обручи. Дело это называлось «хула-хуп» и, конечно, тоже отдавало американским образом жизни, но в то же время оно имело отношение к физкультуре, поэтому слишком сильно не запрещалось.
Симка с Фатяниной компанией дел не имел, ни в чику, ни в футбол с большими парнями не играл, а к музыке «Буги-вуги» относился отрицательно, потому что любил другую. С Фатяней он был еле знаком — просто жители одного квартала. И он даже удивился, что Фатяня знает его прозвище.
И вот Симка, сидя на корточках и вскинув голову, смотрел на Фатяню из-под вздернутого козырька обшарпанной школьной фуражки, а Фатяня смотрел на него — непонятно как.
Лицо Фатяни вообще было непонятным. Левый глаз его косил, а угол рта кривился вверх, словно Фатяня на весь мир глядел с ехидцей. На самом деле это не так — знающие люди говорили, что косоватость лица (как и плеч) у него от рождения. Но что за этой косоватостью на самом деле, поди разберись.
— Покалечился, говорю?
— Да не-е… Так, не сильно… — выдавил Симка с некоторой опаской.
— Дай-ка гляну… — Фатяня вдруг сложился, как складной метр, и присел рядом. Тронул пальцем косточку (Симка ойкнул). — Похромать придется… Хорошо бы что-то холодное приложить. А?
Симка шевельнул шелушащимся от июньского загара плечом (он был в сизой полинялой майке).
— Чего приложить-то…
— А погоди-ка! — Фатяня растопырил локти, полез в брючный карман. — Вот… — он протянул на ладони старинный пятак.
— Спасибо… Только разве он холодный? — осторожно усомнился Симка (и прыгала мысль: чего это Фатяня такой заботливый?).
— А ты думал! Конечно, холодный! У таких монет, у старинных, особое качество: они холод в себе держат при любой погоде… Ну-ка…
Фатяня взял Симку под мышки, усадил на край тротуара, цепко ухватил пострадавшую ногу выше башмака (несмотря на боль, Симка хихикнул от щекотки).
— Не вздрагивай… Давай-ка, вот так… — Медный кружок прижался к припухшей косточке. Медь и правда была холодная. Этот холод почти совсем успокоил боль, растворил ее в себе.
— Ну что?
— Ага… хорошо…
— Я ж говорил! Теперь подержи минут пятнадцать, и все пройдет.
— Ага… Только я не могу пятнадцать минут, — виновато объяснил Симка. — Мне надо скорее…
— Платка-то небось нету?
— Не-а…
Фатяня распрямился и, глядя на Симку с высоты, вытянул из кармана белый с полосочками платок. Мятый, но довольно чистый. Рванул его на несколько полос. Опять присел.
— Давай…
Не туго, но плотно Фатяня примотал к ноге пятак, затянул узелок. При этом шумно дышал. От Фатяни ощутимо пахло куревом и чем-то еще — вроде горелой изоляции. Он полюбовался своей работой. Симка тоже смотрел с удовольствием. Повязка героически белела на загорелой ноге. Фатяня поднял Симку за локти, поставил на тротуар.
— Потопчись-ка…
Симка потоптался. Осторожно, потом смелее. Остатки тупой боли в ноге угасали. Монета держалась плотно.
— Все в аккурат… Спасибо… — Симка поднял с доски сумку, глянул вопросительно: я пойду?
— На здоровье, — хмыкнул Фатяня. — Не кашляй, не хромай… Да сперва-то слишком не скачи. Куда торопишься с утра?
— К мамке в больницу, с передачей… — Симке сразу стало противно. Из-за этого «к мамке». Никогда он маму так не называл, а сейчас вот дернуло за язык. Наверно, чтобы подладиться к Фатяне, оказаться с ним «на одной доске».
Фатяня, видать, сразу учуял эту неуклюжую хитрость. Ехидство проступило на косом лице — теперь уже настоящее… но тут же и пропало.
— А что с мамой-то? — сказал он, деликатно ставя глупого Зуйка на привычные рельсы.
Симка заговорил торопливо и с облегчением:
— С мамой-то ничего. Это она из-за Андрюшки, из-за брата, ему полтора года, он скарлатиной заболел, да так тяжело, что маму положили вместе с ним… Теперь-то уже все в порядке, но еще не выписывают, потому что полагается не меньше месяца… А идти надо скорее, потому что скоро там перерыв в приемном пункте…
— Ладно, двигай… — Фатяня повернул Симку к себе спиной, приятельски хлопнул между лопаток. — Да больше не спотыкайся.
— Ага… — Симка оглянулся. — А пятак я тебе завтра принесу. Я знаю, где ты живешь.
— Да на фиг он мне! У меня этого добра… Возьми себе, сгодится как бит о к для чики..
— Спасибо, — опять сказал Симка. И пошел (все-таки прихрамывая) по крайней упругой доске. И размышлял о странном поведении Фатяни. С чего он такой добрый?.. Но с другой стороны — а чего ему быть недобрым? Что он, Симка, знает про Фатяню? Мало ли что говорят, а сам-то Симка разве видел от него что-то худое? Да и другие мальчишки… Ну, ругается порой так, что уши в трубочку, а то и пинка может дать самым настырным, кто лезет к мопеду. Зато иногда и прокатиться дает…
— Эй, Зуёк! Тормозни на минутку!
Симка «тормознул». Оглянулся. Фатяня подошел. Высокий, костлявый, странно потоптался рядом.
— Ты… это… Просьбочка к тебе одна… Можешь помочь?
Ага, вот оно! А Симка-то, глупый, размяк, думал, что Фатяня лечит без всякой выгоды…
— Ну… я могу. Если смогу…
— Да ты не бойся, дело-то вовсе ерундовское. Только не говори никому, а то подумают, что я совсем… того этого… — Фатяня крутнул пальцем у виска.
— Я не скажу… а что надо-то? — Стало и страшновато, и любопытно.
— Сегодня к трем часам понесу документы в училище. Новое открыли, при судостроительном заводе… Ну, известно, какие у меня документы. Седьмой класс-то я закончил, да только там еще справки и характеристики всякие нужны, а сам понимаешь, что у меня за характеристики… Дядька мой, брат отца, он на заводе в управлении, обещал похлопотать, но сказал: «Точно не обещаю. Начальство будет смотреть и решать». Ну вот, сегодня я и пойду на беседу. Это не совсем экзамен, но вроде того… Врубаешься в суть?
Симка кивнул, хотя не очень врубался.
Фатяня совсем по-ребячьи ковырнул брезентовым башмаком тротуар. Выговорил:
— Я это… вообще-то не суеверный, но тут, говорят, есть одна верная примета. Чтобы на экзамене все было нормально, надо такое… в общем, надо, чтобы кто-то ради того, кто сдает, макнул палец в чернила и не смывал, пока экзамен не кончится… Может, это и глупость, но я слыхал, что помогает… А ты не слыхал?
— Не-е… Я слышал, что надо новенькую денежку, нынешнего года, в ботинок положить. Лучше всего двадцать копеек. Я так и делал на контрольной по арифметике. И помогло…
О том, что главным образом помогла мысленная музыка, боевая песня «Легендарный Севастополь», Симка говорить не стал.
— Всякому свое… А мне вот палец… Русский когда сдавал, его один… одна знакомая мизинец в чернилку макала. И помогло. Да потом я с ней малость поссорился. А надо, чтобы тот макал, кто на тебя никакой обиды не держит. Ты ведь ко мне ничего не имеешь?
Симка так мотнул головой, что фуражка крутнулась и осела на уши. Никакой обиды на Фатяню у него никогда не было.
— Я макну! Трудно, что ли!
— Ты не думай, что я это за пятак прошу. Я уж потом подумал, что хорошо, если ты…
Симка теперь и не думал, что эта просьба — за пятак. Ясное дело, мается Фатяня от беспокойства и неизвестности.
— Я макну, честно! Ты не бойся! По самый корешок!
— Да не надо по корешок. Можно по первую костяшку. И сразу замотай, будто порезал, чтобы никто не спрашивал… Только не позднее трех, ладно?
— Ладно! Какой палец макать-то, на какой руке?
— Какой хочешь. Лишь бы обязательно.
— Я обязательно, не сомневайся… Только знаешь чего?
— Чего?
— Ты… в этой рубахе в училище лучше не ходи. Скажут — вот стиляга явился. Тогда и палец не поможет.
— Само собой! В белой пойду, как юный пионер… А в училище форму дают знаешь какую? Не как в обычной ремеслухе, а флотскую. Судостроители потому что. А можно, говорят, и на матроса выучиться и даже в мореходку оттуда пойти, если занимаешься нормально…
— Зд о рово! — одобрил Симка, хотя и не был уверен в будущем прилежании курсанта Вовы Фатунова.
— Еще бы не здорово!.. У тебя, видать, к флотскому делу тоже есть притяжение? Вон сколько якорей…
Якорей было три. Два скрещенных — на фуражке, третий, с наложенным на него штурвалом, приделан к пряжке школьного ремня, продетого в петли потрепанных (но зато заграничных) штанишек, которые в нынешние времена назывались новомодным словом «шорты».
Симка повел плечом: может быть, мол, «имею притяжение», но чего об этом говорить.
Фатяня хлопнул его по этому плечу.
— Договорились, значит?
— Железно… Ни пуха, ни пера!
— Само собой, к черту. Не обижайся.
— Да что ты! Ну, пока!
— Бывай…
И они разошлись.
Шагов через двадцать Симка оглянулся. Фатяни уже не было, свернул на Запольную. Симка шагнул еще, еще… и снова остановился. Можно, конечно, опоздать в больницу, но… Он с торопливым прихрамываньем вернулся к зловредной рейке. Выпрямил, прислонил ее к брусу. Торчавший гвоздь заупрямился, не хотел лезть в прежнее гнездо. К счастью, за штакетником, в густых одуванчиках, притаился обломок кирпича. Этим обломком Симка вколотил гвоздь и выпрямился. Теперь не будет на душе опасения. А то вдруг кто-нибудь вроде Симки побежал бы тем же путем и тоже — бряк ногой! Или еще хуже: если еле научившаяся ходить кроха вроде Андрюшки…
ВОДА И ОГОНЬ
Симка вышел на взгорок, с которого виден был плоский берег с Заречной слободой и уходящие к горизонту дали. Они поблескивали озерками и старицами, курчавились рощами, зеленели лугами и пестрели рассыпанными в зелени деревнями. Над этим простором висели несколько пухлых желтых облаков.
Неподалеку глубокий лог, что тянулся на задах Нагорного переулка, соединялся с рекой. Соединялась с ней и речка Туренька, журчавшая на дне лога. По имени этой речки и был назван город, в котором все свои одиннадцать лет прожил Симка Стеклов.
У большой реки тоже было имя, но его почему-то называли редко, обычно говорили просто «река». Даже пристанская станция железной дороги называлась «Река». А город назывался Тур е нь. Имя женского рода…
Симка спустился по расшатанным ступенькам к Речному проезду, прошагал по мосту через лог (высоченному, Туренька далеко внизу) и вышел на другой мост — ведущий через реку.
Это было старое сооружение на обитых досками опорах. Его венчали две решетчатые фермы из косых балок. Под фермами неспешно двигались туда-сюда грузовики и порой проползал рейсовый автобус. Недавно в Турени построили еще один мост, из бетона и железа. Однако одного моста — даже широкого и современного — было мало. Поэтому деревянный старик по-прежнему кряхтел и трудился изо всех сил.
Правее и левее ферм тянулись дощатые настилы для пешеходов. С перилами. Перила были прочные, из крепких брусьев, а настилы жиденькие, в один слой. Между щелями далеко внизу видна была желтоватая вода. Лучше шагать побыстрее и не думать, какая хлипкость отгораживает тебя от воздушной пустоты и текучей глубины… Симка и не думал! Уж под ним-то, легоньким, как бумажный солдатик, доски никогда не проломятся. Да и привык он к мосту, к его высоте — последние три недели каждый день топал туда и обратно. И сейчас он поглядывал вниз и вдаль без всякой боязни.
Река трудилась, как и мост. Сновали катера. Появился из-за поворота однопалубный «Стахановец» — пароходик местной пассажирской линии. Был он древний и обшарпанный, но издали и под ярким солнцем казался белым, как черноморский лайнер. Вдоль стоявших у низкого берега плотов прокопченный коричневый буксир с белыми кожухами гребных колес тащил вниз по течению тупоносую баржу. На барже громоздились штабеля новых фанерных ящиков, они горели на солнце, как позолоченные…
Буксир (назывался он «Красин», как знаменитый ледокол), выталкивая из трубы густые клубы, ушел под середину моста. Клочья сажистого дыма пробились сквозь щели, и показалось даже — пушисто защекотали ноги. Запахло сгоревшим углем. Симка хихикнул и грудью лег на перила. Под ним скользила баржа. На ящиках стояла светлоголовая девчонка в зеленом, как березка, платьице (волосы ее тоже золотились). Смотрела вверх. Симка подумал и помахал ей ладонью. Девочка заулыбалась и тоже замахала — двумя руками. И… уплыла под мост.
Славная, наверно, раз помахала незнакомому мальчишке. Может быть, такая же, как Соня… Жаль только, что не успели даже как следует разглядеть друг друга. Можно было бы перебежать мост и помахать еще, с другой стороны. Однако грузовики, как назло, ползли в оба конца вереницами — не проскочишь… Да и зачем? Все равно буксир утащит баржу с девочкой своим путем, а Симке надо шагать своим. Жаль, что так получается — взглянут друг на друга два человека, протянется между ними ниточка, и сразу надо расходиться.
Симка вспомнил прошлогоднюю встречу с мальчиком на берегу залива и слегка загрустил.
Но грусть была на две секунды. Потому что сияло солнце, веял пахнущий рекой и береговыми тополями ветерок, и, кроме того, надо было спешить.
Симка заспешил вприпрыжку. Но на середине моста опять пришлось задержаться. Сделанная Фатяней повязка ослабла, пятак под ней елозил и грозил вывалиться. Будь на Симке гольфы или хотя бы носочки с резинками, можно было бы натянуть их на бинт. Но Симка гулял в башмаках на босу ногу. Он потоптался на месте. А может, убрать повязку и пятак? Пострадавшая косточка вовсе и не болит уже (или самую чуточку). Симка опустил на доски сумку. Поставил ногу на нижний брус перил, размотал матерчатые ленты, скомкал их в левой ладони, а на правой покачал тяжелую монету. Красивый такой пятак, хотя и поцарапанный. На отчеканенных крыльях двуглавого орла различимо каждое перышко. А древность какая! 1898 год! Прошлый век!
Может, кинуть в воду? Симка давно уже не приносил реке никакой жертвы.
Был у него такой тайный обычай: примерно раз в неделю Симка бросал с моста или берега какую-нибудь мелкую денежку (так бросил и двугривенный, который помог ему на контрольной). Это чтобы река всегда была доброй к Симке… Но нет, пятак все-таки жаль: он почти что музейная редкость да и подарок к тому же.
Симка опустил монету в правый карман и там же нащупал трехкопеечную монетку. Ногтем подбросил ее в воздух (словно играл в «орел-решку»), поймал на ладонь и с размаха кинул через перила. Та долго летела вниз, мелькая желтой искоркой.
Хотел Симка бросить и скомканные тряпичные ленты, но вдруг стало неловко. Словно Фатяня мог обидеться. Я, мол, старался, мастерил бинт, а ты выбрасываешь. Конечно, эти клочья уже не сшить в целый платок, но, может быть, они зачем-нибудь пригодятся. Он скатал полоски в тугую муфточку, затолкал ее в левый карман. А в кармашке у пояса привычно потрогал (проверил — на месте ли?) стеклянный значок — память о прошлогоднем путешествии. Симка не решался носить его на рубашке или майке, когда в одиночку уходил далеко от дома. Встретится какая-нибудь шпана, сорвет, и что тогда делать…
Симка поднял сумку, распрямился и оглянулся на город.
Турень протянулась над высоким берегом. Откосы косматились репейно-полынными и крапивно-бурьянными джунглями (лишь кое-где — опасливые тропинки). Над откосами стояли тонкие колокольни. Розовая Знаменская церковь — с золотым крестом. Ильинская — обшарпанная и без креста, потому что там водочный завод. Справа громоздились белые башни и темные купола старинного монастыря. Купола тоже были без крестов и с дырами, потому что в монастыре давно не жили монахи, а была какая-то секретная фабрика. Но все равно монастырь выглядел сказочно — словно городок из книжки с былинами. Он был похож на крепость: зубчатые стены, башенки по углам…
А еще стояли над берегом старые купеческие дома — деревянные и каменные. И белый двухэтажный музей с колоннами и черными часами над фасадом. И длинное здание военного училища (бывшие торговые ряды) с полукруглыми окнами, и вековые тополя. Главный город — с новыми кварталами, вокзалом, цирком, садами и школами — не был виден за гребнем берега. Здесь — только его «историческое лицо», неизменное в течение многих лет.
«От «исторического лица» в трех местах тянулись по откосам к воде извилистые деревянные лестницы. Они вели к причальным к переправам. Потому что мостов не хватало и жителей с берега на берег возили маленькие чихающие катера, а на одной переправе даже гребной баркас. Билет стоил как в автобусе — сорок копеек, а на баркасе, кто не хотел платить, спешили занять места у весел. Тогда — бесплатно. Симка тоже однажды устроился у весла (чтобы прокатиться) и помогал дюжему небритому дядьке. Тот подмигивал Симке, который в одиночку весло и не повернул бы: «Жми, юнга, без тебя я никак…» Но на обратном пути пробраться к веслу не удалось и пришлось отдать два двугривенных крикливой тетке, которая грозила всех безбилетников «покидать за борт к водяному лешему»…
Симка прошелся глазами по городскому берегу с удовольствием — свою Турень он любил. А на золотом кресте Знаменской церкви остановил взгляд уважительно и с некоторой осторожностью: нет ли за ним, за Симкой, больших грехов?
Настоящим верующим (как, например, соседка тетя Капа) Симка не был. Прошлой весной, когда мама и тетя Капа тайком пригласили священника, чтобы окрестить Андрюшку, и предложили Симке окреститься тоже, он сдержанно возмутился: «Вы что! У меня же красный галстук!» Но летом, после разговоров с Норой Аркадьевной, Симка ощутил, что есть все же Высшая Сила, от которой зависит жизнь Вселенной и каждого человека. Ну, каждым отдельным человеком эта Сила постоянно не занимается, пусть тот живет своим умом, но если он творит что-то очень скверное, тогда можно ждать расплаты…
Сейчас ни в чем слишком скверном Симка не был виноват, а мелкие грехи есть у каждого, Высшая Сила на них не обращает внимания. Он мысленно попросил у креста: «Пусть у мамы и Андрюшки все будет хорошо», и прикрыл веки. Как обещание, что «все будет хорошо», в упавшей на глаза тьме светился след сияющего креста. Симка благодарно улыбнулся, затем посмотрел на музейные часы. Глаза у него были как у индейца по имени Зоркий Сокол (Симка сам его придумал), и он различил, что стрелки на далеких курантах показывают без десяти одиннадцать. Ой-ей-ей!.. Он заспешил, чиркая ногой о скользкую клеенчатую сумку, в минуту миновал мост, который превратился в дамбу, уходившую в заречные дали. Крутой тропинкой Симка сбежал с дамбы на улицу — она тянулась вдоль реки и называлась Береговая Односторонка.
Вместо обычной дороги здесь была устроена мостовая из досок и уложенных между колеями бревен — «лежнёвка». Шагать по ней было удобнее, чем по кривому тротуару, что тянулся вблизи от буйной крапивы. Симка зашагал, поглядывая вперед и назад — нет ли машин. Машин не было, стояла солнечная тишина и летали бабочки. Улица пахла деревом. Сухим — от лежневки и заборов и сырым — от плотов и сложенных на песке штабелей.
Через два квартала Симка свернул в Сосновый переулок (где не было никаких сосен, а росли вдоль канавы жидкие рябинки). Больница располагалась в обычном двухэтажном доме, каких немало вокруг, — с кирпичным низом и деревянным верхом. Симка, привычно заробев, оттянул тяжелую дверь с противовесом и оказался в полутемной после солнца прихожей. Вдохнул душноватый больничный запах. В широком окне перегородки разглядел тощую и неласковую санитарку, ведавшую передачами.
— Здрасте, Василиса Григорьевна, — сказал он со всевозможной вежливостью.
Вежливость не помогла.
— Чего пожаловал? Здесь больница, а не Дом пионеров…
Будто не понимает!
— Вот… передача маме…
— Передачи когда принимают, не знаешь? Первый раз? Санитарный час у нас! С одиннадцати до двенадцати!
За суровой Василисой белел круглый циферблат электрических часов. А слева от окошка зачем-то висели старые жестяные ходики, постукивали маятником. На тех и других часах было одно время.
— Еще же без трех минут!
— Я гляжу, ты шибко умный, считать умеешь. Это я за три минуты должна туда-обратно мотаться? Ради тебя одного…
— Ну, Василиса Григорьевна…
— Давай передачу, после двенадцати снесу.
Ха, снесет она! А дальше-то что! Надо ведь еще сказать маме, что к ней и Андрюшке именно сейчас пришел сын и стоит на улице под окном. Окна маминой палаты выходят на больничный двор, туда не проберешься, поэтому мама должна выйти в коридор, открыть там на втором этаже оконные створки, принести Андрюшку, и тогда получится свидание…
— Лучше я приду через час, — буркнул Симка.
— Ну и гуляй… Да не бухай дверью-то, придерживай.
Симка все-таки бухнул — не нарочно, а потому, что такая здоровенная гиря подвешена в тамбуре. И пошел на берег.
Штабеля из крепких бревен лежали тесно, однако между ними оставались неширокие проходы. Настоящий лабиринт. И Симка побрел по этому лабиринту, впитывая горький запах сосновой коры. Толстенный кусок такой коры он отодрал от бревна и затолкал в сумку — пригодится, чтобы смастерить кораблик.
Поплутав, Симка вышел к воде. Желтоватая от растворенной глины вода языками лизала плоский песок, шевелила на нем сверкающую жестянку — это под плотами подкралась от пробежавшего катера волна. Пахло здесь уже не только бревнами, а еще влажным песком, и… просто рекой. И никого на берегу не было. Как на острове Робинзона.
Симка, дрыгнув ногами, сбросил брезентовые полуботинки. Потопал по песку, полюбовался отпечатками. Представил, что это следы дикарей, побоялся понарошку. Но играть не хотелось. Он побродил по щиколотку в воде. Забытая боль в припухшей косточке толкнулась опять, но тут же приятно растворилась в речной прохладе. А солнце сверху жарило, как в Сахаре. Искупаться бы! Но Симка клятвенно пообещал маме, что купаться в одиночку не будет (впредь до специального разрешения). И нарушить это обещание… Ну, Высшая Сила, может быть, помилует даже такой поганый поступок и мама ничего не узнает, но сам Симка себе этого не простит. Бывало, что скрывал он от мамы двойки, врал, что «ничего не задано», дулся с пацанами в запретную «чику», но если давал специальное честное слово, то знал: тут уж не извернешься. Иначе заедят угрызения. Это, кажется, Гек Финн в книжке Марка Твена говорил: «Если бы у меня была собака с таким характером, как у совести, я бы ее утопил…» Это он, конечно, зря: собака-то при чем?
На песке и наполовину в воде валялась шина от грузовика. Симка посидел на ней. Макнул в воду палец и написал им на теплой резине слово ДУРА — про Василису. Но буквы быстро высохли. Он посмотрел через реку. Музейные часы показывали пятнадцать минут двенадцатого. Симка попытался отодрать от колена засохшую коросточку, но та держалась прочно. «Тьфу на тебя…». Симка поднялся, оставил у шины сумку и побрел по берегу.
Шагов через тридцать он увидел, что штабеля расступаются, открывая проезд к воде с улицы. Справа от проезда громоздилась вплотную к бревнам мусорная куча.
Ну, куча как куча — дырявые ведра, рваный кирзовый сапог, гнилые рогожи и всякая другая дрянь. Но Симке, как любому нормальному человеку, было известно, что среди утиля можно обнаружить интересные вещи. И вот сейчас… под обрывком толя, как под козырьком, что-то солнечно сверкало. Скорее всего, битая стеклянная посудина. Но Который Всегда Рядом шепнул Симке: «Не проходи, Зуёк, взгляни…» И Симка отбросил липкий от солнца толь.
Ух ты-ы… Да здравствует Василиса, из-за которой Симка оказался здесь!
Перед Симкой лежала большущая линза от телевизора.
Такие линзы — из прозрачной пластмассы, пустотелые — наполняли водой и ставили перед телевизорами КВН. Они увеличивали маленькие экраны, как шаровидные аквариумы увеличивают внутри себя рыбок. Теперь эти «кэвэнэшки» (первая советская марка) уже выходили из моды, появлялись другие, с крупными экранами, и пустые линзы-великанши — порой вместе с отслужившими «первобытными» теликами — хозяева без жалости и благодарности отправляли на помойки.
У Симки дома никогда не было телевизора, даже самого старомодного. И едва ли скоро будет. Разве напасешься столько денег! Но и эта вот линза сама по себе могла пригодиться для увлекательных дел. Например, Симку всегда интересовало: можно ли с помощью такой «стекляшки» что-нибудь зажечь?
Сейчас было самое время дать ответ на этот вопрос.
Симка выволок линзу из-под толя. Пустая, она была совсем легкая. И казалась почти новой, на оргстекле с обеих сторон — плоской и выпуклой — ни царапинки. Окаймлял линзу пластмассовый, окрашенный под бронзу обод. В двух местах у обода торчали «ушки» с отверстиями — чтобы крепить эту штуку к подставке. Сейчас подставки, конечно, не было (и не надо!). Не было и пробок, которыми полагалось закупоривать емкость, когда налита вода. Ладно, обойдемся! Симка отыскал в мусоре сухую кленовую ветку, отломил от нее два кусочка, они «по калибру» были как раз для отверстий. Сунул их в карман. И, держа линзу перед собой, как пойманную морскую черепаху, вошел в воду выше колен.
Он окунул линзу. Та, полная воздуха, пыталась выпрыгнуть.
— Не вредничай, пожалуйста, — сказал Симка маминым голосом.
Из отверстий бурно выскакивали пузыри, но вода заливалась в емкость неохотно. Тогда Симка догадался — одно отверстие выставил над поверхностью. Из него шипучей струйкой пошел воздух, освобождая место внутри линзы для воды. И минуты через две вода заполнила пластмассовую «черепаху» целиком.
Ого, какая сделалась тяжесть! Симка выволок линзу на песок, поставил на ребро. Заткнул отверстия кленовыми пробками. Полюбовался. Вода, которая в реке казалось желтой и мутноватой, здесь выглядела совсем прозрачной. Прямо как в графине на столе завуча Агнии Борисовны. Или как настоящее стекло.
Предстояла главная часть опыта.
Симка набрал в мусоре щепок, газетных обрывков и нашел скомканный черный пакет от фотобумаги. Это была удача — известно, что черная поверхность лучше других нагревается от лучей. Всю эту «растопку» Симка сложил кучкой на песке (черная бумага сверху).
Теперь следовало выяснить: какое у линзы фокусное расстояние. Каждый, кто читал «Занимательную оптику для школьников», знает, что фокусное расстояние — та длина, на которой увеличительное стекло дает резкое изображение. В фотоаппарате это несколько сантиметров. А здесь-то небось будет метра два!
Все в той же мусорной куче Симка отыскал крышку от фанерного ящика. На одной стороне были полустертые цифры и буквы, а другая — без надписей и довольно чистая. Симка вертикально вкопал фанеру краем в песок. Чистой стороной — к дальнему берегу. Елозя коленями по песку, он принялся двигать линзу перед «экраном» шагах в четырех от него. И остановился, когда различил на фанере маленький перевернутый пейзаж: зеленый откос, тополя вверх тормашками и опрокинутый музей с крохотным кружочком часов. В самом деле получилось метра два.
А как удержать тяжеленное стекло на таком расстоянии от щепок и бумаги? Ведь оно должно быть на прямой линии между солнцем и «горючим».
Когда ставишь научный опыт, нельзя лениться. Симка, сопя от усердия, передвинул щепки и бумагу ближе к сосновому штабелю — крайнему от воды. Из штабеля в полуметре от песка торчало бревно. Симка забрался на него, линзу ребром поставил себе на плечо, наклонил. Солнце жарило спину и — сквозь фуражку — затылок, на песке лежала съеженная Симкина тень, а над плечом тени, в темном диске, сияло горячее лучистое пятно. Симка пошевелил давящую плечо линзу, чтобы пятно прыгнуло на черную бумагу растопки. Оно покапризничало и прыгнуло. Но, видимо, фокусное расстояние было неточным. Симка встал на цыпочки, двумя руками приподнял линзу над плечом, краем ее уперся в торец ближнего бревна, чтобы не дергалась. Жгучее пятно стало меньше и еще ярче, лучи исчезли. Ком черной бумаги вдруг выбросил синий дым. И вспыхнул! Ура!
Симка прыгнул с бревна, уронил линзу и бросился к огню. Ура-то ура, но пламя перекинулось с бумаги на щепки, получился настоящий костер. При свете солнца огонь был бледным, но жарко дунул по ногам, когда Симка подскочил. А если доберется до штабелей? Или (что еще вероятнее!) кто-нибудь сейчас увидит мальчишку, разложившего рядом со складом бревен огонь, и решит, что тот задумал устроить пожар на всем берегу! Хулиган или диверсант!
Пять лет назад здесь уже горели штабеля, дым вдоль реки стоял стеной. Маленький Симка пришел с мамой на берег, нельзя было пропустить такое пугающее, но притягательное зрелище. Народ толпился на высоком берегу, и от этого берега к другому, к пожару, густо шли лодки с теми, кто решил храбро бороться с огнем… Потом говорили, что во всем виноваты мальчишки, разложившие среди бревен костер… Если устроишь такую жуть, никто тебя не простит — ни Высшая Сила, ни мама, ни милиция!
Симка схватил фанерную крышку, заколотил ей по горящим щепкам, раскидал их по песку. Бесцветный огонек мстительно чиркнул Симку по ноге, как раз по косточке, которая уже пострадала сегодня. Симка взвизгнул, затанцевал. Потом схватил линзу, поднял ее к животу, выдернул пробки и, выгибаясь назад от тяжести, начал тугими струйками поливать шипящие остатки костра. Наверно, со стороны могло показаться, что мальчишка гасит огонь самым простым, именно мальчишкиным способом. Только непонятно, откуда сразу две струйки (Симка, несмотря на боль в ноге, хихикнул).
Ослабевшими струйками Симка полил обожженное место на ноге, боль утихла. Ставшую легонькой линзу Симка спрятал между бревнами — не тащить же с собой в больницу. Песком закидал обгоревшие щепки и бумагу. Всё. Никаких следов преступления. Симка через плечо глянул на дальний берег, на музей. Ого!.. Когда занят важным делом, время теряет нудную тягучесть и бежит в пять раз быстрее. Было уже без десяти двенадцать.
СОНЯ И ТОНИ МАК-ТЭВИШ ЛИВИ
Вот повезло! Теперь в больничной приемной дежурила не вредная Василиса, а жизнерадостная Катя. Такая молодая, что все ее так и звали — Катя. И Симка.
Ворчать на Симку Катя не стала, сказала, что тут же отнесет передачу и попросит маму пройти к коридорному окну. Симка отдал ей бутылки с молоком и кефиром, баночку с медом, который посылала от себя тетя Капа, и пачку печенья «Крокет» — ее он сам купил для мамы и Андрюшки. В полегчавшей сумке остался лишь кусок коры для кораблика.
Катя ушла. Симка выскочил в переулок, встал на краю тротуара и задрал голову.
Наконец крайнее окно на втором этаже распахнулось. И вот она, мама… У Симки от ласковости заскребло в горле. Каждый раз так…
— Здравствуй, — сипловато сказал Симка и замигал.
— Здравствуй, мой хороший. Ну, как ты там? — Мама всегда говорила эти слова, и Симка тоже отвечал одинаково:
— Мама, все в порядке, честное слово.
— Тетя Капа хорошо тебя кормит?
— Во! — Симка ладонью погладил воображаемый вздувшийся живот. В ответе была некоторая хитрость, но не волновать же маму.
— Спасибо за печенье. Андрюшка сразу вцепился, грызет…
— Мама, а где он? Принеси, а?
— Сейчас…
Через минуту мама вернулась с Андрюшкой, поставила его на подоконник, крепко держа за бока. Тот продолжал бодро грызть печенюшку. И улыбался. До чего же родной братишка, так бы и прижал к себе…
— Андрей, привет!
— Андрюшенька скажи: «Здравствуй, Сима».
— Хвах Хима, — выговорил Андрюшка неразборчиво — по причине малого возраста и набитого рта.
— Я тебе вертушку сделаю, когда вернешься, — пообещал Симка, опять ощутив царапанье в горле.
— Скажи: «Сима, спасибо»…
— Хима сива…
Мама, конечно, учуяла Симкино настроение.
— Наскучался ты, бедняжка…
Симка не стал отпираться:
— Конечно… Когда выпишут-то?
— Обещают через неделю.
— У-у…
— Ну что ты! Это совсем скоро. Не успеешь оглянуться…
И оба замолчали. Симка затоптался, поддавая коленями сумку. Вот так всегда: ждешь встречи, а потом скажешь несколько фраз — и вроде бы говорить больше не о чем. Тем более, что голосовые связки делаются будто распухшие…
— Чем сегодня будешь заниматься? — спросила мама.
— «Человека-амфибию» почитаю. А еще дядя Миша просил помочь прибраться в сарае, дрова переложить… А вечером схожу на школьную площадку, там ребята в футбол играют…
— Допоздна-то не гуляй…
— Нет, что ты…
— Ну, беги…
— Ага, — сказал Симка. Но не уходил. — Мам… а Соня…
— Ох, чуть не забыла! Она просила тебя подойти к забору, к вашей щели.
— Мама, до завтра! Андрюшка, пока!
У больницы был обширный двор, и задний край его выходил на улицу Лесосплавщиков, которая тянулась параллельно Односторонке, в квартале от нее. Симка свернул за угол, прошагал вдоль высоченного забора и остановился у знакомой, чуть перекошенной доски.
Изнутри двора у забора густо росла желтая акация. Угодившие в больницу ребятишки иногда проникали в эти заросли и раздвигали в заборе полуоторванные доски, чтобы повидаться с навестившими их друзьями-приятелями. Взрослые такое дело, конечно, не одобряли (больница-то ин-фек-ци-он-ная!), а сторож дядя Матвей мог даже огреть хворостиной: «Вот ты больной, а я тебя сейчас вылечу!» Но, свобода, как говорится, дороже…
Соне, как и Симке, было одиннадцать лет. Она приехала на каникулы к своему дядюшке из Тобольска и почти сразу «угодила в это медицинское учреждение». На неделю раньше Андрюшки. Дома у нее был почти такой же маленький брат, по которому она, конечно, скучала. И поэтому она стала возиться с Андрюшкой, помогать его маме и подружилась с обоими. Однажды мама сказала Симке:
— У нас в палате есть девочка, очень хорошая. Ты не мог бы принести ей какую-нибудь книжку?
— Какую? — буркнул Симка. Не хватало ему еще забот о «хороших девочках». — Я же не знаю, какую ей надо…
— А поговори с ней сам… Соня, иди сюда!
Из-за маминого локтя возникло существо с тонкой шеей и лопоухой головой в рыжей панамке. Из-под панамки торчали очень короткие светлые прядки — видать, девчонку остригли в больнице (хорошо хоть, что не наголо!).
— Здравствуй, Сима, — тонко сказала она через подоконник, и даже снизу было видно, какие у нее розовые уши. «Ишь ты, имя уже знает!»
— Здравствуй, — пришлось сказать и Симке. И он стал смотреть мимо Сониного уха в глубину больничного окна.
— Мне все равно какую книжку. Лишь бы интересная. Какую захочешь, ту и выбери…
— А если ты ее уже читала? — хмуро сказал он.
— Ну и что! Хорошую можно хоть сколько раз…
— Ладно… Завтра приду в пол-одиннадцатого, будь у окна, приготовь удочку.
Удочками назывались бечевки с крючками или сетками-авоськами, которые надо было спускать из окна для запрещенных передач. Книги были под запретом, потому что после прочтения больные старались вернуть их, а это означало распространение инфекции.
— Хорошо, — кивнула панамкой Соня. — Или лучше знаешь что? Приходи к заднему забору, там вверху есть птичка, мелом нарисованная. От нее вправо пятая доска. Она отодвигается. Я подойду, отодвину…
— А не попадет тебе? — вырвалось у Симки, и он застеснялся этой неожиданной заботливости.
— Не-а… А если и попадет, пускай! Лишь бы книжка была…
В тот день Симка до вечера был в непонятном волнении. Казалось бы, подумаешь какое дело — передать девчонке плоский пакет через щель в заборе! А он томился, будто ожидалось настоящее приключение. Или, может, не в приключении дело, а… «Тьфу на тебя, дурак!» — сам себе сказал Симка (и то же самое услышал от Которого Всегда Рядом ). И стал сердито заворачивать книжку в «Туреньскую правду». Какую именно книжку — он решил еще там, у больницы…
Назавтра все произошло строго по плану. Симка переслал с санитаркой Катей маме и Андрюшке передачу, потоптался под окном и рассказал маме, что «все у меня в порядке», узнал у нее, что уже почти половина одиннадцатого, и побежал на улицу Лесосплавщиков. Он легко отыскал нужную доску. И доска отодвинулась, едва Симка подошел. В щель высунулась голова в рыжей панамке.
— Ну вот, — выговорил Симка, пряча неловкость за хмурой деловитостью. — Я принес…
— Спасибо, — заулыбалась она. И протянула тонкую руку, торчавшую из куцего рукавчика застиранной бумазейной пижамки. — А что это за книжка?
— Развернешь — увидишь… Только ты никому ее не показывай. Она запрещенная.
— Понимаю, — уже без улыбки кивнула Соня. — Здесь все книжки запрещенные.
— Не в этом дело, — с важностью опытного конспиратора объяснил Симка. — Она не здесь запрещенная, а вообще …
Соня приоткрыла маленький рот с трещинками на губах. И тогда Симка окончательно ввел ее в свою тайну. Это было, по правде говоря, легкомысленно — какую-то незнакомую девчонку! Но у девчонки были понимающие глаза. Это Симка разглядел еще вчера, снизу, когда Соня маячила в окне. А сейчас в этом убедился снова. Лицо у Сони было… ну просто никакое, самое обыкновенное: вздернутый нос, реденькие брови, несколько крупных, но почти незаметных веснушек — словно кто-то обмакнул палец в краску почти того же цвета, что кожа, и поставил девчонке на переносицу и щеки полдесятка прозрачных пятнышек. Но глаза… он вроде бы тоже обыкновенные, желтовато-серые и небольшие, но смотрели так, будто видели в Симке всё-всё. И при этом не было в них ни насмешки над Симкиными страхами, ни осуждения его фантазий. Соня словно мысленно говорила: «Не стесняйся, я такая же как ты».
И теперь Симка, покоряясь нахлынувшей доверчивости, прошептал:
— Она очень интересная. Но ее написал запрещенный писатель…
…Книжку подарила мама, когда Симка пошел в первый класс.
На оранжевой обложке причудливыми буквами было написано: «Говард Фаст. Тони и волшебная дверь». А в верхнем углу нарисован был стоявший у дощатой калитки мальчишка, похожий на него, на Симку. С такой же косой белобрысой челкой, в такой же клетчатой рубашке-ковбойке и застегнутых под коленками штанах — одежде, в которой Симка пошел в школу. Введенная два года назад ученическая форма с гимнастерками, фуражками и брюками навыпуск проникала в Турень медленно и была еще не у всех ребят.
Мальчик слегка расставил ноги, заложил руки за спину и смотрел ощетиненно — так же, как случалось глядеть на обидчиков Симке. И Симка сразу ощутил к нему дружеские чувства.
Книжку он буквально проглотил. Читал Симка в ту пору уже очень неплохо и одолел к первому классу немало книжек, но это были в основном сказки да еще «Приключения Буратино». А повесть про маленького американца Тони с длинной фамилией Мак-Тэвиш Ливи оказалась первой серьезной книгой в жизни Симки Стеклова. Впрочем, и она была во многом сказочной и совсем тоненькой, но Симке в ту пору показалась большим романом — столько удивительных (иногда печальных, но с хорошим концом) событий в нее вместилось… И потом Симка перечитывал ее много раз. А прошлой весной, незадолго до поездки в Ленинград (главного события в Симкиной жизни!), тетушка Нора Аркадьевна увидела эту книжку и сказала:
— Ты, голубчик, держи ее подальше от чужих глаз. На всякий случай.
— Почему?! — изумился и обиделся за своего друга Тони Симка.
— Потому что Говард Фаст, который раньше считался борцом за мир, лауреатом Сталинской премии и самым-самым прогрессивным писателем Америки, нынче неугоден нашей власти.
— Господи, что случилось-то? — встревожилась мама. Конечно, не за Говарда Фаста, а за Симку.
— Ну, Анна Серафимовна, вам-то следовало бы знать. Случилось примерно то же, что совсем недавно с Пастернаком. Попал в немилость в силу своих излишне самостоятельных взглядов. Вы же знаете про венгерские события в пятьдесят шестом году. Фаст, как и многие наши бывшие друзья на Западе, оказался отнюдь не на стороне Советского Союза, защищавшего в Венгрии… это самое… свободу и демократию.
Мама быстро сказала:
— Сима, убери на заднюю полку… И шел бы гулять, рано тебе слушать про такое.
Но Симка не пошел. Потому что про «такое» слышал он и раньше. Про венгерское восстание — от соседа дяди Миши, который в том году служил под Будапештом. (Он говорил, хлебнувши лишнего: «Черт разберет, кто тогда был прав, кто виноват, палили друг в друга. Вчера был друг, а нынче, глядишь, изменник проклятый…» И его жена тетя Тома прогоняла его с крыльца в дом веником: «Уйми язык свой поганый!»)
И про писателя Пастернака Симка слыхал. Мама и Нора Аркадьевна несколько раз спорили о его романе про какого-то доктора со странной фамилией Жив а го. Обе они эту книгу не читали (ее печатали только за границей, у капиталистов), однако Нора Аркадьевна была уверена, что роман гениальный. А мама говорила, что судить можно лишь тогда, когда прочитаешь. Вот стихи Пастернака она читала и совсем не уверена в их гениальности. Наоборот, многие из них кажутся ей непонятными. Нора Аркадьевна пожимала плечами и прекращала разговор. Наверно, вести литературные беседы с читательницей, у которой нет высшего образования, она полагала бесполезным. Но вслух этого не говорила, поскольку была интеллигентна и не считала возможным уязвлять в споре жену своего покойного брата…
Ну вот, Симка слова Норы Аркадьевны принял к сведению, но любить книжку про Тони не перестал. И сейчас решил доверить ее Соне, хотя с точки зрения здравого смыла это было полным головотяпством.
…— Понимаешь, этот писатель поссорился с нашим правительством из-за восстания в Венгрии четыре года назад. Сказал, что наши были не правы, когда его подавляли. И его у нас запретили. Но книжку-то эту он написал еще раньше. Знаешь, какая интересная! Про одного пацана, который через дверь в старом заборе попадал в сказочную страну. То есть в старинные времена, к индейцам…
Соня кивнула все с тем же пониманием в глазах. Завернутую в газету книжку сунула под пижамную курточку и очень серьезно призналась:
— Мне тоже иногда кажется, что можно найти такую дверь в заборе. И попасть куда-нибудь…
— И мне… — выдохнул Симка. И вдруг отчаянно засмущался, будто признался в любви. Понял, что выдал одну из главных своих тайн. Но смущение было коротким, как вспышка, потому что Соня… ну да, она была такая же . Она сказала:
— Я пробовала несколько раз… пройти… Но пока не получалось. А у тебя?
— У меня тоже… пока…
— Вдруг когда-нибудь получится… да?
— Да… — опять сказал он с выдохом. И теперь уже не отвел взгляда от Сониных желто-серых глаз.
…Потом они не раз встречались у этой щели в заборе, и бывало даже, что Симка пробирался на больничный двор — это когда Соня сообщала, что дядя Матвей пьян и ловить никого не может. Сидели в щекочущей гуще акации и полушепотом говорили про многое. Про интересные книжки, про космос, про спутники, жалели собаку Лайку, которая почти три года назад была отправлена в спутнике номер два на верную гибель. Симка признался даже, что несколько раз видел во сне, будто в спутнике запустили не собаку, а его, Серафима Стеклова, и что он задыхается внутри железного шара. Не только от безвоздушности, но и от тоски, потому что помирать вдали от Земли в тыщу раз страшнее, чем дома.
— Человека, наверно, так не запустят, обязательно вернут, — шепотом утешала его Соня, но, видимо, и ей было страшновато.
Симка не очень-то утешался:
— Собака ведь тоже живая. Как ей там было задыхаться-то…
Соня кивала и, сама того не замечая, прижималась обтянутым пижамой плечиком к Симке. Они молчали с минуту и начинали говорить о другом.
Книжка про Тони давно вернулась к Симке — он заразы не боялся, потому что переболел скарлатиной еще в Андрюшкином возрасте, а эта болезнь не грипп, повторно к человеку не липнет…
На этот раз все было как всегда. Доска отодвинулась, едва Симка приблизился. Соня быстро сказала:
— Лезь. Дядька Матвей опять набрался…
И Симка протиснулся в щель.
Сели рядышком на толстый нижний брус забора, за акациями. В глубине двора слышались голоса выздоравливающих ребятишек, те перебрасывались мячиком. Но сюда никто не совался.
Нет, Симка зря подумал, что нынче как всегда. Почти сразу он почуял: что-то не так. Хотя сперва Соня сказала обычным голосом:
— Чего ты такой встрепанный? И ноги в саже…
Симка рассказал про приключения на берегу. Но рассказывал, а в душе неприятно шевелилось ожидание: что-то сейчас будет .
И это случилось. Выслушав про линзу и костер, Соня поцарапала тапочкой траву и сообщила:
— Сегодня выписывают. И сразу домой. То есть вечером к дяде Диме, а утром с мамой в Тобольск…
Ну вот. Конечно, это должно было случиться. Оба понимали, что такой день наступит, но никогда не говорили про него. Однако говори не говори, а вот он…
Посидели, помолчали. Потом Симка спросил с неловкостью, будто в первый день знакомства:
— Можно, я тебе письмо напишу?
— Конечно.
— Только мне твой адрес записать нечем. Ты скажи устно, я запомню…
— Да зачем? Я оставлю твоей маме. А еще… я тебе, наверно, первая напишу…
— Ладно! Только ты обязательно…
— Я обязательно… как приеду…
Симку осенило:
— Я тебе на память подарю одну вещь! Вот… — Он завозился, вытащил пятак Фатяни (при этом мелькнуло в голове: «Ох, не забыть бы макнуть в чернила палец!»). — Смотри, какой старинный, красивый.
— Очень красивый. Спасибо… — Соня заулыбалась. — А я тебе тоже… вот… — И протянула на ладони увеличительное стеклышко. Размером как раз с пятак. — Смотри, такое же круглое…
— Ага! — обрадовался Симка. — К тому же я Стеклов. А ты… случайно не Пятакова?
— Нет… ой! Я Шестакова. Похоже, да?
Они посмеялись, но не весело, а так, будто выполняя правило. И оба ощутили, что наступают минуты томительного прощания, когда хочешь одного: пусть оно скорее кончится. Недаром же сказано: «Долгие проводы — лишние слезы». Чтобы не случилось такого скандала (Симка на слезы всегда был слабоват), он быстро встал.
— Все! Давай руку! И пойду! — Он решительно сжал слабенькие Сонины пальцы и так же решительно протиснул себя с больничного двора на улицу. Поспешно и неосторожно — содрал при этом о край доски с колена болячку, которую не смог отколупнуть на берегу. Наплевать…
У поворота в Сосновый переулок Симка не выдержал, оглянулся. Голова в рыжей панамке торчала из щели в заборе. Симка поболтал над плечом ладонью (и мельком вспомнил при этом девочку на барже). Соня высунула руку и замахала в ответ. Симка лягнул сумку и почти бегом свернул за угол.
ПАРОХОД «ТОРТИЛА»
Первую минуту грусть расставания сильно грызла Симкину душу. Он даже подумал: не включить ли какую-нибудь отвлекающую музыку? Но это было бы нечестно по отношению к Соне — будто он пытается поскорее ее забыть. А он не хотел забывать!
Через сотню шагов грусть смягчилась. «Напишет же», — подумал Симка. В конце концов, можно быть друзьями и на расстоянии. Слабенькое, конечно, утешение, но хоть какое-то… Кроме того, Симка сообразил: есть и память о Соне — в той же руке, которой он держал ручки сумки, он сжимал ее стеклышко.
Теперь у него будет два увеличительных стекла. Гигантское, из линзы от КВН, и вот это, Сонино…
Стоп, стоп, стоп! Как он сразу-то не сообразил! Это же…
Каждый, кто читал «Занимательную оптику для школьников», знает, как устроен самый простой телескоп. Нужна большая линза для объектива и маленькая для окуляра. Если разделить фокусное расстояние большой на фокусное расстояние маленькой, узнаешь, во сколько раз телескоп станет увеличивать в своем поле зрения небесные тела. Ну-ка…
Конечно, Симкино «стоп» было мысленным, а на самом деле он прибавил скорость. На ходу надел ручки сумки на локоть, на ходу же обратил линзу-малютку к солнцу и навел ее лучи на левую ладонь. Когда до ладони сделалось сантиметра четыре, солнечная точка ужалила кожу. Ай…
Итак… два метра — это двести сантиметров, и если их разделить на четыре, получится пятьдесят (задачка простая, это вам не деление дробей). Разумеется, число приблизительное, но все равно здорово! В полсотни раз будет приближать космические объекты Симкина астрономическая система! Ее можно назвать «С+С». То есть «Симка плюс Соня»…
Только из чего и как для такой системы смастерить трубу? Нужна будет великанская труба!.. Но это потом. Первые опыты можно провести и без нее.
Через две минуты Симка был на берегу. Вытащил из тайника между бревнами пустотелую линзу. Сперва решил было опять наполнить ее водой и прямо здесь провести первое испытание будущей «С+С». Но вспомнил, как долго наливается вода. К тому же она, если приглядишься, все-таки мутноватая. Чтобы зажечь мусор, годится, а для оптического прибора — едва ли. Вода из колонки гораздо чище речной. Поэтому есть смысл поскорее шагать домой. Тем более что надо макнуть палец, а то закрутишься и забудешь…
Симка покачал линзу в руках. Легонькая, когда без воды! Наверно, если сесть на плоскую сторону, можно поплыть по реке, как на маленьком круглом плоту… Хотя нет, перевернешься… А если лечь на нее животом?
«Не валяй дурака…» — неслышно сказал Который Всегда Рядом .
«Это не я, — оправдался перед ним Симка. — Это мысли сами по себе скачут…»
«Дурацкие мысли».
Но дурацкие или нет, а они скакали дальше. И Симка представил, как он не только плывет на «спасательной» линзе вдоль плотов, но и отважно переплывает реку. А что?
Переплыть реку было давней мечтой Симки Зуйка. Когда он купался с ребячьей компанией, некоторые мальчишки вразмашку храбро уплывали на другой берег и возвращались как ни в чем не бывало. А у Симки не хватало духа. Вернее, он трезво оценивал свои силы и понимал, что их может не хватить… Но здесь-то пришлось бы плыть лишь в одну сторону. Правда, без друзей-приятелей, которые в крайнем случае ухватят за волосы, но зато с надежной плавучей емкостью под животом. Надо только потуже вогнать в нее пробки…
«Ты же обещал маме не купаться в одиночку!» — возмущенно напомнил Который Всегда Рядом .
«А какое же это купание! — старательно возмутился в ответ Симка. — Это испытание спасательного средства! Я даже раздеваться не буду, только сниму башмаки. В одежде разве купаются?»
Шорты и майка облипнут, но велика ли беда! Зато не надо пилить в обход, через мост. И можно будет потом сказать ребятам: «Неохота мне больше болтаться от берега к берегу, я недавно переплыл реку от Односторонки до нашей лестницы. Не верите? Да хоть кто буду, если вру!..» — и в знак нерушимой клятвы сцепить и разорвать мизинцы. Про линзу можно не говорить, а сами они, конечно, не догадаются.
А кроме того… Теперь Симке казалось, что если он решится на такое отважное (хоть и с линзой, но все равно отважное!) путешествие, потом все в жизни будет хорошо. И Соня обязательно пришлет письмо!.. А если он не решится — будет наоборот. Известно ведь, что судьба помогает смелым, а трусости никому не прощает.
Если в Симкиной голове появлялась какая-нибудь «несусветная» (по маминому выражению) идея, было два способа от нее избавиться: или зарубить опасные мысли в самом-самом начале, или подчиниться им и постараться поскорее выполнить все, на что эти мысли толкают. Иначе они не дадут покоя, станут сверлить, сживать со света.
«Ох, Зуёк…» — сказал Который Всегда Рядом .
Если бы он твердо потребовал: «Не смей, дурак!», Симка бы отступился. Однако в неслышном голосе невидимого советчика был упрек, но не было окончательного запрета.
Симка глянул через реку. Половодье в этом году случилось хилое, река почти не разливалась. Правда, крайние быки-ледорезы перед опорами моста (они похожи были на косо затонувшие домики с острыми железными крышами) все еще стояли в воде. Когда река обмелеет до предела, они окажутся на песке, а расстояние для заплыва сделается меньше. Но не ждать же августа!.. А пока до откосов у здания музея… ну, тоже недалеко! Метров сто пятьдесят. К тому же и плыть-то придется не от самого берега, а от плотов, а это чуть не треть пути…
«Ох, Зуёк…»
Но он уже действовал решительно, не давая опасливому «ох» превратиться в трусливое «лучше не буду».
Сбросил башмаки и фуражку, сунул их в сумку, где лежал могучий кусок коры (тоже дополнительная плавучесть), приторочил ее к спине как рюкзак — ручки надел на плечи. Отверстия в верхнем крае линзы снова закупорил деревянными палочками. Прочно — от этого зависела безопасность. Вытащил из кармана ленты от Фатяниного платка, продернул их в отверстия для болтов на рамке линзы, скрутил в жгут. За них он будет держаться на плаву. А то сама-то линза скользкая, улизнет чего доброго…
Симка через полосу воды перешел с песка на плоты. Рядом с ними глубина была по пояс, и когда он забрался на бревна, со штанов бежало. Плот оказался широкий, и Симка порадовался этому. По теплым от солнца бревнам он доскакал до другого края. И вот она перед ним — «большая вода».
Который Всегда Рядом больше не говорил «Ох, Зуёк…» — чего тормозить человека, если он все решил окончательно! Только хуже сделаешь…
Симка опустил линзу на воду, она почти не погрузилась и запрыгала на мелкой ряби. Осторожно, без плеска Симка скользнул с плота сам, окунулся по шею. Вода в первый миг облепила его холодом, но почти сразу холод исчез. Симка ухватил жгут, толкнул линзу под себя. Она сперва сопротивлялась, выскальзывала, но он придавил ее животом. И она, послушавшись наконец, приподняла собой легонького Зуйка — плечи и спина с сумкой оказались над водой.
Симка крутнулся в воде, оттолкнулся ступнями от бревна и сделал первый гребок.
Так он и поплыл: левой рукой держался за жгут, а правой греб. Если грести двумя, получилось бы, конечно, быстрее, но ведь не отпустишься. Ладно, спешить некуда. Главное — не бояться…
Помогал Симка и ногами — дергал ими по-лягушачьи. Иногда дерганье и гребок совпадали, рывок получался сильным, тело толкалось вперед, как бы желая опередить державшую его плавучую линзу. Голова по самый подбородок макалась в воду. Несколько раз вода — очень пресная и пахнущая песком — попадала в рот, Симка даже закашлялся разок. Но это было ничего, не опасно. И не следует оглядываться — чтобы не огорчаться, если проплыл мало, или не пугаться, если много (тогда получится, что ты вдали от обоих берегов).
Впрочем, когда твои глаза почти вровень с водой, трудно определить, далеко ли берег. То кажется, что почти рядом, то, как у морского горизонта. К тому же мелкая рябь плещется у лица, гляди, чтобы не глотнуть опять… Но ни страха, ни усталости пока не было. И чтобы они не появились, Симка решил включить в себе какую-нибудь песню. Для такого случая годилась бодрая и дурашливая. Вроде этой:
На далеком Севере Эскимосы бегали, Эскимосы бегали За моржой. Эскимос поймал моржу И воткнул в нее ножу , И воткнул в нее ножу Глу-бо-ко...Эта песня помнилась с дошкольных времен. Ее любил голосить Симкин сосед пятиклассник Гришка Елохин, когда Симка и мама жили еще на прежней квартире, на Профсоюзной улице. Гришка голосил и накачивал велосипедным насосом залатанный волейбольный мяч, а его мать ругалась и требовала, чтобы он шел домой учить правила по русскому языку, потому что схлопотал переэкзаменовку. А Гришка нахально пел и не шел…
Положили ту моржу На огромную баржу , На огромную баржу По-пе-рек.Моржу было жаль, но Симка утешал себя, что ножу воткнули в нее все-таки неглубоко и рана получилась неопасная. Потому что
Надоело ей лежать, Сняла шкуру — и бежать, Сняла шкуру — и бежать На-ги-шом…Правда, без шкуры на Севере холодно, однако можно было надеяться, что морж а вскоре вырастит на себе другую. Так что все кончилось хорошо… Хотя, с другой стороны, для эскимосов-то — плохо. Старались, охотились, а вместо добычи — фиг… Ну, не совсем фиг, шкура осталась, хотя и с дыркой. Но ни моржового мяса, ни моржовой кости, из которой эскимосы вырезают всякие игрушки на продажу, у них на этот раз не будет. А небось думали накормить все стойбище и деньжат подзаработать…
Вот так везде на белом свете. От одного и того же дела — кому-то радость, а кому-то беда. Пацаны в переулке гоняют мяч, орут и радуются, им весело, а соседки из окон ругаются: мешаете своим гвалтом… Собаку Лайку запустили в космос, газеты и радио ликуют — новая победа советской науки! А собаке каково?.. Или вот Софья Петровна рассказывала на политинформации про засуху в капиталистических странах. Когда выгорает урожай, фермеры и крестьяне впадают в бедность, а торговцы зерном радуются: можно взвинтить цены…
Наверно, поэтому Высшая Сила редко вмешивается в людские дела: всем не угодишь, пусть сами разбираются на своей планете…
Под мелодию песенки о морже и под размышления о горьких противоречиях жизни Симка ритмично двигал рукой и ногами и, по его расчетам, уже одолел не меньше половины пути. И здесь начались неприятности. Ослабел жгут, за который Симка держался. Еще немного — и развяжется. Тогда линза обязательно ускользнет из-под живота. Она и теперь уже елозит из стороны в сторону… А рука устала… Надо бы перехватить — правой взяться за жгут, а левой грести. Но опасно менять руки. Кажется, что от этого тряпичные «удила» ослабеют еще больше… Ну ладно, только без паники. И ни в коем случае не думать, какая под тобой глубина и как далеко еще до земли… По правде говоря, не так уж и далеко… Еще гребок, еще… Можно ведь и отдохнуть. Куда спешить-то? Правда, течение на середине сильнее, чем у берега, несет легонького Зуйка, как бумажный кораблик. Небось донесет до самого моста, а то и протащит под ним. И не будет никакой выгоды в расстоянии, наоборот. Ну да ладно, быть бы живу!..
«Не смей думать про маму!» — велел Который Всегда Рядом. А Симка и не собирался! Не хватало еще начать думать, что сделается с мамой, если его недышащее тело выловят где-нибудь далеко по течению, за Судостроительным заводом!
Какая чушь! Надо грести и не поддаваться дурацкому страху. Лучше… лучше закончить песенку. Сочинить совсем хороший конец…
Вся от холода дрожа, Говорит себе моржа, Говорит себе моржа: «Не беда! Я сошью себе тулуп… И пойду на танцы… в клуб… И пойду на танцы в клуб! Ве-чер-ком»...Во как здорово получилось! Плохо только, что совсем устала рука. Ну, ничего… Надо еще про эскимосов. Чтобы и у них все было в порядке…
Эскимосы… (хи-хи-хи!) Ловят рыбу для ухи… Ловят рыбу для ухи И поют: «Ну и фиг с тобой, моржа, Ну и пусть ты убежа… Ну и пусть ты убежа…»Дальше не сочинялось. Дальше стало совсем худо. Потому что вода, которая все время была довольно теплая, вдруг словно разом остыла и тряханула Симку крупной дрожью. Это само по себе еще ничего бы. Но мышца под коленкой левой ноги задеревенела. Пока была еще не настоящая судорога, но, если двинуть порезче, ногу сведет тягучая нестерпимая боль, от которой не спасет никакая музыка.
У Симки уже бывали судороги в ноге, но, к счастью, каждый раз на мелководье. А сейчас что делать? Надо перестать грести, изогнуться, крепко-крепко ущипнуть себя под коленом. Он так и сделал. Деревянность в мышце ослабла. Но линза наконец выскользнула из-под живота, неуклюже запрыгала под локтем. Симка ухватил ее второй рукой, снова затолкал под себя, однако при этом пришлось задергать ногами, и тугое предчувствие боли снова затвердело под коленом. Двинешься — и капут.
А берег-то совсем недалеко! Еще бы минута — и там! Но в Симкиных мускулах и нервах было понимание — шевелиться нельзя. А как быть? Заорать «спасите»? Стыд какой!.. Ну да наплевать на стыд, раз такое дело. Симка крутнул головой направо, налево: нет ли поблизости лодки или катера. Конечно, не было… Назад смотреть он не решился: это требовало слишком большого движения.
В ушах нарастал шум: смесь непонятного гудения и плеска. Шум сбивал мысли. И все-таки одна решительная мысль пробилась: пусть сведет ногу, все равно надо начать грести. Стремительно, изо всех сил! Чтобы отчаянными рывками добраться до земли в самое короткое время. А боль придется перетерпеть!
Сражайтесь, кубинцы!..Симка сцепил зубы и рванулся, и боль тут же злорадно скрутила мускул, но он рванулся опять, и… непонятная сила дернула его назад! Потянула за сумку, приподняла над водой… Несколько рук вцепились в Симку, потащили вверх…
Уже потом он понял, что его зацепили багром — с плавучей посудины, которая подошла сзади. Из-за шума в ушах (а может, это был шум двигателя?) Симка ее не услышал. Странная была посудина: то ли лайба какая-то, то ли катер, то ли крохотный пароход. Над головой торчала труба — явно склепанная из фанеры. Она была белая, с голубой полосой и желтым якорем на этой полосе, а ниже чернел силуэт разлапистой черепахи. Была еще и белая рубка с круглыми иллюминаторами, а из-за бортов подымались шевелящие лопастями гребные колеса. Здоровенные — верхний край выше Симкиной головы…
Но все это Симка разглядел позже. А в первую минуту стоял на досках корабельного днища, обалдело прижимал к груди линзу и мигал. С него текло. Боль в ноге — видимо, от неожиданности — исчезла без следа.
А перед Симкой стоял непонятный дядька. Босой, в подвернутых парусиновых штанах, весьма толстоватый. Безрукавая тельняшка обтягивала его круглый живот. На руках и ногах густо курчавились волосы. Круглые щеки были в темной щетине, которую еще немного — и можно будет назвать бородой. Голову покрывала такая же темная, похожая на сапожную щетку прическа (если можно это назвать прической!). Дядька смотрел на Симку сквозь толстые очки. И не было в его взгляде ни осуждения, ни строгости. Были смешинки.
— Ответствуй, юнга, — сказал он негромким, аккуратным таким баском. — Ты почти утопленник или просто пловец? Если мы напрасно заподозрили в тебе терпящего бедствие и выловили зря, то от имени экипажа славного парохода «Тортила», я принесу свои извинения…
Симка помотал головой. Опасности уже не было, и он быстро приходил в себя.
— Вообще-то я пловец, — сообщил он, глядя в веселые очки. И честно добавил: — Только вдруг начала судорога подкрадываться… Так что вы, наверно, не зря… подоспели…
Дядька оглянулся.
— Вахтенный штурман Кочерга… э, Кочергин! Запишите в судовой журнал: «Выловили пловца, который признался, что мы подоспели не зря…» — Потом он опять глянул на Симку. — А чего это тебя, пловец, понесло через реку в одетом виде и с багажом? Тем более что мост недалеко.
— А вот эту штуку нашел. И решил попробовать ее плавучесть… — Симка бодро покачал перед собой линзой. Ему было хорошо оттого, что его так вовремя выловили (и, может, даже спасли от гибели). И оттого, что спасатели оказались славные. И дядька, и его экипаж.
Экипаж состоял из пятерых мальчишек. Старшему (который, судя по всему, штурман Кочерга или Кочергин) — лет четырнадцать. Был он тощий, с длинной, как огурец, покрытой рыжеватыми волосками головой, с улыбчатым ртом-полумесяцем. Он опирался на длинный багор, как опирается на трезубец морской царь Нептун. Трое других — примерно Симкиного возраста. Один с очень знакомым лицом (Симка понял потом — похож на мальчика Дэви из фильма «Последний дюйм», который он смотрел четыре раза). Двое других — одинаково смуглые и быстроглазые — наверно, братья. А еще один — лет девяти, беловолосый, пухловатый, с очень круглым (говорят «по циркулю») лицом, удивленными зелеными глазищами и похожими на крылья бабочки ушами.
Все были в плавках с тесемками на боку, лишь Кочерга в обвисшей сиреневой футболке и сатиновых трусах до колен.
Экипаж деловито осмотрел Симкину находку, Кочерга постучал по ней костяшками пальцев и признал, что «стоящий предмет».
— А зачем он? — спросил тот, что с ушами-крылышками.
— Мало ли… Можно солнечный кипятильник сделать, — с ходу придумал Симка. Про телескоп он не стал говорить, чтобы не сглазить. — Наберешь сюда воду, направишь лучи на чайник, он и закипит.
— Не хватит энергии… — усомнился один из смуглых.
— Еще как хватит! Я недавно на том берегу этой линзой костер запалил! Для опыта…
— Тогда конечно, — покладисто сказал смуглый.
— Что с тобой дальше-то делать, пловец? — спросил дядька. — Наверно, нет тебе резона снова плыть самому. Доставить тебя на берег?
— Если не трудно… — деликатно сказал Симка. Плыть и правда не хотелось, хотя берег-то вот он, под боком.
— Какой труд! Сейчас… — И дядька, пригнувшись, исчез в фанерной рубке.
Похожий на Дэви мальчишка встал к штурвалу (это было тележное колесо с примотанными к спицам рукоятками). Оглянулся на Симку.
— Тебя куда? Прямо здесь высадить или в другом месте?
— Лучше вон туда, повыше. А то снесло меня… И добавил опять: — Если не трудно…
— А чего трудного-то, — сказал Кочерга. — Все равно вверх идем…
Где-то у кормы застучал, закашлял невидимый мотор. «Тортила» не спеша двинулась против течения. Заколыхался под косым отростком невысокой мачты флаг — желтый, с той же черной черепахой, что на трубе. Медленно, а потом побыстрее, завертелись у бортов двухметровые колеса с лопастями. Ясно было, что вертятся они просто так, от встречной воды, но все равно это впечатляло. Видно, те, кто оборудовал судно, хотели чтобы оно походило на солидный пароход.
— Выжми шмотки-то, — посоветовал Кочерга. — А то вздрагиваешь.
Симка скинул со спины сумку, стянул прилипшую майку и штаны, стал выкручивать их над бортом. Подошли двое смуглых, по очереди помогли. Подошел младший, тоже хотел, наверно, помочь, да не знал, как подступиться. Помог советом:
— Трусы тоже выжми, девчонок тут нету…
Симка выжал и трусы. Снова натянул их, а шорты и майку повесил на теплый от солнца борт — пусть подсохнут хоть немного за короткие минуты плавания.
Кочерга что-то шепнул младшему, тот нырнул в рубку и вернулся с похожим на огнетушитель китайским термосом. Кочерга открутил пробку-стакан.
— На, глотни. Тут горячий чай.
Симка охотно поглотал очень теплую и сладкую жидкость с запахом березового веника. И спросил:
— А у вас это что за корабль? Откуда?
— Сами склепали, — охотно отозвался возникший у него за спиной дядька. — Была эта посудина у одного старика, он на ней то рыбачил, то всяких тетушек-торговок с З а реки на городской рынок переправлял. Потом уехал к сыну в Омск, а этот дредноут оставил ребятам. Вот этим, значит, моим соседям. Те — ко мне: «Помоги, Вадим Вадимыч, соорудить пароход, как во времена Тома Сойера. Я вообще-то сухопутный человек, но Марка Твена читал, Стивенсона и Жюль Верна тоже. Соблазнился идеей. Вот и плаваем. Только речная милиция да инспекторы всякие придираются: нет, мол, у вас нужных прав и документов…
— А почему такое названье… буратиновое? — выговорил Симка и тут же испугался: не обидится ли экипаж парохода?
Но Вадим Вадимыч откликнулся добродушно:
— А как было назвать? «Аврора» или «Ермак»? Громкое имя ко многому обязывает. А «Тортила» она и есть Тортила, черепаха. Никто не будет укорять за тихоходность. Моторчик-то у нас так себе, подвесная чихалка…
— А где ваша гавань? — осторожно поинтересовался Симка.
— Отсюда не видать, за Судостроительным заводом, — сказал Кочерга.
«У-у…» — огорчился про себя Симка. Будь стоянка «Тортилы» поближе, можно было бы напроситься в экипаж. Для начала пускай хоть самым младшим юнгой. Потому что сразу видно — не задиристые, добрые ребята. Но за заводом — это, значит, поселок Мыс, до него несколько километров… Да и зачем он, чужак и неудачливый пловец, этому давно, видать, сдружившемуся экипажу?
«Чихалка» между тем неторопливо двигала «Тортилу» против течения, и слева проплывали бугристые, в пятнах солнца и тени, зеленые откосы. Наконец, когда сбоку оказалась ведущая прямо к Нагорному переулку лестница, Симка попросил:
— Вот здесь… если можно.
«Дэви» завертел рулевое колесо. «Тортила» охотно повернула носом к берегу и ткнулась в глинистую полосу. Мотор кашлянул и стих — видимо, выключился сам собой. Симка сгреб имущество, прижал его к груди и прыгнул с носа на сушу. Там встал лицом к пароходу и сказал:
— Спасибо!
— Не стоит благодарности, — отозвался Вадим Вадимыч. — Удачи тебе, пловец… Только не рискуй так больше. По крайней мере, без нужды…
— Не буду, — пообещал Симка без обиды. В самом деле, дурак он, что ли, дважды делать одну глупость!
Кочерга встал на нос, начал багром отталкивать «Тортилу» от берега. И вдруг опять глянул на Симку:
— Эй… а как тебя звать-то? Надо записать в журнала, кого выудили…
— Симка… — Он постеснялся назвать свое прозвище Зуёк.
— Как?
— Симка! То есть Серафим!.. Не думайте, что это девчоночье имя! Так моего деда звали, он был начальник станции…
— А мы и не думаем ничего такого, хорошее имя, — откликнулся Вадим Вадимыч, весело блестя очками. — У Пушкина есть стихи: «И шестикрылый серафим на перепутье мне явился…» Вот и ты явился нам на перепутье. Счастливо тебе…
— Ага, и вам… счастливого плаванья…
В ответ на эти слова почти все помахали Симке руками, а Кочерга багром. И «Тортила» отошла, закашлял мотор, завертелись колеса…
Симка вздохнул и поднялся по тропинке к нижней площадке лестницы. Там он оделся (майка и штаны были уже почти сухие), вынул из сумки башмаки, надел фуражку. И пожалел, что ее не видели люди с «Тортилы». Тогда они, разглядев скрещенные якорьки, смогли бы понять, что он, Симка, тоже неравнодушен к флоту. А на пряжку они, судя по всему, не обратили внимания…
И еще сразу о многом пожалел Симка. О том, что встреча эта была случайная и, скорее всего, единственная. О том, что не успел сказать про деда, какой он был начальник станции: героически пропускал без задержки красные санитарные эшелоны, хотя колчаковцы по телеграфу запрещали это делать и потом чуть не расстреляли… И жаль, что не догадался расспросить: как они делали из фанеры большущую трубу? Такая труба оказалась бы в самый раз для будущего телескопа.
ДНЕВНЫЕ ДЕЛА И МЫСЛИ
Каждые сутки вслед за днем приходит ночь. Таков закон природы на планете Земля. Правда, он не действует в полярных областях — там дни и ночи тянутся по несколько месяцев. Но Турень-то расположена, как всем известно, не за полярным кругом, хотя и считается довольно северным городом (здесь любят песенку: «Есть на Севере хороший городок»). В июне дни в Турени очень длинные, а ночи коротенькие и светлые, но все-таки это ночи. И никуда от них не денешься — от белесых сумерек, пеленающих от фундамента до крыши старый дом, от непонятности, которая прячется в этих сумерках. От вязких томительных страхов, обволакивающих мальчишку, который остался один в пустой квартире…
Опасливые мысли о неизбежности такой ночи начинали копошиться в Симке с утра. Но сперва они были как бы случайные — мелькнут и пропадут. Потому что день впереди казался громадным, и чего раньше времени думать о неприятном. К тому же и утром, и днем была у Симки надежда, что новой ночью страх к нему не привяжется. Или можно будет этот страх победить музыкой. До сих пор не удавалось (или не совсем удавалось), но Симка сам виноват: не мог выбрать нужный мотив. А нынче он постарается заранее вспомнить подходящую мелодию, а потом, в момент подкравшейся боязни, включит в голове музыку, будто крепким нажатием кнопки.
И, наверно, здесь нужны не боевые марши, не суровая увертюра к опере «Тангейзер» (которую часто передают по радио), а беззаботная, весело плюющая на все страхи песенка. Вроде этой:
Был чудак у нас Данила — Вместо водки пил чернила, Ложкой брил себе усы, Из рогожи шил трусы.«Чернила!..» Батюшки, а ведь ходики показывают почти два! А к трем Фатяня пойдет в училище! Симка обозвал себя дырявой башкой — чуть не подвел человека!
В школьной пластмассовой непроливашке чернила, конечно, высохли. Но на скрипучем письменном столе (старом-старом, «довоенном») стояла увесистая стеклянная чернильница с медной крышкой. Когда-то она была дяди-Сашина (Симка печально посопел). Мама регулярно подливала в нее чернила, словно дядя Саша мог в любое время появиться в доме и тут же сесть за писание отчета об экспедиции…
Симка снял крышку. В черном зеркальце чернил блестела искра. Симка опять посопел и погрузил левый мизинец по первый сустав. Наверно, хватит… Он подержал палец над чернильницей, чтобы в нее скатилась капля. Потом в фанерном платяном шкафу (внутри которого пахло маминой шерстяной кофтой) на полочке с лекарствами нашел пакетик с бинтом, обмотал палец… Ну вот, можно теперь с чистой совестью заняться «телескоповыми» опытами.
Симка принес пустую линзу на кухню, прислонил к ножке стола, отыскал жестяную воронку. Конец ее оказался как раз по калибру отверстий в линзе. Симка взял ковшик. Но — вот досада! — в ведрах на лавке под окном воды оказалось на донышках… Сам виноват, надо было еще вчера позаботиться.
Симка ухватил двухведерную канистру (с виду как для бензина, а по правде — для воды). Гулко сбежал по лестнице, выкатил из-под нее хозяйственную тележку на колесиках от детского велосипеда (ее смастерил для мамы и Симки сосед дядя Миша). Пристегнул канистру к боковым рамкам тележки брезентовым ремнем. И — поехали! Канистра загудела на кочках.
Колонка была в двух кварталах, в начале Нагорного переулка. Симка подкатил канистру под чугунную загнутую трубу, открутил пробку, сел на корточки, плечом приподнял тугой рычаг — осторожно, чтобы струя не ударила сразу. Но она все равно ударила! И в гудящую пустоту канистры, и по краям узкой горловины. Брызги — веером на Симку. Он взвизгнул, но не отпрыгнул. Видать, у него судьба нынче — мокнуть несколько раз на дню. Да и неплохо это в такую-то жару!
Плохо было другое: втаскивать канистру на второй этаж, когда подвезешь к дверям. Двухведерную тяжесть приходилось переставлять со ступеньки на ступеньку. Поднатужишься изо всех сил, приподнимешь, поставишь, потом отдыхаешь. И так восемнадцать раз. Лестница крутая, словно не в квартиру ведет, а на чердак. Когда Симка добирался до верха, в животе у него всякий раз что-то скрипело, а поясница ныла, как от хороших пинков. А ведь еще надо было втащить эту бандуру в кухню, взгромоздить на лавку и, нагибая канистру, перелить ее содержимое в ведра (потому что из узкого горлышка черпать воду было невозможно). Когда вдвоем с мамой, дело это не трудное. А сейчас…
Но Симка справился, перелил. Посидел на лавке рядом с пустой прохладной канистрой, положив на нее голову. И встряхнулся. Пора!..
Через воронку стал Симка наливать в линзу ковш за ковшом — пока она не заполнилась по самые дырочки на верхнем краю. Потом уволок этот великанский объектив в комнату и установил на подоконнике рядом с письменным столом. Распахнул створки. Чтобы линза не падала, Симка привинтил к нижней части рамки мясорубку. Положенная набок чугунная мясорубка (с выпуклым непонятным словом «Касли») оказалась замечательной подставкой. Симка повернул линзу так, чтобы она смотрела на торчащий за низкими крышами строящийся дом. Такие дома появлялись теперь в разных местах Турени. Они собирались из готовых секций и назвались «крупноблочные». Иногда секции были разноцветные, и дома получались будто сложенные из детских кубиков, красиво так. Но чаще они были серые. И этот, на улице Луначарского, недалеко от Симкиной школы, был серый. Над ним торчал строительный кран с ажурной стрелой и похожей на пароходную рубку будкой. Интересно, как он будет виден через стекла?
Симка отошел от подоконника, нащупал в кармашке подаренное Соней стеклышко. Ну, сейчас… И в этот момент заколотили в стенку. Что за невезуха!
Симка высунулся в окно. Из окна в другой половине дома так же высунулась тетя Капа — грузная, с мясистым бородавчатым лицом.
— Симушка, обедать иди! Я стучу, стучу, а тебя все нету…
— Ладно!
В конце концов, никуда будущий телескоп не денется, а обедать и правда пора. После всех трудов внутренность желудка такая пустая и сосущая, будто там пять литров безвоздушного пространства…
Вниз по лестнице налегке — это ведь не вверх с грузом! Даже не надо пересчитывать подошвами ступени. Симка с верхней ступеньки канул головой в лестничный проем, далеко вытянутыми руками поймался за карниз над входом, ступнями ударил в дверь, она крякнула и распахнулась. Симка вперед башмаками вылетел на плоское крыльцо. Мама в таких случаях говорила: «Ох, свернешь ты когда-нибудь шею». Но Симка знал, что не свернет — все рассчитано. Да и мамы теперь нет дома, никто не смотрит вслед…
Тетя Капа кормила Симку на кухне. Дала уху и кашу. Уху Симка вообще не любил, а эта к тому же пахла залежалой рыбой (как ящики из-под селедки на заднем дворе у ближнего продуктового магазина). Но в гостях — не дома, нос воротить не станешь. А каша была вполне съедобная — пшенная, разваристая, с кубиками колбасы. Жаль, что маловато, а попросить добавки Симка постеснялся. Зато тетя Капа дала большую кружку киселя из клюквенного концентрата. Симка обрадованно уткнулся в нее, а тетя Капа спросила:
— С пальцем-то чего у тебя? Ободрал где-то?
— А! Царапнул малость… — Не рассказывать же про Фатяню! Получится, что выдал его!
— Надо зеленкой помазать и завязать как следует, — засуетилась тетя Капа, — а то схватишь какой-нибудь столбняк! — Она пуще всего на свете боялась всякой заразы, потому что в молодости ей чуть не отрезали разбухший от попавших в царапину микробов мизинец на ноге.
— Да я уже смазал! Йодом!
— Чегой-то не похоже… — Тетя Капа пригляделась к мокрому бинту с пятном проступивших чернил. — Ёд-то, он коричневый, а у тебя тут лиловое.
— Потому что я на кухне крахмал нечаянно зацепил! — находчиво выкрутился Симка. — От крахмала с йодом всегда такой цвет получается…
— Ты мне мою старую голову не морочь. Я не совсем еще из ума выжила…
— Да ничего я не морочу! Про такой опыт даже в книжке написано! «Веселая химия для начальной школы»! Могу хоть сейчас принести!.. — И Симка неосторожно высунул из-за стола ногу.
— А с коленкой-то чего?
С коленкой было «ничего». Симка и думать про это забыл. Просто наросла новая, вместо сорванной в щели забора, короста.
— Замазать надо да забинтовать, — засуетилась старуха.
— Ну, тетя Капа! Ну, если человеку каждую засохшую царапину бинтовать, он же в египетскую мумию превратится!
— Чего-чего? — тетя Капа грозно подбоченилась, бородавчатое лицо ее набрякло. — Это ты вон каким словам уже научился! Без матери-то! Погоди, все расскажу, когда появится!
Симка обалдел, но тут же сообразил: неприличным тетя Капа сочла слово «египетскую». Потому что сосед дядя Миша в неудачные минуты своей жизни ругался на дворе: «Ах ты, египет твою налево!»
— Ох, тетя Капа! Какие слова! Египет это же страна такая, древняя! Где пирамиды! В учебнике для пятого класса есть!
— Пирамиды… Уж поскорее бы Анюта возвращалась, она бы взяла тебя в узду… А то «пирамиды»… — это уже добродушно, для порядка.
Анюта — это мама, Анна Серафимовна… Симка засопел, буркнул «спасибо, тетя Капа», сгреб тарелки и кружку и понес в угол, к лохани, чтобы вымыть.
— Ступай, ступай, сама помою. Нечего зря опять палец мочить… Ужинать приходи к семи, чтобы я сызнова штукатурку на стенке не долбила… Чего приготовить-то на вечер, ума не приложу. Разве что макароны с квашеной капустой…
— Да мне хоть что!
— Тебе-то хоть что, а зять с завода придет, да Марина после смены… И картошки не осталось, и к мясу на рынке нынче не подступишься, а в магазинах и вовсе пусто… Никита Сергеич наш, он мужик, конечно, душевный, обещает скорый коммунизм, да пока что-то не видать коммунизма этого…
Тетя Капа была старая, говорить что думает не боялась, хотя известно, что никакая власть длинные языки не любит. Про это не раз напоминала матери взрослая Марина, которая работала в парикмахерской. А муж ее Андрей Платонович (то есть зять тети Капы) был начальником цеха на Аккумуляторном заводе, состоял там в партийном бюро и недоверчивые разговоры про коммунизм поэтому тоже не одобрял. Но тете Капе-то что! Тем более что мяса в магазинах и правда не сыскать. А вот как приедет на каникулы из свердловского техникума внучка Галина (полная такая и с большим аппетитом), тогда совсем «продовольственный кризис».
Симка знал, что ворчит тетя Капа по привычке, а не от скупости, не потому, что у них в семье теперь «лишний рот». Знал и то, что мама оставила ей деньги на его, Симкин, прокорм. Но все равно стало неловко (уже не первый раз). Он поскорее сказал «хорошо, в семь» и вприпрыжку рванул к себе.
И вот наконец-то можно испробовать это … Сердце застукало: получится ли? Симка пригнулся в четырех шагах от стоявшей на подоконнике линзы, взял за края Сонино стеклышко, поднес к глазу. В размытом поле зрения линза показалась большущим прозрачным пятном. В центре его темнело что-то непонятное. Симка отодвинулся назад, стараясь поймать резкость. И… поймал! И отшатнулся! Прямо перед ним разевала клюв перевернутая вниз головой растрепанная ворона! Симка от неожиданности чуть не сел на половицы. Вздрогнув, сбил фокусное расстояние. Он знал, конечно, что изображение в его оптической системе будет опрокинутым, но не ожидал, что таким громадным.
Ворона, топтавшаяся на верхушке подъемного крана, простым глазом видна была через окно, как черная соринка, а через стекла представилась сидящей здесь, на подоконнике!
Симка снова направил стеклышко-окуляр на линзу. Ворона оказалась на месте. Симка пошевелился, налаживая четкость картинки. Круглое пространство опоясывали радужные блики, но сама ворона была различима до каждого перышка. В глазу ее горела желтая искра. Этим глазом неласковая птица недовольно глянула на Симку — чего, мол, подсматриваешь! — растопырила крылья и канула куда-то вниз (на самом деле, конечно, вверх).
По-лу-чи-лось! Ура! Симка кинулся к окну, повернул линзу так, чтобы она смотрела на соседние дома и дворы. Со второго этажа крыши и огороды видны были, как с капитанского мостика. А в стекла различались всякие мелочи: узорчатый жестяной дымник на печной трубе, цветущий картофельный куст на грядке, опрокинутый на чьем-то крыльце игрушечный грузовик… Все это Симка видел как бы отдельными кадрами кино, когда поворачивал линзу, отбегал и налаживал в пальцах окуляр.
Нельзя сказать, что картинки в окуляре были яркими и четкими. Их покрывала мутноватая пленка. И разноцветные пятна по краям были, конечно, лишними. Но все же то, что попадало в середину поля зрения, виделось отчетливо. И так близко! Неужели и лунные кратеры можно разглядеть в таком же великанском масштабе?
Вот это будет зрелище! Симке один раз удалось глянуть на Луну в бинокль (чужой, конечно), и даже тогда захватило дух. А сейчас, наверно, увидишь хребты и горные цирки с пиками посередке, будто с подлетевшей к ним совсем близко ракеты…
Симка бухнулся спиной на свою кое-как застеленную кровать, положил ноги в башмаках на железную спинку. Ноги и поясница гудели, в косточке шевельнулась забытая утренняя боль. Но боль эта была чуть заметная, а гуденье в пояснице — даже приятное. И мысли были приятные: как здорово, что опыт со стеклами получился! Ну, пускай там блики и туманные пятна, а все-таки многое различимо! А когда он вставит объектив и окуляр в трубу, видимость, конечно же, еще улучшится…
Только как ее смастерить, трубу-то? Двухметровую, широченную…
Вспомнилась труба на «Тортиле». Жаль, не успел спросить, как они ее делали, каким способом гнули фанеру. Если бы спросил, ребята наверняка рассказали бы. Потому что — Симка сразу это понял — славные они. Дружные такие и без всякого желания ехидно зацепить кого-нибудь или дать пинка. В общем, без этой… как она называется… агрессивности . Без того поганого свойства, которое то и дело проскальзывает у окрестных пацанов и у Симкиных одноклассников. Симка к этой черте в характерах знакомых мальчишек привык и понимал, что так оно, видимо, везде. Или почти везде. Но порой хотелось иного…
Жаль, что эти ребята далеко. Чтобы пешком на Мыс добираться — ого сколько надо топать! Был бы велосипед… Но велосипед — такая запредельная мечта! Все равно, что о квартире в новом доме, где краны с холодной и горячей водой, ванна, батареи вместо печек, плита, которая работает на газе. Никаких тебе хождений на колонку, никаких забот с дровами… Но квартира — это даже более осуществимая мечта. Может быть, в ближайшие годы маме и дадут такую — как матери-одиночке с двумя детьми. Ведь недаром Никита Сергеич обещал в докладе, что в недалекое время у каждой советской семьи появится квартира, где столько комнат, сколько в семье человек и в придачу еще одна (это значит, что у них будет целых четыре). А велосипед… это лишь когда Симка вырастет, будет работать и получать приличную зарплату. Но такое время — где-то в бесконечности. И кем Симка станет, он еще не решил, не выбрал. По правде говоря, вырастать ему пока не очень-то и хочется (так же, как герою любимой книжки про волшебную дверь). Потому что не дурак он, понимает, скольких радостей лишится и сколько забот приобретет, когда сделается взрослым…
Это лишь в газетах пишут и в «Пионерской зорьке» говорят, что все советские дети мечтают поскорее вырасти, чтобы проехать на великие стройки коммунизма или на целину, а может быть, даже полететь на Марс. Чушь какая-то! Строить можно и в Турени, а пахать и сеять в ближних колхозах, рабочие руки нужны везде, а не только у черта на куличках. А на Марс… Никому никогда Симка в этом не призн а ется, даже маме, но о космических полетах думать ему жутко. Оказаться в наглухо заклепанной тесноте межпланетного аппарата, который мчится в полной безвоздушности! Сразу вспоминается собака Лайка…
Иногда Симку покусывала совесть — за то, что он не желает расти. Ведь когда станет большим, сможет как следует помогать маме и Андрюшке. Но Симка совесть быстро успокаивал: «Все равно от меня ничего не зависит. Когда вырасту — тогда вырасту…»
Так он успокоил ее и в этот раз (будто сердито лягнул). И снова стал думать про мальчишек с «Тортилы». И про их взрослого командира. Интересно, кто он? Родственник одного из ребят или просто сосед? Почему подружился с пацанами? Может, в детстве тоже не хотел расти, а когда вырос, понял, что не наигрался, вот и решил добавить?
Наверно, им хорошо друг с другом. По вечерам собираются небось в тесной рубке пароходика или в береговом сарайчике, пьют пахучий чай из термоса и даже самому младшему не скажут: «Ну ты, подвинь ж…, расселся тут, как морж а на печке». Им чем теснее, тем дружнее. Потому что они такие … И Соня такая … И тот мальчик на берегу залива… Почему эти люди встречаются Симке и почти сразу исчезают из его жизни?.. Ну, Соня напишет, наверно. Только все равно она не рядом…
Мысли были печальные, но не очень, не до щекотания в горле. Их обволакивала дрема. Еще немного, и Симка уснул бы, чего доброго. А спать было нельзя. Тогда ночью долго не заснешь. А чем дольше не спишь, тем больше всяких страхов.
Симка тряхнул головой. И тут же, будто специально, чтобы полностью прогнать его сонливость, за окном раздались два голоса:
— Зуёк! Айда купаться!
Симка сразу представил двух братьев Авдеевых, что живут за два дома отсюда. Валерку и Вовку, одиннадцати и десяти лет. Стоят внизу на тротуаре, задрав курчавые головы, нетерпеливо переступают одинаковыми сандалиями. Нормальные ребята, не вредные, не драчливые. Но и особой дружбы с ними у Симки нет. Так, иногда то на реку вместе, то в кино или мячик погонять. Наверно, братьям хватает друг друга. Конечно, у Симки тоже есть брат, да только такой еще карапуз… Не могла уж мама постараться, родить Андрюшку сразу вслед за Симкой!..
— Зуёк! Тебя дома нету, что ли?!
Симка молчал. Пусть думают, что нет его.
Они крикнули еще разок и ушли.
Купаться не хотелось, хватило ему сегодня.
«Но ведь это было не купание», — с ехидцей напомнил Который Всегда Рядом .
«Да, я не купался! — тут же спохватился Симка. — Я переплывал реку ».
«Ха! И не переплыл!»
«Переплыл! Почти… Там до берега-то оставалось всего чуть-чуть!»
«Во-первых, не чуть-чуть. Во-вторых, никакое «почти» не считается… А в третьих…»
«Ну что? Что?!»
«Сам знаешь, что. Как ни крутись, Зуёк, это было все-таки купание. Какая разница, в штанах или без…»
Теперь Симка понимал, что это и в самом деле так. Никуда не денешься. Хмуро спросил у Которого Всегда Рядом : «Ну и что теперь?»
Тот сказал снова: «Сам знаешь, что»
Симка знал: придется признаваться маме. Иначе совесть заест. Ее, совесть-то, не утопишь, в землю не зароешь, и обманывать ее — себе дороже. По крайней мере, в отношениях с мамой.
«Ага! Боишься, что попадет!» — злорадно сказал Который Всегда Рядом .
«Идиот! Не боюсь я, что попадет! Мне и не попадает никогда по-настоящему. Только… признаваться и прощенья просить всегда тошно. И расстроится она…»
«Это уж точно», — отозвался Который Всегда Рядом с ноткой сочувствия.
«А что, если… если я признаюсь не в эти дни, а когда-нибудь потом?»
«Это, пожалуй, можно, — рассудил Который Всегда Рядом . — В признавании важно не когда , а только чтобы обязательно »
«Я обязательно… но попозже…»
«Когда вырастешь?» — хихикнул Который Всегда Рядом .
«Вовсе нет! Просто выберу подходящий момент!»
«Ну, выбирай, выбирай», — хихикнул он снова.
«Язва какая, — сказал Симка уже с облегчением. — Вот был бы ты настоящий и видимый, дал бы я тебе башмаком ниже спины и прогнал бы… за тридевять земель».
«Куда ты от меня денешься…»
Симка знал, что никуда не денется. Скорее всего, Который Всегда Рядом — рядом навсегда. Хотя появился-то он совсем недавно: в первый вечер, когда мама и Андрюшка оказались в больнице, а Симка остался в двух комнатах и кухне один.
Ох, как не по себе было тогда Симке. И от одиночества, и от тоски и от пустоты квартиры, которая сразу сделалась необыкновенно большой. И от шорохов за печкой. И от резкого света лампочек, который не разгонял страх, а лишь подчеркивал пустоту выросшего пространства комнат. А выключишь свет — сгустки белесых сумерек заползают в окна и по-хозяйски устраиваются в углах. И похожи эти сгустки… даже страшно думать, на кого они похожи.
Симка сделал «среднее» освещение: чтобы и не резкий свет, и не сумерки. Включил лампочку на кухне, растворил дверь так, чтобы лучи из нее падали в комнату. Лег на кровать не раздеваясь. Тоскливый страх не уходил. Не помогал ни диктор, вещавший из маленького динамика «Москвич» об успехах в выполнении семилетнего плана, ни веселая ругачка соседа дяди Миши и его жены тети Томы, что доносилась со двора через распахнутое кухонное окно. Симка сжал зубы и с остатками храбрости замычал:
Сражайтесь, кубинцы …Однако не помогли и кубинцы.
Оставалось пустить слезу. Но… неслышно и все-таки очень отчетливо кто-то сказал рядом:
«Не вздумай, Зуёк. От этого бывает только хуже».
Симка перепугался еще больше. Замотал головой и сел. Не рвануть ли из дома на двор?
«Сиди, не дергайся. Надо себя пересиливать».
— Ты… кто? — слабея так, что вот-вот из него побежит, прошептал (вернее, шепотом простонал) Симка.
«Не все ли равно? Я… тот, Который Всегда Рядом ».
Удивительно, что Симке стало полегче, хотя следовало бы ужаснуться окончательно. Нет, не стал он ужасаться окончательно! Все-таки сейчас не средние века, где всякие колдуны и ведьмы, а двадцатый век, когда телевизоры, атомные ледоколы и спутники и всему есть научные объяснения.
«Понял. Ты, наверно, мой внутренний голос. Или… это… мое отражение в моих собственных мозгах. Да?»
«В твоих птичьих мозгах я не поместился бы, — проворчал неслышный голос. — Не умничай. Просто я — Который Всегда Рядом» . — Теперь все слова были как бы с большой буквы, и Симка понял, что это — имя. И еще понял, что ни бояться, ни удивляться больше нет сил. Всхлипнул и уснул.
Утром он, конечно, решил, что Который Всегда Рядом ему приснился. Но тот по-прежнему неслышно и отчетливо сообщил:
«Не надейся. Я от тебя не отвяжусь».
В свете яркого утра для страха не оставалось места, и Симка лишь спросил:
«А зачем я тебе?»
«Потому что я всегда рядом . Не ясно, что ли?»
Ясности не было, но… и тревоги не было. Симка подумал: «Пусть. Может, так даже лучше».
И в самом деле стало лучше. По крайней мере, не так одиноко. От страхов Который Всегда Рядом Симку не спасал, но порой уменьшал их ехидными репликами. И случалось, давал полезные советы. Разговаривал он тоном парня, который снисходительно учит уму-разуму младшего пацаненка. Но Симка чувствовал, что Который Всегда Рядом притворяется. Скорее всего это был Симкин ровесник, только… ну, из иного какого-то мира. Может быть, он проскользнул из того мира в Симкин через волшебную дверь, как мальчик Тони проникал через свою дверь в старинную страну индейцев… А может, все-таки он состоял из Симкиных мыслей, которые появлялись сами по себе и отзывались в ушах. Обсуждать эти вопросы Который Всегда Рядом отказывался, отвечал одинаково: «Отвяжись, зараза!»
Так ответил он и сейчас, когда Симка лежал на кровати после удачных опытов с линзами. Симка снова попытался обсудить вопрос «кто ты?», но услышал уже знакомые слова.
«Ну и фиг с тобой», — сказал Симка. Лег поудобнее и… заснул.
ТАЙНИК ЗА ГЛАЗАСТЫМ ПНЕМ
Который Всегда Рядом разбудил Симку, когда на часах было без пятнадцати семь. «Вставай, а то тетя Капа опять начнет в стенку молотить!..»
Ого, сколько времени Симка давил подушку! Часа четыре! Даже в детском саду дневной «мертвый час» в два раза меньше…
И дяде Мише с дровами он не помог, забыл! Хотя, если бы это было очень надо, дядя Миша сам Симку позвал бы, без церемоний.
Симка вскочил, на кухне ополоснул перед рукомойником щеки и нос. Попробовал отмыть от чернил мизинец (наверно, уже пора), но те крепко въелись в кожу. Видать, надолго. Побледнели, но не смылись. Пришлось замотать палец чистым бинтом.
На ужин оказалась все та же пшенная каша, а не обещанные макароны с квашеной капустой (ну и хорошо, а то капуста эта всегда почему-то пахнет гнилой мешковиной).
После ужина Симка еще повозился с большой линзой и маленьким окуляром, поразглядывал через них всякие мелочи на крышах и дворах. На одной из крыш увидел рыжего котенка, который, сидя вниз головой, вылизывал растопыренную лапу. Будто совсем под носом у Симки. «Кис-кис», — позвал его Симка, но котенок на самом деле был в дальней дали и, конечно, не услышал…
В конце июня солнце садится за крыши только в десятом часу. А пока еще был день-деньской. И надо было этот день как-то тянуть до конца. Симка пошел на школьную спортплощадку. Там ребята гоняли футбольный мяч. Они были большие, класса из седьмого-восьмого, и почти незнакомые, но разрешили Симке занять место на левом краю в одной из команд. И Симка играл не хуже других. Но потом пришел парень по имени Гуся, и Симке вежливо предложили перейти в запасные. Симка не обиделся. Все-таки дали поиграть больше часа, спасибо и на том. Да и не хотелось больше. Снова гудели ноги, опять заболела косточка. Симка, прихрамывая, побрел по улице Луначарского к Аккумуляторному заводу — посмотреть, какое завтра в заводском клубе кино. Оказалось, что старая мура — «Богатая невеста».
Симка отправился домой.
Заниматься оптическими опытами больше не хотелось. Читать знакомые книжки тоже не хотелось, а нового не было (все никак не соберется в библиотеку обменять «Человека-амфибию» на что-то другое).
«Мама уже, наверно, уложила Андрюшку, — подумал Симка. — А Соня, скорей всего, собирается в Тобольск. Интересно, на чем она завтра поедет: на автобусе или на пароходе?»
Чтобы грусть не взяла его в окончательный плен, Симка включил в себе бодрую мелодию со словами:
Был чудак у нас Данила, Вместо водки пил чернила…«Ты, Зуёк, хотел приберечь эту песню для другого», — с подначкой напомнил Который Всегда Рядом .
«Для чего?» — буркнул Симка. И сразу ослабел.
«Сам знаешь, для чего. Для борьбы со страхами…»
Черт его дернул напоминать о страхах!
Впрочем, они и сами напомнят о себе, никуда не денутся. Солнце уже скатилось за низкие крыши, бросало из-за них последние лучи, которые покрывали бронзовой пудрой листья и пух на тополях. Скоро исчезнут и эти отблески. В небе еще надолго сохранятся отсветы заката, да и потом, до самой утренней зари, оно останется светлым, но в дом проберется похожая на рассеянный в воздухе зубной порошок полумгла. И в ней будет растворена томительная боязнь.
От того, что в ночи не обычная темнота, а эта вот белесая полумгла, смешанная с печалью и одиночеством, еще хуже. Темноту можно прогнать электрическим светом. А сейчас он казался ненужным (ведь все вокруг различимо и так!) и потому жестким, недружелюбным. И таким же недружелюбным, чем-то грозящим, делалось все вокруг. И Симка включал свет лишь на кухне… А облепившие Симку сумерки словно впитывались в кожу, в глаза, в душу и спрашивали не то с насмешкой, не то с сочувствием: «Что, стра-ашно?» Он съеженно сидел на кровати и отвечал с самым последним остатком гордости: «Ни капельки…»
А на самом деле было ох как страшно. Казалось, шевельнешься, и случится что-нибудь . Но он заставлял себя шевелиться. Иначе совсем окостенеешь от страха, прежде чем тебя сморит спасительный сон…
Симка думал даже: не устроить ли себе убежище для ночлега под лестницей? Там нет пустоты ночных комнат, рядом дверь на двор, куда можно выскочить, если угрожающее что-то подберется вплотную. Можно позвать к себе и уложить в ногах дяди-Мишиного кота Тимофея, который часто ночует на дворе (словно он дворняга, а не кот!).
Спасительная была мысль! И все же Симка не поддался ей. Потому что это означало сдаться страхам совсем. Окончательно унизиться перед ними. И… перед собой. А унижения Симка боялся больше чем страхов и боли. Их он тоже очень боялся, но самолюбие было все-таки на капельку сильнее. Что же это получится? Бежать из собственного дома в конуру и ежиться там, как улизнувшему от волка зайчонку?
Да, а чего он боялся-то?
Ну не детсадовский младенец же и не старая бабка, которая верит в чертей и привидения! Книжки про науку читает, красный галстук носит, даже состоит в совете отряда, который борется за звание «Отряд — спутник семилетки». Пионеры — они разве имеют право бояться нечистой силы, которой нет на белом свете!
Но Симка и не боялся ни ведьм, ни призраков, ни вампиров. Он боялся непонятности . Такая непонятность, скорее всего, обитала в этом доме с давних пор. Днем спала, а к ночи оживала…
Дом был построен лет сто назад. В нем до революции жил купец Красильников, тогда все комнаты двух этажей соединялись между собой. Потом дом разделили на четыре квартиры, кое-что в них перестроили, в каждую проделали свой вход со двора. Жильцов стало в пять раз больше, чем в купеческие времена. Давным-давно дом не ремонтировали, его карнизы с деревянным орнаментом перекосились, водосточные трубы с жестяным узором поржавели и обвисли. Но люди не жаловались. Им еще повезло! Ведь не у каждого в Турени была отдельная квартира, пускай даже такая ветхая…
А дом жаловался.
По ночам он кряхтел, постанывал и, наверно, вспоминал старину. Может быть, именно воспоминания о прежних временах и давно умерших людях пропитывали по ночам воздух слегка перекошенных комнат с обширными печами и стонущими дверьми.
Потом уже Симка понял: дом жил сам по себе, и его воспоминаниям не было дела до обмирающего от страха мальчонки, они его не замечали. Но Симка-то замечал всю эту «одушевленность» дома. И вещи замечали. И порой тоже становились странными.
Иногда по ночам сам по себе начинал брякать умывальник. Неожиданно громким и сбивчивым делался стук ходиков. Начинали шелестеть в темноте листы оставленной на столе раскрытой книги — словно по ним пробежал ветерок (или кто-то переворачивал страницы). При маме и Андрюшке Симка почти не обращал на это внимания. По крайней мере, не пугался. А когда один…
А потом жутковато повело себя зеркало.
Зеркало было старое, даже старинное. Мама говорила, что оно висело еще в большой казенной квартире ее отца, когда он служил начальником станции Галахово. Шириною оно было в полметра, а высотою как Симка. В облезлой деревянной раме с завитушками. Его расположили не в «общей» комнате, где спал Симка, а в маленькой, где устроились мама и Андрюшка. Повесили повыше пола и наклонно. Благодаря этому любой человек отражался в нем в полный рост. Симка, когда он оставался в доме один, порой вертелся перед зеркалом, чтобы разглядеть получше — что он за человек? Но так бывало днем, при ярком свете. А по вечерам глубина за мутноватым и с пятнышками стеклом делалась темной и непонятной. Заглядывать в нее не хотелось.
Но несколько дней назад Симка все-таки заглянул. Это Который Всегда Рядом подначил его. Когда очередной тягучий страх стал обволакивать Симку, Который хмыкнул:
«До чего боязливый червяк, смотреть тошно…»
«Ну и не смотри!»
«Я и не смотрю. А ты сам на себя погляди. Бледная козявка, уши от страха прозрачные…»
«Сам ты…»
«Ну, взгляни, взгляни в зеркало, но кого ты похож… Боишься? Даже посмотреть боишься!»
Чтобы поставить на место зарвавшегося Которого и чтобы не капитулировать перед страхом безоговорочно, Симка решил посмотреть. В комнате, где зеркало, свет включать он не стал, включил в «общей» — так, чтобы лучи падали в широкую дверь, со спины. Тогда они будут освещать не самого Симку, а его отражение (об этом способе написано в «Занимательной оптике»).
Потом Симка стиснул кулаки и встал перед зеркалом.
А в темном прямоугольнике, наклонившись навстречу, встал обрисованный лучами лампочки мальчишка — в точности такой же.
Ну и что? По виду ничуть не скажешь, что испуганный. Симка как Симка. Такой же, как другие ребята. Ну разве что чересчур аккуратный — не туреньский, а скорее московский или ленинградский мальчик. В ладном таком, заграничного покроя, пиджачке, в торчащих из-под пиджачка коротеньких брючках с отглаженными стрелками, в тугих светлых гольфах и новеньких сандалиях. С гладко зачесанной набок прической пенькового цвета. С блестящим стеклянным значком на лацкане. Мальчик только что вернулся с выставки в московском Манеже…
…Господи, какой Манеж? Это было в прошлом году! Пиджачок с обтрепанными обшлагами висит в шкафу, на сморщенных штанах давно никаких стрелок, ноги босые, в синяках и длинных царапинах, волосы не чесаны неделю, а значок… он не на груди, а в кармане!
Симка попятился, ощущая под ребрами пулеметную трескотню сердца. Его отражение (теперь такое же взъерошенное, как он сам) попятилось тоже. Симка выскочил в другую комнату. Сел верхом на подоконник открытого окна — одна нога в помещении, другая снаружи. Получилось, что он левым боком в доме, а правым на улице. В случае чего можно сигануть на тротуар, не высоко…
«Что, перетрухнул, Зуёк?» — хихикнул Который Всегда Рядом .
«Пошел ты на фиг… Что это было?»
«Это было необъяснимое свойство зеркальной памяти … Про такие штуки немало написано в разных книжках. Стра-ашных…»
«Заткнись, идиот…»
Симка просидел на подоконнике с полчаса. На светлой улице было хорошо. Прошли парни с гитарой, два раза проехали мотоциклисты, где-то раздавались удары по волейбольному мячу и веселые голоса. Симка малость успокоился. Стала вспоминаться прошлогодняя поездка, Нора Аркадьевна… Нет, про нее не надо. Она была очень хорошая, но думать про нее… лучше не сейчас. А то вдруг окажется рядом…
К Симке подкралась наконец спасительная сонливость, он брякнулся на кровать, накрыл голову подушкой, чтобы не слышать кряхтенья и скрипов дома. И уснул так — не раздевшись, не выключив света, не затворив окна…
Это было дней пять назад.
А нынче спасительного сна не было, как говорится, ни в одном глазу.
«Не надо было дрыхнуть днем», — сказал Который Всегда Рядом .
«Помолчи. Шибко умный…»
Симка ощущал непонятное раздражение. И решил, что сегодня бояться не будет. Назло « Которому », назло себе, назло всем на свете страхам.
Был чудак у нас Данила: В животе его звонило, Потому что утром он Съел на завтрак телефон! Тра-та-та и тра-та-та!..Чтобы доказать себе, что с этого момента он — совсем другой, ничего не боящийся человек, Симка решил посмотреть в зеркало. Как тогда . И убедиться, что в прошлый раз ему просто все почудилось.
«Ох, не надо…» — язвительно предостерег Который Всегда Рядом . А что еще он мог сказать? Он такой…
Конечно, опять стало «стра-а-ашно». Однако теперь в страхе чудилось что-то новое. Какая-то… да, притягательность. Боишься, а делаешь. Ноги сами идут…
Ну и что?
Вот оно, обыкновенное зеркало, вот он, обыкновенный Симка в нем. Никакого пиджачка, привычная майка с дырой на боку. Ох, а где он ее заработал, дыру-ту? Не заметил даже… Симка озадаченно поскреб пятерней затылок. Вернее, хотел поскрести, но помешала сдвинутая назад фуражка. Симка забыл ее снять, вернувшись с улицы… Да, но… на Симке в зеркале фуражки не было. Просто растрепанные вихры. Впрочем, тут же фуражка — мятая, с якорьками и заштопанным козырьком — появилась. А дыра на майке пропала!
«Мама!» — Симка рванул из маленькой комнаты через большую на кухню. И хотел толкнуть дверь, чтобы вылететь на лестницу и на двор. Но… а потом что? Так и сидеть на дворе, не решаясь вернуться в собственную квартиру? Симка замер, упершись в дверь ладонями. Сердце колотилось, как гремучий пластмассовый шарик, который в полугодовалом возрасте любил трясти Андрюшка.
Который Всегда Рядом сказал без насмешки, спокойно так: «Ну, что за паника, Зуёк? Дедушкино зеркало пошутило с внуком. Оно и с мамой раньше так шутило… наверно… Отдышись».
Симка отдышался.
Был чудак у нас Данила, Все боялся крокодила: Как бы этот крокодил Что-нибудь не откусил…Симка зажал в себе все нервы и показал крокодилу язык. А также — себе и Которому . И чуть-чуть не дал себе слово, что сейчас пойдет к зеркалу опять. Который Всегда Рядом на язык не обиделся и добродушно посоветовал:
«Да оставь ты зеркало в покое, оно малость спятило на старости лет. Лучше разберись с пнем ».
И Симка, отвернувшись от двери, посмотрел на пень.
Пень был нарисован на холсте. Такая картина без рамы. Она была прибита по краям к стене между кухонным шкафом и вешалкой. Осталась от прежних жильцов, когда мама, дядя Саша и Симка въехали сюда два года назад. Мама решила, что убирать ее не стоит — все-таки украшение, хотя и обшарпанное. Картина была, судя по всему, очень давняя. Края обмохнатились, краска местами потрескалась, потемнела. Однако все на ней было хорошо различимо. Художник («Наверно, какой-то самоучка», — сказала однажды Нора Аркадьевна) изобразил летний пейзаж — там была вырубка, окаймленная недалеким лесом, кривые березки, трава с лиловыми цветами, солнечные облака. Через траву шли две охотничьи собаки с висячими ушами — рыжая и черная. А на переднем плане торчал замшелый пень.
Может, художник и был самоучка, но пень у него получился отлично. Кривой, покрытый остатками коры и всякой порослью, он опирался на вылезшие из травы изогнутые корни. Словно сердитый сказочный осьминог попытался выбраться из-под земли и застрял. В верхней части пня виднелись два сучка с ровными срезами. Эти срезы, как два круглых глаза, с досадой и угрозой смотрели на весь белый свет. И прежде всего на Симку!
То есть днем они никак не смотрели — два сучка, вот и все. А после заката, при лампочке… Куда ни пойдешь, где ни сядешь — подземное существо следит за тобой неотрывно. Как портрет в известной повести Гоголя. Может, за этой картиной тоже скрывается тайник? А что! Вдруг купец перед революцией спрятал кубышку с золотом?!
Симка однажды поделился этими мыслями с мамой. Не следует ли отодрать холст и проверить? Ну, если не тайник там, то, может быть, дверца, как в книжке про Буратино…
Мама, однако, сказала: «Давай как-нибудь потом. А пока тебе пора на молочную кухню». И Симка пошел за спецпитанием для Андрюшки. А потом одно, другое, и мысли про тайник стали казаться чепухой. Тем более что при маме пень-осьминог следить за Симкой не решался, притворялся просто пнем. А вот сейчас — опять…
Симке вдруг подумалось, что этот пень — он, возможно, и есть источник всех страхов. Их сгусток, их сердцевина. Конечно, никакого тайника за холстом нет, но если этот холст отодрать, свернуть в трубку, засунуть за шкаф, замшелое чудовище-спрут перестанет следить за Симкой. И все страхи отомрут, развеются, угаснут… А кроме того, всякая активная работа сама по себе позволяет забыть про глупые боязни! Как ему это раньше в голову не пришло?!
И Симка занялся работой.
Из нижнего ящика в кухонном шкафу он вытащил инструменты. Молоток с гвоздодером, расхлябанные кусачки (старые, тоже еще дедушкины) и тупую стамеску. Стамеской отколупал присохшие к штукатурке края холста, очистил от краски и ржавчины головки гвоздиков. Кусачками повытягивал один гвоздик за другим (гвоздодер и не понадобился). При этом Симка старался не встречаться глазами с пнем. И страхов почти не осталось. Тем более что за открытым окном где-то играла пластинка («Говорят, родилась я недаром на излучине реки Монтанары…»), а на дворе жена дяди Миши тетя Тома ругала за что-то кота Тимофея…
Картина все еще держалась на стене, присохла местами. От нее пахло сухой краской и пылью. Симка потянул за угол. Холст отодрался, хлопнул Симку по ногам. Симка не мешкая скатал его узким цилиндром, затолкал за шкаф. Вот и все! Пусть глазастый дурак теперь пялится в темноту! Больше — никаких страхов!..
Правда, никаких?
Симка прислушался к себе. К тишине. Кажется, внутри Симки никакой боязни сейчас не было. И тишины не было. Пластинка бодро голосила:
Но только пускаюсь я в пляску И кастаньеты мои стучат, Вижу, как нежною лаской Блестит Родриго влюбленный взгляд…А дяди-Мишина супруга Тамара кричала:
— Чтоб ты подавился этой рыбой, ворюга! Чтоб она вылезла у тебя из-под хвоста всеми колючими костями!
Очевидно, крики по-прежнему адресовались Тимофею (у дяди Миши хвоста не было).
Симка хихикнул, расправил плечи. Теперь небось и зеркало перестанет фокусничать. Хотя… если захочет, пусть немного поиграет с Симкой. (Только не сегодня; сейчас лучше не устраивать опытов.)
Симка подбоченился и оглядел лишенную картины стену.
Никакой дверцы, конечно, и никаких намеков на тайник. Только оставшийся от холста прямоугольник был более светлым и чистым. Симка просто так, для порядка, постучал по нему костяшками пальцев… Ого… Что это? Под штукатуркой негромко, но явно откликнулась пустота. Не может быть!
Симка постучал в других местах — справа и слева от следа картины. Там удары были глухие. Он опять стукнул по центру прямоугольника. Да, там что-то …
Стамеской и молотком Симка начал торопливо вырубать в штукатурке дыру. Для начала — небольшую, размером с тетрадку. На босые ноги посыпались крошки. (Хорошо, что стенка другой стороной выходит в сени с лестницей, а то соседи всполошились бы). Наконец он подколупнул стамеской и уронил на ступни (ой-ёй-ёй!) квадратный кусок. Ну? Что там?
Обычных перекрещенных дранок под штукатуркой не оказалось. Были неширокие (и, видимо, тонкие) досочки. В ответ на удар молотка пустота под ними отозвалась совсем явственно…
Симка заработал молотком, как шахтер-стахановец в забое, — принялся расширять доступ к тайнику (конечно же, к тайнику!). Сердце колотилось так же, как молоток.
Четыре дощечки закрывали окошко шириной в полметра и высотой сантиметров сорок. Каждая держалась всего на двух гвоздях. Причем шляпки гвоздей прижимались к дереву неплотно — видно, тот, кто прибивал, понимал: придет время открывать тайное углубление, и тогда не должно быть лишних хлопот.
Хлопот и не было. Послушные гвоздодеру, гвозди с кряканьем, но без упрямства вылезли из гнезд. Присохшие концами к штукатурке досочки еще держались, но Симка поддел их стамеской, оторвал одну за другой. Открылось… непонятно что… Нет, понятно. В маленькой нише стояла сумка с двумя ремешками и тускло блеснувшим замком. И не просто сумка! Симка почти сразу понял, что это ученический ранец. Нынче с такими ранцами в школу не ходили, но они были у гимназистов. Симка видел в фильме «Белеет парус одинокий»! Там гимназист Петька носил в ранце восставшим рабочим патроны!
А что здесь? Тоже патроны? С какой стати… Ну уж и не золото, конечно. Золото прячут в банках или сундучках, а не в школьных ранцах. Но ведь все равно что-то есть !..
Ранец оказался не тяжелый. Но и явно не пустой. Симка поставил его на половицы прямо под лампочкой, сел на корточки, двинул колечко замка — он был почти такой же, как на нынешних портфелях. Отогнул заскорузлую крышку. Что-то заискрилось… Стекло… Симка за скользкое горлышко вытащил под лучи квадратную бутылку.
Сразу видно — старина! Лицевую сторону бутылки украшал выпуклый герб Турени: кораблик с узким флагом на мачте и скрещенные знамена над ним. А сверху и снизу такие же выпуклые буквы: «Туреньская крепкая». Горлышко было запечатано широкой сургучной нашлепкой. На сургуче что-то оттиснуто… Что?
Симка пригляделся и понял: не какая-то специальная печать, а пятак. Такой же, какой утром подарил ему Фатяня (только год был другой).
Скорее всего, бутылку запечатал мальчишка (наверно, хозяин ранца). Видать, хотел сохранить в ней что-то ценное. Или тайное. Но что, что, что?!
Симка глянул в бутылку на просвет. Там было… там не было ничего .
Тонкое бесцветное стекло позволяло рассмотреть всю внутренность. И эта внутренность была совершенно пуста. Ни монетки из древнего клада, ни клочка бумажки с тайными письменами, ни крохотного семечка какого-нибудь волшебного растения (Симка повертел и потряс бутылку). Ни куколки, из которой может вывестись заморская бабочка…
Но тогда для чего все это? Тайник, прочная печать… Шутка? Но зачем шутку прятать так далеко? А может, в бутылке заключен какой-то сказочный дух или джинн? Вроде Хоттабыча, только невидимый! Откроешь, и… Нет, Симка ни за что не станет сейчас открывать! Надо обдумать и разобраться… А может, в ранце есть и какое-то объяснение?
Симка сунул руку и нащупал свернутую бумагу. Вроде газеты… Это оказалась не газета. На широком листе — пожелтевшем, но гладком — была карта. Вернее, план. Так и было напечатано на верхнем крае:
ПЛАНЪ
города ТУРЕНИ
1898 годъ
Приложенiе къ журналу « Свhтъ науки»
Симка взмахом разгладил на полу шелестящую бумагу, лег над ней, упершись локтями, и вцепился глазами в тонкие линии и мелкие буквы.
Он давно мечтал раздобыть где-нибудь карту города. Чтобы знать все переулки-закоулки, в которых с давних пор хранится много тайн и старины. Вот повезло! Спасибо тебе, незнакомый гимназист (вернее, реалист, потому что мужской гимназии в Турени никогда не было, а было реальное училище — это на пионерском сборе про историю города рассказывали).
Конечно, план был, можно сказать, древний, шесть десятков лет прошло, как напечатали. И многое в городе изменилось. Но многое и осталось! И район Городище, где когда-то, говорят, была татарская крепость, и лог с его разветвлениями и речкой Туренькой, и большая река с пристанью, и старые церкви на разных улицах, и монастырь над рекой… Почти все названия улиц теперь не те, но можно угадать!.. А здешний переулок тогда назывался так же, как и нынче, — Нагорный! И на том месте — ну, точно на том! — где стоит (и тогда стоял, конечно) вот этот Симкин дом, был различим бледный чернильный крестик. Похожий на букву Х.
Понятное дело! Здешний давний мальчишка (не хочется думать, что это был толстый сын купца Красильникова; пусть лучше какой-нибудь небогатый жилец-квартирант) отметил место своего обитания… Но что значат два других крестика?
Один — на самом берегу, рядом с круглым значком и надписью «бес.»! «Бес.» — наверно, беседка над обрывом. А что там случилось? Даже число отмечено — «10 августа 1910 г .». Может, в тот день здесь хозяин ранца (один или с друзьями) зарыл клад?..
А вот еще крестик — чуть заметный, зато обведенный кружком. На краю лога. В том его ответвлении, где Симка никогда не бывал. Там изображена извилистая улица под названием Заовражная…
Теперь будут у Симки дела! Во-первых, разобраться с тайной бутылки (не может же быть, что в ней ничего ! Во вторых, побывать в отмеченных крестиками местах и постараться узнать: нет ли там каких-то загадок-разгадок? А если разгадки не обнаружатся и в бутылке сплошная пустота, можно придумать сказку, которая станет не хуже той, что была у мальчика Тони из книжки про волшебную дверь.
Кстати, эту запрещенную книгу надо будет положить в тайник. Вместе с бутылкой и картой, упрятанными в обшарпанный ранец. Прикрыть снова досками, а потом и картиной (но картиной не сразу, а перед маминым возвращением). И будет у Симки собственная тайна, переплетенная с тайной давнего времени…
А еще — конечно же! — туда следует спрятать и другую книжку. Самодельную и тоже запрещенную (в тысячу раз больше запрещенную, чем «Тони»!).
Симка уже без всякого страха сходил в комнату, вытащил из-под кровати картонную коробку со своим всяким имуществом, со дна ее достал сшитую из сероватых листов тетрадку. На первой странице были крупные буквы: МИК.
Он вернулся на кухню, сел на полу рядом с картой и не удержался, открыл тетрадку. Текст был отпечатан на машинке, под копирку. Симка прочитал первые (давным-давно знакомые) строчки:
Сквозь голубую темноту, Неслышно от куста к кусту Переползая, словно змей, Среди трясин, среди камней Свирепых воинов отряд Идет — по десятеро в ряд.И раздвинулась тесная кухня с голой лампочкой под потолком, отошли назад тайны и самые последние остатки страхов. Возникла вокруг Симки душная, пахнущая нездешними зарослями ночь. Клочья лунного света застревали в лианах…
И Нора Аркадьевна будто неслышно остановилась за спиной. Но это не вызвало никакой боязни. Вызвало только воспоминания . Живые, хорошие такие, хотя и с примесью тревог.
ПРО ЖИЗНЬ…
Нора Аркадьевна была сестра дяди Саши. А дядя Саша был маминым мужем. Но не Симкиным отцом…
Симкиной маме не везло на мужей (так говорили соседки).
До войны мама жила в городе Горьком. Одна жила, в двухкомнатной родительской квартирке, отца и матери тогда уже не было на свете. Одну комнату сдавала квартирантам, чтобы как-то прокормиться, и училась в пединституте. На втором курсе, в тридцать седьмом году, она вышла замуж за фельдшера городской больницы. Было ей тогда двадцать лет. Стали жить-поживать в своей комнатке в деревянном доме на берегу Волги. Хорошо, но не долго.
Квартирантам-соседям очень хотелось вселиться и во вторую комнату, прибрать к рукам всю квартиру. И они сообщили куда следует , что молодой фельдшер рассказывает нехорошие анекдоты про советский колхозный строй. Время было такое, что люди вздрагивали по ночам от любого стука в дверь, шла борьба с «врагами народа». Сажали всех подряд, от дворников до маршалов. Конечно, пришли и за маминым мужем. Отправили его в лагеря под Воркуту. А маму — в ссылку. Хорошо, что не на дальний север, а в Турень — хоть и небольшой, но все же город, где жизнь не такая тяжелая, как в глухой деревне. Может быть, пожалели молоденькую женщину, она была на пятом месяце беременности.
Нашлись в Турени добрые люди: отыскали маме угол на краю города, помогали нянчиться с малышом, когда он родился, потом устроили маму на бухгалтерские курсы… Мальчик Игорь, появившийся на свет в Турени в тридцать девятом году, так никогда и не увидел отца. Тот иногда присылал из лагеря письма (видно, режим там был не самый суровый), а когда напала на нас Германия, выпросился на фронт. Бывало, что «не очень виноватых» отпускали тогда из лагерей на войну (конечно, только в наиболее опасные места). В первом же бою рядового Утехина, что был отцом Игоря, ранили, а после госпиталя перевели из пехотного полка в медсанбат — фельдшер же. И вскоре даже дали «кубик» в петлицы, то есть стал он младшим лейтенантом медицинской службы. Но служил недолго, в начале сорок второго года погиб. Не в бою, а просто на дороге, когда перевозили раненых, — снаряд попал в кузов грузовика.
И остались мама и трехлетний Игорь одни на белом свете. Хорошо хоть, что мама считалась теперь не женой «врага народа», а вдовой погибшего командира — одной из тысяч таких же настигнутых бедой женщин. Как маялась, как растила мальчишку, чего рассказывать. Так было со многими… Научилась шить, по вечерам, после своей бухгалтерской работы в конторе сапоговаляльной фабрики (то есть в которой делали валенки), сидела над заказами, перелицовывала довоенные пальто и костюмы, шила из привезенных с фронта гимнастерок и галифе ребячью одежонку. Такая частная работа законом не одобрялась, но смотрели на нее сквозь пальцы (может быть, снова жалели).
Игорек учился хорошо, но был, как говорится, «оторви ухо с глазом». Оно и понятно — без отца-то. И в сорок восьмом году мама вышла за актера местного драмтеатра Виктора Стеклова. Было ей в ту пору около тридцати, но выглядела она молоденькой — маленькая, стройная такая. Многие думали, что Игорь и она — брат и сестра… А Виктор Стеклов актер был не слишком-то известный, на вторых ролях, и по этой причине часто жаловался на судьбу и завистников, предварительно приняв в себя рюмку-другую. Однако ничего, жили. В мае сорок девятого родился Симка. А еще через год актер Стеклов с театральной бригадой отправился на долгие гастроли по городам Сибири и Дальнего Востока. Писал редко и наконец откуда-то из Хабаровского края сообщил, что решил остаться в местном театре, «чтобы коренным образом переломить свою карьеру в нужную сторону». А как переломит — заберет, мол, к себе жену и сына.
«Я тогда сразу почуяла — кончено между нами», — рассказывала мама тете Капе и другим соседкам.
Так и получилось. Года два подряд Стеклов посылал жене и сыну деньги. Не помногу, но довольно регулярно. А потом — как отрезало. Где он, в каком театре (и в театре ли) и живой ли вообще, узнать не удалось, несмотря на все мамины запросы.
— Ну и ладно, — хмуро сказал повзрослевший Игорь. — Переживем. — Отчима он не любил (тот однажды вздумал воспитывать неродного сына ремнем и получил головой под дых).
Симка тоже не горевал, отца он не помнил.
А Игорь рос молодцом. В старших классах оставил «всякие свои фокусы», окончил школу с серебряной медалью, уехал в Свердловск и без труда поступил в Горный институт. Теперь, в шестидесятом году, он получил диплом геолога и сразу ушел в экспедицию по Полярному Уралу — срочно там нужны были специалисты. Не успел даже заехать в Турень… Он и раньше, в студенческие времена, появлялся дома нечасто — где-нибудь на недельку в зимние и летние каникулы. Зато каждый раз это был праздник. Игорь дурачился с Симкой, таскал его на плечах, рассказывал про всякие приключения из жизни геологов, ходил с ним в кино или на пляж под обрывами. И обязательно привозил какой-нибудь подарок: то трехцветный карманный фонарик, то настоящий походный компас, то похожий на золотой самородок осколок медного колчедана. И пел под гитару всякие песни — то студенческие, веселые (просто животик надорвешь), то сдержанно-печальные, вроде той, что в недавнем фильме «Последний дюйм»:
Тяжелым басом гремит фугас…Когда Игорь появлялся, мама расцветала. А он вертел ее на руках, как девочку, и смеялся:
— Мамуля, ты все молодеешь…
Мама, она если и не молодела, то и не старилась. В пятьдесят восьмом, когда маме было уже сорок, никто не давал ей больше тридцати. Именно в том году она вышла замуж третий раз. Ни Игорь, ни Симка этот мамин шаг не осудили. Одобрили даже.
Дядя Саша был человек жизнерадостный. Этакий курчавый и бородатый крепыш с огоньками дальних странствий в карих глазах. На пять лет младше мамы, но выглядел старше, хотя, конечно, не казался очень пожилым. Он работал в Институте охотничьего хозяйства, часто ездил в командировки по северным районам — то есть был «бродячий человек» вроде Игоря. И деловой! Сумел добиться от своего института отдельной квартиры (у меня жена, и мы ждем ребенка!), хотя мама не могла стать его женой по всем правилам. Для этого ей следовало сначала оформить развод с Симкиным отцом, а тот был неизвестно где (и был ли вообще?). Это требовало ого-го каких хлопот!
Тем не менее квартира в Нагорном переулке была получена, и они втроем — Симка, мама и дядя Саша — перебрались туда из частной комнаты на Профсоюзной улице. Казалось, все теперь будет хорошо!.. Но когда мама была «на четвертом месяце» (дяде Саше очень хотелось сына), охотовед Александр Селянин разбился с самолетом в районе Сургута.
В маленьком «Ан-2» забарахлил мотор, самолет стал планировать, чтобы выбрать в лесном массиве поляну или просеку для посадки, зацепил верхушки сосен, перевернулся и рухнул. Погибли все…
Симка очень жалел дядю Сашу, плакал. Но больше всего он боялся за маму: как она переживет новое горе?
Мама пережила. Даже сдержаннее, чем можно было ожидать. Плакала не очень много, только почти все время молчала. Съездила (хотя врачи и не советовали) в тот поселок, где на местном кладбище похоронили экипаж и пассажиров. Когда вернулась, жалостливая соседка тетя Капа сказала ей:
— Бедная ты бедная, что за судьбинушка у тебя. Опять без мужика.
— Есть у меня мужики. Один с геологами бродяжит, другой вот… — мама за плечи притянула Симку к округлившемуся животу. И скоро будет еще один… — Она была уверена, что родится мальчик.
И родился мальчик. И назвали его Андреем, как хотел того дядя Саша.
Пока дядя Саша был холостой, он жил вместе со своей незамужней старшей сестрой, Норой Аркадьевной. Эта женщина была единственная, кто не одобрял брак Александра Селянина. Может, считала она, что Симкина мама ему не пара. Он-то хотя и «джеклондоновский персонаж», но человек очень культурный, с институтским дипломом, прекрасный музыкант, стихи писал. А в жены выбрал кого? Бухгалтершу со средним образованием, не знающую даже нотной грамоты (и немолодую к тому же)… А возможно, сестра просто ревновала брата к незнакомой женщине. До той поры Нора Аркадьевна многие годы была рядом с Сашей, привыкла с его младенчества заботиться о братишке.
Нет, она не спорила, не показывала открытого недовольства. Но с мамой встречалась редко, разговаривала сухо. На скромной неофициальной свадьбе (вернее, просто вечеринке) сидела молчаливая, прямая, с поджатыми губами. Симка старался не смотреть на нее, а если смотрел, то косо.
Мало того, что казалась она недоброй, была еще и ужасно некрасивой. Худая, нескладно высокая, с длинным помятым лицом и пористым носом-картошкой. На носу кособоко сидели круглые, очень прозрачные очки без оправы. Симке казалось, что эта хрустальная прозрачность ну никак не соответствует Норе Аркадьевне, словно та присвоила очки другого — умного и доброго человека.
За очками видны были птичьи глазки табачного цвета, а над ними щетинились коротенькие рыжеватые брови. На лоб спускалась такая же рыжеватая, нелепая челка, над щеками вздрагивали словно приклеенные к вискам волосяные крендели. Было в этом что-то старомодное… Ну и ладно бы, что старомодное, ладно, что некрасивое! Но зачем она так сквозь сжатые губы разговаривала с мамой!
Впрочем это было сначала. А когда погиб дядя Саша, Нора Аркадьевна стала вести себя по-другому. Мягче. Может быть, оттого, что теперь некого уже было ревновать, а горе у них с мамой сделалось общее. Когда родился Андрюшка, она принялась регулярно заходить к Стекловым, приносила малышу подарки, неловко брала его на руки. А маме предлагала деньги. Мама сперва отказывалась. Однако Нора Аркадьевна сказала:
— Анна Серафимовна, Андрюша мой племянник. Я не только имею право, но просто обязана заботиться о сыне моего брата. Поймите же, у меня никого больше нет… кроме вас… — При этом она вдруг сняла очки и принялась промокать глаза платочком.
Очки упали на половик. Симка поспешно поднял их и положил на табурет рядом с Андрюшкиной кроваткой.
— Спасибо, мой хороший… — шепотом проговорила Нора Аркадьевна.
Симка ушел из комнаты и не слышал, о чем говорили мама и сестра дяди Саши.
Иногда Нора Аркадьевна приносила книги — для Симки.
— Ты ведь любишь читать, не так ли? Мне кажется, эта книжка будет тебе полезна. Постарайся не откладывать, если с первых страниц она покажется не очень интересной.
Симка и не откладывал, не было у него такой привычки. Потому что Игорь как-то посоветовал брату-первокласснику: «Если взялся, дочитывай всякую книгу до конца. Без этого пропадешь и в ученье, и в других делах…» Симка не понял, что за «другие дела», но знал, что старший брат плохого не посоветует.
Надо сказать, что книги, приносимые Норой Аркадьевной, не были скучными. Иногда выглядели пугающе толстыми, но потом оказывались увлекательными. Например, «Легенда об Уленшпигеле», «Мифы Древней Греции» или «Человек, который смеется» — роман французского писателя В и ктора Г ю го («Викт о ра Гюг о , — торопливо поправила Симку мама, оглянувшись на Нору Аркадьевну. — Ты что, не читал «Гавроша»?).
Особенно толстым оказался «Давид Копперфильд» англичанина Диккенса. Тоже интересный! Правда, вторую половину романа, где речь шла о взрослой жизни, Симка дочитывал без особого увлечения, зато к детским годам Копперфильда возвращался потом не раз. А Нора Аркадьевна однажды обронила:
— Я эту книгу в давние годы перечитала раз пять…
Иногда Нора Аркадьевна и мама спорили о литературе.
Мама любила «простых» поэтов — Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Есенина, Симонова… Нора Аркадьевна с ней снисходительно соглашалась, но тут же называла других, про которых Симка раньше и не слыхал (например, того же Пастернака). Из-за этого Пастернака однажды случился крупный спор про Твардовского.
Мама обмолвилась, что ей нравится «Василий Теркин». Нора Аркадьевна пожала плечом:
— Ну, что же…
— Вы хотите сказать, что это плохая поэма? — слегка взвинченно спросила мама. Опустила в кроватку уснувшего Андрюшку и повернулась к Норе Аркадьевне «всем фронтом».
— Отнюдь. У нее немало достоинств. Прежде всего ее, так сказать, массовость и доступность. Но… у каждого свой вкус. Я не люблю поэзию, которая пахнет кирзовыми сапогами. А кроме того, я не могу простить Твардовскому, что он предал Пастернака.
— Возможно, его вынудили обстоятельства, — осторожно сказала мама.
— Ну разумеется! От стремления приспособиться к обстоятельствам и начинаются все на свете подлости… Кстати, через месяц после своего гнусного письма Борису Леонидовичу Твардовский и компания направили почти такое же Паустовскому. В столь же хамском стиле. По поводу повести «Время больших ожиданий». Этот случай мало известен, потому что письмо не публиковалось. Правда, с Паустовским дело не выгорело, его повесть, которую выкинул «Новый мир», вскоре напечатал другой журнал…
Симка ничего не понимал в этом споре. Но он читал книжку Паустовского «Далекие годы», и она ему очень нравилась. Поэтому он ощутил к Твардовскому нечто вроде хмурого недоверия. Но мама в этот момент сказала:
— Если человек в чем-то случился неправ, не значит, что надо зачеркивать его талант. А кирзовые сапоги… вы же сами знаете, в них воевала вся страна.
— Естественно, — кивнула прической с волосяными калачами Нора Аркадьевна. — Но я не вижу здесь предмета для поэзии… Впрочем, я совершенно не склонна опровергать вашу точку зрения, но позвольте и мне, Анна Серафимовна, остаться со своей…
После этого она сухо попрощалась и ушла.
Теперь Симка был, конечно, опять на маминой стороне и сказал, когда закрылась дверь:
— Какая вредина!
— Не говори глупости, — насупленно отозвалась мама. — Каждый имеет право одних поэтов любить, а других не любить… Нора Аркадьевна замечательная женщина. Ты же ничего про нее не знаешь. В этих самых кирзовых сапогах она в войну прошагала от Москвы до Германии…
И Симка узнал тогда от мамы, что дядя Саша и Нора Аркадьевна ушли на войну в один день, в июле сорок первого года. Оба добровольцами. Брат и сестра надеялись, что им посчастливится воевать вместе. Но военное начальство распорядилось иначе и разбросало их по разным местам. Дядя Саша попал в артиллерийскую разведку, а Нора Аркадьевна сперва была зенитчицей, а потом радисткой в разных штабах и в каком-то спецбатальоне. Однажды попала в плен. Правда, очень скоро ее освободили, и она воевала дальше, получая боевые медали. Но в сорок восьмом году, когда она жила под Москвой, ее арестовали — за то, что когда-то оказалась в недолгом плену! — и выслали в Турень. Хорошо еще, что не посадили, как многих! Брат поехал за ней и стал здесь охотоведом.
Четыре года назад, когда разоблачили культ личности Сталина (который, как стало известно, ни за что сажал в тюрьмы и лагеря миллионы людей), Норе Аркадьевне сказали, что она ни в чем не виновата. Но она уезжать из Турени не стала, решила остаться поближе к северным местам, где ходил с экспедициями ее младший брат Саша.
Симка слушал маму с пониманием. Кое-что о таких делах он знал и раньше. Ведь и отец Игоря до войны пострадал из-за этого самого культа…
На Нору Аркадьевну с той поры Симка смотрел более благосклонно. В ее некрасивости ему стала чудиться даже некоторая симпатичность.
В начале прошлого года Нора Аркадьевна пришла с деловым видом и сказала, что на днях уезжает в Москву и Ленинград. Проведать друзей и повидать любимые места. Недели на две. И, если Анна Серафимовна не возражает, можно было бы взять в поездку Симу. Мальчику для его развития полезно посмотреть на столичные города и памятники культуры.
Мама сперва, конечно, возражала. Ну как же так! Лишних денег нет нисколечко, и она не может допустить, чтобы Нора Аркадьевна брала такие расходы на себя.
Та с достоинством возразила:
— Сима брат Андрюши и, значит, в какой-то степени мой племянник. По-моему, вполне естественно, если я хотя бы раз в жизни позабочусь о нем. И кроме того, Анна Серафимовна, я должна признаться, что в моем плане есть немалая доля эгоизма…
Мама глянула на нее с опаской.
Нора Аркадьевна разъяснила:
— Про Льва Толстого рассказывают, что однажды, собравшись путешествовать по Альпам, он взял в спутники мальчика. Чтобы в пути можно было о ком-то заботиться и меньше тревожиться за себя. Я беру пример с классика…
Мама хотела еще что-то возразить, но увидела умоляющие Симкины глаза и сдалась. В самом деле, когда еще выпадет сыну такая счастливая возможность? Москва, Ленинград… До сих пор он выезжал из Турени только раз — в соседний городок Ялупаевск, с братом Игорем, когда тот ездил навестить приятеля…
Поездка заняла две недели, а запомнилась, будто долгое-долгое путешествие. Из нее Симка привез свой любимый стеклянный значок.
…Именно этот значок он сжимал в кулаке утром, когда проснулся после ночной истории с тайником.
Хотя надо сказать, что ночью Симке снилось не путешествие. И не тайны, связанные с бутылкой и старинным планом города. И не вчерашние приключения с пустотелой линзой и пароходом «Тортила». Ему приснилось (уже не первый раз), что он запущен в космос в наглухо запаянном шаре-спутнике и с отчаянной тоской смотрит в крохотный иллюминатор на далекую голубую Землю. Никогда он не вернется в свою Турень, не увидит маму и Андрюшку! Даже ни единой земной травинки не увидит! Хотя бы сделать напоследок глоток настоящего свежего воздуха, который пахнет прибрежной полынью и влажным песком… Но воздух в железном шаре пахнет почему-то ацетонным клеем и становится все тяжелее, не продохнешь. Скоро конец. Вот так же, наверно, кончала свою жизнь собака Лайка.
Рвануться бы, крикнуть: «Я не хочу! Зачем меня сюда засунули! Не имеете права!» Но это абсолютно бесполезно . Никто не услышит. И к тому же этот спутник все равно не приспособлен к возвращению на Землю. Скоро он войдет «в плотные слои атмосферы» и сгорит, как метеор… Что страшнее: задохнуться или сгореть заживо? Господи, какая тоска!..
Кто-то стучит снаружи по обшивке. Встречные метеориты? Похоже, будто ворона клювом по железной крыше. Живой кто-то… Спутник вдруг делает резкий рывок, в теле исчезает тошнотворная невесомость, вместе со своей круглой тюрьмой Симка падает на что-то упругое, шар подскакивает. В окно ударяет зеленый свет!
Люк откидывается со ржавым скрипом. В него опускает голову Соня. Роняет рыжую панамку.
— Ты живой? Вылезай, пока опять не запустили!
Симка отчаянно рвется наружу, сбивает о край люка колено (как вчера в щели забора). Прыгает в мягкую траву с синей россыпью колокольчиков. Они с Соней хватают друг друга за руки и бегут сквозь эту траву к вырастающему на горизонте городу. Боже, какое счастье…
Прежде всего Симка снова осмотрел бутылку. Со всех сторон и на просвет. Да, она была совершенно пуста. Потом он поизучал старинный план Турени. Затем повторил опыт с большой и маленькой линзами («Получится телескоп? — Получится»!)
Отнес маме с Андрюшкой передачу и узнал, что их выпишут через шесть дней. Ура! (Хотя лучше бы через два или даже завтра.)
И после этого он занялся главным — отправился на разведку в места, отмеченные крестиками на плане.
Увы, разведка не дала ничего интересного.
В том ответвлении лога, где оказался Симка (впервые в жизни), все было обыкновенно. Журчал в осоке ручей — приток Туреньки. Под откосами громоздились в бурьяне мусорные кучи. Пахло разогретым полуденными лучами чертополохом. Поверху тянулись одинаковые серые заборы. Место, обозначенное на плане (который Симка рассматривал, время от времени таинственно вынимая из-под ковбойки), тоже было скрыто забором.
Симка поднялся по откосу, раздвигая плечами репейники. Забор как забор. Щелей не было. Симка прошел шагов двадцать, дощатая ограда повернула под острым углом, Симка оказался в проходе с травянистой тропинкой. Увидел в заборе калитку. Она была приоткрыта. Симка заглянул.
Ну и что? Двор как двор. Деревянный дом с большим нижним этажом и маленьким верхним (называется мезонин). Высокие поленницы. У дальнего сарая два клена, между которыми привязан гамак, в гамаке никого нет. Зато у поленницы возился с мотоциклом дядька в синей майке — стриженый затылок, квадратные голые плечи с татуировкой. Звякал ключами.
Вышла на крыльцо несимпатичная тетка, закричала на мужика: чего он, мол, опять занимается всякой фигней, когда обещал дома переставить на кухне шкаф. Как при такой собачьей жизни ее еще ноги носят (эту тетку то есть)! Дядька, не разгибаясь, сказал в ответ слова, от которых у Симки уши будто обмакнулись в горячие щи. Он попятился… Вздохнул и пошел прочь. То, что он увидел и услышал, было скучно, противно и обыкновенно. И никаких тайн здесь, конечно, давным-давно уже не водилось. Единственное яркое пятнышко застряло в Симкиной памяти: что-то красное, лежащее в гамаке. Будто большой цветок. Но он не успел разглядеть, что это. Да и не все ли равно…
Может быть, отыщется какая-то тайна на берегу, во втором отмеченном крестиком месте?
До того места (с надписью «бес.» на карте) дорога была немалая. Симка успел на ходу поправить настроение от прежней неудачи и мурлыкал песенку про «моржу».
На улице Попова, довольно далеко от дома, его вдруг окликнул Фатяня:
— Эй, Зуёк! Куда прыгаешь?
Косоватая улыбка Фатяни была довольной, и лицо казалось даже слегка округлившимся. Сразу стало ясно, что дела его благополучны. И все же Симка сказал:
— Салют. Как там в училище-то?
— Приняли, елки-палки! Правда прочитали лекцию: если, мол, что не так, то смотри… Но взяли!
— Значит, я не зря старался! — Симка показал согнутый мизинец. Он был уже разбинтован, но с кожи еще не сошел бледный фиолетовый налет.
— Вот спасибо тебе, — пуще прежнего расплылся Фатяня. — А то я даже удивлялся: чего это так гладко все прошло? Значит, с твоей подмогой… Ты, я гляжу, надежный человек.
— Да чего там… — скромно сказал Симка.
Фатяня перестал улыбаться и спросил уже совсем иным тоном:
— А с мамой что? И с братишкой?..
— Обещают выписать в будущий понедельник.
— А пока один хозяйничаешь? С продуктами-то как?
— Соседи кормят.
— Тогда ладно. А если что надо, заходи…
— Ага! — весело сказал Симка. Просто так, из вежливости.
— Ну, бывай…
— Пока…
И они разошлись, как два добрых приятеля.
Встреча с Фатяней показалась Симке доброй приметой. Он облизывал бледно-фиолетовый мизинец и думал, что впереди будет удача.
Но у реки Симку опять ждало разочарование.
Оказалось, та часть берега, где когда-то (если верить шуршащему под рубашкой плану) стояла беседка, сползала в воду. Видимо, давно. Река упорно подмывала откосы и с давней дореволюционной поры успела сглодать несколько прибрежных кварталов. Какая уж тут беседка. Вместо нее неподалеку стоял синий киоск «Мороженое», но у Симки не было двух рублей, чтобы смягчить огорчение.
Стараясь хоть как-то утешить себя, Симка вынул из кармана стеклянный значок и поднес к глазу.
Мир, увиденный сквозь мятый округлый кусочек стекла, сделался изогнутым, расслоившимся на несколько пространств — они таинственно сплелись между собой и украсились радужными пятнами. Наверно, такие миры возникают за волшебными дверьми, которые открываются в сказках…
Симка любил все, что связано с прозрачностью и преломлением лучей. Может, потому, что у него такая была фамилия? В любом осколке стекла, в просвеченном солнцем стакане с водой, в пластике слюды или плексигласа ему всегда чудилась загадка. А иногда там была и память о прошлом.
«Может быть, тот мальчик тоже смотрит сейчас сквозь такой же значок, — подумал Симка. — И вспоминает меня…»
Их встреча была совсем короткой, даже не спросили, как зовут друг друга. Но Симка помнил того мальчишку, как самое главное в том путешествии. Воспоминания о других событиях собирались вокруг этой встречи, словно железные опилки вокруг магнитного полюса. Или наоборот — разбегались от нее, как разбегаются от брошенного камешка круги искрящейся и очень чистой воды…
Часть вторая ГОД НАЗАД
СТОЛИЦА
То прошлогоднее путешествие началось девятнадцатого июня в десять часов утра по местному времени. Пассажирский поезд «Турень—Москва» нехотя дернулся, лязгнул сцепками и поехал вдоль перрона. Мама с Андрюшкой на руках (тогда еще совсем крохой) торопливо замахала с дощатой платформы. Симка тоже замахал — сначала из-за толстого бока добродушной проводницы, а потом (когда проводница шуганула его) из открытого окна в вагонном коридоре. Вагон ехал вроде бы медленно, однако мама и Андрюшка уменьшались очень быстро. У Симки щекотнуло (уже не впервые за сегодняшнее утро) в горле, и он, чтобы сохранить мужество, включил в себе храбрую песню: «Жил отважный капитан, он объехал много стран…»
Маму и Андрюшку скрыла стоявшая на перроне будка. В горле защекотало сильнее, и Симка высунулся из окна почти по пояс. Нора Аркадьевна тронула его за поясницу.
— Не волнуйся и не грусти. Радуйся поездке. Она будет хорошей.
И Симка послушался. Ничего другого и не оставалось. Он сказал себе, что и в самом деле все будет хорошо. Мама и Андрюшка сейчас благополучно вернутся домой и потом две недели проживут без особых хлопот, несмотря на его, Симкино, отсутствие, потому что рядом тетя Капа и другие добрые соседи. А его ждет первая в жизни дальняя дорога — когда-то же это должно было случиться!
Он впервые в жизни ехал на поезде. До Ялупаевска и обратно, до Турени, они с Игорем добирались на автобусе. Симку тогда, кстати, изрядно укачало. Но в вагоне укачивать, разумеется, не будет. Подтверждая это, колеса выстукивали бодрый нескончаемый марш. Этакую мелодию длинных путей. Потом Симка в жизни слышал ее много-много раз, потому что, когда вырос, поездить пришлось ему немало. Но то первое утро первого путешествия с высоким летним солнцем над пригородными крышами, убегающими назад тополями и этим вот волнующим перестуком оставило радость на всю жизнь…
А дорога до Москвы после вспоминалась сбивчиво и перепутанно — как отдельные картины на фоне кружащихся полей и размытых зеленых полос, в которые превращались пролетающие мимо вагона леса…
Отрывочно запоминались городки и деревни. Красные трамваи на привокзальной площади Свердловска (Симка видел трамваи впервые). Гудящий мост над Волгой, белый Казанский кремль. Черные былинные церкви Мурома на фоне заката… Потом казалось порой, что все это было очень долго, а порой — будто промелькнуло за два часа.
Симка проводил время у открытого окна в коридоре. Высовывал голову (хотя проводница сказала, что ее запросто может оторвать близким столбом или деревом). Пахнувший лесом и смолой разогретых шпал ветер ставил торчком его волосы. Симка подставлял ветру ладонь — ребром, как самолетное крыло. Если ладонь чуть повернуть вниз, поток воздуха старается пригнуть ее к земле; если вверх — она стремится взлететь. Видимо, это и называется «подъемная сила».
Ладонь покалывали невидимые в воздухе встречные пылинки и кусочки угля. Одна влетела в глаз и сидела там с полчаса, но и это не испортило Симкиного настроения. Он торчал в коридоре час за часом, стоя на приступке под окном, навалившись животом на поручень, а грудью — на раму опущенного стекла. Переступал от волнения и о стенку протирал на коленях вельвет коричневых поношенных штанов с манжетами на икрах…
А когда ноги уставали, Симка забирался на верхнюю полку в купе и опять высовывал голову из окна. Они с Норой Аркадьевной договорились, что с утра до вечера верхняя полка будет в Симкином распоряжении. «А уж ночевать, голубчик, изволь на нижней. А то я не сомкну глаз, буду ждать, когда ты загремишь с высоты…»
Купе было четырехместным. Соседи оказались вполне подходящие, не мешали Симке наслаждаться дорогой. Один был сухонький седой пенсионер, бывший кассир. Он рассказал Норе Аркадьевне, что едет в Подмосковье навестить дочь и внуков, а потом спал или читал растрепанный томик «Тихого Дона». Другой сосед — толстый, всегда полупьяный дядька — проводил время в соседнем купе, где ехали его друзья, и на свое место приходил только ночевать.
На полке было еще лучше, чем в коридоре. Особенно Симке нравилось, когда поезд мчался по высоким насыпям, а внизу проплывали верхушки еловых и березовых лесов. Легко можно было представить, что ты на самолете… И вся земля кружилась, бежала, уплывала назад. И только желтовато-белые груды облаков казались неподвижными. Они были похожи на покинувшие океанскую поверхность и повисшие в небе острова…
Солнце долго не заходило за леса, и ночь никак не наступала. Сонливая усталость наваливалась раньше сумерек. А в первую ночь дороги навалилась еще и печаль. О доме. Днем-то все было замечательно, а тут, когда Симка перебрался на нижнюю полку и натянул на себя простыню, вдруг сразу сделалось горько-горько. Так, что не надо бы и никакой Москвы, никакого Ленинграда, а лучше оказаться бы дома на привычной кровати, в своей комнате, и слышать, как за стенкой мама убаюкивает Андрюшку.
Нора Аркадьевна села на краешек полки. Тронула Симкино плечо. Кассир-пенсионер похрапывал, полупьяного дядьки еще не было. Нора Аркадьевна вполголоса сказала:
— Я знаю, что тебе сейчас грустно. Так обязательно бывает, когда мальчик первый раз уезжает из дома. Ты… если хочешь, можешь даже всплакнуть в подушку. Но не сильно. Потому что большой причины для слез нет. Обещаю тебе, что поездка будет хорошей…
Симка, который как раз собирался незаметно всплакнуть, отменил это дело, но слезинки застряли в горле, и он сказал хрипловато:
— Я беспокоюсь, как там они… без меня…
— Уверяю тебя: там все в порядке… Из Москвы мы сразу дадим срочную телеграмму, что доехали благополучно, и попросим маму прислать ответную. До востребования…
— Тогда ладно… — И Симка уснул под стук и потряхиванье…
В Москве они так и сделали: с почтового отделения на Казанском вокзале (ошарашившем Симку простором и многолюдьем) дали срочную телеграмму в Турень. И вышли на Комсомольскую площадь, которая, по словам Норы Аркадьевны, называлась еще «площадь трех вокзалов».
Чудеса начались сразу. Сперва Симка задрал голову на башню ближнего высотного здания. А когда глянул перед собой, увидел посреди площади что-то великанское и сверкающее. Вроде как гигантский чудо-цветок Данилы-мастера из книги «Малахитовая шкатулка».
— Это что? Фонтан или памятник?
— Ни то, ни другое. Это временное сооружение, я читала в газетах. Реклама Выставки чешского стекла. Она только что открылась в Москве. Говорят, очень интересная.
Все, что касалось стекла, волновало Симку.
— А мы туда сходим?
— Боюсь, что на нее большие очереди… Посмотрим…
Потом было метро, тоже ошарашившее Симку. И он чуть не отстал на эскалаторе, случайно выпустив руку Норы Аркадьевны. Они вышли на станции с громадными витринами из разноцветных стекол, называлась она «Новослободская». Наверху Нора Аркадьевна сказала:
— Дальше можно на троллейбусе, а можно и пешком. Здесь недалеко.
Симка сказал, что лучше пешком. Чемоданы у них были совсем не тяжелые (Симкин вообще как пустой ящик для посылки). Свернули на улицу, по которой ездили дребезжащие трамваи и которая называлась Палиха. Затем оказались в заросшем отцветшей сиренью переулке — у дома, где жили знакомые Норы Аркадьевны. Дом был трехэтажный, с зеленоватой обшарпанной штукатуркой. На лестнице пахло влажной известкой и керосином. Но даже этот малоаппетитный запах показался Симке особым — московским.
В заставленной книжными шкафами квартирке Нору Аркадьевну и Симку встретили пухлая пожилая тетенька и сухощавый лысый мужчина в очень прозрачных, как у Норы Аркадьевны, очках. Тетенька с причитаньями долго обнимала сдержанную Нору Аркадьевну. Попыталась пообнимать и Симку, но он терпел это лишь секунду и вежливо извернулся.
Мужчина — Валентин Константинович — с полупоклоном пожал Симке руку и тут же перед всеми извинился:
— Вынужден оставить вас до вечера. В институте сессия…
Пухлая тетенька Варвара Олеговна принялась кормить гостей обедом.
Симке есть совершенно не хотелось. Хотелось поскорее отправиться на Красную площадь — всем известно, что в Москве и во всей стране это главное место. Симка умоляюще сказал, с трудом одолев полтарелки борща:
— Нора Аркадьевна, у нас же очень мало времени…
— Все равно тебе сначала надо помыться с дороги… Варенька, ванна у вас в порядке?
«Вареньку» дернуло за язык, что в порядке. Симка взвыл:
— Ну мы же никуда не успеем! В ванну можно вечером!
— У тебя в волосах килограмм угольной пыли…
— Да кто их будет проверять? Милиция, что ли?
Нора Аркадьевна глянула на подругу, незаметно развела руками. Та понимающе поулыбалась. Хорошая женщина…
— Но хотя бы переодень рубашку, — велела Нора Аркадьевна. Симка торопливо сменил красно-желтую мятую ковбойку на другую — сине-зеленую, которую достал из чемоданчика. Она все еще пахла маминым утюгом. Симка подтянул штаны, поддернул под коленки съехавшие вельветовые манжеты. Переступил ногами, как нетерпеливый бегун на старте.
— Нора Аркадьевна, я готов.
— Хорошо… — она глянула вслед вышедшей из комнаты Варваре Олеговне. — Сима, голубчик, можно попросить тебя об одной услуге?
— К… какой? — подозрительно сказал он и почему-то смутился.
— Если нетрудно, называй меня не по имени-отчеству, а «тетя Нора». По крайней мере, во время поездки. Так оно будет… естественнее. И понятнее для окружающих…
Симка смутился еще сильнее.
— Хорошо, но… тетя Нора…
— Спасибо, голубчик.
…И опять было метро. И Красная площадь, поразившая Симку бесконечностью зубчатых стен и высотой острых башен. И небывалое волшебство собора Василия Блаженного — словно кто-то соединил в одном строении все чудесные русские сказки…
По отполированной миллионами ног брусчатке тетя Нора и Симка пришли к ступенчатому мавзолею. У входа, приподняв подбородки, застыли часовые. На широченной каменной доске были четко вырублены два слова:
ЛЕНИН
СТАЛИН
Было непонятно, почему, если Сталин натворил столько всяких злодейств, он лежит рядом с добрым и мудрым Ильичом. Симка шепотом спросил об этом тетю Нору.
— Думаю, это ненадолго, — вполголоса ответила она.
Мавзолей был нынче закрыт для посетителей. Симка вздохнул с деланным сожалением. Конечно, с одной стороны это интересно, а с другой… по правде говоря, он побаивался смотреть на покойников, пускай даже таких знаменитых.
В Кремль в тот день тоже почему-то не пускали. Тетя Нора сказала, что это не беда, можно прийти завтра. А пока они обошли Кремль снаружи, походили по центральным улицам, и Симка увидел много того, о чем раньше слышал и читал: знаменитую гостиницу «Москва», Большой театр, остатки Китай-города, Моссовет, памятник Юрию Долгорукому (о нем тетя Нора отозвалась без одобрения: «Слишком помпезное изваяние…»). Посидели в прохладном кафе, попробовали московского мороженого. Оно было чудесное, жаль только, что мало, а попросить вторую порцию Симка постеснялся.
После этого погуляли еще — Симка вертел головой как заведенный — и снова оказались у Москвы-реки. Здесь, у каменных ступеней, была пристань катеров, которые назывались речными трамваями. Постояли в очереди за билетами, заняли места на кормовой палубе и поплыли вдоль гранитных берегов, мимо многоэтажных прибрежных улиц, мимо густого парка с каруселями и колесом обозрения, под высоченными мостами. Тетя Нора что-то рассказывала, но Симка пропускал слова мимо ушей. Ему хватало того, что он просто видел.
Навстречу попадались такие же речные трамваи и длинные грузовые теплоходы — гораздо больше тех, что в Турени. Симка отметил это с некоторой завистью. Ну, оно и понятно: Москва — порт пяти морей. «А зато по нашей реке, а из нее по другим можно попасть в Ледовитый океан, — утешил свою гордость Симка. — Недаром на старинном гербе Турени кораблик»…
Сошли на пристани под береговыми кручами. Зеленые откосы были не в пример выше тех, что над родной Симкиной рекой. Тетя Нора сказала, что это Ленинские горы. Симка сразу вспомнил песню про студентов, которую то и дело передавали по радио: «Друзья, люблю я Ленинские горы, когда рассвет встает над всей Москвой…»
— А раньше они назывались Воробьевыми, — сообщила тетя Нора. — Здесь дали свою знаменитую клятву Герцен и Огарев. Ты слышал о Герцене?
Симка что-то слышал. В Турени была улица Герцена, где друг против друга располагались городской театр и цирк. Так он и сказал.
— Обязательно прочитай его книгу «Былое и думы». Чудесное сочинение, — посоветовала тетя Нора. Мягко так, ненавязчиво.
Она все советовала ненавязчиво. Например, как отучиться размахивать руками, когда шагаешь по улице, или как правильно держать нож и вилку (это, когда обедали в вагоне-ресторане). Мама тоже учила Симку приличным манерам, но мамины наставления он не очень-то запоминал. А не слушаться тетю Нору Симка стеснялся. И сейчас ответил, что ладно, обязательно прочитает книжку Герцена…
Во время разговора они поднимались по дорожкам, аллеям и ступеням все выше, выше. Кругом темнела прохладная листва старых лип и дубов. Дубы Симка видел впервые, в Турени их не было. А за деревьями, за рекой все шире делалась панорама города. И когда оказались на береговой площадке, у перил из красного гранита, Симка задышал так, словно хотел вобрать в себя все громадное пространство…
Столица уходила за дымчатый горизонт. Острыми скалами вздымались высотные дома. Искрились купола. Симка различил вдали Кремль. А ближе, недалеко от реки…
— Нор… тетя Нора, это что? Еще один Кремль?
— Это Новодевичий монастырь. Очень знаменитый. Туда царь Петр заточил свою сестру Софью, чтобы не устраивала смуту. Слышал про такое?
— Ага. В кино видел…
— Вот и хорошо. Только лучше говорить не «ага», а «да»…
— А это стадион Лужники?
…Столица словно специально готовилась, чтобы удивить приезжего Симку. Знаменитый стадион был открыт совсем недавно (по сравнению с возрастом Москвы). И еще «недавнее» был построен знаменитый метромост через Москву-реку. Симка видел, как за его стеклами мелькали вагоны.
А над бесконечным городом, над зелеными кручами, среди которых приютилась маленькая белая церковь, над рекой с катерами и теплоходами стояли все те же кучевые, похожие на острова облака, которые Симка видел из вагона.
— А теперь смотри… — тетя Нора мягко повернула Симку за плечи, спиной к берегу. И Симка опять чуть не ахнул вслух. Над ним вздымал свою великанскую башню со звездой университет. В точности такой, каким Симка видел его на снимках и в кино, только в тысячу раз необъятнее. Симка уже слышал где-то, что от смотровой площадки до университетских ступеней ровно километр, но казалось, что громада здания придвинулась вплотную.
Они с тетей Норой пошли по широкой аллее мимо бюстов, бассейнов, фонтанов, и гигантское строение вздымалось, и Симкина голова задиралась все сильнее. Чуть не отвалилась…
Недалеко от университета они снова спустились в метро. Поехали к центру. За стеклами метромоста мелькнула река. На ней уже заметна была предвечерняя желтизна.
Когда подходили к дому, Симка вдруг почувствовал, что ноги еле слушаются. И все вокруг было слегка размытым, как при взгляде сквозь волнистое стекло.
В комнате Симка присел на плюшевый диван, от которого уютно пахло старой квартирой. На минутку присел. Его позвали ужинать, и он сказал «щас» (и вспомнил, что надо говорить не «щас», а «сейчас»), и прилег щекой на мягкий валик. В окна еще светило желтое солнце — дни-то были самые длинные в году, — но Симку окутали синие сумерки. Какой там ужин, какая ванна…
СТЕКЛЯННЫЙ ЗНАЧОК
Он спал бы, наверно, до полудня, если бы не отчаянная необходимость сбегать кой-куда… Ему даже приснилось, что он уже сбегал — у себя в Турени, в будочку на дворе, — но это не принесло реального облегчения. Пришлось просыпаться.
Симка обнаружил, что лежит на том же диване, но раздетый, только в трусах, на простыне, подушке и под мягким клетчатым покрывалом. Интересно, кто его раздевал и укладывал? Скандал какой… А впрочем, наплевать. Лишь бы успеть! Одеваться было некогда. Хорошо, что это место было не на дворе, как в Турени, а здесь же, в коридорчике. Симка, никого не встретив, юркнул за обшарпанную дверь и там испытал великое облегчение — это был уже не обманчивый сон, а сладкая реальность.
Он вышел и наткнулся на Варвару Олеговну. Смущенно зачесал пяткой ногу и пробормотал «здрасте». Скользнул к дивану, схватил со стула и начал натягивать штаны, а Варвара Олеговна сказала в открытую дверь:
— Выспался наконец, Симушка? Ты не одевайся, а ступай прямо в ванную, я уже приготовила. Вчера-то уж не до мытья тебе было…
— А где тетя Нора?
— Решила сходить в магазин, пока ты спишь… Она тоже недавно встала, мы с ней проговорили полночи. Мы ведь почти всю войну были рядом, есть что вспомнить… Ну, иди мойся, а потом уж завтрак…
Пришлось послушаться. Варвара Олеговна объяснила, где полотенце, где мыло и мочалка и как включается душ. Ушла, и Симка старательно запер дверь на медную задвижку.
Погрузился в очень теплую, пахнущую земляникой воду. Вот благодать-то! Первый раз он мылся в настоящей ванне. Полежал, побулькал, ощущая радостную невесомость. Намылил голову. Сквозь шипучую пену услышал, что за дверью раздались голоса: вернулась тетя Нора.
— Сима, доброе утро! Ты моешься?
«Нет, рыбу ловлю», — чуть не брякнул он.
— Конечно, моюсь!
— Нора, помоги мальчику оттереть себя. На нем столько пыли! — вмешалась Варвара Олеговна.
«Еще чего!» — хотел возмутился Симка, но с перепугу только пустил губами мыльные пузыри.
— Что ты, Варя, он уже большой мальчик, — образумила подругу Нора Аркадьевна. — Мой Шурочка с восьми лет не подпускал меня, если мылся в корыте. — Она всегда говорила про брата «Шурочка».
Симка сердито надраивал мочалкой плечи. На Варвару Олеговну он обиделся за глупый совет. А Нору Аркадьевну зауважал еще больше. Ее брата, дядю Сашу, он понимал. Сам Симка тоже с восьми лет не позволял маме мыть себя в корыте, ходил в городскую баню со знакомыми мужчинами, а иногда и один…
Он еще долго бултыхался в ванне, потом танцевал под душем. Вытерся длиннющим пушистым полотенцем и лишь тогда вспомнил, что не взял чистое белье. Обмотал полотенце вокруг себя, как древний воин набедренную повязку, и приоткрыл дверь.
— Тетя Нора, дайте, пожалуйста, из чемодана трусы и майку, я забыл…
— Сейчас… Я купила тебе другое белье, полегче. Вот… — Она просунула в дверь перевязанный шпагатом сверток.
Симка порвал бумажный шпагат и увидел синие, похожие на трикотажные плавки, трусики и белую шелковую маечку. Для чего? Чем это лучше того, что положила в чемодан мама?.. Но спорить было неудобно. Симка натянул обновки. Скачками добрался до комнаты, схватил со стула одежду.
Тетя Нора шагнула следом.
— Подожди-ка. Я принесла тебе костюмчик, примерь. Если окажется не по размеру, можно будет обменять…
— Зачем? Вы и так на меня столько тратите, — насупился Симка.
— Какие пустяки. Я хочу, чтобы мой племянник выглядел более цивилизованно. По-европейски… — И зашуршала оберточной бумагой.
В свертке оказался серовато-коричневый пиджачок и такие же брючки.
Сразу стало ясно, что обменивать не придется, все в самый раз. Только…
— Чё они такие… — Симка опасливо продергал кромки штанишек. — Совсем куцые…
— Во-первых, не «чё», а «что», дорогой мой. А во вторых… Ты же бегаешь по Турени в трусиках и маечке и не стесняешься, а тут вдруг…
Она не понимала. Пацаненок в трусах и майке на туреньских улицах был как рыбка в воде. В своей стихии. Вполне «вписывался» в окружающую среду и привлекал внимание не больше, чем растрепанный одуванчик у края тротуара. А здесь было что-то непонятное. Пиджачок взрослого покроя, на штанах тоже всякие хлястики и карманы, как у настоящих брюк, но длина (вернее, «короткость») такая, что из-под подола торчат лишь краешки. Будто у брюк в наказание за что-то взяли и до отказа обрезали штанины.
— Ноги все наружу по самый корешок, — сумрачно сообщил Симка.
Нора Аркадьевна сделала вид, что приглядывается:
— По-моему, ты не прав. Никакого корешка не видно.
Симка покраснел. Он совсем не это имел в виду! Просто не так выразился. А тетя Нора тоже хороша! Где-то вся ужасно воспитанная, а где-то возьмет и ляпнет такое, что дым из ушей. Как, например, вчера, когда стояли в очереди за билетами на речной трамвай. Какой-то вертлявый парень в стиляжьей рубахе и брюках-дудочках начал было втираться впереди тети Норы. Она ласково сказала:
— Сударь, оставьте ваши попытки. «Вас здесь не стояло».
Тот, однако, продолжал пристраиваться.
— Я предупреждаю последний раз, — прежним тоном проговорила Нора Аркадьевна.
— А что будет дальше? — нахально поинтересовался стиляга.
— Будет крепкий пинок по вашей тощей заднице.
Парень отскочил на три шага. Подумал, сказал с укоризной:
— А с виду вроде бы культурная женщина.
— Голубчик, истинная культура предполагает поведение и поступки, адекватные обстоятельствам, — охотно отозвалась Нора Аркадьевна.
Стиляга подумал и пошел в конец очереди.
Симке было неловко за тетю Нору. Эта неловкость не оставила его даже на палубе. И, чтобы сгладить неприятное ощущение, Симка спросил:
— Тетя Нора, а что такое «адекватное»?
— Это значит «наиболее подходящее к данному случаю»… Например, однажды, когда Шурочке было тринадцать лет, он пришел от приятелей с бледным лицом и запахом пива. Я велела ему вытащить из петель на брюках ремень и сказала, что сейчас он получит адекватно своему безобразному поступку. Он ощутил эту адекватность и не спорил.
— И вы его отлупили?! — выговорил Симка сокрушенно и с некоторой опаской на свой счет.
— Конечно, нет! Я была тогда еще слабовата характером и разревелась, как дура. Он, кстати, тоже. А когда мы кончили реветь, он поклялся, что не будет пить ничего крепкого, пока не вырастет.
— И не пил?
— Пока не стал ходить в экспедиции. Там без спирта не обойтись…
Сейчас Симка вспомнил этот разговор и понял, что надо вести себя адекватно обстоятельствам. То есть покориться судьбе. Тетя Нора старалась, покупала, и было бы свинством дальше капризничать и упрямиться. В конце концов, за радости путешествия надо чем-то платить…
Чтобы сохранить хоть капельку достоинства, Симка выдернул из старых потертых штанов школьный ремень с форменной пряжкой и продернул его в новые, костюмные. Тетя Нора не возражала. Наблюдая за Симкиными стараниями, она разъяснила:
— Это чехословацкий фасон, швейная фабрика в Праге, на подкладке есть ярлычок. Сейчас такая мода у мальчиков во всех европейских странах. И наше министерство просвещения собирается ввести форму подобного образца в начальной школе, я видела статью и фотографии в «Огоньке».
«Этого еще не хватало!»
Первые полчаса на улице Симка чувствовал себя очень неуютно. В витринах отражался голенастый пацаненок с тонкой шеей, розовыми ушами и промытыми, тщательно расчесанными тетей Норой волосами, которые все равно лохматились. В нелепой одежонке иностранного фасона. «Пиджак на тросточках…» В добавление к костюму тетя Нора дала Симке светлые короткие чулочки, которые называются «гольфы». Но толку-то от них! Еще более девчоночий вид… Симка казалось, что все прохожие смотрят на него с тайной ухмылкой и думают о крапиве.
Но скоро все эти ощущения и опасливость растаяли в Симке. Во-первых, он увидел, что среди прохожих немало мальчишек в таком же наряде и они чувствуют себя бодро и независимо. Во-вторых, костюмчик, хотя и купленный без примерки, пришелся в самую-самую пору, словно сшитый по заказу у лучшего пражского портного. Пиджачок оказался легоньким, в нем было совсем не жарко, хотя июньское солнце пекло с такой силой, что размягчался асфальт и новенькие Симкины сандалии отпечатывались на нем, как на глине.
Скоро Симка стал ощущать себя в костюме так, будто носил его всю жизнь. А в широких магазинных стеклах теперь отражался аккуратный московский (или даже «европейский») мальчик с любопытными глазами. Да и до костюмных ли тревог было, когда наваливалось столько всего !
Сперва Кремль, потом Третьяковская галерея, где Симка увидел множество знакомых по журналам и учебникам картин (хотя и знакомые, а на самом деле оказались в тыщу раз лучше!). Потом зашли на Главный почтамт и получили мамину телеграмму, что дома все в порядке и что «мы с Андрюшкой желаем счастливой поездки». От этого Симкино настроение подпрыгнуло, как столбик уличного термометра на солнцепеке. И сам Симка тоже радостно подпрыгнул, когда после обеда в маленьком кафе (рассольник, сосиски и мороженое) тетя Нора предложила:
— А не попытаться ли нам проникнуть на выставку стекла? В Москве ты побываешь еще много раз, успеешь посмотреть все достопримечательности. А этой выставки уже не будет…
Выставка располагалась недалеко от Кремля, в длинном старинном здании, которое называлось Манеж (раньше там дворяне учились ездить на лошадях).
Перед кассами стояла очередища, люди в ней ни на что не надеялись, потому что билеты были проданы на несколько дней вперед. Но тетя Нора оставила Симку недалеко от входа («Только умоляю: не сходи с места») и куда-то удалилась. И возвратилась, когда верный клятве Симка не покидал свой пост, но уже изнемогал от беспокойства.
— Вот! — она показала два билета. Оказалось, что у Норы Аркадьевны было удостоверение внештатного корреспондента «Туреньской правды». Авторитет этой неизвестной в столице газеты почему-то оказал воздействие на утомленного администратора. Он велел кассиру выдать билет.
— Если можно, два. Я с племянником. Сами понимаете, мальчик так мечтает…
Изнуренный администратор велел выдать два. Видимо, в Норе Аркадьевне было что-то гипнотическое.
К каждому билету полагался стеклянный значок-сувенир. Это была неровная прозрачная медалька, прицепленная шелковой ниткой к плоскому зажиму. На медальке — выдавленная надпись: «Выставка чешского стекла». Симка тихо взвыл от восторга: такая ценность, такая будет память! В Турени, скорей всего, больше ни у кого нет такого…
Значок так аккуратно поместился на лацкане, будто висел там всегда. Оно и понятно — чешское на чешском!
Сама выставка Симке запомнилась как царство стеклянного блеска, радужных вспышек, прозрачных изгибов и лучистых граней. В голове не помещалось обилие алмазно сверкающих ваз, облитых жидким струящимся светом фигур, просвеченных лампами кубков, искрящихся корабельных моделей и каких-то совсем непонятных (но красивых) сооружений.
Симка вертел головой, а вокруг — у разных витрин — вспыхивали маленькие радуги, как они вспыхивают в струях фонтанов.
Потом Симка и тетя Нора оказались в темном помещении, где шел фильм о стекле. Это был не обыкновенный фильм, а скорее стеклянный концерт. «Концерт для глаз» (хотя музыка там тоже звучала). На экране перемещались и проплывали хрустальные построения, кристаллы, излучающие брильянтовый блеск деревья и кораллы вперемешку с бликующими изделиями на бегучих конвейерах и прозрачными рыцарями на фоне сказочных замков. Замки были похожи на скопления великанских сосулек. Это уже само собой было музыкой — словно россыпь мелодичных капель и пение стеклянных флейт.
Особенно понравилась Симке синяя вода (непонятно — из стекла или настоящая), по которой плыли плоские обломки хрусталя. Этакий стеклянный ледоход…
Когда вышли из Манежа, Симка жмурился и мотал головой. Казалось, что все вокруг плывет, меняя контуры в прозрачных изгибах и перезванивая тысячами стеклянных колокольчиков. И сам он плыл, растворяясь в радостной невесомости.
— Понравилось? — осторожно спросила тетя Нора.
— Ага!.. Ой, то есть да.
— А что больше всего?
— Кино! Это во! — Симка вскинул большой палец и опять ойкнул: палец — это ведь тоже невоспитанно…
Тетя Нора посмеялась, взъерошила ему волосы, которые сама же тщательно расчесывала.
— Нам повезло. Могли и не увидеть. Власти долго не хотели разрешать этот фильм для показа.
— Почему?!
— Видишь ли, говорили, что это абстрактное искусство…
— Какое… искусство?
— Абстрактное. То есть такое, в котором нет людей и смысла. Оно, мол, противоречит принципам социалистического реализма и не способствует осуществлению грандиозных планов…
Симка не понял насчет принципов и реализма. Подумал и сказал:
— Как же нет смысла, если так красиво?
— Твои бы слова да нашим идеологам в уши, — вздохнула Нора Аркадьевна.
— В чьи уши? — опять не понял Симка.
— В уши дураков, — резковато ответила тетя Нора. И Симка долгое время был уверен, что идеологи и дураки — одно и то же (а потом, через много лет, снова пришел к этой мысли).
Тетя Нора повернула его к себе за плечи, глянула сверху сквозь очки (они были как частички той выставки).
— А теперь скажи: что еще ты хотел бы увидеть сегодня? У нас уже мало времени, вечером на поезд…
— Сегодня? — ахнул Симка. Он совсем про это забыл.
— Конечно. Ведь наша главная цель — Ленинград. Здесь лишь короткая остановка.
— Тогда… если это можно… Если успеем…
— Куда?
— Еще раз на Ленинские горы… — и Симка виновато засопел.
Тетя Нора глянула на часики. Потом за плечо повела Симку на край тротуара, там остановилась и подняла руку. Тут же у тротуара тормознула серая «Победа» с шашечками на борту. И Симка с тетей Норой по-королевски покатили по московским проспектам. Окошко было открыто, пахнувший асфальтом воздух дергал Симку за волосы дурашливой пятерней. Симка жмурился и смеялся…
Тетя Нора попросила шофера подождать, и они опять вышли на площадку с гранитными перилами. Вновь распахнулась перед Симкой Москва. И лежали над ней облака-острова. Казалось — те же, что вчера.
Симка ощутил печаль — когда он увидит все это снова?.
…Через несколько лет Серафим Стеклов прочитает удивительную книгу «Мастер и Маргарита», и там будет рассказано, что испытывает человек, глядя с Воробьевых гор на московскую панораму, когда прощается с городом. Нельзя сказать, что у Симки были те же чувства, что у мастера (ведь и прощался Симка не навсегда). Но все же, читая те страницы, он вспомнит себя на Ленинских горах… Однако это будет уже в другой жизни. А в ту пору про «Мастера и Маргариту» не слыхали ни Симка, ни Нора Аркадьевна. И ей не было суждено прочитать эту книгу…
Симка отцепил значок и глянул на Москву сквозь кусочек неровного стекла. Волнистая прозрачность и расплывшиеся в туман буквы превратили громадный город в размытое радужное пространство. Оно обещало в будущем новые радости и чудеса, но печаль не ушла совсем…
Поздно вечером в купе Симка натянул на себя простыню, отвернулся к дребезжащей стенке, но не спал. Тетя Нора что-то читала, не беспокоила его. На верхних полках шептались и хихикали две студентки. Ровно, привычно уже, отстукивали дорожный марш колеса. Симка думал о странных поворотах жизни — то радостных, то грустных.
Радостно то, что он столько повидал за два дня. Грустно… то, что пришлось так быстро расставаться. Ну, в Москве-то он еще побывает когда-нибудь, но едва ли придется снова побывать в уютной квартирке Варвары Олеговны и Валентина Константиновича, увидеть их самих, тяжелую старую люстру, могучие шкафы (хотя книги там, по правде говоря, были неинтересные, какие-то научные).
Даже тетя Нора и ее подруга не были уверены, что увидятся. По крайней мере, когда прощались на перроне, Варвара Олеговна всплакнула:
— Нора, встретимся ли еще…
— Ну-ну, Варенька… Как говорил майор Соловушкин, на все воля случая: на пулю, на отпуск по ранению, на радость и печаль. Под случаем он, конечно же, понимал Провидение…
«Какое привидение?» — чуть не спросил Симка, но хватило ума промолчать.
МАЯТНИК ФУКО
Экскурсовод был похож на Чарли Чаплина — с черными усиками, худощавый, слегка косолапый. И симпатичный. На край каменной круглой площадки он поставил спичечный коробок.
— Смотрите, уважаемые товарищи. Сначала оконечность маятника в своем качании будет проходить в стороне от него. Затем она, уважаемые товарищи, приблизится и в конце концов собьет коробок с места. Но это не значит, товарищи, что маятник изменил направление своего качания. Это значит, как я уже говорил, что Земля за эти минуты успела слегка повернуться вокруг оси и подставила коробок под стержень маятника. А маятник, как мы помним, всегда сохраняет изначально заданную площадь качания в мировом пространстве. Она неизменна, как бы ни поворачивалась наша планета, Галактика и вся Вселенная…
Из-под полы перекошенного пиджака он вынул зажигалку, чиркнул, поднес язычок огня к ленте — она удерживала отведенный до края площадки тускло-медный шар с острием внизу. Лента задымилась и лопнула. Шар нехотя пошел к центру каменного круга, пересек его, достиг другого края, замер там на секунду и двинулся обратно. Потом так же замер на миг у края, где стоял Симка. Недалеко от коробка…
Шар был подвешен на тонком железном тросе. Верхний конец троса терялся на стометровой высоте под громадным куполом Исаакиевского собора. Было ясно, что такой великанский маятник, подчиняясь инерции, будет качаться очень долго, если его не остановить.
Шар с острием неторопливо пересекал круглую площадку с каменными делениями по краям. И все, кто пришел сюда с экскурсией — взрослые и ребята, молодые и пожилые, — следили за ним безмолвно и напряженно. И не только люди следили. Все необъятное пространство с его сдержанным блеском позолоченных скульптур, с ликами святых, с колоннами и сделанным из цветных камней бюстом строителя Монферрана — тоже замерло, ожидая конца опыта. Словно от него зависела судьба планеты! С каждым качанием торчащее из-под шара острие проходило все ближе от коробка (и он, казалось, тоже замер, съежился, как живой, в предчувствии финала)…
И вот минуты через три Земля наконец повернулась как надо, передвинув при этом все материки, город Ленинград, громаду Исаакиевского собора и крохотный коробок. Стержень смёл коробок с мраморного уступа. И сразу все оживились, весело заговорили, радуясь, что это случилось (будто могло не случиться!)…
Обрадовался и экскурсовод — словно тоже видел этот опыт впервые.
— Вот, уважаемые товарищи, вы явились свидетелями эксперимента, который убедительно доказывает незыблемость законов, одинаковых во всей Вселенной и не зависящих от движения отдельных небесных тел…
Симка, пожалуй, не понял бы суть эксперимента, если бы не вчерашний разговор с тетей Норой. Вечером она подробно рассказала про этот маятник, изобретенный больше ста лет назад французом Фуко. Вспомнила о нем, когда говорили о всемирных законах природы. И о Боге…
А начался разговор еще днем. Гуляли по городу и оказались у большого собора (не Исаакиевского, другого). Окружавшая собор решетка была украшена якорями. Симка загляделся на них, а тетя Нора вдруг сказала:
— Насколько я знаю, ты ни разу не был в церкви…
— Не-а… То есть да, не был… А что?
В Турени работали две церкви. Одна маленькая, на Ишимской улице (в нее часто ходила тетя Капа), а другая — большая и очень красивая, с высокими, похожими на громадные шахматные фигуры башнями и золотыми крестами. Она называлась Знаменская и стояла недалеко от родильного дома, в котором когда-то появился на свет Симка, на улице Володарского. Однажды Симка отпросился у мамы на реку со старшими ребятами. Путь к береговой лестнице лежал как раз мимо Знаменской церкви, и самый главный в компании, Мишка Корень, вдруг предложил:
— А давайте заглянем!
— Зачем? — опасливо сказал кто-то.
— Интересно же!
Было и правда интересно. Сквозь открытый вход виднелся полумрак со звездочками свечей. Там был иной, неведомый мир…
Ребята нерешительной стайкой двинулись к ступеням (Симка отнюдь не впереди).
Но крикливая решительная старушка не пустила их дальше крыльца.
— Это ишшо что такое? Куда? Ступайте отседова!
— С какой стати! — храбро заспорил Корень. — У нас свобода веры! Церкви, они для всех, без билетов!
— Для всех, да не для всяких, у кого баловство на уме! Ишь, явились! Поглядите на себя, нечесаные, с голыми пузами!..
Так и не побывал Симка в церкви.
— Ты не против, если зайдем ненадолго? Я не была здесь с детских лет…
Симка смущенно сказал, что не против.
Внутри было малолюдно, никто не оглянулся на Симку и Нору Аркадьевну. Несмотря на свет из узких окон, пространство казалось сумрачным. В нем там и тут, словно повиснув без опоры, мерцали гроздья свечных огоньков. Отовсюду смотрели на Симку строгие лица, окруженные золотистыми нимбами (Симка видел такие раньше на иконах тети Капы). Они тоже словно парили в пространстве. Пахло еловым лесом.
Тетя Нора сделала шаг вперед, Симка оказался чуть позади. Он увидел, как у тети Норы движется обтянутый темным шелком отведенный в сторону локоть, — она крестилась. Прямо перед ней была большая картина: женщина с печальными глазами и с мальчиком на руках. Симка догадался, что это Богородица и ее сын Иисус Христос.
От каменного пола тянуло ощутимым холодком. Симка хотел потереть коленки, но не решился нагнуться. Только наклонил голову и смотрел на свои сандалии. Он чувствовал себя виноватым. Словно все окружающее в чем-то укоряло десятилетнего Симку Стеклова.
Тетя Нора шепотом попросила Симку постоять на месте, ушла и скоро вернулась с двумя длинными свечками. Зажгла их от тех, что горели перед образом Богородицы, поставила рядом с другими. Перекрестилась еще раз и тихонько сказала:
— Ну, идем…
Когда вышли, Симка наконец потер коленки, хотя зябкости уже не было. Крепко грело июньское солнце, в густых липах пересвистывались птахи.
Тетя Нора и Симка пошли под липами. Тетя Нора вдруг спросила:
— Надеюсь, ты не осуждаешь меня за этот визит в церковь?
— Я? С чего вы взяли? — Это получилось грубовато, но не нарочно, а от неловкости.
— Ну… я слышала от твоей мамы, как ты недавно отказался креститься. Значит, ты неверующий. А многие неверующие на тех, кто верует в Бога, смотрят косо…
— Я не смотрю… косо… У нас соседка тетя Капа верит изо всех сил, а она очень хорошая. Добрая… — Он вдруг сбился, отчаянно застеснялся, споткнулся и выговорил: — И вы… тоже…
Она коротко засмеялась:
— Ну, спасибо… — и опустила на Симкино плечо ладонь. Это была большая, но легкая ладонь. Симка не стал изворачиваться. Набрался решимости и спросил шепотом:
— А вы… по правде верите, что Бог есть?
Ладонь на плече шевельнулась, будто крыло.
— Видишь ли… Он есть независимо от того, верят в Него или нет. Он есть независимо ни от чего . К этому выводу пришли многие гениальные ученые. Вернадский, Павлов, Эйнштейн… Ты, наверно, еще не слышал эти имена?
— Эйнштейн, это который скорость света открыл? А Павлов делал опыты с собаками…
Она опять посмеялась:
— Приблизительно так… Они считали, что лишь существование Бога объясняет ключевые закономерности Вселенной… Можно спорить о правильности разных религий и обычаев, но отрицать существование Высшего Разума, Высшей Силы, мне кажется, бессмысленно… Просто одни это понимают в самом начале жизни, душой, а другие уже в зрелом возрасте, после долгих размышлений…
Симка не очень разобрался в этой речи, но опять ощутил необъяснимую виноватость.
— А что такое эти… ключевые… Какие они?
— Законы? Их множество. Сложный вопрос. Давай об этом позже. А сейчас пора в Эрмитаж, у нас билеты…
Эрмитаж запомнился скомканно и отрывочно. Оно и понятно! Как было десятилетнему существу вместить в себя все залы, картины, скульптуры, сокровища, которые копились веками! Остались в памяти египетские мумии в зале древностей, громадный заводной павлин с золочеными перьями, мрачная история, изображенная на громадной картине «Медный змей», — там на людей напали тысячи всяких ядовитых гадюк… А еще впечатался в душу маленький портрет женщины с молодым и добрым лицом — она кормила грудью пухлого малыша. Симка смотрел и не мог понять, что здесь такого. Отворачиваешь, хочешь отойти, а потом оглядываешься и смотришь опять. И опять… Может быть, потому, что вспомнились мама и Андрюшка?
Тетя Нора сказала, что это тоже Богородица со Святым Младенцем. Известная на весь мир Мадонна Литта великого художника Леонардо да Винчи.
— Не правда ли, как живая?
— Ага… то есть да, — неохотно отозвался Симка. Он считал, что здесь не нужны слова.
Но поздно вечером, когда улеглись в постели, Симка сам заговорил об этой картине.
Они ночевали в комнате тети-Нориной знакомой, которая уехала к родственникам и «предоставила жилплощадь» гостям из Турени.
Симка спал на диванчике со звонкими внутренними пружинами, а тетя Нора на хозяйкиной кровати, за раздвижной ширмой с китайскими картинками.
Тетя Нора выключила лампу и сказала:
— Ну, дорогой мой, спокойной ночи. Переваривай впечатления и засыпай.
— Аг… да, спокойной ночи.
Ночь была не очень спокойная. Вернее, не очень тихая. На Неве прогудел буксир. Где-то с ровным шумом проносились машины. Звенела гитара, и молодые голоса пели: «В гареме нежится султан, да султан…» Наверно, это бывшие десятиклассники расходились с выпускного вечера.
Симка повертелся на загудевших пружинах и спросил:
— Тетя Нора, а та картина, Леонардо да Винчи… Она как называется? Я забыл.
— Мадонна Литта… Запомнилась, да?
— Запомнилась… — Симка часто подышал, чтобы успокоить неожиданное щекотанье в горле, и признался (признаваться, когда не видишь того, с кем говоришь, и в сумерках легче, чем днем): — Мама вспоминается… Не потому, что похожая, а… ну, потому что есть что-то такое…
— Ты прав… Эта картина — воплощение материнства. Любви к детям… И вот опять же: загадку эту трудно понять, если не знать, что художнику помогала вера в Богоматерь и Святого Младенца…
Симка снова ощутил виноватость и неуверенность. Как в церкви. И решился на новый вопрос, очень непростой:
— Тетя Нора… А вот Бог… если он есть… Как вы думаете, он рассердился, что я отказался креститься?
Она засмеялась с каким-то рассыпчатым весельем.
— Думаю, что нет. У него есть дела важнее, чем обижаться на непонятливых мальчишек… А у тебя впереди еще много времени, чтобы обдумать все такие вопросы и решения. И сделать выводы…
— Тетя Нора…
— Что, голубчик? — Она была терпелива.
— А этот маятник… Фуко… Он висел там и раньше, когда собор еще работал? Или его повесили потом, когда сделали музей?
— Потом повесили. Чтобы продемонстрировать людям один из законов природы. Власти почему-то считают, что такие вот вечные принципы физики и механики отрицают существование Создателя. А на самом деле как раз наоборот. Они доказывают, что Он-то и сотворил Вселенную с ее нерушимыми законами. Ведь не люди же на крохотной планетке их придумали… Они могли придумать маятник, но закон, по которому он движется, существовал изначально .
Симка молчал, вспоминая уверенное движение медного шара над каменным кругом.
Тетя Нора сказала уже без всякого смеха:
— Хорошо, если в человеческой душе есть такой маятник. Который помогает всегда помнить о верном направлении…
Когда Симка вырос, он много ездил по разным городам и странам. А побывать в Ленинграде никак не удавалось. Оказался он там, когда город назывался уже Санкт-Петербургом. Исаакиевский собор снова стал действующим храмом. Маятника Фуко в нем уже не было. Зря, подумал Серафим Стеклов. Наверно, подумал он, церковные власти сочли его сооружением безбожников. А ведь на самом деле маятник демонстрировал один из вечных законов Вселенной, сотворенной Создателем…
СКАЗКА БЕЛЫХ НОЧЕЙ
После опыта с маятником Фуко экскурсионная группа поднялась по витым лестницам на галерею у башни. И Симка увидел сверху весь город. Ну, или, по крайней мере, полгорода.
Ленинград показался ему не менее громадным, чем Москва. Но он был другим. Совсем другим. Симка не смог бы объяснить словами, в чем непохожесть этих городов, но чувствовал: все у них разное. И даже небо над Ленинградом было иное — бледноватое, почти безоблачное. Лишь кое-где проступали в неяркой голубизне едва различимые, похожие на невесомую пряжу вол о кна.
Слева поблескивал, как полоска фольги, Финский залив. Симка уже плавал по нему — на пассажирском катере до Петродворца. Но теперь, с высоты, все виделось иначе. По-новому… С залива тянул влажный ветерок.
Симка водил глазами по прямым росчеркам улиц, пересчитывал глазами золотые шпили и купола, скользил взглядом по сизо-голубому размаху Невы, которая жила своей особой, корабельной жизнью. Потом отыскал среди Линий на Васильевском острове (это такие улицы с номерами вместо названий) крышу своего дома… Надо же, «своего»! Он здесь всего четвертый день, а кажется, что полжизни…
Они приехали в Ленинград рано утром, и утро оказалось не очень-то приветливым. Впрочем, Симка был готов к этому: знал, что здесь часто случаются дожди и туманы. И не огорчился, когда на перроне ветер вздыбил на нем расстегнутый пиджачок, а мелкие капли начали клевать лицо и ноги колючим холодком.
Тетя Нора тут же раскрыла зонтик, а Симке дала розовую прозрачную накидку, в которую он закутался до колен вместе с чемоданчиком. Когда вышли с вокзала, Симка по привычке, появившейся в Москве, глянул на себя в «зеркало» — в застекленную донизу стенку газетного киоска. И решил, что похож на проткнутый воздушный шарик с ножками в съехавших гольфах. Он весело сказал про это тете Норе. Она обрадовалась:
— Хорошо, что ты не расстроился из-за такой погоды.
— А чего расстраиваться! Балтийский климат!
Видимо, климату понравилась бодрость туреньского пацана, и он (климат то есть) решил сделать гостям подарок. Когда ехали на такси через широченную серую Неву, облака раздвинулись, взъерошенная вода пропиталась синевой, а шпиль Петропавловской крепости (на который Симка глядел разинув рот) вдруг отбросил солнечную искру… И больше дождей и зябкости не было ни разу!
Поселились недалеко от того места, где стояли старинные здания Двенадцати коллегий, в которых нынче располагался университет. Вход в квартиру четырехэтажного дома (тоже достаточно старинного с виду) был со двора. Двор, замкнутый глухим квадратом, напоминал внутренность крепости.
— Чисто достоевское место, — сказала тетя Нора непонятно и со странным удовольствием. Потом объяснила, что жить они будут в комнате бывшей актрисы Найденовой («Мы не очень близкие подруги, но она славная женщина»).
— Надежда Вячеславовна уехала, а ключ оставила нам…
Ключ вручила им вежливая пожилая соседка Надежды Вячеславовны (тоже похожая на отставную актрису).
Комната оказалась небольшая, в ней пахло нафталином и кофе. На стенах поблескивало стеклами множество фотографий в рамках — в основном бородатые мужчины в сюртуках и дамы в платьях дореволюционного фасона. Висели тяжелые старинные часы с гирями, но они, к сожалению, стояли, хотя гири были подтянуты. То ли испортились, то ли специально были остановлены на время отсутствия хозяйки. Вместо них на необъятном резном комоде бодро тикал будильник с никелированной шляпкой. Два узких окна смотрели с третьего этажа на улицу. В них уже с полной силой светило умытое ленинградское солнце.
Про комод тетя Нора с уважением сказала:
— Два кубометра дров. Как это сооружение уцелело в блокаду… — И поведала Симке, что хозяйка комнаты прожила в Ленинграде все беспощадное блокадное время. Работала сперва в театре, потом на радио… — Хорошо знакома с Ольгой Берггольц… Ты не слышал о такой поэтессе?
Симка виновато сказал, что не слышал.
— Она автор прекрасных стихов и человек очень трудной судьбы… Вообще старые ленинградцы — особенные люди. Я хотя и москвичка, а ленинградцев и Ленинград люблю больше, чем столицу. Столько связано с этим городом. Еще до войны… Мы будем бродить по нему не спеша, я тебе многое покажу и расскажу… А если что-то покажется неинтересным, ты немного потерпишь… исходя из уважения к странностям пожилой дамы… — она слегка покашляла, трогая тонкими пальцами горло.
Симка торопливо заверил, что ему все будет интересно.
— А когда пойдем?
Они пошли на первую прогулку после чая и бутербродов, которыми их угостила соседка (Симка сидел прямо и кусочки сахара брал щипчиками. «Какой чудный у вас племянник», — сказала соседка Раиса Валерьевна).
Через арку вышли со двора на уличный асфальт. Поблескивали лужицы. В них отражались довольно обыкновенные дома. Они показались Симке даже слегка заплесневелыми. Но он глянул вперед и… замер, шагнув с размаха в лужу и промочив сандалии и гольфы.
Улица была короткая и широкая. Она кончалась в сотне шагов у низкой узорчатой решетки. Над решеткой поднимались в небо мачты. Целый лес! Не нынешние низкие мачты лесовозов, самоходных барж и буксиров, а настоящие . Парусные! Жюльверновские! С реями и с густым переплетением канатов и тросов.
Неведомая сила приподняла Симку над тротуаром и понесла вперед (подошвы едва успевали касаться асфальта и поверхности луж). Он перелетел мостовую, что отделяла улицу от берега, и лишь решетка остановила его восторженный полет. Симка уперся в ее верхний край грудью.
У набережной, прижимаясь бортами друг к другу, стояли четыре парусника. Их двенадцать мачт образовывали чащу стеньг, брам-стеньг, реев, штагов, вант, брасов — того, что в переводе на язык плаваний и приключений называется такелажем и рангоутом.
Симка даже и не знал, что на свете есть еще такие корабли! Не на гербе города Турени, не в книжках о Робинзоне Крузо и водителях фрегатов, а по правде! Сейчас, наяву!
Он метался глазами вверх-вниз, от белых корпусов до плоских клотиков на желтых лакированных стеньгах. Вбирал в себя музыку ветров и волн, которую неслышно издавала закрывшая полнеба корабельная оснастка. Потом наткнулся глазами на черные буквы. На плоских кормовых срезах были написаны имена судов. У самого берега стоял «Сириус», за ним «Вега», «Кропоткин» и «Шокальский»…
Нора Аркадьевна остудила незамутненный Симкин восторг. Она догнала Симку и вцепилась в его плечо.
— Ты с ума сошел! Ты чуть не попал под машину!
— Какую машину?
— Здесь, на дороге! Под «Победу»! У которой проскочил под самым носом!
— Я не видел…
— Вот это и ужасно, — скорбно сообщила Нора Аркадьевна. — Ты потерял голову. А это часто кончается катастрофой…
— Я больше не буду, — сказал Симка слегка дурашливо, он надеялся обратить дело в шутку. Корабельная музыка продолжала звучать в нем, и это было самым главным.
— Надеюсь, что не будешь, — очень сухо отозвалась Нора Аркадьевна, но не выдержала официального тона, в горле ее что-то дрогнуло. — Ты представляешь, что сейчас могло быть? Не только с тобой, но и со мной… и с мамой. Что я сказала бы ей?..
Симка наконец очнулся. Даже на миг представил себя распластанным на асфальте. Передернул плечами. Сказал уже без всякого ёрничества, полушепотом:
— Ну, я правда не буду…
— Надеюсь, — повторила тетя Нора прежним строгим тоном. — А позволено мне узнать, что тебя сорвало с места?
— Да корабли же! Смотрите какие! Как в «Острове сокровищ»! Парусники!.. Тетя Нора, вы не знаете, как они называются?
— Ты разучился читать от восторга? На них написано…
— Я не про имена. Какого они типа? Ну, бывают же фрегаты, бриги, шхуны, бригантины…
— М-м… понятия не имею. Я человек весьма далекий от морских профессий. Тебе следует обратиться к специалистам…
Симка повертел головой. Специалистов не было видно. На «Сириусе» ходил вдоль борта плечистый парень в морской куртке, с синей повязкой на рукаве; на «Веге», на полукруглой площадке передней мачты, были заняты какой-то работой два человека в тельняшках. Но не станешь же окликать и спрашивать…
Тетя Нора сказала:
— Здесь немало интересного кроме кораблей. Оглянись и увидишь старинное морское училище…
Симка оглянулся. Вдоль набережной тянулось массивное трехэтажное здание с куполом над главным входом. Было в нем что-то такое… от морских крепостей, которые Симка раньше видел на картинках. Даже не в очертаниях, а в ощущении…
— Раньше здесь был морской кадетский корпус, — сообщила Нора Аркадьевна. — Его окончили многие знаменитые мореплаватели и адмиралы… Кстати, воспитывали мальчишек там в большой строгости, никаких шалостей и легкомысленных поступков не прощали. В лучшем случае — в карцер, на хлеб и воду…
О случаях не «лучших», а более серьезных, она, видимо, постеснялась сказать. Симка и так знал, читал про такое.
— Это тех, кто проскакивал дорогу перед машинами? — уточнил он с грустной догадливостью.
— В том числе… Хотя машин тогда еще не было, кареты и экипажи…
— Тетя Нора, ну простите вы меня, пожалуйста, — выговорил Симка. Вообще-то он всегда отчаянно стыдился просить прощения, но сейчас чувствовал: ничего другого не остается.
И тетя Нора, видимо, простила его окончательно. Прошлась ладонью по его волосам.
— Ладно. Только имей в виду: при каждом переходе улицы я теперь буду держать тебя за руку. Такая вот мера…
— Мера, «адекватная обстоятельствам», — покаянно произнес Симка.
— Вот именно, — тетя Нора посмеялась, трогая у подбородка горло. — Ну, пойдем. Здесь недалеко памятник капитану Крузенштерну. Слышал о таком мореплавателе?
— А… да, я читал. В книжке «Водители фрегатов».
Капитан Крузенштерн — прямой, тонкий, в изящном мундире и с кортиком — стоял на постаменте спиной к Неве. Снисходительно смотрел на кадетский корпус, который окончил давным-давно и которым сам руководил потом немало лет. Никакие «адекватные меры» ему теперь не грозили. Хотя…
Тетя Нора сказала, что есть обычай: каждый год выпускники училища, отмечая свое производство в офицеры, шьют большущую тельняшку и ночью обряжают в нее бронзового Ивана Федоровича. Наверно, чтобы помнил о кадетском товариществе. Начальство вроде бы старается этого не допустить, но, очевидно, старается не очень, поскольку тельняшка в назначенное утро появляется обязательно, каждый год…
— А ты, судя по всему, тоже собираешься в моряки?
— Я… не знаю…
Симка правда не знал. Нынешняя, мальчишечья, жизнь его пока вполне устраивала, хотя и была она не столь благополучная, как в песнях о счастливом детстве (их каждый день передавали по радио). А все, что связано с морем и кораблями, было для Симки просто частью той жизни, о которой он любил читать в книжках с потертой позолотой на коленкоровых переплетах и надписью «Библиотека приключений».
И таким вот ветром приключений повеяло на него сейчас — от столпившихся здесь парусников, от старинных стен училища, от бронзового кругосветного мореплавателя, от гранита и решетки набережной. Называлась набережная именем лейтенанта Шмидта, тоже знаменитого моряка, революционера…
Симка потянул тетю Нору дальше. Невдалеке от памятника были пришвартованы к набережной рыбачьи суда. С буквами МРС и номерами на борту. Симка догадался, что эти буквы означают «малый рыболовный сейнер». Потому что слышал не раз удалую песенку про «эмэрэс», которого «швыряет волна и туда и сюда, но это, братишки, совсем не беда». Конечно, это были не парусники, а современные «моторные посудины», но и в них виделась океанская романтика. «Рыболовы, пахари морей». Недаром над палубами были натянуты между низкими мачтами сети. Наверно, для просушки. Симке показалось даже, что от сетей пахнет селедкой, а в ячейках поблескивает чешуя.
Сейнеров было много, они стояли у гранитных причалов растянутой вереницей. А среди них попадались и другие суда: портовые катера, буксиры…
Это столпотворение рабочих судов — не туристских теплоходов, не белых пассажирских катеров, а кораблей-тружеников — рядом с парадным гранитом, каменными львами и дворцами, говорило, что Ленинград — настоящий морской город. И уже поэтому сразу он стал милым Симкиному сердцу.
Шли долго, пока набережная не уперлась в бетонный забор, за которым, судя по всему, был какой-то корабельный завод. А впереди — у другого берега — Симка различил высокие корпуса, надстройки, трубы и мачты уже совсем больших морских судов. Жаль, что нельзя было оказаться поближе.
Среди этого похожего на плавучий город столпотворения Симка увидел белую многоэтажную надстройку, которая была гораздо больше остальных. Она подымалась над высоким черным корпусом. И Симку осенило:
— Тетя Нора, смотрите! Это атомный ледокол «Ленин»! Я читал в «Пионерской правде», что его достраивают в Ленинграде! И фотография была! Такая в точности!
— Гм… не исключено… Ну, вот видишь, сколько у тебя открытий за одно утро… Куда бы нам отправиться дальше?
— Давайте обратно! Еще посмотрим на парусники!
И они пошли по набережной Лейтенанта Шмидта обратно. Тетя Нора показывала на Исаакиевский собор на другом берегу, на разные знаменитые дворцы, и Симка кивал, но взгляд его тут же снова обращался к выраставшим в небе мачтам.
А недалеко от парусников Симка увидел человека, который наверняка всё знал про корабли.
Это был моряк в расклешенных брюках, в белой форменке с синим воротником, в фуражке с крохотным козырьком и с золотыми якорями на погончиках. Наверняка старшекурсник здешнего училища!
Симка подошел к нему почти строевым шагом.
— Простите, пожалуйста! Можно вас спросить?
Курсант глянул благосклонно.
— Чего тебе, юнга?
— Вы ведь, конечно, знаете, как называется конструкция этих судов? Какого они типа?
Моряк прошелся рыжеватыми глазами по тонкошеему мальчонке, который во весь рост отразился в непросохшей на плитах лужице (и Симка опять ощутил себя смешным «пиджачком на тросточках»). Потом так же прошелся взглядом по мачтам. Пальцем шевельнул фуражку.
— Какой тип, говоришь… Морские парусники, вот и весь тип.
— Да, но… бывают же разные. Фрегаты, бригантины…
— Бригантины, браток, бывают только в песнях. Вроде той, где «надоело говорить и спорить…» А это… Вообще про такие вещи надо в Морском музее спрашивать. Паруса — дело историческое, для современного военно-морского флота бесполезное. А я специалист по минному делу, так что извини… — Он снисходительно подбросил пальцы к козырьку-малютке, обошел Симку и тетю Нору и двинулся вдоль решетки. Стройный такой, уверенный.
— Да… боюсь, что этот юноша не из числа лучших выпускников, — вполголоса заметила Нора Аркадьевна.
Симке не хотелось портить впечатления ни от чего морского. Даже от этого курсанта.
— Ну, раз он не такой специалист, а по минному…
— Ты прав. Одно дело строить корабли, другое взрывать. Разные специальности… Ты не устал?
Он? Устал? Это в самом-то начале дня? Симка подпрыгнул, неосторожно подняв сандалиями брызги.
— Тетя Нора, куда мы сейчас?!
Они ходили везде. По всем знаменитым улицам, площадям и паркам. Город неторопливо разворачивался перед Симкой и дарил ему наяву то, что раньше он видел только на картинках и в кино: шпиль Адмиралтейства, Зимний дворец, Александрийский столп, Медного всадника, гранитных сфинксов и львов, собор и бастионы Петропавловской крепости. И стальную мощь «Авроры». И сказочную улицу Росси. И пушкинскую тень Летнего сада…
Тетя Нора была так же неутомима, как Симка. Иногда только говорила «давай посидим», и они присаживались на скамейку в каком-нибудь сквере или на бульваре. Тетя Нора покашливала и с минуту со странным выражением смотрела перед собой, но очень скоро поднималась:
— Ну как? Ноги еще держат?
— Аг… да, конечно, держат!
Иногда тетя Нора приводила Симку в места, с его точки зрения неинтересные. Но он был терпелив, понимал, что это как-то связано с прошлой жизнью Норы Аркадьевны. Или с чем-то для нее важным.
Так, однажды они оказались на ничем не примечательной улице, с неуютными кирпичными домами, недалеко дымила какая-то фабрика, пахло застоялой речной водой. Место называлось странно — Пряжка. Услышав это, Симка хихикнул про себя и потрогал пряжку школьного ремня, продетого в костюмные брючки. Но тетя Нора была серьезна. Постояла, глядя на окна верхнего этажа, положила на Симкино плечо ладонь.
— Ну вот, потом ты сможешь рассказывать, что был у дома, в котором жил замечательный поэт, гордость нашего века.
— Пастернак? — догадливо сказал Симка.
— Нет, что ты! Александр Блок… Когда-нибудь ты прочитаешь его стихи и поймешь, какое это чудо…
Симка хотел сказать, что мама говорила ему про Блока и даже читала какие-то строчки. Но он эти строчки не запомнил, значит, нечего хвастаться…
— Это был гений и провидец, — продолжала тетя Нора. — Только с одним я не согласна. С тем, что его поэму «Двенадцать» считают революционной. По-моему, наоборот — антиреволюционная. Предвидение гибели России, которую он чувствовал своей пророческой душой… Впрочем, я опять говорю непонятно, извини…
Симка охотно извинил. Случалось, что и раньше тетя Нора говорила о чем-то своем, не очень ясном, когда оказывалась в памятном для себя месте. Симка слушал терпеливо и без досады. Он относился к маленьким странностям тети Норы с пониманием. К таким вот неожиданным речам, к тому, что иногда она (нечасто, правда) говорила ему не «Сима», а «Шурик», к покашливанию и даже к тому, что по вечерам она украдкой достает из чемодана стеклянную фляжку с наклейкой и делает глоток. Догадавшись, что Симка заметил это, она виновато сказала: «Средство, чтобы смягчить горло. Видишь, кашляю порой…» Симка деликатно кивнул, сделал вид, что не знает, какая именно наклейка у «средства»…
Они с тетей Норой ни разу не поссорились, не поспорили даже, если не считать случая с Симкиной пробежкой перед машиной. Но тут-то уж он один был полностью виноват!
Кстати, за руку через дорогу тетя Нора водила его всего полдня. Потом все пошло по-прежнему. Хотя Симка стал, конечно, осмотрительнее…
У них сложилась привычка: где бы ни ходили днем, как бы ни устали — вечером обязательно совершали прогулку по набережной с кораблями. Бывало, что и не вечером даже, а близко к полуночи.
Весна в том году здесь была поздняя, и сейчас в ленинградских скверах еще доцветала сирень. Запах ее смешивался с запахом кораблей — от канатов и сетей, от нагретых дневным солнцем палуб, от машинного масла. Для Симки это был воздух приморской жизни и дальних стран.
Навстречу попадались компании ребят и девушек — студенты и выпускники школ. С гитарами или пластмассовыми чемоданчиками, где под прозрачными крышками вертелись магнитофонные катушки. А один раз попались две девушки и парень с крошечным жестяным патефончиком. Парень бережно нес патефончик на вытянутых ладонях. Вертелась пластинка, разносила с жестяным «акцентом» голос знаменитой Клавдии Шульженко:
Пусть сеньорита богата — Венчаться в церковь пойдет он не с ней. Там только деньги, а здесь только песни — Ну что же, посмотрим что сильней!Это была старая песенка о неунывающей испанской девушке и капитане бригантины Родриго. Давным-давно знакомая Симке. Такую пластинку летними вечерами часто крутил у себя на подоконнике сосед дядя Миша. Только не на патефончике, а на проигрывателе «Рекорд».
Сейчас показалось, что это голос из далекого дома, и у Симки слегка защипало в глазах. Но печаль была не страшная, сладкая даже. Потому что для тревоги не было никаких причин: мама регулярно присылала телеграммы до востребования, что дома все в порядке… И с того момента песенка про испанскую девчонку стала для Симки связанной не только с домом, но и с ленинградскими вечерами. А точнее — с белыми ночами.
Было самое-самое время белых ночей.
Темнота не приходила. Вместо нее в небе растворялся загадочный свет. При нем город — и без того удивительный — превращался в неведомый инопланетный мир.
В этом мире не было ни угроз, ни тревоги. Ни малейшей опаски. Наоборот! Размах реки, площадей и улиц делался еще более широким, но в то же время удивительно добрым и уютным. Казалось, что можно прилечь на любом гранитном уступе, на любой скамейке, и тебя мягко возьмет в ладони ласковая дремота, в которой будет множество пушистых сказок.
Мир белой ночи обещал чудеса.
Правда, никаких волшебных событий не случалось, но уже сама прогулка по преобразившемуся городу казалась волшебством.
Шлем Исаакия (где таинственный маятник Фуко) начинал мягко сиять изнутри смесью серебряного и золотистого света. В небе не было ни единой звезды, не было и облаков. Лишь изредка над Исаакием появлялись чуть заметные волокна, похожие на полоски бледного, светло-зеленого тумана.
Иногда можно было заметить робкую половинчатую луну. Она проступала в небе очень боязливо. Словно нерешительный художник стал намечать ее слабыми желтоватыми мазками, но тут же отказался от своей задачи. Луна смотрела виновато, будто хотела сказать: «Я понимаю, что не нужна здесь, но как быть, если меня заставили появиться астрономические законы?»
Бывало, что луна пыталась спрятаться в такелажной паутине парусников. Тогда парусники казались таинственными, словно только что пришли из призрачных стран.
На парусниках, на сейнерах и на проходящих посреди Невы катерах мерцали редкие ненужные огоньки.
И сам воздух мерцал…
Позже Симка прочитал у одного замечательного писателя, что в воздухе северных белых ночей порой появляется слюдяной блеск. И обрадовался верности таких слов. Потому что тем ленинградским летом, еще не зная этой книжки, он сам сделал такое открытие. Казалось, что в воздухе рассыпаны мириады микроскопических слюдяных чешуек, которые отражают бледное сияние ночи.
…За год до этого Симка разобрал сломанный электрический утюг. Его выбросила в мусорную кучу жена дяди Миши (который, «лентяй окаянный, не может починить эту рухлядь, только и знает сидеть с журналами да коту брюхо чесать»). Симка утюг подобрал и развинтил, чтобы понять, как он устроен внутри.
Самым интересным оказались пластины слюды (называются «изоляция»). Они были вырезаны по форме утюга. Гибкие, с перламутровым блеском, с розоватой и голубоватой прозрачностью. Симка смотрел сквозь них на солнце, оно превращалось в небывалую звезду с тысячей радужных лучей. Почти сразу Симка сделал открытие: слюда расслаивается на тонкие листики, затем еще, еще. Бесконечно. Самые тончайшие невесомые пластинки были совершенно прозрачны и шевелились от слабого дыхания, даже от взгляда. И ломались от любого касания. Превращались во взлетающие чешуйки.
Симка растер в ладонях несколько слюдяных пластинок и дунул на невесомую грудку искрящейся пыли. И воздух перед Симкой замерцал, будто в самом воздухе этом рождался тонкий солнечный свет.
Симка растер новую порцию слюды и дунул снова. И снова, снова… Солнечное мерцание повисло над пыльным двором, над Симкой, и он, Симка, был творцом этого чуда. Симка радостно вздохнул и вытер о коленки слюдяную пыль, прилипшую к вспотевшим ладоням. И после оказалось, что коленки его тоже мерцают слюдяным блеском, словно два шарика из серовато-коричневого гранита (ведь в граните немало вкраплений слюды). Симка с тайной гордостью поглядывал на этот блеск целую неделю — пока очередной раз не побывал с дядей Мишей в городской бане…
В воздухе белой ночи тоже было слюдяное мерцание, только более мягкое, чем при солнце. Более таинственное и «нездешнее». Возможно, так поблескивает воздух в стране за волшебной дверью.
Это волшебство и стало однажды причиной Симкиного ночного приключения.
В тот день они гуляли особенно много. Без всяких там музеев и знаменитых мест. Просто по городу. Выбирали улицы наугад, пересекали мостики над узкими каналами с травянистыми берегами, отдыхали в скверах на скамейках у статуй и фонтанчиков, заходили в кафе с мороженым, разглядывали фасады обшарпанных, но красивых домов в тихих переулках. Тетя Нора была веселая. Много рассказывала о довоенном Ленинграде, куда они не раз приезжали с братом…
Под вечер Симка умотался так, что ноги отваливались. И тетя Нора сказала:
— У меня такое предложение. Вернее, просьба… Мне надо побывать у одной знакомой. Я узнала, что к ней приехала моя дальняя родственница из Воронежа, троюродная сестра. Будет чисто дамский разговор, для мальчика совсем не интересный. Может быть, ты отдохнешь дома один, почитаешь? Раиса Валерьевна покормит тебя ужином, я договорюсь…
Нельзя сказать, что предложение обрадовало Симку. Но, с другой стороны, не капризничать же! Тетя Нора и так вон сколько с ним возится, имеет она право отдохнуть с подругами… Оставаться один Симка не опасался, Раиса Валерьевна рядом, в соседней комнате. А чтобы вечер не был скучным, есть книжка с заманчивым названием «Архипелаг исчезающих островов». Сегодня купили на книжном лотке у Летнего сада…
И все же Симка сказал:
— Ладно… только…
— Что? — сразу встревожилась Нора Аркадьевна.
— Только можно я без вас схожу на набережную? Где парусники. Посмотрю немного и вернусь…
Как ни гудели ноги, а вечер без кораблей был бы каким-то неполным. Ненастоящим.
— Н-ну… если ты обещаешь, что это недолго и больше никуда…
Симка тут же легкомысленно пообещал.
В первые дни представить такое было невозможно — чтобы тетя Нора куда-то отпустила его одного. Но время шло, Симка привыкал к городу. Он уже не раз бегал за хлебом и молоком в ближние магазины, изучил окрестные улицы, уверял, что не заблудится в центре и в случае чего самостоятельно доберется до дома.
А набережная-то совсем рядом, в двух кварталах!
— Я полагаюсь на твою сознательность, — увесисто проговорила тетя Нора. — К десяти часам ты должен быть дома. А я вернусь не позже одиннадцати…
Оба они были уверены, что так и получится.
ПАРУСНО-МОТОРНАЯ ШХУНА «ЛИСЯНСКИЙ»
Тетя Нора ушла около восьми часов. Симка сперва читал, устроившись на диване, потом решил, что пора и ему. Будильник показывал половину десятого. На его никелированной шапочке горел вечерний солнечный блик. Симка решил: десять минут (а то и быстрее!) до набережной, столько же обратно, и десять минут там — чтобы очередной раз полюбоваться на парусники. В двадцать два ноль-ноль он, как и обещал, будет дома.
Так все сперва и шло. Симка постоял, навалившись на решетку и ласково поглаживая глазами путаницу снастей. Потом решил, что прошло всего три-четыре минуты, есть время пройтись еще вдоль вереницы сейнеров и оказаться поближе к концу набережной. Оттуда он полюбуется атомным ледоколом и вприпрыжку припустит домой. В конце концов, если и задержится на несколько минут, что страшного? Тетя Нора вернется все равно лишь к одиннадцати.
Симке показалось, что набережную Лейтенанта Шмидта он прошел всего за минуту. Правда, при этом он постоял у памятника Крузенштерну, поразглядывал каждый сейнер, но такое занятие отнимало всего несколько секунд. Странно только, что солнце успело уйти за дома и свет обычного вечера стал незаметно перетекать в свет белой ночи. Но эта странность лишь на секунду зацепилась в Симкиной голове. Все вокруг было таким ласковым и завораживающим, что не оставляло места для тревоги.
Симка понимал, что если пойдет по набережной обратно, то может изрядно задержаться у парусников. И, чтобы избавить себя от соблазна, выбрал другой путь. Он уже неплохо разбирался в здешних улицах. Решил, что, повернувшись спиной к реке, прошагает пару кварталов и окажется на Большом проспекте Васильевского острова, который тянулся параллельно набережной Лейтенанта Шмидта. По нему и вернется к Линии, на которой стоит его дом.
Так и сделал, вышел на проспект. Посмотрел направо, а потом… налево. Он помнил, что проспект выходит своим дальним концом прямо к Финскому заливу. Симка плавал по заливу на пассажирском катере в Петродворец, но в городе на его берегу (а это ведь морской берег!) не бывал.
Интересно, как выглядит морская гладь в свете белой ночи?
Проспект был прямой и широкий, с аллеей высоких деревьев посередине. Симке показалось, что если он пройдет всего полквартала, то в конце аллеи увидит гладь залива и морской горизонт. Да что там «показалось»! Он был в этом уверен!
Часов у Симки, конечно, не было. Тикали в нем только «внутренние часы», которые его обычно не подводили. И теперь они услужливо подсказали, что несколько минут у Симки еще есть. А затем…
Затем Симка забыл про время.
После он и сам не понимал, как в здравом уме и твердой памяти можно так отключиться от нормального ощущения окружающей жизни. Он забыл обо всем, кроме того, что впереди должна открыться морская гладь. Это ожидание было как гипноз. Наверно, такой завороженности помогал свет белой ночи, которая уже полностью завладела городом. Деревья временами расступались, и над Симкой нависало перламутрово-серебристое небо, воздух под которым — от зенита до земли — мягко искрился слюдяным блеском. Этого было достаточно, чтобы не помнить ни о чем, кроме дороги к морю. Словно в Симке включился маятник Фуко, знающий лишь одно направление…
На проспекте было малолюдно. Один раз встретился нахимовец — ростом чуть повыше Симки. Симка мельком позавидовал его белой форменке, бескозырке и отутюженным клешам. Но нахимовец шел рядом с женщиной (видимо, с мамой), и самостоятельный путешественник Симка глянул на него снисходительно. Впрочем, тут же забыл. И снова шагал, шагал…
Да, видимо, колдовством белой ночи только и можно объяснить, что Симка не испытывал никаких опасений. Он даже не спешил. Казалось вполне правильным, что он столько времени идет по бесконечной аллее, где за деревьями лишь едва различимы высокие дома. Так бывает во сне…
Наконец деревья расступились, теперь вокруг была обычная широкая улица, а впереди… там стоял непонятный желтоватый свет. Он заполнял высокое пространство. Оно не сразу приняло ясные формы. Потом качнулось, перестроилось, и Симка увидел водную гладь, отразившую бледно-золотистую зарю. Эта же слабая золотистость растворялась теперь и среди слюдяного воздушного блеска.
Симка вспомнил слышанные где-то слова: «Янтарная Балтика». Он знал, что в водах и песках Балтийского моря много янтаря, и теперь подумал, что, может быть, именно от него в воздухе эта теплая желтоватость.
Симка вышел на плоский прибрежный песок, далеко протянувшийся по берегу. Сразу увидел косой столб, на котором легко читалось фанерное объявление: «Купаться запрещено. За нарушение штраф». Вокруг столба виднелось немало пляжного мусора и следов, которые говорили, что на объявление всем начихать. Но сейчас на берегу было пусто…
Симка не собирался купаться. Он был в сандалиях на босу ногу, стряхнул их и вошел в воду по щиколотку. Вода оказалась теплая и… даже какая-то пушистая, если можно так сказать про воду. Словно приласкала мальчишку. Симка встал лицом к горизонту. Вдали мерцали несколько бледных огоньков. Чернел еле различимый силуэт большого судна.
Симка, пятясь, вышел на песок и отцепил значок. Уже несколько дней Симка гулял без пиджачка, но значок из чешского стекла всегда был при нем, прицепленный к ковбойке. И теперь Симка глянул сквозь волнистое стеклышко на залив. Конечно же, водный простор и небо сразу превратились в сказочно изогнутое желтое пространство, словно Симка смотрел сквозь тонкую пластинку янтаря. Такая пластинка была у мамы на заколке для волос.
Симка вспомнил про маму без печали и тревоги, с одной только ласковостью. Мама невидимо оказалась рядом — словно была частью этого балтийского мира.
«Моя янтарная Балтика…» — благодарно подумал Симка.
И вдруг за спиной прозвучало:
— Послушай… можно тебя попросить?
Он не вздрогнул, не встревожился. Голос (или даже голосок, совершенно детский) тоже был словно частью окружающий тишины и света. И Симка оглянулся, ожидая, что его ждет еще одно хорошее открытие.
Он увидел мальчика. Примерно его же, Симкиного, роста.
Длинные, косо отброшенные набок волосы мальчика были светлыми и, казалось, излучали тот же янтарный свет, что и небо с водой. И была в глазах та же теплая ясность. Мальчишкино лицо показалось Симке таким хорошим, что сразу стало ясно — здесь не сможет случиться никакой стычки, никакого даже крохотного спора. Симка различил на переносице и щеках мальчика несколько бледных веснушек — они тоже отсвечивали янтарем.
Откуда он взялся? Только что вокруг никого не было. Мальчик словно выступил из этого пропитанного балтийским освещением воздуха. Волшебство… Впрочем, одет он был не волшебно. В полосатую майку и вельветовые штаны — такие же, как старые Симкины, с застежками под коленками. Хотя один манжет был застегнут выше колена, а нога сверху до щиколотки обмотана бинтом. Пряжки сандалий (тоже похожих на Симкины) отбрасывали желтые искорки…
— А как помочь-то? — спохватился Симка. Он почувствовал, что готов для этого мальчика на самый героический поступок.
— Видишь, она уплыла. Я забыл повернуть перо руля, чтобы путь получился по дуге, и она ушла прямо. Хорошо, что наткнулась на балку и мотор остановился…
Симка глянул, куда показывал мальчик. Метрах в двадцати торчала из воды наклонная балка, а у нее был различим белый игрушечный кораблик.
— Там неглубоко. Я бы добрался в два счета, но нельзя разбинтовывать ногу. Я ее днем так ободрал, что там… ну, сплошная хирургия… — Он виновато улыбнулся, и янтарно посветились ровные зубы.
— Я конечно! Сейчас… — Симка сунул в карман значок и снова шагнул в воду.
— Там неглубоко, — опять сказал мальчик вслед Симке.
Оказалось и правда неглубоко. Когда Симка добрался сквозь тугую теплую воду до кораблика, она замочила ему краешки штанов, но это такая ерунда… Симка взял кораблик. Тот был длиною сантиметров двадцать. Корпус из пенопласта. К мачтам и реям были подвязаны свернутые, такие же белеющие, как бинт на мальчишкиной ноге, паруса. Симка покачал кораблик, будто спасенного от злых собак котенка.
Он вышел на песок и протянул модель мальчику.
— Вот…
— Спасибо. Было бы ужасно жаль, если бы она уплыла. Там очень сильный моторчик, не такой, как для моделей, а от электробритвы «Рассвет». А батарейки хватило бы надолго. Может, до самой Финляндии… — Он улыбнулся: шутка, мол. Взял кораблик и покачал его в точности как Симка.
Потом благодарно глянул Симке в лицо.
Симка застеснялся и спросил:
— А что это за тип корабля? Или он… просто так?
Мальчик не удивился вопросу.
— Это марсельная парусно-моторная шхуна.
Симка постеснялся еще секунду-две и сказал:
— Ты, наверно, разбираешься в кораблях… Да?
Мальчик отозвался просто:
— Да. Разбираюсь немного.
— Тогда скажи… У набережной Лейтенанта Шмидта стоят четыре парусника. Я спросил одного моряка, какого они типа, да он ничего толком не объяснил. «Я, — говорит, — специалист по минам…» А ты, наверно, знаешь?
— Конечно, знаю! Это баркентины. Учебно-парусные суда для курсантов. Сокращенно УПС. На «Кропоткине» одно время служил наш сосед, вторым помощником. Я там бывал два раза…
«Повезло тебе», — чуть не вздохнул Симка. Но нельзя было портить разговор даже намеком на зависть. И Симка сказал:
— Бар-кен-тина… это похоже на бригантину.
— Да. Только у баркентин три мачты или даже бывает больше, а у бригантин две. Как у этой шхуны. Она похожа на бригантину, только у нее на фок-мачте вместо прямого нижнего паруса трисель…
Симка кивнул, хотя и не понял.
Не хотелось расходиться, и Симка спросил:
— А название у этой шхуны есть?
— Есть, конечно! Только я еще не написал… Название — «Лисянский». Это был мореплаватель. Он вместе с Крузенштерном обошел вокруг света… Ты слышал о них?
— Да! У меня есть книжка «Водители фрегатов»… А у памятника Крузенштерну я был совсем недавно…
— Вот в том-то и дело! — воскликнул мальчик, словно приглашая Симку в союзники. — Крузенштерну и памятник, и слава. И большущий парусник его имени есть, четырехмачтовый барк. А Лисянскому — ничего. А он ведь не меньше сделал, чем Крузенштерн, даже еще сильнее рисковал, потому что пришлось воевать с индейцами!.. Разве справедливо, что ему ни корабля, ни памятника?
— Само собой, несправедливо! — со всей искренностью отозвался Симка. Потому что и правда было несправедливо. И потому, что хотелось во всем быть согласным с мальчиком, у которого (Симка это чуял) была ясная и добрая душа.
— Мне про то кругосветное плавание сосед рассказывал, — доверчиво поведал мальчик. — И эту шхуну помог построить. Начертил… А недавно он уехал в Мурманск. И пришлось мне испытывать одному. Так поздно, чтобы не увидел брат, когда я вернусь с ней… Брату завтра будет четыре года, это ему в подарок. Теперь-то он уже спит, а я удрал из дома среди ночи…
«У меня тоже есть брат. Правда, ему еще только семь месяцев…» — хотел сказать Симка. Но это желание опередила другая мысль — наконец-то тревожная: «А что, и в самом деле уже ночь?»
— Ох, а сколько же сейчас времени?
Мальчик из вельветового кармана выволок тяжелые часы на цепочке. Улыбнулся:
— Это соседа, дяди Славы, он оставил на память… — И отколупнул крышку. — Ого! Десять минут первого! Если хватятся, бабушка меня съест…
— Мамочка… — тихо ужаснулся и Симка. Ведь что будет с тетей Норой, когда она хватится его !
— Ты тоже удрал? — понял мальчик.
— Тоже… и не заметил, что надолго…
— А где ты живешь?
Симка сказал.
— Ого… — тихонько выдохнул мальчик. — Сколько тебе топать. И автобусы уже не ходят…
Они бок о бок торопливо зашагали к улице. И… вот странно: тревога не пропала, но делалась как-то сама по себе, отдельно от Симки. А главным его чувством была радостная теплота, что рядом этот удивительный, словно светящийся мальчик. И печаль, что скоро, вот-вот, наступит расставание.
Мальчик вдруг сказал на ходу:
— Я догадался. Ты, наверно, не из нашего города, а приезжий…
— Да. Я из Турени. Слышал?
— Конечно, слышал. Это за Уралом… Жаль…
— Почему? — спросил Симка, хотя догадывался «почему».
— Как встретишь хорошего человека, так он обязательно издалека…
Симка не стал говорить, что не такой уж он хороший, было некогда. Лишь спросил:
— Разве поблизости мало хороших людей? — Это получилось скомканно, ненатурально как-то.
Мальчик вздохнул в ответ:
— Вообще-то немало, только… — И не договорил, остановился. — Ну, мне вон туда, — и махнул рукой за деревья. — А тебе прямо. Да?
— Да, — с нарастающей горечью выговорил Симка.
— Тогда… прощай, да?
— Да… — опять сказал Симка. И вдруг догадался: полез в карман, протянул мальчику значок. — Вот… на память. Он чуть-чуть волшебный. Когда смотришь насквозь…
Мальчик не удивился, взял. Но сказал нерешительно:
— А у меня ничего нет, чтобы подарить. Шхуну я не могу. Если бы моя, а то ведь она для брата…
Симка нашел очень удачный ответ. Улыбнулся сквозь печаль:
— Ты ведь уже подарил…
— Что?
— Целых четыре корабля. Я теперь знаю, что они — баркентины. Значит, они немного мои…
— Прощай… — снова сказал мальчик. И нерешительно протянул ладонь. Они, двое мальчишек, еще не умели обмениваться «крепким мужским рукопожатием», просто подержали тонкие пальцы друг друга и расцепили руки. И пошли в разные стороны, не оглядываясь. Даже не спросили, как кого зовут. Потому что зачем? Это лишь укрепило бы возникшую между ними ниточку, а какой смысл, если она порвется через миг?
Шагов через двадцать Симка не выдержал, оглянулся. Мальчика уже не было видно, а простор залива все так же распахивал волшебный свет.
«Моя янтарная Балтика», — опять подумал Симка, стараясь укротить этими словами отчаянно растущую тревогу…
Через много лет Симка снова оказался в этом городе и решил побывать на памятном песчаном берегу. Но Большой проспект привел его не к пустынному пляжу, а к похожему на громадный ресторан морскому вокзалу. У причала возвышался, как белое многоэтажное здание, лайнер «Одесса».
И Серафим Стеклов понял, что сказки не возвращаются…
Впрочем, и тогда ему, мальчишке, на обратном пути от залива, было уже не до сказок. Проспект казался бесконечным. В конце концов Симке даже почудилось, что он выбрал не ту дорогу и не попадет домой по крайней мере до утра… Господи, что там с тетей Норой? Наверно, мечется по ближним улицам и звонит в милицию с автомата (потому что в квартире нет телефона).
Он то бежал, то шагал торопливо, сбивая дыхание и даже всхлипывая. И казалось, что это длится несколько часов…
Но город опять сделался добрым к туреньскому мальчишке Симке Стеклову, не захотел отбирать у него сказку.
Кто-то высокий шагнул из-за деревьев навстречу Симке. В белом кителе, в белой фуражке. Моряк? Ох, нет, милиционер. Потому что в галифе и сапогах.
— Остановитесь-ка, молодой человек…
Симка остановился, не зная, чего ждать. Опустил голову, вцепился в мокрые кромки коротеньких своих штанов.
— Что-то поздно вы гуляете… — полувопросительно заметил милиционер (как потом разглядел Симка — старший сержант).
Симка сказал со стеклянными слезинками в горле:
— Конечно, поздно! Я сам не заметил. Вышел из дома, побрел, побрел… Потому что светло же… И время незаметное…
— Вон как! Бывает… А где живешь-то?
Симка назвал адрес. И добавил, что живет там временно, потому что приехал издалека. И что тетя, с которой он приехал, наверняка сейчас сходит с ума…
— Ладно, пойдем, — кивнул милиционер.
— Только не в отделение! — взмолился Симка. — А то она совсем…
— Не будем терзать тетино сердце, — согласился дядя с широкой полоской на погонах. — Пошли, у меня тут рядом мотоцикл…
В тряской коляске он стремительно доставил Симку к арке знакомого дома. Постукивая подковками по булыжникам мощеного двора, проводил до дверей.
— Ну, ступай, путешественник. Присутствовать при встрече с тетей не буду. Возможно, она примет воспитательные меры…
«Пусть примет, — отчаянно думал Симка, задыхаясь на крутых ступенях. — Самые «адекватные». Лишь бы не сказала, что я ей теперь совсем… никто… Лишь бы простила…»
Он отчаянно позвонил. Тут же открыла Раиса Валерьевна. Удивилась:
— Ты один? А где Нора Аркадьевна? Разве вы были не вместе?
— Мы… нет… Она еще не приходила?!
— Представь себе… Перед уходом она просила накормить тебя ужином, но потом вы ушли оба, и я решила, что она взяла тебя с собой… Странно…
Это было очень странно. И непонятно: хорошо или плохо? Скорее — плохо. Потому что куда она подевалась? Не могла же просто так оставить Симку одного на полночи, если обещала прийти в одиннадцать…
Симка тоскливо взял из-под половичка ключ от «их» комнаты. Вошел. Включил лампу. Сел на застеленный диван, упираясь острыми локтями в колени и подперев щеки. Что же теперь — сидеть так и маяться? И сколько минут? Часов?..
Уж лучше бы встретила и сказала, как когда-то брату: «А ну-ка, голубчик, вытащи из петель свой ремень…» Нынче-то характер у нее крепкий, не как в молодости, и она довела бы дело до конца. И пусть! Никогда с Симкой так не поступали, но теперь он и не вздумал бы сопротивляться. Потому что так ему и надо!.. А сейчас что делать? Надавать самому себе тумаков?
И он собрался от отчаянья врезать себе подзатыльник (забыв, что в этой-то ситуации опоздавший уже не он, Симка, а тетя Нора). И поднял руку… И услышал снаружи знакомые шаги и покашливанье.
Тогда все сместилось в Симкиной голове. Он стремительно скинул одежду, выключил лампу, юркнул под одеяло и притих.
Она войдет и спросит:
«Сима, ты спишь?»
А он скажет сквозь слезы (почти настоящие):
«Ага, спишь … Вы где-то ходите чуть не всю ночь, а я должен спокойно спать, да? Вот если бы я так застрял где-то…»
В этот момент он даже не сообразил, что Раиса Валерьевна обязательно проговорится о его собственном позднем возвращении. Лежал и с хмурой мстительностью ждал…
МИК
Нора Аркадьевна вошла. И, конечно, сразу:
— Сима, ты спишь?
Видимо, он дышал так, что она поняла: не спит. И заговорила виновато:
— Ты, наверно, волновался, я понимаю… Так неожиданно все получилось. Странно даже… Сидели, разговаривали. На балконе. И время текло как-то… как вода сквозь пальцы. Мы очень долго не виделись, столько надо было обсудить… А на улице-то светло… Потом я взглянула на часы, ахнула. Подруги кинулись меня провожать, и как назло — ни одного такси. А это далеко, на Петроградской стороне… Сима, ты, надеюсь, не очень на меня сердишься?
Во время этой речи в голове притихшего Симки происходил новый переворот. Безмолвный, стремительный и… отчаянный. Словно кто-то крепко встряхнул его мозги и теперь безжалостно расставлял там всё как по шахматным клеткам.
Боже мой, какая же он скотина! Она волновалась, торопилась и ни на секундочку не побоялась сказать, что виновата, а он… чуть не устроил дурацкий театр!
Теперь Симка понимал, какой подлый обман он замыслил. Этим обманом он, как жидкой грязью, заляпал бы все хорошее, что было в нынешние дни. Потом не смог бы вспоминать без едкого стыда ни город, ни парусники, ни… мальчика со шхуной «Лисянский».
Симка даже не сообразил, что он ведь еще не успел сказать никаких обманных слов и что можно полежать и отмолчаться.
Его словно твердой рукой вытащили из-под простыни за шиворот (хотя никакого «шиворота» не было, Симка улегся без майки). Он встал уронил руки и голову, перед Норой Аркадьевной. Не Симка даже, а сплошная виноватость — костлявая, взъерошенная, в перекошенных трусиках. И… тихонько заплакал. Прямо как детсадовский малыш.
— Тетя Нора, простите меня, пожалуйста…
Второй раз в жизни он просил прощения без всякого стыда (первый — на набережной, у баркентин). С одним только желанием, чтобы она и вправду простила его. Чтобы все осталось чистым, незапятнанным.
Тетя Нора испуганно ухватила его за плечи.
— Господи… Симочка, что случилось?
— Потому что я… — всхлипывал он. — Тоже недавно… пришел… Тоже… гулял, гулял. Не заметил времени… А вам хотел соврать… будто давно сплю…
Она с великим облегчением опустилась на диван. Поставила Симку перед собой.
— Вот оно что… А я-то перепугалась, думала, заболел… Значит, мы оба загуляли, потеряли голову. Знаешь, это виновата белая ночь. Не правда ли?
— Ага… то есть да, — всхлипнул Симка уже с облегчением. — А вы… не сердитесь?
— Милый ты мой, да за что же? Ведь мы же не стали обманывать друг друга…
Симка посопел и попытался вытереть мокрый нос о плечо. Тетя Нора кашлянула и сказала:
— Только давай больше не станем гулять по ночам в одиночку. Договорились?
— Ладно… — прошептал Симка.
Тетя Нора худыми прохладными пальцами взяла его за плечи, посадила рядом.
— А где же ты бродил-то столько времени?
— Я… дошел до залива…
— С ума сойти… — шепотом не то ужаснулась, не то восхитилась тетя Нора. — Ну… и как там?
— Там… такой свет… И еще я встретил мальчика…
Он стал рассказывать и слово за слово выложил все. И про бесконечный проспект, и про янтарный свет над водами, и про мальчика с корабликом. И даже про свою печаль, что расстались навсегда…
— Надо было обменяться адресами… — запоздало пожалела тетя Нора.
— Не подумал как-то… Да, может, ему это не надо…
— Мне кажется, ему это было надо . Как и тебе… Но что теперь поделаешь. Будешь вспоминать…
— Буду… — И вдруг вырвались слова, которых он тут же застеснялся: — Тетя Нора, он такой… весь как из света… — И чтобы унять навалившееся смущение, быстро добавил: — Я подарил ему свой значок. Тот, стеклянный…
— Вот как! И не жаль?
— Не-а… Он ведь сказал мне про баркентины.
— Я отдам тебе свой значок…
— Да что вы! Не надо…
— Отдам. Мне-то он зачем? А у тебя будет память. И об этом мальчике, и… вообще…
— Спасибо… — выдохнул Симка. И от того, что все закончилось так хорошо, опять чуть не всхлипнул.
— Ты, наверно, хочешь спать! — спохватилась тетя Нора.
— Совершенно не хочу… — Симка чувствовал, что не уснет до утра.
— Признаться, и я тоже… Кажется, сегодня ночь удивительных открытий… У подруги, с которой мы нынче встретились, оказывается, хранилась старая тетрадка с переписанной поэмой. Ее автор — замечательный поэт…
— Блок? Или Пастернак?
— Нет… Блок и Пастернак не запрещены, хотя Пастернаку сейчас и несладко. А этого поэта… велено было забыть полностью… Но это, мальчик мой, разговор между нами. Ладно?
— Да…
Симка сказал это с привычным пониманием. Потому что разговор «между нами» был у них не первый. Тетя Нора не раз уже, увлекшись, проговаривалась о том, что все очень непросто в нынешней жизни. А потом, спохватившись, просила, чтобы Симка нигде не повторял ее слова. «Я боюсь не за себя, мне-то что терять. А тебе надо быть осторожным». И Симка, хотя и не во всем соглашался, понимал, что осторожность необходима.
Тетя Нора продолжала:
— Его звали Николай Степанович Гумилёв… Когда-нибудь его книги все равно вернутся к читателям, и люди поймут, что это был один из замечательных русских поэтов…
— А почему его запретили?
— Обвинили в двадцать первом году, что замешан в заговоре против советской власти. Арестовали и расстреляли.
— А он правда был замешан?
— Едва ли… Скорее всего, он просто знал про заговор, но не пошел сообщать. Как он мог, дворянин, офицер, донести на людей, близких ему по духу? Тем более, что советская власть у него, конечно же, не вызывала сочувствия. Как и у многих других в России, в том числе умных и порядочных…
— Он был белый офицер, да? — шепотом спросил Симка. Потому что в комнате будто и сейчас повеяло духом заговора.
— Он был просто офицер. В четырнадцатом году, когда началась война с Германией, он пошел на фронт добровольцем и уже там заслужил офицерский чин. Сражался очень храбро, получил Георгиевские кресты… А в белой армии он не воевал. Во время Гражданской войны жил в Петрограде, читал лекции по литературе. А потом — вот… Говорят, Горький пытался заступиться за него, но безуспешно… Расстреляли и зарыли неизвестно где одного из лучших поэтов Серебряного века. Так назывались те годы в поэзии…
Симка опасливо молчал и ежился, хотя было совсем не холодно.
Тетя Нора заговорила опять:
— Он был не только знаменитый поэт, но и ученый. Путешественник. Изучал Африку, бывал там в экспедициях… И вот однажды он написал африканскую поэму-сказку «Мик». Она про негритянского мальчика и его белого друга… Считают, что это не самое удачное произведение Гумилева, но я прочитала поэму в восемнадцатом году и с той поры буквально заболела ею… всей этой африканской сказочностью и судьбой двух мальчишек… Можно сказать, я растворялась в этой поэме, когда начинала читать и перечитывать… Мне было тогда тринадцать лет. Шурика еще не было на свете… Тебе холодно? Ты вздрагиваешь…
— Нет, это пружина в диване колется… — Симка повозился и замер. — И вы там, сегодня… опять читали эту поэму?
— Кое-какие куски… Я попросила тетрадку на пару дней, чтобы прочитать «Мика» тебе. Если хочешь…
— Конечно, хочу! Давайте сейчас!
— Но… а спать?
— Да не хочется же!.. И вы сказали, что вам тоже…
— По правде говоря, нисколечко… Давай выключим электричество и сядем у окна, света с улицы хватит. Помнишь, как у Пушкина: «Пишу, читаю без лампады…»
Симка не помнил, но кивнул. Это был такой невинный обман, что и не обман даже…
Тетя Нора погасила лампу, и они перебрались к растворенному окну. Там стояло потертое велюровое кресло — «широченное, как душа русского хлебосола» (по словам тети Норы). Она — обычно такая сдержанная, воспитанная — вдруг скинула туфли и забралась в кресло с ногами, как девчонка.
— Садись рядом, тут много места.
Но Симка устроился не внутри кресла, а верхом на пухлом валике-подлокотнике. Откинулся к пушистой спинке. Правую ногу поставил на сиденье рядом с тетей Норой и обнял колено. Так он сможет сидеть и слушать хоть целые сутки.
Заглянул в тетрадку. Она была тонкая, в обложке с разлохмаченными краями. Несмотря на свет белой ночи, строчки различались слабо. Разберет ли их тетя Нора (несмотря на свои большие, очень блестящие очки)?
— Вам все видно?
— Разумеется… А кроме того, я многое помню наизусть. Стоит лишь зацепиться за начало строки… Вот слушай. Дело происходит в самом начале нашего века, когда в Африке правил страной Абиссинией знаменитый негус Менелик. Негус — это как в Европе король или император. Он старался объединить разрозненные негритянские племена. Но не все племена хотели быть под его властью. Приходилось воевать… Было такое небольшое, но храброе племя Гурабе . Воины негуса долго не могли завоевать его, потому что племя охранял сам Дух Лесов. Но вот однажды… Слушай…
Сквозь голубую темноту, Неслышно от куста к кусту Переползая, словно змей, Среди трясин, среди камней Свирепых воинов отряд Идет — по десятеро в ряд. Мех леопарда на плечах, Меч на боку, ружье в руках…Слово «десятеро» показалось Симке непривычным, неуклюжим, но тут же это ощущение пропало.
И белая ночь отодвинулась от Симки. Сменилась лунной африканской ночью. Такой настоящей ! Тетя Нора читала вроде бы не очень выразительно, а Симка все видел и ощущал, будто на самом деле. Душную, пахнущую нездешними растениями тьму, дыхание и шепот черных воинов, блики лунного света на их блестящих телах и наконечниках копий… Казалось даже, что мокрые кусачие лианы касаются его голых плеч и спины. Симка опять поежился, но тихо, чтобы не сбивать чтение.
Дух Лесов, который обычно оберегал племя Гурабе, на этот раз потерял бдительность. Когда он спохватился, было поздно. Отважный царь племени погиб в схватке с не менее отважным вождем абиссинцев, старым Ат о -Ган о . Разгневанный Дух наконец послал против нападавших армию разъяренных слонов, носорогов и бегемотов во главе с удивительным и страшным зверем — у того была кошачья голова, увенчанная рогами…
Абиссинцы отступили. Ато-Гано успел прихватить с собой семилетнего мальчика, который был сыном царя племени.
Звали мальчика Мик.
Мальчик стал абиссинским рабом. Он жил в городе Аддис-Абебе, на дворе у Ато-Гано. Тот не загружал его, маленького и слабосильного, тяжелой работой. Так, всякие пустяки — двор подмести, посуду почистить. И каждый день Мику доставался кусок инджир ы — вкусного абиссинского хлеба. В общем, жить было можно. Однако Мик очень страдал от одиночества, неволи и насмешек слуг.
Прошло три года. Мик познакомился с другим пленником. Недалеко от дома, на лугу, был привязан к столбу косматый павиан. Его поймали в джунглях. Этот старый дикий зверь никого не подпускал, рычал, щелкал зубами. Наверно, он умер бы от голода, если бы его не стал подкармливать мальчик. Они привыкли друг к другу, а потом и подружились.
Мик понимал обезьяний язык, и павиан рассказывал ему про иную страну, «где не дерутся никогда, где каждый счастлив, каждый сыт, играет вволю, вволю спит». Это был город обезьян — единственного в Африке народа, жившего без царя…
Тетя Нора читала равномерно, негромко, и ритмика стихотворных строф брал Симку в плен. Размеренность строчек подчеркивало звонкое тиканье будильника — оно вплеталось в стихи…
Иногда тетя Нора останавливалась, чтобы объяснить непонятные слова. Но Симка нетерпеливо дергал локтями: «Не надо, и так понятно. Читайте…»
— Ты не устал?
— Нет-нет… пожалуйста, дальше…
Он сам был теперь Миком, с горестями и надеждами негритянского мальчишки.
А надежда, конечно, была одна — убежать с павианом в далекую свободную страну.
Но как убежишь без оружия, без провизии, без всякого средства, что бы разводить в пути огонь?
И тут на помощь Мику пришел счастливый случай.
Французский консул зазвал Ато-Гано, любимца негуса, к себе в гости. Пока Ато-Гано в консульском доме пробовал французские вина и сдержанно дивился европейским чудесам — граммофону, игрушечному аэроплану, электрическому звонку, — Мик в саду, где он караулил хозяйского мула, познакомился со своим белым ровесником.
…Как вдруг он видит, что идет Какой-то мальчик от ворот И обруч, словно колесо, Он катит для игры в серсо. И сам он бел, и бел наряд, Он весел, словно стрекоза, И светлым пламенем горят Большие смелые глаза.Симка тут же будто наяву увидел этого мальчишку — такого светлого, что его не тронул даже горячий африканский загар. С белокурыми разлетающимися волосами, синеглазого, улыбчивого. Сразу вспомнился мальчик на берегу, хотя он и этот десятилетний сын консула были, конечно разными…
Белый мальчишка не стал важничать перед маленьким черным рабом.
«Меня зовут Луи. — «А я Был прозван Миком». — «Мы друзья».Мик поведал Луи о павиане и о том, что давно убежали бы они в лес, если хотя бы раздобыть кремень и нож, чтобы не пропасть в пустыне.
Храбрый, отчаянный и своенравный Луи, начитавшийся романов Буссенара, тут же загорелся этой идеей…
— Ты слышал о таком писателе — Буссенаре?
— Да, — дернулся Симка. — Я читал «Капитан Сорви-голова». Тетя Нора, давайте дальше. Они убежали?
Они убежали. Правда, старый мудрый павиан был не в восторге от такого спутника, как Луи. Тем более что Луи замыслил ни мало ни много — стать обезьяним королем. Конечно, хорошо, что юный сын консула раздобыл для похода и пищу, и оружие, и деньги, но где это видано, чтобы городской мальчишка, к тому же чужестранец, был правителем живущего в джунглях народа, пусть даже обезьяньего?
Но долго спорить он не стал, Вздохнул, под мышкой почесал И прорычал, хлебнув воды: «Смотри, чтоб не было беды!»А Мик не испытывал никаких опасений. Он привязался к Луи всем сердцем и видел в нем только хорошее.
После многих приключений Луи и в самом деле стал царем обезьян: те, пошумев и поспорив, выбрали его. И, как выяснилось, зря.
Луи оказался суровым повелителем, он не думал о том, как сделать легче и
Но ни за что его народ Не соглашался на поход, И огорченный властелин Бродил, печален и один.Особенно любил Луи бывать у водопада, что шумел ледяными струями в вечной мгле. Откуда-то мальчик знал (или просто чувствовал?), что сюда раз в сто лет
С рогами серны, с мордой льва Приходит пить какой-то зверь.Этот загадочный зверь еще появится в истории про Мика. А пока Мик жил среди вольного обезьяньего племени, забывая о горьком рабстве.
Казалось бы, чего не жить и Луи — среди своих беспечных и незлобивых подданных, среди веселых игр и развлечений?
Но все наскучило Луи — Откос, шумящие струи, Забавы резвых обезьян И даже Мик и павиан. Сдружился он теперь с одной Гиеной старой и хромой…Эта хитрая тварь подговорила мальчишку спуститься с утеса, где был город обезьян, в долину. Там он, мол, сможет сделаться королем прекрасных и отважных пантер и леопардов. Это не бестолковые и боязливые обезьяны!
Луи был доверчив и, как известно, очень смел. Недолго думая, он передал свой скипетр и королевскую чалму Мику и ушел. Огорченный обезьяний народ печально смотрел вниз с утеса вслед бывшему повелителю. Снизу раздавались непонятные голоса и рычание…
А ночью Мику приснился зловещий сон, и тот понял, что с его другом случилась беда. Он кинулся за помощью к старому павиану.
Павиан собрал храбрейших обезьян, и они, переплетаясь хвостами, стали строить над пропастями мосты из собственных тел и спускаться в долину.
На рассвете они увидели окруженную деревьями поляну со скалой посредине. На скале без памяти лежал Луи. Он зажимал раны и все еще пытался приподнять топор. Этим топором он всю ночь отважно отбивался от пантер — те, конечно, видели в мальчике не будущего царя, а только легкую добычу. Оказалось, правда, что не очень легкую. Мальчишка был отчаянно храбр и ловок. Поэтому восемь пантер, что кружили рядом, не решались подойти к израненному Луи, ждали подмоги.
Как град камней, в страну полян Сорвалась стая обезьян, И силою живой волны Пантеры были сметены И отступили… С плачем Мик К груди товарища приник. Луи был в бреду. И скоро он умер…Старый павиан перегрыз горло коварной пантере. Но разве это могло утешить Мика? Ничто не могло его утешить.
Тетя Нора опять прервала чтение (только будильник все стучал).
— Конечно, Луи был взбалмошный мальчик, не очень умный и эгоист. И к тому же он бросил Мика, когда ушел в долину. Но Мику-то что? Как говорится, сердцу не прикажешь. Для него Луи все равно был самый лучший друг!.. Видишь ли, дружба, как и любовь, бывает слепа. В этом ее слабость, но, может быть, в этом и сила.
— И это все? — отчаянным шепотом спросил Симка. Он был обескуражен и даже оскорблен таким безнадежным, безвыходным концом. — Так же нельзя…
— Это не все. Дальше — пожалуй, самое главное…
Мик похоронил друга и был, конечно, в отчаянье. А кругом скорбно выли обезьяны… И на этот шум и вой явился на огненном слоне Дух Лесов.
Дух чувствовал себя виноватым перед Миком за то, что несколько лет назад ночью заболтался с месяцем и не уберег племя Гурабе. И теперь Дух сказал Мику, что тот может просить все, чего хочет.
«Мне видеть хочется Луи Таким, каким он в жизни был». — «Он умер». — Пусть и я умру». — «Но он в аду». — «Пойду и в ад! Я брошусь в каждую дыру, Когда в ней мучится мой брат».Дух Лесов больше не спорил. Он рассказал Мику про трудный и опасный путь по течению ручья, а потом через долину черных змей. В конце пути — чугунная дверь в ад. Ее караулит рогатый зверь с кошачьей мордой. Ему ведома дорога за этой дверью. Правда, тому, кто там окажется, помочь не сможет никто, даже он, Дух Лесов.
Мик не дослушал, он уже бежал вдоль ручья…
Оборванный, исхудалый, Мик через десять дней добрался до двери — страшной, черной. Она медленно открылась, и появился зверь — «с кошачьей мордой, а рогат». Он молча повел Мика по заваленному костями коридору. Это были кости животных и людей. Черепа что-то бормотали, пальцы мертвецов изгибались, бычьи рога угрожающе шевелились…
— Сима, тебе холодно? Ты вздрагиваешь…
— Это… так просто…
— Накинь хотя бы простыню…
Чтобы не спорить и скорее слушать дальше, Симка завернулся в сдернутую с дивана простыню, как в африканский бурнус, и уселся на прежнем месте.
…А Мик и таинственный зверь продолжали страшный путь. Он привел их в мертвый мир, где обитали души тех, кого давно нет на свете. Тени людей. И вообще вокруг были только тени. Тени деревьев, тени скал… Даже великолепная луна, что освещала это безмолвное царство, была не нынешняя, а ее мать — луна доисторических времен, которая на самом деле умерла еще до сотворения теперешнего мира.
Зверь сказал Мику: «Теперь ищи» — и устало уткнулся мордой в песок.
Мик искал своего друга за тенями пней, кустов, камней, заглядывал в пещеры и озёра. Однажды он увидел тень своего отца, но та не обратила на мальчика внимания… А Луи не было нигде.
Отчаянье опять овладело Миком. Но следом за отчаяньем вдруг пришла разгадка. Мик бросился к зверю: «Здесь живут только души черных людей? А где белые?»
Зверь поднял кошачью голову с рогами: «Почему ты сразу не сказал, что твой друг — белый?»
И он разъяснил, что души белых людей, которые все крещены при жизни, Христос возносит на небеса.
Мику, сказал зверь, надо поймать жаворонка («Он чист, ему неведом грех, и он летает выше всех»). Потом зверь дал Мику три волшебных зерна, которые достал из своего мозга. Проглотив их, жаворонок должен заговорить человечьим языком…
Мик вернулся в пустыню. С радостью услышал шум настоящего ветра, журчанье настоящего родника. Но главные мысли были — о Луи. Мик поймал жаворонка силками из своих волос, скормил ему одно зерно и подбросил ввысь. Жаворонок умчался в небо, а Мик замер в надежде и нетерпении.
Жаворонок упал обратно камнем, он чуть дышал.
«Ну что? Скажи, что видел ты?» — взмолился Мик.
Жаворонок, отдышавшись, рассказал, что видел множество чудес. И что райские птицы говорили ему, будто мальчик Луи попал в седьмой небесный круг, в самое замечательное место небесного царства.
Но Мику было этого мало. Целуя жаворонка, он дал ему еще зерно и просил слетать снова.
И взвился жаворонок вновь, Хотя в нем холодела кровь.На этот раз он вернулся через день и не дышал больше часа. Но очнулся наконец и сказал, что встретил ангела, который пропел ему:
«Пусть ни о чем не плачет Мик: Луи высоко, он в раю, Сам Михаил Архистратиг Его зачислил в рать свою».— Михаил Архистратиг — это начальник всех ангельских сил на небе, — разъяснила тетя Нора. — Как видишь, он оценил доблести Луи и простил ему его легкомыслие и ошибки…
— А дальше?
Дальше Мик скормил жаворонку третье зерно и упросил добрую птичку слетать на небо еще раз. Жаворонок слетал, но, упав обратно, — через три дня, — уже ничего не смог рассказать. Он в небе видел такое торжество, что его сердечко разорвалось от радости…
А Мик на пути из пустыни повстречался с шотландским охотником Дугл а сом, и показал ему слоновье кладбище, где можно найти сколько хочешь драгоценных бивней (это чтобы Дуглас не стрелял живых слонов).
Дуглас оказался не самым плохим человеком, не из тех европейских хищников-колонизаторов, которым наплевать на все, кроме наживы. Продав добычу, он отблагодарил Мика. Уезжая в Шотландию, он оставил Мику свой караван с товарами — целое состояние. Мало того! Дуглас побывал в гостях у негуса Менелика и предложил тому взять Мика в советники. Негус внял словам неглупого европейца. Скоро Мик стал знаменит своей мудростью и богатством. Его дворец в Аддис-Абебе был открыт для любого несчастного, для любого пришельца.
Слепой состарившийся Ато-Гано помирился с Миком и доживал свой век у него во дворце…
— Вот теперь — конец, — сказала тетя Нора. И положила тетрадь на подоконник. Дом на другой стороне улицы уже слабо розовел от света близкого утра.
Симка с минуту еще посидел на валике кресла. Ему не так уж важно было, что Мик разбогател и стал придворным. Важно, что Луи умер не совсем . Хотя и в другом мире, но все-таки он жил. И Мик это знал. И Симка знал. И в этом знании было утешение…
— Спать, — сказала тетя Нора. — Я преступница. Заставить ребенка сидеть без сна целую ночь. Всё-всё-всё! Вопросы и разговоры завтра…
Симка послушно улегся на диван, хотя спать не собирался. Он будет лежать и думать — про Мика, про Луи, про тайны африканских джунглей. И он стал думать. И увидел, как они вдвоем со светловолосым мальчиком отмахиваются боевыми топорами от наседающих пантер и гиен. Был ли мальчик тот, что встретился на берегу, или это был Луи, Симка не знал. И кто он сам — не знал тоже. Может быть, Мик? Это было неважно. Важно, что они вдвоем, и потому — никакого страха, только радость, что они вместе. К тому же хищники один за другим становились тенями, как только попадали под взгляд рогатого зверя с мордой громадной кошки. Зверь смотрел сквозь лианы, зорко охраняя мальчишек…
ЗУЁК
На следующий день они спали до полудня. Деликатная Раиса Валерьевна вздыхала в коридоре, но не решалась постучать. А когда Симка и тетя Нора наконец появились на кухне, соседка облегченно вздохнула: слава Богу, живы-здоровы…
Днем они побывали в Морском музее, и Симка с восхищением разглядывал исполинские модели петровских линейных кораблей. После гуляли просто так…
И было еще два дня ленинградской жизни. Но Симка чувствовал, что эта жизнь уже стала приедаться ему. Видимо, накопилась усталость. Все больше думалось о маме, об Андрюшке, о Турени. Даже ночная картина разведения мостов не очень поразила его (хотя кругом все ахали). Симка сказал:
— Ну и что? Надо было строить повыше, как в нашем городе, тогда не пришлось бы разводить…
Про поэму «Мик» они с тетей Норой не говорили — словно боялись что-то нарушить в недавней ночной сказке.
Лишь в поезде Симка осторожно поинтересовался: не даст ли тетя Нора ему тетрадку, чтобы можно было снова почитать о Мике. Хотя бы отрывки. Но оказалось, что тетя Нора вернула тетрадь подруге…
Надо сказать, что в последние ленинградские дни и в поезде тетя Нора вела себя с Симкой сдержаннее, чем раньше. Разговаривала суше. Может быть, устала от него? Или просто считала, что выполнила по отношению к «племяннику» свои обязательства и теперь всё должно стать как раньше, до поездки?
Нет, они не ссорились, не показывали никакой досады, но отношения сделались… как-то официальнее, что ли. Симка в поезде все чаще говорил ей не «тетя Нора», а «Нора Аркадьевна», и она, кажется, не замечала этого.
Впрочем, беспокойства по такому поводу Симка не испытывал. Он всей душой рвался к дому и считал километровые столбы, которые мелькали за окнами с равномерностью минутных делений.
Поезд был «прямой», без пересадки в Москве.
На середине пути Симка спохватился, что не сделал ни единой записи в общей тетради, которую взял с собой для ведения дневника. Решил исправить это дело. Лежа на верхней полке, он карандашом вывел несколько строк большими, корявыми от вагонной тряски буквами:
1. Город и белые ночи.
2. Маятник Фуко.
3. Баркентины.
4. Залив и мальчик.
5. Мик.
Подумал и добавил отдельно, без номера:
Стеклянная выставка.
Так он коротко и емко выразил самое главное, что было с ним в этом путешествии. Кстати, Нора Аркадьевна не забыла, отдала ему свой стеклянный значок. Симка поотнекивался, но лишь чуть-чуть, для порядка…
Дома Симка произвел «неотразимое впечатление» своим столичным видом. Мама ахала, восхищалась и говорила, какая замечательная женщина Нора Аркадьевна (а та исчезла, едва доставив Симку домой, даже от чая отказалась). А еще мама утверждала, что Симка заметно вырос, стал длинноногим, «как заморский фламинго», и очень загорел. Хотя, казалось бы, северный город Ленинград — не лучшее место для загорания.
Симка порассказывал маме о чудесах, которые повидал. Потаскал на руках слегка отяжелевшего Андрюшку. При этом он удивлялся, как раньше мог злиться на братишку за его капризы и ревучесть. Ведь какой бы ни был, а родной. Потом пошел проведать дядю Мишу, который в сарае точил лопату — собирался сажать деревья. Накануне сильная гроза обломала неподалеку, на Запольной улице, старый тополь, дядя Миша подобрал несколько тяжелых двухметровых сучьев и решил вкопать их против дома. Сучья дадут побеги и через пару лет превратятся в настоящие тополя.
Симке дядя Миша обрадовался. Прошелся по нему веселыми глазами:
— Ишь какой ты… иностранный. Прямо как мой дружок в Венгрии. Ласло его зовут. Сейчас уж, конечно, подрос, а в ту пору был ну в точности как ты.
— А что за дружок? — сказал Симка слегка ревниво.
— А вот сейчас покажу…
В сарае у дяди Миши был за поленницей «самостоятельный» шкафчик — на тот случай, когда он, поругавшись с тетей Томой, уходил жить в «автономное убежище». В шкафчике хранились солдатские кружка-миска-ложка, кое-какие книги, коробка с домино, складная бритва и прочие мужские мелочи. А иногда и «шкалик». Стояли также несколько годовых подшивок журнала «Вокруг света», которые Симка любил разглядывать. Между журналами дядя Миша отыскал небольшой фотоальбом.
— Вот, гляди. Тут я с ребятами из нашего взвода, на сверхсрочной. Ладно, это после… А вот и он, мой дружок Ласло. Он той осенью часто у нашей казармы крутился, ну, слово за слово, и появилось у нас друг к другу приятельское расположение. Он в школе учил русский язык, поэтому мы хоть кое-как, но беседовали. А потом и не кое-как… В общем, я ему про наш город рассказывал, про пароходы, учил бумажных голубей делать, как здешние пацаны. Он мне про свои школьные дела и про всякое другое. Оказывается, мы с ним немало одних и тех же книжек читали: «Робинзона», «Мушкетеров», только я по-русски, а он, понятное дело, по-своему, по-мадьярски…
На гладком коричневатом снимке размером с открытку был мальчишка одного возраста с Симкой. Ну, нельзя сказать, что похожий, — тонколицый, с волосами косо отброшенными набок (как у того мальчика на берегу). Но в точности таком же костюме, как у Симки. Даже значок виднелся на пиджачке, только не разглядишь, какой.
Мальчик был снят в полный рост, он стоял, прислонившись плечом к невысокой каменной изгороди, сверху накрытой черепицей. Смотрел он весело, с искоркой во взгляде, и казался слегка встрепанным, будто убегал или гнался за кем-то и не успел успокоиться перед съемкой. Расстегнутый пиджачок был перекошен, рубашка выбилась из-под ремешка, гольфы съехали, шнурок на одном полуботинке развязался. Возможно, мальчик с нездешним именем Ласло прибежал прямо с уроков — у ноги его лежала в траве школьная сумка с отскочившей крышкой…
— Можно сказать, я ему обязан, что до сих пор живу на белом свете… — вдруг сказал дядя Миша.
Симка испуганно вскинул глаза:
— Как это?
— А вот такое дело. В пятьдесят шестом, когда началась у них заваруха, нас подняли по тревоге и направили в Будапешт… Ну, постреляли там, а потом вроде бы поутихло. Нас расположили в местечке под Будапештом, сказали «на отдых». Тут и стал вертеться у нас этот мальчонка… И вдруг однажды опять стрельба. Выражаясь по-научному, «рецидив событий». Обложили казарму… Думаю, что и отец Ласло был с ними, и сам он, конечно, был на стороне тех, оно и понятно. А только друзей в беде оставлять тоже не хотел… А со мной и с моим приятелем, сержантом Липенко, случилась такая петрушка: мы в ту пору возвращались из поселка, посланы туда были договориться о поставках с пекарни… Слышим, пальба. Ясно — к своим не пробиться… И вдруг Ласло навстречу. Молча так махнул рукой и повел по зарослям мимо ихних пикетов. И вывел к шоссе, по которому шли уже наши транспортеры. А сам обратно, змейкой. Видать, к своим… Когда все кончилось, мы с ним встречались снова, а о том случае не говорили. Просто попросил я у него на память карточку, он принес… А отец его куда-то исчез, видать, от греха подальше. И слава Богу…
Симка понимал, что дядя Миша говорит о том восстании, из-за которого запретили читать книги Говарда Фаста.
Он опять посмотрел на мальчика Ласло. Сколько все же непонятного на белом свете…
— Дядя Миша, а они кто были? Неужели фашисты?
— Ну, какие фашисты. Венгры они, мадьяры. Вот и хотели жить по-своему, по-мадьярски. А нам велено было защищать советский строй. У них своя правда, у нас своя… Называется — политика. А где правда самая точная и настоящая, поди разберись. Вон про Сталина сколько лет подряд говорили, что самый-самый-самый, а теперь… Хрен что поймешь… Ты только это… про наш разговор никому, особенно бабам. А то у них языки…
— Ага, — сказал Симка и чуть не добавил по привычке «то есть да».
Он наконец учуял, что дядя Миша недавно приложился, видимо, к «шкалику» — по случаю выходного дня и предстоящего воскресника с тополями.
Симка взялся помогать дяде Мише. Тот дал ему еще одну лопату. Они вырыли за тротуаром у канавы пять небольших ям, вкопали в них тополиные сучья. Дядя Миша сказал:
— Давай, значит, так. Один будет твой, другой мой, третий твоей мамы Анны Серафимовны. А эти — Андрюшкин и моей Тамары Гавриловны. Хоть и вредна бывает баба, а куда ее девать…
…Двухэтажный деревянный дом в Нагорном переулке сохранился до сих пор. Прежних окрестных домов уже нет, а он все стоит. И теперь перед ним шумят пять могучих тополей. Серафим Стеклов, если приезжает в Турень, обязательно навещает их, трогает бугристые стволы: «Здравствуйте»… Но это так, к слову…
Пока дядя Миша и Симка возились с тополятами, мама несколько раз высовывалась в окно и говорила, что снял бы он костюм, а то ведь жаль: помнет и перемажет. Но Симка отмахивался: «Не-а, не перемажу, тополя чистые…» Во-первых, переодеваться было лень. Во-вторых… сидело в Симке опасение, что если сбросит костюм, в котором гулял по Москве и Ленинграду, то как бы полностью расстанется с прежними радостями. Со всем, что было …
Он и потом, все лето подряд, старался надевать его почаще, бывало, что ходил так целыми днями. Мало того, когда наступило первое сентября (сперва такое далекое, а потом — неизбежное), Симка отважился пойти в этом костюме в школу. В старую школьную форму влезать смертельно не хотелось, была она тесная, тяжелая и кусачая. К тому же штаны были залатанные, гимнастерка с чернильным пятном на подоле, а другое обмундирование мама решила не покупать: какой смысл, если вводят форму иного образца? Лучше дождаться и потратить деньги на новый комплект.
Симка был заранее готов, что придется огрызаться на дразнилки и насмешки. Ну и ладно, позубоскалят, и надоест. Зато не надо жариться и забывать летние дни и белые ночи… Однако никто не дразнился, не приставал. Наверно, потому, что новая форма успела слегка просочиться в Турень и двое мальчишек в четвертом «Б» — сын известного в городе артиста Уханова (Владик по прозвищу Ухо) и отличник Ванечка Гаврилов — пришли почти в таком же, как у Симки, наряде, только из серой, более плотной материи. А некоторые другие, пользуясь, что с формой неразбериха, ходили вообще «кто в чем».
Время дразнилок и даже настоящих издевательств пришло чуть позже. И не из-за костюма, а из-за Симкиной фуражки. По крайней мере, с нее все началось.
Фуражка была от прежней школьной формы. Обшарпанная, мятая, с треснувшим козырьком. Половинки козырька Симка сам заново соединил швом из суровых ниток и выкрасил их сапожным кремом. Школьную эмблему с веточками и буквой Ш он оторвал и на ее место посадил другую — скрещенные якорьки из золотистой латуни.
Якорьки подарил дядя Миша. Он служил в охране на пристани и носил форму речного флота. В этой форме то и дело случались изменения. То вводили, то ликвидировали погоны, меняли нашивки и фасон кителей и курток. После очередного изменения у дяди Миши осталось несколько якорьков от погон и шевронов, он и «осчастливил» Симку.
Скрещенные якорьки Симка быстро приспособил к околышу, а еще один — с наложенным на него маленьким штурвалом — прикинул к пряжке школьного ремня (с той же буквой Ш). Спросил дядю Мишу: нельзя ли как-нибудь приспособить? Дядя Миша сказал, что запросто. Достал электродрель, вставил тоненькое сверло и провертел прямо на школьной эмблеме четыре дырочки. Симка сам сунул в них четыре гибких усика, отогнул. Готово! Он с удовольствием снова протянул ремень в петли костюмных шортиков.
Так и пошел первого сентября в четвертый класс.
Мама охала и убеждала Симку, что фуражка и ремень совсем не подходят к костюму, но Симка в этом вопросе оказался упрям. Он чувствовал, что фуражка в какой-то степени смягчит и ослабит впечатление от элегантного чешского наряда (который, по правде говоря, был уже слегка потертым).
Впрочем, на якоря сперва не обратили внимания. Все смотрели на стеклянный значок, осторожно щупали (Симка позволял). А на третий день из-за фуражки к Симке приклеилось прозвище. Причем срезу и крепко.
До той поры прозвища у Симки не было. Во втором классе глупый Мишка Бебенин заявил, что Сима — имя девчоночье. Народ радостно захихикал, а Светка Николенко даже попыталась прицепить к Симкиным волосам свой бантик. Но на следующий день Симка принес в класс книгу «Тимур и его команда», в которой ясно написано, что у Тимура был боевой товарищ и помощник Симка Симаков. Против Гайдара не попрешь, и дразнильщики отступились… Одно время пытались называть Симку Семафором (потому что «Серафим» похоже на «Семафор»). Это опять же Светка придумала. Но прозвище оказалось слишком длинным. Школьная жизнь показывает, что трехсложные клички прививаются редко, обычно их сокращают: был «Каланча» — стал «Калан», был «Гитара» — стал «Гита»… А «Семафора» как сократишь? Получается «Сёма» или «Сема». Опять же почти «Сима».
А вот тут, в один из первых сентябрьских дней, готовили на школьном дворе праздник для первоклассников, развешивали гирлянды из бумажных флажков, и учитель физкультуры Валерий Григорьевич ухватил Симку за плечо:
— Ну-ка, зуёк, слетай на лестницу, привяжи наверху нитку…
Лестница была прибита верхним краем к гимнастической перекладине с подвешенными шестами и канатами.
Симка сделал все как надо — ловко слазил, ловко привязал. Физрук, задрав голову, стоял внизу «на подхвате». Симка спустился и насупленно спросил у него:
— А почему «зуёк»? Я разве такая козявка? — Ему представилось, что зуёк — это какое-то травяное насекомое, мелкое и боязливое.
— Да ты что, обиделся? — расстроился начинающий педагог Валерий Григорьевич. — Я же не хотел!.. Зуёк это юнга у северных рыбаков, у поморов. А ты вон тоже какой ловкий, и фуражка с якорями…
Это было другое дело, Симка заулыбался. Тут подскочил веселый Вовчик Говорякин:
— Зуёк, айда, бочку перекатывать! Как по палубе! — И они покатили по траве бочку, с которой самые храбрые первоклассники должны были читать стихи, разученные еще в детском саду.
А потом, на уроке чтения, Стасик Юханов, с которым Симка с третьего класса сидел за одной партой, шепотом предложил:
— Зуёк, ну давай меняться. Ты мне стеклянный значок, я тебе три значка со спутниками. А?
— Не-е… А чего это вы все: Зуёк, да Зуёк…
— Теперь уж не отвертишься, — предсказал Стасик.
И оказался прав. Прозвище прилипло. Ну и ладно! Не обидное ведь, даже наоборот — морское.
И все было хорошо в первую сентябрьскую неделю.
А потом все сразу стало плохо.
Случилось так, что мужа Софьи Петровны, учительницы четвертого «Б», срочно назначили в дальневосточную дивизию, он был офицер. И Софья Петровна засобиралась с ним. Для директора и для завуча туреньской неполной средней школы номер одиннадцать это был удар: приходилось менять только что составленные планы и расписание. Четвероклассницы в классе «Б» ревели. Мальчишки не ревели, но тоже ходили понурые. Софья Петровна была добрая и привычная. А теперь что?
Теперь оказалось, что четвертый «Б» придется расформировать и растолкать по трем другим — «А», «В» и «Г». «Это временно», — утешали ребят учителя. Но ведь всем известно, что «временное — это самое долгосрочное».
Симка очутился в четвертом «А», и с ним туда из прежнего класса попали главным образом девочки. Из мальчишек, учившихся раньше в «Б», с Симкой оказались только Юрка Мохтин и Клим Негов. Скоро выяснилось, что оба они — гады.
Ну, Негова-то Симка не любил еще с лета. Но Мохтин… Впрочем, сначала о Негове.
До нынешнего лета Симка и Клим не были ни друзьями, ни приятелями. Так, в одном классе, вот и все. Но в июле, вскоре после Симкиного возвращения из Ленинграда, они повстречались на улице, поболтали, и Клим вдруг сказал:
— Пошли ко мне, займемся чем-нибудь. Вдвоем веселее.
В Нагорном переулке никого из знакомых ребят летом не осталось, разъехались по лагерям и бабушкам. Симка скучал. И теперь обрадовался. Клим жил недалеко, на Казанской улице, в похожем на дачу деревянном доме (папа был какой-то начальник). На застекленной веранде они поиграли в настольный бильярд, потом покачались во дворе на качелях (фабричных, с капроновыми веревками и лаковым сиденьем). Договорились, что встретятся еще. И Симка после этого ходил к Негову целую неделю.
Гоняли шарики бильярда, играли в шашки, иногда смотрели в просторной гостиной большой телевизор (Симка такого раньше ни у кого не видел). Иногда молчаливая строгая бабушка поила их чаем. Бывало, что забирались по приставной лестнице на крышу и пускали оттуда бумажных голубей. Но однажды на двор вышла бабушка и велела:
— Клим, спускайся сию же минуту.
— Сейчас…
Прямая и неумолимая, бабушка сказала, не повышая голоса:
— Не сейчас, а немедленно. Ты ведь знаешь, что бывает за непослушание.
Клим, видимо, знал. Суетливо заправил аккуратную голубую маечку в синие атласные трусы с вышитым на кармашке корабликом, спустился, часто перебирая ногами, и встал перед бабушкой с опущенной головой.
— Чтобы этого больше не было, — прежним тоном велела бабушка и удалилась в дом. На спустившегося Симку даже не взглянула. А он стоял, как побитый.
Клим вдруг украдкой показал вслед бабушке язык. И шепнул:
— Пошли подальше, а то и правда взгреет… Дура…
Нельзя сказать, что это понравилось Симке.
Однажды Клим выволок на веранду большущую коробку с разноцветными конными рыцарями на картинке крышки.
— Вот, отец привез из Таллина…
В коробке оказалось множество пластмассовых деталей: части кирпичных башен и стен, мосты, старинные ворота, балкончики, чешуйчатые крыши со шпилями. Из всего этого можно было собрать старинный замок. Они повозились часа два и собрали. Симка ждал, что теперь Клим принесет своих солдатиков — среди них были «средневековые», в латах и со щитами — и начнется осада замка. С атаками, с обстрелами горохом, с криками «ура» и с «подкопами» под стены.
Однако Клим поставил во внутреннем дворе замка лаковый желтый кубик.
— Это будет эшафот… Знаешь, что такое эшафот?
Симка знал. Но не знал, зачем эта штука здесь.
Клим вынул из коробки крохотный топор. Самодельный — с рукоятью из спички и лезвием из кусочка безопасной бритвы.
— Сейчас будет старинная казнь. По всем правилам. Над изменниками.
— Какими изменниками? — Симке стало не по себе. А у Клима сильно порозовели маленькие прижатые уши и похожий на клювик нос.
— Да не бойся, не над тобой. Над теми, кто вчера пытался открыть ворота замка врагам. Их поймали верные часовые…
— Да вчера-то замка еще не было…
— Ну это «как будто»… А казнь по-настоящему.
Клим вытащил из кармашка на трусах круглую пудреницу, отколупнул крышку. В ней копошились несколько крупных мух с оторванными крыльями. Клим взял двумя пальчиками несчастную муху, поднес к лицу, проговорил голосом, слегка похожим на голос бабушки:
— Ты сам виноват, подлый предатель. Ты ведь знаешь, что бывает за измену. Теперь поздно умолять и дрыгать ногами…
Часто дыша и облизывая губы, Клим положил муху на кубик и придержал левым мизинцем. Оглянулся на Симку, затем взмахнул рукой с игрушечным топором, но над мухой остановил взмах и крохотным лезвием аккуратно отделил от мушиного туловища похожую на дробину головку. Она скатилась с кубика.
Симку замутило.
Клим обернул к нему улыбающееся лицо с мокрыми яркими губами.
— Теперь твоя очередь. Давай…
Симка быстро сказал:
— Мне пора домой. Быстро. Я забыл, что надо на кухню за Андрюшкиным питанием. Пока…
Он перемахнул через перила веранды и бросился к калитке. Не оглянулся, хотя Клим что-то кричал вслед. Лишь бы не стошнило…
Только через полквартала он перешел с бега, на быстрый шаг. По правде-то никуда он не спешил, потому что на молочную кухню сходил еще утром. Но хотелось поскорее оказаться подальше от дома Клима Негова. А то вдруг догонит: «Завтра придешь?»
Симка шагал, и ему теперь вспоминалось, что он и раньше замечал за Климом такое вот… То как он увлеченно сопел, когда на телеэкране в фильме «Собор Парижской Богоматери» несчастную Эсмеральду укладывали на пыточный станок. То как он разглядывал на Симкиной руке кровоточащую ссадину, вместо того чтобы сразу сорвать подорожник. То как рассказывал про вырезание гланд: «Жу-утко, а все равно интересно, когда внутри замирает…»
Больше Симка к Негову не ходил. При встрече отговаривался, что некогда, приходится сидеть с маленьким братом. Клим, похоже, так ничего и не понял…
Когда они оказались в четвертом «А», Клим по-приятельски предложил:
— Давай сядем вместе.
Симка постеснялся отказаться. Ну, и к тому же… все-таки Негов какой ни на есть, а давний одноклассник. И, может, не такой уж он противный. Может, с мухами это так, случайность… И пару дней все было нормально. А потом Клим Негов показал, кто он такой на самом деле.
На первом уроке (было природоведение) Клим, загадочно улыбаясь, достал из нагрудного кармашка бумажный пакетик, развернул и… посадил Симке повыше колена усатую тварь. То ли жука, то ли громадного таракана. Коричневого, блестящего, щекочущего. Тот хищно водил усами-антеннами.
— Не двигайся… — прошептал Клим. — А то ка-ак цапнет за голенькое…
Симка обмер. А потом… жуть была такая, что в Симке проснулась на миг отчаянная отвага. Он взял жука двумя пальцами и сунул Негову за ворот.
Клим переливчато заверещал. Выскочил в проход между партами, запрыгал, затряс подолом вельветовой курточки. Все сперва перепугались, потом развеселились. Пожилая и всегда усталая учительница Пелагея Петровна оказалась справедливой. Когда все выяснилось, она утомленно сказала Негову, что тот сам виноват. И что на месте Стеклова она поступила бы так же. И пусть Негов идет в туалет и там ищет на себе своего жука-таракана и старается больше не вопить на всю школу. И пусть скажет спасибо, что Пелагея Петровна не вкатала ему в дневник четверку за поведение…
Подвывающий Клим выскочил за дверь, а потом до конца занятий сидел, надуто отвернувшись от Симки.
После уроков, у школьного крыльца, Клим подошел к Симке вместе с Кочаном. Вернее, подошел вразвалочку Кочан, а Клим, приседая, семенил сзади.
Кочан был длинный. На полголовы больше других мальчишек. И возможно, что второгодник, Симка точно не знал. У Кочана была круглая, стриженная ежиком голова, скучные глаза и постоянно жующий рот. К подбородку липла подсолнечная кожура. Понятное дело, Кочана боялись.
Кочан встал перед Симкой, пожевал и резко натянул ему на уши фуражку с якорьками.
— Ты чё, Зуёк, прискребаешься к Негову?
— Он же первый полез… — безнадежно выговорил Симка. Потому что понял: Кочану на справедливость начихать.
Кочан сдернул с Симки фуражку, повертел ею у него под носом.
— Возьми, моряк с навозного лаптя… — И зафутболил ее башмаком вдоль школьного тротуара. — Пацаны, пас!
Тут же нашлись любители футбола, и разгорелся матч, где мячом была Симкина фуражка. Симка только минут через десять сумел схватить ее и ушел домой, глотая слезинки.
Дома он долго чистил фуражку и поправлял на ней погнутые якорьки.
Он надеялся, что на этом все кончится: ну, отомстил Кочан за своего нового дружка (вернее, прихлебателя) Негова — и хватит. Оказалось, что не хватит, а только начинается. На следующий день повторилось то же самое — фуражка опять стала мячом. Кочан орал: «Зуёк, лови свою адмиральскую кепу!» Остальные тоже орали, гоняли ее ногами. Ржали…
ОСЕННИЕ БЕДЫ
Симка перестал ходить в школу в фуражке. Он и значок снял, носил его теперь в кармане, а то мало ли что. Но лучше не стало. Кочану был нужен тот, кого в классе можно «доводить». И он измывался над Зуйком от души. На переменах давал Симке подзатыльники и жалобно причитал: «Тебе больно, бедненький? Ах, какой нехороший Кочан, обижает маленького…» И делал ему «рыбалку» — то есть наматывал на палец Симкину прядь волос и дергал, словно подсекал клюнувшего на крючок пескаря… Ну и всякие другие штучки вытворял.
Симка утыкался мокрым лицом в парту. Девчонки робко говорили: «Бессовестный ты, Кочетков», а мальчишки толпились вокруг и гоготали. Всё, что делал Кочан, полагалось считать забавным и правильным.
И Юрка Мохтин, как и другие, гоготал и гонял ногами Симкину фуражку. И вслед за остальными лез к нему с подзатыльниками и щипками!
Он-то как мог?
Ведь в августе они были чуть ли не самыми-самыми друзьями. Повстречались у кинотеатра «Спартак», обрадовались друг другу, как месяц назад обрадовались Симка и Негов. Хотя и не дружили раньше, но все же одноклассники. Билетов на «Судьбу барабанщика» в кассе не оказалось, и Мохтин сказал:
— Айда на реку, искупнемся. Вон какая жара!
Август был безоблачным и знойным.
Симка честно признался, что купаться без старших ему не разрешают. Мохтин не стал хихикать (вот, мол, мамино дитя), а предложил:
— Давай забежим к тебе. Может, отпросишься.
И… мама впервые в жизни разрешила пойти Симке на реку без дяди Миши, без старших ребят-соседей, а с таким же мальчишкой, с одноклассником.
— Только купаться у самого берега, слышишь?
Симка поклялся купаться у берега. В конце концов, это понятие такое неточное…
Наступили замечательные дни. Симка с Юркой убегали на берег, к мосту, где было любимое ребячье место. Там стояли перед опорами моста деревянные быки-ледорезы с косыми железными крышами и коваными гребнями. Набултыхаешься в воде до трясучего озноба, заберешься по щелястому ледорезу до верха, вцепишься в гребень, прижмешься пузом и грудью к горячему от солнца железу… Век бы так жил, и больше ничего не надо для счастья!
Мохтин был поглупее, чем Негов, книжек читал мало, разговоров про космос и путешествия не любил, иногда рассказывал довольно противные анекдоты, но в общем-то с ним было весело и просто. Можно болтать о кино, о футболе, о пароходах, что лениво проползали под мостом. Можно играть в крестики-нолики, расчертив на прибрежном песке клетки. На Юркином простодушном лице всегда светилась приятельская улыбка…
И вдруг оказалось, что он такой же, как остальные подпевалы Кочана. Мало того, что не попробовал вступиться, даже словечка не сказал в Симкину защиту (ну, это понятно — боится), но ведь и приставал, издевался так же, как другие!
Однажды Симка выговорил сквозь слезы:
— Мы же с тобой… летом… вместе… а ты…
— Ага! — радостно согласился Мохтин и обвел других мальчишек веселыми глазами, словно приглашал в свидетели. — Купались вместе! И как я тебя, Зуйка дохлого, не утопил?
Дома Симка ничего не говорил. Стыдно было. К тому же у мамы хватало забот, надо было устраивать Андрюшку в ясли и возвращаться на работу. Да и что могла сделать мама? Пойти в школу разбираться? Кочана этим не проймешь, а Симка превратился бы в окончательного труса и ябеду.
Но у всего есть свой конец. И у мучений тоже. Особенно если у того, кого мучают, осталась хоть самая малая капелька смелости и злости.
Однажды Кочан прижал Симку к стене у классной доски и полез к нему в карман.
— У меня деньжонок нету, дай взаймы на сигарету…
Симка слабо трепыхался (денег все равно не было).
— Не дергайся, Зуёчек. А то сниму штанишки, и пойдешь домой с голой ж…
Все, конечно, «гы-гы-гы, ха-ха-ха!». А Кочан тем временем нащупал в Симкином кармашке у пояса значок.
— Не трогай! — взвился Симка.
Но Кочан уже держал колодку значка в немытых пальцах, качал блестящее стеклышко на шелковой нитке.
— Дай сюда! — отчаянно крикнул Симка.
Кочан дал. Но не значок, а кулаком под ребро. Симка подавился воздухом, согнулся. А Кочан сказал назидательно и опять в рифму:
— Зуёк, пососи мой…
В Симке словно сломался стеклянный стерженек: «Длиньк!» И тихо стало до звона в ушах.
«Сколько же можно?»
«Тот мальчик со шхуной «Лисянский» тоже терпел бы без конца?»
Симка, не разгибаясь, ринулся вперед и головой врезал Кочану под дых. Кочан икнул и согнулся пуще Симки. Симка тут же (словно им командовал неизвестно откуда взявшийся тренер) вделал Кочану коленом в подбородок. Затем справа и слева дал ему две крепкие оплеухи.
Кочан все же сумел ответить, врубил Симке под глаз. Искры, боль отчаянная! Но она лишь подхлестнула Симку. Он уперся Кочану в плечи, толкнул назад. Кочан опрокинулся на пол. Симка брякнулся на него верхом, вцепился врагу в волосы и заколотил его башкой об пол.
— Не по правилам! Лежачего не бьют! — тонко завопил над ним Негов.
Правила, да?! А когда все на одного, это по правилам? Симка освобождал всю свою ярость. Колотил, колотил… Кочан ухитрился ударить ему носком ботинка по затылку (опять искры в глазах). Вырвался, бросился к двери. Что-то крикнул и пропал.
Симка встал. Болели затылок, глаз и разбитые об пол колени. Наплевать. Симка поправил пиджачок, поддернул гольфы. Сказал в захлопнувшуюся дверь:
— Изничтожу гада. — И был уверен, что и правда изничтожит.
Кто-то из мальчишек (не самых вредных) уважительно произнес:
— Ну, даёт Зуёк…
Девчонки предлагали пойти умыться, но уже дребезжал звонок на урок. Симка взял чей-то девчоночий платочек, вытер лицо и пошел на свое место.
Пелагея Петровна была слабовата глазами, не заметила встрепанного вида ученика Стеклова и его лиловый фингал.
Клим Негов радостным шепотом сообщил:
— Теперь Кочан будет тебя бить каждый день. Будешь идти в школу, ждать и бояться. Ну, ничего, это даже интересно, хотя и жу-утко…
— Пусть только сунется… — процедил Симка.
— Он тебя убьет, — с удовольствием предсказал Клим.
— Сначала я его убью… И тебя тоже, сука…
Клим ошалело отъехал на самый краешек скамьи.
Кочан не появился в классе до конца уроков. А когда уроки кончились, кто-то из мальчишек услужливо сообщил Симке, что Кочан ждет его недалеко от школьных ворот. От привычного страха в Симке съежился желудок. Но лишь на несколько секунд. Сима снова вспомнил мальчика на берегу. А еще заплясала в голове песенка — та, «ленинградская»:
Говорят, я простая девчонка Из далекого предместья Мадрида..«Сейчас я покажу тебе девчонку», — мысленно (а может, и вслух) сказал Симка. И пошел к выходу, махая портфелем.
Кочан и правда ждал его. И не один, а с двумя незнакомыми мальчишками. С точки зрения Кочана, Стеклов повел себя, как явный псих. Он не бросился к спасительной дыре в заборе, он побежал к нему, к Кочану. Все быстрее, быстрее! На полпути бросил в траву портфель, вытянул руки… Кочану не хватило времени осознать, кто к чему. Правда, машинально он успел кулаком двинуть Симку в грудь, но это было все равно что попытаться остановить снаряд промокашкой. Как и вчера, Симка толкнул Кочана ладонями в плечи, тот опрокинулся и снова испытал, что такое сидящий на тебе разъяренный враг.
Те, кто пришел с Кочаном, не стали кидаться на Симку. Вернее, они только оттащили его, и один сказал Кочану:
— Не связывайся. Видишь, он чокнутый.
И Кочан быстро пошел прочь, оглядываясь и обещая поймать Симку завтра. Симка бросился за ним, но его схватили за плечи (не поймешь даже кто). И тоже уговаривали не связываться. А Симка орал вслед:
— Отдавай значок, сволочь! Пришибу! Гад! — И еще такие слова, от которых у него раньше мертвел язык.
Мама ахнула, когда увидела Симку такого помятого, с синяками под глазом и на коленях. Но он сказал, что после уроков играли в футбол, вот он и пострадал малость. И что под глаз ему совершенно случайно заехали на бегу локтем. Мама покачала головой, но поверила. Потому что знала: сын ее никогда не дерется.
На следующее утро Симка опять пошел в школу в фуражке. В классе сразу подошел к Кочану. Внутри у Симки, подавляя боязливость, звенели жажда справедливости и боевой азарт.
— Принес значок?!
— А вот не хочешь? — Кочан согнутой у живота рукой показал мерзкую фигуру.
Симка размахнулся. Кочан успел первым, дал ему по уху. После такого удара любой нормальный человек схватился бы за голову и заревел. Но Симка уже знал главное правило, необходимое для победы, — нельзя поддаваться боли. И не поддался. И они опять покатились по полу, и сперва Кочан оказался сверху, но получил ногой в нос, откатился, и Симка снова уселся на него. Вцепился.
— Отдавай значок, подлюга… — И опять слова, перед которыми «подлюга» все равно что «мой милый». Хорошо, что мама не слышит…
Кочан выл. Изо рта у него несло табаком и жареными семечками подсолнуха.
Их опять растащили. Симка пообещал, что, если к концу уроков значка не будет, он Кочана пришибет окончательно.
Кочан, видимо, дрогнул. Сила у него, конечно, была, но что она против того, кто в справедливой ярости не боится никаких ударов! К тому же, среди четвертых классов пошел слух, что «этот спятивший Зуёк метелит Кочана, как хочет», и многие собрались после уроков смотреть новый бой. Союзников у Кочана явно поубавилось.
Мохтин подошел к Симке, улыбаясь, как ни в чем не бывало.
— Здорово ты его уделал…
— Заткнись, предательская шкура, — сказал Симка. В нем опять звенело: «Говорят, я простая девчонка из далекого предместья Мадрида…» Песенка была вовсе не боевая (и сам он, конечно, был не девчонка), но нехитрые слова и мотив почему-то поддерживали в Симке злое упрямство.
А Кочан на последний урок не пришел. Ладно! Симка подкараулил его на школьном дворе, у дощатой уборной.
— Принес значок?
— Иди ты на… — сказал Кочан очень неуверенно.
На этот раз их растащил физрук Валерий Григорьевич. Симку отнес в сторону за воротник одной рукой, а Кочана крепко взял за плечо.
— Ты, Кочетков, это самое… офонарел? Никого не нашел покрупнее, чтобы силу показывать?
— Чё «Кочетков»?! Чё «Кочетков»?! — опять завыл тот. — Он сам кидается! Укушенный какой-то! Я его трогал? Сам лезет первый! Все скажут!
Прихлебатели еще не все покинули Кочана, несколько голосов подтвердили, что «да, Зуёк первый». И тут возникла завуч Агния Борисовна — похожая на крепостную башню в черном крепдешиновом платье и всегда уверенная в своей правоте. Пожелала узнать, что случилось.
Кочан снова заскулил, что виноват не он, а этот «бешеный дурак». И, мало того, он сказал «честное пионерское» и даже поднял в салюте грязные растопыренные пальцы, хотя был без галстука.
— Он мой значок взял! — возвысил Симка голос в защиту справедливости. — Пусть отдаст!
— Какой еще значок?
— Он отобрал! Я принес, а он…
— Что ты кричишь, как на базаре? Незачем носить в школу посторонние предметы. Не знаешь школьных правил?
Школьные правила для завуча, как известно, выше всего.
— Мой значок правилам не мешал. А он залез в карман и…
— Не кричи, я сказала! Разве кулаками решают такие вопросы? Почему не обратился к учительнице?
— Толку то! — вырвалось у Симки, еще не остывшего от боя.
— Что-о?! Где твой дневник?
Тут же кто-то приволок Симкин портфель. Агния Борисовна вытряхнула из него на траву все, что было, взяла дневник и толстой авторучкой (которая всегда была при ней) размашисто начертала про безобразную драку и грубость. И вкатала в конце страницы: «Поведение за неделю — 2».
Надо сказать, что в ту пору даже четверка за поведение была страшной оценкой. А двойка — это вообще немыслимо. Симка обомлел. Но лишь на миг. Ярость продолжала клокотать в нем. Что же это такое? Значит, никакой правды больше нет на свете?! Он рванул из дневника исписанный красными чернилами лист, скомкал, швырнул в траву (уже задним числом ужаснувшись своему поступку)…
Как он оказался в кабинете директора, Симка не помнил. То есть помнил, но смутно. Сперва завуч тащила его за руку, потом в коридоре рявкнула «стой здесь», скрылась за директорской дверью, и Симка слышал через эту дверь ее приглушенные слова: «Совсем распоясались!.. Настоящий бандит!.. Отпетый хам!..» Затем она появилась вновь и рванула Симку за плечо — в кабинет.
Худой и лысый директор Иван Юрьевич сдвинул на лоб очки (блестящие и круглые, как у Норы Аркадьевны). Видимо, немало озадачился, увидев не отпетого бандита и хама, а щуплого четвероклассника в костюмчике европейского фасона и с зареванным лицом.
— Д-да… Это он и есть?
— Представьте себе!
— Д-да… — опять сказал директор. — А где тот, второй… участник конфликта? Будьте добры, доставьте и его.
Завуч недовольно выдвинулась из кабинета.
— Ну, так что случилось-то… Серафим Стеклов? — Иван Юрьевич откинулся к спинке стула. — Только без слез.
— А я уже не могу без слез, — не стесняясь, выдал в ответ Симка. — Потому что довели. Сперва Кочан, а потом…
— Как довели-то? Чем?
Симка всхлипывая, но все же понятно изложил и про фуражку, и как «доводили», и про значок….
— Ну, это понятно. А дневник-то зачем было рвать?
— А зачем… она тоже… Значит, в советской стране никакой справедливости нет?!
— Гм… Будем считать, что пока еще есть. Только… — Он хотел, наверно, сказать: «Только драться все равно не следует». Но тут завуч ввела Кочана.
Директор спросил без предисловий:
— Зачем взял значок у Стеклова?
— А чё! Он сам сперва дал, а потом…
— Не ври. Сегодня после шести ко мне с отцом. А значок немедленно верни.
— У меня нету. Я его… Его у меня…
— Чтобы завтра же принес. А с отцом сегодня, к половине седьмого.
— А мне с мамой, да? — сказал Симка с печалью, но и с легким вызовом. Он понимал, что трюк с дневником ему не простят.
— М-м… да. Но только как-нибудь позже, нельзя всё сразу… Ступайте оба… И не вздумайте больше!
В класс они шли по разным сторонам коридора. Но у двери Симка сказал:
— Завтра не принесешь, глотку перегрызу, гнида… — (Ох, Сима-Сима, слышала бы тебя тетя Нора, которую даже слова «ага» и «чё» заставляли морщиться.)
Кочан плюнул ему под ноги, но как-то неуверенно. И юркнул в класс. А Симка сперва пошел в туалет и умылся…
Маме он ничего не сказал. Когда вызовут, тогда и узнает, а зачем ей расстраиваться раньше срока. Но маму не вызывали. Ни через день, ни через два, ни через неделю. Симка успокоился.
А Кочан значок принес. На следующее утро, как и велел директор.
— На!.. — и кинул Симке под ноги.
Симка не стал изображать слишком гордого, нагнулся и поднял. Только все же сказал при этом:
— Если бы разбил, я бы тебе морду своротил налево…
Кочан не ответил. Его лицо было припухшим, а движения осторожными. Клим Негов, когда Симка сел за парту, доверительно придвинулся и прошептал:
— Папаша его знаешь как лупит? Не ремнем, а резиновой скакалкой. Это в тыщу раз больнее. Не пробовал?
— Сам пробуй, если охота, — буркнул Симка, которому было стыдно слушать про такое. Он даже невесомые подзатыльники получал от мамы не чаще раза в год.
…А про всю эту историю со значком и драками мама все равно узнала. На родительском собрании в конце первой четверти. Пелагея Петровна (которой в общем-то было все равно перед пенсией и которая не помнила, кто прав, а кто виноват) сказала, что вот Стеклов устраивал безобразные драки и чуть не заработал пониженную оценку по поведению за четверть.
Вернувшись, мама взялась за Симку, и пришлось все рассказать. Мама только головой покачивала, а брат Игорь, который приехал в короткий отпуск, усадил Симку рядом на кровать.
— Конечно, ты молодец, что прочистил мозги этому подонку…
Симка вдруг вспомнил Нору Аркадьевну и хмыкнул:
— Это были адекватные меры.
— Ну да… Только вот что. Бывает, что человек, почуял силу и сперва тратит ее на войну за справедливость, а потом начинает применять для своей выгоды. Потому что видит: все его боятся, отпору не дадут…
Симка потерся щекой о рукав Игоревой куртки — казалось, что он нее пахнет охотничьим порохом и тайгой.
— Не, я не буду так.
— Вот и ладно…
Симка потерся опять и опять сказал:
— Я не буду…
Он и правда после всех этих скандалов не стал ни нахальнее, ни храбрее. Ни в какие драки не лез, по-прежнему опасался шпаны на улицах и побаивался засыпать без включенной лампы (хотя не признавался в этом и засыпал). И порой он вздрагивал от отвращения, вспоминая, как терзал Кочана в слепой ярости. Неужели только так, остервенелой силой, можно отстаивать правду?
Четвертый «Б» после осенних каникул соединили снова, в прежнем составе. Пришла из пединститута молодая и славная Ирина Матвеевна, с которой класс зажил душа в душу. Симка опять сидел вместе со Стасиком Юхановым.
Прозвище Зуёк осталось за Симкой на долгие годы. Но теперь оно опять стало не обидным (как при Кочане), а вполне нормальным и даже с налетом флотской лихости.
Кочана Симка видел с той поры только изредка, на переменах. Противно было смотреть на него, и все же Симке нравилось, что Кочан обходит его и в глаза не глядит. И значок свой Симка носил в школе безбоязненно. На лацкане все того же чешского пиджачка. Давно уже пришла слякотная осень, перепадал снег. Пришлось, конечно, влезть в старые школьные брюки, но пиджачок Симка надевал постоянно, хотя тот подходил к мешковатым и залатанным на коленях штанам не больше, чем «фрак дирижера дистрофичному медведю» (по словам Игоря). Все равно! Зато это была постоянная память о летнем путешествии!
Про Нору Аркадьевну Симка ничего не знал. В конце сентября она зашла попрощаться. Сказала, что уезжает в Воронеж к троюродной сестре (видимо, той, с которой встречалась в Ленинграде). Уезжает до весны, а может быть, и на более долгий срок, будет видно. Чмокнула в щеку маму, подержала на руках Андрюшку, погладила по голове Симку и ушла.
А в начале декабря на имя Серафима Стеклова пришел из Воронежа заказной пакет.
В пакете оказались листы с чем-то напечатанным на машинке и два письма в разных конвертах. На одном написано было «Симе», на другом — «Анне Серафимовне Стекловой».
Ну, Симка, понятно, сразу ухватил сшитые проволочными скобками листы. Вот это да! На них была поэма «Мик»!
Значит, тетя Нора ничего не забыла! Позаботилась, перепечатала со старой тетрадки африканскую сказку, которая так заворожила Симку в ленинградскую белую ночь. Симка глазами вцепился в первые строчки…
Сквозь голубую темноту, Неслышно от куста к кусту Переползая, словно змей, Среди трясин, среди камней Свирепых воинов отряд Идет — по десятеро в ряд. Мех леопарда на плечах, Меч на боку, ружье в руках…— Ох, Господи! Что же это… — сказала мама у Симки за спиной незнакомым голосом.
Он вздрогнул, обернулся, сразу учуяв беду:
— Что?!
— Вот. Посмотри… — Мама, глядя мимо Симки, протягивала развернутое письмо.
Твердым разборчивым почерком там было написано:
Уважаемая Анна Серафимовна!
Вам пишет родственница Норы Аркадьевны Селяниной. Последние месяцы Нора Аркадьевна жила у нас в Воронеже. С прискорбием должна сообщить Вам, что неделю назад Нора Аркадьевна скончалась, у нее был рак горла.
Незадолго до смерти Нора Аркадьевна просила, чтобы я, когда ее не станет, переслала прилагаемые бумаги и письмо Вашему сыну Серафиму. Теперь я это делаю и прошу принять мои соболезнования.
Вера Николаевна Гревская.
Симка с минуту одеревенело смотрел на письмо неизвестной Веры Николаевны Гревской. Потом непослушными пальцами взял со стола конверт с надписью «Симе».
Это было ее письмо.
Написанное, когда она была еще живая .
Сима, здравствуй!
Та тетрадка оказалась в Воронеже, и я рада, что сумела сделать копию тебе в подарок. Перечитывай иногда и вспоминай ту удивительную ночь.
Надеюсь, ты не забываешь наше путешествие?
Вспоминай почаще маятник Фуко: он свидетельствует, что в мире есть законы, которые сильнее законов человеческих и самого вращения Земли. Они незыблемы. Пусть и совесть твоя будет такой же.
«Мика» старайся не показывать посторонним — сам понимаешь почему. А в крайнем случае, если кто-то ненужный увидит и начнет расспрашивать, скажи, что это подарок от тетушки. Как ты понимаешь, мне уже ничего на свете не грозит.
Вот и все.
Обнимаю тебя.
Тетя Нора.
P.S. А плакать не надо. Ни в коем случае.
Симка не плакал. Мама плакала, а он нет. По крайней мере, при маме. Ночью — другое дело. Но и тогда — не сильно, не взахлеб. Просто он со слезами вспоминал все, что было . Маятник в соборе, парусники, мальчика на берегу и голос тети Норы, когда она читала «Мика». И руку ее — как она трогала его волосы (это была единственная ласка, которую тетя Нора позволяла в отношении Симки).
«Она уезжала прощаться с Москвой и Ленинградом, — понял Симка. — Она уже знала . А меня взяла, чтобы передать мне все это . Все, что любила…»
«Может, я напоминал ей брата, когда он был мальчиком, — подумал он еще. А потом: — Но и самого меня она тоже любила…»
А в голове все вертелась песенка:
Говорят, что назначена свадьба Капитана бригантины Родриго, И то, что горделивая невеста Умна, богата, не мне чета. Но только пускаюсь я в пляску И кастаньеты мои стучат, Вижу, как нежною лаской Блестит Родриго влюбленный взгляд…Казалось бы, какое отношение песенка эта имеет ко всему, что случилось. Но Симка вспоминал ее, и становилось легче. Чуть-чуть…
«Наверно, она теперь там же, где Луи, — думал Симка про тетю Нору. — Ну, не в войске Михаила Архистратига, но все равно в небесном царстве…» В те дни и ночи он изо всех сил верил, что это царство есть. Жаль только, что не было жаворонка, чтобы послать его в запредельные небеса…
Симке очень хотелось увидеть тетю Нору во сне, но он не увидел ни разу. А снилось только страшное: про собаку Лайку, которую два года назад запустили на орбиту в запаянном шаре (про это опять недавно вспоминали по радио). Снилось, что он сам эта собака. Симка просыпался с прыгающим сердцем и хватал губами воздух, спешил надышаться. Потом, чтобы успокоиться, вспоминал Мика и Луи.
Он часто перечитывал поэму. Обычно украдкой от мамы. Потому что мама, если видела эти листы, очень тревожилась и говорила, чтобы он не вздумал их никому показывать — она ведь тоже знала, кто такой Гумилев. Симка обещал, что не вздумает…
Один раз Симке приснился зверь с кошачьей головой. Он был не страшный, ростом с котенка и такой же ласковый. Так же мурлыкал. Только гладить его мешали торчащие между ушей колючие рожки…
Лишь через пятнадцать лет Серафиму Стеклову удалось побывать в Воронеже. Веру Николаевну Гревскую он там не нашел, она куда-то неожиданно уехала, не оставив адреса. Не удалось отыскать и могилу тети Норы на старом воронежском кладбище. И Симка осторожно положил букет прямо у ограды.
А еще через несколько лет, когда искусство в фотосалонах достигло высокого уровня, он отнес мастеру ленинградский фотоснимок — их с тетей Норой снял на Дворцовой площади уличный фотограф. На фоне Зимнего дворца, в полный рост.
Оказывается, в старых фотографиях скрыто много неразличимых простым глазом деталей и качеств. Их можно «вытянуть» с помощью специальной техники. И мастер вытянул, увеличив снимок в несколько раз. Стали различимы даже буковки на стеклянном значке!
Серафим Стеклов повесил этот двойной портрет над своим рабочим столом. И теперь в комнате навсегда поселились десятилетний Симка («пиджачок на тросточках»!) и тетя Нора — некрасивая пожилая дама в старомодном платье из темного шелка. Навсегда живые в своем давнем лете пятьдесят девятого года.
Но это случится уже во взрослой Симкиной жизни. А пока такой жизни еще не было. Была зима пятьдесят девятого, а потом шестидесятого года. Следом — бурный, звенящий стеклянными гирляндами сосулек март, апрель с желтой мать-и-мачехой у заборов, май с буйной черемухой. Затем июнь — когда мама с Андрюшкой попали в больницу, а Симка обнаружил в стене за картиной тайник. И день, когда Симка искал отмеченные на таинственной карте места.
А потом, как всегда, пришел вечер…
Часть третья КРАСНЫЙ МЯЧ
СНОВА БЕЛАЯ НОЧЬ
До вечера Симка успел еще много чего. Ну, разумеется, он снова долго разглядывал найденную в тайнике бутылку: и ее внутренность — на просвет, — и сургучную пробку с оттиском старинного пятака. Ничегошеньки в бутылке не было (кроме невидимой тайны). Симка так вертел посудину, так пялил глаза, что в конце концов почудилось — за стеклом сидит крохотный джинн в чалме и сердито рвет из длинной бороды волоски.
«Ты скоро свихнешься», — предсказал Который Всегда Рядом .
Чтобы не свихнуться, Симка отправил бутылку в тайник, а тайник прикрыл картиной с глазастым пнем — прицепил ее на два верхних гвоздика. И занялся линзами будущего телескопа. Но разглядывать через них привычную улицу скоро надоело. Вот когда телескоп будет построен и нацелен в ночное небо — другое дело…
После обеда у тети Капы (жидкая уха из чебаков и плоская котлетка с гречкой) Симка устроился было на кровати с книжкой, но тут за окном, как вчера, закричали братья Авдеевы: «Зуёк, ты дома? Айда купаться!» На этот раз Симка не стал притворяться, будто его нет.
На реке они, как всегда, бултыхались на отмели до озноба, а потом загорали на ледорезе. Грея тощий живот и ребра о горячее железо, Симка небрежно рассказывал братьям, как вчера почти переплыл реку с той стороны. И переплыл бы совсем, если бы его не окликнули с самодельного маленького парохода «Тортила». Побывать на удивительном пароходике было любопытно, и поэтому Симка прервал заплыв (про линзу и про неожиданную судорогу он не рассказывал — к чему такие пустяковые подробности!). Братья доброжелательно верили. Пароходик на реке они однажды видели сами, а раз он есть, значит, могло быть и все остальное. Тем более, что Зуёк в большом вранье никогда не был замечен…
Дома Симка сделал на клетчатом листке приблизительный чертеж будущего телескопа и к нему пририсовал себя — как он смотрит в окуляр. Чертеж получился ничего, а сам Симка вышел похожим на кривобокого чертика без рогов.
«Да, ты не Репин», — заметил лишенный деликатности Который Всегда Рядом .
«Подумаешь…» — буркнул Симка и пошел ужинать, потому что тетя Капа стучала в стену.
А после ужина Симка прилег и уснул, хотя сперва пытался читать «Тони и волшебную дверь». Сморило его после нескольких часов купанья и солнцепека и после еды (хотя и не очень обильной).
Симке даже сон приснился. Интересный. Будто ребята с «Тортилы» притащили ему под окно трубу от своего парохода. «Вот забирай для телескопа!». — «А как же вы без нее?» — «А нам не надо! Мы теперь атомный двигатель поставили, как на ледоколе «Ленин»! Будет атомоход «Тортила»!» — «А где горючее берете? Ведь нужен уран!» — «Да его до фига в глине на обрывах. Надо только порыться!..»
Тут Симку кольнула тревога. А что, если найдется какой-нибудь псих, накопает урана да смастерит бомбу? Тогда ни «Тортилы», не телескопа, ни всей Турени…
С этой тревогой Симка проснулся и облегченно понял, что на самом деле никакой опасности нет.
«Смотришь во сне всякую ерунду», — буркнул Который Всегда Рядом .
«Тебя не спросил…»
За окнами была светлая ночь. Симка пригляделся к старательно стучащим ходикам. Ну да, без десяти двенадцать!
«Самое время начинать бояться», — ехидно напомнил Который Всегда Рядом .
«Пошел ты…»
Прежних страхов у Симки не было. Видимо, они угасли после вчерашних приключений с тайником. Теперь старый дом был дружелюбным и уютным — полностью его, Симкиным . Ну, может быть, где-то в дальних углах и за зеркалом еще копошились похожие на мохнатых пауков остатки боязни, но… с ними даже интереснее. Гораздо больше Симку беспокоило другое — голод.
Видимо, тети-Капин ужин (все та же гречка-размазня, причем на этот раз без котлетки) переварился без остатка. В желудке попискивала ну прямо космическая пустота. А в доме, конечно, никакой еды. Холодильника не было — где на него денег-то наберешь! — значит, и запасов никаких не водилось. Была вчера половинка батона, но Симка сжевал ее незаметно, между всякими делами. Не стучать же среди ночи к тете Капе с просьбой: «Дайте кусочек хлеба». Тем более что сегодня вечером Симка услыхал разговор тетя Капы с дочерью. Мол, денег на продукты совсем не осталось, а на рынке все дорожает, не подступишься, и даже капуста по цене сделалась как заморские ананасы. Дочь отвечала, что скоро получит зарплату, но насколько ее хватит при такой жизни, сказать заранее невозможно.
Симка помнил, что мама оставила тете Капе деньги на его пропитание, но все равно ощутил себя нахлебником. Конечно, женщины про Симку в разговоре не упоминали и, скорее всего, даже не думали о нем, но было не по себе. И он не решился попросить добавки к ужину и горбушку с собой, про запас…
Сейчас Симка пошарил в шкафу на кухне, но там отыскался лишь древний черный сухарик. А еще — полбутылки подсолнечного масла. Сухарик Симка моментально сгрыз. А от масла какой толк? Не будешь же его пить, как молоко. Эх, была бы картошка…
Мама и Симка любили сварить иногда картошку «в мундире», и поесть ее, снимая тонкие кожурки и макая клубни в блюдце с подсолнечным маслом и крупной солью. Мама называла эту еду «воспоминанием молодости» — тогда, в военные годы, это у многих была любимая еда, а для мамы осталась любимой на всю жизнь. И Симка ее тоже полюбил… Особенно хорошо, когда с ломтем свежего хлеба, но, в конце концов, можно и так.
Только где ее взять, картошку-то!..
Далее Симкина мысль раскручивалась, как пружинная спираль.
Где взять картошку, Симка знал. Только это о-го-го как далеко! На пристани, куда пассажирские пароходы и сухогрузы приходили не только днем, но и по ночам, был базарчик. Недалеко от речного вокзала тетушки за дощатым прилавком торговали всякой едой. Один раз, когда провожали на пароход Игоря, Симка заметил на этом прилавке и ведерки с картошкой.
Наверняка ее продают там и сейчас!
Ну и что же, что далеко? Целая ночь впереди! А в постель все равно теперь не захочется до утра, вон сколько дрыхнул!
«Просто ты боишься сидеть ночью в доме и не спать», — хмыкнул Который Всегда Рядом . Это была брехня, и Симка назвал Которого треплом. Но потом смягчился и добавил:
— Знаешь, как лопать хочется! А еще…
«Что еще ?» — подначил его Который .
— Ну… вдруг случится какое-нибудь приключение…
Симке все сильнее вспоминалось почему-то прошлогоднее путешествие по проспекту, ночной берег залива и мальчик с корабликом. И стало шевелиться в душе какое-то ожидание .
Который Всегда Рядом высказался о безмозглых пацанах, ищущих приключений на свою голову и… (он даже сказал не «на голову», а… Свинья такая!) Симка велел ему заткнуться.
В нижнем ящике письменного стола Симка отыскал завернутый в носовой платок их с мамой неприкосновенный запас. Конечно, чтобы брать оттуда деньги, следовало спросить разрешения у мамы. Но это кроме экстренных случаев. А сейчас был как раз такой случай. Ведь не на кино и не на мороженое Симка вытягивает из НЗ шелестящие бумажки. В конце концов, не хочет же мама, чтобы ее родной сын протянул ноги от голода! А завтра он ей все объяснит…
Симка туго свернул две пятирублевые бумажки и сунул в кармашек у пояса — в тот же, где значок. Выключил свет, неслышно (хотя от кого прятаться-то!) спустился по ступеням. Вытянул из-под лестницы тележку. Симка с ней часто ходил не только по воду, но и на ближний рынок за картошкой и капустой. Иногда он даже представлял, что это его автомобиль, — «рулил» и сигналил (когда, конечно, никто не видел).
Симка пристегнул ремешками к дюралевой рамке тележки плетеный коробок, запер дверь, мысленно «бибикнул» и выкатил легонькую «машину» за калитку.
Ночь была удивительно светлая, почти как белая ночь в Ленинграде. Оно и понятно — Турень, если смотреть по градусной сетке на карте, немногим южнее невского города. И дни в конце июня — самые длинные…
Неподалеку горела на столбе лампочка под эмалированной тарелкой. Совершенно ненужная!
«Когда в темноте прешься из школы после второй смены, она никогда не горит. А тут…» — забубнил Который Всегда Рядом .
— Да ладно тебе… — сказал Симка. Ему не хотелось портить эту ночь никакими ворчливыми мыслями. Он зашагал, толкая тележку перед собой по доскам тротуара. «Ать-два, ать-два…» Доски ободряюще запружинили. Симка стряхнул свои брезентовые полуботинки и бросил их в тележку — чтобы тепло нагретого за день тротуара не пропадало зря. И оно сразу ласково впиталось в мальчишкины ступни, а пролезшие в щели травинки дурашливо защекотали их.
Левой-правой… Прыг-скок… Симка и сам не заметил, как миновал Нагорный переулок, спустился к мосту и зашагал от него вдоль деревянной изгороди, за которой был крутой берег. Здесь, от моста и музея, начиналась улица Народной Власти — главная в городе. По ней надо было дошагать до Ишимской и повернуть налево. Ишимская в конце концов приведет к переулкам, спускам и лесенкам, которые сбегают к пристани.
Симка знал, что дорога неблизкая, но сейчас это его не пугало. Это… даже хорошо. Потому что ощущение прошлогодней прибалтийской ночи делалось все сильнее.
На низком берегу, в Заречной слободе, светились редкие желтые огоньки. Красные огоньки горели на недавно построенной телевышке, которая торчала за крышами в дальнем-дальнем конце улицы. А позади Симки, между черных башен таинственного монастыря, переливалась (будто смеялась дрожащим смехом) крупная желто-розовая звезда. Симка видел звезду лишь изредка, когда оглядывался, но чувствовал ее все время. А больше никаких звезд в серо-серебристом небе не появлялось.
Огней в окнах почти не было — зачем, когда и так светло! Поэтому старые дома (бывшие купеческие конторы) с их арками, чугунными балконами и лепными масками над окнами казались таинственными — попади внутрь, и обязательно случится что-нибудь такое .
Изредка били фарами по глазам встречные автомашины. Но промчатся — и снова тишина и мягкий свет. Прохожих было мало. Некоторые с удивлением поглядывали на пацаненка, который зачем-то пустился в путь в такую пору. Но понимали — дело у человека…
Река стала поворачивать влево, скрылась за домами. Чтобы держаться к ней поближе, Симка тоже свернул — с улицы Народной Власти в первый попавшийся переулок.
Здесь реку тоже было не видать за косыми заборами и тополями, но чувствовалась ее близость. Покрикивали негромкими сиренами катера. Басовито и коротко подал голос пассажирский пароход.
Симка снова ощутил уют деревянных переулков с их палисадниками, рябинами вдоль тротуаров и одуванчиками в канавах. Небо над невысокими крышами и мезонинами казалось еще светлее. В нем Симка обрадованно различил слюдяной блеск. Пусть не тот, что в Ленинграде, но все же заметный. Ночь тепло обнимала Симку, и воздух казался пушистым — возможно, от повисших в нем редких тополиных семян. Тополя этим летом цвели слабо, но иногда пушинки все же касались щек.
Чтобы ощущать ласковость ночи еще сильнее, Симка сбросил надетую на голое тело ковбойку. Отправил ее в коробок тележки, к башмакам. И почувствовал себя будто в накинутом на плечи мамином платке — почти невесомом, но мягко греющем кожу.
Он переходил из переулка в переулок — то по ленточкам разбитого асфальта, то по деревянным мосткам, то по бугристым каменным плиткам, а порой и просто по тропинкам в щекочущей прохладной лебеде. В некоторых переулках он был впервые, но ничуть не тревожился, потому что общее направление знал, а незнакомые дома и ворота казались такими же привычными и безопасными, как в Нагорном. И Симка чувствовал, что, если устанет, может запросто прилечь на лавочке у любой калитки или в траве у палисадника. И ночь окутает его уютной дремой, и никто не удивится ему, никто не потревожит…
Порой дрема легко накрывала Симку и на ходу. Иногда казалось даже, что он здесь лишь наполовину, а другая его половина устроилась дома в кровати и видит сон. Но это было не от желания спать, а так, от сказочности.
Все вокруг было добрым к Симке. Прошел сторонкой большой кудлатый пес, Симка окликнул его: «Собака, собака…» — и пес охотно приблизился. Симка потрепал его лохматый загривок, а пес тепло подышал ему на колени и помотал хвостом. И они разошлись, довольные друг другом. На заборе светилась белым мехом присевшая там кошка. «Кис-кис…». Кошке полагалось сигануть во двор от незнакомого мальчишки, но она вопросительно сказала «мр-р» и прыгнула на прибитую к забору лавочку. Глянула добрыми зелеными глазами. Симка взял кошку на руки. Она даже ничуточки не царапнула его, только потерлась усатой мордой о голое плечо.
Симка погладил кошку и опустил на скамейку.
«Может, подсадить на забор?»
«Мр-нет. Здесь посижу…»
Симка погладил ее еще раз и пошел дальше.
Тишина была непрочная, прозрачная, как теплое стекло. Сквозь нее слышались иногда отзвуки гитары. Перекликались в отдалении беззаботные голоса. В одном переулке Симка услышал, как на чьем-то дворе играет радиола. Эта была знакомая песенка. Нет, не про испанскую девчонку, а та, что на другой стороне пластинки: «О, голубка моя…» Кстати, эту «Голубку» любят бородатые кубинские революционеры, которые недавно сбросили со своего острова власть американских капиталистов…
Когда из далекой Гаваны уплыл я вдаль, Лишь ты угадать сумела мою печаль…Слова и мотив ожили в Симкиной памяти, но печали не было. Хорошо было Симке, и он не замечал ни того, какой длинный путь, ни времени.
Наконец он вышел к Ишимской.
Если бы Симка все время топал по главной улице, на Ишимскую он попал бы в самом ее начале, у похожей на рыцарский замок водонапорной башни. Но дорога переулками оказалась короче. Симка увидел, что он на маленькой площади, посреди которой темнел двухметровый разлапистый якорь на кирпичном постаменте. Это был памятник погибшим во время революции и Гражданской войны матросам и капитанам речного флота. От якоря до пристани оставалось совсем немного.
Скоро начались запутанные переходы, шаткие ступеньки на спусках, извилистые тропинки между заборов и кирпичных складов. Они вывели Симку к поросшей татарником и осотом насыпи с рельсами. Дергая за собой тележку, Симка забрался на высокую насыпь через сорняки (даже они оказались добродушными, некусачими) и по шпалам двинулся к пристани. Увенчанная шпилем башенка плавучего речного вокзала четко темнела на светлой воде. У причала было пусто, лишь далеко, на излучине блестели цветные огоньки парохода.
Симка тянул тележку за собой, она легко прыгала по шпалам. За Симкиной спиной запыхтел в отдалении маневровый паровоз, стал приближаться. Но Симка уже дошагал до лесенки, что вела от перехода через насыпь к дебаркадеру. Здесь же, у глухой стены пакгауза, располагался и маленький рынок.
Симка подумал, что пришел, кажется, не зря. За длинным столом белели косынки нескольких тетенек-продавщиц. Заметны были на досках корзинки, молочные бутыли, ведерки. А может, у них и хлеб есть? Чтобы пожевать прямо здесь! Симка ощутил, как с новой силой засосало в желудке.
Но оказалось, что ни картошки, ни хлеба у торговок нет. Симка понял это, когда прошагал вдоль прилавка.
На всякий случай он спросил у крайней торговки:
— А что, картошки тут вовсе нету, да?
Торговка (похожая на тетю Капу, только помоложе) сочувственно объяснила:
— Да какая нынче картошка? Старая вся проросла в подполе, а новую только еще окучивают… А ты чего, голубок, по ночам-то за покупками ходишь? Что за нужда? Да еще с голым пузом…
Симка понуро сказал, что голое пузо делу не помеха.
— Плохо только, что пустое…
— Да тебя что же, не кормят дома разве?
Симка не стал ничего выдумывать. Сказал просто:
— Мама с братом в больнице. А я проснулся, есть захотелось, а ничего нет. Вот и пошел…
— Ох ты горюшко… А ты возьми вот варенец да пару пирожков с капустой. Это тебе будет и ужин и завтрак, получше картошки. Ее еще варить надо, а тут готовое.
В самом деле! Варенец — это вроде простокваши, только из топленого молока. Вкуснятина! Да и пирожки… Симка жадно переглотнул, слюна прямо запенилась во рту.
Оказалось, что пол-литровая банка варенца стоит пять рублей. А пирожки — по рубль пятьдесят.
Симка придирчиво заметил:
— А в городе на рынке ровно по рублю.
— Дак милый ты мой! В городе разве пирожки? Воробью на один поклёв! А у меня гляди, какие кулебяки!.. Да ладно, бери уж за рупь штуку, раз такое дело. А варенец если съешь прямо здесь, банку неси обратно, я рупь за нее верну… Ложку вот возьми, если хочешь.
— Ага. Спасибо…
Симка расплатился. Взял трешку сдачи, сунул ложку в карман, сгреб банку и пирожки, зацепил выгнутую оглоблю тележки локтем и отошел к дальнему концу склада. Там валялся в лопухах пустой фанерный ящик (от него пахло копченой рыбой). Симка сел, глотая слюни. Пирожки были в самом деле большущие. Маслянистые и такие теплые, что коленкам стало горячо, когда Симка положил по штуке на каждую (а куда еще — не на грязный же ящик). Симка поставил банку между ног и часто заработал ложкой, откусывая от каждого пирожка по очереди.
Капустная начинка была восхитительная. Варенец с пенками — тоже. Он капал иногда на грудь и живот, и Симка с удовольствием соскребал его с кожи прохладной ложкой.
Когда банка опустела и поджаристые крошки все до одной были слизаны с ладоней, Симка понял, что голодная смерть ему больше не грозит. И даже картошки с маслом уже не хочется… Он подышал, погладил масляной ладонью живот и отнес банку тетушке. Сказал еще раз спасибо и получил обратно скомканный рубль.
— А теперь шагай домой. Нечего таким мальчонкам гулять среди ночи.
— Конечно, — покладисто отозвался Симка.
Он снова поднялся на насыпь и понял, что домой совершенно не хочется. Что делать дома-то? Препираться с Которым Всегда Рядом ?
«А старших надо слушаться», — ехидно напомнил тот о себе.
«Вот и слушайся…»
Что-то подсказывало Симке: путешествие кончать рано. Ведь еще не случилось того, о чем говорило ожидание . Симка понимал: скорее всего, ничего и не случится, но уходить из этой ночи раньше срока не стоило. Тем более, что слюдяной блеск в воздухе стал ощутимее, а переливчатая звезда над монастырской башней горела, как огонь маяка в книжке про дальние острова.
Симка пошел по рельсам, глядя то на звезду, на алюминиевую гладь реки. Пахло теплой береговой травой, железом, песком и просмоленными шпалами. Паровоз куда-то исчез — впереди и сзади было пусто, Симка шагал без опаски. Смола на шпалах щекочуще прилипала к босым ступням, это было приятно. Симка поглядывал по сторонам. И вдруг на глади, словно отделившись от дальнего берега, возник силуэт пароходика. Знакомого, с высокой трубой. И тут же Симка увидел желтый огонек над мачтой, и еще один, красный, на борту. И услышал голоса.
Он даже и не хотел окликать экипаж пароходика, но получилось само собой. Симка сказал негромко, как бы для себя:
— Эй, на «Тортиле»…
Но голос его неожиданно звучно разнесся вдоль берега и по воде.
ТОТ САМЫЙ ДВОР…
Симку услышали и заметили сразу. Потом уже Симка понял — его силуэт рисовался на светлом небе. Пароходик тут же изменил курс. Фыркая мотором и вращая колеса, он двинулся к берегу. Кто-то крикнул с палубы тонко и весело:
— Мы сейчас, не уходи!
Через минуту «Тортила» въехала широким носом на плоский береговой песок. Симке что делать-то? Спустился с насыпи к воде. Он чувствовал себя слегка виноватым.
Симку узнали сразу.
— Э, да это шестикрылый Серафим! — возгласил пузатый и щетинистый капитан Вадим Вадимыч. — Какими судьбами? Уж не нас ли ты искал в эту чудную летнюю ночь?
— Не… я нечаянно. Я шел и вижу — вы плывете. Ну и крикнул… чтобы поздороваться. А вы сразу к берегу.
— Ну а что, нам спешить некуда, — сказал штурман Кочерга (то есть Кочергин).
А самый маленький, с ушами-бабочками, тонко позвал:
— Прыгай к нам!
— Можно? — робко сказал Симка.
— Давай-давай, — подбодрил его один из смуглых братьев. А мальчик, похожий на Дэви из «Последнего дюйма» протянул руку.
И Симка взял эту тонкую крепкую руку, забрался на нос «Тортилы» и втянул за собой тележку.
— Ты, видать, по хозяйственным делам куда-то направляешься. С транспортом… — полувопросительно заметил Вадим Вадимыч.
От хороших людей зачем скрывать правду? Симка в двух словах изложил все как есть. И про самостоятельную жизнь, и про ночной голод, и про картошку, и про поход на пристанской рынок. И как он там плотно поужинал…
— Жалко, что поторопился, — сказал маленький и ушастый. — Мы бы тебя здесь накормили, бесплатно… а может, еще хочешь? Пирожок с яблоками?
Симка прислушался к себе и сказал, что, пожалуй, хочет. Ему тут же дали пирожок.
Жуя и облизываясь, Симка спросил:
— А вы в ночной поход, да?
— Можно сказать, что так, — с грустной ноткой согласился Вадим Вадимыч. — А если точнее, то это наш последний парад. По крайней мере, здесь…
— Почему?! — сразу испугался Симка.
— Начальники заели, — объяснил штурман Кочерга. — Говорят, не имеете права ходить на самодельной посудине по руслу с развитым судоходством. Прав нету…
Симка от огорчения перестал жевать.
— И куда теперь?..
Вадим Вадимыч обстоятельно разъяснил:
— Вверх по течению. За пристанью Верхний Бор есть пионерский лагерь «Юная республика». Там у нас знакомые… Стоит лагерь на старице, на длинном таком озере, которое раньше было руслом. В километре от реки. Вот туда переправим нашу голубушку, директор лагеря обещал машину подогнать с прицепом. Будут юные республиканцы ходить по старице туда-обратно, три километра. Вроде аттракциона. А нам останется приезжать по выходным, навещать «Тортилушку»…
— Жалко! — с настоящей горечью сказал Симка.
— И не говори! Прямо пилой по сердцу… — согласился Вадим Вадимыч. — Ну да ладно. Все же не пропадет красавица. А то ведь велели совсем разломать, милиция приходила…
— А на будущий год мы другой корабль построим, еще лучше. И документы все выхлопочем как надо, — бодро пообещал маленький и ушастый.
Вадим Вадимыч взъерошил ему волосы (как когда-то тетя Нора Симке). И спохватился:
— Надо отваливать, хлопцы! — Потом опять глянул на Симку: — Взяли бы мы тебя с собой, шестикрылый. Да тебе, конечно, нельзя…
— Нельзя. Завтра хватятся — такой будет тарарам. Да и в больницу с передачей надо… Ой! А можно?..
— Что? — спросили сразу несколько голосов. Видимо, не хотелось почему-то экипажу «Тортилы» расставаться с Симкой.
— Если не до Верхнего Бора, а только немного. До моста. Мне оттуда до дома два шага.
Симка не боялся обратного пешего пути, он совсем не устал. Но этот путь был бы уже повторением, а плавание сулило что-то новое. Может быть, это и есть приключение, которого ждал Симка? Он добавил нерешительно:
— Если, конечно, это не трудно…
— Чего трудного-то, — обрадованно сказали смуглые братья.
— Ну, ведь приставать к берегу лишний раз…
— Подумаешь, сложности навигации, — хмыкнул Кочерга. — Всё, братцы, отдавай концы…
Никаких концов не было, мальчик, похожий на Дэви, прыгнул в воду и налег на нос «Тортилы», а Кочерга оттолкнулся багром. «Дэви» повис на носу, болтая мокрыми ногами, его втащили. Мотор опять закашлял, колеса зашевелились. Поехали…
Скорость была небольшая, к тому же против течения. И по пути Симка познакомился со всеми — незаметно так, во время разговора. «Дэви» звали Олегом, смуглых братьев — Женя и Вася, а самого младшего — Павлик (но чаще называли почему-то Кубиком).
Разговор шел в основном о телескопе, который задумал смастерить Симка. Все удивлялись, что линза с водой исправно (или почти исправно) служит объективом. Симка спросил, как делали трубу для «Тортилы». Ему подробно объяснили, что надо размочить лист фанеры, прибить один его край к толстому бревну и аккуратно накатать фанеру на это бревно. А потом прибить другой край. Когда фанера высохнет, она сохранит форму цилиндра. Кромки потом нетрудно будет соединить гвоздями — вбить их во вставленную в цилиндр рейку. А чтобы легче поворачивать бревно, полезно приколотить к торцам рычаги-рукояти…
— Только одному все это делать трудно, нужны помощники, — деловито сказал Олег-Дэви.
— Найду, — бодро отозвался Симка. И подумал: «А где их найти-то?»
Высадили Симку на том же месте, где и в прошлый раз. Все по очереди пожали ему руку — видать, такой был в экипаже обычай. Кочерга попросил:
— Как откроешь новую планету, назови «Тортилой».
— Обязательно, — пообещал Симка. Все посмеялись. Было немного грустно. Наверно, чтобы развеять грусть, капитан «Тортилы» предложил:
— Если будешь у нас на Новопароходной, заглядывай в гости. Спроси Вадима Вадимыча и его команду, там нас все знают. Далековато от твоего Нагорного, но ведь ты длинных дорог не боишься…
— А вы говорили, что за Мысом!
— Это стоянка «Тортилушки» за Мысом. А сами мы у пристани…
— Это хорошо, — сказал Симка.
Потом, как и в первый раз, он помахал ребятам с берега, а они помахали ему.
И Симка стал подниматься по лестнице. Теперь он чувствовал, что устал. Усталость была не сильная, но все-таки… Тележка отяжелела и цеплялась за ступени. Сделалось прохладно, Симка надел ковбойку.
Наконец он добрался до деревянных перил, ограждавших улицу от берега, здесь была калитка с выходом на Речной проезд. Стало темнее, чем прежде, но все же небо оставалось белесым и беззвездным. Единственная звезда — яркая и переливчатая — давно спряталась.
Симка различил, что куранты на музее показывают без малого два часа. Ого… Но спать все равно не хотелось. И домой не хотелось.
«Завтра тебя не подымешь даже пушкой», — пообещал Который Всегда Рядом . Конечно, Симка сказал: «Не твое дело…»
Симка вышел на мост — не на главный, а на тот, что над логом. Миновал его и… опять остановился. Что теперь-то? Две минуты ходьбы по Нагорному переулку — и вот он, дом. И закончена ночная сказка?
Была возможность еще немного протянуть ее. Пойти не переулком, а логом и лишь потом, недалеко от дома, подняться к своему двору. Так Симка и сделал.
Для этого пришлось опять спускаться по откосу — к Туреньке. Но здесь берег был не таким крутым, как над рекой. Симка легко сбежал в лог по натоптанной в подорожниках тропинке.
Тропинка привела его к журчащей речке. Симка раздвинул ногами осоку и ступил в воду. Двинулся по руслу и тележку волок за собой (ничего не сделается ни ей, ни лежащим в плетенке башмакам). Туренька была мелкая — по щиколотку и лишь местами по колено. На дне то песок, то глина, но не вязкая. И Симка брел, растягивая время.
Теплая вода журчала у ног, ее струи были похожи на щекочущие витые шнурки. Смывали с ног усталость. Симка опять почувствовал, что может гулять хоть до утра.
Но как ни медлил он, а все равно оказался в том месте, где надо подниматься к дому… А надо ли?
Может, не все еще случилось, что должно было случиться в эту ночь?
Вон как загадочно бормочет вода, не хочет выпускать Симку из своих струй. Вон как пахнут речные травы, бурьян, полынь и репейники на откосах, паслён на ближних огородах — наверно, похоже пахли африканские джунгли в сказке про Мика. И непонятно, с каким-то намеком, смотрит возникшая над высоким краем овражного берега луна.
Луна была не круглая, половинка. Такая же бледная, слегка обозначенная в белесом небе размытой желтой акварелью, как прошлым летом в Ленинграде. Только тогда ее выпуклая щека была с правой стороны, а сейчас с левой. Значит, пожилая, после полнолуния. Симке почудился на лунном лице упрек: зачем ты собрался домой раньше срока?
И Симка пошел по Туреньке дальше, мимо дома.
Он шел и думал про ребят и капитана «Тортилы». Хорошие люди… Но все же у них своя, давно склеенная общим делом компания. И если Симка даже найдет время, чтобы ходить к ним, все равно он будет с боку припёка. Нет, не отошьют, не обидят, но…
«Сам себе выдумываешь трудности», — подал голос Который Всегда Рядом . И на этот раз Симка не заспорил с ним. Может, и правда не надо бояться?
Мысли эти оборвались, потому что Симка оказался у поворота. Здесь от лога отходил рукав, по которому втекал в Туреньку безымянный приток (а может, и не безымянный, но Симка не знал названия). По этому рукаву Симка вчера (точнее, уже позавчера) ходил к дому, обозначенному крестиком на плане.
«Ведь зачем-то он все же стоит, этот крестик, — завертелось в голове. — Может, я просто не разглядел тогда? Может, надо было разведать как следует? Ну и что же, что вредный дядька? План-то гораздо стариннее этого мужика… А еще… может быть, тогда было не время, а сейчас время? »
Может быть, именно такой вот ночью обычные калитки превращаются в двери, за которыми что-то нездешнее ?
Такая догадка прошла по Симке легким ознобом. Он зашагал вперед так, что тележка подняла буруны, будто гоночный катер. Симка свернул из Туреньки в приток, потом выбрался из воды, задрал голову. Где-то здесь тропинка, чтобы подняться к тому самому двору (он теперь опять представлялся таинственным).
«Вот она…» — подсказала с неба бледно различимая луна.
В этом месте откосы были крутые. Но Симка с разгона одолел подъем, только раз остановился, чтобы освободить тележку из репейников. Потом оказался перед кривым забором. Старые доски пахли замшелым деревом. Надо было пройти до поворота в проход, там была калитка. И Симка пошел, цепляя осью тележки и плечом одну доску за другой. И вот попалась доска, за которую тележка зацепилась крепко. Симка дернул. Доска тоже дернулась, нижний край потянулся следом. Симка оглянулся и увидел: в заборе открылась щель (совсем как в больничной ограде, даже заныло давно подсохшее колено).
Что оставалось делать? События раскручивались сами собой. Не затем же Симка лез сюда, чтобы взять и боязливо скатиться вниз!
Он оставил тележку в траве и плечом вдвинулся в щель. Пролез, остановился, часто колотилось в груди. Симка крупными глотками унял это сердечное стуканье. Он стоял по колено в прохладных лопухах. Впереди была бревенчатая стенка — наверно, сарай. Симка крадучись обошел его. И сразу услышал:
— Эй, кто там?
Самое время было рвануть обратно. Схватить тележку и под откос до ручья!.. Симка не рванул. Голос был без сердитости, без боязни и… почти такой, как у веселого Кубика с «Тортилы».
Симка судорожно глянул влево и различил белое пятно. Это сперва — пятно. А через пару секунд Симка понял, что там висит между двух кленов гамак, а в гамаке сидит, свесив ноги и откинув одеяло, мальчик. В темных трусиках и белой майке. С узкими плечами, тонкими руками и неразличимым лицом.
— Ты откуда взялся? — спросил мальчик прежним тоном, без страха.
— Я… — Симка малость осип. — Вот… я гулял, увидел дыру. И заглянул…
— Просто так? — с веселой ноткой уточнил мальчишка.
— Ну, конечно, — Симка осмелел. — Не разбойничать же…
— Ты кто?
Что можно было ответить?
— Я… Симка… — И он начал суетливо заправлять под ремешок подол ковбойки. А, то надетая навыпуск, она висела, как платьице, и мальчишка, чего доброго, мог подумать, что перед ним девочка.
Но тот, видимо, ничего такого не подумал. Кивнул, сел попрямее.
— А я Митя… Но чаще меня зовут Мик.
МЯЧ, ЛУНА И ТАЙНА
«Вот оно!..» — ахнуло внутри у Симки.
Читатель может не поверить. Скажет, слишком книжное совпадение, в жизни такого не случается. Но что было, то было. И кроме того, в этой повести еще немало всяких совпадений (в основном хороших). Наверно, такое удачное выпало тогда Симке время, лето шестидесятого. Да и потом ему не раз везло…
Итак, э то случилось. Все, что произошло раньше — путь на пристань, «Тортила», путешествие по речке и ручью, — было лишь подготовкой к этому . К встрече с неизвестным Миком.
— Ты… правда Мик?
— Да. А что такого? — слегка удивился мальчик.
— Нет… ничего такого… — Симка не мог сказать обо всем сразу. Для этого нужно было много времени и слов. И он лишь сказал опять:
— А я Симка… — И объяснил: — Полное имя — Серафим… — И вдруг засмеялся. Сам не понял почему.
Засмеялся и Мик. Негромко так, но звонко и рассыпчато, словно покатились стеклянные шарики.
— Садись… — Он подвинулся. Симка сел рядом на край гамака. Гамак перекосило, он опустился к самой земле. Симку скрючило так, что коленки стукнулись о подбородок. Он ухватился за Мика, а Мик за него. И оба засмеялись снова. И остались сидеть так, прижавшись друг к другу теплыми плечами.
— А все же… зачем ты пошел сюда ночью? Совсем-совсем просто так?
— Ну, не просто… Сначала мне захотелось есть… — И Симка рассказал про все, что случилось.
Он говорил короткими фразами, разделяя их вздохами и покачиваясь в гамаке (и тем покачивая и Мика).
— А потом я пошел по Туреньке… Потому что не хотелось домой… А потом по ручью… И забрался сюда… Зацепил доску, она отъехала… Я думаю: что там внутри?.. — Он уже хотел поведать, что поднялся к этому двору не случайно, готов был рассказать про план с крестиком. Но Мик вдруг спросил:
— Доска будто дверь, да?
— Да! — обрадовался Симка, что Мик такой понятливый. А тот сказал:
— Сим…
— Что?
— Получилось «Сим-сим, открой дверь…». Как в сказке про Али-Бабу. Помнишь?
— Конечно! — И дальше Симка чуть не признался: «У меня есть другая сказка, про Мика…» Потому что все было такое почти сказочное: и эта ночь, и эта дверь-доска, и этот мальчик, который дышал рядом доверчиво и чуть таинственно. И притаившаяся у верхушки клена луна, которая, казалось, прислушивается к разговору мальчишек, оттопырив одно ухо.
Но Мик заговорил раньше:
— Я тоже люблю иногда побродяжить ночью. Видишь, я ночую тут, на дворе. Так интереснее…
— И тебе разрешают? — с уважением спросил Мик.
— Я здесь у деда живу, он все разрешает. То есть не запрещает… Я, бывает, дождусь, чтобы наступила совсем ночь, и убегаю на запруду. Там в это время никого нет. Когда купаешься один, похоже на приключение…
— А что такое запруда?
— Ты не знаешь? — удивился Мик. — Это… ну, кто-то в давние времена сделал на ручье плотину, и получился пруд. Вроде как бассейн. Там все мальчишки, кто близко живет, купаются… Неужели ты не бывал?
— Я в эти места раньше не заглядывал. Не приходилось как-то…
— Тогда… идем? — Мик быстро встал (Симку в гамаке качнуло назад).
— Сейчас? — неуверенно сказал он.
— Конечно! А что такого? Или… не хочешь?
Симка хотел. Как тут не хотеть! Но… можно ли брать на душу еще один грех (после того заплыва с линзой). Мама ни за что не разрешила бы такое дело: «Купаться среди ночи? С каким-то незнакомым мальчишкой? Ты с ума сошел!»
«Но ведь это не на реке. И мальчишка… он уже не совсем незнакомый», — очень удачно подсказал Который Всегда Рядом . И на этот раз Симка был благодарен Которому за вмешательство. А Мик добавил со своей стороны:
— Там неглубоко, самое большее по грудь. И вода всегда теплая.
— Идем!
— Вот правильно… Сейчас… — Мик пошарил под брошенным одеялом и достал из-под него мяч. Большой, размером с арбуз средней величины. В белесых сумерках трудно было разобрать, какого он цвета: то ли красный, то ли коричневый.
— Я с ним везде хожу, где только можно, — с доверчивым придыханием объяснил Мик. — Он… вроде как мой друг.
— Наверно, подарок? — понятливо сказал Симка.
— Да, дедушкин. Еще давний…
Было понятно, что Мик улыбается — несильно и стеснительно. Однако разглядеть как следует лицо Мика Симка не мог, хотя было и не темно. Видел только, что оно худое, с крупным ртом, а волосы короткие. А сильно приглядываться было неловко.
Еще Симка заметил, что Мик пониже его ростом и, видимо, помладше. Наверно, перешел в четвертый. Но это не имело, конечно, никакого значения.
Симка думал, что они пойдут к щели в заборе, но Мик сказал, что надо через калитку, там удобнее, прямо к тропинке.
— Только давай через двор осторожненько. У нас есть сосед, он иногда по ночам выходит на крыльцо курить. Кого увидит, сразу придираться и лаяться начинает. Такая сволочь…
Это слово покорябало Симку. Не вообще, а оттого, что сказал его Мик. Симке казалось, что Мик не такой . Но почти сразу неприятное ощущение пропало. Потому что надо было, пригибаясь, пробираться через лопухи, вдоль поленницы, мимо крыльца… И это было тоже частью приключения .
Наконец оказались за калиткой. До берега было пять шагов, а оттуда вела вниз вполне удобная натоптанная тропинка (не та, про которую Симка знал раньше!). Мик прыгнул вперед, обернулся:
— Я тут каждую кочку помню, давай руку.
Вообще-то полагалось бы сказать: «Я сам, на маленький». Но Симка с благодарностью взял маленькую, с тонкими пальцами ладонь. Она была прохладная, как сорванный в тени лист подорожника.
Так и стали спускаться — Мик впереди, в своей белеющей маечке, Симка следом. Внизу Симка предложил:
— Давай по ручью…
— Давай! — Мик тоже был босиком.
И опять зажурчала у ног вода, только в два раза громче, потому что шли вдвоем . Шли рядом и по-прежнему держались за руки.
До запруды оказалось шагов двести, она была за поворотом оврага. Квадратное озерцо размером с комнату обступал ольховник, но между кустами и водой была полоска песка.
Стояла тишина, будто уснула вся Земля, только ворковали струи да где-то стреканул ночной кузнечик. Луна въехала на небо повыше и стала ярче.
Мик встал у воды, нерешительно оглянулся на Симку. Дернул себя за трусики.
— Давай без них, а то будут потом липнуть.
— Давай, — неуверенно согласился Симка.
— Все равно ведь никого тут нет. Ни теток, ни девчонок…
— Ага… — сказал Симка и чуть не добавил «то есть да».
Они, не глядя друг на друга, сбросили одежду, и Мик первый, не медля ни секунды, прыгнул в пруд. Окунулся, подбросил мяч.
— Сим-сим, давай! Такая теплая вода!
И Симка прыгнул к Мику.
Он погрузился с головой. В самом деле, вода была очень теплая, теплее воздуха. Хотя ноги покусывали пробивавшиеся сквозь песчаное дно крохотные роднички. Симка встал на дно, вода была по грудь. Мик бросил ему мяч — увесистый и скользкий. Симка поймал и бросил обратно. Так они поперекидывались туда-сюда, потом вдруг Мик опрокинулся, булькнул, встал, держа мяч у груди и стал почему-то смотреть вверх. Симка тоже глянул вверх, на луну.
— Мик, ты говорил: ни теток, ни девчонок. А луна, она ведь тоже… женского рода. И подглядывает…
Мик посмеялся (опять будто стеклянные шарики), тоже поразглядывал луну.
— Она не круглая. Значит, месяц. А месяц — он мужского рода… — Мик подскочил, упал животом на мяч и, сильно булькая ногами, поплыл вокруг Симки. Иногда его незагорелое место выскакивало из воды и будто светилось. Симка хихикнул и плеснул в Мика двумя ладонями. Тот обрадованно плеснул в ответ, и они с минуту бурно брызгали друг в друга. А мяч прыгал на взволновавшейся воде между ними. Наконец Мик не выдержал натиска, схватил мяч и уплыл с ним к берегу. А оттуда вдруг спросил:
— Ты, может, думаешь, что я не умею плавать без мячика? Я могу. Просто я к нему привык…
— Ничего я не думаю. А если бы и не умел, что такого? Все люди сперва не умеют, а потом умеют… Я вот в прошлом году еле-еле булькался у берега, а в этом году реку переплыл… почти… — Он вдруг подумал, что даже такое слабенькое хвастовство, с «почти», может показаться неприятным Мику. И добавил честно: — Только чуть не утонул.
— Как это? — опасливо сказал Мик.
— Ну… по правде-то я не просто так плыл, а с такой пустой штуковиной. А она стала выскальзывать. Да еще судорога. Хорошо, что мимо проплывали ребята на самодельном пароходике, выловили меня.
Мик не заинтересовался самодельным пароходиком. Спросил:
— А что за пустая штуковина?
— Увеличительная линза от телевизора КВН… Я хочу из нее сделать объектив для телескопа, чтобы разглядывать… всякие небесные тела и спутники… И вон ее! — Симка махнул рукой на луну. — Видишь, как она сразу забоялась. Понимает, что скоро разузнаю все ее секреты. За то, что подглядывала…
Мик засмеялся опять, но сразу спросил серьезно:
— Думаешь, получится?
— Конечно! У нас в сарае есть лист фанеры, я из него согну большую трубу. Только надо для этого круглое бревно с рукоятками, а бревна пока нет… И вертеть одному трудно…
Мик подпрыгнул, выпустил мяч.
— У нас в дровах найдется подходящее бревно! И… зачем одному-то…
По дороге к дому Мика Симка рассказывал про опыты с линзой, а Мик сказал, что палки для рычагов у него тоже найдутся.
— Наляжем с двух сторон… Это я только с виду тощий, а сила у меня все-таки есть.
Симка благодарно помолчал. Неважно, есть у Мика сила или нет. Важно, что есть он сам .
У щели забора, куда пришли за тележкой, Мик вдруг сказал, что проводит Симку до дома.
— А то ты знаешь про меня, где я живу, а я про тебя не знаю…
— Но это ведь неблизко…
— Нагорный-то? Да разве далеко!
В самом деле, будоража тележкой и ногами Туреньку, они минут через двадцать добрались до лесенки, что вела к началу Нагорного переулка.
В переулке не было ни единого человека. И даже лампочка в дальнем конце уже не горела.
— Вот он, мой дом. А вон мое окно, открытое…
— Не боишься, что какой-нибудь жулик заберется? Тут невысоко…
— А чего у нас воровать-то…
И тут же подумал, что все-таки «есть чего», хотя и немного: неприкосновенный запас в ящике стола. И следом подумал, что надо туда положить оставшуюся после рынка сдачу. Машинально полез пальцами в кармашек у пояса — там ли мятые рубли? И вместе с рублями нащупал стеклянный значок.
И понял, что теперь он должен сделать самое главное. Как тогда . Симке показалось даже, что в воздухе появился ласковый желтый свет, будто на берегу «янтарной Балтики». Хотя, возможно, это просто назревала утренняя заря.
— Ладно, я пойду, — сказал Мик и стукнул мячом о тротуар.
— Мик…
— Что? — Он придержал мяч у груди.
— Вот… это тебе. Это такой значок… Сквозь него поглядишь, и все чудится немного… не таким…
Мик подержал значок на ладони. Поднял лицо. Теперь оно было различимее, чем раньше.
— Но… тогда я сейчас тоже должен что-то подарить. А ничего нет… А мячик я не могу, он… от деда…
Да, все было похоже. Так похоже, что даже затеплело в груди. И Симка сказал как в прошлом году, на берегу:
— Ты ведь уже подарил.
— Что? — опять вскинул лицо Мик.
— Запруду. Я про нее раньше не знал, а теперь… вот… И вообще…
«Вообще» — это похожая на приключение ночная встреча, купание под хитрой луной, доверчивость, с которой Мик слушал рассказ про телескоп… И то, что он — Мик … И то, что он близко и не исчезнет, как тот мальчик на берегу залива. Но сказать это Симка не умел, а если бы и умел, то не решился бы.
Вместо этого он сказал:
— Ну-ка давай… — И пристегнул значок к майке Мика.
И тогда Мик двинул губами:
— Спасибо, Симка…
— Я завтра к тебе приду. А теперь надо по домам. А то твой дед, наверно, скоро проснется…
— Не скоро еще… Знаешь что? Ты поднимись в дом и помаши из окошка. И тогда я пойду.
— Ладно!
Симка достал из-под крыльца ключ, отпер дверь, взлетел по лестнице, лег животом на подоконник. Ничего не крикнул, просто помахал ладонью.
Мик помахал в ответ. Потом повернулся и зашагал по тротуару, то подбрасывая мяч, то стукая им о доски. Стало совсем светло и можно было различить, что мяч у Мика ярко-красный.
Симка спал до полудня. Тетя Капа несколько раз стучала в стену, звала завтракать. Симка наконец сквозь сон стукнул в ответ три раза. Это означало: «Я слышу, но не хочу». (И оставьте меня в покое.)
Наконец Симка проснулся. Сел, поматывая головой. Увидел, что спал он в шортах и рубашке. «Обормот ты все-таки», — сказал Который Всегда Рядом . И Симка не решился ответить «сам такой», потому что Который говорил маминым голосом. Симка лишь посопел и стал вспоминать, какой удивительный, длинный и добрый сон он видел. Про ночные приключения, про Мика…
Или… не сон?
Проверить было легко. Симка вскочил, сунул пальцы в кармашек. Значка не было.
«Ты мог его просто потерять», — противным (уже совсем не маминым) голосом разъяснил Который Всегда Рядом . И, кажется, опять был прав.
Симка готов был понуро задуматься. Потому что наяву такого, как этой ночью, быть не могло.
Конечно, не могло…
Симка подошел к окну, глянул на пустой солнечный переулок. Там было все обыкновенно, не как в светлых сумерках.
Симка опять сел на кровать, уперся локтями в колени и подпер щеки.
И в этот миг влетел в окно и запрыгал по комнате большой красный мяч.
ДЕД
Симка с размаха упал животом на подоконник. Мик стоял внизу. Ну… конечно, Мик, хотя и не совсем такой, каким был ночью.
Теперь-то, на солнце, его можно было разглядеть во всех мелочах. Волосы Мика слегка искрились, они были похожи на прижатую к голове мелкую медную стружку. Глаза оказались очень голубыми и маленькими, близко сидящими к похожему на плоский башмачок носу. А рот улыбался широко и кривозубо. И… хорошо так улыбался. И Симке даже на секунду не пришло в голову, будто Мик некрасив. Тем более что одет он был, словно в театр собрался. На нем были парусиновые штаны удивительной белизны и отглаженности, с широкими лямками, которые лежали на плечах ярко-голубой, как глаза, рубашки. А на украшенных синяками и неровным красноватым загаром ногах — подогнутые белые носочки и новые сандалики из синей кожи.
«Он что, всегда так гуляет или оттого, что в гости пошел?» — мелькнуло у Симки. Впрочем, какая разница! Все равно это был Мик! Хотя бы потому, что рядом с белой лямкой блестел Симкин стеклянный значок.
Обо всем этом Симка думал одновременно с радостным воплем: «Давай заходи! Вон туда, в калитку, и к первой двери!»
С лестницы Симка сиганул привычным акробатическим способом, забыл, что дверь заперта, и грянулся о нее всеми суставами. Охнул, дернул задвижку замка, опять ударил дверь ногой, распахнул.
Мик стоял снаружи, улыбался.
— Я был за березой, ты меня сперва не заметил. А я увидел тебя в окне и запустил мячом… Это сигнал: «Сим-сим, открой дверь».
— Пошли! — Симка потянул его вверх по лестнице.
В комнате Мик сразу увидел линзу, она стояла посреди стола.
— Это и есть объектив? Ух, великанище! А маленькое стеклышко где? Можно посмотреть?..
— Вот… — Симка дал ему Сонино стеклышко, а линзу перетащил на подоконник. — Гляди, как надо наводить…
Мик в полминуты освоил «технику смотрения» (это он так выразился).
— Все дальние крыши совсем рядышком! Луна будет у самого носа!.. А давай мастерить телескоп прямо сейчас!
Он вел себя так, будто с Симкой они знакомы с детского сада.
— Давай!.. Ой, Мик… Мне же надо сперва в больницу, к маме и Андрюшке.
Мик решил задачу просто:
— Ну, давай сходим в больницу и сразу начнем!
Симка слетал к тете Капе и взял приготовленный пакет с передачей: молоко и баночку с вареньем, и умчался назад под крики: «Почему не завтракаешь, совсем отощал, все расскажу матери!» А он разве не завтракает? Он успел ухватить со стола горбушку батона и жевал на ходу…
Симка надел фуражку с якорьками, и они отправились.
По дороге Мик стукал мячом о тротуар и живо рассказывал, что рано утром его разбудил трескотней мотоцикла «этот паразит» сосед Треножкин.
— Начал мотор чинить и заводить. Я ушел досыпать в комнату к деду, но и там было слышно…
А на мосту он ухватил Симку за руку и без стесненья признался:
— Знаешь, у меня на такой высоте, да еще над водой, коленки трясутся. Парашютист или летчик из меня точно не получится.
— Можно ведь привыкнуть, — утешил Симка.
— Ох, не знаю… Один раз устроил себе испытание: забрался на краешек крыши у чердака и оттолкнул лестницу. Обратно было два пути. Или прыгать с высоты, или спускаться по поленнице, но там внизу крапива. Постоял, постоял и полез через крапиву. Сам виноват…
В ответ на эту откровенность Симка признался, что боится пауков и всяких кусачих козявок. И рассказал, как в прошлом году Клим Негов посадил на него ужасное усатое насекомое.
— А я ему обратно, за шиворот!.. После этого были всякие драки.
— Я, по правде говоря, драться совсем не люблю, — нахмуренно выговорил Мик. Словно хотел сказать: вот я какой, решай теперь, стоит ли со мной знаться.
— По-моему, никакой нормальный человек не любит, — отозвался Симка. — Это уж если доведут…
Они были посреди моста, и Мик одной рукой прижимал к груди алый блестящий мяч, а другой все крепче стискивал Симкины пальцы. Но шагал твердо. Чтобы отвлечь Мика от боязни (и раз уж пошел разговор на честность), Симка рассказал, что часто бросает с моста в воду копейки.
— Ну, обычай такой у меня. Чтобы река… всегда была добрая…
— Понимаю, — кивнул Мик и почему-то вздохнул. Может, потому, что копейками не избавишься от боязни высоты.
Симка подумал и рассказал еще, как недавно увидел девочку на барже.
— Помахала рукой и уплыла… Почему-то жалко, когда человек вот так помашет и сразу исчезает навсегда…
Мик, глядя на свои синие сандалии, сказал:
— Хорошо, что мы недалеко друг от друга… Не надо исчезать… Да?
— Да, — шепнул Симка и кивнул так, что чуть не слетела фуражка. И тут кончился мост.
У больницы было как всегда. Санитарка, раскрытое окно, мама и танцующий на подоконнике Андрюшка.
— Не отпусти его! — забеспокоился Симка. — А то спикирует… из одной больницы в другую.
— Что ты, я крепко держу.
— Мама, я вчера забыл спросить… Соня оставила адрес? Она обещала…
— Оставила, конечно.
— А ты ей наш адрес дала?
— Дала, дала, не волнуйся…
— Мама, ты брось мне записку с ее адресом.
Мама с Андрюшкой исчезла и через полминуты бросила из окна свернутый листик. Фуражка слетела с задранной Симкиной головы. Симка поймал записку в ладони, сунул в кармашек. А фуражку поднял из подорожников.
— Зачем ты все время таскаешь на голове этот утиль? — страдальчески спросила мама.
Симка ходил в фуражке не все время, но, когда шел в больницу, надевал обязательно. Сидела у него внутри такая тайная примета: если он в фуражке, значит, с мамой и Андрюшкой все будет в порядке. Но маме он объяснил иначе:
— Я в ней похож на адмирала Нахимова.
— На беспризорника ты похож… Посмотри, какой аккуратный мальчик с тобой рядом.
Мик стоял не рядом, а шагах в пяти, деликатно так. Постукивал мячом о тротуар и был как бы сам по себе, чтобы не мешать разговору. Симка взял его за руку, подвел ближе под окно.
— Мама, это Мик. То есть Митя. Мы познакомились вчера.
— Здрасте… — неловко сказал Мик и стал гладить мяч.
— Здравствуй, Митя, — улыбнулась мама аккуратному мальчику, а наблюдательный Андрюшка выговорил:
— Квасный мяць.
— Мы будем строить телескоп, — сообщил Симка.
— Очень хорошо, что не пушку. Надеюсь, это не вызовет погром в квартире?
— Мы будем его делать у нас на дворе, — стеснительно объяснил Мик.
— Мама, когда вас наконец выпишут? — с легким стоном спросил Симка.
— Я же говорила: врач обещал, что в понедельник. Если все будет нормально.
Симка торопливо поправил фуражку — чтобы «все было нормально»…
Когда шли обратно, Мик озабоченно спросил:
— А почему твоя мама сказала про погром в квартире? Может, ей показалось, что я… пират какой-то?
— Ты?! Да она же наоборот! «Смотри, какой аккуратный мальчик»…
Наверно, Мику почудилось, что Симка усмехнулся в душе.
— Я только сегодня с утра такой! Мама утром пришла к нам с дедом, принесла выстиранное белье и меня заставила надеть все чистое. Говорит: «Побудь хоть полдня приличным ребенком». — Мик хихикнул. — Я согласился… на полдня. Видишь, пригодилось…
Недалеко от дома повстречался Фатяня. В белой рубашке и поглаженных брюках.
— Зуёк, наше вам! Ты как по заказу! Только подумал о тебе, а ты навстречу… Дело есть…
— Небось опять палец макать? — независимо, как равному, сказал Симка. Он хотел пошутить, но оказалось — угадал.
— Понимаешь, сегодня опять такой день… ответственный…
— Ты же говорил, что всё решилось уже!
— Решилось, да не все. Нынче новичков распределяют по отделениям. Одних на слесарно-токарное, а других на монтаж двигателей. С монтажного, если дальше учиться, можно попасть в судовые механики, в плавсостав…
— Макну. Ты, Фатяня не сомневайся… Мы вдвоем макнем. — Симка подтянул Мика ближе за лямку. — Фатяня, это Мик.
— Мик, физкультпривет, — Фатяня кривовато, но без насмешки, даже просительно улыбнулся незнакомому аккуратному мальчику.
Когда они с Фатяней разошлись, Мик осторожно спросил:
— А чего макать и куда?
Симка объяснил.
— Конечно, это, наверно, предрассудок, но, может, иногда все-таки помогает. В прошлый раз помогло… Но ты не макай, если не хочешь.
Мик хотел. Он сказал, что два обмакнутых в чернила пальца дают в два раза больше шансов на успех. И, когда пришли к Симке домой, он вслед за Симкой добросовестно запихал мизинец в чернильницу. А когда вытащил, уронил темно-лиловую каплю на край белых штанов.
— Влетит? — озабоченно спросил Симка.
— Хы! Если бы мне каждый раз влетало за измазанные штаны…
Когда в сарае вытаскивали из-за дровяного штабеля дров квадрат фанеры, Мик посадил на штаны несколько смолистых пятен, а у рубашки оторвал пуговицу. Зато с делом справились быстро.
Фанерина была тонкая, но прочная, с ничуть не разлохмаченными краями. Ее зимой подарил Симке дядя Миша, и Симка на ней с братьями Авдеевыми и Стасиком Юхановым катался с обледенелого спуска в логу. Катались лихо, но фанера осталась почти как новая…
Потащили фанеру через двор к логу. Кроме того, Мик не расставался с мячом, а Симка нес линзу, из которой предварительно вылил воду. На краю откоса фанеру раскачали и пустили вниз. Она, желтея на солнце, полетела, как громадный осенний лист, и спланировала на берег Туреньки.
Симка и Мик «спланировали» следом. Не разуваясь, поволокли фанеру по руслу — держали ее за углы, а другой край при этом окунался в воду. Ну и пусть! Все равно размачивать…
Мик вдруг вспомнил:
— Я у тебя на столе книжку видел, «Тони и волшебная дверь». Она про что?
Симка смешался на секунду. Но ничего скрывать от Мика не хотелось. Наоборот, хотелось поделиться тайной. Как с Соней…
И Симка поделился. И добавил:
— Ты, если хочешь, почитай, но никому про нее не говори…
— Я никому… Я понимаю, могут быть неприятности… У деда были ого какие! Он, когда преподавал сопромат в институте, поехал со студентами на картошку и там прочитал у костра запрещенное стихотворение. Его чуть из партии не выгнали и с кафедры уволили. Он потом до пенсии работал уже не доцентом, а в конторе «Вторсырье»… Сим, но ты про это тоже никому!
— Ни одной живой душе!
Теперь они оказались связаны тайнами. Это был уже своего рода союз …
Размочить фанеру решили прямо в ручье — так было проще всего. Уложили ее на песчаное дно (во всю ширину русла). Симка стоял на фанере, чтобы не всплывала, а Мик натаскал с мусорной кучи кирпичные обломки. Завалили ими пытавшийся приподняться лист. Выбрались на поросший одуванчиками бережок.
Симка вылил из раскисших башмаков воду.
— Интересно, долго ли этой штуке надо размокать…
— Я думаю, хватит времени, пока мы всё будем готовить, — рассудил Мик.
Поднялись по откосу на двор к Мику.
У сарая лежал штабель непиленых бревен. Выбрали самое большое — длиной метра полтора, толщиной сантиметров двадцать. Поднатужились, спихнули с верха в траву. Теперь предстояло очень трудное дело: взвалить эту махину на к о злы для пилки дров (они стояли здесь же, неподалеку).
Симка и Мик ухватились за один конец бревна, приподняли. Но тут же Мик шепнул:
— Бросай…
Бревно плюхнулось (чуть не на ноги!). Мик быстро сел и потянул Симку:
— Садись! Мама идет…
Появилась его мама. Молодая, красивая, с разноцветным зонтиком.
— Мама, это Симка, — быстро сказал Мик.
Симка, вспомнив уроки Норы Аркадьевны, встал.
— Здравствуйте.
— Здравствуй… наверно, Сима, а не Симка, да?
— Можно как угодно, — покладисто сказал Симка.
— А чем это вы занимаетесь, молодые люди?
— Мы будем строить телескоп, — поспешно разъяснил Мик.
— Боже правый! Из этого бревна?!
— Из фанерной трубы, мама! На бревне мы просто отдыхаем.
— Видимо, от многотрудных дел… Дмитрий, почему ты опять такой встрепанный и пятнистый? Я недавно пыталась превратить тебя в нормального сына. Посмотри на Симу, он не в пример аккуратнее тебя.
Помятый и перемазанный не меньше Мика, Симка не удержался, фыркнул. Мамы были в чем-то похожи…
— Митя, я спешу на репетицию… Желаю успеха, друзья мои. И постарайтесь не превращаться окончательно в неандертальцев.
— Неан… нендертальцы ведь не строили телескопов, — осторожно напомнил Симка.
— Тем более!
Когда она ушла, Симка спросил:
— Твоя мама артистка?
— Да. Она выступает с рассказами в филармонии и на радио. Недавно была передача, мама читала рассказ «Корзина с еловыми шишками». Это про дочку лесника и про композитора Грига. Он жил в Норвегии…
— Я знаю…
Грига любила мама. Она всегда звала Симку, когда по радио играли его музыку.
— У него есть «Песня Сольвейг». Хорошая такая…
Мик кивнул. Он тоже знал…
Снова подступились к бревну. Приподняли. Опустили. На этот раз на сандалию Мика. Он затанцевал и сумрачно пообещал:
— Грыжу заработаем…
— Кто тут говорит про грыжу?
Это не Симка спросил. Голос донесся со спины — взрослый, глуховатый. Над мальчишками стоял худой старый мужчина.
— Дед! — радостно подскочил Мик.
Если бы это был не дед Мика, а случайно увиденный старик, он бы не понравился Симке. Узкое помятое лицо с жесткими усами, седые волосы со старомодным пробором и непонятный, с каким-то нарушением взгляд. Словно с бельмом. Нет, бельма не было, но неуловимая «бельмастость» во взгляде чудилась.
Уже после Симка сообразил, что дед напомнил ему коварного старика Якова из фильма «Судьба барабанщика». Только был он не в полувоенном костюме, а в широком потертом пиджаке и мешковатых брюках. Да, совсем не добренький дедушка…
Но «дедушка» улыбнулся, и улыбка была как у Мика.
— Чем заняты, молодые люди?
Мик незаметно коснулся чернильным мизинцем губ: Симка, молчи.
— Дедушка, это Симка… Полное имя Серафим.
— Рад приветствовать вас, Серафим, в своем родовом гнезде… Насколько я понимаю, перед вами стоит техническая задача: водрузить эту древесину на к о злы. Ну-ка…
— Дед, тебе же нельзя!
— Цыц, новобранцы, стать во фрунт и слушать команду! Я берусь за торец, вы с боков…
Бревно вмиг было уложено в развилки — сперва одним концом, потом другим. Однако Мик вытер о штаны ладони с прилипшими сосновыми чешуйками и сердито проговорил:
— А потом опять будешь за грудь хвататься…
— Цыц, я сказал. Тоже мне сестра милосердия… А чего это вы вздумали заниматься заготовкой дров?
— Это не заготовкой, — буркнул Мик и глянул на Симку: рассказывай.
— Ну… в общем это… Надо свернуть трубу из фанерного листа… — начал Симка. И, как умел, рассказал про способ, о котором слышал ночью на «Тортиле» (Господи, неужели этой ночью? Кажется, целый месяц прошел!).
— Да, технология… — Дед с мальчишеской несолидностью поскреб затылок. — Насколько я понимаю, нужны крепкие рычаги… Мик, тащи из дома молоток и гвозди покрупнее…
Мик умчался.
— А мы с тобой, Серафим, пойдем искать палки…
Дед взял Симку за плечи и повел в сарай. Видно, он хорошо знал, где что лежит, потому что сразу полез в нужный угол и вытянул оттуда несколько толстых и длинных реек.
— Держи…
Симка взял рейки и на миг оказался совсем близко от деда. От старого пиджака пахло табаком и сладковатым лекарством. Симка выволок рейки на солнце. Мик уже стоял у бревна с молотком и гвоздями.
— У, длинные… — сказал он, увидев рейки.
— Вот именно. Слетай за ножовкой.
— Не мог сразу сказать… — надул губы Мик. Кажется, притворно.
— Бегом марш!
Мик умчался опять, взлягивая пятнистыми ногами. Дед, усмехаясь, посмотрел ему вслед, а потом — на Симку. Симка набрался решимости и спросил:
— Простите, а… вас как зовут?
— Зовут меня очень даже внушительно. Станислав Львович Краевский. Неплохо, а?
— Ага… то есть да.
Станислав Львович опять улыбался улыбкой Мика. Симка решился еще на вопрос:
— А Мик… он тоже Краевский?
— Нет. Я ведь его дед по матери. А Мик, он — Семенов, по отцу. Не Краевский, конечно, но тоже ничего. Можно утешать себя, что половинка от Семенова-Тян-Шанского… А вы разве не вместе учитесь?
— Нет. Я даже не знаю, где Мик учится. Мы только вчера познакомились… — («Вернее, даже сегодня», — добавил Симка про себя.)
— Тот-то я смотрю, что раньше тебя не встречал. Обычно-то Мик все больше сам по себе крутится, без приятелей. Этакий творец-одиночка…
«Почему творец?» — чуть не спросил Симка, но не успел. Пришел сердитый Мик с ножовкой.
— Еле нашел. Интересно, кто ее засунул за этажерку?
— Полагаю, твой папа. Он помогал мне мастерить полку… Серафим, папа Мика очень обаятельный, но ужасно рассеянный мужчина. Как все настоящие преподаватели истории. Рассеянность помогает им вовремя забывать ненужные исторические факты…
— Ничуть он не рассеянный. Пилу ты сам, наверно, запихал туда и забыл… Может, что-то еще надо принести? Говори.
— Не надо. Хотя… необходима линейка или рулетка. Беги.
— Я догадался. Вот… — Мик со сдержанным торжеством выволок из оттопыренного парусинового кармана складный метр.
— Гениальный ребенок, весь в деда…
Потом Симка опиливал рейки до метровой длины, а Станислав Львович и Мик прибивали их к торцам бревна. Получилось что-то похожее на колодезный ворот.
Пришло время вспомнить о фанере.
— Разбухла небось… — сказал Мик.
Они спустились к ручью и приволокли на двор отяжелевший и скользкий фанерный лист (это была работка!). Станислав Львович обмерил линзу по окружности и сказал, что фанера должна быть шириной метр тридцать, тогда труба получится нужного диаметра. Надо отпиливать. И предупредил:
— Вдоль слоев.
— Поперек-то проще! — заспорил Мик.
— Поперек будем сгибать, это легче. Ты не учи деда сопромату…
Тоже была работка — пилить непослушную тяжелую фанерину. Пилили Мик и Симка, по очереди. Мик ни за что не дал ножовку деду, прикрикнул даже…
Наконец получили нужную ширину. Приколотили к бревну один край. Стали поворачивать в козлах бревно — Симка и Мик на одном рычаге, Станислав Львович на другом. Он оказался прав — поперек слоев размокшую фанеру сгибать было не очень трудно. Помогал и могучий вес бревна.
— Лишь бы не треснула… — выдохнул Мик.
— Я ей тресну… — сказал дед.
Наконец свободный край листа оказался рядом с прибитым. Мик и Симка легли на стык животами, Станислав Львович застучал молотком. И вот накрученная на бревно фанерная труба оказалась крепко сшитой гвоздями. К завтрашнему дню она высохнет и уже не раскрутится, когда снимут с бревна…
Мик отряхнул штаны (видела бы их теперь мама!). Гордо надул живот.
— Мы герои труда…
— Отдыхайте, герои. Я тоже пойду передохну… — Станислав Львович двинулся к дому.
— Дед, не вздумай… — негромко сказал ему в спину Мик.
— Это что за реплики под занавес? — Станислав Львович оглянулся и старательно свел седые брови.
— Я же видел на этажерке за книжками.
— Нечего совать нос… Это ацетон для чистки брюк.
— Будто я не знаю, как пахнет ацетон…
— А как пахнет дедов ремень, знаешь?
— Ха-ха, ты его не носишь…
— До чего вредный субъект! И в кого бы это?
— В тебя.
Станислав Львович сокрушенно покачал головой и, сутулясь, скрылся в доме.
Мик виновато глянул на Симку.
— У него астма. Иногда кашляет так, прямо заходится. Ему ничего нельзя: ни тяжести таскать, ни пить, ни курить. А у него «Беломор» под подушкой и четвертинка в укромном месте. Нет-нет да и присосется… Я уж перепрятывал, а толку-то…
— Может, ему от этого легче… — неловко сказал Симка.
— Может, легче. На пять минут. А потом-то?
— А он… лечится?
— Он говорит: в таком возрасте лечиться — все равно что разглаживать утюгом стиральную доску… Давай правда отдохнем.
Они сели в мясистые лопухи у сарая, привалились к бревенчатой стенке. Здесь была тень, но узкая. Перемазанные глиной, травяным соком и смолой ноги торчали на солнце, их крепко жарило лучами.
— Мик, а у тебя много знакомых ребят? Ну… с которыми ты играешь? — Симка не решился сказать «друзей». И вспомнил еще: «творец-одиночка».
— Целая куча… — спокойно отозвался Мик, глядя перед собой. — И на улице, и в классе… Только…
— Что? — с непонятным опасением спросил Симка.
— Я никому никогда не рассказывал ничего такого . Ни про деда, ни вообще…
Симка благодарно засопел. Подтянул ноги, уперся подбородком в колени. И спрятал благодарное чувство за обыкновенным вопросом:
— Мик, а ты в каком классе? В четвертый перешел?
— Почему? Я в пятый… Ты ведь тоже?
— Да. Но я думал…
— Ну да, я, наверно помладше. Ты в каком месяце родился?
— В феврале.
— А я в октябре. Разница почти год получается, да? Меня сперва не хотели в первый класс брать, потому что не хватало до семи. Но родители уговорили. Я уже в пять лет книжки читал…
— А я в шесть…
— Сим, а о чем та книжка? Которая запрещенная. Ты так и не рассказал про содержание.
— Про одного мальчишку. Он отыскал в старом заборе дверь, за которой оказалась старинная страна с индейцами, он к ним часто убегал. Может, ему это просто казалось, но все равно… по правде… Я… вчера, когда оказался у вашего забора, у щели, мне показалось… вдруг эта дыра вроде такой же двери…
Мик быстро поднял голову. Глянул Симке в лицо заблестевшими ярко-голубыми глазками. Но не успел ничего сказать — раздался треск, похожий на стрельбу. Это появился из калитки дядька с мотоциклом. Он остановился и яростно нажимал на педаль. Мотоцикл заглох. Дядька отчетливо матюгнулся и поволок его на середину двора.
Симка сразу узнал мотоциклиста — это он вчера утром ругался с женой. Ругался погано, не так, как дядя Миша, который любит вступать с тетей Томой в веселые перепалки («Египет тебя налево, старуха, совсем забодала бедного Мишу!»). У этого мужика были руки в татуировках, костистые подбородок и щеки и совсем не подходящий к ним бурый толстый нос пьяницы.
Мик сказал скандальным голосом — будто Симке, но громко, на весь двор:
— Это и есть Треножкин. Как вкатит на двор свою тарахтелку — стрельба, будто при взятии Берлина…
Треножкин не стал делать вид, что не слышит. Оглянулся.
— Ты повозникай еще, вша интеллигентная…
Потом пошел к дому и оглянулся опять:
— Если полезете к машине, ноги вырву из ж…
— Да кому она нужна, эта рухлядь трофейная! — Мик стеклянно рассмеялся.
— Трофейная, да получше нынешней… А на новую денег нет, мы золотишко не припрятываем, как твой дед, буржуй недорезанный…
— А вы дорезанный уголовник, — бесстрашно сообщил Мик.
— Я тебя сейчас на лямках повешу, мамина сопля!
— Не успеете. Дед вам из двухстволки так дробью задницу причешет… — Мик посмотрел на открытые окна в мезонине кособокого, обшитого кривыми досками дома.
Треножкин матюгнулся еще раз и пошел к дому, вихляя задом в широких галифе.
— Зачем ты с ним связываешься?
— А потому что гад, — брезгливо объяснил Мик. — Как напьется, никому от него житья нет. Иногда топором машет, поленницы разносит…
— А у Станислава Львовича правда есть ружье?
— Нет, конечно. А Треножкин думает, что есть. Он же трус, все психи трусы. Только на тех, кто слабее, лезут…
— А про какое золото он говорил?
— Ну, псих же! Вбил себе в башку, что отец деда, мой прадедушка, спрятал где-то в доме золото. Когда случилась революция. А откуда оно? Он же не купец был, не фабрикан, а редактор газеты. Называлась «Туреньский судоводитель»… Он умер, когда началась Гражданская война. А дедушка пошел в Красную армию, его ранило под Омском, легкое пробило…
— А с немцами он уже не воевал?
— Его не взяли на фронт. Он был преподаватель в артиллерийском училище. В том, которое теперь училище связи, рядом с музеем… Он форму носил и погоны…
Симка слушал и спрашивал, но уже как-то машинально. А внутри тикало, как специальный поисковый прибор, ожидание скорого раскрытия тайны. Конечно, ни в какое золото Симка не поверил. Но…
— Мик, значит, Станислав Львович здесь с самого детства живет?
— С самого рождения. Он родился еще в прошлом веке, в тысяча восемьсот девяносто восьмом году…
«Как Фатянин пятак», — вспомнил мельком Симка. И Соню вспомнил. Но сейчас это было не главное.
— …У прадедушки раньше весь этот дом был, а после революции деду и его маме оставили только верх, две комнаты, — рассказывал Мик. — И то потому, что он воевал за красных…
— Если за красных, то какой же буржуй… — машинально сказал Симка. А внутри все тикало.
— Вот поди докажи дуракам… — вздохнул Мик по-взрослому.
— Мик, мне надо сбегать домой. Я пообедаю и вернусь.
— А давай у нас пообедаем! Алёна обещала карасей пожарить!
— Какая Алена?
— Ну… она с нами живет. Дочка старых друзей деда, студентка. Дед в одной комнате, а она в другой… Да ты не думай ничего такого, она не любовница какая-нибудь. Просто помогает ему по хозяйству…
— Я ничего такого не думаю, — ошарашенно сказал Симка.
— Оставайся!
— Мне надо домой. Если не приду на обед, тетя Капа крик подымет: «Маме расскажу!» Ей и без того есть что рассказать, а тут еще…
— Но ты вернешься?
— Во! — Симка в знак клятвы куснул украшенный чернилами мизинец. — Я скоро вернусь. И… открою еще один секрет!
— Какой? — Глаза Мика засияли от любопытства.
— Важный! Почему я ночью оказался здесь…
КЛЯТВА НАД РЕКОЙ
Симка вернулся во двор на Заовражной улице через полтора часа. Мик ждал его у козел с намотанной на бревно фанерой. Будто и не уходил с этого места. Симка глянул и понял: Мик истомился от ожидания.
Симка не стал тянуть резину. Вытащил из-под ковбойки свернутый план Турени.
— Вот. Я нашел это в стене, под старой картиной… Мы ведь не так давно живем в том доме, картина была там до нас. Я отодрал и нашел. И смотри — здесь знак.
Они расстелили карту на траве. Сели над ней, нагнулись. Значок Мика закачался над бумагой, от него запрыгал по отпечатанным изгибам реки и улицам солнечный зайчик.
— В точности где наш дом… — прошептал Мик, трогая чернильным пальцем крестик.
— В том-то и дело.
— Но… я не думаю, что здесь какой-то клад. Золота точно не было…
— При чем тут золото! Я не про него, а про нас… Когда я начал искать места с крестиками, вышел к вашему дому… Один крестик — там, где я живу, другой — на берегу, который обвалился, а третий… вот он… И мне кажется, здесь какое-то… совпадение…
— Какое? — тепло шепнул у Симкиной щеки Мик.
— Ну… будто кто-то нарочно сводил вместе… меня и тебя.
Прохладный ветерок прошел над солнечным двором — словно дыхание тайны.
— Тише… — опять шепнул рядышком Мик. Хотя никто не мог их услышать, пусто было вокруг, даже трофейный мотоцикл уже не торчал на дворе.
Мик опять потрогал крестик на Заовражной улице.
— Симка… а давай покажем деду?
— Я это и хотел!
По крутой и стонущей лестнице (почти как в Симкином доме) они поднялись в мезонин. Оказались в коридорчике, где пахло жареной рыбой. Мик толкнул узорчатую дверь с медной ручкой, потянул за собой Симку. Дед сидел на узкой кровати. Он быстро спрятал под подушку синюю папиросную пачку.
— Опять дымил! — Мик подбоченился, как строгая тетушка. Симка не ощущал ничего, кроме лекарственного запаха, но у Мика его нос-сапожок был, видать, натренирован.
— Ничего я не дымил! Просто… посмотрел, сколько осталось.
— Маме скажу.
— Ябеда.
— Ну и пусть ябеда… Ладно. Дед, смотри, что у нас есть.
— С ябедами не разговариваю.
— Да смотри же! — Мик взял у Симки план, шагнул, расстелил шелестящую бумагу на зеленой клеенке стола (потрескавшейся и прожженной).
Станислав Львович со скрипом встал. Нагнулся над столом, над картой, над мальчишками. Непонятно и долго молчал. Симка и Мик оглянулись. Дед широко улыбался, показывая прокуренные зубы.
— Дед, ты… знаешь, что это такое?
Станислав Львович за плечи развел Мика и Симку в стороны, согнулся сильнее, погладил бумагу длинными, с опухшими суставами, пальцами.
— Конечно, знаю… Это наша с Женькой Монаховым карта. Где вы ее взяли?
Разумеется, Симка тут же рассказал, как отыскал карту. Но про бутылку говорить пока не стал. Не потому, что хотел скрыть, а чувствовал: надо обо всем постепенно, по порядку. Чтобы не запутаться.
— Значит, ты живешь в Нагорном переулке, — обмякшим голосом уточнил Станислав Львович. Он все улыбался и мелко кивал. — Ну, ясно, ясно… Женька там как раз и жил. С матерью. Отца у них не было, а мать была модистка, портниха то есть. Довольно известная, без заказов не сидела, вот и жили. Снимали там комнаты у купца Красильникова. Сам-то он в том доме не обитал, сдавал жилье внаем…
«Я правильно догадался!» — радостно прыгнуло в голове у Симки. А Мик ему объяснил:
— Женька Монахов друг деда в детстве. Самый лучший. Они вместе учились в реальном… — Видно, Станислав Львович немало рассказывал внуку о школьных годах.
— Да… карту эту мы нашли в приложении к старому журналу и потом путешествовали с ней по городу. Как водится, искали приключений. Ну-ка, давайте сядем…
Он опять уселся на кровать, а Симка и Мик с двух сторон от него, на пропахшем папиросами кусачем одеяле. Мик нетерпеливо поерзал.
— Дед, с двумя крестиками ясно, это ваши дома. А третий-то… Может, там клад?
Станислав Львович снова покивал и посмеялся:
— Ну, всё как водится. Все мальчишки одинаковы… Нам тоже везде чудились зарытые сокровища. Но в этом месте никакого клада не было… Хотя…
— Что? — напряженно сказал Мик.
И Симка напрягся молча.
— Если выражаться слегка высокопарно, то можно сказать: там клад души. Или клад памяти…
— Это как? — нетерпеливо дернулся Мик. — Дед, ты запутанно говоришь…
— Ничего не запутанно… Просто однажды летней ночью мы с Женькой дали на этом месте друг другу клятву. В конце июня, как сейчас. И было это… братцы мои, да ведь ровно полсотни лет назад! Надо же, какое совпадение! Просто мистика…
«Одно совпадение за другим, — запрыгали Симкины мысли. — В самом деле волшебство». Он знал, что мистика и волшебство — похожие вещи…
— А про что клятва? — требовательно сказал Мик. Видимо, он привык не церемониться с дедом.
— Про что, про что… Про все на свете. Что дружить будем по гроб жизни, врать не будем и подлостей не будем делать. И чтобы людям была от нас польза…
— Как Герцен и Огарев на Ленинских… на Воробьевых горах, да? — не удержался Симка.
— М-м… похоже. А ты что, читал «Былое и думы»?
— Не читал еще… — вздохнул Симка. — Мне… тетя рассказывала, когда в прошлом году были в Москве.
— Да… Мы в ту пору Герцена тоже не читали. Было нам тогда по одиннадцать-двенадцать лет, вроде как вам нынче. Может, чуточку побольше… Ночевали мы тогда в летней кладовке, там, в Нагорном переулке. Была в ней у нас «каюта». Читали по ночам Майн Рида и Жаколио и мечтали о дальних странах. Были не разлей вода… И вот однажды в полночь подняло нас этакое вдохновение, пошли бродить по улицам, вышли к реке. Встали над обрывом, обнялись за плечи и… излили друг другу души… И верили тогда, что все так и будет, как обещаем.
«А было не так?» — чуть не вырвалось у Симки. Он прикусил губу. А Станислав Львович покашлял и заговорил опять:
— Помню, ночь была светлая-светлая. Шлепал по реке буксир «Добрыня» с огоньками… А мы стояли на обрыве и казались себе большими и сильными. Хотя с виду и внутри были, конечно, взъерошенные собственным волнением мальчуганы. В парусиновых косоворотках… вроде как штаны у Мика, только не в таких перемазанных… в фуражках, почти таких, как у Серафима, только не с якорями, а с буквами Тэ, Эр, У…
Симка запоздало сдернул фуражку, положил на колени.
Теперь самое время было спросить про бутылку: откуда она и что в ней?
Но Станислав Львович сказал сам:
— Там еще мы совершили такое дело… некий обряд. Нашли в беседке пустую бутылку (видать, пьяницы оставили), спустились к воде, вымыли посудину и закупорили глиной. А когда вернулись в каюту, сменили глину на сургуч, и Женька запечатал пробку своим пятаком. Пятак, помню, был новый, того года выпуска…
— А зачем это? — спросил Симка с непонятной опаской.
— Зачем… Женька сказал: сохраним навсегда воздух этой ночи. На память о детстве, которое когда-нибудь кончится… Он был такой, с некоторой… торжественностью в душе, что ли…
— Ты мне про это не рассказывал. Про бутылку… — ревниво сказал Мик.
— Разве? Значит, не пришлось как-то…
— А где та бутылка? — не отставал Мик.
— Ох, ты и спросил… Полвека прошло. Знать бы, где сам Женька Монахов, живой ли… — И Станислав Львович повернулся к Симке. — Раскидало нас в разные стороны, когда началась Гражданская. Он учился в Москве, в университете, хотя поступить туда после реального училища было ох как непросто. Историком думал стать. А я — в технологическом, в Петербурге. Когда начались военные события, потеряли мы друг друга, не виделись больше…
Симка встал, нервно почесываясь (то ли от возбуждения, то ли от одеяла). Он — знал! Ну, конечно, не про Женьку Монахова, но про бутылку-то знал! И желание выложить все про разгадавшуюся тайну жгло язык… Но открылась дверь, и в комнату просунула голову широколицая веснушчатая девица с косой.
— Эй, мальчишки! Там осталась еще куча жареных карасей. Хотите?
— Хотят, хотят, Алёнушка! — почему-то обрадовался Станислав Львович. — Забирай этих друзей к себе. А я вздремну…
Мик подозрительно посмотрел на деда. А Симка… он вдруг понял, что да, очень хочет жареных карасей. Обед тети Капы был, как всегда, скудноват и, кажется, успел перевариться. А бутылка… никуда она не денется за полчаса, если ждала полсотни лет!
Они съели в похожей на кухню Алениной комнатушке карасей, сказали спасибо, вытерли о штаны пальцы, и тогда наконец Симка решительно заявил:
— А теперь ко мне!
— Зачем? — удивился Мик. — Мы же все принесли.
— Нет, не все.
— А что еще?
— Придешь — увидишь. Это такая тайна, что просто… ты обалдеешь
— Симка, скажи! — взвыл Мик.
— Придешь — увидишь, — опять пообещал Симка.
— Снова в такую даль тащиться… — заныл Мик.
— Зато не пожалеешь!
Пока они босиком (обувь все еще сохла) торопливо шагали по логу вдоль ручья и Туреньки, Мик стонал, чтобы Симка немедленно рассказал про тайну. А Симка делал таинственный и дурашливо важный вид. Мик даже надулся слегка, но сразу засмеялся. И бросил в Симку мячом, который снова тащил с собой:
— Ладно. Ты меня это…
— Что?
— За-ин-три-го-вал.
— То-то же…
Дома, когда Симка выволок на свет ранец и бутылку, Мик округло приоткрыл рот, и его глазки стали в два раза больше.
— Это… та самая?
— Конечно! Смотри, пятак отпечатан, как раз того года, тысяча девятьсот десятого… И ранец, наверно, его… Жени…
— Дед обалдеет! Давай покажем ему прямо сейчас!
— Не покажем, а отдадим. Это же его …
Станислав Львович дремал на кровати, когда Мик и Женька снова появились в его комнате.
— Дед, проснись! — бесцеремонно потребовал Мик. — Смотри, что у нас!
— М-м…
— Не «м-м», а смотри!.. Узнал?
Севший на кровати дед узнал . Посидел, опираясь о кровать узловатыми кистями рук, поглядел, прищурившись, заулыбался (снова знакомо, как Мик), протянул руки. Побаюкал бутылку, как девочки баюкают любимую куклу. Поднял на мальчишек глаза.
— Где взяли-то?
— Там же, где план… — сказал Симка. И теперь он подробно, не скрывая даже ночных страхов («Ну, как-то не по себе стало в одиночку»), поведал Станиславу Львовичу и Мику историю про тайник.
— Надо же… — Станислав Львович погладил бутылку, как живую.
— Ранец, наверно, Жени Монахова… — заметил Мик.
— Скорее всего… Хотя не помню, какой у него был…
— А картину помните? — спросил Симка.
— И картину не помню. Наверно, она случайная какая-то. Женька живописью не занимался, мама его, как вы понимаете, тоже… Надо было чем-то закрыть тайник, вот он и прибил…
— Но неужели ты и про тайник не знал? — не отставал Мик.
— Не знал… Насколько я помню, бутылка стояла всегда у Женьки на полке. Думаю, он спрятал ее позже. Наверно, когда уезжал в Москву…
— И ничего тебе не сказал?
— Возможно, постеснялся… Мы, когда подросли, стали немного другими. Он всегда оставался этаким… с некоторым восторгом в характере. А я строил из себя трезво мыслящего технаря…
— Станислав Львович… А в бутылке, значит, так и остался воздух той ночи? Как в машине времени?
— Выходит, что так…
— Будешь открывать? — осторожно спросил Мик.
— Да с какой стати! И вообще… вы, ребята, забирайте-ка эту штуку себе. Она теперь ваша добыча. Так сказать, по наследству…
Симка хотел заспорить, но Мик глянул на него: не надо.
— Дед, я спрячу ее у себя. И ранец… — и опять посмотрел на Симку: — Можно?
— Конечно!
— Это будет наше общее, — шепнул он уже одному Симке, и у того шевельнулось внутри пушистое тепло.
Но все же Симку покусывала тревога. И он решился на вопрос:
— Станислав Львович, а вы, хотя и сделались разные, все равно дружили? Пока не разъехались?
— Разумеется! Я и сейчас Женьку помню, будто вчера расстались. Думаю, и он меня… также…
— А найти друг друга никак было нельзя?
— Старался… Увы… Я уверен в одном: клятву нашу он не нарушил. Как и я… То есть мерзавцами мы не стали…
Сделалось какое-то неловкое молчание. На несколько секунд. Станислав Львович покашлял опять, положил бутылку на одеяло и, не глядя на ребят, проговорил:
— Потому что у настоящей дружбы есть закон. Возможно, это даже закон природы… Там прочная ось, которая не меняет направления в пространстве… Мик, ну-ка крутани свой мяч…
Мик с готовностью взял мяч на поднятый указательный палец, хлопнул его раз, другой, третий… Мяч завертелся на пальце и… не упал! А Мик все подгонял его вращение.
— Как в цирке! — искренне восхитился Симка.
— Это нетрудно, — объяснил Мик. — Если мяч вертится быстро, он не упадет…
— Потому что действует закон гироскопа, то есть вертящегося волчка, — растолковал Станислав Львович с важностью, словно сам изобрел этот закон. — Ось гироскопа не меняет своего положения, как бы ни мотало всю Вселенную…
— Это как движение маятника Фуко! Да? — обрадовался Симка.
— Именно, именно… Смотри-ка, тебе известно про маятник Фуко!
— Я его видел в Ленинграде, когда мы с тетей Норой ездили…
— С кем, с кем?
— С Норой Аркадьевной, с моей тетей…
— Голубчик, а как фамилия у Норы Аркадьевны?
— Селянина… Вы ее знали?
— Еще бы! Она… да, как же не знать. Когда были у меня неприятности, она весьма и весьма старалась мне помочь. Не очень получилось, правда, но тут уж не ее вина… Постой, Серафим! Ты сказал знали ?
Симка зашевелил пальцами босых ног. Щекотнуло в гортани.
— Она умерла зимой…
— Господи боже ты мой… — как-то по-женски выговорил Станислав Львович. Посидел, согнувшись, несколько секунд, встал, мимо Симки и Мика прошел к окну, стал смотреть на двор. Локоть его шевельнулся, и Симка понял: Станислав Львович быстро перекрестился.
Потом он сказал, не оглянувшись:
— Ладно, братцы, вы идите, играйте… Я еще передохну…
Мик осторожно взял с постели бутылку, спрятал в ранец, а ранец поставил рядом с этажеркой. Потом он и Симка спустились во двор. Мик оглянулся на открытые окна мезонина.
— Сейчас, наверно, опять приложится к четвертинке. Он ведь уже… Ты не заметил, а я-то сразу чувствую…
— Не надо было говорить про тетю Нору, да?
— Разве такое скроешь, — умудренно вздохнул Мик.
Полуботинки Симки и сандалии Мика уже просохли на солнышке. А намотанная на бревно фанера была, конечно, сырая. Мик похлопал по трубе.
— Подождем до завтра, да?
Симка, нагнувшись, завязывал шнурки.
— Мик… А те неприятности, когда помогала тетя Нора, это из-за стихов, да?
— Думаю, что да…
— Мик, а какие были стихи? Не Пастернака?
— Нет. Они называются «Капитаны». Хорошие, мне дед читал. Даже непонятно, что в них нашли такого … Наверно, потому, что поэт запрещенный. Как тот писатель, у твоей книжки…
— Мик, а какой поэт? Я никому… Или ты не помнишь?
— Помню. Гумилёв.
Симка выпрямился. Он даже не удивился. Все сошлось в одну точку. Словно так и должно было быть.
— Мик, а у меня есть целая поэма Гумилёва.
— Правда? — Мик тоже выпрямился. — Какая?
— Мик…
— Что?
Симка не удержался от смеха.
— Поэма так называется — «Мик».
ДВА МИКА
Мик спросил у деда, можно ли ему переночевать у Симки, и без труда получил разрешение.
Они договорились, что ночью будут читать поэму Гумилева. Симке хотелось именно ночью — чтобы все было как в прошлом году, в Ленинграде. И Мику хотелось — потому что он понимал: это важно для Симки.
Но до ночи было еще далеко. Они искупались на запруде, потом сходили на реку и там искупались тоже. Теперь-то был день и Симка купался не один, так что все мамины условия были соблюдены. И Симка цыкнул на Которого Всегда Рядом , когда тот пытался осторожничать и напоминать: «Да, ты не один, но Мик плохо плавает. В случае чего тебя он не спасет…»
«Зато я его спасу! И не суйся!..»
Мика, однако, спасать не пришлось. Пловец он был, конечно, средненький, однако стилем «по-собачьи» вместе с Симкой бодро добрался до ближнего быка-ледореза. Там улеглись на гребне, греясь на горячем железе.
Мик, подрагивая тощим, пятнисто загорелым телом, попросил:
— Только родителям не проговорись, что я тут купался. И деду… На запруду ходить они разрешают, а на реку, наверно, не отпустили бы…
Симку это царапнуло. Получается, что он втравил Мика во вранье и запретное дело. Но тот сразу догадался о Симкиных мыслях и утешил:
— Это не вранье вовсе, а просто молчание. Вот если бы я спросил разрешенья, а мне бы сказали, что нельзя, а я бы все равно удрал, тогда другое дело…
Мик был, оказывается, хитроват. Впрочем, от этого он не стал для Симки хуже. Тем более что Который Всегда Рядом тут же напомнил: «Сам-то хорош! С линзой сунулся в заплыв — это, мол, не купанье… Вот узнает мама!»
«Ну и узнает! Сам скажу… Потом…»
Поужинали у Мика. Алена покормила их картофельными котлетами с остатками карасей и клюквенным киселем. Поэтому дома Симка сказал тете Капе, что есть не хочет, был в гостях. Та поворчала, но не настаивала…
Убрали обратно в тайник ранец и уложенную в него бутылку. Мик настоял.
— Пусть хранятся в привычном месте, раз дед отдал их нам…
Когда совсем уже вечерело, Симка предложил сходить на то место, где в давние времена стояла беседка и где Стасик Краевский и Женька Монахов давали свою клятву.
Мик согласился. Он вообще легко соглашался. И они пошли. Конечно, никакую клятву давать они не собирались. Смешно было бы — меньше чем через сутки после знакомства! (Хотя казалось, что знакомы целое лето.) Они просто постояли на обрыве, у глинистого обвала, под рыжеватым, катящимся за монастырь солнцем. Вдохнули пахнувший речной влагой и береговой полынью воздух и пошли к Симкиному дому.
Когда опять оказались в комнате, солнца уже не стало видно. А дожидаться настоящей ночи было бесполезно — темнота (и то неполная) сгустится только после полуночи. Да и не нужна она была, эта темнота, — ведь в Ленинграде ее тоже не было…
Заранее приготовили постели. Для Мика Симка развернул звонкую упругую раскладушку — на ней обычно спал Игорь, когда приезжал в свои короткие отпуска.
— Ну, давай… — сказал Симка. И вдруг сильно заволновался: понравится ли африканская сказка Мику? Поймет ли он в ней то, что понимает Симка? — Если покажется скучно, ты скажи. Она ведь вся в стихах и длинная…
— Ну и что? Я «Руслана и Людмилу» в прошлом году за один вздох одолел!
Симка сел на подоконник. Мик устроился рядом, верхом на стуле — руки на спинку, щеку на руки, выжидательно так…
Света с улицы вполне хватало. Симка поставил на подоконник пятки, положил на колени сшитые листы и вздрогнувшим голосом прочитал первые строчки:
Сквозь голубую темноту, Неслышно от куста к кусту…Мик слушал внимательно. Он не притворялся, ему правда было интересно. Он почти не дышал и не шевелился. Иногда только поворачивал голову — ложился на руки другой щекой. И не перебивал. Лишь изредка, если Симка умолкал, чтобы перевести дыхание, Мик задавал вопросы:
— А как, по-твоему, выглядел Дух Лесов? Ну, понятно, что на огненном слоне. А сам он какой?
— По-моему, громадный, как туча. Такой он, весь клубится, и в нем перемешаны всякие листья и клочья… А сквозь эту мешанину проступает лицо. Большущее такое, и глаза горят…
— Похоже… — шепнул Мик и шевельнул плечами, будто страшновато сделалось.
Потом спросил еще:
— А кто такой Буссенар?
— Писатель был, француз. Я его книжку читал, брал в библиотеке. «Капитан Сорви-голова». Про мальчишек, которые чуть постарше нас. Они воевали за свободу буров… Интересная…
А на середине поэмы Мик вдруг заинтересовался:
— Когда же это всё было? Сперва кажется, что в старину, а потом там про аэроплан, про небоскреб, на который был похож утес обезьян…
— Тетя Нора говорила: в начале века. Значит, лет пятьдесят назад…
— Это когда дед и его друг были как мы сейчас… А как ты думаешь, у Луи был матросский воротник?
Симка удивился неожиданному вопросу:
— Не знаю… Может быть. Написано, что на нем белый наряд. Конечно, это мог быть матросский костюм.
— Ну да! Тогда многие мальчики их носили. У нас карточка деда есть, когда он еще не был реалистом. Он в таких, как у меня, штанах и в белой матроске с галстуком… Даже не верится, что дед.
— Наверно, на тебя похож? — Симка вспомнил улыбку Станислава Львовича.
— Да!.. Ну, давай дальше! Или ты устал? Тогда могу я…
— Не устал… А тебе не надоело слушать?
— Что ты!
И Симка читал дальше. И порой казалось, что вернулся Ленинград …
Симка не помнил, как читала «Мика» тетя Нора — с выражением или без. Он тогда просто ощущал ритм стихотворных строчек, и это было похоже на жужжание киноленты, которая крутит перед глазами удивительный фильм. И теперь этот фильм снова прокручивался в голове. И, конечно, не было в Симкином чтении никакого артистического мастерства. Наоборот, была, наверно, звонкая монотонность. Но Мик слушал неотрывно. Может быть, тоже видел кино ?..
Отблески солнца погасли на крышах. Строчки на бумаге были еще различимы, но уже мутновато. Симка включил на столе лампу, повернул в сторону окна эмалированный абажур. Волосы Мика медно заискрились. Он нетерпеливо шевельнул плечами:
— Давай дальше.
…Наконец история про африканского Мика кончилась. Симка перевернул на коленях последний лист самодельной тетради. За окнами была настоящая белая ночь со слюдяными проблесками. Где-то далеко-далеко радиола играла песню про голубку.
Помолчали. Мик почесал щеку о кисть руки и тихо сказал:
— Такая хорошая сказка. Прямо все как… совсем живое. Только жалко…
— Что жалко? — слегка ревниво откликнулся Симка. Ему не хотелось, чтобы Мик нашел в этой сказке хоть что-то плохое.
— Многих жалко, — вздохнул Мик, не поднимая головы. — Луи погиб, жаворонок погиб… Отец Мика погиб… Непонятно, почему Мик простил этого… Ато-Гано. Тот убил его отца…
— Он убил его в бою, в честной схватке. И он не знал, что это отец Мика… А Мик его простил, когда тот сделался уже старый и слепой. Пожалел…
— Я бы, наверно, не смог пожалеть…
— Потому что ты не такой Мик… — осторожно сказал Симка. И тут же забоялся: не обидел ли «не такого Мика»?
Но тот сразу согласился:
— Ясно, что не такой, куда мне… Если сравнивать, я, наверно, больше похож на Луи. Тоже бестолковый и безалаберный. Но, конечно, не такой храбрый, даже наоборот…
— По-моему, ты зря на себя наговариваешь. Про свою боязливость…
— Ничего не зря. Я бы ни за что не решился в джунгли сбежать. Потому что все время бы думал: что там с родителями делается? И с дедом… А Луи глазом не моргнул.
— Это вовсе и не смелость, а дурость, — убежденно заявил Симка. Потому что тут же представил, как он удирает в Африку, а мама с Андрюшкой остаются одни…
Подумал и добавил:
— Но все же Луи мне нравится. Он совсем не важничал перед Миком, хотя тот был черный раб, а он белый богач… И он не дрогнул в бою с пантерами, дрался до конца.
— Вообще-то он хороший, — согласился Мик. — Зря только ему хотелось воевать…
— Начитался Буссенара… Я когда про капитана Сорви-голову прочитал, мне тоже хотелось схватить винтовку и бах-бах… Мы с одним мальчишкой целый день потом играли среди бурьяна в такую войну…
Симка не стал уточнять, что играли они с Климом Неговым, с которым потом раздружились.
— Давай ложиться. Смотри, час ночи уже… — Он кивнул на ходики, и те сразу застучали громче и отчетливей.
Выключили лампу, улеглись в постели. Мик подребезжал раскладушкой и заговорил опять:
— Все-таки Луи не был другом Мика, да? Мик был его другом, а он — нет… Он Мика бросил…
— Да… Но все же, если бы Луи увидал, как на Мика нападают враги или хищники, он бы сразу кинулся на помощь. Думаешь, нет?
— Кинулся бы, да! Это правильно… И они вдвоем всех бы победили. Потому что, когда двое, силы и храбрости тоже в два раза больше.
— Может, и не в два, а в двадцать два, — сказал в светлых сумерках Симка и почему-то смутился.
Мик снова поскрипел раскладушкой.
— А больше всех жалко жаворонка. Луи, он все-таки не совсем погиб, а оказался у этого… у архи… стра…
— Архистратига Михаила. И там он, наверно, скучал по Мику.
— Наверно… А жаворонок погиб совсем… Если бы он упал ко мне, я бы взял его в руки и дышал, дышал на него, пока не оживет…
— Может, и Мик дышал, только про это не сказано.
— Может быть… Сим, а я на Мика в одном деле был немного похож…
— В каком, Мик?
— В прошлом году, в пионерском лагере. Я первый раз в лагерь попал, и… ну такая тоска взяла, особенно в первые дни. До того домой хотелось, что… даже слезы из глаз. Уйду куда-нибудь к забору и сижу там в репейниках. А потом познакомился с собакой, с Пиратом. Он был дяди Коли, сторожа. Большой такой, косматый и злющий, на всех гавкал, не подпускал. А меня увидел и вдруг хвостом замотал. Гавкает, но не сердито, а будто ждет… Я и подошел…
— А говоришь, что боязливый…
— Не, я собак не боюсь. Я подошел, сел рядом, даже обнял его… Наверно, как Мик павиана… А он мне стал щеку лизать… Я с тех пор к нему все время приходил. Сидел и рассказывал что-нибудь, а он слушал… и вздыхал почему-то…
— А сторож тебя не гонял?
— Нет. Наоборот, говорил: ты приходи почаще, а то ему скучно одному на цепи…
— А потом?
— Потом я к лагерю привык, конечно, а к Пирату все равно бегал каждый день. А когда пришлось уезжать… он завыл даже, потому что понял, что я пришел прощаться. А я… тоже чуть не завыл…
Мик замолчал и стал дышать ровно, и Симка решил, что он засыпает. И самого его стала окутывать дремливость, в которой шевелились уже черные листья и лианы с проблесками луны… И вдруг Мик сказал:
— У вас дом такой же, как у нас. Живой. Кряхтит во сне от старости…
— Ага, он такой… — И Симке вдруг подумалось, что Мику, наверно, страшновато в этом хотя и в «таком же», но все же не в своем доме, в этих сумерках, которые разделяются на секунды отчетливыми ходиками.
Симка встал и придвинул раскладушку вместе с Миком вплотную к дивану. Мик не удивился и ничего не сказал. Только задышал громче, благодарно так.
Помолчали. Погудел на реке буксир, дохнуло в окно тополиным ветерком.
— Симка…
— Что, Мик?
— А давай покажем эту сказку деду… Или нельзя?
— Конечно, покажем!
ТЕЛЕСКОП
Тетрадь с «Миком» несли они, словно тайное донесение через границу, секретный документ. Симка специально надел под ковбойку майку, засунул тетрадь под нее, прямо к голому животу, а ковбойку завязал на животе узлом — для надежности. Мик шел рядом и покачивал в руках красный мяч — будто это была старинная круглая граната, которую можно взорвать, если нападут враги.
Никто не нападал. Но все же к Заовражной улице Симка и Мик снова пошли руслом Туреньки и ее притока — словно скрывая следы.
На середине пути тревожиться надоело. Мик начал дурачиться: бросал далеко вперед мяч и ждал, когда течение принесет его к ногам. Симка похлопывал снятыми башмаками по коленям и мурлыкал:
На далеком севере Эскимосы бегали…Мик спросил:
— Это что за песня?
Симка поперхнулся — он был уверен, что поет про себя. Делать нечего, он признался, что напевал песенку «про морж у », и удивился, что Мик ее не знает. Мик захотел узнать.
Симка, сперва запинаясь от неловкости, начал декламировать строчки. А потом осмелел и вторую половину песенки (ту, что придумал во время заплыва) уже пропел. Мик, закидывая голову, рассыпчато смеялся. Последний куплет спели еще раз, уже вдвоем:
Ну и фиг с тобой, моржа, Ну и пусть ты убежа… Ну и пусть ты убежа… Ла-ла-ла…Дед в этот день был тоже весел и бодр. Он даже казался моложе, чем вчера — подтянутый такой, в белой рубашке под пиджаком, побритый. Словно заранее ждал чего-то хорошего. Мурлыкал под нос и совсем не кашлял.
— Дед, мы тебе принесли… кое-что… — загадочно произнес Мик. И оглянулся на Симку. Тот, задрав подол, выволок мятые листы.
— Вот…
— Что это? — Станислав Львович почесал согнутым мизинцем бровь.
— Гумилев… — пробормотал Симка и почему-то сильно заробел. — Поэма «Мик»… Мы подумали: может быть, вам интересно…
— Ничего себе, «может быть»! Я эту вещь раньше никогда не читал!.. Но откуда она у вас?
— От Норы Аркадьевны, — вздохнул Симка. — Она прислала… в последнем письме.
— Понятно… — Станислав Львович осторожно взял тетрадь в ладони (покачал даже, будто пробуя на вес).
— Но это только почитать, а не насовсем… — виновато сказал Симка.
— Разумеется, разумеется…
— Дед, ты смотри никому ни слова… — строго, словно маленького, предупредил Мик.
Станислав Львович глянул на внука сверху вниз.
— Это ты мне говоришь? — От такого тона и взгляда Симка уменьшился бы в два раза. Но Мик только хихикнул.
— Симка, пошли! Там, наверно, уже высохло…
Закрученная на бревне фанера и правда высохла. Долго вытаскивали кусачками гвозди. Мик при этом чертыхался сквозь зубы, а Симка пыхтел. Снятый фанерный лист слегка развернулся, но было понятно, что при новом скручивании он не окажет сопротивления.
Мик приволок из сарая длинную рейку. Надо было прибить к ней кромки фанеры — сшить трубу. Делали это снова на бревне. Труба сшилась охотно и быстро (Мик умел работать молотком, Симка даже позавидовал). Но тут до обоих работников дошло: чтобы стянуть готовую трубу с бревна, сначала необходимо снять бревно с козел.
Поднатужились. Но, как и вчера, силенок оказалось маловато.
Звать деда Мик не хотел: во-первых, он читает, не следует его отвлекать, а во-вторых, вредно же ему ворочать тяжести…
К счастью, появилась на дворе Алёна. Она была девица крепкая, втроем сняли бревно и поставили торчком. Затем, перебирая руками, стали поднимать трубу — выше, выше и наконец уронили в траву (а заодно и бревно — чуть не на Алёну). Мик с удовольствием постукал по гулкой трубе кулаком.
— Что это вы такое смастерили? — заинтересовалась Алёна.
— Орудие, — сказал Мик.
— Вот мама даст тебе «орудие». Во что штаны превратил за одни сутки…
Штаны, вчера утром сверкавшие белизной, сегодня были серыми и пятнистыми. Как и положено настоящей парусине, побывавшей в штормах.
Мик сказал, что не в штанах счастье. Алёна сказала, что он дурень, и ушла. Она была спокойная и добрая. А Мик в этот момент запоздало сообразил:
— Ох, надо было раньше догадаться! Ведь внутри телескопная труба должна быть черная, чтобы лишний свет не отражался! Я читал…
Симка вспомнил, что и сам читал про это в «Занимательной оптике». Огорчился:
— Теперь то что? Не расклепывать же обратно…
— Можно выкрасить и так. Просунуться туда с кистью…
— А чем красить-то?
— У нас есть банка черной краски. Называется «печной лак». Сохнет очень быстро!
Мик был человек дела. Тут же притащил из сарая жестяную, с черными подтеками банку и кусок мешковины. Тряпку намотал на палку.
— Вот! Будем макать и мазать!
— Мик, давай разденемся, — мудро предложил Симка. — Если перемажемся сами, как-нибудь отмоемся. А штаны и рубахи фиг отстираешь от этого лака.
Они остались в трусиках и принялись за работу. Хватило ума начать не с края, с середины. Мик обмакнул самодельную кисть в банку, вытянул ее вперед, как шпагу, съежил узкие плечи и ринулся в трубу, словно в глотку удава. Симка слышал, как он там возит мешковиной с краской по фанере и поет:
Мы покрасили моржу, Не вылазя наружу , Не вылазя наружу Из тру-бы…Несколько раз он все же выбирался «наружу », чтобы погрузить в банку «мазилку». И хотя он вылезал задом наперед, можно было подумать, будто он проделал свой путь через покрашенную часть трубы.
Симка всякий раз говорил:
— Давай теперь я…
— Подожди! Ты будешь с другого конца.
Наконец настала Симкина очередь. И он сразу понял, что такая работа — не сахар (и подивился мужеству Мика). Фанера стискивала со всех сторон, локти нельзя было согнуть, палка с пропитанным краской тампоном не слушалась. К тому же печной лак отвратительно вонял. Если бы не стыд перед Миком, Симка плюнул бы на это дело. Но он не плюнул. Как и Мик, раком выбирался из трубы, обмакивал тряпку и нырял снова в черную пасть…
К счастью для Симки краска кончилась и работы на его долю досталось меньше, чем Мику.
Решили, что сгодится и так. Тем более что краски все равно больше не было. Поглядели друг на друга. Мик захихикал, а Симка с грустной ноткой сказал:
— Тебя не надо отмывать. Лучше докрасить окончательно. И получится настоящий черный Мик.
— Лучше тебя выкрасить…
— Меня-то зачем? Это ведь ты Мик , а не я.
— Я не настоящий, — вздохнул Мик.
— Покрасить, и будешь настоящий. Сразу можно в Африку…
— Тогда уж поскорее. От маминой взбучки… Тебе хорошо, мамы дома нет…
— Уж куда как хорошо, — сразу опечалился Симка.
Мик тут же увял:
— Ну, я это… я не так хотел сказать. Сим, не обижайся…
— Да ладно, — великодушно простил его Симка. — Смотри, Станислав Львович идет.
Дед Мика подошел, оглядел «маляров», подбоченился. В его взгляде не было теперь никакого намека на «бельмастость», а было веселое ехидство.
— Жил когда-то в Голландии знаменитый художник Иероним Босх. Страсть как любил живописать сцены ада. Вы бы ему очень пригодились для натуры.
— Зато мы покрасили внутри трубу! — похвастался Мик.
— Понятно. Дело ваше — труба… Стоять и не двигаться. Ждать меня. За попытку к бегству кара будет двойная… — И Станислав Львович удалился.
— Интересно, что за кара? — спросил Мик, пряча за беспечностью тона беспокойство.
— Адекватная обстоятельствам, — пожал плечами Симка. И тоже постарался сохранить беззаботный вид.
Станислав Львович вернулся с четвертинкой и куском ваты. Уловив брошенный на четвертинку взгляд Мика, он усмехнулся:
— Это не то, что ты думаешь. Это скипидар.
— Я больше не буду! — изобразил панику Мик (чтобы скрыть панику настоящую).
— Цыц!.. Если будете стоять смирно, щипать не станет. А если попадет под хвост — сами виноваты. Ну-ка…
Дед оттирал их минут пятнадцать. Потом закупорил остатки скипидара комком ваты и скомандовал:
— А теперь брысь на запруду! Смывать все ароматы!
Хорошо, что на запруде никого не оказалось. А то бы их наверняка прогнали за скипидарную вонь. Симка и Мик отмывались долго. А потом еще плескались и бултыхались просто так, для удовольствия. Перекидывались мячом…
Выбрались наконец, отжали на себе трусики, разлеглись на песчаном пятачке. Солнце жарило спины.
Оно стояло высоко, горячее июньское солнце, но время было уже послеобеденное. Это и понятно. Ведь проснулись-то Симка и Мик поздно, а потом, до «телескопных» забот, было еще немало дел. Во-первых, позавтракали пшенной кашей, которую Симка принес от тети Капы в кастрюльке. Затем навестили маму и Андрюшку в больнице. Узнали от мамы, что «теперь уж совсем скоро», и по дороге Симка забеспокоился:
— Мама вернется, а в доме… будто после Куликовской битвы. Знаешь что? Ты иди домой, займись там всякой подготовкой с трубой, а я приду, когда приберусь. Лучше заранее порядок навести, чем в последний момент… — Он не любил, если что-то виснет на душе.
Мик сказал, что приберутся они вдвоем, это будет быстрее в два раза.
Взяли дома канистру и тележку, отправились на колонку. По дороге встретили Фатяню. Такое вот совпадение — он попадался на пути чуть ли не каждый день, будто по заказу!
— Ну, как? — спросил Симка по-приятельски.
— Зачислили. Куда надо…
— Нашими стараниями! — Симка выставил вверх палец с бледным следом чернил. — Мик, тоже покажи.
Показал и Мик.
Фатяня сказал с серьезностью:
— Вы, парни, молотки. Не забуду. С меня магарыч.
— А это что? — не понял Мик.
— Это… Ну по-восточному вроде как гонорар. То есть вознаграждение за труды.
— Да ладно тебе, — отмахнулся Симка. — Палец макнуть что за труд…
Фатяня увесисто пообещал:
— Стану стармехом, буду вас бесплатно возить на своем теплоходе.
Он сходил с Миком и Симкой до колонки, помог довезти канистру, отнес ее по лестнице до самой двери. Потом сбежал по ступеням и окликнул снизу:
— Зуёк, на минутку!..
Скатился вниз и Симка.
— Чего?
Фатяня сказал вполголоса:
— А этот твой Мик, он откуда и кто? Что за пацан? До вчерашнего дня я его не встречал.
— На Заовражной улице живет.
— Видать, вы друзья?
— Ага… то есть да, — машинально сказал Симка и неловко замолчал. Можно ли называться друзьями после такого короткого знакомства?
— Повезло вам… На вас на двоих глядеть хорошо.
— Почему? — скованно сказал Симка.
— А вот… Вы шагаете рядышком, будто один человек, дружно так. Будто на одном моторе… Всегда мне хотелось такого вот дружка, чтобы рядом. Да все как-то… Ладно, удачи вам…
На кухне Мик спросил:
— Почему он зовет тебя так? «Зуёк»?
— Прозвище такое, из-за фуражки. Значит «северный юнга»…
— А-а! Хорошее прозвище.
Но после Мик никогда не звал Симку Зуйком. Это имя оставалось для школы и для улицы…
Да, Мик был человек умелый и работящий. Они лихо вымыли в комнатах и на кухне полы, а потом и посуду — две тарелки, два стакана и ложки. Протерли на столах клеенки, смахнули пыль с подоконников, разложили по местам раскиданные вещи. Мало того, Мик предложил сбегать в лог за цветами. Там вблизи Туреньки были лужайки, где росли крупные, как на лугах, ромашки.
Симка засомневался:
— Мама ведь еще не сегодня…
— Ну и что? Ромашки целую неделю стоят как свежие!
Сбегали, нарвали, поставили в литровую банку. И лишь тогда отправились к Мику — возиться с трубой.
…Пришло время обеда, и сейчас, у запруды, они оба ощутили, что голодные до жути.
— Я готов съесть моржу . В невареном виде, — сказал Симка.
— Если Алёна не даст нам чего-нибудь, я сглодаю трубу, — пообещал Мик.
Алёна дала окрошку и яичницу. А потом еще по кружке молока. Такое молоко с краюхой уже само по себе — целый обед.
Они вывалились из-за стола и, постанывая от сытости, спустились на двор. Конечно, работать не хотелось. Но работать было надо. Мик сказал, что через два-три дня (то есть ночи) Луна «превратится в сплошное новолуние, и тогда фигушки что на ней разглядишь».
— У нее такой характер, я ее знаю…
Луна и сейчас демонстрировала свою готовность «превратиться в новолуние». Она висела над забором среди бела дня, в солнечном небе, и размером была меньше половины.
К счастью, появился Станислав Львович, начал помогать. На ходу придумывал, что как устроить. Одно слово — инженер. Прибил к внутренней стороне у среза трубы несколько брусочков, чтобы закрепить на них объектив. Ручной дрелью просверлил в них дырки, а потом — и в пластмассовой рамке линзы. Отыскал в кладовке несколько болтов с гайками. И вот объектив заблестел на трубе, словно это был настоящий телескоп в обсерватории.
Сложнее обстояло дело с окуляром. Но Станислав Львович и здесь нашел выход. Полукругло опилил и приладил на другом конце трубы кусок доски, просверлил в нем отверстие сантиметров пять шириной. В него вставил отрезок дюралевой трубки от оконного карниза. Иначе бы не хватило фокусного расстояния и нельзя было бы его регулировать.
Мик и Симка всадили в трубку Сонино стеклышко, закрепили бумажными прокладками. А дед в это время заделал кусками картона пустые места рядом с доской.
Вот и все! Можно было испытывать новый астрономический прибор!
Бревно снова положили на к о злы, а поперек бревна — телескоп. Решили навести его на Луну. Хотя и бледная, дневная, но все-таки… Однако Луна — то ли от смущения, то ли из вредности — уже спряталась за кромкой забора. Тогда направили объектив на верхушку высоченного тополя, что рос далеко за логом. Сперва ничего не было видно. Но Симка шевелил, шевелил окуляром, и вдруг в обрамлении радужных пятен возник яркий тополиный лист! Будто перед самым носом!
— Смотрите!
Мик посмотрел. Восторженно выдохнул:
— Вот это да… Дед, погляди.
Тот поглядел и покивал:
— Впечатляет. Ночью можно будет, наверно, разглядеть и что-нибудь космическое. Особенно при некоторой доле воображения…
— Дед, еще бы подставку какую-нибудь… — Мик, пританцовывая, смотрел на Станислава Львовича. Дед и на этот раз не подвел.
— Помнится мне, друзья мои, что с давних пор валяется где-то на чердаке оправа от разбитого зеркала. Круглая рама с винтами, чтобы можно было поворачивать. На крепких чугунных лапах… Эй, постойте! Осторожнее на лестнице!
На чердаке было не темно. Свет падал через распахнутую застекленную дверцу и, кроме того, протыкал воздух тонкими лучами из всяких отверстий. Однако по углам все же шевелились мохнатые тени — на то и чердак старинного дома. Пахло рухлядью, сухой землей и опилками.
Мик ворчал:
— Я тут сколько раз лазил, никакой рамы не видел…
— Потому что не искал… Смотри, это не она? — За кривым кованым сундуком Симка разглядел что-то похожее на большую птичью лапу из чугуна.
Потянули. Вытащили. Это и в самом деле оказалась круглая металлическая рама в развилке. Развилка держалась на тяжелой подставке из этих самых «птичьих лап».
Ну будто специально для телескопа!
— Во какой у меня дед, — сказал Мик, словно Станислав Львович нарочно для них добыл где-то эту штуку.
Присели на сундук передохнуть. Симка, трогая локоть со свежей царапиной, сказал наконец о том, что его беспокоило последние два часа:
— Интересно, прочитал твой дедушка «Мика» или нет…
— Конечно, прочитал! За это время можно «Тихий Дон» одолеть.
— Ты читал «Тихий Дон»? — усомнился Симка.
— Нет. Зато видел, какой толстенный.
— А если он прочитал, почему ничего не говорит?
— Некогда было… Сейчас пойдем и спросим.
— Боязно как-то… — признался Симка.
— Почему?!
— Не знаю… — Симка чувствовал себя так, словно он сам сочинил «Мика» и теперь отдал на суд строгому учителю.
— Ничего не боязно. Пошли…
Они стащили по лестнице увесистую подставку. Станислав Львович ждал на дворе, у телескопа.
— Ага! Разыскали!
— Дед! — взял быка за рога Мик. — Ты прочитал то, что дали?
— Странный вопрос. Чем же я, по-твоему, занимался?
— А тогда почему молчишь?
— А чего говорить?.. Гумилев есть Гумилев. Конечно, это не самая известная его вещь, но… своеобразная. У вас небось душа замирала, когда читали. А?
— Замирала… — шепотом сказал Симка.
И Мик не стал отпираться:
— Ага…
— Если бы эту историю изложить прозой, получился бы увлекательный роман приключений. Правда, тогда бы он потерял свою поэтичность…
— Не… не надо роман, — неловко попросил Симка, словно Станислав Львович и правда мог превратить «Мика» в обычную повесть. Вроде «Капитана Сорви-головы»…
— Не надо, значит, не будем, — посмеялся дед Мика. — Ну, давайте подумаем, как эту гаубицу закрепить на станке…
Он же и придумал (пока Мик и Симка старательно скребли в затылках и морщили лбы). Сделал из деревянных обрезков несколько клиньев и загнал их между трубой и чугунным кольцом рамы. Рама эта — литая, с завитками — вращалась в развилке и на подставке «вдоль и поперек». Дед сказал, что такая система называется «карданный подвес». Клинья не прибавили телескопу красоты, но зато трубу можно было поворачивать как угодно. И останавливать в любом положении.
Готовый телескоп решили установить на крыше сарая. Втащили туда широкий чурбак, на него водрузили подставку. Полюбовались в окуляр на окрестности. Все виделось в расплывчатом по краям и перевернутом виде, но все равно душа радовалась.
До ночи укрыли телескоп старой клеенкой, прижали ее края кирпичами. Когда кончали работу, вкатил на мотоцикле Треножкин и заглох посреди двора. Наверно, каприз мотора его разозлил. Треножкин вскинул голову на кадыкастой шее.
— Что за фигню вы там громоздите? — При этом он сказал не «фигню», а покрепче.
— Это у вас фигня на колесах! — отозвался Мик (при этом опять же произнес не «фигня», а бестрепетно повторил слово Треножкина). — А у нас то, что надо…
Треножкин матюгнулся и поволок мотоцикл в свой сарай. А Симка и Мик спустились и пошли к деду. Потому что Симка уговорил Мика: пускай тот попросит Станислава Львовича прочитать стихи «Капитаны». Симке казалось, что в них будет такое же тревожное волшебство, что и в африканской сказке.
Мик без церемоний потребовал с порога:
— Дед, прочитай нам «Капитанов». Симка никогда их не слышал.
Симку съежило от такого нахальства Мика, но Станислав Львович, кажется, не удивился. Хмыкнул, оглядел каждого из приятелей, пригладил седую прическу. Сел на кровать, сделал двумя ладонями жест, словно подгребая к себе мальчишек. И те сели с двух боков — на колючем одеяле, у пропахшего «Беломором» и медицинскими каплями пиджака.
Станислав Львович обнял их за плечи.
— Я Серафиму хочу сказать… Мику-то я уже объяснял. В стихах есть непонятные слова, например «хартии». Это значит «указы», «законы»… Я потом подробно объясню, вы пока не перебивайте…
Он помолчал секунды три и начал глуховато говорить, глядя перед собой:
На полярных морях и на южных, По изгибам зеленых зыбей, Меж базальтовых скал и жемчужных Шелестят паруса кораблей…Он говорил ровно, ритмично и при этом покачивал Симку и Мика за плечи. И каждое слово отдавалось в Симке, словно звучало в глубине пустого гулкого корабля, за тонкой обшивкой которого шевелится похожая на жидкое зеленое стекло вода…
Наверно, потому, что Симка заранее готовил себя к сказке, стихи и окружали его морской звенящей сказкой.
Пусть безумствует море и хлещет, Гребни волн поднялись в небеса, — Ни один пред грозой не трепещет, Ни один не свернет паруса…Долго ли Станислав Львович говорил эти стихи, Симка не понял. Время шумело, как ветер в натянутых тросах. Наконец прозвучали заключительные слова — про «охранительный свет маяков», — и Станислав Львович замолчал, последний раз качнув Симку и Мика.
Симка пошевелил плечами, потер щеки, словно убирая с них соленые брызги. Сказал тихо и решительно:
— Я не верю, что он был заговорщиком против красных…
— Вот как? Почему? — Станислав Львович сбоку глянул Симке в лицо. Тот, разглядывая колени с неотскобленными до конца пятнышками печного лака, насупленно объяснил:
— Плохой человек не мог написать такие стихи…
— Логично… А ты считаешь, что все, кто не соглашались с красными, были плохие? А кто с белыми — хорошие?
Симка опять шевельнул плечом. Он понимал, что все не так просто. Пример тому — судьба первого маминого мужа, который был отцом Игоря. И многих-многих тысяч невиноватых, которых сажали и расстреливали. Про такие дела говорил Хрущев на знаменитом партийном съезде. Это ведь творили те, кто себя тоже называл красными. Но они были не настоящие революционеры, а пробравшиеся к власти после Гражданской войны преступники. А настоящих пересажали или перестреляли… Такая, по крайней мере, была в ту пору в голове у Симки «историческая схема».
Станислав Львович мимо Мика дотянулся до подушки, под которой лежала пачка «Беломора». Сказал внуку:
— Я только две затяжки, не скрипи…
Чиркнул спичкой, затянулся, пустив к окну дымную струю.
— На свете многое перепутано, братцы вы мои. В том числе и размалевка эта: белые, красные… Колчак был знаменитым полярным исследователем и талантливым минным специалистом, который ох как насолил в Первую мировую немцам. А теперь он злодей, зверь, враг трудового народа…
Симкины плечи затвердели.
— Моего дедушку колчаковцы чуть не замучили. Они его пытали за то, что помогал красным. Он был начальник станции…
Станислав Львович качнулся (Симка понял — он кивнул).
— Бывало такое… Но не исключено, что в ту же пору на соседней станции красные расправлялись с другим начальником. За то, что помогал белым. Я знаю, сам был в красной разведке… Причем оба начальника выполняли свой долг, не давали разрушить пути и пропускали по ним эшелоны… А те, кто с них сдирал шкуры, считали, что воюют за народное счастье. С двух сторон… Ты, Серафим, слышал про лейтенанта Шмидта? Мик-то слышал, я знаю…
— Конечно! Я читал… А в Ленинграде набережная Лейтенанта Шмидта есть, у нее стоят баркентины. Парусники…
— Ну вот… А у Шмидта был сын, Женя. В девятьсот пятом году ему исполнилось чуть больше, чем сейчас вам. Женя и отец вместе были на восставшем крейсере «Очакове», оба бросились в ледяную воду, когда крейсер раскалился от огня, обоих их тогда арестовали. Но Шмидта расстреляли, а сына отпустили. В то время еще не принято было расстреливать малолеток. Если в толпе, на площади, как девятого января, это другое дело. Но осудить на смерть мальчишку за то, что был рядом с отцом, никто бы в ту пору не решился. Это уж потом рука не дрогнула расстрелять мальчугана-царевича со всей семьей… Ну, вот… Казалось бы, Жене Шмидту в семнадцатом году, когда случилась революция, самая дорога была в красные ряды. А он ушел к Врангелю. Был у него офицером, сапером…
— Почему?! — вскинул лицо Симка.
— Вот именно — почему? Видать, показалось ему, что у красных какая-то не такая правда, за которую погиб отец… Кстати, Петра Петровича Шмидта и трех матросов после казни закопали на острове Березань, а когда не стало царя, похоронили заново, с почестями, в Севастополе. И не красные перевезли туда их тела, а по приказу Колчака. Он тогда командовал Черноморским флотом… Запутанные дела, не так ли?.. Ну, это разговор у нас с вами личный, не для посторонних. Ты, Серафим, надеюсь, не будешь ни с кем делиться, о чем тут болтал старик Краевский? Хотя мне на старости лет бояться уже нечего…
— Я никому… — с полным пониманием пообещал Симка. — А про сына Шмидта… это всё вы откуда знаете?
— Да отовсюду понемногу. Как говорится, просачивается информация. И… — Он быстро взглянул на внука. (А тот опять вертел на пальце мяч, словно давал понять: рассказывай, что хочешь, я не против.) — По правде говоря, знаю это еще и от друга своего, Женьки Монахова. Он встречался со своим тезкой, с Женей Шмидтом, когда тоже был у Врангеля… Да, братец мой Серафим, так вот вышло. Оба мы старались выполнять свою клятву, что будем жить для счастья людей. И оказались по разные стороны фронта…
— Как же это? — пробормотал Симка.
— А довольно просто. Женька был в Москве, когда красные схлестнулись с юнкерами, открыли огонь из орудий по Кремлю. Не выдержало Женькино сердце — как это снарядами по русской святыне! И ушел он в студенческую дружину, которая помогала юнкерам… А когда красные взяли верх, удалось ему выбраться из Москвы и уйти на юг. Ну а там как у многих. Был уверен, что дерется за Россию против варваров… А я в это время за ту же Россию махал шашкой против буржуев и угнетателей народа…
— А… вы потом, значит, виделись, да?
— Не виделись… Но я получил от него в двадцать третьем году письмо. Из Франции. Передал один человек. По почте такие письма не посылали… Женька писал про все, что с ним было. Сообщал, что с отступившими войсками оказался в Турции, потом перебрался в Париж, устроился смотрителем в какой-то археологический музей… Я ответил, отдал письмо курьеру. А потом узнал, что этого человека застрелили при переходе границы…
— А вам… ничего не было за это?
— За что?
— За письмо. Его ведь, наверно, нашли у того, кого убили…
— Не знаю… Если и нашли, то, наверно, не разобрали, чье оно. Я писал печатными буквами и шифром, которым мы с Женькой пользовались в ученические годы. К тому же без подписи и обратного адреса… Обошлось… А вот что с Женькой стало дальше, я совсем уже не ведаю… Хотя…
— Что «хотя»? — быстро спросил Симка.
— Есть у меня кое-какие сведения, что, когда немцы оккупировали Францию, там одной из групп сопротивления командовал русский эмигрант, археолог и сотрудник музея. Друзья звали его Эжен, а партизанская кличка была Мойн э . Значит «Монах»… Он, не он? Как узнать…
Мик слушал отстраненно и вертел мяч. Он, конечно, эту историю знал раньше.
— Станислав Львович… а можно я еще спрошу? — Симке стало зябко оттого, что надо задать такой вопрос. Но не задать он не мог. Этот вопрос распирал Симку изнутри будто колючими шипами.
— Спрашивай, голубчик, что хочешь. Чего уж там…
— А вот если бы вы на Гражданской войне встретили друг друга… Женька… то есть Евгений Монахов с одной стороны, а вы с другой… Вы бы стали стрелять?
Станислав Львович сказал сразу, как про самое простое:
— Конечно же, нет. Мало того, всячески помогли бы друг другу.
— А как же…
— Что, Серафим, «а как же»?
— Но… ведь, наверно, у вас и у него была присяга…
— Конечно. Та, что мы дали друг другу на берегу. Она была главнее всех других присяг.
— Потому что самая первая, да?
— В том числе и потому… А главное то, что закон дружбы в мире сильнее всех других. Если дружба настоящая… Я ведь говорил: он не меняет направление так же, как ось гироскопа. Или маятник Фуко…
Мик перебросил вертящийся мяч с указательного пальца на мизинец. Станислав Львович вдруг спросил другим, повеселевшим голосом:
— Я еще вчера заметил: что это у вас, друзья мои, пальцы в чернилах? Может, вы тоже давали какую-то клятву? Расписывались мизинцами на тайном документе?
— Не-а! — Мик наконец уронил мяч. — Мы помогали одному парню! Симка, можно рассказать?
И они наперебой, со смехом, поведали, как выручили Фатяню.
Дед почему-то очень обрадовался:
— Вот видите! Есть в мире постоянные, просто незыблемые вещи! Сколько всего на свете переменилось, а приметы как были, так и остались. Мы в училище тоже просили кого-нибудь макать пальцы в чернильницы, когда шли на экзамен. Особенно по закону Божьему и геометрии…
РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПЛАНЕТЫ
Симка сбегал домой и сказал тете Капе, что будет ночевать у товарища.
— А мама знает? — всполошилась тетя Капа.
— Конечно, знает!
Которому Всегда Рядом Симка велел заткнуться. Потому что мама пока не знает, но завтра он ей все расскажет. Значит, никакого вранья…
Рядом с гамаком сложили топчан — из чурбаков и досок. Мик великодушно предложил Симке улечься в гамаке, но тот сказал, что не привык спать в подвешенном виде (вообще-то хотелось, но неудобно было лишать Мика привычной постели).
Солнце будто приклеилось к небу, никак не желало уходить. А когда скрылось, заря долго еще золотила макушки тополей и кленов. Наконец угасла и позолота.
Симка и Мик забрались на сарай. Расчехлили телескоп.
Было тихо, только изредка проталкивались сквозь неподвижный воздух далекие пароходные гулки да из открытого на первом этаже окна доносились обрывки ругани. Это Треножкин выяснял что-то с женой.
В светлом небе не было звезд. Кроме одной — той, что светила в последних отблесках заката. Она сияла дрожащим желто-розовым светом. Симка долго шевелил телескопом, стараясь поймать звезду в объектив.
Мик нервным шепотом сказал:
— Дай мне…
Симка дернул плечом. Но… тут же отодвинулся. Не хватало еще им заспорить в такой момент! Мик, согнувшись, приник глазом к окуляру.
— Ух ты-ы…
— Что?
— Сейчас… На, смотри.
И Симка глянул в Сонино стеклышко.
В размытом сером круге дрожало маленькое огненное пятно. Оно не было круглым. Оно дрожало, переливалось, меняло формы. Так играет светом в струях ручья отразившая солнце блестящая пивная пробка. Иногда этот беспокойный блик замирал, и тогда… он превращался в крохотный полумесяц с торчащим вверх рожками!
Мик нетерпеливо дышал у Симкиного уха.
— Смотри, — отодвинулся наконец Симка.
Мик смотрел несколько секунд, потом опять сказал «ух ты».
— Видишь, что она месяц? — шепотом спросил Симка. Казалось, громкий голос может спугнуть чудо.
— Вижу, — так же тихо откликнулся Мик. — А почему?
— Наверно, это Венера. Я читал, что в телескоп Венера похожа на ущербную Луну. Это когда она между Солнцем и Землей. Виден только небольшой серп…
— А все равно яркая, — уважительно сказал Мик.
— Конечно. Венера же…
По очереди несколько раз еще посмотрели на Венеру. Она то расплывалась в огненную лужицу, то на секунду опять обретала «лунную» форму — снисходительно давала мальчишкам полюбоваться своим настоящим видом.
Была ли это в самом деле Венера, потом повзрослевших Симку и Мика одолевали сомнения. Но в тот июньский вечер ничто не мешало их радости.
— У меня книжка про полет на Венеру есть, называется «Страна багровых туч». Папа недавно привез из Москвы… — шепнул Мик.
— Интересная?
— Лучше всех, какие я про космос читал. Там все так, будто по правде было…
— Дашь почитать?
— Хоть сию минуту!.. То есть завтра утром.
Симкиной душе стало тепло-тепло. От всего, что сейчас было. От переливчатого полумесяца Венеры, который словно попал сюда из сказки, похожей на историю про африканского Мика. От вечерних запахов нагретого за день кровельного тёса, остывающей после дневного жара лебеды и тополиных листьев, которые пахли, как после дождя, хотя на самом деле дождя нынче не было (наверно, тополя на закате вбирали влагу из воздуха). И оттого, что рядом дышал Мик…
«Может, все это и называется счастье?» — мелькнуло у Симки.
Который Всегда Рядом шевельнулся было, чтобы отпустить язвительное словцо, но Симка мысленно цыкнул на него — так, что бедняга свернулся в клубок и притих, будто набедокуривший кот…
Полюбовавшись на Венеру, пошарили телескопом по окрестным крышам и дальним домам нового пятиэтажного квартала. Крохотные для простого глаза окошки в телескоп казались громадными, занимали все пространства объектива. Но различить в них (бледных и перевернутых) ничего было нельзя, только неясные тени («Да и зачем подглядывать, не шпионы же мы», — сказал Мик).
Потом, запрокинув головы, Симка и Мик увидели, что над ними светит крупная звезда. Почти такая же яркая, как Венера, только не желто-розовая, а голубая. Чтобы посмотреть на нее в телескоп, пришлось ложиться на спину и втискивать голову между низко опущенным окуляром и крышей.
Звезда — это не планета. Известно, что даже в самые крупные телескопы невозможно увидеть шарик или диск звезды. Только блеск увеличивается во много раз. Здесь голубой блеск тоже увеличился, разбросал яркие брызги по всей ширине линзы. И это было здорово! Как путешествие в глубину Вселенной!..
Но главная задача оставалась пока невыполнимой.
Задача эта была — посмотреть на Луну. Какая она будет в «телескоповом» приближении?
— Такое свинство! Когда не надо, она торчит в небе при ясном солнце, а сейчас ее фиг дождешься, — плачущим шепотом ругался Мик.
Но сколько ни ругайся, астрономические законы не изменишь. И по этим законам ближайшее к нам небесное тело должно было взойти посреди ночи, в «ноль два часа ноль семь минут». Это Симка и Мик прочитали в отрывном календаре, который висел у деда.
В конце концов решили, что пока следует полежать, чтобы зря не тратить силы. Мик сбегал в дом и принес будильник:
— Если заснем, он нас растрясет…
Спать не хотелось. Хотелось лежать и неторопливо разговаривать. Мик в своем гамаке крутил над собой мяч. Симка на топчане глядел из-за краешка одеяла на голубую звезду. Рядом с ней проступила в небе еще одна, крохотная.
Мик рассуждал: какого цвета была шерсть у зверя с кошачьей мордой и рогами и какого он был роста? Гумилев ничего про это в своей сказке не написал. Симка попробовал представить со всей точностью: в самом деле, какой он, этот «с кошачьей мордой, а рогат»? Морда виделась отчетливо и была добродушная, как у дяди-Мишиного кота Тимофея. А рога горели золотом, будто у придвинувшейся из космоса Венеры. Симка хотел объяснить зверю, что это неправильно: такими огненными рогами он распугает всех обитателей ночных джунглей. Зверь заспорил: ты, мол, ничего не понимаешь, мне сам Гумилев сказал, что так должно быть. В голосе спорщика почудились знакомые интонации. И Симка вдруг сообразил, что это не только «рогато-кошачий» зверь, но и Который Всегда Рядом . Надо же, спелись… Но зверь перепуганно вздыбил спину и совершенно по-кошачьи сиганул в темноту. Оттого что раздалось тарахтенье!
Это был будильник!
Мик сидел в гамаке и обалдело тер глаза.
Симка помотал головой
Посмотрели друг на друга, засмеялись. Потому что хорошо, когда рядом…
Оказалось, что будильник поспешил. Вернее, наблюдатели поспешили. Луна в «ноль два ноль семь» должна была появиться лишь над горизонтом. А ведь надо, чтобы над крышами! И к тому же… (это Симка сообразил) в календаре-то московское время! А здесь как оно действует?
Забрались на сарай. Ожидание казалось отвратительно долгим. Хотелось спать, но когда начинали клевать носами, сон прогоняла ночная зябкость. Попробовали закутаться в клеенку, которой днем был укрыт телескоп. Но клеенка была холодная, скользкая. Пришлось спуститься с сарая, натянуть рубашки. А потом опять сели на крыше, прижавшись и облапив друг друга за плечи.
Заспанная розовая четвертинка Луны наконец вылезла из-за пятиэтажек.
Засуетились, задевая друг друга локтями, Симка стал наводить… Что-то дымно-желтое, неясное вползло в поле зрения. Симка задвигал дюралевой трубкой, чтобы наладить резкость… Невероятно таинственная страна приблизилась из космической пустоты. Изрытые воронками равнины, скалистые кольца, пики, ущелья, хребты… Выпуклая граница этого неземного мира была очерчена зубчатой кромкой горных хребтов. Другой его край растворялся в пространстве… То и дело лунный пейзаж вздрагивал, терял четкость, по нему пробегали похожие на прозрачных медуз пятна. И все же он был различимым, близким. Прямо хоть рукой потрогай… Восторженный озноб пробегал у Симки под ковбойкой.
— Сим… — укоризненно шепнул у его щеки Мик.
— Ох, да… — спохватился тот и уступил место.
И теперь Мик взволнованно задышал у окуляра…
Месяц заползал все выше, делался ярче. Приходилось все больше задирать трубу телескопа. Меняя друг друга, Симка и Мик все смотрели, смотрели на лунное чудо, которое то расплывалось, то обретало выпуклую четкость — как бы делилось с мальчишками своими тайнами…
Наконец решили, что пора в постель. Укрыли клеенкой телескоп. Спустились, улеглись. И теперь спать не хотелось нисколечко.
— Симка…
— Что, Мик?
— Я когда смотрел, мне вдруг знаешь что показалось?
— Что?
— Будто эту Луну, все ее горы и кратеры сделали мы сами…
— Ну да! Потому что ничего такого раньше не видели, а тут вдруг вон как… И потому что сами смастерили телескоп… И знаешь, что интересно? Вот всякие там пятна и отблески разноцветные… они вообще-то из-за того, что стекло такое, не очень подходящее для астрономии. А мне вдруг пришло в голову, будто это над Луной летучие острова и города. С неземными жителями… Будто из страны за волшебной дверью…
— Сим, я понимаю… Я раньше тоже придумывал такое… про волшебные планеты. Даже рисовал их…
— Покажешь?
— Ладно… А хочешь сейчас? Я принесу!
— Ты разбудишь Станислава Львовича…
— Ха! Он даже от бомбы не проснется после снотворного! Нести?.. Или спать?
— Неси!
Мик перекинул Симке мяч и умчался. Симка попробовал покрутить мяч на пальце, но ничего не получилось. Видимо, мало закона вращения, нужен и навык…
Мик прибежал через минуту. Принес толстый школьный альбом для рисования и фонарик. Сели рядом на топчане. Фонарик был очень яркий, ударил по листам белым светом.
На развернутых листах царило темно-синее небо с лучистыми крестиками звезд. И в этой синеве светились разными красками выпуклые шары.
Это были шары с океанами и материками. С зелеными равнинами и красно-коричневыми горами. С белыми полярными шапками и кудрявой пеной облаков…
На каждом листе помещались по две или три планеты. Между ними летели спутники и ракеты, а на планетах кое-где виднелись домики и рыцарские замки, по мелким гребешкам океанов плыли парусники и похожие на «Тортилу» пароходы. На островах светили маяки.
— Ми-ик… Ты такой художник…
— Да ладно тебе… Это я так…
— Ничего себе «так»! Тут про каждую планету можно напридумывать кучу сказок. Как про Мика и Луи или про Тони с волшебной дверью…
— Я… иногда и придумываю. Когда рисую… или потом, когда смотрю на них… Особенно если болею или если на улице дождь и не хочется никуда идти… Сим…
— Что?
— Если хочешь, можно… придумывать вместе…
— Я хочу!.. А ты можешь нарисовать Луну, как мы ее видели? С разноцветными пятнами и городами?
— Попробую… Ох, Симка, я знаешь что подумал? Вдруг на такую Луну улетел с Земли Луи? К Архи-стра… тигу Михаилу? Потому что Лу-на и Лу-и…
— Может быть. Это, наверно, только с Земли кажется, что там одни горы. А наверно, там есть и сады, и всякие чудеса…
— Какие придумаем, такие и будут, — сказал Мик.
Под каждой планетой печатными буквами было написано название. «Лебединка», «Снежная», «Ромашка», «Штормовая», «Планета Ласточек», «Рыцарская», «Семизвездная»… Мик перевернул лист. На открывшемся развороте были еще четыре планеты — «Водопадная», «Юнона», «Легенда» и… «Мама».
Мик застеснялся, хотел прикрыть «Маму» рукой, но понял, что поздно и глупо.
— Это я маме на день рожденья… Ну не точно эту, здесь набросок. Я сделал большую, в рамке…
Планета была радужная, как мыльный пузырь, но в основном бирюзовая. Там и тут над ней курчавились маленькие белые облака. На зеленом выпуклом континенте подымался дом, похожий на тот, где жил Мик. А рядом с домом (и ростом почти до крыши) стояли пышноволосая женщина в красном платье и мальчик в белых штанах и синей рубашке, с желто-коричневыми волосами и голубыми глазами-каплями.
— В точности ты… — веселым шепотом сказал Симка. Но за этим весельем он прятал подкатившую грусть. Мысли о маме. Что с ней сейчас?.. Хотя, наверно, ничего особенного. Скорее всего, спит, положив рядом Андрюшку. И, может, видит про него, про Симку, хороший сон…
«Но уж конечно, не видит, как ты обманом удрал из дома и ночуешь в чужом дворе…»
«Замолчи, балда!»
— Что? — удивился Мик.
— Ой, нет, это я про себя… А что дальше, на других листах?
— Да там ничего интересного…
— Ну, Ми-ик…
Он не очень сопротивлялся, дал перевернуть лист.
Вот это да! На листе были моряки и пираты! Целая толпа. Очень разные и невероятно яркие. В разноцветных косынках и клёшах, с пестрыми кушаками, с развевающимися, как флаги, широченными матросскими воротниками — не только синими, но и зелеными, оранжевыми, белыми, алыми, полосатыми. У морских бродяг были носатые храбрые лица, рыжие, черные и желтые кудри, бакенбарды и усы. Из-за поясов торчали изогнутые пистолетные рукояти.
— Ну, целый абордаж… — восхищенно и завистливо шепнул Симка. — Мик, ты где научился так рисовать?
— Нигде не учился. Просто… беру краски и рисую как получится…
— Ничего себе «как получится»… А дальше что?
— Да совсем ничего, ерунда всякая, — Мик опять придержал листы.
— Ну, Мик…
— Да правда ерунда. Глупости одни…
— Все равно. Покажи…
— Только скажи честно: «Не буду дразниться»…
— Не буду дразниться!.. Да ты что, Мик! Неужели я такая скотина?!
На следующих листах были девочки.
Много девочек.
Они были в удивительных нарядах — в бальных платьях со шлейфами, в балетных юбочках, в сарафанах с яркими цветами, в пестрых брючках и безрукавках, в японских халатах, которые называются «кимоно», в спортивных костюмах и даже в купальниках (наверно, этого больше всего и стеснялся Мик).
На девочках были всяких фасонов шляпы, шапочки, береты. А в руках у них — веера, зонтики, игрушки. Нарисованы девочки были очень здорово — то в танце, то в беге, то в беседе друг с другом или в акробатических упражнениях. С плавными изгибами длинных шей и талий, тонких рук и ног, с улыбками ярких широких ртов.
Мик сбивчиво дышал и наконец подавленно выговорил:
— Ты не думай, будто мне нравятся девчонки… Будто я мечтаю влюбляться или… ну, вообще всякое такое… Мне нравится, когда красивая одежда. Разноцветная. Мужчины или мальчики, если наденут что-нибудь поярче, про них сразу кричат: «Стиляги!» А девочкам можно. Вот я и рисую… Это будто на сцене…
— Красиво. Это как показ мод, да? — понятливо поддержал Мика Симка. Рисунки ему правда нравились, не меньше, чем прежние, с моряками. Но он понимал и немалое смущение Мика.
И тогда, что бы защитить Мика от этой стыдливости и чтобы заплатить за его откровенность полновесной монетой, Симка решительно сказал:
— А что такого, если нравятся девочки? Мне вот одна нравится. Соня. Я с ней познакомился в больнице. Только она уехала в Тобольск. А то мы могли бы дружить втроем…
Сказал и сразу испугался. Во-первых, он впервые произнес вслух при Мике слово «дружить». Во-вторых, кто знает — захотел бы Мик, чтобы в их компании оказалась девчонка?
Но Мик сказал просто и честно, не ради желания понравиться Симке:
— Конечно, могли бы. Жалко, что уехала. — И выключил фонарик. — Сим, наверно, надо спать, а?
— Наверно…
Они завернулись в одеяла. Стали старательно молчать, но каждый знал про другого, что тот не спит. Месяц запутался в листьях клена. Он был теперь маленький, словно обиженный, что его больше не хотят увеличивать телескопом.
— Мик…
— Что, Симка?
— А ты… мог бы нарисовать сказку про Мика? Про все, что там написано?
— Я бы хотел… Я про это с самого утра думаю. Поэтому и спрашивал: был ли воротник у Луи и какая шерсть у зверя…
— Ты постарайся, ладно?
— Я постараюсь…
Они наконец уснули.
Но даже во сне Симка чувствовал, как в небе наливается предутренний синий свет. И слышал, как в траве стрекочет, будто большое насекомое, неутомимый будильник.
АВАРИИ ОДНА ЗА ДРУГОЙ
На следующий день Симка узнал от мамы, что «будем дома послепослезавтра». Это мама сообщила ему из открытого больничного окна (Андрюшка рядом с ней пускал губами розовые пузыри из остатков киселя). Обрадованный Симка вприпрыжку пустился домой. Мика на этот раз с ним не было. Утром во дворе на Заовражной улице появилась Микина мама и забрала сына с собой, «в родительский дом по неотложным делам» (как потом выяснилось, чтобы «привести это чудовище в божеский вид»).
Они расстались, договорившись, что Мик придет к Симке в середине дня.
А пока Симка собирался заняться дома еще одной, дополнительной приборкой. Чтобы через два дня, когда придет мама, все было «как при адмиральской проверке». Он вытер пыль на полках кухонного шкафа, зубным порошком и суконкой надраил медный рукомойник, унес на помойку остатки мусора, ровненько расставил на этажерке книги, притащил с колонки воду, и… в этот момент появились мама и Андрюшка.
Симка вытаращил глаза, потом восторженно взвыл.
Мама, смеясь, облапила его и объяснила, что главный врач решил: незачем держать уже совсем здорового ребенка в больнице до понедельника, и отпустил раньше срока. Это было некоторым нарушением карантинного режима, но врач сказал: «Закроем глаза на мелочи».
Мама оценила образцовый порядок в доме. Но внешний вид самого Симки оценила «в другую сторону».
— Ох и чучело! Ты хоть раз за этот месяц был в бане?
— Я купался. На реке и на запруде…
— Оно и видно. Что это на тебе за пятна?
Это были остатки печного лака, которые Станислав Львович не смог оттереть полностью. Симка не стал ничего скрывать и рассказал, как делали телескоп.
— Понятно. Вы втаскивали в трубу перед собой кисть, а потом лезли за ней по подтекам…
— Ага… то есть да, — удовольствием сказал Симка. «Боже мой, до чего же хорошо, что мама дома! И Андрюшка!»
Андрюшка в это время вперевалку ходил по квартире, заново знакомился с родным домом. Симка подхватил его и закружил. Андрюшка заверещал.
— Подожди! А почему у тебя штаны пахнут селедкой? — не отступила мама.
Да, у мамы нюх! Симка и не помнил уже, как он три дня (вернее, три ночи) назад сидел у пристани на ящике из-под рыбы.
— Снимай, буду стирать! Рубашку и майку тоже…
Пришлось влезть в ветхие вельветовые штаны с пуговицами у колен. В них было тесно и жарко, Симка сказал, что сварится.
— Ма-а, ты стирай скорей, ладно?
В это время появился Мик. Удивился, застеснялся, поздоровался. Андрюшка оглядел гостя с ног до головы и пришел к выводу:
— Бойшой майчик.
— Да, большой и хороший. Смотри, какой чистый в отличие от твоего брата, — заметила мама.
Мик был в новых серых шортиках и желтой рубашке с белопарусной яхтой на кармане. «Поглядела бы ты на него вчера, после покраски», — хмыкнул про себя Симка.
Мик догадливо спросил:
— Наверно, надо что-то помогать, да?
Мама сказала, что хорошо, если друзья притащат еще пару ведер воды, для стирки. А потом пусть идут гулять, чтобы не мешаться. И будет совсем прекрасно, если прихватят с собой Андрея.
Воду принесли, Андрея обещали прихватить.
В Симкиных запасах не нашлось чистых рубашек и маек, и он сказал, что будет гулять просто так.
— Чтобы все видели, как ты отощал за месяц беспризорной жизни, — покивала мама.
— Конечно!.. Мик, ты чего так на меня глядишь?
— Я гляжу на твои ребра, — бесцеремонно разъяснил Мик.
Симка даже обиделся слегка:
— Ты что, раньше их не видел?
— Сейчас они такие, особенно рельефные при боковом свете из окошка…
— Сам-то не такой рельефный, что ли? Задери рубашку, увидишь…
— Но себя я не могу рисовать. А тебя могу. Я буду рисовать с тебя черного Мика, он был наверняка такой же костлявый.
— Мне что, опять мазаться черной краской?
— Не надо. Просто я разведу черную акварель…
— Беда с этими художниками… Андрей, пошли!
Внизу они усадили Андрюшку в тележку с плетеным коробом, потому что пешком он ходил очень важно и неторопливо. Дали ему мяч (который Мик, разумеется, притащил с собой).
— Мяць, — восхитился Андрюшка. Наконец-то он получил в руки это сокровище.
— Не «мяць», а «мяч». Когда ты научишься говорить по-человечески? — укорил Симка брата. — Большой уже парень…
— Мяч-ч, — охотно согласился Андрюшка.
Решили сходить на запруду. Только не по логу — с пассажиром в тележке там будет тяжело, — а по Нагорному переулку до конца, затем по улице Короленко, по Пышминской и вниз по спуску. Андрюшка посидит на берегу, а они окунутся. А то вон какой солнцепек!
И пошли! Толкали перед собой Андрюшкину карету и строили планы на будущую ночь. Мик сказал, что разыскал дома журнал с большой фотографией Луны. Можно будет отмечать те места, которые сумеют разглядеть на ней, «пока она окончательно не усохла».
— А потом придется ждать дней десять, пока она не захочет снова появиться, — надув губы, сказал Мик. Словно Луна была в чем-то виновата.
— Зато, когда новолуние, она появляется рано вечером, не надо вскакивать среди ночи.
— А мама отпустит тебя ко мне сегодня?
— Отпустит!.. Андрей, перестань кидать мяч!
Но Андрюшка не перестал. Ему понравилось запускать мяч в траву, а потом весело голосить:
— Сима, поехали! Искать мяч-ч!
— На и больше не бросай, а то Мик его отберет. Понял?
— По-нял… Сима, поехали!
— Какая вредина! — Симка уже малость забыл, как тосковал по ненаглядному братцу. — Ты доиграешься!
И Андрюшка доигрался.
После очередного броска мяч ускакал к забору, а там у самой земли торчал острием наружу гвоздь.
И бросок-то был слабенький, и гвоздик хилый, ржавый (а мяч крепкий и толстокожий), а вот надо же — дырка. Маленькая, аккуратная такая. Воздух вытекал из нее шипучей струйкой, мяч обмяк, на боку появилась ямка. Такой уже не попрыгает, не повертится на пальце.
— Ну что ты наделал! — отчаянным голосом сказал брату Симка. Тот на всякий случай захныкал.
Мик стоял, уронив руки. Глаза стали круглые и блестящие. Кажется, даже со слезинками. Ведь не простой был мячик, а, можно сказать, друг. Почти что живой…
— Мик…
— Да ладно… — горьким шепотом сказал Мик. — Чего теперь… Он же не нарочно…
Симка понял: надо что-то делать. Что-то придумать! Как-то спасать красного Микиного друга… А как? Это же не футбольная камера, не заклеишь, не надуешь снова…
Мик, отвернувшись, сдавливал мяч ладонями и направлял себе в лицо воздушную струйку. Это было словно последнее дыхание друга — так подумалось Симке. Смотреть на Мика не было сил. Симка посмотрел в сторону и увидел, что совсем недалеко дом Фатяни.
— Мик, пошли! Может, Фатяня что-то придумает!
— Что тут придумаешь? — похоронным голосом сказал Мик. Но пошел за Симкой.
К счастью, Фатяня оказался дома. Точнее, на дворе. Занимался привычным делом — чинил мопед. Оглянулся, заулыбался косоватой своей улыбкой.
— Привет… вот, — и Симка без лишних слов протянул мяч. — Нельзя как-нибудь накачать? У тебя ведь есть насос.
Фатяня присвистнул:
— Это все равно что зубную пасту обратно в тюбик толкать…
— Понимаешь, Фатяня, это не просто мяч. Подарок. Вот его дедушки…
Мик молча поблескивал сырыми глазками.
Фатяня покачал головой. Пощелкал пальцем по губам.
— Задачка… Я попробую. Но как раньше все равно не будет, останется затычка.
— Пусть останется! — подпрыгнул Мик. — Лишь бы он тугой был!
— Ладно, вы с часик погуляйте… Но имейте в виду: я точно не обещаю…
— Но ты постараешься, да? — с нажимом сказал Симка. Фатяня бормотнул что-то неясное. Шагнул к раскрытому окну, включил на подоконнике проигрыватель.
Истамбул, Константинополис! Истамбул, Константинополис! —заорал динамик (по крайней мере, именно такие заграничные слова разобрал Симка).
Сходили на запруду, искупались. Но без радости. Мик был, конечно, весь в тревожном ожидании, хотя и старался вести себя беззаботно. А на запруде оказалось многолюдно и гвалтливо — там бултыхался десяток незнакомых пацанов. Хотя это Симке незнакомых, а Мика они знали. И называли его Ржавый. «Ржавый, здор о во!.. Ржавый, а где твой мячик?.. Эй, Ржавый, ты чё не приходишь в футбол играть?»
— Почему они тебя так зовут? — угрюмо и вполголоса спросил Симка.
Мик безразлично пожал плечами:
— Потому что вот, волосы такие… — и провел мокрой ладонью по жесткой, похожей на стружку прическе.
— Они же не ржавые, а медные. И то чуть-чуть…
Мик снова шевельнул плечом с пятнистым загаром. Ему было все равно. Лишь бы Фатяня спас мяч.
И Фатяня спас его!
Когда пришли на Фатянин двор, мяч — тугой и словно улыбающийся — лежал в подорожниках. Фатяня разогнулся над опрокинутым мопедом.
— Забирайте шарик. Только пришлось сделать пробку.
В мяче, посреди заплатки из рыжей резины, торчал бронзовый колпачок велосипедного ниппеля. Мик с опасливой улыбкой потрогал колпачок мизинцем (все еще с бледным следом чернил).
— Да не боись, держится крепко, — успокоил Фатяня. — А без него никак нельзя теперь. Если вытащить, сразу пшик!
Мик ликовал:
— И не надо вытаскивать! Так даже лучше! Будто ось на полюсе!
— А вертеться на пальце будет? — осторожно сказал Симка.
Мик поставил мяч на мизинец вверх колпачком. Словно острый бронзовый палец прошел мяч насквозь и выскочил вверху. Мик скользящим ударом ладони хлопнул по красному боку. Мяч завертелся.
— Ну, цирк!.. — изумился Фатяня. Мик высоко подбросил и поймал мяч. Казалось, он сейчас раскланяется, как жонглер на арене. Но он вдруг спохватился, порозовел, опустил голову. И сказал с прерывистым сопеньем:
— Самое-самое… большущее спасибо…
— Да ладно, чего там, — застеснялся Фатяня. — Если ослабеет, приходите, я подкачаю…
На улице Мик радостно поделился с Симкой:
— Это ведь даже хорошо, что такая пробка!
— Пвобка ховошо, — поддержал его Андрюшка. — Квасиво.
— А ты помалкивай, злодей, — пробормотал Симка и виновато покосился на Мика.
Тот присел перед тележкой на корточки.
— Не надо ругать Андрюшку. Он хороший мальчик…
— Я ховоший майчик, — без лишней скромности согласился Андрюшка. — Мик, дай мяч-ч.
— Еще чего! — взвился Симка. — Чтобы опять дыра?
Но Мик дал Андрюшке мяч. Сказал, что бояться нечего, потому что два одинаковых несчастья подряд случаются очень редко. И они повезли Андрюшку домой.
Мик оказался прав с мячом несчастья больше не случилось. Но другое несчастье было такое, что недавняя беда забылась в один миг.
Пьяная гадина Треножкин разломал телескоп.
Алёна потом рассказывала, как это случилось. Она все видела из раскрытого окна мезонина.
Треножкин вернулся откуда-то на мотоцикле, вволок его в калитку. Протащил через двор и поставил почему-то недалеко от Микиного сарая. Был Треножкин то ли изрядно поддатый, то ли в «психованном» состоянии. Пнул свой несчастный трофейный BMW, выругался, конечно, и зачем-то посмотрел вверх — словно просил у неба защиты от своей неприкаянной жизни. И взгляд Треножкина упал на телескоп…
После уже, через несколько дней, когда дед Мика «взял этого скота за жабры» и выяснял подробности, оказалось вот что: Треножкину почудилось, будто «эта бандура» накрыта клеенкой, которой он, Треножкин, в недавние времена укрывал в своем сарайчике с дырявой крышей мотоцикл. Недавно клеенка у него потерялась, и сегодня вдруг осенило Треножкина, что «интеллигентский недобиток и его дружок стырили чехол для своих сопливых игр» (раньше ему, идиоту, это в голову не приходило, хотя он видел клеенку накануне!).
Он притащил из сарайчика багор.
Он дотянулся до крыши, зацепил клеенку и дернул. А она была прижата по краям кирпичами. И один кирпич слетел и брякнул Треножкина по темени («Чуть не убил, падла!»), а потом ударил по бензобаку.
Этого Треножкин вынести не мог! Он любил капризный BMW больше, чем всех своих жен (прошлых и нынешнюю). В нем воспылала справедливая ярость. Багром он зацепил чугунную подставку, сдернул телескоп с крыши и растоптал трубу, изрыгая мат и всякие обещания. А оторвавшуюся линзу забросил на поленницу.
Разгром был учинен за несколько секунд. И когда Алёна с тяжелым половником вылетела на двор, телескоп уже погиб. Вместо трубы лежало среди облетевших одуванчиков плоское фанерное корыто с дырами от подкованных сапог. А линза косо торчала на двухметровой высоте, наклонно застряв между поленьями.
Треножкин не выдержал гневного напора «конопатой психопатки» и укрылся в доме. Оттуда он грозил Алёне вместе со своей супругой (в трудные минуты Треножкины забывали распри и объединялись против общего врага). Алёна сперва колотила половником в дверь, потом отбросила его, отошла и заплакала над бывшим телескопом.
В этот момент и появились Мик и Симка.
Алёна, всхлипывая, рассказала, как случилась беда.
Во время рассказа Мик стремительно бледнел. Щеки сделались такими белыми, что даже загар куда-то пропал, а на коже выступили редкие веснушки, которых раньше Симка не видел.
Мик нагнулся, поднял половинку кирпича и взвесил в руке.
«Мик, не надо», — хотел сказать Симка и… тоже поднял кирпич, тоже взвесил.
Мик пошел к двери Треножкиных, и Симка пошел рядом. Они поднялись на крыльцо. Мик ударил кирпичом в дощатую дверь.
— Открывай, гадина! Фашист! Пьяница засраная! — голос у него был удивительно тонким и сверлящим воздух.
Симка тоже колотил кирпичом, только молча.
За дверью было тихо по-мертвому.
Мик сбежал с крыльца, встал напротив окна Треножкиных. Он был похож на кузнечика, который от гнева и обиды обрел небывалую силу. За стеклом смутно белели два лица. Мик размахнулся.
И Симка хотел размахнуться. Но увидел, как запястье Мика перехватили узловатые пальцы. Это возник за спиной у мальчишек вернувшийся из табачной лавки Станислав Львович.
— Спокойно, ребята…
Мик уронил кирпич. Симка выпустил свой.
Держа ребят за руки, Станислав Львович пошел с ними к двери Треножкина. Отпустил Симку и Мика, ударил в дверь ногой. Сказал негромко, но с пружинным звоном:
— Открой, Треножкин. Хуже будет. Ты меня знаешь.
— Ну, чё?! Чё?!.. — С плачущей рожей, в перекошенной рубахе навыпуск Треножкин возник на пороге. — Они мне, паразиты, кирпичом по бензобаку! Во, глядите, там вмятина!
Никто не успел удивиться такой чудовищной брехне. Машинально глянули на мотоцикл. У Симки навсегда отпечаталась в памяти эта картина.
Двор был разделен на две части — широкую, яркую от солнца, и узкую, укрытую резкой неровной тенью поленницы. Посреди солнечного пространства желтела фанера изуродованной трубы телескопа. Над ней все еще плакала Алёна. Грязно-синий BMW стоял у границы тени.
Он стоял всего секунду, после того, как на него взглянули.
В следующую секунду на месте бензобака возник огненный шар.
Горячий удар бухнул по всему двору. Алёна упала. Мик и Симка прижались к деду. Треножкин что-то завопил (с матом, конечно) и… не двинулся.
Проворней всех оказалась жена Треножкина. И глупее. Она рванулась к углу дома: там стояла бочка с дождевой водой, и в ней плавало ведро.
— Не смей, дура! — завопил Треножкин.
Было поздно. Его супруга выхлестнула из ведра в оранжевое пламя целый поток.
Известно, что гасить горящие мотоциклы водой — все равно что подбрасывать динамит. Огонь взвыл, взметнулся, каким-то образом дотянулся до поленницы, занялись дрова…
…Симка потом с гордостью вспоминал, что он и Мик вели себя героически. Они взлетели на поленницу и, обжигая ноги, пинками сбрасывали с нее горящие дрова — надо было спасать линзу. Но спасти ее они не сумели. Когда наконец Мик березовой жердью дотянулся до линзы и столкнул вниз, почти половина ее была оплавлена и обуглена.
Симка и Мик сиганули сверху в одуванчики. Потирая ноги, сели на корточки над изуродованным объективом телескопа. Станислав Львович багром растаскивал по траве тлеющие поленья, ругал внука и его «такого же безголового» друга и грозил выпороть за чрезмерную лихость.
Треножкин во время пожара пытался сбить с мотоцикла огонь клеенкой, но не сумел и теперь ненатурально рыдал над горячими и дымными останками. Материл жену, которая слабо отругивалась с крыльца. Алёна исчезла. Потом выяснилось, что в первые же секунды после взрыва она кинулась звонить пожарным. Но будка с телефоном-автоматом была у черта на куличках, рядом с продуктовым магазином в конце Заовражной улицы. А где была пожарная часть, это сразу и не расскажешь…
Станислав Львович остановился над Миком и Симкой.
— Огнеборцы чертовы… Сильно подпалились?
Мик пробурчал, не оглядываясь:
— Да ни фига. Чуть-чуть припекло только…
— Все равно выдеру, — с облегчением пообещал дед.
— Потом, — угрюмо отозвался Мик. — Дай нам погоревать… Этот дурак вон как воет, а нам нельзя, что ли?
Все оглянулись на подвывавшего Треножкина.
— Все-таки есть Бог на свете, — сказал Станислав Львович. — Учит иногда мерзавцев…
Появилась Алёна. И поняла, что звонила зря…
Симка и Мик отнесли оплавленную линзу к гамаку, сели там. В искореженной пластмассовой емкости еще оставалось немного воды. Они лили ее друг другу на ладони и смывали с ног сажу и остатки боли от мимолетных касаний пламени.
Приехала наконец красная машина (путь-то был по ухабистым улицам, по шаткому мосту через лог). Бравые ребята в брезентовых штанах и со шлангом наперевес ворвались в калитку. Тушить было нечего. Пожарные занялись протоколом. Треножкин в ответ на их вопросы визгливо кричал, что ничего не знает и ни в чем не виноват. А Симке и Мику на все это было наплевать. Они в отдалении грустили над погибшей линзой.
Наконец Симка мужественно сказал:
— Ладно, найдем новую. И сделаем новую трубу.
— Конечно… — кивнул Мик.
Но оба понимали, что новую линзу найти удастся едва ли. Да и возня со вторым телескопом не принесет прежней радости.
К тому же Симку скребла грустная догадка, что, может быть, здесь вмешалась судьба. Отомстила за то, что Симка не назвал телескоп, как задумывал раньше — «С+С». Он помнил про этот свой план, однако не решился сказать о нем Мику. Неловко было. Да и тогда уж надо было бы давать название «С+С+М». А согласился бы Мик? Он ведь эту «С» даже не видел никогда…
Симка сходил к месту пожара и принес оттуда забытый Миком красный мяч и дюралевую трубку окуляра.
Мик схватил мяч обрадованно и виновато (надо же, чуть не забыл друга!). А Симка выковырял из трубки Сонино стеклышко, подышал на него. Вытер бывший окуляр о протертый вельвет на колене, спрятал в карман. И снова погладил покореженную огнем линзу — по уцелевшему боку.
— Все-таки она сделала свое дело… Да, Мик?
— Конечно! Мы вчера столько увидели! И горы на Луне, и Венеру…
— Да. Но я не про вчера, а про сейчас…
— А… что сейчас?
— Ты разве не понял? — искренне изумился Симка. — Это же она взорвала мотоцикл! Вспомни, где была она и где он ! Солнце прошло сквозь нее и ударило лучом точно в бензобак!
Мик, моргая, молчал с полминуты. Потом вскинул мяч и закрутил его на пальце. Проговорил в пространство:
— Дед правильно сказал: есть на свете Бог. И справедливые законы…
— Которые ничем не собьешь, — хрипловато сказал Симка, глядя на вертящийся мяч с искоркой на колпачке ниппеля. Хотелось заплакать, и он прикусил губу.
И показалось, что через двор по границе солнца и тени прошел неторопливый призрак маятника Фуко…
Часть четвертая ВОЗДУХ ТОЙ ДАВНЕЙ НОЧИ
ХЕНДЫ И ХОХИ
Когда-то над логом, в конце Заовражной улицы, стоял кирпичный дом с полукруглыми окнами. Давным-давно он сгорел, развалился и сполз по откосу. Теперь от него сохранилась лишь стена нижнего этажа. Она оказалась вмурованной в песок и глину. Похоже было на остатки старинного форта с засыпанными бойницами под козырьками кирпичных полукружий. Эти остатки заросли полынью, коноплей и репейником.
Здесь хорошо было подкарауливать врагов. А когда враги нападали, удобно было отбиваться, прижимаясь спинами к прочным кирпичам.
Глаза пантер и гиен, когда те подкрадывались, блестели в зарослях, как зеленые и желтые стеклянные шарики.
Врагов было много. Особенно коварно вели себя клочкастые вонючие гиены. В пантерах есть хоть какое-то благородство, а гиены — на то они и гиены. Особенно подло вела себя старая хитрая гиена, которая однажды выманила Луи из обезьяньего города в долину. Она выжила после того, как павиан перегрыз ей глотку, и с той поры сделалась лютым недругом Луи и Мика. Ей не раз перешибали лапы и пробивали башку каменными топорами. Она, скуля и подвывая, уползала в джунгли, а залечив раны, снова строила ребятам ловушки…
— Луи, смотри — они заходят слева! — кричал Симка Мику.
— Мик, осторожно! Она хочет прыгнуть сверху! — пронзительно предупреждал Симку Мик.
В игре было не так, как в жизни. Африканским Миком был Симка, а настоящий Мик превратился в Луи. И события раскручивались не похоже на те, что в поэме Гумилева. Здесь Мик успел на выручку к Луи, и они храбро отбились от хищников. И больше не расставались. Луи понял наконец простую истину — дружба дороже всякого королевства, и если уж воевать, то за эту дружбу и за справедливость…
— Луи, держись! Я прикрою тебя с фланга!.. Ага, получили по мордам! — И Симка-Мик перебрасывал из ладони в ладонь боевой топор.
Топоры были как у самых диких африканцев — из осколков гранита и бамбуковых рукояток. Рукоятки смастерили из обрезков лыжных палок. Острые камни нашли среди щебенки, которой рабочие заваливали ямы на улице Шверника. Вставили гранитные лезвия в расщепленный бамбук и перевязали крест-накрест мочальными жгутами…
Когда отправлялись на войну в овражные заросли, Симка обматывал себя снятой майкой, как набедренной повязкой. Мик набрасывал поверх белых лямок матросский воротник. Этот воротник по просьбе Симки раздобыл (специально для Мика-Луи) дядя Миша. Купил его в лавке речфлота (посторонним там форменный товар не продавали). В парусиновых штанах и синем воротнике Мик чувствовал себя настоящим сыном французского консула, сбежавшим в джунгли.
Мик сам захотел быть не Миком, а Луи. Откровенно заявил, что такой характер ему подходит больше, а до настоящего героического Мика ему далеко.
Симка для виду поспорил, но понимал, что друг его прав.
Каждому хочется, чтобы друг был без страха и упрека. Но на самом деле таких, видимо, нигде не бывает. И Мик был не такой. Порой доверчивый, добрый, ласковый даже и, случалось, храбрый (как в случае с Треножкиным и на пожаре), а иногда… Ну, прямо скажем, Симка чуть не стонал от досады.
Было в Мике что-то от лисенка — добродушного, но и хитроватого. Случалось, пообещает что-нибудь и не сделает, а потом изворачивается и плетет ерунду. Или договорятся они встретиться у Симки, а Мик забудет. Или того хуже — убежит на Камышинскую улицу, где каждый день играли в футбол мальчишки (те, что звали его Ржавым). И нет чтобы Симку позвать! Исчезнет на целый день, а потом:
— Ну, понимаешь, они пришли и просят: «У нас человека в команде не хватает, без тебя никак, ты же лучше всех бьешь левой ногой»… А к тебе я не успел…
Симка знал, что левой ногой Мик бьет по мячу, как больная курица, и только сопел от такого вранья и обиды.
Один раз Симка сказал Мику:
— Ты безответственный … — Это он вспомнил мамино слово, которое не раз слышал в свой адрес.
Мик стрельнул глазками, надул губы и нагнул голову.
— Да, я такой… Дай мне по шее.
Ну, как было злиться на него?
Несколько раз они ссорились почти по правде. И Симка сердито уходил со двора на Заовражной улице домой. Но оба знали, что ссора не навеки, а до утра. Утром или Симка бежал к Мику и вытаскивал его из гамака, или Мик прибегал Симкиному дому и бросал мячом в стену между окнами — в доме раздавался гул, как в пустом корыте, по которому стукнули кулаком.
А один раз получилось, что Симка разозлился на Мика зря. Они собирались в кинотеатр «Победа» на фильм «Старик Хоттабыч», но Мик не пришел к назначенному часу. И вообще в тот день не пришел. И Симка, стиснув зубы, решил, что сам к Мику не пойдет. Наверно, тот опять «лупит левой ногой» по мячу на Камышинской. Ну и пусть!..
Симка держался до полудня, а потом помчался на Заовражную. Мик, будто так и надо, дрыхнул в гамаке, в тени между кленами. Симка в сердцах опрокинул засоню в траву. Мик сел среди одуванчиков и обалдело тер глаза. А Симку окликнула Алёна.
Она сказала, что Мик не спал всю ночь, потому что у деда были приступы. Первый вчера вечером, а второй ночью. Он задыхался. Среди ночи пришлось вызывать «Скорую», а она приползла только через два часа. Медленней, чем пожарная команда. Деда хотели забрать в больницу, но он отказался, даже подписал какую-то бумагу. После укола ему полегчало, и он уснул. Но только под утро. Тогда уснул и Мик.
Симка сел рядом с Миком на землю.
— Мик… я ведь не знал…
— Ага. Я не смог прийти и сказать, — простодушно отозвался Мик.
— Ты это… — Надо было попросить: «Ты не злись на меня, на дурака. Если хочешь, стукни меня по глупой башке…» Но слова застревали, и Симка лишь дышал так, словно неосторожно раскусил вынутую из кипящей воды картофелину.
А Мик сказал:
— Жалко, что вчера я не успел сделать рисунок…
Мик ухитрялся делать по картинке в день. Рисовал африканскую сказку. Когда он со стыдливым пыхтеньем показал Симке первый рисунок, тот вначале захлопал глазами. Пятна какие-то — черные, зеленые, красные. Мик виновато молчал: значит, мол, ничего не получилось, да? Симка моргнул еще раз, и… пятна вдруг превратились в черного африканского Мика.
Тот был нарисован быстрыми мазками. Эти мазки словно шевельнулись и сложились в фигурку тощего абиссинского мальчишки. Ребристое черное тело, грустное лицо с толстыми красными губами, ожерелье из крупных звериных зубов, серьги-кольца, мочала на поясе и на ногах… А вокруг — переплетение листьев, лиан, корней, гигантских вьюнков.
Симка вдруг вспомнил чешский фильм про стекло, когда из беспорядочных узоров выстраивались сказочные картины.
— …Непохоже, да? — понуро выговорил Мик.
— Во как похоже! — Симка вскинул большой палец. — Мик, ты неужели правда нигде не учился?
— Не учился я. Просто мне дарили краски, а я малевал на листах. С самого-самого детства…
— Мик!
— Что? — сказал он робко.
— Ты это… малюй дальше!
С той поры Мик почти каждый день показывал Симке новую картинку. Это получалось, будто листки цветного календаря. День — рисунок, рисунок — день… Рисунки были замечательные. Так, по крайней мере, казалось Симке. Они были те самые . Как сама сказка.
Был Дух Лесов — на пылающем оранжевым и лимонным пламенем слоне, а сам похожий на взвихренную тучу с сердитыми человечьими глазами.
Был Ато-Гано после боя с отцом Мика. В боевом уборе и ожерельях, с грозным лицом, с зазубренным копьем, с черным мальчонкой под мышкой, который отчаянно дергал ногами.
Был Луи. Несколько взмахов бледно-бежевой кисточки — не поддавшиеся загару ноги, руки и шея. Три светло-желтых мазка — разлетевшиеся волосы. Две синие капли — бесстрашные глаза. Луи смеялся, протягивая ладони рабу-негритенку…
И еще Луи — в последней отчаянной схватке с хищниками. Уже израненный, но все равно гордый…
И Мик в мертвом царстве, где он безуспешно искал душу Луи. И громадный зверь с кошачьей мордой и рогами, который сопровождал Мика. На первый взгляд зверь казался страшным, однако морда у него была не столько хищная, сколько грустная…
И много чего еще было. Старый мудрый павиан, утес обезьяньего царства, лунные джунгли и гиена с горящими глазами, охотник за слоновой костью Дугл а с, принцесса, которую встретили однажды Мик и Луи…
Симка, глядя на рисунки, не раз думал, что за них Мику можно простить все его фокусы. А Который Всегда Рядом тут же вставлял замечания: «А кто ты такой, чтобы прощать или не прощать? Чем ты лучше его?»
В самом деле…
Поссорившись и помирившись, Симка-Мик и Мик-Луи опять устремлялись на овражные откосы. З а росли пахли крапивным и репейным соком, полынью, пыльцой безымянных сорняковых цветов. От нагретой кирпичной стенки несло духом старинных развалин. Струйки сухой глины со змеиным шуршанием сбегали по склонам среди густых стеблей. Наверно, все это было похоже на джунгли с затерянными в чаще храмами и шелестом удавов и кобр…
— Мик, смотри, там притаились незнакомые воины!
— Ничего, Антикот их распугает!
Антикот — это и был как раз таинственный зверь с кошачьей мордой и рогами. Он подружился с мальчишками. Имя ему придумал Мик (не африканский, а настоящий). Оно означало вовсе не «Тот, кто против котов», а «Кот-антилопа». Потому что рога были как у антилопы-гну…
— Луи, давай влево! Мы обойдем их с тыла!..
Слева была особенно густая чаща. Но что она могла сделать с Миком и Луи? Шипы, колючки и ядовитые жала были не страшны прокаленным солнцем, испытанным водой, огнем и медными трубами гибким телам (точнее говоря, труба была лишь одна, и та фанерная, но это уже мелочи).
— Мик, это, кажется, львы!
— Не будем трогать, если не нападут сами!
— А вон там опять гиена! Зализала раны, зараза!
— Окружай ее!..
Но не всегда они охотились на хищников и воевали.
Иногда интереснее было мастерить топоры и луки и придумывать планы будущих экспедиций. Сидели в гамаке и на топчане, мастерили и придумывали. Звенел солнечный день. Стеклянно трещали кузнечики. Покрикивали соседские петухи. На дворе теперь всегда стояла тишина. Соседи, кроме Треножкина, были люди спокойные и к тому же с утра до вечера — на работе. А с Треножкиным вскоре после взрыва мотоцикла случилась новая беда — его забрали на военные сборы. Жена причитала, что хотят отправить на Кубу, помогать тамошним революционерам, но это была, конечно, несусветная чушь. Отправили в Сухую Елань, в сотне километров от Турени.
— Не хватало еще кубинцам такого идиота. Он там в штаны наложил бы, — сказал непримиримый Мик.
— А он раньше не был на войне? — спросил Симка. — Я думал, он на фронте контуженный.
— На каком фронте! Он тогда еще по годам был недоросток.
— А откуда трофейный мотоцикл?
— Мало ли откуда. Купил где-то. Наспекулировал небось. Шкура такая…
Жена Треножкина, оставшись одна, ни с кем не скандалила, говорила с соседками сладким голосом…
Впрочем, о Треножкине почти не вспоминали, были дела поинтереснее. Кроме игры в Мика и Луи придумали еще одну — в разноцветные планеты. Эта игра не требовала беготни и жарких боев с воображаемыми врагами. Можно было сидеть, разглядывая в альбоме Мика яркие планетные шары, и фантазировать так, что Жюль Верн и авторы «Страны багровых туч» лопнули бы от зависти.
Не сходя с места, Симка и Мик отправлялись в межзвездные путешествия.
Путешествовали не на ракетах. С помощью фантастического приспособления они протянули от планеты к планете «воображательные» туннели. Похожие на переплетенные стеклянные трубы. Из этих труб могучими «вселенскими» машинами выкачали не только воздух, но даже всю пустоту мирового пространства. А раз не осталось пустоты, не осталось и расстояний. Если же нет расстояний — до любой планеты рукой подать…
На планете Кукурузе они помогли местным жителям, оранжевым человечкам, построить железную дорогу с солнечными двигателями и город из синего стекла. На Легенде победили и выгнали в космос зловредных щерозубов, похожих на мелких змеев-горынычей, только с вонючими воздушными шарами вместо крыльев и с антеннами на хвостах. На Юноне открыли подземный город с сокровищами и следами древнего мира…
Красный мяч тоже был планетой. На ней жили сами Симка и Мик.
Планета лишь издалека, из космоса, казалась красной, потому что так отражала солнечные лучи. А на самом деле она была разноцветная. Хватало, конечно, покрытых алыми маками и сплошной земляникой лугов, но плескались там и океаны с «изгибами зеленых зыбей», и шумели малахитовые леса, и сверкали «серебряные и жемчужные» скалы. А на Северном полюсе (где не было льда и стояло сплошное лето), возвышалась медно-золотая башня. Что спрятано в этой башне и какие на планете обитатели, надо было еще придумать. Не все сразу…
Не всегда были игры. Хватало и других дел. Не обязательно веселых. То у Станислава Львовича опять хворь и надо сидеть с ним и бегать в аптеку. То снова, как в мае, — перебои с хлебом, и приходится с утра и до обеда торчать в очереди вместе с сердитыми бабками, которые только и знают шипеть на ребят: «А ну тише, вам тута не качели-карусели» или «Чево трешься-то, ты перед нами вовсе и не занимал. А ишшо пионер, наверно…» И самое обидное, что магазины разные — у Мика в конце Заовражной, а у Симки на Ялуторовской улице…
Ввели какие-то дурацкие талоны, стали давать хлеб по килограмму на человека. И это при каждодневных рассказах радиодикторов, как улучшается жизнь советских людей, и рассуждениях Никиты Сергеича о близком коммунизме…
Когда мама задерживалась на работе, приходилось идти в ясли за Андрюшкой и возиться с ним дома. Андрюшка после больницы был сперва покладистым, а когда пошел в ясли, стал вредничать. Дома порой закатывал капризы из-за пустяков. Тогда Симка говорил маминым голосом: «Что, переходный возраст начинается? Не рано ли, сокровище мое?» Андрюшка испуганно умолкал…
В общем, жизнь есть жизнь. Но даже и в трудные дни удавалось выкроить время, сбежаться, вновь затеять что-нибудь интересное. И тогда получался настоящий счастливый коммунизм — нынешний, а не будущий.
И почти ежедневно, чаще всего утром, Мик показывал новый сказочный рисунок. И когда он успевал рисовать!
Наконец рисунков набралось три десятка, и… наступил август.
Август, как известно, время ожидания школы. По правде говоря, не очень радостного ожидания. Все время считаешь: «Вот осталось три с половиной недели… Вот три… Уже всего две с половиной…» Потом утешаешь себя: «Ведь еще целых две недели …»
Мама купила новую школьную форму: длинные серые брюки и пиджак. В общем-то ничего форма, ладная такая, не то что прежняя, мешковатая, с гимнастеркой. Но пока на нее даже глядеть не хотелось. Хотелось прежнего лета. А оно уже не было прежним. Набегали иногда пасмурные деньки, а при солнце появлялись облака с серыми плоскими «животами» — предвестники зябкой поры. Никаких намеков на белые ночи не было теперь и в помине, ночью небо делалось темно-синим и звездным.
Когда Симка отпрашивался к Мику ночевать, они лежали на дворе, навалив на себя по два одеяла и еще какие-нибудь старые пальто (без этого было уже холодно) и разглядывали созвездия. И спорили, где какое. Или выбирали для своих планет звезды — чтобы сделать их солнцами.
А однажды Станислав Львович раздобыл где-то и подарил мальчишкам половинку полевого бинокля. Теперь можно было сколько хочешь разглядывать разбухшую желтую Луну. Правда, этот монокуляр не приближал Луну так сильно, как телескоп, зато она виднелась без всякой размытости, дрожания и бликов. Прямо как на той фотографии, что была у Мика в журнале.
Иногда из мезонина спускался Станислав Львович и тоже смотрел на «этого спутника влюбленных и лунатиков».
— Да, скоро, братцы, по нему уже будут топать люди… Только станет ли от этого человечество умнее?
Симка и Мик были уверены, что станет. Дед не спорил. Переводил разговор на что-нибудь другое. Например, на рисунки Мика.
— Жаль, что их никому не покажешь. По-моему, знающие люди сказали бы, что у тебя талант…
Показать рисунки удалось, но гораздо позднее, через тридцать лет. На персональной выставке театрального художника Дмитрия Семенова. Там был специальный раздел — «Из детских лет». Газета «Культура» писала, что «еще в школьную пору Дмитрий Анатольевич проявлял незаурядные дарования и демонстрировал…» ну и так далее. Жаль, что Станислав Львович уже не узнал о такой оценке юных талантов внука.
Больше всех Станиславу Львовичу нравился рисунок, где черный Мик на фоне разноцветного облачного заката сидит на корточках, держит в ладонях пичугу и пытается согреть ее дыханием.
— Картинки твои, любезнейший внук, для меня просто лекарство, — говорил дед, перебирая листы. — Видишь, я и дышать легче стал.
— Вот и дыши, — ворчливо ответствовал Мик. — И не вздумай опять запасаться папиросами. И ничем другим…
— Строг ты у меня, дитя мое…
Мик придумал новую игру. Он заявил, что на Красной планете живут хенды и хохи .
— Это кто такие? — опешил Симка.
Мик объяснил, что хохи — довольно вредные существа. Вроде сердитых гномов и оставшихся без приюта домовых. А еще всякие мелкие черти, лешие и вышедшие на пенсию ведьмы.
— А хенды?
Мик прочему-то замялся, но разъяснил, что это всякие хорошие существа. Например, тот же Антикот. Но больше всего среди хендов обыкновенных ребят. «Только не вредных, а таких… ну, вроде как Сережка и Славка из кино про судьбу барабанщика».
Симка кивнул:
— И как Дэви из «Последнего дюйма»…
И добавил про себя: «И тот мальчик с берега в Ленинграде. И венгерский Ласло…»
— И… девочек, наверно, тоже туда можно… — наступив на великое смущенье, выговорил Мик. — Ну, вроде таких, как Женька из «Тимура и его команды»…
— Конечно… — Это Симка сказал со сдержанным вздохом. Соня так и не написала сама и не ответила на письмо, которое он, собравшись наконец, послал в середине июля. «Ну, что же, не всякая дружба сильнее расстояния», — умудренно говорил ему Который Всегда Рядом . И Симка злился на него, потому что нечего было возразить.
Потом оказалось, что хенды и хохи живут не только на Красной планете, но и в Турени. Хенды обитали везде — на обычных улицах и на тех, которые Симка и Мик выстраивали в своем воображении над туреньскими переулками, рынками и мостами. Эти улицы были из переливчато-звонкого разноцветного стекла.
Хохи укрывались в малодоступных местах: в зарослях крапивы на пустырях, под похожими на избушки на курьих ногах водокачками, в чаще боярышника у кривых изгородей, в темных подвалах старых особняков, где из спрятанных в земле зарешеченных окон несло грибной плесенью…
Хенды приходили на помощь, когда Симка и Мик отправлялись в экспедиции и разведывали разные таинственные места. Путешественники попадали в переулки, где узорчатые башенки над древними воротами были похожи на сказочные теремки. Лазали по туннелям, прорытым для весенних ручьев под дорожными насыпями. Открывали никому не ведомые пещеры и гроты под деревянными лестницами на откосах реки и лога. Читали полустертые надписи с ятями и твердыми знаками, которые сохранились на полуобваленных кирпичных брандмауэрах в заросших кленами и тополями дворах. (А стеклянный город в это время позванивал над настоящим — кирпичным и деревянным — колокольцами, нетающими сосульками и хрустальными флюгерами.)
Хохи мешали путешественникам. Цепляли за ноги чертополохом и ржавой проволокой, рвали штаны и рубашки, подламывали под ногами гнилые доски и хихикали, высовывая из щелей и кустов носатые и глазастые рожи. В сумерках это бывало даже страшновато…
В своих путешествиях по улицам, берегам и пустырям Симка и Мик искали клады. Не обязательно с сокровищами, а просто с чем-нибудь интересным.
Один раз Мику повезло. За городским рынком, в конце улицы Шверника, был заброшенный домик с кривым одиноким столбом от ворот. У этого столба Мик провалился в заросшую лопухами яму, там расцарапал ногу о что-то колючее, и оказалось, что это медный подсвечник. Конечно же, удивительно старинный, просто музейный. У него была подставка в виде узорчатых лап и витого стержня. От стержня расходились три изогнутых рожка с похожими на цветы чашечками. Один цветок оказался отломан, однако это не убавило ценности найденного сокровища (хохи подвывали от зависти, а хенды поздравляли Мика и заодно Симку).
Теперь безветренными темными вечерами на лужайке у гамака и топчана Мик и Симка вели беседы при свечах. Две свечи они вставляли в медные чашечки, а третью приспосабливали прямо к обломанному рожку (и она горела ничуть не хуже). Хохи досадливо сопели в репейниках и пытались иногда задуть свечки, но безуспешно. А хенды скромно садились в кружок и слушали разговоры. Стеклянный город высоко над головами тихонько звенел и по-своему перестраивал созвездия между зеркальными гранями…
Но в конце концов Симка почуял, что Мика эти игры уже не увлекают, как прежде. Тот несколько раз выдумывал причины, чтобы не отправляться в экспедиции. А два раза не появлялся у Симки, когда обещал. И потом отговаривался разной ерундой. Ну, сказал бы честно, что это дело ему наскучило и надо придумывать что-то новое! А то плетет про маму, которая заставила пойти с собой в магазин, про папу, который просил помочь разобрать на стеллаже книги…
В конце концов Симка снова поругался с Миком. Тому опять куда-то было «обязательно надо», и он смотрел в сторону нетерпеливо перебирал ногами. А ведь накануне договорились, что пойдут на стадион — проверить: нет ли под дощатыми трибунами убежища хохов?
— Давай завтра, а? — бормотал Мик. — Сегодня я никак…
Скорее всего, он хотел остаться один со своим альбомом, чтобы рисовать человечков в разноцветных карнавальных костюмах. Сказал бы уж прямо, не вертелся…
— Ну и фиг с тобой, моржа… — буркнул Симка и пошел домой. Даже не оглянулся, когда Мик жалобно окликнул его.
Симка не тревожился, ссора была мелкая и привычная. Завтра они сойдутся как ни в чем не бывало, и все пойдет по-прежнему. Однако надо бы придумать для игры что-то новое…
И тут, на счастье, Симка повстречал Фатяню.
Фатяня был… ого! Он был во флотской форме. Правда, она состояла не из отглаженных клешей и белоснежной матроски, а из холщовых сизых штанов и такой же рубахи, но рубаха оказалась заправлена под ремень с морской бляхой, а сверху украшена новеньким синим воротником — гюйсом! (Таким, как у Мика!) А еще был мятый синий берет с якорьком.
— Фатяня! Ну, ты совсем это… как из песни…
— Из какой песни? — скромно (и знакомо так, косовато) заулыбался Фатяня. И Симка процитировал песенку, которую слышал от брата Игоря:
— Мы севастопольцы, мы моряки! Плывем во все края-материки…
— Да какие там материки. Для начала на картошку отправляют, на целый месяц. Занятия только с октября… Вот и робу выдали рабочую. А потом уж дадут настоящую форму. Если, говорят, поступит на склад…
— Эта тоже во! Сила! — Симка показал большой палец. И втайне порадовался, что сейчас он опять в своей «морской» фуражке. Вроде как из одной команды с Фатяней. И ремень с якорем на школьной пряжке вот он, никуда не делся. Симка погладил пряжку.
Фатяня, кажется, понял его.
— Ты, Зуёк, корабельная душа вроде меня. Я чую… А твой кореш где? Вы вроде всегда на п а ру…
— Занят он сегодня… — Симка слегка пригорюнился внутри, но виду не подал.
— Вы парни надежные. Выручили тогда меня… Это, конечно, шутка и смех, чернила-то, а все же оно помогает, когда про тебя кто-то помнит и страдает.
— Да чего там… — сказал Симка.
— Нет, не говори! Это называется морально-политическая поддержка… Я вот тут тебе и… Мику твоему… одну вещицу раздобыл. На память…
Фатяня, хитровато морща нос, по локоть запустил руку в карман холщовой робы. Вынул…
— Держи… У нас в училище воскресник был, разгребали мусор в подвале, я там эту штучку и надыбал. Думаю, раз в мусоре, значит, никому она ни на чёрта не нужна. Вот и прибрал… для вас, значит…
Симка нерешительно взял в ладонь увесистую штучку. Она была похожа на облезлую шахматную фигуру, но с крупной медной подставкой…
— Печать?
— Она самая. Корабельная. Старых времен еще… Ею, видать, купцы сургуч штамповали на грузах, когда отправляли пароходом…
Симка повернул печать к себе «лицом». Конечно, корабельная! Потому что не просто круглая, а со скрещенными позади круга якорями (видны острые лапы и головки-кольца с торчащими из них кончиками канатов).
Не было сил отказаться от такого подарка. Да и зачем отказываться-то? Ясно же, что Фатяня это от всей своей доброй души!
— Ну, Фатяня… Ну, ты… В общем, во какое спасибо! От меня и от Мика…
— В общем, «во какое на здоровье», — ободряюще посмеялся Фатяня. Похлопал Зуйка по плечу и пошел по своим делам. Шагал, слегка раскачиваясь, но уже не «по-стиляжьи», а с флотской солидностью.
Мик с полминуты смотрел Фатяне вслед и сел на лавочку у ближних ворот. Чтобы как следует разглядеть медное сокровище.
ПЕЧАТЬ ПОД ПРИГОВОРОМ
Он сидел и разглядывал. По кругу, в два кольца, шли глубоко вдавленные мелкие буквы. Чтобы прочитать их — идущие в обратном направлении — понадобилось усилие. Симка хмурился, держал печать у самого носа и шевелил губами:
Объединенное товарищество торговли
и пароходства Сибирскихъ рhкъ
А в центре круга — две прямые строчки, мелкая и крупная (тоже задом наперед, конечно):
Пароходъ
ПОЛЮСЪ
Печать по диаметру была больше старинного пятака раза в полтора. Она пахла старой медью — почти как самовар тети Капы, только не так сильно.
Симка вытер печать о штаны. Подышал на нее. На внутренней стороне руки, под локтем, где загар был слабее, чем на других местах, Симка аккуратно вдавил печать в кожу. Оттиск получился что надо! Он сперва побелел, потом покраснел, и все буквы теперь читались без труда. Особенно слово «Полюсъ»!
Симке вспомнился другой «полюс», тоже медный. На Красной планете, на мяче Мика. Тревога из-за недавней ссоры кольнула его, и Симка понял: надо поскорее бежать к Мику, показать Фатянин подарок. Тогда сразу забудется все плохое! И они тут же сочинят новую игру — про старинный пароход с могучими гребными колесами и таинственным грузом в трюме…
Симка вскочил.
«Подожди… — Это был, конечно, Который Всегда Рядом. — Надо не так…»
«А как?»
«Пошевели мозгами».
Симка пошевелил…
И понял! Сразу показывать печать не следует. Лучше спрятать ее в укромном месте. А потом упросить Мика отправиться снова на поиски клада! Ну да, игра ему поднадоела, но один-то раз еще можно! Они окажутся на какой-нибудь заросшей рябинами и мелкой ромашкой улице. Катнут перед собой мяч (так бывало и раньше): пусть покажет, куда идти. Симка его катнет! Постарается, чтобы мяч оказался рядом с местом, где спрятана печать. И пускай Мик отыщет ее! И сразу вся его скука сгинет без остатка. Потому что такая находка! Такая тайна!..
Только где же спрятать?
«Да уж не в ближних переулках, где вы всё излазили и разнюхали», — хмыкнул Который Всегда Рядом . Будто Симка сам этого не понимал!
Нужно было место, связанное с пароходами и плаваниями. Такое, где сразу чувствуешь за спиной синий флотский воротник (хотя по правде его и нет). Разумеется, это были улицы рядом с пристанью.
Симка с Миком в своих экспедициях забредали сюда только дважды (далеко все-таки). Один раз они лазали по развалинам кирпичного пакгауза рядом с заброшенной рельсовой веткой (а хохи сопели в бурьяне и старались запутать мальчишек в тупиках и кучах щебня). А второй раз они наткнулись на берегу на разломанный буксирный катер и хотели его обследовать, но внутри оказалась компания больших парней с картами и бутылкой. Это вам не хохи! Пришлось тихо слинять…
Да, там немало закоулков, заросших фундаментов, лесенок и мостиков через канавы, под которыми можно устроить замечательный тайник!
Однако известно, что самый лучший тайник — в таком месте, которое у всех на глазах. Никому не придет в голову искать там сокровище! И Симка вспомнил, что такое место есть!
Это памятник речникам! Двухметровый четырехлапый якорь на высоком кирпичном постаменте. Симка помнил, что некоторые кирпичи, особенно внизу, казались расшатанными, торчащими вкривь. Наверняка можно вытащить один, положить печать в открывшееся гнездо и вставить кирпич снова. Никто не догадается, что там. Особенно если все это еще и в траве…
Так размышлял Симка, а его коричневые ноги в протертых брезентовых башмаках бодро топали по доскам и ступенькам, по асфальту и гранитным плиткам, по лужайкам с клевером и подорожниками и по упругим тропинкам вдоль канав. По берегу, по улице Народной Власти, по переулкам…
Август, видимо, вспомнил, что он летний месяц, и снова стоял жаркий день. Солнце теплой ладонью толкало Симку в спину, поджаривало плечи, грело заросшую пухом шею. Ветерок забирался под обвисшую майку. Симка не замечал расстояния, шагалось легко. Мешала только печать — она якорной лапкой царапала сквозь подкладку ногу и так оттягивала карман, что он тряпичным кукишем высовывался из короткой штанины. То и дело приходилось поддергивать. Но зато эта увесистость напоминала о будущей игре, о тайне, о кладе…
В переулках теперь не было, конечно, той загадочности, что белой ночью, в июне. Проносились велосипедисты, прыгали через веревочки девчонки, сидели у калиток бабки. Ходили растрепанные, измазанные разноцветными чернилами (для отличия) куры, грелись на заборах равнодушные кошки, и было ясно, что сейчас они не пойдут к незнакомому мальчишке, сколько ни зови.
Цвел у заборов шиповник — алый, розовый и почти белый. Шиповник — удивительное растение. У всяких кустарников и деревьев для цветения свое время: у черемухи, яблонь, сирени, тополей, боярышника, рябины… А шиповник цвел все лето (по крайней мере, в Турени). И, кстати, был он красивый, но довольно коварный — прятал в своей гуще зловредных хохов, которые не боялись его шипов. Симка, он тоже не особенно боялся, но все же не совался вплотную, когда тропинка шла близко от цветущих зарослей: чего нахальничать-то! И хенды, которые невидимо шагали рядом с Симкой, одобряли эту осторожность.
Одобрили хенды и другую осторожность — когда Симка решил обойти стороной пацанов, гонявших мяч на пустыре у бревенчатой башни-водокачки. Шагай Симка просто так, налегке, он бы не свернул. Но когда идешь с сокровищем… Кто знает их, здешних мальчишек! Некоторые с виду шпана шпаной…
Пройти незамеченным, однако, не удалось. Мяч вылетел из толпы игроков на край пустыря, к дороге. Все оглянулись и увидели Симку. Среди игроков была темноволосая длинноногая девчонка в клетчатой юбке и белой футболке. Она и крикнула на весь пустырь:
— Эй, капитанчик! Пасни мяч!
Почему «капитанчик»? Значит, разглядела издалека якорьки на фуражке? Симка подошел к мячу, примерился, ударил. Умело ударил. Мяч улетел прямо в середину игроков. И они снова сгрудились, мелькая ногами и локтями, и тут же забыли про Симку (и хорошо!). Девчонка же, оглянувшись, крикнула с прежней звонкостью:
— Спасибо!
Да, что ни говори, а девочки не в пример воспитаннее мальчишек. Даже такие вот атаманши. Это пустяковое «спасибо» почему-то согрело Симке душу. Он стал думать про девчонок вообще. И про тех, что в альбоме у Мика. И про Соню… Может, еще напишет?
С этими мыслями Симка вышел к памятнику.
Памятник речникам, погибшим в революцию и Гражданскую войну, стоял на Госпаровской площади. Некоторые называли ее «Гаспаровская» (в честь доктора Гаспара Арнери из «Трех толстяков», что ли?). Но Симка знал, что это имя от слов «государственное пароходство». Такое появилось в Турени после революции вместо всяких частных пароходных компаний.
Площадь была даже и не площадь, а широкий перекресток Мельничной и Капитанской улиц. Он зарос всякой уличной травой и одуванчиками — они цвели сейчас повторно, почти так же густо, как в начале июня. На одном углу стояла двухэтажная кирпичная больница, построенная лет сто назад, — красивая такая, с полукруглыми окнами и куполом с чешуйчатой кровлей. На другом — каменная белая аптека, тоже старинного вида, с высоким крыльцом под узорчатым навесом на витых чугунных столбиках. Напротив аптеки подымалась обшарпанная церковь со снесенной колокольней — там сейчас были какие-то мастерские. А на четвертом углу темнел бревнами ничем не примечательный дом — одноэтажный, с палисадником, где курчавились и густо закрывали окна рябины.
Недалеко от середины площади ее пересекали две мостовые: одна асфальтовая (Капитанская), другая булыжная (Мельничная). Метрах в пяти от этого скрещения стоял на кирпичном кубе с карнизами якорь. Его треугольные лапы нависали над стенками постамента. Кирпичи когда-то были побелены, однако с той поры известку съели дожди и ветры. Она лишь местами сохранилась в виде светло-серых, похожих на лишайники пятен. В кирпичах были заметны отверстия от болтов. Раньше на болтах держалась чугунная доска с фамилиями, но потом то ли отвалилась, то ли ее по какой-то причине сняли… Солнце откровенно высвечивало на теле якоря ржавые пятна и оспины. А тень его на траве лежала четкая и почти черная.
На Госпаровской площади было тихо и пусто. Лишь брела от аптеки равнодушная ко всему на свете старушка, да у дома с палисадником гордо ходил черно-рыжий петух с хвостом, похожим на оторванный от мушкетерской шляпы плюмаж. Конечно, бабка и петух были не опасны.
И все же Симка повел себя осторожно. Он отыскал в подорожниках консервную жестянку и не спеша погнал ее башмаками к центру площади. Мол, ничего особенного, гуляет мальчик, развлекается. В тени якоря он пнул банку так, что она (как бы случайно) усвистала в заросли у постамента.
И мальчик будто бы принялся искать ее там. Сел на корточки, раздвинул высокую лебеду, листья которой местами уже покраснели в предчувствии осени. Изнанка листьев оставила на коричневых пальцах и коленях алюминиевую пыльцу. Жестянка была здесь, но Симка искал другое. Он высматривал в фундаменте податливый кирпич. И нашел (так и должно было случиться!). Пошатал, вытащил. Во влажную прямоугольную пустоту положил печать. Оглянулся — никого не было ни вблизи, ни вдали, только летали над головками трав коричневые, как клочки загара, бабочки-крапивницы.
Симка вдвинул в гнездо кирпич. Тот, конечно, теперь не дошел до конца, ну и не надо. Рядом было несколько таких же, торчащих. Никто не обратит внимания, если даже и заглянет сюда, в лебеду.
— Лежи смирно и жди, — особым, «секретным» шепотом сказал Симка печати. И почуял, как тень тайны накрыла его прохладным крылом.
Хотя, по правде говоря, это была тень тучи.
И откуда эта туча — с золотящимися клубами на краю, но грозно-лиловая в середине и до самых дальних крыш — надвинулась Госпаровскую площадь? Вроде бы до последних минут ничто не предвещало грозы. Взмах душного ветра пригнул лебеду и одуванчики. Бабочки исчезли. Храбрый петух у дальнего палисадника проворно бежал к подворотне. Симке вдруг представилось, как у него на дворе дяди-Мишин кот Тимофей орет у двери, просится в дом — он отчаянно боится грома. А тетя Капа кричит из окна соседкам:
— Сымайте белье с веревок, спасайте от дожжа!
Надо было спасаться и Симке. Ближнее укрытие — на аптечном крыльце. Симка стреканул туда через площадь, как увидевший хищную жабу кузнечик. И успел! Влетел под навес, и лишь тогда ударили первые струи.
Ударили они здорово. Сразу — тугой ливень, без подготовки. Загудел, заревел в почерневшем воздухе. Грянул и по ступеням. Брызги веером ударили по ногам, хотя Симка прижимался к самой двери. Ну, это пусть! Лишь бы не по животу, не по плечам, а то ведь — бр-р…
Невидимые хенды, разумеется, попрятались кто куда, хотя им-то что — непромокаемые же. Ливень поднажал еще. Симка потанцевал, прижался спиной к деревянным узорам двери. Можно было бы заскочить в аптеку, но он опасался — вдруг тетки в белых халатах заругаются: «Ты чего тут хлюпаешь мокрыми башмаками!»
Симка обнял себя за плечи и сказал ливню вредным голосом:
Ну и фиг с тобой, моржа, Не боимся мы дожжа…И тут ка-ак вспыхнуло, ка-ак грянуло! Сквозь потоки Симка увидел — огненная стрела шарахнула прямо в якорь на площади! Симка зажмурился и, кажется, стал ростом с мышонка.
Очень захотелось домой. Симка не боялся «дожжа», но молний опасался. Конечно, не как глупый Тимофей, но все-таки… В молниях ведь не пустой страх, а реальная угроза. Вон как в прошлом году разнесло старый тополь на Запольной улице!
Однако гроза отодвинулась. Напугавший Симку удар был самым страшным, а потом гремело глуше и сверкало послабее. Ливень превратился хотя и в сильный, но ровный и даже монотонный дождь. Симка услышал, как неподалеку, на углах дома, гулко поют водосточные трубы.
Дверь толкнула Симку в спину, отодвинула его. Появился из-за нее полный дядька в клетчатой рубахе с закатанными рукавами. Бодро сказал:
— Кажется, не так грозно, как сперва казалось, а?
— Ага, — сказал Симка. — То есть… ой, здрасте!
Потому что дядька был капитан «Тортилы» Вадим Вадимыч.
Капитан тоже обрадовался:
— Ба! Шестикрылый Серафим! Нам везет на встречи!
— А… да!
Симка не скрывал радости. Теперь, если гроза вернется, рядом с бодрым Вадимом Вадимычем будет не так страшно. Даже почти совсем не страшно…
— Тебя, крылатое дитя, каким ветром опять занесло в эти края? Снова ищешь приключений?
— Ищу! — весело признался Симка. Рассказывать про печать он не собирался, но и врать хорошему человеку не было причины. — Я тут гулял, смотрел… всякое интересное. У меня и моего товарища такая игра — разведывать места, где могут быть приключения…
— Клянусь брашпилем, как говорит штурман Кочерга, благородное занятие! А где твой товарищ? Уверен, что это достойная личность.
— Ага… Только сегодня он не смог. А вообще-то мы часто вместе… — Симка слегка затуманился, и на миг опять куснуло беспокойство. Он перевел разговор: — А как «Тортила»?
— Перетащили на старицу. Вожатые катают сейчас на ней лагерных ребятишек. Ну и мы два раза туда ездили, чтобы старушка не скучала… В конце августа, на закрытие третьей смены, поедем снова… Если хочешь, давай с нами! Дорога не трудная, автобус ходит каждый час. Согласен?
— Согласен! А можно вдвоем?
— Само собой!.. Не исключено, что в какой-то степени сбудется ваша надежда на приключения… Где-нибудь через неделю наведайтесь ко мне домой, улица Новопароходная, дом шесть. Это в трех кварталах отсюда по Мельничной. Дом во дворе, если заплутаете, спросите Вадима Вадимыча Шестакова. Запомнил?
— Еще бы! — вырвалось у Симки. Громче дождевого шума.
Вадим Вадимыч глянул с интересом:
— Почему «еще бы»? По-моему, ничем не знаменитая фамилия…
Симка засмущался, но молчать было теперь тоже неловко. И как вывернуться, сразу не придумаешь. Оставалось ответить честно:
— Ну… знакомая есть одна с такой фамилией. Девочка…
Вадим Вадимыч смотрел сквозь толстые блестящие очки понимающе, уважительно даже, и у Симки выскочило еще одно признание, со сдержанным вздохом:
— Не пишет только…
— Значит, в другом городе?
— Ага, в Тобольске. Она в больнице лежала, там же, где мама с братом. Я к ним приходил, ну и… к ней тоже. Книжки приносил… Потом уехала, обещала написать…
— Выходит, не написала? — как-то напряженно спросил Вадим Вадимыч.
— Не-а… И не ответила, когда я написал.
— А как зовут девочку-то… если не секрет?
— Не секрет, — словно прощаясь с девочкой под слабеющий шум дождя, отозвался Симка. — Соня…
— Ёлки-палки…
— Что? — Симка вскинул глаза.
— Соня Шестакова, Тобольск. Лежала здесь в больнице… Со скарлатиной?
— Ну… да!
— Опять же клянусь брашпилем, это моя племянница…
Нет, ну бывают же в жизни совпадения! Кому скажешь — не поверят…
Симка обалдело смотрел на Вадима Вадимыча — с такой замечательной щетиной на щеках, с таким замечательным круглым животом, такого замечательного целиком! И таял от счастья. Хотя… а чего таять-то?
«Ну племянница. Ну и что? — подал разумный голос Который Всегда Рядом . — Все равно ведь не написала…»
Вадим Вадимыч словно услыхал Которого .
— Не могла она тебе написать. Как только приехала в Тобольск, случилась у них беда. Дом сгорел, где она жила. Старый был, деревянный…
— Ёлки-палки, — сказал Симка в точности как Вадим Вадимыч.
— Да… Ну, конечно, из имущества кое-что погорело. Скорее всего, и адрес твой сгинул там, если был у нее где-то записан. А твоему письму и прийти было некуда, на угольки только… Соня с мамой перебрались пока к родственникам. Ну, как говорится, нет худа без добра…
Симка глянул недоуменно: какое тут добро?
— Я сестре моей Валентине, Сониной маме, сколько раз говорил: переезжайте в Турень. Здесь и работа для нее есть, и дом у меня большой, от бабушки с дедом остался… Она все: нет и нет. А теперь куда деваться-то! Появятся в сентябре. Вернее, сестра в сентябре, а Соня через неделю, чтобы успеть устроиться в школу…
«Не вздумай орать «ура», это неприлично», — предупредил Который Всегда Рядом . Зануда такая… И Симка не заорал, но все же просиял — как солнышко, выскочившее из-за стремительно откатившейся тучи.
— Если хочешь, пойдем встречать вместе, — предложил Вадим Вадимыч, как самое простое дело. И звонкое «Хочу!» выскочило из Симки раньше, чем он успел застесняться. Оставалось спросить:
— А можно с Миком? Это мой друг.
— Можно и с Миком… Ну, пошли отсюда? Дождя уже нет…
— Я вас провожу до дома, ладно? Тогда уж точно буду знать, где вы живете.
— Удачная мысль…
И они зашагали посреди улицы Мельничной, где выпуклые булыжники мостовой разбрасывали вспышки мокрого золота. Сияли вымытые стекла, сверкали сырые крыши, кожу покусывала оставшаяся в воздухе водяная пыль. И, как ранним летом, пахло посвежевшими тополями. В канавах торчали взъерошенные одуванчики. Они были похожи на мальчишек, которых облила из ведра сердитая соседка, чтобы не галдели под окнами.
Булыжники на мостовой были не везде, встречались широкие колдобоины с лужами. Симка скинул башмаки и шлепал босиком, а протертыми насквозь подошвами хлопал по бедрам. Тогда Вадим Вадимыч снял плетеные сандалеты, сунул в карманы носки и подвернул штанины. Он и Симка понимающе поглядели друг на друга и затопали рядом — так что брызги из-под пяток.
Вадим Вадимыч спросил:
— Мик — это и есть тот друг, с которым вы ищете приключений?
— Ага! А еще мы с ним строили телескоп! Помните, я рассказывал, что собираюсь его смастерить? Спрашивал, как сделать трубу!
— Еще бы не помнить! Такой грандиозный проект… Ну и как? Построили?
— Построили! И даже Луну целую ночь разглядывали… Только потом он погиб…
И Симка поведал историю создания и гибели телескопа с пластмассовой линзой.
Вадим Вадимыч сочувствовал. Сразу было понятно: не из вежливости, а по правде. Потом он сказал:
— Значит, интересуетесь звездами-планетами, а оптика пропала?.. Хотите, запишу вас в астрономический кружок во Дворец пионеров? Там, правда, старшеклассники занимаются, но я устрою. Так сказать, по знакомству.
— Значит, вы руководите этим кружком?!
— Нет, я во Дворце старший методист. Вроде как один из педагогических начальников.
Совсем не похож он был на педагогического начальника, добродушный капитан «Тортилы». И это было прекрасно!
— Я посоветуюсь с Миком, ладно? Он еще и рисованием занимается…
— Посоветуйся…
Симка расстался с Вадимом Вадимычем в покрытом сырыми лопухами дворе, где стоял длинный приземистый дом — «наследие коренных туреньских жителей Шестаковых». И вприпрыжку двинулся домой. Светились под солнцем желтые облачные груды — край уходящей за город тучи. Дальше, на сизом фоне ослабевшей грозы, горела радуга. И в душе у Симки была радуга — от всех удач, которые случились за недавние два часа!
Симка не заметил ни расстояния, ни времени — казалось, что появился у Мика через пять минут!
Мик сидел на промокшем топчане и вертел на пальце блестящий мяч. На Симку глянул исподлобья.
— Ты где был? Я к тебе приходил, а тебя дома нет…
— Так… гулял…
— Один? — сказал Мик со сдержанным упреком.
— Но ты же сам не захотел! — Симкина радость слегка съежилась.
— Я не захотел только ненадолго, — обстоятельно и с вредной ноткой объяснил Мик. — А потом пошел за тобой, а тебя нет.
— Но. Я. Же. Не знал. Что. Ты. Передумаешь, — с той же обстоятельностью разъяснил Симка. Ему было непонятно, отчего у Мика такое капризное лицо. И стало тревожно. — Вот поэтому и пошел гулять один. Что тут такого?
Мик надул губы и отвернулся.
— Мы договаривались, что не будем поодиночке…
— Мы договаривались не играть поодиночке в хендов и хохов! Я и не играл, а просто гулял!
Хотелось рассказать про грозу, про Вадима Вадимыча, про Соню. Но сейчас уже так сразу не получится. Потому что Мик ощетиненный… Ну, совсем же непонятно, на что же он обиделся! Спросить бы осторожно: «Мик, что с тобой?» Но Симка… у него тоже характер и нервы. И он вспомнил:
— Когда ты с пацанами на Камышинской футбол гоняешь, я же не обижаюсь.
— А я тебе сколько раз говорил: пойдем вместе!
— А сколько раз не говорил ! Прихожу, а тебя — тю-тю!.. Где моржа? Убежа… — Этой неуклюжей шуткой он попытался спасти положение: мол, Мик, ну чего нам ссориться?
Мик шутку не поддержал, не улыбнулся. Сел на топчане по-турецки, поправил на синем плече белую лямку с прицепленным к ней стеклянным значком, положил на колени алый вымытый мяч и сказал, глядя мимо Симки:
— Ты чего-то сочиняешь. Я ведь вижу…
Да, Мик был такой. Легко чуял, когда человек врет или хитрит (хотя сам грешил этим не раз).
Теперь было не до игры, не до тайн и кладов. Лишь бы не появилось трещинок в дружбе. Симка сел рядом. И честно, подробно рассказал про все. Про Фатянину печать, про то, как он, Симка, решил спрятать ее в тайнике. Как потом хотел разыграть приключение с кладом.
— Чтобы опять стало интересно!
Мик не принял эту Симкину откровенность. То есть принял не так. Его глаза округлились и заблестели.
— Значит, ты решил мне наврать, да?
— Это же не вранье, а игра!
— Игра, когда вместе. А тут… один, как… будто затейник в Саду пионеров, а другой, как дурачок…
— Мик… Тогда пойдем к якорю, заберем печать! И придумаем про нее что-нибудь другое, вместе. А?
Мик глянул с обиженным синим блеском:
— Ты прятал, ты и доставай. А я-то что? Тащиться в такую даль… — И отвернулся.
Симке показалось, что упрямая ощетиненность Мика слегка ослабела. Может быть, Мик ждал, чтобы Симка его поупрашивал, поуговаривал виноватым голосом. И тогда через минуту они шагали бы рядом. Но у него, у Симки-то, терпение ведь тоже не железное. И он повторил деревянным голосом:
— Мик, пойдем.
Тот опять завертел на пальце мяч.
— Я же сказал: не пойду…
— Не пойдешь?
— Я же сказал…
На Симку навалилось что-то непонятное, непримиримое. И звон такой в ушах…
— Ну и сиди один! Рисуй своих красивеньких девочек!
Мик уронил мяч.
Симка попятился. Как двумя словами можно разбить вдребезги всё! Словно грянула тяжелая печать под приговором!
Симка бросился к калитке.
СНЫ
Сперва он бежал, как солдат разбитой армии, за которым гонятся злорадные вражеские всадники. Всхлипывал, задыхался, путался ногами в мокрой траве (он все еще был босиком, с башмаками в руках). Ужас гудел в душе — оттого, что он, Симка Стеклов по прозвищу Зуёк, натворил. Предал самую тайную тайну, которую доверил ему Мик. Будто раздавил ее, хрупкую, из паутинчатого стекла, грязной пяткой…
Всё раздавил — тайны, игры, африканскую сказку. Так же безвозвратно, как озверелый Треножкин растоптал телескоп. Не будет разноцветных планет, хендов и хохов, стеклянного города, не будет ночных разговоров, когда от теплой доверчивости, от радости, что нас двое, внутри делается горячо, будто сердце превратилось в электролампочку… Не будет Мика!
«А как я буду без него?»
«А вот так и будешь, — отозвался Который Всегда Рядом. Без злорадства, а с горькой утвердительностью. — Никуда не денешься».
И не было даже сил огрызнуться.
Симка перешел на шаг. Остановился. Подышал открытым ртом. За несколько минут отчаянного бега он обессилел. Душой обессилел. Потому что рухнуло всё.
«Господи, что же делать-то?»
Вдруг озарило: «Ты же знаешь что! Беги обратно, крикни: Мик, я гад, я дурак! Прости меня, пожалуйста! Ну, прибей на месте, только прости!..» И Симка рванулся было, но… вязкий стыд облепил его, связал ноги. Так, что Симка даже глянул: нет ли на икрах и щиколотках грязных липких бинтов…
Просить прощения мучительно и тошно всегда. А вымаливать прощение за такое. Язык застынет во рту. И глаза не поднимешь. И… вообще это выше всех возможностей…
Симка постоял и побрел к своему дому.
Брел, маялся, и вдруг… пришли спасительные мысли: «Ну а что такое случилось-то? Может, он не так уж и обиделся! Чего я такого сказал? Вырвалось по глупости… А он тоже хорош! К нему по-человечески, а он как капризный младенец. Может, очухается и поймет, что сам тоже виноват! И завтра будет все как раньше…»
Но это была короткая передышка в Симкиных терзаниях. Видимо, организм решил дать ему хоть минутное облегчение от мук, которые навалились так нестерпимо. Передышка кончилась, и они надавили на Симку опять. Симка с отчаяньем осознал, что как раньше не будет никогда.
Раньше, бывало, ссорились, но из-за пустяков. И мирились поэтому легко. Даже знали заранее, что скоро помирятся. А теперь он, Симка, обманул доверие Мика. Самым подлым образом. Это, кажется, называется вероломство …
«Я же не хотел! Это от досады! Сгоряча!»
Но если ты, скажем, грохнул о стену хрустальную вазу, не все ли равно — сгоряча или хладнокровно? Все равно не склеишь…
«Ничего не склеишь», — подал голос Который Всегда Рядом.
«Да пошел ты…»
Симка добрался домой в таком состоянии, будто целый день проработал грузчиком на пристани — все тело стонало. Но это был, конечно, пустяк по сравнению с тем, как «стонало» внутри. Симка брякнулся спиной на свою кровать и стал смотреть в потолок.
«Ну, что, что, что, что делать-то?!»
Вдруг ударило в голову: «А может, Мик прибежит сейчас, встанет под окном, крикнет: «Симка, выходи!»
«Дурак…» — уныло сказал Который Всегда Рядом.
«Конечно, дурак», — покорно отозвался Симка.
Пришла мама, привела из яслей Андрюшку. Тот — сразу к Симке:
— Сима, полетаем!
Это значит, Симка должен поднять его над собой на вытянутых руках и крутить в воздухе, пока руки не онемеют.
— Не могу, устал.
— Сима-а!!
— Мама, пусть он отвяжется!
Мама — она сразу все чует.
— Что с тобой случилось? Будто с поминок вернулся.
Не было сил врать и отмалчиваться.
— С Миком поругался…
Мама сказала осторожно:
— Вроде бы не первый раз. Что за беда. Утром помиритесь.
— Я насовсем поругался.
— Насовсем — это до завтра, — уверенно рассудила мама, потому что знала, как бывало раньше.
Но она не знала, как было сегодня . А рассказать Симка не мог. Пришлось бы говорить «о девочках». А это значит, снова касаться тайны Мика. Если сказать кому-то про нее (пусть даже маме) — это будет еще одно предательство. Казалось бы, теперь какая разница! Мик все равно его никогда не простит. Но нет. Два предательства — в два раз хуже, чем одно…
— Не кисни, — сказала мама. — Слышал по радио последние известия?
Симка мотнул на подушке головой: ничего он не слышал. Зачем ему известия? Провались всё на свете…
— Новый спутник запустили. С собачками Белкой и Стрелкой.
— Опять уморят бедняг, — похоронно сказал Симка.
— Нет, обещают, что приземлят живыми.
— Ага, жди…
— Ну-ка, поднимайся. А то «уморённым» окажешься ты, а не собаки…
И Симка поднялся. Потому что было два выхода: или помереть прямо сейчас, на месте, или… как-то все-таки жить. Умирать сию минуту Симка… нет, не хотел. Да если бы и захотел, то как? И значит, надо было двигаться, что-то делать, изображать, будто ничего непоправимого не случилось.
Симка построил Андрюшке город из разноцветных кубиков. Складывал дома и башни и думал о сказочных городах, которые придумывали они с Миком. И сидел под сердцем комок, похожий на стеклянного ежа. Андрюшка наблюдал за строительством с интересом, помогал даже. Но когда Симка закончил (поставил на главную башню зеленую пирамидку), Андрюшка радостно сказал «бах!» и засадил по городу оставшимся кубиком.
У Симки не было сил разозлиться. Разве виноват глупый малыш? Это он, Симка, виноват: сделал такое «бах», что ничего уже не починить.
У него все валилось из рук — в прямом смысле. Мама напомнила, что надо прибить поаккуратнее края картины на тайнике (пусть не крепко, но чтобы все-таки не топорщились), и Симка стал прибивать, и молоток выскользнул прямо на босую ступню.
Симка поднял молоток, глотая слезы. Были слезы не от боли, а от всего . Он все же вколотил гвоздики в прежние гнезда. Картина с глазастым пнем аккуратно закрыла тайник. В тайнике сейчас хранился ранец с запечатанной бутылкой. А тетрадка с поэмой «Мик» была у Станислава Львовича. Симка и Мик вклеили в нее рисунки, Станислав Львович сделал твердую корочку, обтянул ее похожей на кожу бумагой — получилась книжка. «Пусть пока постоит у меня на полке, буду иногда перечитывать»… — попросил дед внука и Симку.
Теперь как быть с этой книжкой? Разодрать ее? Картинки — Мику, листы — Симке?.. Да не все ли равно! При чем тут книжка, если разодрано все на свете…
Симка посидел под картиной на корточках, помассировал ушибленную ступню.
— Мама, я погуляю…
— Куда это ты? К Мику, что ли? Поздно уже.
Поздно или нет — это как посмотреть. Восемь часов. Августовское солнце в этот час только прячется за крыши, небо темнеет не сразу.
— Я недалеко. Просто так. Подышать…
Мама знала, что Симка в таких делах не врет.
— Обуйся. И надень что-нибудь, зябко под вечер…
Симка не стал спорить. Сдернул с крайнего крючка на вешалке «ленинградский» пиджачок. Этим летом Симка очень редко надевал его — и жарко, и тесноватый стал, малость жмет под мышками. Но сейчас ничего, наделся ловко, как прежде. Будто Симка снова собрался на набережную к баркентинам. Эх, если бы… Если бы все вернуть к тем дням…
«Ты опять стал пиджачок на тросточках », — заметил Который Всегда Рядом . Немного льстиво, словно зачем-то хотел подлизаться к Симке. Симка не ответил. Привычно махнул с лестницы, толкнул ногами дверь…
Нет, на улице не было зябко. Но влага после дневного ливня все еще держалась в воздухе. И по-прежнему сильно пахло тополями. Солнце пряталось за домами, но из середины неба шел желтый свет. Там горело большое кучевое облако. Оно было ярко-медное, все пропитанное вечерними лучами, похожее на округлую гору, которая откололась от какой-то планеты. От одной из разноцветных планет, которые вращались во вселенной Симки и Мика.
Симке стало легче — от вечернего света, от прохлады, от тополиного запаха. А главным образом — от его, Симкиного, решения. Он твердо знал, что сейчас сделает. Не будет больше маяться, а пойдет к Мику и скажет: «Мик, я сделал ужасное свинство. Но это первый и последний раз. Прости ты меня, пожалуйста!» Стыдно? Ну и пусть! Терпи, если заслужил! Да и… не стыдно уже. А страшно.
Почему страшно-то?
Симкина решительность опять увяла, шаг замедлился.
Страшно, что Мик не простит. Может, пробормочет что-нибудь вроде «да ладно, чего там, ерунда» и будет смотреть в сторону, и станет понятно, что обида у него — навсегда. Или просто повернется спиной… Или отцепит стеклянный значок и протянет Симке: «Забирай свой подарок»…
Но даже если и так, то не будет тянущей душу неясности и тоски.
«А куда она денется, тоска-то?» — сочувственно спросил Который Всегда Рядом .
Симка понимал — никуда не денется. Если Мик отвернется…
А почему обязательно отвернется? Ведь другой Мик, который из сказки, простил своего друга Луи, хотя тот ой-ёй-ёй как был виноват!
«Но Луи был герой. Он, как лев, дрался с пантерами и гиенами, — напомнил Который Всегда Рядом . — И он был смертельно ранен. Такого-то можно простить»…
Да, Симка был теперь в своих мыслях не Миком, а Луи. Виноватым, бестолковым, но честным. Он остановился. Выход был прост. Но где и какой подвиг мог немедленно совершить Симка, чтобы искупить свой грех?
Спасти кого-нибудь на пожаре? На каком и как? (Эх, если бы можно было оказаться рядом с горящим домом Сони и если бы он горел сейчас и здесь!)
Прыгнуть с водонапорной башни с самодельным парашютом?
Заступиться за какую-нибудь девочку перед шпаной и быть избитым до полусмерти в неравной справедливой драке?
Симка знал, что ничего такого не случится.
А ноги несли его к реке.
Потому что был единственный способ хоть как-то проявить героизм — переплыть реку.
Ведь он так и не переплыл ее по правде-то! И теперь пришла пора. Сейчас, в августе, река была уже не такая широкая, как в июне, но все же от берега до берега хватало быстрой неспокойной воды (иногда и с водоворотами!). Особенно у ледорезов, недалеко от моста.
Если Симка переплывет реку, значит, он не совсем пропащий человек и есть в нем еще смелость и честность. А если не переплывет… Ну, что же, Луи тоже не уцелел в схватке. Зато Мик потом всю жизнь жалел его, горевал о нем. Они остались друзьями .
Маму, конечно, жаль, будет плакать. Но у нее есть Андрюшка, есть храбрый взрослый Игорь. Они ее утешат…
Уже потом, вспоминая о своем решении, Симка понимал, какое оно было глупое. Ну, переплыл бы он, а что дальше? Пошел бы рассказывать о своем подвиге Мику? Или сделал бы так, чтобы Мик узнал о нем случайно и восхитился (это, мол, Симка от горя, что мы поссорились)? А как бы Мик узнал? Специально звать свидетелей, что ли?
Но сейчас Симка про такое не думал и никаких свидетелей не хотел. Их и не было.
Симка от Нагорного переулка спустился к мосту, а там — еще ниже, к самой воде.
Во влажном воздухе пахло сладковатой речной травой, которая остывала после теплого дня. Дрожали на дальнем, низком берегу первые огоньки. Пробежал катер, выхлестнул на песок шипучую волну. Слева, довольно далеко, горел рыбачий костер, а поблизости не было никого.
Ближний бык-ледорез стоял теперь на суше, от его косой щелястой стенки несло теплым влажным деревом. Это хорошо, что теплым, потому что Симке сделалось зябко. Даже в пиджачке. А когда Симка стянул его, вдоль позвоночника пробежал новый озноб. Симка засуетился. Пиджачок, шорты и майку скрутил в тугую муфту и спрятал внутри ледореза, где темнота пахла плесенью и сырым песком. Он быстренько переплывет на тот берег, пробежит обратно по мосту, оденется — и все невзгоды останутся позади. Главное, не медлить. Симка знал, что вода теплее воздуха, поэтому надо скорее оказаться в ней по горло. А еще надо спешить — чтобы не раздумать. Начнешь размышлять, колебаться, а там, глядишь, и страх навалится…
«А он, что ли, еще не навалился?» — спросил Который Всегда Рядом.
«Иди ты знаешь куда», — сказал Симка. И… сел на корточки у воды. Обнял себя за плечи.
«Чего ты все «иди» да «иди», «пошел» да «пошел»! — вдруг обиделся Который . — Вот возьму и правда уйду…»
«Ну и топай!»
«И уйду!»
«Иди-иди…»
Симка понимал, что Который Всегда Рядом теперь боится быть рядом. Ведь если Симка начнет тонуть, Который ничем не поможет, а видеть такой ужас, наверно, выше его сил. Выход у Которого был один: поругаться, обидеться и гордо уйти (а по правде — сбежать).
«Иди, — сказал Симка. — Все равно тебя нет на свете».
«Меня?! Нет?!»
«Вот именно. Тебя нет».
«Ну и фиг с тобой, моржа…» — Этой фразой Который Всегда Рядом , кажется, хотел свести дело к шутке: мол, Симка посмеется и попросит его остаться. Тогда, может, и остался бы. Но Симка промолчал, и Который Всегда Рядом ушел. Как потом оказалось — навсегда. По крайней мере, в Симкиной жизни он больше не появлялся. И бывало, что Симка жалел о Котором , но это случалось после. А сейчас Симка думал об одном: пора плыть. Потому что не было никакого пути назад.
Он встал. Тощий, озябший и решительный.
И тогда за спиной у него сказали:
— Зуёк…
Сзади стоял Фатяня.
Автор уже предупреждал читателей, что в этой книге много счастливых совпадений. Может показаться, что гораздо больше, чем в жизни (хотя это не так). И теперь можно лишь повторить: кто не верит, пусть не читает. Или пусть пишет критическую статью в газету «Литературная Турень». Но даже если такая статья появится, факта все равно не отменить: Фатяня оказался рядом с Симкой.
Впрочем, в этом нет ничего необычного. Шел он через мост от приятелей, увидел у воды съеженного пацаненка, узнал, быстро спустился, почуяв неладное …
На плече у Фатяни была гитара.
Фатяня опять сказал:
— Зуёк… Ты чего это тут?
— Я… так…
— Купаться, что ли, надумал?
— Я… ага…
— Нашел время!
— А чего… — прошептал Симка.
Фатяня положил на песок гитару. Крепкими (и почему-то очень теплыми) пальцами взял Зуйка за плечи, придвинул вплотную к своей мятой форменке.
— Зуёк, ты это… такой, будто надумал топиться…
— Ничего не надумал… Переплыть хотел…
Фатяня выругался по-морскому:
— Ядрёна швабра!.. Подвигов захотелось?
— Ага! — дернулся Симка. И решил разозлится. И сказать Фатяне, чтобы шел по своим делам и не лез в чужие. И… случилось такое, чего он сам не ждал секунду назад. Симка расплакался — громко, с дрожью всего тела, с пузырями у губ.
Он уткнулся лицом в Фатянину форменку, и горестные судороги сотрясали его плечи.
— Ядрёна свайка, — шепотом сказал Фатяня. Оглянулся, увидел неподалеку вросший в песок обрубок тополиного ствола. Потянул за собой Симку, сел. Посадил Зуйка на колени. Облапил за спину. — Видать, нешуточное что-то, да? Ладно, давай, кореш, кол и сь…
И Симка «раскололся». Сразу. Не было сил удержаться. Вся его горестная история выплеснулась со слезами на Фатянину форменку — сбивчивая, путаная и безнадежная. Лишь про свои слова о девочках Симка все же не проговорился. Сидело в нем это последнее «нельзя». Объяснил иначе: «Я ему сказал такое… чего не имел права… ну, никак… Он теперь никогда…»
Фатяня твердой ладонью провел по Симкиным дребезжащим от горя позвонкам. И сказал почти как мама:
— Никогда — это до завтра… Хватит воду лить, вон ее сколько в реке.
Симка уже не «лил воду» потоками, но всхлипывал безудержно.
— Никакого завтра… не будет…
— Все будет. В лучшем виде. Не можете вы поссориться навеки.
— Почему? — новая судорога тяжело тряхнула Симку.
— Потому что я вам одну печать на двоих подарил. Возьми в голову! Это же все равно как талисман. Заговоренная вещь…
Как ни странно, такой довод показался Симке увесистым. Как сама печать. Только…
— Но ведь она же не у меня… Под якорем…
— Вот и хорошо, что под якорем. Значит, всё у вас будет только крепче… Моряки почему на форме якоря носят? Это знак надежности и прочности… Где твои манатки? Одевайся, я тебя провожу. Чтоб опять не намылился в заплыв…
— Я… не намылюсь, — всхлипнул Симка. — Только… я не домой. Лучше я к Мику… сейчас…
— А вот это не надо. Вам полезно потерпеть до утра. Чтобы все перекипело… Мику-то теперь тоже, наверно, тошно…
«А ведь правда! — ахнул про себя Симка. — Или… ему все равно?»
Терпеть до утра казалось немыслимым.
— Нет. Я сейчас…
Фатяня застегнул и одернул на нем пиджачок.
— О маме подумай, Зуёк… — сказал он вполголоса, словно рядом были посторонние. — Она теперь небось бегает над логом, тебя ищет… Идем.
Мама не бегала над логом, но явно беспокоилась.
— Нагулялся, бродячая душа? Садись за стол, я картошку пожарила.
Симка торопливо умылся на кухне под рукомойником — чтобы мама не разглядела следы слез. Всхлипы все еще иногда встряхивали его, но незаметно, внутри. Он машинально жевал картошку, запивал сладким чаем и думал, думал про свое. То надежда, то горестная безнадежность накатывали волнами. Хотелось одного: чтобы пришло завтра. Пускай хоть какое, лишь бы скорее!
После ужина он сразу забрался в постель, хотя понимал, что не уснет всю ночь. И… уснул почти мгновенно, придавленный всем, что случилось.
Но во сне тоже не было покоя.
Сначала они с Миком оказались внутри запаянного спутника. И Мик был Белкой, а Симка Стрелкой. Или наоборот, неважно. Важно было другое:
— Мик… ты больше не злишься на меня, да?
Мик повернул печальное лицо.
— Какая разница? Все равно мы скоро сгорим в атмосфере.
— Мик, мы не сгорим! Обещали, что нас приземлят!
«А если даже сгорим, то все рано скажи: мы друзья? Хоть в последний миг…»
Мик смотрел понимающе:
— Симка, все хорошо… — И вдруг отвернулся. Кажется, заплакал. Симка повернул его к себе, но это был уже не Мик, а… Клим Негов.
— Что, Зуёк, скоро задымимся? А давай я сначала отрежу тебе голову. Жу-утко, а интересно…
Симка оттолкнул его с дрожью отвращения. И проснулся.
Проснулся он почему-то не дома, а посреди пахнувшей ромашками ночной поляны. Над ним было густо-звездное небо, среди звезд вертелись разноцветные шарики-планеты. Они Симку не удивили, удивило другое — как он здесь оказался? Он лежал на топчане, под какой-то жесткой парусиной, а рядом прямо в воздухе висел гамак. В гамаке сидел по-турецки Мик. Вертел на пальце мяч. Звезды и планеты светили ярко, но лицо Мика было плохо различимо.
— Мик… — боязливо сказал Симка.
— Что?
— Я как сюда попал?
— Очень просто. Я тебя утащил из дома…
— Зачем?
— Ну… плохо же мне одному-то…
— Мик! Значит, ты…
— Симка, — тихо сказал Мик. — Я же знаю, что ты мучился больше меня… Я даже хотел послать к тебе жаворонка.
— Какого? — бормотнул Симка, хотя понимал какого .
— Ну, того, которого Мик послал на небо, чтобы узнать про Луи.
«Но ведь жаворонок погиб», — чуть не сказал Симка. Но это были бы пустые слова, потому что Симка и Мик знали: жаворонок не погиб. Он вернулся и ожил, согретый дыханием африканского мальчика Мика. Такие птахи бессмертны.
Звезды побледнели, планеты затуманились, над краем громадной поляны стал разгораться синий рассвет. Мик уронил мяч, отцепил стеклянный значок, прищурил один глаз, а другим стал смотреть сквозь стекляшку с буквами на Симку. Хитровато так и… Ну, в общем, лисёнок. Лукавый и все понимающий. Симка ощутил на щеках стыдливое тепло. Но в этой стыдливости не было ничего страшного. Она сливалась с ощущением счастливого освобождения от вины и душевной тяжести.
И с этой освобожденностью, с этой радостью Симка проснулся еще раз. По-настоящему проснулся. И улыбался первые несколько секунд. Но почти сразу свинцовое понимание, что это был сон и что на самом деле все по-прежнему плохо, навалилось на Симку. И захотелось куда-нибудь спрятаться, спастись от такого понимания, уснуть опять. Пусть даже навсегда…
Сквозь разомкнувшиеся на миг ресницы Симка увидел, что день за окнами — серый. И стучал в стекла безрадостный дождь. И не было ни в мире, ни внутри у Симки просвета. Звуки тоже были унылые. Прогрохотала по булыжникам телега. Заругалась во дворе на кота Тимофея жена дяди Миши. Покатилось с крыльца пустое ведро. Потом послышался глухой удар.
Сперва Симке показалось, что это у него внутри уныло ухает его несчастье. Раз… Два… Потом он обмер. Кинулся к окну, толкнул наружу, в дождь, створки!
Алый блестящий мяч ударился рядом с окном в стену и отлетел вниз, в руки Мика.
Мик, одетый в желтую прозрачную накидку с рукавами, был похож (как когда-то Симка) на обмякший воздушный шарик с ножками. Он смотрел вверх, блестя синими глазами-каплями и виновато приоткрыв большой крупнозубый рот.
Не думая про одежду, Симка вылетел на улицу. Замер. Подошел. Взял Мика за скользкие, торчащие под накидкой плечи. Мяч упал и весело вертелся в пузырящейся рядом луже. Мик и Симка смотрели на него, будто это было самое важное…
Мама из окна кричала, чтобы Симка немедленно шел домой и оделся, иначе получит такую взбучку, какой не знал за всю свою беспутную жизнь.
А дождь был удивительно теплый…
ЛЕКАРСТВО
Говорят, что если на лужах много пузырей, дождь будет затяжной. Сейчас их было много. Они появлялись от ударов капель и долго плавали не лопаясь. По этим лужам с пузырями босые Симка и Мик, укрывшись одной накидкой, отправились на рынок за картошкой. Конечно, не к пристани, а на центральный. Там в деревянных цехах бывшего авиационного завода располагались торговые павильоны.
Симка и Мик погрузили в тележку полведра картофельных клубней. Свежих, в тонкой шелушащейся кожуре! Дороговато, конечно, однако мама специально выделила сумму на такое дело. Хочется ведь вкусненького! А свежая картошка с подсолнечным маслом, с зеленым луком, с посыпанным солью хлебным ломтем — сами знаете, что такое!..
Примета с пузырями не оправдалась. Когда шли к дому, дождь кончился, и через пять минут по лужам прыгали уже не пузыри, а солнечные зигзаги.
Такие сверкающие зигзаги счастья прыгали и внутри у Симки (и, возможно, у Мика тоже).
Мик ногами гнал по лужам мяч. Симка скрученной в жгут накидкой бил по кустам и тополиным веткам — так, чтобы брызги летели на Мика. Мик подпрыгивал и взвизгивал так радостно, словно на него сыпались не капли, а леденцы.
И оба они болтали напропалую: о бестолковой погоде, о Белке и Стрелке (за которых страшновато), об английском языке, который начнут учить с пятого класса; о том, как жалко, что они в разных школах, ну да это не такая уж сильная беда. И что к зиме надо будет соорудить снегокат-рулевушку на полозьях из обломков лыж, чтобы гонять сверху вниз по речным и овражным склонам…
Только вчерашнего они не касались. Обходили всё, что случилось вчера, как ловушки на минном поле. И от этого счастье все-таки не было полным. Позади него опасливо шевелился колючий комок виноватости. По крайней мере, у Симки шевелился.
Д о ма поставили на электроплитку кастрюлю с водой. Симка посолил воду. Мик не заметил этого, тоже бухнул в кастрюлю чуть не полсолонки — усердие не по разуму, как иногда выражалась мама. Симка заметил это, схватился за голову. Похохотали, сменили воду.
Пришли из кухни в комнату, сели на Симкину кровать, поболтали ногами. Посмотрели друг на друга, потом в окно. Снова поболтали ногами. И… дружно кинулись в кухню — там картавый динамик «Москвич» что-то вещал торжественным дикторским голосом. «…С орбиты… в заданном районе…»
Оказалось, что Белка и Стрелка благополучно вернулись на родную планету.
Симка, отдуваясь, как после таскания полной канистры по лестнице, сказал:
— Ну, наконец-то. Я боялся, что опять уморят ни в чем не виноватых собачонок…
— Не уморили! Я же говорил!
Они радостно глянули друг на друга и… снова опустили глаза.
Симка сел к столу. Положил руки на скользкую клеенку с лужицей воды. Щекой лег на руки.
— Мик…
— Что? — боязливо сказал Мик.
— Ты это… то есть я… Вчера я был такая свинья. Просто слов нет…
— Да брось ты… Мы оба хороши были. Одинаковые свиньи…
— Нет, я в тыщу раз… это… свинее… — И Симка наконец выговорил главное: — Мик, я больше никогда… Ну, никогда-никогда…
Мик сел у другого края стола. Покачался на табурете. Поглядел на плитку, где начинала булькать кастрюля. Глуховато и сбивчиво спросил:
— Сим, а правда ты вчера хотел… ну, такое?.. Совсем…
— Что хотел?
— Это… в воду головой…
— С чего ты взял?! — Симка съежил плечи.
Мик так же, как Симка, лек щекой на руки. Помолчал.
— Фатяня вчера приходил. Вечером… Сказал: «Вы совсем, что ли, офонарели, парни? Такие друзья, а лаетесь из-за ерунды…» Так он сказал. А потом: «Симка с горя чуть не утопился даже…»
«Вот это Фатяня! Вот это да…» — А больше Симка и не знал, что подумать.
— Мик, я не хотел!.. Я хотел переплыть. Думал, если переплыву, тогда все будет хорошо…
— Ненормальный, что ли?
— Ага… то есть да, — покаянно сказал Симка.
— Давай плавать только вместе, — строго потребовал Мик. — Пока не научимся как надо…
— Давай!
— Симка, ты только не думай, что я прибежал из-за этого. Из-за того, что Фатяня сказал. Я бы и без этого. Я еще вчера хотел, но у деда опять приступ был… А потом я снова хотел, когда Фатяня пришел, а он говорит: «Не надо сейчас. Утро вечера мудренее». Ну и дедушка еще был не совсем… А утром я сразу…
— Я тоже хотел вчера. А он и мне говорит…
— Смотри, вода кипит уже. Пора загружать…
— Пора… Ой, надо же еще помыть!
Они сварили картошку. Съели по несколько клубней, снимая с них тонкие кожурки и макая горячие картофелины в блюдце с маслом и луком и зажевывая посоленными горбушками. Потом завернули кастрюлю в старое Андрюшкино одеяльце, чтобы картошка была горячей, когда мама придет на обед.
— Симка, а пойдем сейчас… туда..
— Куда?
— К якорю. Достанем печать… Пусть получится, будто по правде нашли клад. Ну… чтобы все как раньше…
— Пойдем!.. Ой, Мик… А давай не сейчас…
— Давай когда хочешь… А почему не сейчас?
Симка опять скрутил в себе немалое смущенье.
— Давай, когда приедет Соня…
Мик мигал непонимающе.
— Ох ты… — виновато пробормотал Симка. — Я же ничего не рассказал… про вчерашнее…
И он торопливо поведал про грозу, про встречу с капитаном «Тортилы», про его племянницу Соню.
— Мик, помнишь, мы говорили… что если бы она жила в Турени… могла бы быть с нами… Ты ведь помнишь?
Мик, он был… ну, если не самый лучший из людей, то уж точно самый лучший из всех на свете Миков.
— Помню, конечно!
Соню встретили на вокзале втроем: Вадим Вадимыч, Симка и Мик.
Соня не удивилась. Она смотрела так, словно уехала два дня назад и обещала вернуться и знала, что ее встретят вместе с дядюшкой эти двое мальчишек.
Симка сразу перестал стесняться.
— Соня, это Мик.
Она опять не удивилась.
— Здравствуй, Мик…
Потом пошла длинная-длинная неделя, про которую можно было бы написать отдельную книжку. Как сразу, с первого дня, их стало трое. Как Соня стремительно впитала в себя все сказки и тайны Симки и Мика. Как оказалось, что у Мика есть велосипед, только сильно поломанный и с продырявленными шинами (еще отцовский). Как Фатяня за день до своего отъезда «на картошку» починил это «транспортное средство» и они ухитрялись ездить втроем — один вертел педали, другой ехал на раме, третий на багажнике (только пришлось снять седло, с которого не дотягивались до педалей, и обмотать раму полотенцем). И как сперва ездили неуверенно, а вскоре научились носиться, будто на крыльях, хотя казалось бы, что втроем это невозможно. И как однажды загремели с мостика через канаву на Капитанской улице и Симка с Миком заработали немало шишек и ссадин, а Соня уцелела, потому что ехала сзади, на багажнике. И как она, мечтающая стать врачом, умело лечила мальчишек с помощью походной аптечки и скоро все на них зажило…
Еще можно было бы описать, как с дружным экипажем «Тортилы» съездили в лагерь «Юная республика» на закрытие третьей смены и совершили плавание по всей старице — туда и обратно. И как Симка и Мик устроили для Сони «открытие клада» — будто бы случайно наткнулись на тайник под якорем и отыскали печать. И как потом не выдержали, признались, что все было подстроено, а она не рассердилась и со смехом сказала, что «все равно интересно»…
В общем, написать можно было бы еще много всего. Но лето шестидесятого года кончается, а писать про осень автор не очень-то любит. Хотя, конечно, осенью бывает (и было!) тоже немало интересного.
Пора заканчивать эту повесть, которая незаметно превратилась по своим размерам в роман. Но надо рассказать еще об одном важном событии. Как будущий врач Софья Шестакова догадалась вылечить Станислава Львовича.
Хворь Микиного деда — это единственное, что омрачало последние дни теплого безоблачного августа. Станислав Львович кашлял и задыхался. Чуть не каждый день случались приступы…
Где-то совсем перед первым сентября Симка и Мик открыли тайник и посвятили Соню еще в один секрет — в историю старинной бутылки.
Соня долго разглядывала бутылку на свет, потом оглянулась.
— Миксы… — Она так звала их двоих, для краткости. — Миксы, я знаю… Жаль, что вы сами не догадались, давно еще…
— Что?! — сказали они разом.
— Надо, чтобы Станислав Львович глотнул воздуха из этой бутылки. Даже не глотнул, а вдохнул без остатка. Ведь это воздух его детства. А в детстве человек гораздо здоровее, чем потом…
Возможно, Соня рассуждала не так гладко, как написано здесь. Но Симке запомнилось именно так. Да и какая разница? Главное не слова, а суть.
Ни Мик, ни Симка ни на минуту не усомнились в Сониной правоте. Все было правильно! Ведь они сами дышали воздухом детства и почти не болели. То есть болели иногда, но не годами же!
Станислав Львович что-то писал, низко согнувшись за столом. Он часто писал так, если не кашлял. Мик однажды признался Симке, что дед пишет письма другу Женьке Монахову. Конечно, он не знает, куда их посылать, но составляет из этих писем что-то вроде книги. Про свою жизнь…
— Зачем пожаловали? — спросил Станислав Львович. Без досады, но и без радости, потому что ему помешали.
Мик без лишних слов изложил Сонин рецепт и протянул запечатанную старинным пятаком бутылку. Симка и Соня в это время робко топтались сзади.
Станислав Львович озадаченно, по-мальчишечьи, почесал гладкую седую прическу.
— Ну, вы фантазеры… Уэллсы и Александры Беляевы…
— Ага… то есть да, — Симкиным голосом сказал его внук. — А чего? Ты попробуй. Хуже все равно не будет. Вот, мы и трубочку нашли, чтобы удобнее воздух сосать…
Станислав Львович хмыкнул, показывая, что не для него, старика, такие ребячьи выдумки.
— Вы вот что… оставьте все это здесь и гуляйте. Я… подумаю.
Через час Мик, уже один, снова проник в комнату деда. Бутылка была распечатана и стояла на полу. Крошки сургуча и стеклянная трубка валялись на столе. Дед спал, отвернувшись к стене. Дышал он без хрипов.
Мик осторожно взял бутылку с половицы…
На улице Соня велела:
— Теперь едем на берег. — Она часто бывала такая: спокойная, но решительная.
И они поехали на своем велосипеде. На то место, где когда-то стояла беседка и где реалисты Стасик Краевский и Женя Монахов полвека назад дали друг другу клятву.
Симка, Мик и Соня никакой клятвы не давали. Просто Мик вынул из-под рубашки бутылку, а Соня достала из подвешенной под рамой сумки для инструментов комок почтового сургуча. Из кармана своих клетчатых мальчишечьих штанишек извлекла спичечный коробок.
— Миксы, а пробку вы сделали?
Симка покачал на ладони вытесанную из куска сосновой коры (того, что нашел в июне на берегу) пробку с широкой плоской головкой — специально под печать.
Они постояли рядом, посмотрели на заречные дали. Облака были похожи на те, что в прошлом году Симка видел над Москвой-рекой. Не тяжелые, предосенние, а летние бело-желтые груды. Под облаками пестрели крыши Заречной слободы и сверкали окна нового пятиэтажного квартала. А дальше зеленели луга, отражали солнце озёра и синел гребень дальнего леса. Кузнечики рассып а ли по травам стеклянную дробь.
Мик помахал бутылкой над головой — чтобы в нее сквозь широкое горлышко вошел этот прибрежный воздух нынешнего ясного дня — 30 августа 1960 года. Потом они вставили пробку, сели на корточки и, зажигая спичку за спичкой, стали обливать горлышко с пробкой расплавленным сургучом. Конечно, не обошлось без происшествия — сургуч капнул Мику на ступню, между ремешками сандалии. Мик заверещал.
— Тихо. Сейчас обработаю, — сказала Соня.
— Сначала печать, — мужественно решил Мик.
Старинная печать парохода «Полюсъ» оттиснулась аккуратно и четко — до последней буковки. Еще бы! Ей ведь давным-давно не приходилось ощущать сладкий вкус горячего сургуча…
Потом они ехали по заросшей мелкими ромашками обочине. Симка вертел педали, Соня сидела перед ним на раме, а Мик трясся сзади, растопырив ноги с белой маркой пластыря на босой ступне (снятой сандалией он размахивал в воздухе).
Дома у Симки они спрятали бутылку и печать в тайник — до лучших времен. До каких, они пока не знали.
Мик озабоченно переступал синей пыльной сандалией и голой ступней. Вздыхал и хмурился.
— Болит? — Соня посмотрела на пластырь.
— Не болит… Я думаю: как там дед?
…Дед Станислав Львович спокойно спал у себя в комнате. Ему снилось, что он и Женька Монахов — без надоевших форменных косовороток, босые, в подвернутых штанах — бегут вдоль реки, по краю солнечной воды, а посреди русла шлепает гребными колесами белый и сверкающий начищенной медью пароход «Полюсъ».
Так, по крайней мере, хочется думать автору…
Неизвестно, помог ли Станиславу Львовичу воздух давнего детства или просто болезнь решила смилостивиться и ослабить хватку. Возможно, и то и другое. По крайней мере, кашлять Микин дед стал не так часто и жестокие приступы не повторялись.
И умер Станислав Львович Краевский не от астмы, а от сердечного приступа. В шестьдесят восьмом году, когда по радио трубили, как доблестные советские танки вошли в Прагу. Впрочем, танки могли быть и ни при чем, просто здоровье такое и возраст… И случилось это уже за рамками романа. Правда, еще до эпилога…
ЭПИЛОГ Крейсерский швертбот «Лисянский»
Вообще-то можно было эпилог и не писать. Но раз уж автор вздумал дразнить читателей всякими совпадениями (которых «не бывает в жизни»), то надо вести рассказ до конца. Тем более что это было.
Пожилой речной тепловоз «Камалес» в пути не раз «страдал машиной» и вынужден был вставать на якорь в стороне от фарватера или притыкаться к каким-нибудь случайным пристаням. И вот очередной раз он встал у ветхого деревянного причала выше волжского города Плёс — для «краткого текущего ремонта». Хорошо хоть, что груз был не срочный…
«Камалес» принадлежал к классу «Река-море» (хотя в море никогда не совался). Вначале был он лесовозом, потом его переоборудовали под перевозку контейнеров. А название осталось почему-то прежнее, «лесное».
— Имейте в виду: не «Кам а лес», как иногда талдычат безграмотные сухопутные жители, а «Кама-л е с», — втолковывал Серафиму и Андрюхе помощник старшего механика Владимир Фатунов (для друзей — по-прежнему Фатяня).
На теплоходе Фатяню любили — и пожилой добродушный капитан Петр Сергеевич, и старший механик (тоже пожилой и мечтающий о пенсии), и весь экипаж. Не просто любили, а, можно сказать, почитали. За неунывающий характер, за виртуозное владение гитарой, и — главное — за то, что знал до винтика старую машину и умел поддерживать эту «пыхтелку» (вообще-то термин был точнее, но мы его опустим) в рабочем состоянии, хотя и требовались для этого внеплановые стоянки.
Авторитет поммеха Фатунова помог ему уговорить капитана взять в рейс от Перми до Питера двух пассажиров: только что защитившего диплом филолога Серафима Стеклова и его братишку Андрея.
Сначала речь шла о троих — собирался в путешествие и дипломник одного из московских институтов, будущий театральный художник Дмитрий Семенов. С этой целью он приехал в середине июля в Турень — чтобы затем всей компанией двинуть на Каму. Но в Турени он имел неосторожность пойти с родителями в гости к режиссеру местного драмтеатра, а тот, узнав о профессии «Дмитрия Анатольевича», взвыл от восторга и вцепился в него мертвой хваткой. В этом сезоне театр не выезжал на гастроли, остался в городе и готовил для школьников спектакль местного («очень-очень талантливого»!) драматурга Еленина «Сапожник для Золушки». Вся труппа была увлечена, кроме главного художника — тот востребовал для себя законный летний отпуск. Спектаклю грозил крах.
— Вас послало нам небо! — умоляюще подвывал режиссер и ходил вокруг «посланца неба», как восторженный дошкольник вокруг новогодней елки. И обещал широкий творческий простор, блестящие характеристики для института и в итоге — несомненный пятерочный диплом в будущем году.
— Чего делать-то? — виновато советовался с друзьями длинный, почти двухметровый Мик и скреб пыльно-медную бородку.
Что делать, было ясно. Серафим и Андрюха сказали ему: «Ну и фиг с тобой, моржа» и укатили одни.
По правде говоря, Фатяня был даже доволен: устроить двоих гораздо легче. Он сказал капитану:
Верьте солидному слову поммеха: Два пассажира для нас — не помеха.Им отвели на корме кладовку с иллюминатором, которая небольшими усилиями была превращена в крохотную каюту с двухъярусной койкой. За умеренную плату поставили на довольствие. И — плывите, загорайте, любуйтесь берегами.
Плыли сперва по Каме, потом по Волге. Загорали, забравшись на контейнеры, глядели на уходящие назад берега с деревнями, городами, лесами и полями. Июль был жаркий и безоблачный. И погода, и все, что вокруг, Серафиму и Андрюхе нравилось. Правда, речную ширь Андрей оценивал лишь применительно к возможности хождения под парусом. Возбужденно вскакивал на контейнере, когда навстречу попадались яхты, и долго смотрел вслед…
Иногда, обычно по вечерам, забирался на контейнеры Фатяня с гитарой, приходили и другие — кто свободен от вахты. И тогда…
Если друг оказался вдруг И не друг и не враг, а так…Или:
У девушки с о-о-острова Пасхи Украли любо-о-овника тигры…Или еще:
Надежда, я вернусь к тебе, Когда трубач отбой сыграет…Если надоедало безудержное солнце и блеск широкой воды, Серафим уходил в тесную прохладу каютки, доставал текст дипломной работы и вписывал в нее то, что было вычеркнуто перед защитой. Когда-нибудь получится книжка, надо только вернуть все «цензурные сокращения».
Зимой, за несколько месяцев до защиты, Серафим встретил на улице Народной Власти бывшего одноклассника Клима Негова. Оба приехали на каникулы из Свердловска.
— Поразительное дело! Пятый год учимся в одном городе и ничего друг про друга не знали! — жизнерадостно удивлялся Негов.
Серафиму не очень-то и хотелось знать. Но он был вежлив.
Клим учился в горном институте и охотно поведал о всяких практиках-экспедициях.
— На севере у нас руководителем был некто Игорь Борисыч Утехин. Потрясный мужик! Кстати, фейсом похож малость на тебя.
— Не мудрено. Это мой брат.
— О-бал-деть… А почему фамилии разные?
— Мы сводные братья. Разные отцы…
Негов почему-то опять сказал «обалдеть» и сменил тему:
— Значит, ты на филфаке?
— На ём, родимом…
— Говорят, это вроде бы сплошь девичий факультет?
— Ну, не скажи…
— А… потом что? Куда? Небось обучать разумному-вечному юных обалдуев в колхозной деревне?
— Если с дипломом будет нормально, оставят на кафедре…
— А-а… Ну, это дело перспективное, да? И работа не пыльная. Так сказать, в тиши кабинета… А не боишься раньше срока облысеть и обзавестись очками?
Мастер сплава по горным рекам и перворазрядник по шпаге Серафим Стеклов не боялся «облысеть и обзавестись». А про «тишь кабинета» сказал так:
— Да, ты прав. Тишь, как в чистом поле. В минном… Главное, не наступить куда не надо… — И не удержался, добавил: — Жу-утко, но интересно…
Негов замигал:
— А что так?
— Да так…
Серафим не стал объяснять Негову, что значит писать дипломную работу «Особенности российской поэзии в первой четверти двадцатого века». Писать, словно двигаясь на ощупь среди фугасных ловушек. Писать, когда при рассуждениях о Волошине, Мандельштаме и Пастернаке оппонентов корежит, как глотнувших кислоты. А при упоминании о Гумилеве (при одном лишь упоминании — например, как он дрался с Волошиным на дуэли!) седовласые начальники оглядываются на дверь, словно за ними уже «пришли»…
А писать надо. Кто-то же должен рассказывать людям, как великая сила поэзии, несмотря ни на что, помогала не окаменеть окончательно человеческим душам. (Громко сказано? Однако это так…) Сперва — курсовая работа, потом диплом, потом, глядишь, получится монография. Наступят же в конце концов времена, когда можно будет говорить про все открыто…
Сразу надо сказать, что эти времена пришли не скоро. Книга профессора С.Стеклова «Капитаны Серебряного века» вышла только в девяностом году. Но затем вышли еще несколько. В том числе и «Жили-были два Мика» — этакая смесь путевых дневников, рассуждений об африканских и морских стихах Гумилева и воспоминаний детства…
А пока, на «Камалесе», Серафим восстанавливал текст пострадавшей (хотя и получившей «отлично») дипломной работы. И поглядывал наверх. Там, на верхней койке, пыхтел над толстой тетрадкой ненаглядный братец. Что он в ней писал? То ли дневник с впечатлениями о плавании, то ли что-то стихотворное. Однажды Серафим успел разглядеть написанные столбиком короткие строчки. Но Андрюха тут же упал на тетрадь животом.
— Чего надо! Я в твои бумаги не заглядываю!
Сейчас, когда стояли у Плёса, Андрюшка опять засел наверху с тетрадкой.
— Пойдем в город, — позвал Серафим. — Фатяня сказал, что проторчим здесь до вечера.
— Не пойду. Мы ведь были уже утром…
— Тогда книжные магазины еще не работали.
Андрюшка назло Серафиму сообщил, что эти магазины ему нужны, как якорю педали с колокольчиками.
— Лодырь… Пойдем! Знаменитый же город, левитановские места!
— Ну и пусть левитановские… Не мешай.
— Ладно. Только смотри: далеко от судна не шастать и никаких купаний в одиночку.
— Как ты скучен и однообразен, — сказал братец.
— И не суйся в машину к Фатяне. Он и так весь на нервах из-за поломки.
— Он на нервах из-за Сони. Вдруг родила там кого-нибудь, пока он покоряет речные пространства…
— Бал-да! Она только на седьмом месяце! А рожают в девять.
— Спасибо, а то я не знал… Иногда рожают и в семь. И получаются, между прочим, гениальные люди. Ньютон, Наполеон…
— Ты, однако, родился точно в срок, я помню. И вот результат…
— А ты, наверно, с опозданием…
— Как ты разговариваешь со старшим братом, который подтирал за тобой лужи!
— Ну да! От тебя долго пахло этими лужами. Поэтому Соня и не пошла за тебя…
Соня «не пошла» ни за него, ни за Мика.
Однажды, в пятом классе, Симка и Мик торжественно пообещали друг другу, что, если Соня когда-нибудь выберет одного из них в мужья, другой не будет таить обиду и ревность.
Но Соня выбрала Владимира Фатунова, который после окончания речного техникума ходил на сухогрузах, а в перерывах между рейсами появлялся с неразлучной гитарой в Турени.
В один из таких приездов он и сообщил друзьям о своих и Сониных планах.
— Я так полагаю, что вам ее все равно меж собой не поделить, — заявил он, пряча за легкомысленностью шутки некоторую робость.
Симка и Мик не собирались делить. У каждого тогда имелись уже другие предметы воздыханий. Соня же к тому времени оставалась для них боевым товарищем по приключениям школьных лет, а потом — головоломных туристических маршрутов. Но порядка ради они посмотрели на Фатяню строго. И лишь когда довели его до новой степени смущения, Симка снисходительно сказал:
— Ну и фиг с тобой, моржа… — А потом повернулся к Мику: — Нам ее не удержа…
— Остается как следует напиться на свадьбе, — подвел итог Мик.
Ну, нельзя сказать, что напились, однако отметили это дело адекватно ситуации . И когда Симка под утро вернулся домой, мама долго качала головой и предрекала ему печальное будущее. Симка говорил, что «больше не будет»…
Услыхав про запах луж, Серафим стащил Андрюшку за уши вниз, уложил поперек колен и дал леща по тощему заду. Андрюшка заколотил Серафима кулаками по ногам и радостно завопил, он обожал потасовки с братом. Однако в каютке для возни было слишком тесно. Серафим хлопнул Андрюшку еще раз и спихнул с колен. Тот вскочил, сопя и по-боевому растопыривая локти. Потом оттянул боковой карман на шортах.
— Крокодил. Смотри, порвал штаны…
— Они сами расползаются от ветхости.
Шорты были выгоревшие, вытертые на швах. Сшитые больше десяти лет назад на чешской фабрике «Svoboda». Когда-то два лета подряд в них гулял Симка Стеклов, так и не износил, вырос раньше, и потом они достались младшему брату. Теперь они Андрюшке (даже такому тощему) были тесноваты, но он их любил, говорил «счастливые» и в июне выиграл в них областные гонки на яхтах класса «Оптимист» на Михайловском озере под Туренью. Теперь латунный жетон победителя болтался на его бело-зеленой полосатой майке.
Рядом с жетоном висел стеклянный значок «Выставка чешского стекла».
Когда Серафим увидел этот значок на брате впервые, он ревниво сказал:
— Стоп. Откуда это?
— А чего такого? Мик подарил.
— Бессовестный тип он, этот Мик. Подарки разве передаривают?
— А разве нет? Тебе ведь его тоже подарили! Нора Аркадьевна…
— Всё-то ты знаешь… Не вздумай потерять. Реликвия…
— Не потеряю никогда на свете. Разве что кому-нибудь тоже подарю…
— Лю-бо-пытно. Кому это?
— Пока не знаю. Но когда-нибудь подарю. Мне это предсказано…
— Интересно кем?
— Кем-кем… Внутренним голосом.
— Который Всегда Рядом ?
Андрюшка замигал растерянно, испуганно даже. А Серафим хихикнул и уклонился от всяких «Откуда ты знаешь?!»…
Теперь, уходя с «Камалеса», Серафим напомнил брату еще раз:
— Ты хорошо понял? От судна ни на шаг.
— Ты меня утомил.
— Не хами, а то расскажу маме о всех твоих выходках.
— Доносительство противоречит идеалам Серебряного века, которые ты проповедуешь, — заявил этот тип.
Серафим оценил умную реплику. И, обернувшись на сходнях, снисходительно помахал Андрюхе мятой соломенной шляпой. Всем сердцем старшего брата он любил это двенадцатилетнее существо, похожее на тонкий пучок бамбуковых удочек с лохматой, выгоревшей под солнцем головой и глазами, как зеленые бутылочные осколки (а ведь в младенчестве был пухлый и сероглазый!). Любил и боялся за него. Поэтому иногда и «утомлял»…
В городе Серафиму Стеклову чудовищно повезло. Как попал в букинистический отдел захудалого книжного магазинчика потрепанный «Огненный столп» — посмертный, изданный осенью двадцать первого года в Берлине сборник Гумилева?! Кто осмелился сдать (и главное — выставить на продажу!) книжку расстрелянного и запрещенного поэта?! Впрочем, в провинциальных городках, где книготорговцы не всегда разбирались в старых книгах, такое порой случалось. Например, однокурсник Стеклова Максим Полуянов в подмосковном Дмитрове купил парижское издание бунинских рассказов, в которых Иван Алексеевич ох как нелестно отзывался о советской власти…
Оглядываясь, будто за спиной толпится вся местная госбезопасность, Серафим выложил нужную сумму. Надо сказать, немалую — значит, придется подсократить бюджет поездки! Но Андрюшка не рассердится, он понимающий человек…
Когда Серафим, спустившись с береговых отвесов, вернулся на судно, «понимающего человека» (разгильдяй чертов!), конечно, не было. Ни в каюте, ни на всем теплоходе. И Фатяня сказал, что его не видел.
— Погуляет и придет, не переживай. Может, красотку усмотрел на берегу…
— Я ему дам красотку…
Серафим поспешно сошел на пристань. Даже покупка теперь не очень радовала.
Но тревога была короткой. Андрюшка шагал вдоль воды к судну. Рядом по желтому песку, ломаясь на песчаных бугорках и складках, шагала суставчатая темно-синяя тень. Такая же беспечная и бестолковая, как ее хозяин.
Серафим пошел навстречу.
— Где тебя носило? Я же просил…
Андрюшка сказал на удивление кротко:
— Недалеко носило, чуть-чуть… Видишь, там старая баржа? За ней яхта стоит. Я увидел мачту, пошел посмотреть.
Баржа (видимо, брошенная) осела рыжей от солнца тушей у берега, на отмели. Из-за нее и правда торчала тонкая мачта с вантами и перекладиной — краспицей.
— Я там познакомился с одним парнем…
— Ну да. Рыбак рыбака… Наверно, такой же обормот, как ты…
— Ничего не обормот. Очень даже такой… культурный. Похож на тебя, когда ты был помоложе. Он старше меня на три года… Они пришли сюда из Питера, и теперь им надо обратно…
— Исчерпывающая характеристика…
— А чего ты такой… подозрительный?
— Потому что знаю. Сейчас ты скажешь: «Они позвали меня пройтись с ними под парусом…» И вас унесет неведомо куда, а я буду прыгать на берегу, потому что Фатяня к тому времени наладит двигатель…
Андрюшка посмотрел брату в переносицу. Потом на свои кеды.
— Да не в этом дело…
— А в чем?
— Да так…
— Андрей!
— Ну, чего «Андрей»! Я ничего… Просто он рассказал, что у них аварийная ситуация. Было их четверо, но один заболел, пришлось сойти где-то… не помню где… А другой недавно на очередной стоянке позвонил домой, а ему говорят: тебя ищут, срочно вызывают на завод, там горит проект. У них какой-то такой завод… и такой проект… И остались на яхте этот Олег и его старший брат, капитан…
— Ну, управятся как-нибудь…
— Вдвоем-то? Это же большая яхта. Не килевая, правда, туристский швертбот «Тэ-два», но все равно нужен экипаж… Олег поглядел на мою медаль с парусом и говорит…
— Что он «говорит», я знаю, не продолжай… Он что, всерьез думает, что я тебя отпущу? Мама убьет меня даже не дома, а заранее, на расстоянии.
— Я так и сказал! А он говорит: «А если с братом?»
— Новое дело!.. Интересно, что сказал бы Фатяня? «Дезертиры паршивые! Я за вас хлопотал, а вы…»
— Да почему дезертиры! Мы же пассажиры, а не матросы! Фатяне с нами только лишняя морока. У него с пыхтелкой во сколько забот!..
— Андрей, ты соображаешь? Незнакомые люди… Ты знаешь, что такое психологическая несовместимость?
Андрюшка сказал с печальным пониманием:
— Сим, я же ничего не прошу. Просто рассказываю… Просто жалко, что у них срывается плавание… А никакой несовместимости, наверно, не было бы. У нас с Олегом с первого взгляда получилась совместимость…
— Такой же обормот, как ты… — сказал Серафим. Заметил, что повторяется, и разозлился. На себя.
Разговаривая, они незаметно пошли вдоль воды, причем не к теплоходу, а к барже. Теперь видна была уже не только мачта, но и корма яхты. Серафим решительно повернул брата за плечи — к пристани с «Камалесом».
Андрюшка не сопротивлялся.
И эта покорность младшего брата была хуже каприза и споров.
— Черт тебя дернул встретиться с этим Олегом. Теперь будешь пилить меня до самого Ленинграда. Мол, упустили такую возможность…
Андрюшка быстро глянул влажными осколками и опять опустил голову.
— Небось на яхту к ним лазал… — брюзгливо сказал Серафим.
— Никуда я не лазал. Олег сам подошел, когда я стоял и смотрел… Он бы и не подошел, но, когда мимо проходил, вдруг заметил значки. Сперва даже не парусный, а стеклянный. Остановился и спрашивает:
«У тебя откуда такой?»
Я говорю:
«Это мне друг моего брата подарил».
А он:
«У меня такой же есть. Тоже подарок, от старшего брата…»
«Длинь», — словно сломалась внутри у мальчика Симки тонкая стеклянная палочка.
— А у брата… значок-то откуда? Тот, что ли, был когда-то на этой выставке?
— Нет. Олег сказал, что брату тоже подарили…
«Длин-нь…»
— А они что, правда из самого Питера?
— А что такого? Парус хороший, а для штиля и для шлюзов движок есть… Ты чего остановился?
— Так… Кстати, никогда не видел большую яхту вблизи. Пойдем посмотрим, все равно делать нечего…
— Пойдем!
— П р о с т о п о с м о т р и м. Издалека.
— Ага!
Когда они были на полпути, с яхты прыгнул в воду, вышел на берег и зашагал навстречу желтоволосый гибкий паренек в подвернутых джинсах и тельняшке. На полосатой материи блестела стеклянная капля.
— Андрей! Вот, я нашел «Катера и яхты» с чертежами нашей лодки! Можешь взять насовсем, у нас дома есть еще… — Он протянул Андрюшке журнал и потом сказал Серафиму: — Здравствуйте.
— Здравствуйте… Олег, да?.. Можно взглянуть на вашу яхту? Хотя бы с берега.
— Можно и не с берега! Идемте! — Он зашагал впереди.
Теперь был виден уже весь корпус большого черного швертбота с голубой полосой у борта и белой рубкой. На низкой корме белели буквы пока еще неразличимого названия. Серафим прищурился.
— Олег, а как называется ваш корабль?
Тот весело оглянулся на ходу.
— Называется «Лисянский»!
Теперь был уже сплошной стеклянный звон.
— Олег, а почему?
— Для исторической справедливости! Потому что в честь Крузенштерна есть громадный четырехмачтовый барк, а в честь Лисянского ничего. А он ведь обошел вокруг света раньше Крузенштерна!
— Олег… подождите.
Олег остановился. Повернулся к Серафиму и Андрюшке с ожиданием в глазах.
— Олег… а ваш брат… когда вы были маленький… он не дарил вам игрушечный кораблик с названием «Лисянский»?
Олег мигнул. Глянул на Серафима, на Андрюшку. Опять на Серафима. И скачками кинулся по песку к яхте. Пробурлил ногами по воде, взлетел на палубу. Согнулся над люком рубки.
— Макс! Максим!.. Там к тебе… пришли…
Высокий парень с косым взмахом желтых волос над узким лицом, в тельняшке и белых брюках, вытолкнул себя из низкой дверцы рубки. Встал на палубе. Посмотрел на берег. Постоял… Потом, не разуваясь, не подвернув брюк, прыгнул в воду и пошел к песку. И по песку. К Серафиму и Андрюшке.
Он шел сутулясь, он смотрел. И начинал понемногу улыбаться.
А Серафим… Симка Стеклов… видел, как знойный волжский полдень превращается в светлую балтийскую ночь с растворенными в ней отблесками янтаря.
29 июня 2003 г. — 2 апреля 2004 г.
Несколько слов после конца
Еще приступая к этой книге, я знал, что ее будут ругать. Если не все читатели, то, по крайней мере, те, кому известны другие мои романы и повести. Скажут (и вполне справедливо): «Опять все то же. Старый город, лопухи, откосы над рекой, тополя, деревянные переулки и десятилетние обитатели этих переулков — с ободранными коленями, шелушащимися от загара плечами и неприятием всяких мерзостей жизни».
Да, это так.
Оправданием (для себя самого, перед другими чего мне оправдываться) в какой-то степени служит книга Генриха Гейне с его поэмой «Атта Троль». Напечатана она в издательстве «ACADEMIA» в 1936 году — аж за два года до моего рождения (как-то я купил ее из любви к старым изданиям). В этой книге — не только сама поэма, но и предисловие поэта, и комментарии редакции. Кстати, удивительно, как издательство отважилось выпустить эту вещь, где и в стихотворных строчках, и в предисловии немало язвительной переклички с теми советскими временами, когда многих писателей и поэтов одного за другим отправляли в северные лагеря, а то и дальше, на тот свет. Может быть, издатели рассуждали так: Генриха Гейне на Колыму уже не сошлешь. Но ведь можно было это сделать с издателями и редакторами (впрочем, не знаю — не исключено, что вскоре так и поступили)… И вот в одном из примечаний приводится отрывок письма, в котором Гейне, понимавший в 1846 году, что времена романтизма безвозвратно уходят, писал: «…меня страстно влекло еще погарцевать при лунном свете со старыми товарищами моих грез, и я написал «Атта Троля», лебединую песню умирающего периода…»
Мне тоже очень хотелось снова «погарцевать» со старыми товарищами — мальчишками из моего родного города, жившими там в середине прошлого века. С теми, кто строил самодельные телескопы и кораблики, зачитывался Жюлем Верном и Гайдаром, а мамину любовь, привязанность к друзьям и зеленую волю родных окраинных переулков ценил больше сокровищ мира.
Такими были не все, но такие были . Я сам из их клана и поэтому опять вернулся к мальчишкам, которые ненавидели слякотную осень, школьную форму, тупых и жестоких одноклассников, злобных взрослых и всякую неправду. К тем, кто часто бывал боязлив, но в решительные моменты мог проявить безоглядную храбрость. К тем, кто мучился загадками вселенной и отчаянно страдал, когда понимал, что может потерять друга…
В самом деле — ничего нового…
Разве лишь одно: в этой книге я смотрел на мир не только своими детскими глазами, но и глазами младшего брата. Ему в том, шестидесятом году было примерно столько лет, сколько герою этой истории. И поэтому роман я посвятил братишке…
Владислав КРАПИВИН
Апрель 2004 г.





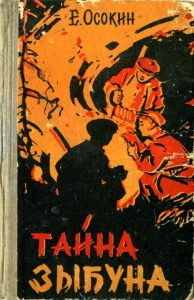

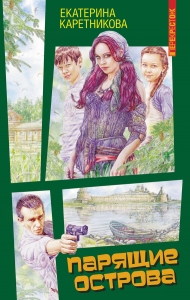


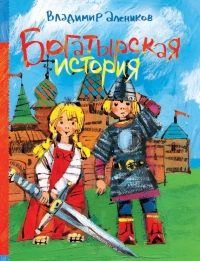

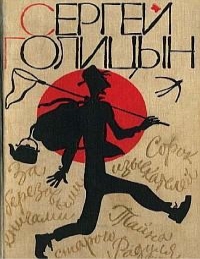

Комментарии к книге «Мушкетёр и фея», Владислав Крапивин
Всего 0 комментариев