Т. Мельникова 13 историй из жизни Конькова
Нижне-Волжское книжное издательство
Волгоград 1982
Я пишу, пишу, пишу…
Я заметил: если делаешь что-нибудь такое, что не самому хочется, а надо, велят, очень как-то с трудом получается.
Вот, например, писать. Еще только подумаешь, что на дом целых три упражнения задали, почти целую страницу, и уже переживаешь. Ходишь, ходишь, пока сядешь за стол.
Потом пишешь, пишешь эту страницу… Целый час! В математике, там хоть сокращать можно.
Пошли, например, два бр. в лес, принесли ведро гр. и ведро сыр. И все понятно. Два брата пошли в лес, принесли ведро груздей и ведро сыроежек.
А по-русскому попробуй сократи! Я раз сократил, чтоб побыстрей, и получилось «гол. кол. рос в пол.». А надо было — «голубой колокольчик рос в поле».
Людмила Тимофеевна тогда сказала:
— Не чувствуешь ты, Коньков, богатства русского языка.
А я очень даже чувствую. И писать мне иногда очень даже нравится. Но, как я уже говорил, — по вдохновению.
Вот, например, показали мне такой фокус: «Я пишу, пишу, пишу…»
Надо закрыть глаза или просто поднять их к потолку, а рука пусть сама выводит на бумаге палочки — раз, два, три…
Нет, считать тоже не надо. Надо, пока пишешь, проговорить скороговорку: «Я пишу, пишу, пишу, я шестнадцать напишу. Кто не верит, пусть проверит — я шестнадцать напишу». И на листе останутся ровно шестнадцать черточек, одна к одной. Когда меня научили, я сразу проверил несколько раз. И всегда точно получалось. Я писал и на бумаге, и просто на земле щепкой. На земле, правда, неудобно. Торопиться приходится, чтобы рука успевала за словами. Земля как будто притягивает, тормозит руку.
Зато на гладком и твердом, подумал я, наверное, даже лучше получится, чем на бумаге. Бумага рвется иногда, когда карандашом сильно нажмешь, да еще не глядя. А вот если на парте попробовать?! Легонько. Простым карандашом. Потом стереть можно сразу.
Я эту идею тут же осуществить решил. У нас как раз природоведение было. Людмила Тимофеевна про разных мух и козявок объясняла.
Я сижу, щеку подпер рукой, как будто слушаю внимательно. А сам тихохонько: «Я пишу, пишу, пишу…»
— Коньков, что ты там шепчешь? — Людмила Тимофеевна спрашивает.
Я стал тише шептать. Еле-еле губами шевелю. Но тогда слышно, как карандаш стучит по доске. Как будто голодные воробьи к кормушке слетелись или козы мелко-мелко копытцами перебирают.
Все ребята, конечно, сразу к моей парте повернулись.
— Так ты, оказывается, еще и азбуку Морзе знаешь?! — сказала Людмила Тимофеевна таким голосом, будто несказанно обрадовалась своему открытию.
Я немножко посидел спокойно, а потом рука опять сама начала потихоньку шевелиться: я пишу, пишу, пишу…
Людмила Тимофеевна как раз в это время рассказывала, сколько ног у насекомых. Они считают с ребятами эти ноги на картинках, и я свое: «Я шестнадцать, я шестнадцать…»
— Сколько? — Людмила Тимофеевна спрашивает. — Юра Коньков сейчас нам повторит, сколько ног у майского жука.
— Я шестнадцать напишу…
Чувствую, что не то говорю, а остановиться не могу. Словно у меня внутри какая-то машинка заведенная или пружинка. И вот она толкает, и слова сами выскакивают: «Я шестнадцать напишу».
Что тут в классе поднялось. Ребята будто только и ждали, чтобы кто-нибудь такое, веселое, брякнул.
— Ох-хо-хо, а пары тебе за шестнадцать не мало будет?
— Он у него квадратный, жук, по четыре ноги с каждой стороны, — другой острит.
Это друзья называются!
Девчонки, конечно, тоже не отстают:
— Ой, Юра, какой страшный жучище! Ты его, наверное, в углу за шкафом увидел.
Это они намекают, значит, что когда я дежурным был по классу, то где-то за шкафом паутину и пыль оставил.
Людмила Тимофеевна делает серьезный вид, а у самой глаза тоже смеются.
Одним словом, в классе повеселились в тот день хорошенько.
Зато когда уроки кончились, тут уж я рассказал про фокус, и все начали просить научить.
На другой день весь класс уже упражнялся — кто на бумаге, кто на доске. Потом в другие классы перекинулось.
Так мы несколько дней все «шестнадцать» писали. Пока один мальчик не принес в школу книжку. Очень интересную. Называется «Пляшущие человечки». Как где-то в Англии изобрели новую азбуку. Не буквами, а рисовать таких маленьких человечков. Простеньких: руки, ноги, огуречик. Но зато эти руки-ноги у них каждый раз по-разному повернуты. Как будто они зарядку делают.
Ух, эта игра всем еще больше понравилась! Как после перемены придет учительница в класс — что такое, нет мела.
— Глотаете вы его, что ли? — удивляется.
А зачем, глотать? Он невкусный. Он в карманах у ребят лежит. Для человечков. Сначала эти человечки у нас только на улице свои ножки-ручки растопыривали. А потом в школу забрались. Сперва под лестницу, где потемнее. А там, смотришь, уже где-нибудь в классе на стенке торчат.
Я ведь еще не все про них сказал. Зачем их в Англии изобрели-то, человечков. Не потому, что обыкновенных букв не хватало. А это такой тайный шифр, код, чтобы какой-нибудь секретный приказ передать.
И нам даже нравилось, что в школе за человечками началась настоящая охота. Тряпками их стирали, мылом смывали. А они на следующий день снова появлялись. Ну, и на бумаге мы, конечно, их рисовали, в записочках.
Вот Людмила Тимофеевна часто нам говорит, что при письме не у каждого из нас еще выработалось усердие. А посмотрела бы она, сколько надо усердия, чтобы даже маленькую записку написать такими «буквами».
Один раз я решил послать зашифрованное письмо своему другу Вовке по почте. В настоящем конверте, по всем правилам. Зашел на почту, она как раз недалеко от нашего дома.
И тут я чуть не погорел. За столиком на почте сидела наша школьная техничка, тетя Нюра. Та самая, которой каждый день приходилось стирать и смывать наших человечков. И когда я ее заметил, она уже внимательно на меня смотрела. Так внимательно, что я начал торопливо вытирать свои руки о брюки. Наверное, подумал я, тетя Нюра заметила у меня на руках следы мела.
Но когда она стала манить меня пальцем, я пошел к ней, как загипнотизированный.
— Ты из нашей школы, я узнала тебя, — сказала тетя Нюра, и на душе у меня стало совсем плохо, прямо отвратительно.
— Голубь, — сказала она, и я чуть не подавился противным сладким комом, который откуда-то взялся в горле. В школе тетя Нюра звала нас при хорошем настроении «горобцами», при плохом — «соловьями-разбойниками». А уж «голубь», наверное, означало для меня самое худшее.
Тетя Нюра придвинула ко мне вырванный из тетради в клеточку листок:
— Напиши, голубь, а? Чего тебе стоит.
«Почерк проверяет!» — молнией пронеслось у меня в голове.
— А че-чего написать? — заикаясь, пробормотал я.
«Вот сейчас она ответит: Тебе лучше знать, голубь, чего!»
Но вместо этого тетя Нюра тяжело вздохнула и подняла глаза к потолку, словно собиралась играть в «я шестнадцать напишу».
— Дорогая дочка Лиза, — сказала тетя Нюра задумчиво и ласково и, когда я удивленно посмотрел на нее, только махнула рукой — чего же ты, пиши. И продолжила: — Дорогая дочка Лиза и моя лапушка внучка Оленька.
— «Лапушка» с большой буквы? — громким шепотом спросил я, но тетя Нюра, кажется, не услышала. Я подумал и написал с большой.
— Большое спасибо за приглашение в гости, — не диктовала, а разговаривала со своими Лизой и Оленькой тетя Нюра, как будто они сидели рядом с ней за одним столиком.
Про меня она, кажется, совсем забыла. Зато стоило ей сказать слово «дочка», и лицо ее становилось довольным-довольным, и она ласково смотрела на пустой стул. А когда она говорила «внучка Оленька», лицо ее вообще собиралось в маленький кулачок, губы вытягивались, как для поцелуя, а глаза превращались в узенькие добрые щелки.
— Я бы к вам в гости на крылышках прилетела, — торопливо записывал я, боясь отстать от тети Нюры. — Прилетела бы, да не могу. Напарница моя, Клава, заболела, я одна осталась. А школа у нас большая, трехэтажная, новую ребятишкам построили, чтоб удобней было им учиться. Убираться приходится много. Ну, ничего, ребятишки у нас хорошие, сильно не озоруют.
Какой-то лейтенант в милицейской форме, который сидел за соседним столиком, поднял голову и внимательно посмотрел на нас с тетей Нюрой. Я не люблю, когда вот так пристально смотрят, у меня сразу в носу начинает чесаться.
А тетя Нюра ничего не замечала.
— Ты, Лиза, спрашиваешь за здоровье, — продолжала она свою беседу с пустым стулом.
— О здоровье, — потихоньку подсказал я, но тетя Нюра опять не расслышала, зато лейтенант торопливо махнул рукой — не мешай, мол…
— Здоровье наше, конечно, маленько шкодит, руки иной раз болят — моченьки нет…
И где это только тетя Нюра словечки подбирает смешные — «шкодит», «моченьки». Вот бы такой диктант продиктовала нам наша Людмила Тимофеевна!
Но тут мой взгляд упал на большие тяжелые руки тети Нюры, лежавшие на коленях. Как будто только сейчас она кончила отжимать ими тяжелую тряпку, пропитанную мутной от мела и известки водой. И мне расхотелось смеяться. Я никогда раньше не обращал внимания, что у маленькой, сухонькой тети Нюры такие большие, усталые руки. Темные, кривые жилки сбегали от кисти к пальцам, а пальцы тоже были корявые, как корешки. Нелегко, наверное, сгибать такие пальцы, а маленькую шариковую ручку и вовсе не удержать. Вот почему тетя Нюра попросила меня помочь ей.
Я так задумался, что совсем перестал писать. Спохватился — наверное, от тети Нюры совсем отстал.
Но тут она сама вздрогнула, будто проснулась, и испуганно посмотрела на меня.
— Уже написал?
— Не-ет, — замялся я виновато.
Но тетя Нюра, наоборот, обрадовалась.
— Вот и хорошо, что не успел. Не то совсем я сказала, глупая. Жаловаться, вишь, надумала. На хвори да болячки. Вот чем обрадовать людей решила. Старая, а неразумная. Нет, ты давай лучше так пиши: — Здоровье мое нормальное, жаловаться нечего. Устану когда, так это ничего. Выйдет Клава, и будет нам вдвоем легче. А письмо свое попросила я записать одного хорошего человека. Пусть Оленька посмотрит, как надо писать, и сама старается.
Листок у меня под пальцами медленно, но верно нагревался. Уши под шапкой тоже. Я снова заерзал на стуле, но тут на мое плечо легла крепкая рука лейтенанта.
Я поднял голову и без слов прочел в его глазах: «Все правильно, пиши».
Вот он, настоящий, подлинный код, видели бы ребята. Не сказав ни слова, мы сразу поняли друг друга, двое мужчин.
Я приписал в письме последние слова — приветы и пожелания, аккуратно надписал адрес и сам опустил конверт в почтовый ящик.
Я ужасно много потратил времени на этой почте, но так и не отправил шифровку Вовке и знал, что мне уже не успеть теперь на мультики по телевизору.
Но почему-то совсем не жалел об этом. Я медленно шел по улице и все думал про тети Нюрино письмо. Ничего в нем не было особенного, очень интересного или необычного. Но не знаю отчего, я все думал и думал о нем. Как тетя Нюра диктовала, какое было у нее при этом лицо. Как качался неудобный почтовый столик, и наверное, моя писанина получилась не такой красивой, как упражнение в тетрадке. И не такой веселой, как записки с пляшущими человечками.
Но, может быть, это письмо было самым главным и самым нужным из того, что пока я успел написать за свою жизнь.
Интерес
В каждом деле у человека должен быть интерес, любит повторять классная руководительница нашего четвертого «Б» Людмила Тимофеевна. Без интереса гаснут у человека энтузиазм и тем более — инициатива.
Это она очень правильно говорит. Я полностью с ней согласен. У меня самого они один раз чуть-чуть совсем не погасли. Сначала энтузиазм, а потом — инициатива. А может, наоборот: сначала инициатива, а потом энтузиазм. Но это не важно, что за чем. Главное, что они вместе чуть-чуть не погасли.
А началось все с пения. Никак у меня с ним не ладилось. По всем другим предметам ладилось, а с пением — нет.
Я, правда, вовсе не считал, что такой уж в пении неспособный. Я даже любил петь. Особенно песню «Капитан, капитан, улыбнитесь».
Но учительница пения, Наталья Филипповна, когда нас в первый раз проверяла, почему-то очень удивилась, едва я запел, и покачала головой:
— Что-то ничего не могу понять. Либо ты совсем себя не слышишь, либо я уже ничего не слышу.
Я-то все отлично слышал, но ответил вежливо:
— Я в следующий раз постараюсь погромче, вы услышите.
Целую неделю я не ел мороженого и не грыз семечек — укреплял голос. И на следующем уроке, как только мы запели хором, Наталья Филипповна повернулась в мою сторону. Сразу стало ясно, что мой голос окреп и из всех выделялся. И правда, лицо Натальи Филипповны сделалось доброе-доброе, и она сказала:
— Знаешь что, Коньков? Лучше ты у нас будешь не в хоре, а отдельно петь. Я с тобой индивидуально буду заниматься. А то, понимаешь, из хора твой голос уж очень выделяется.
Я согласился. Но прошел один урок, второй, ребята все пели, а я сидел в сторонке и скучал. У Натальи Филипповны все не хватало времени заняться со мной индивидуально.
— Мы сейчас к смотру отрядного строя и песни готовимся, — говорила она. — Надо как следует хоровое пение отработать. Ты понимаешь? Ты ведь болеешь за честь родного класса?
Еще бы я не болел! Конечно! Я уже представил, как шагает наш отряд чеканным шагом на смотре — раз-два. Потом выходит на школьную сцену и громко запевает: «Бескозырка белая, в полоску воротник…»
И я шагаю, и я выхожу на сцену вместе со всеми. Ну… а потом? Стою и молчу, как столб? Или еще хуже — только делаю вид, что пою, для массы. «Разевает щука рот, да не слышно, что поет».
Я так расстроился, что даже загрустил. Я грустил, наверное, целых два дня, а потом придумал. Один секрет. Никому не сказал. Только Вальке Трофимову. Потому что он — мой лучший друг. И еще — чтобы он помог мне тренироваться.
Я придумал замечательную вещь. Когда наш отряд выйдет на сцену и начнет песню, я одним прыжком, почти без разбега, взлечу на пианино и разверну над головами ребят наш отрядный вымпел. Вот здорово будет! Другим классам и тягаться нечего. Конечно, это нелегко. Но можно. Я видел, как артисты это в цирке делали. И даже совсем перепрыгивали пианино. И еще на дудочках играли и на таких маленьких гармошках. Это «музыкальные эксцентрики» называется.
Я начал тренироваться в прыжках. Сначала на столе. На кухонном. Когда, конечно, никого дома не было. Но через несколько тренировок мама, по-видимому, о чем-то догадалась. Посмотрела так подозрительно на нас с Валькой:
— Что-то у нас стол начал шататься?
— Наверное, рассохся, — я говорю. — Или, может быть, наоборот, забух.
— Как это забух? — удивилась мама.
— Ну, как вот кадушка летом, в деревне, помнишь? Когда ее водой залили.
— Интересно, отчего бы это вдруг столу забухнуть? — еще больше удивилась мама. — Я, кажется, в нем огурцов не солила.
— Ну… атмосферные осадки могут сказываться, — пришел мне на помощь Валька.
— Осадки, говорите? — совсем уже заинтересовалась мама. — А вам не кажется, что кое-какие «осадки» действительно, могут спуститься, но совсем на другую поверхность?
В общем, домашние тренировки пришлось прекратить. Мы перенесли их во двор, на стол для пинг-понга. Но, во-первых, там всегда полно народу, редко когда можно улучить время, а во-вторых, что это за стол? Курам на смех, а нам с Валькой — всего по пояс. Разве такой стол можно сравнить по высоте с пианино?
Одним словом, немало мне пришлось проявить терпения и изобретательности, чтоб научиться хорошо прыгать в высоту и длину. Но у меня ведь был большой интерес! А значит, как говорит Людмила Тимофеевна, энтузиазм и инициатива. Они мне помогали. А потом чуть в один день не заглохли.
В тот день мы решили провести с Валькой генеральную репетицию. Будто невзначай мы задержались после урока пения в зале. На мне были новые безразмерные носки в клеточку, и шнурки на ботинках я предусмотрительно заранее развязал.
И вот, едва закрылась дверь за последним из ребят, Валька встал на страховку у пианино, а я снял ботинки, разбежался и, едва касаясь пола своими новыми носками, полетел к заветной цели. Я знал, я чувствовал, что это будет рекордный прыжок!
…Как вошел в зал директор, мы не слышали. Мы только увидели его широко раскрытые глаза и бледные губы.
В общем, я не буду рассказывать, что потом было. Вы и сами догадаетесь. Всех нас — и меня, и Вальку, и Валькину маму, и мою, по очереди и всех вместе, вызывали в кабинет директора. Людмилу Тимофеевну тоже вызывали. И мне почему-то было ее жалко-жалко: у нее было такое грустное лицо.
— Нужно развивать в себе полезные привычки и навыки, — говорил директор. — А не те, которые чреваты плохими последствиями.
Я не знал, что такое «чреваты», но спросить было неудобно. Наверное, это какие-нибудь самые нехорошие навыки, решил я. Потому их и зовут так — «чреватые». Вроде червивые, значит. Противные, как изъеденный червями трухлявый пень. Если на него прыгнуть, он и будет чреват плохими последствиями. Развалится и обдаст все вокруг трухой и пылью.
Но хуже всего, что из-за этого самого случая с пианино Людмила Тимофеевна решила не брать нас с Валькой в турпоход за город. А наш класс давным-давно уже к этому походу готовился. Мы мечтали, как будем ловить в речке рыбу, разводить костер, варить уху. И теперь всего этого для нас не будет.
Мы стали думать, как бы нам загладить свою вину, уговорить Людмилу Тимофеевну не обижаться и простить нас.
Все время уходило у нас с Валькой на это. Мы из-за этого думанья даже тихие-тихие стали, на переменах не бегали с ребятами, а, как девчонки, вдоль стеночек по коридору ходили. Наконец, придумали. Все оказалось очень просто.
— А ведь за городом нет пианино, — сказали мы Людмиле Тимофеевне. — Так что вам за нас нечего бояться!
Людмила Тимофеевна засмеялась, и, хотя ничего больше не сказала, мы поняли, что в поход собираться можем.
Что это был за день! Замечательный денечек! Мы уехали на электричке далеко-далеко, ходили и в лес, и на речку, и сколько угодно боролись, кувыркались, носились в догонялки по большущей поляне, и никто нас не останавливал и не говорил, чтобы мы кричали потише.
Мы совсем не заметили, как пролетело время и Людмила Тимофеевна уже стала говорить, что пора потихоньку собираться в обратный путь.
И здесь стряслось неожиданное.
Целый день светило солнце, а тут все разом потемнело. Наползла здоровенная туча, ударил гром, как будто кто-то великанского роста переломил о коленку здоровенную палку. И пошел дождь, прямо ливень. Мы едва-едва успели добежать до какого-то старого сарая, стоявшего на краю поляны, и то намокли. Но это было еще не самое худшее.
Когда гроза кончилась и мы вышли на дорогу, то увидели, что маленький ручеек, который мы перешли утром по хлипкому мостику, превратился в настоящую бурную речку. А мостика и в помине нет. Мутная вода бурлила и клокотала в речке, кружила и била о берег охапки сухой травы, какие-то сучки и ветки и даже целое воронье гнездо с приставшими перьями и пухом.
— Что же делать? — расстроилась Людмила Тимофеевна. — Вот-вот пройдет последняя электричка. И никто не знает, что мы здесь, что произошла неожиданность.
Услышав такое, наши девчонки запищали, некоторые даже захлюпали. Ребята держались, но им тоже было невесело. Наша промокшая одежда не торопилась сохнуть и противно липла к телу, в животах урчало.
И тут Валька посмотрел на меня, а я — на Вальку. На другой стороне ручья лежало толстое длинное бревно. Если бы его перекинуть с берега на берег, то получился бы отличный мост. Если бы… но как это сделать?
Веревка, есть у нас веревка? Если ее привязать к концу бревна, то, потянув всем классом… Мы стали спрашивать ребят, и веревка нашлась в рюкзаке у одного мальчика.
— Коньков, куда? — сердито закричала Людмила Тимофеевна, когда я подошел к кромке берега, чтобы примериться к расстоянию. — Куда ты, мало мам одного несчастья!
Она смотрела устало и недоверчиво, когда мы с Валькой начали торопливо излагать ей свой план.
— А если не перепрыгнешь? Ведь это далеко. Упадешь в воду.
— А веревка?! Веревка на что, Людмила Тимофеевна, я обвяжусь ею, а Валька будет держать. Даже если искупаюсь, это же лучше, чем всем ребятам лезть в воду и мокнуть. Но я перепрыгну, вы увидите.
Людмила Тимофеевна думала долго. Потом внимательно-внимательно посмотрела мне в глаза и сказала:
— Хорошо, Юра. Только будь осторожен.
Она сказала не Коньков, а Юра, и глаза ее были такие тревожные и в то же время какие-то радостные, как у мамы, когда я удивляю ее чем-то хорошим. И я понял, что сделаю невозможное, а перепрыгну этот несчастный ручей!
— Давай, Конек, давай! — хором подбадривали меня ребята, когда я, медленно пятясь, отмерял расстояние для разбега, а потом рванулся вперед. Последнее, что я увидел краем глаза, были руки Людмилы Тимофеевны, обхватившие виски.
…О том, что я уже на другом берегу, я понял по восторженному «ура», грянувшему за моей спиной. В это время земля как-то странно поползла у меня под каблуками. И едва я успел прыгнуть вперед, сзади что-то глухо шлепнулось в воду, подняв фонтан брызг. Это под тяжестью моего тела отвалился от берега толстый пласт глины. Если бы я сделал прыжок чуть-чуть меньше, всего на каких-нибудь два-три сантиметра…
Но теперь мне уже ничего не было страшно!
В один момент, раз-два, я отцепил от пояса веревку, привязал к бревну, оказавшемуся старой поваленной березой, и ребята с гиком потянули веревку к себе. Мне оставалось только немного придерживать тонкий конец бревна и не давать ему ползти в воду.
Через пять минут мост уже был готов. Первым перебежал по нему Валька. За ним — другие ребята. Потом, повизгивая и хихикая, девчонки. И наконец, опираясь на шест, который мы ей дали, Людмила Тимофеевна.
Все сразу повеселели и бегом понеслись к остановке электрички. У нас оставалось совсем мало времени, но мы успели и, довольные, кинулись рассаживаться по скамейкам поближе к окнам.
А Людмила Тимофеевна подошла ко мне и сказала:
— От имени всего нашего класса мы выносим тебе, Юра, благодарность. Я верю теперь, что ты учился прыгать с самой хорошей целью. Ты, правда, немного ошибся сначала, но зато твои энтузиазм и инициатива сыграли нам всем хорошую службу. Я расскажу об этом директору.
Она говорила так торжественно, что я даже вспотел.
— Да ладно, чего там, — буркнул я. — Каждый бы так сделал…
А потом мы всем классом пели хором любимые песни — «Барабанщик», «Бескозырка белая» и другие. И никто не останавливал меня и не предлагал помолчать.
А когда мы запели «Капитан, капитан, улыбнитесь», многие из ребят оборачивались в мою сторону, улыбались и показывали разными знаками — «молодец!».
Он верил
Он пришел к нам вечером. И сначала, в сумерках, я принял его за простой серый камушек. Таких много на берегу.
Но камушек шевельнулся, пробежал немного, встал столбиком. И я увидел круглые уши, бусинки-глаза, смешную усатую мордочку.
Усы ходили вправо-влево, вправо-влево: кто это очутился на его пути, такой громадный?
А может быть, гостю хотелось попробовать хлеба с колбасой, которые мы ели?
Стараясь не шуметь, я стал тихонько поворачиваться.
Но тетя Рая дернула меня за рукав:
— Что ты все крутишься? Очень тебя прошу, посиди спокойно.
Тетя Рая была расстроенная. И ее муж, дядя Гена, тоже очень расстроенный и сердитый. Они считали, что нам сегодня ужасно не повезло.
Пароход, которым мы должны были ехать от бабушки к себе в город, не пришел.
— И не придет сегодня, — объяснял всем матрос на пристани. — Скоро осень. Вверху по реке большой туман. Все суда будут стоять до завтрашнего утра.
Мы хотели вернуться к бабушке, но последний автобус в ее деревню уже уехал. Пошли на вокзал, в зал ожидания, а там уже набралось полно народу. Люди сидели на скамейках, на чемоданах, прямо на полу.
Мне было жалко тетю Раю. И немножко стыдно за себя. Потому что сам я расстроился только чуть-чуть. В самом начале. Но потом дядя Гена сердитым голосом сказал такое… такое… что я не удержался и закричал «ура».
Он сказал, что, чем валяться ночь в душном зале, лучше просто под открытым небом, на берегу. По крайней мере, на свежем воздухе.
Еще никогда в жизни я не ночевал под открытым небом, на свежем воздухе, на берегу большой реки.
Я только читал и завидовал путешественникам, которые ночуют, завернувшись в походные плащи и подложив под голову дорожные мешки.
А теперь мы сами будем путешественниками!
Правда, тетя Рая, услыхав про голую землю и плащи, не очень обрадовалась. Она сказала, что так нетрудно и простудиться, и велела, чтобы мы с дядей Геной набрали на берегу каких-нибудь досок и принесли от пристани несколько пустых ящиков. Еще она велела выдернуть там, где мы собирались ночевать, все репейные кусты и тщательно перевернуть все прибрежные камни.
Тетя Рая боялась пауков и мокриц.
— У воды, — говорила она, — всегда полно всякой нечисти.
Мы таскали доски, дергали репьи и переворачивали камни, наверное, целый час. И, честно говоря, здорово устали.
Но все равно я бы ни за что не променял такую жизнь на тесный и душный вокзал. Множество интересного, чего не увидишь и не услышишь днем, происходило вокруг в таинственном вечернем мире.
На реке зажглись бакены, и от них по воде бежали светлые дрожащие дорожки. Живым столбом толклись под фонарем у пристани мелкие ночные бабочки. Плескалась в воде рыба. Из темных кустов доносились непонятные, загадочные шорохи.
А в нашем маленьком лагере было светло и уютно. Мы сидели вокруг костра и ужинали хлебом с колбасой.
…В свете этого костра я и увидел мышонка. Он подошел совсем близко. Кусочек хлеба, который я тихонько кинул ему, долетел почти до самого его носа. Но ушастик испуганно отскочил в сторону и скрылся в темноте.
— Не вертись, ешь спокойно, я же просила тебя, — сказала тетя Рая усталым голосом. А дядя Гена посмотрел на меня строго.
Я перестал шевелиться, только голову вытянул, чтобы увидеть, когда «он» придет снова.
Но лучше бы я совсем не смотрел! Потому что тетя Рая тоже начала приглядываться и первая увидела. И вскочила, и закричала так испуганно, словно увидела целого волка.
— Гена, Гена, мышь! Я так и знала! Да мышь же! Прогони. Умоляю тебя.
Но дядя Гена не мог встать, у него болела спина из-за камней и досок.
— Пошел! — И камень, брошенный им, упал в том самом месте, где только что стоял мышонок.
Я закрыл глаза, и колбаса застряла у меня в горле. Вскочил и бросился туда, где глухо стукнул камень. Камень был, а мышонка не было.
Я шарил по земле, но пальцы хватали речные голыши да противные колючие репьи.
— Вымой руки, гадость какая, — брезгливо поморщилась тетя Рая.
А дядя Гена усмехнулся довольно:
— Ищи ветра в поле!
Конечно, он не покажется больше. Я знал это и все-таки смотрел — а вдруг. Есть мне совсем расхотелось. И на берегу почему-то сразу стало холодно и неуютно.
«Он пришел к нам, такой маленький. А мы! Как мы встретили его…»
Тетя Рая внимательно посмотрела на меня:
— Разве мне жалко колбасы? На, положи ему, если тебе так хочется. Только подальше.
— Давайте, давайте, — обиделся дядя Гена. — Поваживайте!
Я сидел и думал, что он сейчас думает про нас, мышонок. Вот он жил на берегу, совсем один, в стране дремучих трав. И вдруг появились мы, такие большие и незнакомые. А может быть, он жил не один и шел к себе домой, где его ждали. Но мы загородили ему дорогу. Или даже разрушили его дом, когда расчищали себе место на берегу. Разрушили чужой дом и даже не обратили внимания.
Я думал про все это, а дядя Гена внимательно смотрел.
И вдруг он пошарил вокруг себя рукой и кинул теперь уже не камень, а палку, небольшую такую палку, но для мышонка, наверное, целое дерево.
— Какой настырный! — удивленно сказал дядя Гена. — Привык, видать, царствовать здесь, у плохих хозяев. — И он показал рукой на ларек, который стоял у пристани: — Вон какие щели везде. Ну ничего, больше не заявится. Можете спать спокойно.
Дядя Гена лег на доски и укрылся плащом. И, наверное, сразу заснул, потому что больше не шевелился.
И мне тетя Рая тоже велела лечь.
Но сон почему-то не шел ко мне. Наверное, мне мешали звезды.
Вдруг чья-то тяжелая рука легла мне на плечо. Оказывается, это дядя Гена не спал под своим плащом и показывал мне глазами на тетю Раю: «Тише».
Я пожал плечами, мол, и так лежу тихо.
Но он опять повторил свое «тише» и внимательно поглядел в камни. Мышонок снова был здесь! И мне стало так трудно. Я обрадовался и тут же испугался. В третий раз дядя Гена не промахнется! А мне нельзя даже крикнуть, чтобы не разбудить тетю Раю.
Я лежал, как настоящий изменник, и горький стыд царапал мне горло.
«Лучше бы мы уехали вечером. Лучше б ночевали в душном вокзале». Мне больше не хотелось быть путешественником.
А дядя Гена все шептал свое «тише» и почему-то тихонько смеялся.
Я хотел отодвинуться от него. Но ночной холод забирался мне под куртку, я чувствовал, что весь дрожу. Последнее, что я запомнил сквозь сон, как дядя Гена накрыл меня своим плащом, а другой край плаща зачем-то вытащил из-под бока и опустил на землю.
…Я проснулся оттого, что солнце било мне прямо в лицо, хотя было еще совсем рано. Тетя Рая спала. А дядя Гена сидел рядом со мной, как будто ждал. Край плаща по-прежнему лежал на земле.
Дядя Гена немножко отодвинул этот край, и… я увидел прямо рядом с собой ушастую мордочку, два блестящих глаза.
Мышонок как ни в чем не бывало шевелил усами вправо-влево, и на груди его было белое пятнышко, словно фартучек. Прямо ладонью дядя Гена взял и накрыл мышонка. А потом легонько подтолкнул пальцами:
— Теперь не замерзнешь, беги!
Он стал мне объяснять шепотом, что это, оказывается, полевая мышь. Мышь-малютка. Есть такая разновидность. Ей не нужны ни наша колбаса, ни хлеб. А просто мышонка потянуло на тепло. Что, наверное, он еще очень молод и неопытен. И это первая в его жизни осень.
Он что-то еще объяснял, дядя Гена, про особенности и повадки полевых зверьков.
Но я знал, я знал одно. Он верил нам, людям, маленький мышонок, глупый, серый и смешной. Он верил.
Если взялся за гуж
Каждый вечер в нашем большом дворе жильцы прогуливают собак и кошек. Каких только зверей здесь нет: большие и совсем маленькие, голосистые и молчаливые, пушистые и гладенькие. Настоящая выставка. И хозяева с гордостью смотрят на своих питомцев и сравнивают — кто самый красивый, самый храбрый, самый умный. И еще с удовольствием окликают животных по именам, потому что эти имена красивые, звучные и приятные.
Мне тоже очень хотелось, чтобы у меня кто-нибудь такой жил. И чтобы я красовался с ним во дворе.
Я долго просил маму, но она все не соглашалась. Она говорила, что вырастить и воспитать животное нелегко. Оно требует постоянного ухода и внимания.
— Если уж тебе так хочется, — предлагала мама, — купи в зоомагазине рыбок или черепаху. Проверь себя. Рыбам, по крайней мере, можно только один раз в день корму насыпать, и все дела.
Но я не хотел рыбок. Я хотел, чтоб по улице гулять. И чтобы все смотрели и завидовали.
И я решил перехитрить маму.
У нас в подъезде, под лестницей, которая ведет в подвал, жила ничейная кошка. Сначала она одна жила, а потом у нее появились маленькие котята.
И вот однажды, в праздник, когда мама была веселая-веселая и к нам пришли гости, я быстро спустился вниз, схватил у кошки одного котенка и притащил домой. Прямо в комнату, где сидели гости. И сказал:
— Вот! У всех праздник, а он — под лестницей. Там темно и холодно. А сегодня всем должно быть хорошо.
Гости зашумели, засмеялись, а одна гостья, тетя Шура, даже засморкалась в платочек:
— Какое доброе сердечко!
И мама только вздохнула.
Я обрадовался и побыстрей оттащил котенка на кухню. Налил ему молока в крышку от консервной банки, разломил котлету и стал ждать, когда он поест, чтобы быстрей идти с ним прогуливаться.
Но котенок почему-то ничего не ел. Да и ходил совсем плохо, все время тыкался мордочкой в пол.
«Завтра прогуляюсь, когда подрастет», — решил я и убежал играть с мальчишками в футбол.
…Когда я вернулся, гости ушли и мама мыла на кухне посуду. Котлета, которую я оставил котенку, по-прежнему лежала на полу нетронутая. Молоко было разлито и размазано. Котенок, мокрый и некрасивый, ползал по полу и пронзительно пищал.
— Он есть просит, — сказала мама. — А хозяин в это время гоняет по улице.
— Так пусть ест, если хочет, — ответил я. — Я ему оставил.
Мне почему-то мокрый котенок уже не так нравился, как раньше. И пищал он довольно противно. И ходить нисколечко не научился, хотя прошло, наверное, уже часа три.
— Хочет есть, но не умеет, — сдвинула брови мама. — Ты подумал об этом, когда брал его?
Я, конечно, ничего такого не подумал. Где мне было думать под лестницей! Кошка так здорово шипела и царапалась, никак не хотела отдавать котенка.
Но мне было стыдно сказать об этом маме. Она всегда говорила: «Семь раз примерь, один раз отрежь. Чтоб потом поздно не было».
А почему поздно? Я вот сейчас отнесу котенка обратно кошке, и все.
Я обрадовался, что так ловко придумал, и быстро побежал вниз. Но под лестницей было уже темно, и я никак не мог отыскать кошку. Я положил котенка на ступеньку — пусть кошка его сама найдет — и ушел.
— Отдал? — спросила мама, когда я вернулся.
Я кивнул, но почему-то мне не хотелось смотреть маме в глаза. И я с трудом проглотил ужин, который приготовила мама.
Мне вдруг стало казаться, что я слышу, как котенок пищит там, на лестнице, один-одинешенек. Хотя, конечно, этого нельзя было услышать у нас, на восьмом этаже.
Я ушел в свою комнату, закрыл дверь и стал читать свою любимую книжку «Незнайка на Луне». Но мои мысли непослушно, наверное назло, все возвращались и возвращались с Луны к темной и холодной лестнице, на которой лежал мокрый котенок.
— Кошка противная, — сказал я маме.
Но она ничего не ответила.
Я хотел помочь маме вымыть посуду, но посуда вся была чистая, а мама такая задумчивая-задумчивая, совсем не праздничная, хотя еще был праздник.
Я взял спички и снова пошел под лестницу. И увидел, что ящик, в котором жила кошка с котятами, пуст. Только в самом дальнем углу под ступенькой лежал мой котенок, такой маленький и холодный.
— Что же теперь делать? — спросила мама, когда я снова принес котенка на кухню. — Ты напугал кошку, и она унесла котят куда-то в другое место. А этот, конечно, не сможет жить самостоятельно. Придется, — вздохнула мама, — обратиться в аптеку. Беги, может быть, еще успеешь до закрытия. Ведь твое сокровище надо поить из соски.
Я бежал в аптеку так, словно мне покажут там сразу две серии «Приключений Синдбада-Морехода». Лишь бы прекратился у пас на кухне голодный писк. Мне было, правда, немножко стыдно просить у тетеньки в белом халате соску, словно я маленький, но я соврал, что это нужно для сестренки.
…Когда мы, наконец, напоили котенка теплым молоком из пузырька и уложили на половичок, праздничный день уже совсем кончился.
Начались, как сказала мама, будни. Каждый день мне приходилось вставать на полчаса раньше обычного, греть на плите молоко и поить котенка. И из школы тоже бежать домой, как на пожар. И вечером меньше, чем раньше, играть с мальчишками в футбол.
…Котенок понемножку рос. Но мне казалось, что очень медленно. И еще медленнее становился красивым и умным. Он не умел облизывать себе шкурку после еды, и надо было вытирать ему морду тряпочкой. И подтирать лужицы на полу. И подметать веником песок, который он расшвыривал во все стороны из коробки, которую мы ему поставили в коридоре.
— Всему, чему его должна была научить кошка, теперь придется учить тебе, — сказала мама. — Коли взялся за гуж, не говори, что не дюж.
Мама любила пословицы. И я учил. Только потихоньку, когда никто не слышит, называл котенка балбесом.
А он вдруг взял и привык к этому слову. И, наверное, подумал, что у него такое имя. И не хотел отзываться ни на какие другие кошачьи имена, которые я ему придумывал.
…Один раз ко мне пришел мой приятель Вовка.
— Смотри ты, совсем большой стал! — удивился он, глядя на котенка. — Давай выйдем с ним на улицу, прогуляемся.
Мы взяли Балбеса и пошли во двор. Нас сразу окружили ребята. Глаза у котенка сделались большими и испуганными, он что есть силы вцепился когтями мне в куртку. Но ребята стали просить, чтобы я спустил его на землю. Всем было интересно посмотреть, что котенок умеет делать.
А он ничего не делал, только прижимался к земле и дрожал.
— Трусоватый, — решили ребята. — Или он вообще у тебя бегать не умеет?
— Он не умеет?! Еще как! Сейчас увидите! — И я подтолкнул легонько Балбеса ногой. Но он только жалобно на меня посмотрел, и ни с места.
Мне стало неудобно перед ребятами, что у меня такой неинтересный и неспособный котенок. Даже пробежаться не может.
— Его издалека надо позвать, — предложил толстый Витька. — Ты как его зовешь — Пушок или Васька?
— Ветер, — вдруг брякнул я. — Ветерок.
«Не хватало еще, чтобы ребята узнали, какое у моего котенка глупое имя».
Ребята стали по очереди звать котенка из разных концов двора, но он сидел по-прежнему.
— Я знаю, — сказал опять толстый Витька. — Ему надо на хвост наступить, сразу побежит. — И поднял ногу в ботинке с подковками.
И я не остановил его. Мне, как в сказке про Снежную королеву, залетел в сердце осколок кривого зеркала. И сердце стало злым и холодным.
«Почему котенок не хочет слушаться меня, если я его хозяин!»
И я сам наступил ногой на тоненький Балбесов хвостик. И Витька за мной, со всей силы.
И котенок в самом деле побежал. Сначала к забору, потом обратно. А так как все ребята кричали, он вообще стал метаться, как сумасшедший.
Мы стали его ловить.
— Ветер, Ветерок!
Несколько раз котенок поворачивал голову на мой голос. Но ведь я стеснялся назвать его настоящим именем. И он совсем растерялся. И вдруг взял и заскочил в такую маленькую дырочку в стене дома, отдушину подвала. И… пропал.
Все ребята сразу замолчали и испуганно на меня посмотрели:
— От матери будет тебе.
А я больше всего на свете не люблю, когда думают, что я трушу. И кусок кривого зеркала опять повернулся где-то внутри меня.
— Ничего не будет! — буркнул я. — Мать сама хотела, чтобы котенок пропал. Потому что глупый.
Я повернулся и ушел домой. Сидел на диване и нагонял на себя злобу:
«Действительно, у других кошки как кошки: сидят себе спокойно или прогуливаются с достоинством, никуда не убегают. А этот… Позорится только…»
Но тонкий чужой голосок напевал где-то внутри меня: «А если б тебя самого первый раз на незнакомую шумную улицу!‥»
«Сидит сейчас распрекрасно в подвале, мышей ловит, — старался я. — Про меня совсем забыл. Как я поил его из соски три раза каждый день. Как учил уму-разуму…»
«Не учил, а только начал учить, совсем чуть-чуть, — перебивал голосок. — А в подвале отродясь не было никаких мышей. Зато крыс — сколько угодно. Водопроводчик дядя Коля показывал одну. Здоровенная, не только котенка слопает, но человеку ногу откусит!»
А стенки в подвале высокие, гладкие. Вниз с перепугу быстро соскочишь, а вот обратно?‥ Мокрые, противные стены обросли, наверное, плесенью и всякими подвальными грибами.
«Б-р-р, — мне даже от одного представления стало не по себе. — Б-р-р, т-р-р».
Тут еще Вовка по телефону душу травит:
— Как мать, ругается?
— Если бы! И то, наверное, легче б было…
Но мама словно и не замечала, что пошел уже десятый час, а я не ложился в постель. Напевала ни с того ни с сего веселую песенку про друзей, которые познаются в беде… А я все ждал, что стихнет на улице дневной шум и, может быть, котенок вылезет…
Но он не вылез.
И на следующий день, когда мы с Вовкой привязали за нитку сосиску и спустили через отдушину в подвал, нам никто не отозвался…
…Водопроводчик дядя Коля, которому я на третий день рассказал про котенка, выслушал меня недоверчиво:
— Убег он, наверное, десять раз!‥
Но все-таки выбрал из большой связки ключей, которая висела у него на поясе, самый длинный:
— На полчасика, не баловать чтобы только!
Хорошо бы, конечно, лезть в подвал не одному. Ну хотя бы вдвоем с Вовкой. Но Вовка во вторую смену, он еще не скоро придет.
Время летело, пока я спускался в подвал медленно-медленно. Вот лестница, где когда-то я отнял у матери маленького, полуслепого котенка. Вот ступенька, где я кинул его, беспомощного, одного. Угол, где он лежал, уткнувшись головой, и чуть не задохнулся… Наверное, этот подвал сделали специально, чтобы испытывать мою совесть!
Я ободрал все пальцы, пока повернул ключ в ржавом замке. Тяжелая железная дверь открылась с отвратительным скрипом, меня сразу обдало холодом и вонючей сыростью.
— Кис-кис, Балбес, Балбесик, — просунул я в эту сырость голову.
«Может быть, он отзовется, выскочит, и мне не придется идти в зловещую темноту».
Но темнота молчала. Впопыхах я забыл спросить у дяди Коли спички. А в подвале, будто специально, чтобы было страшней, кто-то настроил тысячи закоулков, и в каждом, так и чудилось, кто-то таится.
Я протянул вперед руку, и тотчас мои пальцы уперлись во что-то мягкое и мохнатое. Внутри этого мягкого и мохнатого заскрипело и забулькало. Как будто невидимое чудовище разевало вонючую пасть.
Моя рука дернулась назад, и я тут же больно ударился локтем о противоположную стенку.
Я решил обмануть того, невидимого, влипнуть в стенку и не шевелиться. Но сердце стучало, выдавая меня, на весь подвал, локоть нестерпимо саднил, а ноги отчего-то сделались мягкими и непослушными.
Еле-еле, когда глаза немножко привыкли к темноте, я разобрался, что принял за чудовище толстую трубу, обмотанную ватой и мешками. Сквозь вату капала горячая вода, труба хрипела и булькала, как живая.
Я углублялся в подвал все дальше и дальше, звал и звал кота. Но котенок не отзывался. Да и было ли кому отзываться мне? Может быть, давно лежат где-нибудь в углу обглоданные крысами косточки?
И вдруг я с ужасом услышал, как где-то позади, далеко за моей спиной заскрипела, лязгнула, а потом с грохотом захлопнулась железная дверь.
«Все! Захлопнули, захлопнули, как крысу!»
Я рванулся к выходу, но на моем пути вырос невидимый каменный выступ. Я что есть силы ударился о него коленкой, предательские слезы больше не могли удержаться у меня в глазах…
Я даже не сразу услышал глухой голос дяди Коли, который звал где-то в темноте:
— Мальчонок! Ты здесь, мальчонок? Чего ж не отзываешься?
Как слепой, я пошел на голос и уткнулся головой в твердую и пахнущую брезентом грудь дяди Коли. А когда он вывел меня на свет, я увидел, что на его плече… как ни в чем не бывало сидит мой Балбес! И его усатая мордашка, кажется, выражает вопрос: «Где это ты так долго пропадал?»
— Я иду, а он сидит при входе, — объяснял, посмеиваясь, дядя Коля. — На приступочке. Он, видать, сразу проскочил, как ты дверь открыл. А тебе не отозвался. Глупый еще, дурашка!
«Да, дурашка! — хотел я крикнуть. — Обманул меня, и его же жалеют!»
Но поглядел на худую спину котенка, на его запавшие за три дня бока и ничего не сказал.
И тетеньке около подъезда, которая увидела нас, пыльных и грязных, и засмеялась — «какие ж мы красивые!» — я тоже ничего не сказал. Только сцепил зубы и крепче прижал к себе котенка.
Он будет еще, обязательно будет и умным, и смелым, и красивым.
На природу
— В воскресенье у нас на предприятии намечается вылазка на природу, — сказал однажды вечером папа. — Поедем?
— Конечно, поедем, еще бы! — побыстрей ответил я, пока мама не начала вспоминать, какие хозяйственные дела она отложила на воскресенье.
— Хотелось в выходной как следует убрать квартиру, — в самом деле сказала мама.
Но мы стали ее уговаривать.
— Подышим свежим воздухом, наберемся впечатлений. И все дела после этого смахнем за один час, — заявил папа.
— Конечно, смахнем, — подтвердил я.
Мама засмеялась, но еще немного покапризничала:
— Слово какое-то неприветливое — «вылазка». Как будто мы вредители или диверсанты какие-нибудь. Вылезаем, где нас не ждут.
— Ну, называй «экскурсией» или «однодневным турпоходом», — опять засмеялся папа. — Главное, завтра на автобус не опоздать. К семи утра.
Мы пришли к автобусу без десяти минут семь. Я думал, мы самые первые будем. Но оказалось, что природу все любят. В автобусе народу было уже полно. И все с сумками, авоськами, полными всякой еды. Я даже удивился немного — зачем столько на один день. Потом решил, что многие, наверное, просто еще не успели позавтракать в такую рань.
…Природа началась сразу, как только мы выехали из города. Я не подозревал раньше, что самые обыкновенные деревья и трава могут выглядеть такими необыкновенными, новыми, красивыми и чуть-чуть загадочными.
Я стал представлять, как сниму сандалии и буду бегать по траве босиком. Она, наверное, мягкая-мягкая и прохладненькая.
А лес, мимо которого мы проезжали, казался издали не зеленым, а голубым. И белый туман поднимался от земли, словно кто-то невидимый зажег в траве множество маленьких костров.
Я хотел спросить папу, отчего это так. Но какой-то толстый дяденька крепко держал папу за пуговицу пиджака и все говорил, говорил ему про всякие заводские дела. И мама показала мне глазами, чтобы я подождал.
Я стал ждать, хотя это было очень трудно. Просто ждать и молчать, потому что природа развертывалась за окном автобуса прямо как в кино. Мы уже проехали озеро, в котором, наверное, водилось множество рыбы. И проехали деревеньку, в которой окошки домов были украшены такими интересными узорами.
А толстый дяденька все говорил и говорил с папой. А маме одна женщина с большим клубком ниток в руках показывала, как надо накидывать при вязании двойные петли, и маме тоже было некогда смотреть на природу.
Вообще все в автобусе занимались почему-то обыкновенными делами: закусывали, дремали и даже играли в домино.
Когда же наш автобус перегнал лошадь, за которой бежал маленький, коричневый, прямо шоколадный жеребенок, я не мог удержаться и закричал что было силы:
— Папа, да смотри же, папа!
И нечаянно разбудил тетеньку, которая впереди нас дремала.
Тетенька разволновалась, называется, говорит, отдыхать поехали. И никакого тебе покоя.
Пришлось папе за меня извиняться. И мама строго на меня поглядела. Но я все равно был рад, что папа, наконец, отошел от толстого дяденьки и подсел ко мне.
Вскоре наш автобус свернул с асфальта, проехал недолго и остановился у щита, на котором был нарисован большой лось. Лось прыгал через красное пламя, а внизу было написано: «Берегите лес от пожара». «Уж мы-то сбережем! — подумал я. — Нам бы только увидеть в лесу этого лося».
И я стал торопить папу выйти из автобуса, потому что толстый дяденька опять начал к нему пробираться, наверное, не договорил про свои заводские дела.
— Ух, хорошо, — глубоко вдохнул папа, спрыгнув с подножки. — Воздух какой чистый! Лежи себе под елкой и пей его. Гляди, многие уже приземлились под деревьями.
И правда, почти под каждым деревом на поляне уже сидел кто-нибудь из автобуса, расстелили одеяла и газеты, опять закусывали, а доминошники с заднего сиденья начали новую партию.
Наша мама тоже села рядом с тетенькой, которая вязала.
— Немножко осталось, — показала она нам клубок ниток, — посижу, пока вы разведаете окрестности.
Разведать — это можно! Пусть сидят, кому нравится. А мы углубимся в чащу леса и, быть может, первыми встретим лося.
Только мы прошли немного, в лесу что-то загудело, затрещало. Я схватил на всякий случай папу за руку. Но оказалось, что это гудел автобус, только не наш, а другой. И немного поодаль стоял еще один, и вокруг тоже сидело, лежало много народу. Все смеялись над нами, что мы, наверное, любим долго спать, если думаем, что приехали самыми первыми.
— Нет, брат, лосей близко не будет, слишком шумно, — сказал папа. — Давай пока просто под ноги смотреть. Отыщем гриб. Кто первый найдет, тому премия.
И быстро шагнул прямо под куст. Там что-то белело. Оказалось — простая бумажка. А под другим кустом вместо гриба была яичная скорлупа. Под третьим — зеленая бутылка.
Папа смущенно посмотрел на меня. И велел мне пока снова обуть сандалии.
— Мы, похоже, слишком скоро захотели девственной природы, — вздохнул папа. — За ней, я вижу, придется побегать. Давай предупредим маму и не пожалеем ног.
Я и не собирался их жалеть, ноги. Только спросил папу, что такое девственная природа. И он сказал, что, в общем, это такая природа, где не ступала нога человека.
«Только лося, хозяина этого леса», — решил я про себя. Мы пошли быстро-быстро, не жалея ног. И папа все-таки нашел, что искал. Целых три гриба. Мне они очень понравились. Сверху беленькие, снизу розовые и с такой кружевной оборочкой на ножке.
Но папа почему-то сказал, что за такими вовсе можно было и не ездить в лес. Просто отправиться на околицу ближайшего села.
— Это же шампиньоны, — сказал папа про грибы. — Они за человеком ходят по земле, как воробей по воздуху. Где оставляет человек всякий мусор, там и они. А я тебе, Юрка, хотел показать настоящий лесной гриб — подберезовик. Давай еще немножко пройдем. Ищи березу, ее в любом лесу заметишь, красавицу в белом сарафане.
Мы еще прошли. Почти весь лес. И на опушке, наконец, заметили березу. Только сарафан у нее был не совсем белый, весь в царапинах.
Может быть, это лось точил о березу свои рога?
Но лоси не знают букв. А на березе было их много. И целые слова. Даже предложения: «Витя и Надя», «Мы здесь были», «Москва — Волга», и еще много рисунков. Мне было интересно их читать. А папа, наоборот, стал сердитым-сердитым. И мрачным. Он показал мне одну, совсем свежую царапину, из которой бежал сок, как настоящие прозрачные слезы.
— Не растут, Юрка, веселые подберезовики под грустными березами. Давай половим лучше рыбу. Я приметил, когда мы ехали, недалеко от нашего автобуса — маленькая речка.
Только мы повернули обратно, как сразу увидели — в той стороне, где остались автобус и наша мама, поднимается густой черный дым. Выше самых высоких деревьев.
Папа быстро побежал на дым, прямо поволок меня за собой.
Я догадался, что это лесной пожар, и вспомнил картинку, как огромный лось прорывается через красное пламя и у него такие испуганные глаза.
Мы бежали навстречу дыму, а он делался все гуще и черней. Сухие ветки хрустели у нас под ногами, как будто уже корчились в огне. А земля, мне показалось, стала горячей-горячей, я даже через сандалии это чувствовал. И по папиному лицу катился пот, как березовые слезы по белой коре.
Еще издалека мы услышали, как кричат и суетятся люди на нашей поляне. Но то, что мы увидели, был не пожар. Просто большой костер. Только пахло от него не как на даче, когда жгут сухие листья, а отвратительно, прямо нечем было дышать. Женщины зажимали носы, а мужчины суетились и старались вытащить из костра что-то круглое, черное, от которого шел этот черный, вонючий дым.
— Черт его знал, — подбежал к папе дяденька, который, когда мы уходили, звал папу играть в домино. — Увлеклись мы партией, засиделись, а земля холодная. Хворост собирать долго, кинули вот старое колесо от автобуса, чтоб подольше горело. Ну, а получилось…
В это время другие мужчины все-таки вытащили кое-как палками колесо из костра и стали топтать его ногами. Но оно и не собиралось тухнуть, стреляло искрами, на земле образовался еще один горелый круг, всякие травинки и былинки прямо корчились вокруг от жара, а чернота ползла по поляне дальше и дальше.
Хорошо, шофер, который стал беспокоиться за свой автобус, вспомнил, что у него в багажнике есть лопата. И мужчины торопливо закидали это упрямое обгорелое колесо землей.
Только полянка, когда, наконец, дым рассеялся, была уже такая некрасивая, пожженная и перекопанная, как будто по ней прошел ураган или война.
— Голова прямо трещит от этого дыма, — пожаловалась мама. — Пойду с вами на речку.
Папа кивнул, но был весь какой-то вялый-вялый и невеселый. И не помогал мне возиться с удочкой, когда я разматывал ее и закидывал в воду.
Мне очень хотелось поймать побыстрей хотя бы малюсенькую рыбешку, может, папа развеселится. Но рыба не клевала, да и сама речка текла еле-еле, не речка, а настоящее болото. Вся она заросла тиной, зеленый камыш стоял вперемешку со старым и сухим, и торчала отчего-то из воды, почти что прямо в середине речки, старая спинка от кровати. И на крючок мне попалась сначала рваная резиновая галоша, потом ржавая консервная банка с зазубренными краями. Я, как только поглядел на эту банку, сразу почувствовал, что вряд ли мама разрешит мне теперь купаться, побоится за мои ноги. Да и самому лезть в такую тину не очень хотелось.
Я уже понял, что девственной природы нам не найти сегодня ни в лесу, ни в воде, ни даже в небе, где еще пролетали время от времени хлопья сажи от сгоревшей автобусной покрышки.
И куда идти еще, чтобы искать эту природу, я не знал. Взял у мамы бутерброд и стал нехотя жевать его.
Но тут что-то неожиданное случилось с папой. Он деловито закатал свои брюки выше колен и решительно полез в воду. Схватил эту самую кроватную спинку, которую кто-то неизвестно зачем кинул в речку, раскачал ее и, поднатужившись, выволок на берег вместе с целым пучком тины.
— Собирай улов! — весело крикнул мне папа, и я увидел, что в тине шевелится здоровущий зеленый рак и еще один, поменьше.
А папа снова шагнул в воду и достал со дна большую кастрюлю с дырявым дном, и в ней тоже сидел рак, выпучив на нас привязанные на ниточки глаза.
И мы с папой стали наперегонки шарить по дну руками.
— Только осторожней, не обрежьтесь о всякую дрянь! — закричала нам с берега мама.
— А мы ее сейчас всю по-вы-ки-не-ем! — отозвался папа и ловко поддел палкой старое, набитое тиной ведро. — Проведи разведку, Юрка, нет ли еще одного рачьего гарнизона в этой старой крепости.
«Конечно, это папа нарочно придумал, — догадался я, — с раками. На самом деле он ведь чистит речку. Вот здорово! Вылечить целую речку. Это не хуже, чем помощь Гулливера в стране лилипутов».
Мы с папой перемазались в тине, но мама не ругала нас. И всем нам стало весело. И жарко.
За работой я не заметил, как на берег пришли еще несколько человек из нашего автобуса. Я только почувствовал, как сетка от кровати — мы как раз тянули ее с папой со дна, а она не поддавалась — вдруг стала легкой-легкой. И крепкое мужское плечо потеснило мое:
— Ну-ка, подвинься, брат. Возьми себе, что полегче.
Потом мы все вместе сидели на берегу и смотрели, как медленно оседает в речке взбаламученный песок. И вода делается все чище, чище и прозрачнее, словно маленькая речка умылась и повеселела.
К нам еще подходили люди из нашего автобуса. У одной женщины, которую я нечаянно разбудил по дороге, был в руках большой промасленный сверток.
Она сначала хотела бросить его в воду, а потом как-то растерянно посмотрела на всех нас и остановилась. И осторожно положила этот сверток в ржавое ведро, которое мы достали из воды. И вернулась к автобусу, и принесла лопату. Это ведро и все другое такое мужчины глубоко зарыли в землю. Чтобы мусор никогда не попал больше в маленькую речку.
А тот дяденька, который все время говорил с папой в автобусе про завод, сел на берегу и, как маленький, опустил ноги в воду и долго-долго сидел и вообще ничего не говорил, только задумчиво улыбался.
…Когда мы уезжали домой, я долго-долго смотрел в заднее окошко автобуса. Может быть, поздно вечером или ночью на поляну, освещенную лунным светом, все-таки выйдет из лесу лось. Он настороженно перешагнет через опаленную траву и пугливо потянет^чуткими ноздрями чужие запахи бензина, горелой бумаги, масла и резины. Но потом он ступит тонкими ногами в чистую речку, напьется чистой воды и… его большие грустные глаза повеселеют.
Я смотрел, смотрел в окошко, и мне показалось, что мохнатая лапа одной елки тихонько дрогнула…
Тримаран
Когда я начал учиться в пятом классе, недалеко от нашей школы открыли новый магазин — «Культтовары». Мы с ребятами после уроков почти каждый день в него стали заходить.
Там такие замечательные вещи продаются! Маски для подводного плавания и ласты; разные пилки и лобзики; электрические паяльники, фонарики, батарейки; «конструкторы», какие хочешь, — и железные, и деревянные, и пластмассовые.
Просто невозможно в такой магазин не зайти.
Продавщицы, правда, нас не так чтобы очень приветливо встречали. А одна, над ее прилавком табличка висит «Старший продавец т. Сковородникова», — та вообще сразу спрашивала: «А покупать-то чего-нибудь будете?»
Как будто обязательно надо сразу покупать! Вон Клавдия Павловна, наша учительница математики, всегда говорит: «Семь раз примерь, один раз отрежь». А выбрать покупку — это ведь тоже надо семь раз примерить.
Тем более, мы с Валькой Трофимовым и Гарькой Смоляковым решили купить не что-нибудь, а судовой двигатель. Он, конечно, не настоящий, большой двигатель, как «Вихрь» или «Москва», что на бензине работают. Но и не просто игрушка какая-нибудь.
…Моторчик, который мы облюбовали, называется ЛЭБ-506. Значит — лодочный, электрический, на батарейке. Разглядеть его на прилавке во всех подробностях трудновато: сверху стекло, и сам он спрятан в белой пластмассовой коробочке — кожухе, только вал и гребной винт снаружи.
Но мы, все трое, кажется, так и видим, как он лежит себе тихонечко в своем кожухе, такой черненький стальной сердечник, аккуратно обмотанный блестящей медной проволокой. Похожий на большого черно-золотого шмеля. И стоит только подсоединить его к батарейке, как он загудит по-шмелиному и завертит вал с белой пластмассовой ромашкой винта на конце.
Каждый день мы заходили в магазин и проверяли, не купил ли кто-нибудь нашу драгоценность. Мы даже решили не брать в школьном буфете пирожков с повидлом, чтоб побыстрей накопить денег на своего «шмелика», как мы прозвали моторчик.
А пока мы с Валькой и Гарькой готовили для «шмелика» судно. Сначала мы хотели, чтобы это был трехпалубный электроход. Такой, какие ходят у пас по Волге. А потом передумали и решили — пусть, будет тримаран. То есть судно с тремя корпусами, соединенными между собой. Мы про такие в журнале «Юный техник» читали. Если два корпуса, то судно называется катамаран, если три — тримаран. А в одной лаборатории построили даже семимаран.
Нас трое, и у нашего корабля будет тройной корпус, прочный и устойчивый, которому не страшны самые большие штормы, — решили мы. — Даже девятый вал, как на картине Айвазовского, не страшен. Эту картину мы видели в музее, когда ходили туда всем классом.
Мы договорились: каждый из нас делает по корпусу, а потом их соединим.
Гарька сразу сказал, что построит парусник. Он старинными кораблями интересуется. Вызовут его, например, на уроке истории отвечать про водный путь из варяг в греки. Он скажет два слова — откуда и куда купцы-путешественники вышли, и тут же начинает про устройство кораблей. Какие паруса, какие борта, сколько гребцов с каждой стороны. Потом — какие украшения делались на носу, какие надстройки на корме. Учительница слушает, слушает, потом говорит:
— Я боюсь, Смоляков, греки не дождутся наших варягов с товарами. Навигация закончится.
— Да что вы, Татьяна Ивановна! — Гарька обижается. — У них скорость, знаете, какая высокая была! Они ведь выбирали для своих судов мореный дуб, для весел — ясень, а для парусов… — опять его не остановишь…
Мы с Валькой Трофимовым интересуемся конструкциями более современными.
Мне, например, больше всего нравится рассматривать всякие схемы и чертежи по электронике. Хочется настоящего робота построить.
Мама говорит, что у меня богатое воображение. А папа, что воображение — это хорошо, но при этом в каждом деле надо иметь добротную теоретическую базу. Это он намекает на то, что я пока никак не исправлю тройку по математике…
…Но я хотел про наш тримаран рассказать.
Значит, Гарька Смоляков стал строить свою часть как бригантину. А мы с Валькой оба решили, что у нас будут подводные лодки. Мы даже поспорили, потому что он заявил, что первый захотел строить подлодку, а я — что я. Сначала немножко поспорили, а потом незаметно совсем поссорились и перестали рассказывать друг другу, как идет строительство. Или, как сказал мой папа, «перестали обмениваться информацией». И еще он сказал, что вряд ли из этого выйдет что-нибудь хорошее.
Я, конечно, сам переживал, что у нас так получилось. Но когда папа сказал, что «вряд ли выйдет что-нибудь хорошее», я обиделся. Наверное, он думает, что раз у Вальки старший брат ходит в Дом пионеров в судомодельный кружок, то мне надо всеми силами за Вальку держаться и во всем его слушаться. А я как-нибудь сам обойдусь, и моя подлодочка выйдет не хуже, чем в судомодельном! Чтобы она устойчивее была и, как настоящая, почти не выступала из воды — только кусочек палубы и рубка, — я решил для своей подлодки выплавить свинцовый балласт. Корпус я сделал тоже надежным, увесистым и дополнительно пробил гвоздиками. Опробовать корпус в воде я, правда, не стал, все равно он не один ходить будет, а в тримаране.
И вот наступил день, когда Гарька, наш главный казначей, сказал, что денег накопилось достаточно. В понедельник мы пошли в «Культтовары» и высыпали на прилавок целую кучу пятаков и гривенников.
И старший продавец т. Сковородникова не просто завернула нам коробку с моторчиком в бумажку, а положила в пакетик. Есть такие, наверное, для самых любимых покупателей. Там всякие товары нарисованы и разные ласковые слова — «К вашим услугам!», «Заходите, мы вам рады» и так далее.
Мотор мы укрепили на Валькиной подлодке, потому что она получилась самой большой. Смолякова бригантину и мою подлодку присоединили к Валькиной легонькими рейками. Получилось ничего себе. Все мальчишки и даже взрослые прохожие обращали на нас внимание, когда мы тащили свое сооружение к фонтану-плескательнице во дворе Валькиного дома.
Там, конечно, уже никто не плескался, потому что осень. На воде плавали желтые листья и какие-то размокшие бумажки. Но все равно испытания провести было можно.
Не успели мы спустить свой тримаран на воду, как на края плескательницы уже навалилось десятка полтора ребят. Все обсуждали достоинства нашего сооружения и давали разные советы. Даже самые маленькие норовили протиснуться поближе к воде. Один толстяк хотел пролезть между ног у Гарьки, но застрял.
…Тримаран стоял на воде, как готовый подняться и взлететь лебедь.
Передняя часть его слегка приподнималась, словно у судна на подводных крыльях, а винт слабо просвечивал сквозь мутную воду.
Я хотел немножко раздвинуть вокруг суденышка плавающие бумажки и листья, но ребята закричали, что так еще лучше, пускай тримаран сам их разгонит на ходу.
Да, нечего сказать, это был приятный момент!
Вот сейчас мы присоединим к электрической батарейке контактный проводок и… Вот сейчас… Валька уже приготовился врубить ток, но Смоляков все еще копался в своей бригантине, проверял паруса и всякие веревочки, которые он называл такелажем.
То ли дело моя или Валькина подлодки, гладенькие, почти без всяких выступов и щелей. Я даже для надежности промазал места, где рубка лодки соединялась с корпусом, пластилином.
Наше с Валькой терпение уже готово было лопнуть, когда Смолячок наконец сказал, что и у него все готово.
…Как он рванулся, как он дернулся и мелко-мелко задрожал, наш тримаранчик, когда маленький, но сильный моторчик-«шмелик» завертелся и винт вспенил воду за кормой.
— Ур-ра! — заорал кто-то из мальчишек, чуть не перевалившись за борт плескательницы. — Ур-р-ра!
Маленькие волны побежали по воде, закачались листья и бумажки. А тримаран… Тримаран стоял, дрожал и… ни на сантиметр не двинулся с места.
Ребята потянули руки к тримарану, чтобы подтолкнуть его, но мы не разрешили.
Валька сам подтолкнул его легонько, а я стоял и чувствовал, как в кончики моих холодных пальцев вонзаются какие-то тонкие иголочки.
Тримаран тихонечко поплыл, и снова кто-то из ребят попытался крикнуть «ура», но замолчал. Стало тихо-тихо, только моторчик жужжал. Но, мне казалось, уже не так весело, как раньше.
Наш корабль проплыл еще немножко и снова стал останавливаться. Валька еще раз подтолкнул, но даже его длинные руки едва-едва доставали до кормы тримарана.
И он уже не казался мне лебедем, готовым подняться в воздух, наш тримаран. Он, может быть, еще и был похож на птицу, но раненую, которая хочет, а не может взлететь. И только сердце бьется у нее в груди часто-часто.
Потом тримаран закружился на месте, но все видели, что это от ветра, попавшего в паруса, которые нелепо торчали с одной стороны суденышка, как поломанное и вздыбленное крыло. А потом… Потом тримаран стал оседать на правый борт, где была моя, самая тяжелая, подводная лодка, в трюм которой я так добросовестно, не пожалев, набил свинца.
Смотреть на это было уже совсем невозможно. И так стало ясно, что маленькому моторчику не сдвинуть громоздкой, расплющенной, как сковородка, неуклюжей громадины. И весь наш тримаран напоминал, наверное, больше всего не лебедя, а телегу из басни Крылова, в которую этого лебедя запрягли вместе с раком и щукой. Потому что каждый из нас думал, строя свой корпус, только о себе и не думал о товарищах.
Мы поняли это, даже не глядя друг на друга и ничего не говоря, и ребята тоже, конечно, поняли. Они стали молча расходиться, спасибо им хотя бы за это. Только несмышленые малыши еще что-то пищали и просили кораблик, но их тоже ребята побыстрей разогнали.
Мы молча подогнали несчастный тримаран к борту плескательницы палками и торопливо понесли в ближайший, Валькин, подъезд. Наверное, Вальке и Смолянку так же, как и мне, на какую-то минуту захотелось бросить эту пудовую, тяжелую, как танк, раскоряку или со злости тут же поломать ее.
Но ведь он-то ни в чем не был виноват, наш тримаран…
Званые гости
Субботу я люблю больше всех дней недели. Даже больше, чем воскресенье. Воскресенье, конечно, замечательный день: полный мешок удовольствий, и мама не кричит в форточку в самый разгар хоккейного матча: «За уроки пора». Но в воскресенье к вечеру обязательно вспомнишь про понедельник, в который контрольную будут раздавать: учителя почему-то все контрольные и диктанты стараются в воскресенье проверять. И настроение портится.
Но в этот раз, когда я пришел в субботу из школы, мама сразу заметила, что я сегодня какой-то не такой.
— Что-то ты слишком сосредоточенный, — говорит. — И обедать не хочешь.
Обедать мне в самом деле не хотелось. Еще бы. Я в один присест два «Мишки на севере» съел и «Красной шапочкой» закусил. Даже губы слиплись.
Конфеты, это, конечно, неплохо. Но с них-то все и началось. Их притащила в класс Светка Воробьева. Целый кулек. У нас такая традиция еще с первого класса. У кого день рождения, тот конфетами всех угощает. Когда мы первоклассниками были, конфеты обычно мамы или бабушки раздавали. Принесут и разложат на партах. А сейчас мы сами взрослые. Даже приятно: подойдешь так степенно к имениннику, конфетку из пакета вынешь, поздравишь. Кого особенно уважаешь, по спине или по шее легонечко стукнешь, для полноты чувства. В общем, приятная традиция.
Но Светка Воробьева на этот раз нам еще один сюрприз преподнесла. Она ничего, конечно, человек, не ябеда и не пискуха, хотя и девчонка. Но когда она на переменке отвела меня в сторонку и пригласила в воскресенье на день рождения к себе домой, я ее «Красной шапочкой» чуть не подавился. Я ничего такого не предполагал. К ребятам в гости — это еще бывало у меня. Но к девчонке! Чего я там делать буду? У Воробьевых, наверное, дома только и говорят про отметки. Светка — отличница, родители у нее какие-то научные работники, а папа так даже чуть ли не профессор.
Я стал оглядываться, чтобы узнать, кого хоть она еще приглашает.
Но Светка ждать не стала. Деловая такая.
— В общем, жду тебя завтра в пять часов. — отошла.
А я гляжу, Славка Портнов уже хихикает. Слышал, значит. Но он не долго веселился. Светланка его тоже пригласила. И еще Ромку Жукова и Трофимова Вальку.
Трофимова — это всего удивительней. Наша Людмила Тимофеевна, учительница, когда очень уж на нас рассердится за что-нибудь, всегда Светку и Трофимова двумя полюсами называет.
— Опять, — говорит, — у нас на Южном полюсе похолодало. — Значит, снова Валька что-то натворил. А сидит он на своей последней парте прямо под большой картой и затылком как раз в Южный полюс упирается.
— Ты хоть бы сидел как следует, Трофимов, — Людмила Тимофеевна говорит. — Смотри — уже от локтей две дырки на стене, а Антарктида из белой совсем серой стала, всю протер.
Но Вальку так просто не прошибешь.
— Я, — говорит, — просто не умещаюсь за партой, Людмила Тимофеевна. Руки-ноги очень быстро растут.
— Если б еще и голова! — вздохнет Людмила Тимофеевна и засмеется.
У Трофимыча, действительно, что руки, что ноги. Он нам всегда на перемене демонстрирует. Поднимет локоть: «Подвешивайся, мелюзга». И запросто человека от пола отрывает. Даже двоих может. А на физкультуре, на прыжках, ему всегда козла повыше поднимают. А то и прыгать не надо. Просто так перешагнет, и все.
И от Светкиного приглашения Валька ничуть не растерялся. Мой, говорит, сюрприз всегда со мной. Я под стол подлезу и вместе с вами со всеми этот стол по комнате протащу. Вот смеху будет. А вы, мелюзга, думайте, думайте. На званый вечер принято с сюрпризами приходить.
Мы с Ромкой и Славкой стали думать, какие сюрпризы принесем. Но ничего сразу не придумали. Решили дома додумать.
Но мама мне тоже мало помогла. Даже наоборот.
— Я, — говорит, — рада за тебя и за себя. Наконец-то ради такого случая как следует почистишь ботинки и погладишь брюки. В такой дом, как у Светы, нельзя неряхой явиться.
Снова про этот дом! Прямо не удовольствие, а одни переживания.
— А «сюрприз», — мама продолжает, — надо своими руками сделать. В магазине купить каждый может, это не интересно. Интересно — своими руками.
Как будто я сам про это не знаю. Не в первый раз слышу. Но маме хорошо говорить, она все умеет, а я только недавно в кружок «Умелые руки» записался.
Подарю Светке ее портрет, решил я. У меня выжигательный прибор есть, и я выжгу этот портрет на фанерке и лобзиком выпилю. Я уже выжигал и выпиливал разных зверей — льва, обезьянку и курицу. Светка, конечно, не лев и не курица, но все равно — одушевленное существо.
Только ведь для портрета образец нужен. Фотография, например.
Я стал звонить Вальке Трофимову.
— Вальк, у тебя Светкина фотография есть?
— Еще чего! — Валька даже развеселился. — Под стеклом и в рамке над кроватью висит!
Другим ребятам я после этого и звонить не стал. По памяти, решил, сделаю.
Я закрыл глаза, чтобы лучше сосредоточиться, и стал вспоминать, какая она, Светка. Вот так всю помню, а какие детали для портрета нужны — никак. Две косы есть, вспомнил. Но как их лобзиком выпилить? Они тонюсенькие, оборвутся. Еще пятно чернильное на пальце. Как только эта Светка умудряется даже шариковой ручкой пальцы мазать? Наверное, потому, что очень старается. Но руки тоже на портрете не уместятся. Вот воротничок — это можно. Его я хорошо помню, потому что он мне нравится. В такой мелкий-мелкий рубчик весь и с зубчиками. Как бумажная тарелочка у самых лучших конфет, которые в коробках продают. Светкина голова в этом воротничке тоже как конфетка. Воротничок можно красиво выпилить. А шею? Ну, шея — она и есть шея: у всех одинаковая. Глаза вот — разные. У меня круглые, у Ромки Жукова — длинные. А какие у Светки? Помню, что такие… как магнитные. Когда на тебя глядит, прямо как притягивает. А какого цвета, не помню. Я немножко из-за этого расстроился, но потом успокоился: все равно, когда выжигаешь, одним цветом выходит.
Я взял карандаш и стал рисовать эскиз. Сначала все хорошо получалось. Воротник прямо точь-в-точь. И брови широкие, черные, настоящие соболиные. Я, правда, никогда не видел, какие у соболя брови, но раз говорят, значит, знают.
Только нос никак у меня не хотел получаться. Я мучился, мучился и решил, что лучше сделаю Светкин портрет в профиль. Так даже лучше, красиво звучит — «в профиль». И воротник останется.
Но потом я вспомнил, как Валька Трофимов говорил, что сюрприз должен быть веселым. А Светка в профиль какая-то у меня грустная получилась. И я еще раз все переделал. Нос выпилил насколько фанерки хватило, во всю ее длину. На кончике носа дырку просверлил и привязал на длинной нитке колечко. Получилась замечательная штучка. Подкидываешь это колечко и цепляешь на нос. Вырабатывается глазомер и точность руки. Пусть Светка вырабатывает.
Маме тоже игрушка понравилась. Светланку она, правда, не узнала, симпатичная, говорит, баба-яга получилась. Теперь не забудь про брюки и ботинки, и ты готов. И еще, говорит, тебе Слава Портнов уже несколько раз звонил, но ты так увлекся, что даже не слышал.
Я сразу помчался к Славке. Он стоял в длинном фартуке на кухне и раскатывал скалкой тесто.
Но я не удивился, потому что у Славки в семье все наоборот. Мама у него работает шофером, на такси, а отец — кондитером на бисквитной фабрике. И у Славки тоже прямо настоящий кондитерский талант.
Я пожал ему локоть, потому что руки у Славки были в муке, и отщипнул кусочек теста.
Ничего не скажешь, сюрприз у Славки получался — пальчики оближешь. Славка решил напечь Светке пряничных пятерок, целый мешок пятерок. Только делал он их неумело, катал тесто тонкими колбасками а потом выгибал из них цифры. Но такие пятерки в духовке расплывались, не поймешь, не то пятерка, не то двойка. Я сразу внес рационализаторское предложение. Согнул из тонкой жести форму, и такие отметочки пошли — одна прелесть.
— Вот бы так табель себе испечь, — размечтался я, пробуя за Светкино здоровье одну пятерку за другой, пока Славка не перепугался, что так я весь сюрприз съем, и не остановил меня.
Мы раскрасили большой бумажный пакет фломастером, сложили туда Славины изделия и завязали ленточкой.
Теперь можно было спокойно отправляться в гости.
На другой день ровно в четыре часа мы собрались у Воробьевых, чистенькие, нарядные, любо-дорого смотреть. Девчонки, конечно, уже были в сборе, выбежали в прихожую нас встречать.
Валька Трофимов, как и обещал, развеселил всех прямо с порога. Он тоже принес здоровенный пакет, перевязанный ленточкой, и небрежно, одной левой, протянул Светланке. Но когда она взяла его в руки, то сразу ойкнула и, согнувшись пополам, бухнула подарок об пол. Пакет порвался, и оттуда выкатилась здоровенная гиря. На ручке у нее был привязан крошечный плюшевый заяц. Зайца Валька прицепил имениннице на платье, как брошку, а с гирей стал показывать силовые номера.
Вообще Валька вел себя абсолютно непринужденно, сыпал остротами, и девчонки ахали и пересмеивались от удовольствия.
День рождения начался интересно, тем более что Светкины родители сами ушли в гости. Валька, как и обещал, подлез под стол с угощениями и пронес его по комнате. Одна бутылка с лимонадом, правда, упала и разбила какую-то вазочку, но Светка сказала, что это ничего, посуда бьется к счастью.
Моя игрушка тоже всем понравилась, хотя глазомер у девчонок оказался не очень. И Славкины пряничные пятерки понравились, их тут же съели.
Один Ромка Жуков, как приклеенный, сидел на стуле и то и дело хватался за сердце.
— Ты не заболел, Рома? — озабоченно спрашивала Светка, как внимательная хозяйка, и придвигала Ромке самые вкусные вещи. Но он даже ел одной рукой, а другую не отнимал от груди. Потом он вдруг заметил, что в комнату вошла собака — такая малюсенькая собачонка, смотреть нечего. А Ромка сразу забеспокоился и ноги подобрал.
— Она не кусается, ты не бойся, — девчонки запищали.
— Я-то не боюсь, — буркнул Ромка, — а вот он…
А собачонка, ее Чарлик зовут, как вошла, так сразу к Ромке, и не отходит. Как прилипла к нему. На задние лапы встала и все к карману тянется.
— Ты ее можешь убрать? — Ромка умоляюще поглядел на Светку. — Запереть куда-нибудь?
— Пожалуйста, — обиженно пожала Светка плечами, — если ты так хочешь.
Она потащила упирающегося Чарлика в ванную, а мы все накинулись на Ромку с его непонятными фокусами.
— Да не боюсь я этого вашего Чарлика, еще чего, — рассердился Ромка. — Но он мне весь сюрприз чуть не испортил. — И Ромка осторожно вытащил из-за пазухи… живого мышонка… Белого и мокрого, так он вспотел у Ромки под пиджаком.
Мышонок деловито уселся на Ромкиной ладони и начал уморительно тереть передними лапами голову и уши. Его черные глазки блестели, как бисер, а длинные усы смешно топорщились в разные стороны.
Девчонки загалдели, запищали, одни кричали: «Прелесть какая!» — другие, наоборот: «Ой, мамочка, держите его, боюсь!» Валька Трофимов в этой суматохе сунул кому-то из девчонок за шиворот конфету в холодной целлофановой обертке, ее приняли за мышь, и кутерьма получилась еще больше.
Но Ромка продолжал сидеть невозмутимо, а когда в комнату вошла Светка, он вытащил из кармана крошечную матросскую бескозырку и надел на мышонка. Тот продолжал тереть лапой голову и усы, и получилось уморительно, как будто он отдавал честь.
— Это мне? — ахнула в восторге Светка, а довольный эффектом Ромка засиял и напыжился.
Он достал еще какую-то маленькую дудочку, подул в нее, и мышонок откликнулся тоненьким свистом и стал на задние лапы, как по стойке «смирно».
Да, сюрприз у Ромки, действительно, вышел интересный.
Потом мы потушили на кухне и в прихожей свет, потому что Ромка сказал, что мыши не любят слишком яркого освещения. А сами всей гурьбой набились в ванную, выгнав из нее обиженного Чарлика. Мы решили, что мышонок будет у нас настоящим моряком. Напустили в ванну воды, мышонка посадили в мыльницу и пустили в плаванье. Один раз, правда, от слишком большой волны, мыльница перевернулась, но Светка сразу спасла путешественника. Только свитер свой новый намочила до самых локтей, пришлось снимать. Нам всем давно уже было жарко, мы тоже побросали свои пиджаки и куртки кто куда.
Светка завернула промокшего мышонка — она назвала его Чином — в носовой платок. А потом сказала, что надо сделать Чику настоящий дом, кроватку и другую мебель. Она мигом слазила в шифоньер и вытряхнула из большой коробки мамину шляпку, на которую Славка Портнов в суматохе сел. А мы быстренько прорезали в коробке окна и двери, а вместо крыши приспособили блестящую зеленую папку, которую Светка притащила из отцовского кабинета.
Все расспрашивали Ромку, где это он выучился на дрессировщика, и тоже решили воспитывать каких-нибудь зверей. У многих были дома собаки и кошки, а у Таньки Новиковой — даже черепаха.
Но про черепаху Ромка сказал, что у нее замедленный жизненный цикл и учить ее надо сто лет.
— Пока лучше Чарлика поучим, — решила Светка и кинулась его искать. Но он куда-то запропастился.
Мы стали помогать искать и даже не заметили, как в двери щелкнул замок и пришли из гостей Светланкины родители. Мы только услыхали, как в прихожей что-то загрохотало и покатилось и раздался оглушительный собачий визг.
Когда мы выскочили в коридор, то увидели, что там стоял на одной ноге растерянный мужчина и растирал рукой другую, высоко поднятую ногу. А рядом стояла в расстегнутой шубе женщина и успокаивала скулящего Чарлика.
Мы поняли, что родители налетели в темноте на Валькину гирю, она покатилась и придавила незадачливого Чарлика. В довершение ко всему на полу почему-то валялся мокрый Светкин свитер и еще чьи-то пиджаки, кажется и мой, который я так тщательно чистил. Это, наверное, противный Чарлик сволок их сюда.
Похоже, в такой обстановке нам лучше всего было бы поспешить по домам. Но проскользнуть незаметно к вешалке было уже невозможно.
Наконец мужчина осторожно опустил ушибленную ногу, перешагнул свитер и сказал:
— Я вижу, здесь времени зря не теряли и скучных людей нет. Познакомь же, дочка, со своими гостями. Прошу, прошу в комнату, сейчас я только воду в ванной перекрою.
Впопыхах мы, оказывается, забыли завернуть кран, и воды набралось по самые края ванны и даже немного уже подтекло на пол.
Но вот что значит интеллигентные люди, научные работники. Вместо того, чтобы нас ругать, Светланкины родители стали с каждым из нас знакомиться за руку и с интересом расспрашивать, как мы тут провели день рождения.
Константин Иванович, так звали Светкиного отца, вспомнил про Валькину гирю и сам попробовал с ней позаниматься. Но до Вальки ему было далеко.
— Тренировка нужна, — скромно сказал Валька, и уши у него так и покраснели от удовольствия. Но он великодушный человек. — Я вам тоже могу такую гирю подарить, — сказал он Константину Ивановичу. — У меня еще есть. Прямо завтра притащу.
Моя игрушка Константину Ивановичу тоже понравилась. Про нее он сказал, что здесь явно можно внести некоторые конструктивные добавления. И при этом очень внимательно посмотрел на Светку. Вот что значит ученый — сразу заметил портретное сходство. Никто не заметил, а он — сразу!
— Света, дай-ка мне мою зелененькую папочку, — сказал Константин Иванович, — и карандаш. Если вот здесь, — вертел он игрушку в руке, — чуть-чуть подпилить, а вот здесь удлинить нитку… Неси же скорей, Светлана, что я просил.
Но Светка что-то слишком долго искала там, у него в кабинете. А я сразу сообразил, что нужная папка давно уже стала крышей над мышиным домом и в ней прорезана дырка для трубы.
Константин Иванович сам увидал все и догадался. Но сказать ничего не успел, потому что из прихожей снова донесся испуганный крик и все побежали туда. Там стояла Светланкина мама, Алла Николаевна, и с ужасом показывала на теплый домашний тапочек, из которого высовывалась заспанная мышиная морда. Значит, Чик сбежал туда незаметно из своего дома.
Алла Николаевна только повторяла испуганно:
— Ко-ко-костик, что это такое? То-то-лько я хотела переобуться…
Похоже, нам действительно надо было уходить. Но неловко было бросить Светку в таких обстоятельствах. Уж теперь-то ее родители наверняка рассердятся.
— Да, — вздохнул Константин Иванович, — догадываюсь, что мои технические потуги пали жертвой биологического направления в науке. — И он грустно посмотрел на зеленую крышу мышиного дома.
— Ничего они не пали, — наконец очнулась Светка. — Я их вынула и в стол положила, только пустую папку взяла.
Ромка тем временем торопливо схватил своего мышонка и сунул в карман.
— Ну, зачем же так бесцеремонно, — остановил его Константин Иванович. — Насколько я понимаю, этот представитель фауны — не случайное явление на званом вечере. А удрал он у вас из комфортабельного дома в старый башмак по вполне здравой мышиной логике. Темно, тепло и мягко. К тому же, насколько я понимаю в естествознании, у грызунов развита склонность пробовать крепость своих зубов не всем деревянном, бумажном и матерчатом.
— Развита, — грустно согласился Ромка, и мы, наконец, поняли, почему он весь вечер не снимал пиджак. На Ромкиной рубашке, точнее на ее нагрудном карманчике, красовалась здоровенная круглая дыра.
Как пишут в старых книжках, в комнате воцарилась гробовая тишина. Если бы у Воробьевых были мухи, мы бы, наверное, услышали их полет. Темноту прорезал лишь чей-то вырвавшийся из глубины души вздох: «Ну и влетит тебе теперь дома, Роман!‥»
— Влетит, — снова грустно согласился Ромка, и я подумал, что теперь мыши у него в кармане не сдобровать.
Но вместо этого Ромка стал горячо заступаться за своего воспитанника. По его словам выходило, что вся неприятность с рубахой вышла исключительно из-за того, что мышонок разволновался в непривычной обстановке. И еще он сказал, что однажды дрессированные мыши и крысы покусали самого Дурова, потому что зрители в цирке очень шумели. Но он, Ромка, как и Дуров, верит в своих зверей и никогда ни за что не рассердится на них.
Константин Иванович поглядел на Ромку с уважением. А про карман с дырой сказал, что науки без жертв не бывает и вообще карман можно пришить новый. Даже попросил Аллу Николаевну сделать это.
Вместе с Воробьевыми-старшими мы веселились еще часа два. Остались бы и дольше, да за окнами стало совсем темно, и пора было отправляться по домам.
Мы дружно пообещали, что обязательно придем еще, и, по-моему, все Воробьевы очень обрадовались.
Полем и лесом
С Димкой мы дружим всего один месяц в году. Ну, иногда немного больше. Но все равно это время пролетает очень быстро. Мы прямо не успеваем переделать все дела, которые копятся целый год.
Вообще-то, конечно, мы помним друг о друге всегда. Но Димка живет в одном городе, а я в другом. А встречаемся мы летом, в деревне. Он к своей бабушке приезжает, а я — к своей.
— Вы пишите зимой друг другу письма, — говорит мне мама, — чтобы дружба не прерывалась.
Но письма у нас как-то не пишутся. Если про каждый день рассказывать, так это какое же письмо нужно! В почтовый ящик не влезет… А коротенькое послать — в нем ничего не уместится.
Зато летом мы встречаемся так, как будто только вчера расстались.
— Гвозди привез? — деловито спрашивает Димка, и сам сразу начинает показывать, что припас для наших строительных дел.
Прежде всего мы строим шалаш. Он нам как дом: там и посидеть приятно, и инструменты всякие хранятся. Их у нас уже порядочно накопилось — молотки, стамески, клещи, веревки, гвоздей целая коробка. Гвозди в любом строительстве нужнее всего. В деревне — это не то, что в городе, где в кружках только разные модели строят. В деревне, на просторе, можно все по-настоящему сделать. Тачку, например, или самоходную тележку на подшипниках. С горы катишь, одно удовольствие, никаких тебе опасных дорог, светофоров и милиционеров. Только с деталями в деревне труднее. Надо из города везти, а мама всегда весь рюкзак перед отъездом перетрясет: «И что это ты набил туда, какие-то колеса ржавые, железяки. Смеешься, что ли? Тяжесть такая. И на поезд не посадят!» Доказываешь, доказываешь маме, но все равно она чего-нибудь незаметно в последнюю минуту выкинет.
Ну, в жизни без трудностей не бывает.
В это лето мы с Димкой наметили построить плот. В деревне у бабушки речка совсем близко. И свой плот — это даже сказать сразу нельзя, какая великолепная штука. Люди сейчас на плотах даже океаны переплывают. Терешка, так речка называется, конечно, не океан. Но все равно приятно сделать плот, с рулем, мачтой и парусом. Нарисовать на парусе какого-нибудь Кон-Тики. Или не обязательно Кон-Тики. Можно что-нибудь свое. Даже лучше. В прошлом году мы, например, такого богатыря с Димкой соорудили! Как Илья Муромец. У бабушкиного дома на пригорке здоровенный камень лет сто лежал. Говорят, его когда-то великое оледенение принесло. Ну, лежал и лежал. А один раз Димка говорит:
— Слушай, а ведь он на богатыря похож. Если отсюда вот, сбоку посмотреть. Вот нос, вот брови.
Димка, он такой. Идешь с ним по дороге, там пень на обочине стоит или ветка сухая торчит. А Димка:
— Видишь? Как будто филин сидит, нахохлился. А вот чайка. Крылья распустила. Неужели не видишь?
Я не всегда видел. Но богатыря того каменного и я разглядел.
— Еще бы шлем ему, — Димка говорит.
— Ведро можно взять, — предложил я. — Старое.
Димка сначала даже обиделся.
— Не бабу, — говорит, — какую-нибудь снежную лепим, богатыря!
— А помнишь, на Терешке, под обрывом, какая глина белая есть. Бабушка всегда печку подмазывает. И мы той глиной…
И тут уже Димке больше подсказывать не пришлось.
— Ты, — говорит, — Юрка, хоть и железная душа, по иногда, оказывается, не только в железках понимаешь. Видно, и в тебе художник проснулся.
— Почему проснулся? — говорю. — Может, он и не засыпал никогда, только ты не видел. Я вообще спать не люблю. Только время зря терять. Не то, что некоторые. — Это я Димку немножко подкусил, насчет некоторых.
— Ну, ладно, ладно, чего ты, — великодушно буркнул Димка. — Это так говорится: «В нем проснулся художник». Значит, воображение у человека работает.
— Это другое дело, — успокоился я.
Про воображение мне часто говорят и в школе, и дома. Не так, правда, иногда радостно, как Димка сейчас, но что работает оно у меня, это уж точно.
В общем, красивого Илью Муромца мы с Димкой соорудили! На совесть поработали. Бабушка первый раз увидела, даже перепугалась. Но потом тоже полюбила нашего богатыря. «Он, — говорит, — как часовой стоит».
Этого Муромца мы и решили теперь на парусе нарисовать. Надо только материалу у бабушки выпросить.
Ты знаешь, как Димка рисует хорошо, — начал я с подходом.
— Знаю, знаю, — сразу насторожилась бабушка. — А как потонете на своем плоту, кому я буду пенки с топленого молока снимать?
— Да что ты, бабушка! Разве в этой речке можно утонуть? Там на живот ляжешь, а спина сухая.
— Ой? — удивилась бабушка. — И давно Терешка так обсохла?; А я и не видела, старая. Так вы уж осторожней плавайте: животы обдерете, а у меня вся марганцовка вышла.
Ох, ну и хитрющая у меня бабушка! Сейчас в аптеку пошлет за марганцовкой. Всегда она так. Заведет, заведет издалека, как, например, по радио передачу из космоса слушала, как космонавты в своем корабле чистоту наводят, а потом:
— Слетай, милок, в ларек, у меня мыло вышло.
Но на этот раз я ошибся. Бабушка не послала меня ни в аптеку, ни в ларек. Она спокойным голосом преподнесла такую новость, что я даже растерялся.
— Речка, — сказала она, — никуда не убежит. А сгоняли бы вы завтра с Лёлиными девчончишками в лес. Там ягода, говорят, такая пошла, насыпная. Я бы поела в охотку, с молочком. Но ведь не дойду уж до леса. И Лёля приболела. Обещала своих девчончишек послать, да боязно все-таки их одних отпускать. Вот вы с Митрием и проводите их.
Тетя Леля — это бабушкина соседка. А девчончишки, так бабушка Людмилку с Катькой называет, — дочки ее. Знаем мы их с Димкой. Вечно с куклами возятся. Вот радость их провожать! Пастухи мы, что ли?
— Ты знаешь? — сразу помчался я к Димке.
Но по виду его сразу понял, что он знает. Кисловатый был вид. Явно, моя бабушка и его заранее сговорились.
— Не пойдем, и все, — предложил я. — Проспим. Ты ведь любишь поспать.
— Как же, проспишь, — уныло протянул Димка. — Бабка привыкла с коровьими табунами вставать. Ни за что она не проспит и нас разбудит.
— Тогда больными притворимся!
— И продержат тебя дома или даже в постели целый день. Тоже счастье!
— Да мы и дороги и лес не знаем, — ухватился я за последнюю надежду.
— Девчонки знают, — безнадежно вздохнул Димка, и я понял, что он уже сдался. — Да и ягоды, в общем, неплохо поесть, — виновато сказал Димка, — она сладкая.
— Сладкая, сладкая! Знаю, что сладкая. Так на базаре, что ли, нельзя купить?
Но одному мне без Димки оставаться на целый день не хотелось, и, так и быть, я решил пойти. Мы захватим из леса бревнышко для плота, и день у нас зря не пропадет.
Бабушка подняла меня назавтра ни свет ни заря.
— Пока солнышко не припекло, — ворковала она, увязывая на столе узелок с едой, — пока травушка не обсохла.
Узелок я, конечно, не взял. Не хватало еще с узелками ходить. Сунул в карман горбушку хлеба, и хватит. И пакет целлофановый. Для ягод. Почему бабушка должна Людмилкины и Катькины ягоды есть? Что ли я сам не могу для нее принести?!
Когда я вышел, девчонки уже терпеливо сидели на бревнышке возле дома. Но я к ним не подошел, а сразу направился к Димке, он ждал у своей калитки.
Так и двинулись: мы с Димкой с независимым видом впереди, словно те двое, в беленьких платочках, к нам никакого отношения не имеют. Девчонки, правда, и не приставали, шли тихонько со своими корзиночками и узелками сзади.
— Набрали багажа! — Димка говорит про них. — Как в кругосветное путешествие собрались! Еще тащить заставят. Давай быстрей пойдем.
Мы прибавили шагу, но девчонки, как ни в чем не бывало, не отстают. Наверное, боятся одни. Деревня уже кончилась, и началось поле.
— Что-то мне от быстрой ходьбы есть захотелось, — Димка говорит, когда мы еще немножко прошли. — Я утром ничего не ел, только молока кружку выпил.
Мы разломили горбушку и дружно сжевали ее. Идти стало веселее, но захотелось пить. А тут еще дорога раздвоилась, и мы оказались как витязи на распутье.
— Ну, чего вы там отстаете? — мы с небрежным видом девчонкам кричим.
А они, ехидные, похоже, догадались, что мы дороги не знаем. Совсем близко стоят, но не подходят.
Людмилка, словно других забот нет, зеленое яблоко достала из корзинки и так аппетитно хрупает.
— Оскомину набьешь, — говорю я.
— Не… оно сладкое!
— Ха, сладкое! Словно мы не знаем. Как будто их яблоня не у нашего плетня растет!
— А вы попробуйте, — Людмилка нам по яблоку протягивает. — Только отбейте сначала, вкуснее будет. — Ногу согнула, и об коленку так — раз-раз яблоком, как о стенку. Таких синяков, коричневого цвета, на бедных яблоках наставила. Зато они, правда, вполне съедобными сделались. Мы этого секрета и не знали.
— А может, ты и воды знаешь где достать? — Димка, как будто между прочим, спрашивает.
— А как же! — это уже Катька пищит. — Обязательно. Скоро калда будет.
— Какая еще калда?
— Калды не знает! — Катька фыркает. — Твоей бабки коза и та знает, каждый день там пьет.
— Сама ты — коза! — Димка разозлился. — Может, мы вообще из козлиного копытца должны пить, как братец Иванушка? Сами пейте, Аленушки!
У нас и так есть! — передернула Катька плечами. — Мы молочка взяли, вон в бутылке.
— Молочка, молочка, — передразнил Димка. — А сосочки не взяли?
Не успел он еще что-нибудь прибавить, как вдруг ойкнет, как прыгнет в сторону, словно вправду уже напился из козьего колодца и приобрел козью прыть.
Из-под коряжины какой-то придорожной — мы и внимания на нее не обратили — здоровенная змеища выползла. Я ничего подумать не успел, как тоже оказался рядом с Димкой.
А девчонки — стоят!
— Бегите! — мы им кричим. — Бегите!
Они — стоят. Испугались, наверное, и ноги отнялись. Загипнотизировались. У меня у самого коленки противно так затряслись под брюками. А у Людмилки с Катькой ноги и вовсе голые. Сейчас эта змеюка тяпнет их.
— Да бегите же вы скорей!
Они опять ни с места.
Чувствую, как Димка схватил мою руку, а ладонь у него совсем мокрая.
— Давай какую-нибудь палку, что ли! — кричит.
Но никакой палки, как нарочно, нигде нет. Одни цветочки-лепесточки растут.
Тут Людмилка, наконец, очнулась. Шагнула, да не в пашу сторону, а к этой змеище. И… цап ее за хвост.
— Ну, сейчас! — у меня во рту пересохло.
А Людмилка тянет змею да еще смеется:
— Да это же уж! У него коронка на голове, разве не видите?
Никакой коронки мы не видели, какая там коронка.
А Катька вдруг:
— Ой, глядите, лягушонок, лягушонок! Глядите! Глядите!
Прямо из пасти этого ужа, когда его Людмилка за хвост подняла, живой лягушонок выскочил и, шлеп-шлеп, как ни в чем не бывало, запрыгал по дороге.
— Вот живоглот несчастный! — Это Димка очнулся, но губы еще совсем белые и с места не сходит.
— Да вы боитесь просто! — Катька пищит.
Подумаешь, героиня! Я себя в руки взял и толкнул легонечко этого ужа носком сандалии. Но он, даром что длинный, сразу голову в мою сторону повернул. И вроде обиженно так глядит. А на голове у него, правда, желтенькие пятнышки, как корона.
Димка наконец тоже подошел.
— Подумаешь, царь выискался. Толку от него!
— Вот и толку, — Людмилка заступилась. — Он равновесие поддерживает.
— Какое еще равновесие?
— Экологическое.
— Какое-какое?
— Экологическое. Природное, значит.
Надо же! Я тоже что-то такое слышал, но не очень запомнил. А эта — пожалуйста! То калда какая-то козлиная, деревенская, а то — э-ко-ло-ги-че-ское. С этими девчончишками, как их бабушка называет, ухо надо держать востро. Впрочем, мы не стали дожидаться, когда природа начнет восстанавливать равновесие и экологический живоглот опять погонится за своей добычей.
Мы подтолкнули обалдевшего, обслюнявленного лягушонка в одну сторону, коронованного ужа — другую и пошли дальше. И не заметили как-то, что идем уже по пыльной дороге все рядом.
— Во-о-он на горке, — Катька рукой показывает, — корытца такие на ножках стоят. Это и есть калда. А ну, кто первый добежит? — И помчалась, вскидывая ноги в полосатых носочках, да так быстро, будто на стометровке. Мы, как ни старались, догнать не могли. Запыхались совсем и — скорей к воде.
Калда — это, оказывается, целое сооружение. Из горы родничок бьет, и по деревянному желобу вода направляется в корытца на ножках. А из последнего корытца уже свободно стекает на землю и ручейком — в овраг. И кружка алюминиевая у родника на ветке висит. Кружка — для людей, а корытца — для скотины, как Людмилка объяснила.
Я после пробежки сразу хотел полную кружку хватануть. А вода холодная-холодная, даже зубы ломит.
— Пей потихоньку, — Катька меня остановила. — Сразу много нельзя, остыть можно.
— Не остыть, а простудиться, — Людмилка поправляет.
Она Катьку, я заметил, все время поправляет.
— Ой, мамочка, стадо идет, запыряет, — Катька кричит.
А Людмилка: «Не запыряет, а забодает». Прямо, как учительница, следит. Есть такие девчонки, они всегда из себя учительниц изображают.
Зато когда мы, наконец, в лес пришли, на полянку, где полным-полно земляники, Людмилка сразу свой учительский тон забыла. Бухнулась на коленки и поползла — от ягодки к ягодке, от куста к кусту. И ловко у нее получается. Руки так и мелькают. Будто не две их у нее, а целых четыре. Пока я и Димка по одной ягодке успеем сорвать, она уже и в рот положит, и в лукошко.
Но ягоды полно, всем хватит. Я в жизни столько не видел.
Катька сначала на самых красных пригорках кричала: «Чур моя, чур моя», — а потом тоже примолкла, только пыхтит.
И сладкой такой ягоды я тоже никогда не ел. Да у нас в городе и не продают лесной земляники. Только садовую. Она красная, но сладость в ней, должно быть, по большой площади растекается, а здесь — вся, как в капельке. Вот, должно быть, у космонавтов еда такая — концентрированная.
Ели мы, ели, сначала по ягодке рвали, потом Димка рационализаторское предложение внес: растопырит пятерню у земли и поднимает всю ягоду с куста, как граблями. А потом и вовсе обленился: лег на живот и прямо губами стал рвать. Так, говорит, сокращаются большие расстояния.
Вдруг как заверещит, как тогда, с ужом, как начнет плеваться.
— Ой, — кричит, — ой, гадость какая-то! Ой, Юрка, погляди, кто у меня на языке висит.
А чего там разглядишь, язык весь красный от ягоды.
— Клопа съел! — Катька хихикает. — Или клеща.
— Сама ты — клещ! — Димка стонет. — Ой, Юрка, вытри мне скорее язык чем-нибудь.
Я стал платок искать, но он весь почему-то мокрый, сам не пойму, как в карман тоже полно ягод набилось.
— Не надо жадничать, — Людмилка опять свой учительский тон вспомнила. Потом сжалилась, бутылку с молоком Димке протянула:
— На вот, сразу лучше будет.
Димка и не вспомнил, как он девчонок этой бутылкой и соской дразнил, тут же присосался.
— Оставь, — прошу я Димку, — хоть попробовать. Бабушка про ягоды с молоком говорила.
Но он словно и не слышит.
В общем, пока мы с Димкой возились да отношения выясняли, у девчонок уже почти полные лукошки ягод набрались.
Я стал торопливо рвать землянику в свой целлофановый пакет, обещал ведь бабушке. Но руки почему-то двигались все медленней, медленней, и сам я отяжелел, разморился.
А Димка вообще лег под кустиком и лежит.
— Не могу, — говорит, — пошевелиться. Этот проклятый клоп, наверное, в живот прошел. Слышите, как бурчит? Да и жарища такая.
Солнышко, правда, как будто прямо над нашей поляной приклеилось.
Девчонки листьев нарвали, свои лукошки прикрыли.
— Полдничать пора. Вон под той орешиной сядем, — нас зовут. — Вы, мальчики, можете себе удилища вырезать.
— У нас бамбуковые есть, — буркнули мы, чтобы не идти и не смотреть, как девчонки будут свои узелки развязывать.
— А наши рыбаки завсегда ореховое удилище берут, — Катька свое. — Оно гнется, да не ломится.
— Не завсегда, а всегда, — Людмилка утерпеть не может.
А мне вдруг даже нравиться стало, как Катька говорит. У нее все так уютно получается.
И когда Людмилка снова рот раскрыла, чтобы Катьке еще и про «ломится» сказать, я вмешался:
— А так великий русский поэт говорил — «гнется, да не ломится».
У Людмилки глаза сразу круглые, как у кошки:
— Какой это поэт? Скажи.
— Ну… Некрасов, кажется. Или вот еще, как его… Тютчев. И я нарочно стал помогать Катьке. Она в это время захныкала: пока землянику собирали, она где-то на поляне из кармана конфетку выронила, «Мишка косолапый».
— Ищите, ищите, — Димка из-под своего куста высунулся. — Её, вашу конфету, давно медведь съел, по-родственному.
Он уже поднялся, Димка, сразу выздоровел и сидит, уминает с Людмилкой что-то из ее узелка.
Тоже друг называется!
Но я все равно ползал, ползал, пока «Мишку» не нашел. Он, правда, совсем растаял на солнышке, да я его еще нечаянно придавил коленкой. Но Катька сказала, что растаявший шоколад даже вкусней, и как-то здорово на меня посмотрела.
Наконец мы все собрались под кустом. Димка наелся, живот поглаживает. Людмилка деловито, наверное теперь матери подражает, Катьку кормит. Мне тоже здоровенный огурец протягивает с хлебом.
Я представил, какой он приятный, огурец, прохладненький в серединке. Но мне стыдно, что мы своего ничего не взяли. А Димка такой бессовестный, наелся — и ничего себе.
— Да у тебя руки ужиные, — буркнул я, чтоб чем-нибудь Людмилке досадить. — Ты ужа за хвост брала. — Но потом все-таки огурец взял. Даже не поморщился, когда Людмилка снова начала лекцию читать, что руки она давно в калде вымыла и вообще животные все чистые.
— Я сама видела, — говорит, — как ты тоже с нашим Полканом вместе колбасу ел. Кусок себе, кусок ему и руки о Полкашкину спину вытирал.
— Сравнила! — отвечаю. — Собака — друг человека! — А сам подумал: «И когда она только усмотрела?»
— А у нас еще ежик дома живет, — Катька вмешалась. — Он тоже друг. Ручной совсем. Хочешь, приходи. — И мне показалось, что она снова как-то особенно на меня посмотрела.
Катька сделала себе венок из кленовых листьев и, наверное, от этого сделалась какая-то новая, красивая, как лесная царевна.
Но тут Димка противным таким голосом говорит:
— Приходи, приходи, Юрик, погладь ежика от хвоста к голове. — И еще: — А слониха, вся дрожа, так и села на ежа.
Ну, если только вправду был ягодный клоп в Димкином животе, несладко же ему пришлось. Я так на них обоих с Димкой навалился, от души.
Но он не обиделся, в общем, на меня. Не клоп, конечно, а Димка. Нам обоим было немножко стыдно перед Людмилкой и Катькой, что они нам здесь, в лесу, были нужнее, чем мы им. И ягод для бабушки все-таки они отсыпали, и бревнышко потом помогли найти.
Вывели нас еще на одну полянку, там целыми штабелями лежали ровные, гладкие, как карандаши, березовые кругляши, как раз что для плота нужно.
— А можно разве взять?
— Много нельзя, а немножко можно. Это лесники рощу прореживали, чтобы деревья лучше росли, — Катька объяснила. — Санитарная рубка называется.
— И откуда вы такие всезнающие взялись? — Димка все-таки еще раз не удержался.
Но девчонки не обиделись:
— Да вот же, смотри, — Людмилка засмеялась. — Смотри туда!
Под горой, на которой мы стояли, росла (нет, не росла, а как будто плыла по воздуху) молодая березовая роща. Как будто зеленоватое облачко, все легкое и кружевное, и все живое, опустилось на минуту в лощину между двух холмов, и вот сейчас подует ветер, и оно снова поднимется и улетит. А под ним бежали наперегонки друг с другом ровные и стройные березовые стволы, как Катькины ноги в полосатых носочках. А может, это в самом деле сто или тысяча Катек подняли облако на руки или надели на голову, как Катька свой зеленый венок?
И мы, не сговариваясь, побежали прямо в это зеленое облако. И березовые стволы бежали нам навстречу. И солнечные зайчики прыгали по их белой коже, как веснушки на Катькином носу.
И мы бежали и кричали что было силы, сами не знаю что, просто так. А потом встали тихо-тихо, и я увидел, как одни солнечный зайчик оторвался от ветки и плавно опустился на зеленую траву. Он был совсем как желтый березовый листок, но я знал, что это именно солнечный зайчик.
Лысая гора
Когда папа принес мне путевку в пионерский лагерь «Лысая гора», я даже немножко обиделся. Другие ребята ехали в лагеря с такими красивыми и романтичными названиями: «Орленок», «Бригантина», «Босоногий гарнизон».
И вдруг — «Лысая гора». Что там может быть интересного?
— А ты побывай, посмотри, подумай, — сказал папа.
Я честно обещал подумать. Но когда началась лагерная жизнь, получилось, что думать как-то некогда.
Во-первых, лагерь наш оказался никаким не лысым. Такой уютный белый городок в зеленой балочке. Есть свой маленький стадион и лягушатник для плавания. Настоящий самолет Ил-14, его шефы подарили. Он, конечно, не летает, но все равно здорово. Приборная доска, два штурвала.
Еще в лагере был ручей, Ключик, на котором мы сделали запруду с маленькой мельничкой. И росли вокруг здоровенные дубы, на которые наш вожатый Костя разрешал лазить, только чтоб ветки не ломали.
Где здесь было думать?! Некогда. Я решил отложить это дело до возвращения домой. Тем более денечки летели, как из пушки. Я даже удивлялся, как скоро прошла почти половина смены.
А потом к нам в гости приехали военные ветераны, и стало еще интереснее. Мы сидели вечером у костра и слушали героические рассказы из фронтовой жизни про сбитые танки и самолеты, и ордена и медали блестели на груди ветеранов, как выпавшие из костра угольки.
Только один ветеран, который ходил без медалей и с палочкой, почему-то ничего не рассказывал. Он сидел у костра молча и только клал руку кому-нибудь из ребят на плечо или на голову.
— Наверное, он раненый или контуженый, — сказал мне Валька Трофимов, который всегда все знал. — У нас тоже дедушка контуженый. Он знаешь какой нервный! Ужас. Ему совсем волноваться нельзя. Поэтому, если этот гость к тебе подойдет, ты терпи. Но лучше вообще, на всякий случай, старайся ему не попадаться.
Я так и делал.
Потом ветераны уехали. А этот, молчаливый, остался.
— Наверное, у него нет никого родных и близких, — опять объяснил нам Валька. — Пусть себе живет. Нам не жалко.
Мы привыкли к Николаю Петровичу, так звали нашего гостя, и почти забыли о нем за другими лагерными делами.
Но однажды утром, когда мы еще спали, вожатый Костя явился к нам в корпус и разбудил меня и Вальку. Даже спросонья мы сразу сообразили, что, похоже, это пришла расплата за вчерашнее происшествие. Вчера вечером Валька свалился с дуба и здорово ободрал себе бок. Но в медпункт не пошел. Потому что боялся йода. Я, конечно, Вальку не выдал. Мы просто сорвали лопух, поплевали на него и приложили Вальке к боку, под майку. Но, похоже, кто-нибудь все-таки наябедничал, и сейчас Вальке всадят укол, а меня потянут на линейку за укрывательство.
Но Костя вдруг сказал:
— Мы решили вас послать с Николаем Петровичем на Лысую гору. Смотрите не подведите дружину. Будьте внимательны к ветерану. Вот вам фляжка с водой и бутерброды. И быстрей одевайтесь.
Мы запрыгали на полу, натягивая брюки, и мятый лопух выпал у Вальки из-под майки. Но Костя даже не обратил на него внимания.
— Галстуки не забудьте, — только крикнул он нам на бегу, направляясь к домику, где жил наш молчаливый гость.
Николай Петрович уже стоял готовый и ждал нас. Его палка оставляла на мокрой от росы траве темные кружочки, и наши кеды тоже сразу промокли и потемнели. Еще никогда мы не выходили из лагеря так рано. Солнце было совсем низким и красным и все никак не могло подняться из-за веток дуба на пригорке, как будто запуталось в них.
— Будет ветер, — сказал Николай Петрович, поглядев на солнце. — Ничего?
— Подумаешь! — пожал плечами Валька. — Какая разница?
И я пожал плечами:
— Подумаешь. Идти недалеко.
Лысую гору мы видели из лагеря каждый день. Но никогда не ходили туда, что там делать? Она стояла голая и скучная, как сухой каравай. И только в сильный ветер оттуда долетали до лагеря песок и пыль.
Чего там понадобилось Николаю Петровичу?
Он не объяснял, а мы не спрашивали. Через какие-нибудь полчаса сами увидим.
Но странное дело. Плоская верхушка горы как будто не приближалась, а стояла на месте или даже удалялась. Скоро наши ноги начали вязнуть в песке, кеды из темных сделались серыми, а палка Николая Петровича застревала все глубже и глубже. Дорога давно пропала, будто Лысая гора проглотила ее.
— Надо напиться, — сказал Валька, отвинчивая пробку фляжки. — Во рту пересохло.
Но Николай Петрович остановил его:
— Рановато. Потерпи.
— Можно и потерпеть! — хмыкнул Валька. — Думает, что мы уже выдохлись, — шепнул он мне. — Воспитывает.
Но, по-моему, Николай Петрович вовсе никого не воспитывал. Он шел и смотрел только перед собой, в песок, и, кажется, совсем не обращал на нас внимания. И зачем только ему понадобилось нас брать? Или это Костя постарался, а Николаю Петровичу неудобно было отказаться?
— А что там, на горе? — спросил я, когда мы прошли молча еще минут двадцать.
— Все то же, — ответил Николай Петрович. — Песок-песочек…
— Так зачем же мы?‥ — вырвалось у меня, но Николай Петрович не расслышал.
Песок противно скрипел на зубах, набился в кеды, лез в глаза. Он летел на нас снизу и сверху, сухой и колючий, и некуда было спрятаться от него. Вот почему, наверное, предупредил нас утром наш спутник, что будет ветер.
— Песок-песочек, — повторил Николай Петрович и, тяжело наклонившись, — правая нога его не сгибалась — зачерпнул горсть песка и подставил руку на ветер.
Желтая горка на его ладони быстро таяла, как будто это был не песок, а снег. Совсем мало песчинок осталось на его ладони, а в средине собрались темные камушки, целая кучка. Николай Петрович взял мою руку и пересыпал в нее эти камушки. Они были тяжелые-тяжелые и, как показалось мне, горячие, а один немножко поцарапал мне палец.
— Железные? — удивленно прошептал Валька. — Руда? Или метеорит? Вот здорово! Принесем в лагерь метеорит!
— Железные! — сказал Николай Петрович. — Посмотрите.
Лысая гора шевелилась и будто текла под ветром, как живая. И желтый ее песок весь был истыкан такими железными кусочками. Они высунулись под ветром из песка и словно грелись на солнце: один совеем темные, другие красноватые от ржавчины, совсем маленькие и побольше. А один, совсем большой, с рваными краями, торчал, как нос меч-рыбы. И Валька, раскачав его, вырвал из песка.
— Ого, килограмма полтора будет.
Николай Петрович взял этот «нос» у Вальки и показал еще заметные полоски, три ровных пояска.
— С неба-то он прилетел — с неба, только сварен этот «метеорит» в земной печке. Вот и роспись «кашевары» оставили.
Мы сами уже поняли с Валькой, что все это железо — осколки. Их не раз видели мы в своей жизни, хотя и родились почти через двадцать лет после войны. Осколки лежали в городском музее и в нашем школьном — сами ребята притащили их: отрыли на дачах, или весной их иногда вымывало водой из земли. Но чтобы столько осколков сразу, в одном месте, как здесь, на этой Лысой горе! Настоящий железный дождь! Не зря нас привел сюда Николай Петрович. Он здесь воевал, догадались мы. Но почему же он всегда молчал у костра?
— Расскажите, как вы воевали здесь, — попросил Валька. — Что вам запомнилось больше всего?
— Больше всего? — сказал Николай Петрович и пошевелил палкой песок. — Да, наверное, как мы сапоги сняли, переобулись, когда все кончилось.
— Ну… Николай Петрович, мы серьезно…
— И я не шучу, ребята. — Николай Петрович положил ладонь на стриженую Валькину голову. — Сапоги снимает солдат после крепкой победы, а ждать нам ее тут, на этой горке, пришлось долго.
Он вдруг сел прямо на песок, тяжело вытянув прямую, как палка, больную ногу. Мы плюхнулись рядом, и я почувствовал, как по моим усталым ногам снизу вверх побежали колкие злые иголочки. Легкие кеды казались чугунными, словно утюги. А солдатский сапог потяжелее, чем кеды.
— Жарко? — повернулся Николай Петрович.
— Ага, — облизал Валька запекшиеся губы.
— Вот и нам было жарко, — Николай Петрович опять зачерпнул горсть песку, задержав осколки. — Сверху жарко, а снизу холодно. Стояли мы здесь зимой, как раз в декабре. Задача была простая: не пропустить фашиста к городу. А у него, конечно, наоборот: был он, город-то, рядом, как на ладони. Но в балках вокруг снег набился, ни пройти ни проехать. А гора — не зря ее Лысой назвали — вся ветром обдута. Только корка ледяная сверху блестит. «Зарыться и стоять», — такой был нам приказ. А в песке окоп не отроешь. Попробуйте, — предложил Николай Петрович.
Мы с Валькой стали кидать песок. Сначала было легко, песок мягкий, и мы вырыли ямку. Но чем больше копаешь, тем быстрей песок скатывается назад, и вся работа идет насмарку. Ямка стоит себе, как заколдованная, ни больше, ни меньше, не то что человеку уместиться, а одним боком ляжешь, другой торчит.
— Он и зимой такой же, песок, — сказал Николай Петрович. — Только злее. Сверху камнем со снегом смерзся, а снизу плывуном течет.
Мы совсем запыхались с Валькой от бесполезной работы. А ведь в нас никто не стрелял и не бросал бомбы. Так как же солдаты?
— Приспосабливались, — сказал Николай Петрович и вздохнул. — Ляжешь на землю, товарищи сверху плащ-палаткой прикроют, навалят песку со снегом, сколько успеют. И лежи, коли хочешь живым быть.
— А ночью как же? — глупо спросил я.
— На войне ночи не бывает, — усмехнулся Николай Петрович. — На войне без расписания живут. Один Мороз Иванович ночью у нас командовал. Вечером ребята помогут, затрусят песком, а утром чадо на помощь звать, примерзло все, в камень превратилось, не вылезешь. Главная твоя забота, чтоб только пальцы могли шевелиться, винтовку держать. Остальное как сумеешь. Не обморозил ноги к утру, твое счастье. Так что про сапоги я не зря вспомнил.
— Сейчас расскажет, — толкнул меня Валька. — Слушай, почему хромает.
Но Николай Петрович только погладил больную ногу и приподнялся,
— Пошли, однако. Нам надо еще вон до того пригорка дойти.
— А что там? — спросил Валька. — Памятник, он во-он там, в другой стороне. Недалеко от лагеря.
— Памятник, он там, я знаю, — сказал Николай Петрович, — а мы пойдем с Ласточкой поздороваться.
— Вам, наверное, трудно идти, — решился сказать я, потому что Николай Петрович хромал все больше и больше, и палка ему почти не помогала. — Это вас здесь ранило?
Но он, наверное, не расслышал. Все шел и шел, и рвал по дороге какие-то желтенькие цветы, которые не знаю как цеплялись за сухой горячий песок.
— На животе прополз, а уж ногами дойду, — сказал Николай Петрович. — Если бы не Ласточка, не ходил бы давно. — Гнали мы ее от себя, ругали, а сами ждали ведь. Ждали.
Непонятно было, с нами он разговаривает или сам с собой. Я заметил, бывает такое иногда со взрослыми. Они как будто забывают о том, слушают их или не слушают.
А Ласточка, оказывается, это девочка была. Никто, сказал Николай Петрович, даже фамилии ее не узнал. Не успели. Ласточка и Ласточка. Так ее бойцы прозвали.
— Она разведчицей была у вас? — догадался Валька, который всегда все знал про войну, потому что больше всего на свете любил военные книжки.
— Она нам портянки сухие приносила, — ответил Николай Петрович, и мы снова подумали, что он не хочет с нами серьезно разговаривать. Не так все-таки, как другие ветераны, он про войну рассказывал. Ни про самолеты, ни про танки, ни про смелые подвиги. Сапоги да портянки, тоже мне, подвиг!
— Она ладошками снег с песка соскребала, а уж как стирала да сушила, я и в ум не возьму, — сказал Николай Петрович и стал почему-то сердитым. — Нам бы, остолопам, в тыл ее отправить, да, видно, молоды были, ума не хватило. Свои жизни не берегли и чужие не умели. С бабкой она, Ласточка, где-то под горой ютилась. Землянка у них была. А портянки сухие, когда сутки пролежишь в ледяной каше, эх, да что говорить… упаси вас бог.
Ну вот! Уже и до бога дошел! Совсем это уже нам с Валькой не понравилось.
И мы перестали задавать вопросы. Тем более Николай Петрович какой-то совсем сердитый сделался. Шел и шел, не разбирая дороги.
Пригорок, куда мы наконец пришли, был такой же, как все. Только рос куст боярышника, корявый и колючий.
Николай Петрович стоял, наклонив голову. Потом осторожно отогнул от земли нижние ветки.
— Вот где надо было памятник-то ставить!
Он отвинтил колпачок фляжки и терпеливо ждал, пока мы с Валькой жадно глотали теплую воду. А потом взял и вылил остатки на этот бугорок, где посередине рос такой же желтый цветок, какие он рвал на дороге. Себе не оставил ни глоточка. И сел. И молчал. И только на шее у него билась жилка, часто-часто. Мне даже страшно стало, я никогда не видел, что человек может так волноваться, хотя и молчит.
И снова он, кажется, совсем забыл про нас. Но он не забыл. Он даже улыбнулся нам. Он улыбнулся, а мне показалось, что он сейчас заплачет.
— Заморил я вас, ребята? Скучный дядька, бирюк. Не серчайте. Сомлели мы в тот вечер, простить себе нельзя, но сомлели. Не сдюжили. Третью неделю ведь на этом бугре, без передыху. Лица черные от ветра, как головешки. Фашист стреляет, а тебе только одного хочется — спать. Ну, и проворонили было фашистов. Обложили они нас. Видать, подкрепление им вышло. Или приказ строгий. Или сами тоже дошли от стужи, на рожон полезли. В общем, не встретили бы мы утра, если б не Ласточка.
— Предупредила она вас? — догадались мы. — Николай Петрович, расскажите.
— Что рассказывать? Подстрелили они ее, выродки. Да, видно, плохо целились. Раненая, а добежала она. Успела. Здесь и упала. Вот у этого кусточка.
И больше он нам опять ничего не сказал, Николай Петрович. Наверное, и не надо было. Есть длинные рассказы, а есть короткие. Но ведь и в коротком можно сказать очень много.
Мы все больше ничего не говорили. Стояли и молчали, и Лысая гора молчала. Только пели в сухой траве кузнечики и шуршал песок, как будто раненая Ласточка бежала по нему к солдатам из последних сил.
Потом мы накопали с Валькой в песке осколков и выложили на Ласточкином бугорке из этих осколков звездочку. И Валька отцепил от рубашки пионерский значок и положил посередине. А я привязал к ветке боярышника свой галстук.
Мы знали, что теперь обязательно придем сюда еще раз, вместе с ребятами. И медленно-медленно пройдем от подножия до вершины. И Николай Петрович, наверное, тоже знал. Хотя мы ничего не говорили об этом.
Научный подход
Летом с моим двоюродным братом Вовкой мы жили у бабушки в маленьком городке.
Один раз утром на улицу, где стоял бабушкин дом, пришел старичок и повесил объявление:
«Всех граждан, имеющих домашних животных, просят сделать им прививки в ветеринарной лечебнице».
Бабушка прочитала объявление и расстроилась:
— Как же я дойду, у меня ноги совсем больные.
У бабушки была коза — Дунь-ветер. Ее так прозвали, потому что оба ее рога наклонились в одну сторону, словно их и вправду сдул сильный ветер. Они торчали, как острая сабля, и я, честно говоря, не хотел бы попасть на эти рога.
Но Вовка предложил бабушке:
— Мы с Юркой сами отведем Дунь-ветер на прививку, без тебя.
Бабушка обрадовалась, хотя и спросила:
— А справитесь?
— Чего же не справиться, — важно ответил Вовка. — Коза — не тигр. — И стал, нарочно не торопясь, привязывать Дунь-ветер прямо на рога веревку. Коза ничего, стояла спокойно, только на бабушку поглядывала.
Вовка совсем расхрабрился.
— Видишь, — подмигнул мне, — чувствует, что со знающим человеком дело имеет.
А когда мы вышли за ворота, вдруг брякнул:
— Между прочим, у меня даже в обращении с тиграми опыт имеется.
Я промолчал, потому что Вовка явно чересчур хватил. Но он даже не покраснел.
— Думаешь — заливаю? А тут ничего особенного нет. Только подход нужен. Научный.
— И где же научился? — спрашиваю. Может, хоть сейчас, думаю, Вовку совесть проймет.
Но он как ни в чем не бывало:
— У папы на работе.
— Вроде бы твой отец не тигроловом в тайге, а инженером в институте работает?
— Ну и что же, что в институте? Разве тиграм нельзя в институт зайти?
— Можно, можно! На прием в отдел кадров. — Я уже не мог терпеть Вовкиного вранья и нарочно громко засмеялся. А Дунь-ветер, как будто ее кто укусил, вдруг как кинется в сторону и — мигом оказалась в придорожной канаве. Мы подергали веревку, да не тут-то было, коза и не думает вылезать.
— Ты виноват, — говорит Вовка. — Смеешься, как слон. Напугал животное.
— А ты слышал, как слоны смеются? Тоже в папином институте? — Я уже всерьез начал злиться и на Вовку, и на козу. Потому что мы стоим перед этой канавой, и на нас люди оглядываются.
— У тебя, говорю, научный подход, вот и уговаривай ее. Козу небось легче уговорить, чем тигра.
— Конечно, легче, — согласился Вовка. И начал уговаривать:
— Дунь, Дунь, давай сюда. Ме-е-е… бе-е-е… кис-кис…
Но Дунь-ветер только травку щиплет, и на нас — нуль внимания.
— Придется снизу подтолкнуть, — Вовка говорит. — Неохота, конечно, в канаву лезть, там, наверное, лягушек полно. Да ничего не поделаешь.
Но только он начал спускаться в канаву, Дунь-ветер так выставила на него свои рога, что он мигом взлетел обратно. И уже другим голосом объясняет:
— Тигр-то маленький был! Совсем тигренок. Его дрессировщик в папин институт на руках приносил. А эта — вон какая, как корабль! Давай еще немножечко вдвоем потянем.
Мы опять стали тянуть за веревку. Наверное, целый час тянули, вспотели, словно на сборе металлолома план перевыполнили. Но все без толку.
Чувствую, от большой затраты сил у меня даже живот подвело. И Вовка тоже:
— Пожевать бы сейчас немножко для подкрепления. У тебя ничего нет?
Я вспомнил, что бабушка, когда мы собирались, сунула мне в карман хлебную горбушку. Я еще не хотел брать, но она настояла:
— Пригодится.
«Какая молодчина, спасибо ей», — подумал я теперь про бабушку.
Но только достал горбушку и начал половинку Вовке отламывать, Дунь-ветер в своей канаве сразу насторожилась. И нежно так затрепетала ноздрями, будто певица на эстраде.
И Вовка тоже насторожился, толкает меня:
— Видишь, видишь?
— Что вижу-то? Травы наелась, теперь еще и хлеба подавай! Как бы не так!
А Вовка произнес с сожалением, но твердо:
— Придется все-таки отдать горбушку. Надо уметь жертвовать. Животных следует поощрять. Вот посмотришь, сейчас она, как миленькая, побежит.
Дунь-ветер, и правда, из канавы за горбушкой выскочила. Но прошла всего каких-нибудь десять шагов. Пока у нас хлеба хватило. И снова остановилась. Прямо поперек дороги.
— Сбегай, — Вовка командует, — спроси еще у кого-нибудь хлебца кусочек.
Я обиделся:
— Что ли, я нищий какой, чтобы кусочки просить? Сам беги, если хочешь.
Вовке, конечно, просить тоже неудобно.
— Ладно, — говорит, — пусть еще немножко постоит, успокоится. Она же переживает, ты понимаешь. Кому охота прививку делать?! А у животных у всех предчувствие есть. Когда у нас в школе уколы делают, я тоже всегда предчувствую. Сейчас нам главное до лечебницы ее довести. А обратно она сама побежит.
У козы, наверное, в самом деле предчувствие разыгралось. Она стояла-стояла и вдруг как рванет от нас. И — бац рогами в чужую калитку.
«Спрятаться решила, — подумал я, — от прививки».
Но Дунь-ветер со двора — прямехонько в огород. И на грядки с морковкой. Как на собственные! Вот так предчувствие, нечего сказать!
Ну, и будет нам сейчас от хозяев! В окне уже мелькнуло чье-то сердитое лицо.
Но Вовка храбрится:
— Ей необходимо сейчас витаминами подкрепиться. От нервов. Я хозяевам объясню.
И хотел тетеньке объяснить, которая из дома выскочила. Только тетенька, наверное, тоже нервная попалась. Она про Вовкины витамины даже слушать не захотела, а сразу кинулась на Дунь-ветер с хворостиной. И еще пообещала на нас с Вовкой бабушке пожаловаться.
Но нам уже было все равно. Потому что после хворостины Дунь-ветер с обиженным видом и вовсе застыла посреди дороги.
Тут какой-то шофер ехал. На самосвале. И стал нам из кабины кричать, чтоб мы свою козу убрали. Она проезд загородила.
А мы бы рады Дунь-ветер сдвинуть. Да она не сдвигается!
Мы начали шофера просить:
— Дяденька, погудите немножко, может, подействует.
— Вот еще! Охота мне из-за вашей козы в ГАИ объясняться. У нас в городе звуковые сигналы запрещены.
Кое-как объехал нас.
А мы опять стоим. Ждем, когда у Дунь-ветер настроение появится.
Наконец, добрались мы кое-как до лечебницы. Осталось только прививку сделать.
Ветеринар в сером халате уже в дверях показался.
— Чего же вы? — поторапливает. — Заходите скорей. Мы скоро закрываем.
— Сейчас, сейчас!
А что сейчас! У этой Дунь-ветер не только характер упрямый, но и нюх, наверное, как у сыщика. Потянула носом в сторону ветеринара, и аж шерсть на загривке поднялась. Прямо овчарка! Ничего, сейчас ветеринар возьмет ее за рога!
Но тут Вовка опять за свое:
— Я когда боюсь зуб дергать, мама мне всегда помогает. Психологически. Смотри, говорит, ничего страшного. И в зубоврачебное кресло сама садится. Рот раскрывает. Может, нам тоже прививку сделать? Чтоб Дунь-ветер не так сильно переживала.
Я молчу, а ветеринар смеется.
— Пожалуйста, я могу. — И стал шприц доставать. Здоровенный такой, прямо бревно. Вижу, Вовка аж побледнел весь. Но храбрится.
— Отвернись, — говорит, — Юрка. Я тоже, когда смотрят на меня, начинаю волноваться.
Но только я отвернулся, от Дунь-ветер только пыльное облачко во дворе осталось.
— Чего ж ты стоишь? — Вовка чуть не плачет. — Лови ее быстрей. Спереди, спереди забегай, животные препятствий боятся.
Может, и боятся, если по-научному подходить. Но Дунь-ветер, я давно уже это понял, чихала и на науку, и на препятствия. Едва я ей дорогу загородил, она так саданула своими рогами, что у меня искры из глаз посыпались. Чувствую, лежу носом в пыли, а над головой только ветер — вжи-и-ик. Перелетела все препятствия, как на крылышках!
Стали мы Дунь-ветер вдвоем ловить. А коза подождет, пока мы к ней доковыляем, подпустит поближе и снова — раз, и все сначала.
Ловили, ловили, пока ветеринар свою лечебницу не закрыл.
— Рабочий день, — кричит, — кончился. Завтра приходите.
И здесь проклятая коза сразу успокоилась. Прямо нарочно! Даже сама к лечебнице подошла. И еще замок на двери полизала.
Я не знаю, что бы сейчас с ней сделал! Как та женщина на огороде, огрел бы ее, наверное, хворостиной от всей души.
Но забор-то у лечебницы не плетеный, а дощатый. Хворостину взять негде. И хитрая Дунь-ветер это отлично понимает. Стоит себе и как будто усмехается. И никуда не торопится.
— Ты же говорил, — Вовку спрашиваю, — что домой она сама побежит?
Но Вовка не отвечает. Пасмурный такой стал. И только вздыхает.
А солнце уже совсем низко опустилось. Бабушка, наверное, ужин готовит. Дунь-ветер травку пощипывает, закусывает с устатку.
— Пойдем, — решительно потянул я Вовку за рукав. — Захочет, догонит. А про тигра твоего я забыл давно. Эта коза хуже любого тигра.
Мы шли и все время оглядывались, может, Дунь-ветер все-таки бежит за нами.
Но никто не бежал. И глаза у Вовки совсем грустные сделались.
— Неужели, — говорит, — Юрка, одна коза сильнее всей науки? Ты как хочешь, а я вернусь. Может быть, уговорю.
Я про науку спорить с Вовкой не стал. Но постоял, постоял и тоже назад пошел. Про науку я не знаю, но дружба мне дороже.
Вернулись мы и снова начали Дунь-ветер с ее настроением сторожить. Как в почетном карауле: один — слева, другой — справа.
Тут как раз знакомый шофер опять на самосвале едет. С работы возвращается.
— Все стоите? — спрашивает.
— Стоим.
Шофер, наверное, все понял. Вылез и привязал Дунь-ветер к кузову самосвала веревкой, а нас с Вовкой рядом с собой посадил.
И привез потихоньку к бабушке.
И мы сказали ей, что завтра еще раз сходим в лечебницу. Сегодня просто не успели немножечко.
Пятачок
Как Пятачок переехал в наш дом, мы с ребятами даже не заметили. И не только потому, что на девяти этажах живет у нас народу целая тысяча или даже больше и каждую неделю кто-нибудь обязательно уезжает или приезжает.
Все равно, когда люди перебираются на новую квартиру, не хочешь, да заметишь. Приходят во двор большие фургоны «Трансагентство», грузовики и легковушки. Новоселы, их соседи, родные и знакомые долго таскают всякую мебель и узлы, ставят в грузовики холодильники и шкафы, пианино и диваны, на легковушках везут банки с вареньем, цветы в горшках, аквариумы с рыбками, сажают какую-нибудь кошку с круглыми от ужаса глазами или болонку с бантиком. Одним словом, шуму хватает.
А Пятачок появился совсем незаметно. Просто появился, и все. Маленький такой заморыш, наверное, еще из начальной школы. На Пятачка настоящего, того, который из мультфильма, и не похож вовсе. Просто его толстый Вовка из третьего подъезда так назвал: «Пятачок, поди туда! Пятачок, принеси это».
Ну, а поскольку самого Вовку во дворе все звали Винни-Пухом, то и Пятачок как-то так, само собой прилипло. Пятачок и Пятачок. Я даже и не знал долго, что на самом деле он — Сашка.
Раза два, правда, Пятачок неожиданно появлялся у нашей двери. Вдруг звонок, и стоит, носом шмыгает:
— Юра выйдет?
— Юра, ты выйдешь, к тебе какой-то дружок пришел, — мама говорит.
А какой он мне дружок? К нему выйдешь, а он молчит. Один раз, правда, вдруг предложил:
— Хочешь, я тебе клюшку принесу?
— Ты мне? Клюшку? Да у меня есть.
Да и где он ее возьмет, клюшку? Как будто я не видел, как он бегает вокруг хоккейного поля и выпрашивает у ребят:
— Дай разочек стукнуть. Разочек.
Нет у него никакой клюшки. И не было.
Если ему ребята разрешат немножко в воротах состоять, он и то рад. Валится на шайбу прямо животом.
Все хохочут, и он тоже. И кулаком свой вечно мокрый нос вытирает.
Он, наверное, у него и зимой, и летом, этот нос, мокрый.
Помню, летом вытащит Винни-Пух свой велосипед, хвастает, как фон-барон. У него, конечно, велик замечательный, не как у других ребят, «Орленок» там или «Уралец». А складной, шины толстые такие, белые. Рама оранжеватая, прогнутая. Чтобы сесть, не надо разгоняться и ногу задирать, а так просто садись и езжай.
Конечно, прокатиться на таком велосипеде каждому охота. Но как подумаешь, что у Винни-Пуха просить, — лучше не надо.
А Пятачок просит. Даже не просит, а так, глазами смотрит. Винни-Пух издевается, а он все равно смотрит.
Винни-Пух:
— Я поеду, а ты беги. Три круга не отстанешь, дам.
И сначала так медленно-медленно, вразвалочку едет. Пятачок-дурачок обгонит его и радуется. А Вовка поднажмет на последнем повороте, фырк — и обошел. Пятачок — ни с чем.
— Еще три кружочка, — Вовка командует. — Не вижу бодрости. А велосипедик, гляди, — мустанг, дитя душистых прерий. Гляди, парни-то как злятся на нас. Даже не подходят. Завидуют. Ну, давай, кружочек. Для развития твоей мускулатуры. Гонки за лидером, слыхал? Сначала ты за мной, потом я — за тобой.
— Да-а-а, — Пятачок мнется. — Обманешь.
— Я?! — Вовка аж поперхнется. — Ты что хочешь сказать? Соображаешь? Я, значит, вру, ты хочешь сказать?!
— Да нет, что ты, что ты, — Пятачок даже заикается. — Я такого не говорил. Я так просто. Ты не обижайся.
А чего не обижайся! Как будто не знаем мы Винни-Пуха. Накатается вдоволь, загоняет Пятачка и тут же вспомнит, что ему мать велела домой быстрей приходить.
И тот же Пятачок тянет ему велик по лестнице и верит, что уж завтра Вовка специально для него вынесет велосипед на целый час.
Мне даже противно на Пятачка смотреть, что он верит такому.
А он на этого Вовку, как цыпленок на удава, глядит. Вовка даже и не говорит иногда ничего, только бровями шевелит.
Один раз вынес во двор целый кулек яблок. Скороспелые, у них на даче растут. У всех еще зеленые, а у них — спелые. Сел на скамейку и бровями указывает. Я, мол, кину яблоко, а ты — беги. Успеешь, пока считаю до трех, твое яблоко. А сам бровью вправо, а яблоко кинет влево. Пятачок кинется — и снова в дураках. Противно глядеть. И за Пятачка стыдно.
Хорошо тогда Валька Трофимов не растерялся: подошел сзади да как поддаст по Винни-Пухову кульку. Все яблоки в разные стороны, а Вовка, даром что здоровенный, сразу: «Мама!»
И мамочка тут как тут, в окошке:
— Хулиганье! — кричит. — Дикари! — И на Пятачка же: — А ты чего стоишь? Собери! — И голос как у Вовки.
Нет, Пятачок мне не друг. Я не люблю прислужников. Не люблю, когда человек гордости не имеет, хотя бы из-за складного велосипеда.
И когда Пятачок однажды снова позвонил нам в дверь: «Юра выйдет?» — я вовсе не собирался никуда идти. Я сидел и смотрел по телевизору «Таинственный остров капитана Немо», третью серию. И ел пирог с капустой, который испекла мама.
Я не собирался никуда выходить и даже разговаривать с этим Пятачком.
Но мама вдруг его пригласила.
— А может быть, ты хочешь посмотреть с нами фильм, он только начался.
— Не-а, — мотнул Пятачок головой, но сам вошел и встал в коридоре.
— Да у тебя же ноги совсем мокрые! — увидала мама. — Смотри, лужа натекла.
— Не-а, — опять мотнул Пятачок головой, но продолжал стоять.
— Сопли подбери! — сказал я, забыв, что мама рядом. Но она почему-то только вздохнула и решительно взяла Пятачка за мокрый воротник.
— Какое гулянье, дождь на улице. Раздевайся.
Она такая у меня, мама. Когда ее просишь о чем-нибудь, она думает два часа. А когда не просишь, решает все сама и очень быстро.
Она заставила Пятачка снять мокрые ботинки и пододвинула ему мои старые тапочки.
— Не малы?
Какое там малы! Он прямо утонул в них вместе со своими мокрыми носками.
— А ты почему не смотришь дома этот фильм? — спросила мама Пятачка. — Всем ребятам нравится. У вас есть телевизор?
— Его папка унес, — буркнул Пятачок.
— Надо было на абонемент поставить, — сказал я. — Тогда можно никуда не носить, мастер сам приходит.
Но мама почему-то снова вздохнула.
Пятачок сел на стул, как воробей на крышу, на самый краешек. Ноги поставил на перекладину, не сидит, а мостится.
Мама сходила на кухню и поставила перед Пятачком тарелку с куском пирога.
— Не-а, — в третий раз мотнул Пятачок головой.
Похоже, что это было его любимое словечко.
Но тут на экране началось такое, что мне стало не до Пятачка. К острову подплыли пираты и обстреливали его обитателей из трехдюймовых пушек. А может, и из шестидюймовых, мне некогда было разбираться. Пираты палили и орали, и я тоже стал орать глупым островитянам, чтобы были поумнее: они так и лезли прямо под картечь. И пираты, того гляди, сцапают и перебьют их всех.
— Надо было засаду устроить, — услыхал я вдруг голос Пятачка. — Вон за той стеной. И сделать из веревки силочек, все бы попались.
— Много ты понимаешь! — накинулся я на Пятачка, потому что был злой на благородных, но незадачливых обитателей острова. — Силочек! Кого ты поймаешь! В свой силочек!
— Сороку можно поймать. Или синицу, — сказал Пятачок. И я увидел, как он, забыв, что отказался, отщипывает своими грязными пальцами, пирог, кусок за куском, а мама даже не посылает его вымыть руки перед едой, а только подкладывает на тарелку.
— Ты можешь поймать синицу? — забыл я про телевизор, тем более бой на острове кончился и пошли всякие неинтересные разговоры. — Может, скажешь даже, что уже поймал?
— Поймал.
— И она у тебя?
— Не-а, я ее выпустил, — сказал Пятачок так беспечно, что похоже было, так и есть. — Мамка все равно выбросит, у нее голова болит.
— А силочек? — повторил я это непривычное, но такое необыкновенное слово, которое Пятачок произносил таким обыкновенным голосом. — Силочек тоже выбросил?
А вдруг он не врет, вдруг этот замухрышка Пятачок может запросто взять и поймать синицу, желто-синюю красавицу с тугими черными щечками.
— Да сделаю я тебе, только жилка нужна, — все так же беспечно ответил Пятачок и, спрыгнув со стула, ткнул кулаком в картонный ящик, где у меня лежали кучей детали от «Конструктора», батарейки, фонарики, всякие поломанные машинки.
— Это все твое?
— А чье же еще? — попытался я его отвлечь на силочек, но он как прилип к ящику.
— Что ж ты «Конструктор» так бросаешь?
— Надоел. Уже все модели, которые в инструкции, переделал.
— Можно новые придумать. — И Пятачок уже тянул из ящика винты и гайки, быстро свинчивал детальки цепкими, как птичьи лапки, пальцами. Ловко у него получалось, ничего не скажешь. Но мне не давал покоя силочек.
— Давай пойдем к тебе, — предложил я. — И «Конструктор», если хочешь, заберем.
Пятачок обрадовался, но вдруг недоверчиво спросил:
— А тебя пустят?
— Так ты же близко, в нашем доме живешь, — не понял я.
— В вашем… — как-то медленно повторил Пятачок и посмотрел уже не на меня, а на маму:
— У нас дома никого нет, вот, — он достал из-под рубашки ключ, который болтался на веревочке, надетой на шею. — Мамка с Маринкой к бабке уехали.
Я испугался, что теперь мама меня не отпустит, раз дома у Пятачка нет взрослых. Но она отпустила. Только сказала, чтобы мы играли не очень долго.
Мы быстро собрали «Конструктор» и пошли.
Но что это была за квартира у Пятачка. Я еще никогда не видел таких квартир. Во всяком случае ни у кого из знакомых ребят не видел.
Во-первых, там было удивительно просторно. Потому что вещей совсем мало. И очень светло: потому что на окнах не было занавесок, а на дверях портьер. На вешалке тоже было совсем пусто, болталась только одна девчачья шапка.
— Мамка от папки все тряпье в шкафу запирает, — пояснил Пятачок, хотя я ничего не понял. Но я не очень интересовался, мне важно было поскорей узнать про силочек.
— Жилка нужна, — снова повторил Пятачок, — да у меня кончилась. Но ничего, устроим.
Он взял на кухне ножик и подошел к дивану.
— Ты только мамке не говори, а то она расстраивается. Я — немножечко.
Он ловко подпорол в уголке дивана обшивку и выдернул два толстых конских волоса — черный и белый.
Пятачок кинул ножик на стол, где лежал задачник для пятого класса. Я удивился, думал, самое большее — Пятачок в четвертом.
— Смотри сюда, — сказал Пятачок, усевшись на стул, как всегда, по-воробьиному. — Раз, и готово.
Я попробовал, как он, сложить волосок, но ничего не вышло, только узел завязался.
Ты сильно тянешь, а надо вот так, чуть-чуть. — Он слегка потянул волос, и вышла петелька.
— Сунь мизинец, — предложил он.
Я сунул и не понял даже, как мой палец оказался туго-туго стянутым невидимой белой стрункой.
— Не бойся, — успокоил Пятачок, — смотри.
Я снова не успел ничего разглядеть, а палец мой был уже на свободе.
— Ловко!
— Дед научил, — небрежно сказал Пятачок. — В деревне. А ты есть хочешь?
Я есть не хотел, но пошел за ним на кухню, где он уже гремел кастрюлями.
— Во, мамка борща наварила. Садись.
На кухне у них было так же пусто, как и в комнате. Стол и три табуретки. Вместо холодильника была приделана за окном полочка.
Пятачок налил мне борща в тарелку, а себе в алюминиевую чашку и вытер об штаны две алюминиевые ложки.
— Ешь.
— А ты зачем с Винни-Пухом дружишь? — спросил я.
— Я его, гада толстого, ненавижу, — аж подался Пятачок на своей табуретке.
— А бегаешь за ним зачем?
Пятачок не ответил и перевел разговор:
— Музыку хочешь послушать?
Я поискал глазами приемник или магнитофон, но не нашел. На стене висел маленький громкоговоритель, и все.
— Приемник тоже отец унес, — сказал Пятачок. — Сначала оставил, а потом унес. Ему денег много надо. — И вдруг сжал свои птичьи кулачки. — А я сроду ее пить не буду!
— Кого ее?
— Ты того? — Пятачок покрутил у виска пальцем, как будто я был какой-нибудь недоразвитый.
Его серые глазки стали вдруг маленькими и злыми:
— Зачем, зачем бегаю! За Винни-Пухом. Яблок хотел Маринке дать. Знаешь, я бы вообще удрал от вас, от всех! К деду. Если бы не мамка. У нее сердце.
— У всех сердце, — глупо сказал я и понял, что говорю не то. Но я не знал, что надо в таких случаях говорить, и предложил: — Давай «Конструктором» играть.
— Давай, — согласился он не очень весело. Но потом все-таки развеселился. И все время повторял, прикручивая детальки одна к одной:
— Сейчас мы тебя припечатаем, кисанька-лапонька.
От удовольствия Пятачок даже порозовел, хотя все равно до настоящего мультфильмовского Пятачка ему было далеко. У того щеки были, как у его любимого воздушного шарика, а у Сашки — как два маленьких крылышка, приделанных к остреньким выпирающим скулам.
…Звонок в двери зазвонил так громко, что я вздрогнул. Пятачок тоже вздрогнул, но тут же сказал:
— Не бойся, это мамка. Я слышу, это она.
Мать у Пятачка была тоже маленькая и худая, но совсем не похожая на него, разве только голосом.
— А я Маринку у бабки оставила, — сказала она. — Завтра заберешь ее, ладно?
— Ладно, — буркнул Пятачок. — Ты чего-нибудь принесла? Гостя надо угостить.
— Не надо, — почему-то испугался я. — Я пойду.
— Нет, побудь, — загородил дверь Пятачок.
Его мать вынула из сумки и положила на стол две конфетки «Школьная» и два пряника. Она достала откуда-то скатерть и чашки и, пока мы с Пятачком пили чай, смотрела на нас и молчала. Я тоже молчал, потому что не знал, что надо говорить, когда люди молчат. И, совсем как Пятачок, сказал «не-а», когда она спросила, не поругает ли меня мама за то, что я у них.
Я ничего не рассказал маме про то, что видел в Пятачковом доме. И был рад, что она только спросила, хорошо ли мы играли. Я сказал, что хорошо. И еще спросил, можно, если я завтра схожу с Пятачком за их Маринкой.
Сашка, оказывается, учился в соседней с нашей школе.
А сестренку еще не успели перевести в новый сад, и оттого ее часто оставляли у бабушки.
Приехали они в наш дом из другого конца города, «разменялись», как сказал Пятачок. Работать же мать осталась на старом заводе, поэтому рано уезжала и поздно приезжала. И Пятачок целый день был сам себе хозяин и всюду носил с собой ключ на веревочке.
Он сказал, что с первого класса у него дома даже уроки никто не проверял.
И я ему немножко позавидовал.
А вообще Пятачок не любил хвалиться. Не то что некоторые, вроде его бывшего командира Вовки — Винни-Пуха. Бывшего, потому что когда Пятачок стал ходить к нам, он меньше стал бегать за Винни-Пухом.
Ух, и злился же Винни-Пух! Он даже пообещал подговорить мальчишек и поколотить меня. Но я знал, что он только так, больше болтает, потому что трус. Но Пятачка дружки Пуха все-таки поколотили, это уж точно. Я сразу догадался об этом, когда увидел у Пятачка синяк под глазом. Хотя Пятачок отказывался и говорил, что синяк — бузня, он просто налетел в темноте на перила.
Пятачок не был не только трусом, но и доносчиком. Не любил ни жаловаться, ни хвалиться.
А похвалиться бы он мог. Я это понял, когда узнал его поближе. И пусть не велосипедом, купленным отцом, или яблоками, которые привезли с дачи.
У Пятачка были вещи, которые не купишь ни в каком магазине и ни за какие деньги. А он раздавал их запросто всем, кто попросит. Например, он мог вырезать из простой кленовой ветки отличную свирель. Пятачок слегка надрезал мягкую кору ножиком, и она снималась, как бумажка с конфеты, вся, целиком, даже формы не меняла, так и оставалась трубочкой. Хотя у меня и других мальчишек прилипала к древесине, крошилась и рвалась на узкие ленточки.
Из простой бумажки Пятачок мог сделать кучу интересных вещей — корабль, пилотку, копье, кошелек. Причем так, что корабль тут же превращался в кошелек, а кошелек — в коробочку.
А самое главное, если б он захотел, мог поймать любую птицу. Вы скажете, какие в городе птицы?! Но Пятачок научил меня, где надо искать, и в обыкновенном городском сквере мы увидели дятла, на рябиновом кусте за школой — щегла и слушали вечером, как высоко в небе пролетали над нашим городом дикие гуси.
Про птичьи повадки ему рассказал дед в деревне, он же научил делать силочки.
— Только я их не люблю, пойманных, — говорил Пятачок про птиц. — Они скучные делаются.
Но я так просил поймать синицу для меня, что Пятачок пообещал.
— Как только выпадет первый снег, — сказал он, — пойдем. Ведь синицы прилетают в город зимой.
Я очень хотел рассмотреть синицу вблизи и показать дома. А потом бы тоже выпустил. Ну, может быть, совсем немножко подержал, несколько дней.
— Завтра пойдем, — предупредил меня Пятачок однажды в субботу.
И я попросил маму:
— Мы рано пойдем, разбуди меня.
Я даже не возражал, когда мама два раза обернула мне вокруг шеи шарф и заставила надеть теплый костюм, который я не любил.
— Вы ведь. будете ползать по земле на животе и коленках, — говорила мама с тревогой. — Смотрите не простудитесь.
А Пятачок солидно отвечал за меня:
— Я за ним буду смотреть.
Это за мной, значит! Смотреть! Но я все терпел, ради синицы.
…Пятачок потянул меня на самый конец города. Сначала мы ехали на трамвае, а потом долго шли пешком маленькими улочками с деревянными домами.
Старый пустырь, где летом увидишь лишь старые консервные банки да бурьян, теперь, под снегом, был совсем другим. Лежало ровное белое поле, и каждая травинка и куст в голубом инее были похожи на сказочные, тропические, только маленькие деревья. Особенно сухая кашка и пижма. Они так и засохли прямо с цветами, и теперь иней и снег лежали на этих цветах, как зонтик или мороженое на блюдечках. И хотелось лизнуть их языком.
Синиц мы ловили в кустах. Быстрые пичуги сновали там по веткам, словно маленькие акробаты, вверх-вниз. Такие нарядные маленькие акробаты. Мне даже жалко на минутку стало их ловить, но я вспомнил, что не буду держать их дома долго, и успокоился.
А потом, честно говоря, я даже и не заметил, как Пятачок их поймал, двух синичек. Он так хитро приделал где-то там, на веточках, свои силочки-петельки, что и синицы не заметили их. Зря мама беспокоилась за мои коленки, я и оглянуться не успел, как Пятачок зашептал:
— Открывай клетку, готово.
Синички, кажется, тоже не очень обеспокоились переменой в своей судьбе. Они скакали по клетке и бегали по проволочной сетке так же, как и по своим кустам: вверх и вниз. И вовсе не бились, как пишут в книжках.
Я хотел сразу покормить их бутербродами, которые дала мне мама.
Но Пятачок сказал, что для них нужно конопляное семя, он даст мне дома целую горсть.
Мы съели бутерброды. Солнце светило ярко, снег хрустел под ногами, клетка качалась у меня на руке. Не хотелось лезть в переполненный трамвай, и мы пошли пешком.
Я шел и все время представлял, как удивится мама. А Пятачок, кажется, вовсе забыл про синиц. Он опять расспрашивал меня про свой любимый «Конструктор» и сказал, что уже придумал, как сделать из него для синиц дом в десять раз лучше, чем магазинная клетка.
Так мы шли и мечтали и уже почти подошли к нашему дому, как вдруг услышали где-то за углом противную пьяную песню. И увидели, как поворачивают туда головы люди, и кто смеется, а кто ругается.
Я не люблю пьяных и немножко боюсь их. Но я тоже стал крутить головой, чтобы посмотреть, что происходит. А когда оглянулся, увидел белое-белое и все в красных пятнах лицо Пятачка.
Дядька в расстегнутом пальто и без шапки, неуверенно держась на ногах, то пел, то с нехорошими словами отталкивал женщину. А она шла еле-еле и вдруг вообще беспомощно прислонилась к какому-то забору, повернув в нашу сторону лицо. И я увидел, что это тетя Клава, Пятачкова мать.
Но она не глянула на Пятачка, а куда-то мимо, и глаза ее были страшные-страшные, потому что смотрели и как будто ничего не видели.
— Куда же смотрит милиция! — закричала какая-то женщина. — Напьются, как свиньи, а тут дети ходят!
Мне захотелось бегом убежать от всего этого. Но я не мог, потому что Пятачок весь сделался будто каменный.
Тут раздался гудок, и показалась милицейская машина.
Дядька бросил тетю Клаву и хотел убежать, но споткнулся и плюхнулся прямо в снежную жижу. И два милиционера стали его поднимать и сажать в машину, а потом направились к тете Клаве.
Но тут Пятачок вырвался от меня и кинулся им наперерез и загородил дорогу.
— У нее сердце, дяденька милиционер, у нее сердце!
— Много будет таких сердечников, — сказал молодой.
Но старый внимательно посмотрел на Пятачка, и милиционеры подняли тетю Клаву под мышки и повели, но не к своей машине, а к Пятачкову подъезду. И уже соседи стали собираться вокруг. Кто охал, кто ругался, а кто вслух жалел Пятачка.
А Пятачок прошел между ними всеми, крепко сжав белые губы, как будто не видел никого и не слышал.
И про меня он наверняка забыл.
Но у самой двери он вдруг обернулся и нашел меня глазами. И сказал, как будто очень взрослый человек маленькому мальчику:
— Ты не обижайся. Доиграем завтра.
Чарв Твепарет
Всю жизнь я мечтал совершить поступок. Не какой-нибудь там, конечно, трали-вали, а настоящий, в обстановке внезапной и сложной, про которые пишут: «Так поступают пионеры». Когда нет времени долго раздумывать и примериваться, а раз — и твоя сжатая в кулак воля в ту же секунду приходит на помощь пострадавшему.
Идешь, например, по улице и видишь: какой-то тетеньке в шляпе падает на голову отвалившийся карниз! Не теряя времени, смело бросаешься наперерез, отталкиваешь в последний миг несчастную гражданку. Шум, кутерьма, горячие слезы благодарности…
А ты, слегка побледневший от потери крови из раненого плеча, едва перетянув его куском рубашки, скромно и незаметно растворяешься в толпе.
Или вот тоже неплохо — утопающего спасти. Только где их взять, утопающих-то? Это только в книжках геройские случаи так и лезут сами на счастливчиков. А у нас все тихо-мирно.
…В тот день я вышел, как всегда утром, с авоськой и бутылками за хлебом и молоком, но не торопился шагать в магазин. Может, подойдет кто-нибудь из ребят, вместе веселее.
— Парень, а парень, — вдруг услышал я за своей спиной. — Ты не торопишься? Мог бы оказать мне услугу?
Сухощавый мужчина в сером костюме явно обращался ко мне.
— Вообще-то я по делам иду, — подчеркнул я на всякий случай. — А что?
— Я попросил бы тебя отнести по адресу письмо, — сказал незнакомец. — Можешь?
Я поглядел на конверт: дом наш, только подъезд другой.
Конверт по всем правилам оформленный. И марка есть, хорошая марка, из зоосерии. Зачем он только ее приклеил, раз письмо в ящик не бросает?
Я хотел было спросить об этом, но передумал. Торопится, да мало ли что. Мне не трудно отнести. И марку, наверное, можно будет у этого, как там на конверте, Тимофеева Сергея Павловича попросить. Отдать письмо и попросить.
Я взял конверт и пообещал сегодня же доставить письмо. Быстренько сходил в магазин и прямо с авоськой завернул к подъезду, где должен жить Тимофеев.
На звонок мой долго не открывали. «Наверное, тоже на работе», — решил я. На всякий случай легонько толкнул дверь. И она неожиданно открылась.
В прихожей было прохладно и тихо. И в квартире тоже совсем тихо.
Я несколько раз покашлял, желая вызвать хозяев. Но кашель получился несолидный, слабый. Горло подвело. Я, как каникулы начались, сразу шесть штук мороженого на радостях съел — три стаканчика и три брикета. Ничего, только охрип немножко. И теперь, наверное, поэтому никто моего хилого кашля не услышал.
Что же делать? Я уже повернулся к двери, чтобы уйти, когда увидел в полумраке на стене прихожей нечто странное. На меня в упор глядели… страшенные рожи.
Одна темная, с белыми зубами и белыми глазами. Другая, желтая, хохотала, и тонкие красные губы растянулись к самым ушам, а уши стояли торчком, похожие на кочерыжки. И длинный чуб свисал с одного этого уха,
А третью рожу я не рассмотрел как следует, потому что негромкий голос, заставив меня от неожиданности вздрогнуть, вдруг сказал:
— Это из Африки. Ритуальные маски.
На пороге комнаты стоял, держась за косяк, мальчишка и выжидательно смотрел на меня.
— Что ж вы не открывали столько времени? — накинулся я на него, досадуя за свой испуг. — Мне Тимофеев Сергей Павлович нужен, письмо ему.
— Это я, — протянул мальчишка руку к конверту.
Я с недоверием оглядел его щуплую фигурку.
— Сергею Павловичу, написано.
— Говорю — я.
Он торопливо стал разрывать конверт, не обращая никакого внимания на роскошную марку.
— Ты потише, потише! — не удержался я. — Порвешь.
— Нужна? Возьми, пожалуйста. — Со знанием дела, но абсолютно равнодушно, мальчишка оторвал уголок конверта с маркой, а сам жадно бегал глазами по написанному.
Письмо было коротенькое, мне было видно — всего несколько строчек. Мальчишка, наверное, раз десять пробежал их, а потом, закрыв текст ладонью, показал мне подпись:
— Кто это?
— «Чарв Твепарет», — не сразу разобрал я непривычное сочетание. — Понятия не имею кто. Тебе лучше знать.
Парнишка, не очень, по-моему, веря, глядел на меня:
— И вчера было от него письмо.
Он принес из комнаты второй конверт, протянул мне.
На первом листке было написано:
«Если ты сумеешь строго следовать моим советам, твоя заветная мечта сбудется к намеченному сроку».
А во втором:
«Чтобы день твой прошел удачно, начни и кончи его тремя золотыми перуанскими яблоками. Прибавь сюда масло цветка солнца».
На обоих письмах стояла одинаковая подпись: «Чарв Твепарет».
— А ты не знаешь его и не ждал? — спросил я.
— Когда ты позвонил, я думал, это Николай Николаевич, — ответил мальчишка. — Он должен был прийти сегодня, я и дверь не запер.
— А это кто? — спросил я.
— Да, — замялся мальчишка, словно пожалел, что сказал. — Один тут…
Он замолчал, но когда я поглядел на дверь, встрепенулся: — Может, зайдешь в комнату?
— Ты один разве живешь? — удивился я.
— Тетя Лариса есть, но она вышла, — ответил мальчишка.
— Ну, давай знакомиться. Юрий, — назвал я себя.
Он протянул тощую ладошку:
— Сергей.
— Да уж сообразил как-нибудь, грамотный, — засмеялся я.
Мальчишка тоже понял и улыбнулся.
— Ты что, приезжий? — поинтересовался я.
— Ага.
— Откуда?
— Из Африки.
Он сказал это так спокойно, что я думал, что ослышался, и переспросил: — Откуда, откуда?
— Из Африки.
Я терпеть не могу, когда меня разыгрывают. Надо бы ему дать легонько за такие шуточки. Но уж очень он был хилый.
Да и комната, куда мы вошли, была удивительной. Над диваном висел красный, как мухомор, щит и маленькое, но, похоже, очень острое копье. На другой стене скалились еще три маски, вроде тех, что я видел в прихожей.
А за стеклом шкафа вперемешку лежали большие причудливые раковины, деревянные и костяные статуэтки, какие-то шишки, корешки и даже стоял на подставке маленький сушеный крокодильчик.
Я не знал, можно или нельзя все это потрогать, но Сережка равнодушно махнул тонкой желтой рукой:
— Трогай, если хочешь.
— Еще бы не хотеть!
Я заметался от шкафов к стенке и обратно.
— А копье можно подержать? А щит?
Снял красный щит, тяжеленный оказывается, прикрылся, нацелился в Сережку копьем:
— Сдавайся!
Сережка, сгорбившись на диване, словно маленький усталый старичок, смотрел на меня со снисходительной улыбкой. И лицо у него, разглядел я на свету, было тоже желтое-желтое, как лимон, и глаза даже.
— Слушай, а ты… почему такой? — положил я тихонько на диван копье и щит. — Ты… ты… болеешь? — И мне вдруг стало искренне жалко этого почти незнакомого грустного мальчишку.
— Я отца здорово подвел, — ответил он очень серьезно. — Понимаешь, подцепил тропическую малярию.
Я встречал в какой-то книжке это название — «тропическая малярия». Но, честно говоря, не обращал особого внимания. Что значит скучная малярия, когда отважных смельчаков то и дело подстерегают в Африке встречи со львами, удавами и прочими питонами.
Но мой новый знакомый говорил о своей болезни с таким огорчением, да и вид у него был, прямо скажем, неважный.
— Понимаешь, отец работает в Абиссинии, — пояснил он. — Они строят в джунглях завод. И вот я его подвел. И их тоже подвел, значит.
— Кого их?
— Ну тех, для кого они строят. Абиссинцев. Отца из-за меня хотели тоже отозвать из командировки. И, наверное, отзовут, если не поправлюсь. — Сережка вздохнул.
— А ты — никак? — что-то начал я соображать.
— Никак, — покачал Сережка головой. — Мне, знаешь, почему-то ничего не хочется. Ни есть, ни шевелиться, и вообще ничего. Я раньше в футбол играть любил. А сейчас погляжу на вас в окошко и отойду. Не хочется. А врачи говорят, надо, чтобы хотелось, лекарства одного мало.
Он придвинул мне вазу с виноградом и яблоками.
— Ешь хоть ты, тетя Лариса придет, опять расстраиваться будет, что все цело.
Вот так-так! Мне стала понятна Сережкина беда — поехать в Африку и из-за какой-то глупой малярии подвести отца! А на них небось надеются. Кто посылал, надеется. Наша страна надеется.
Я вспомнил киножурнал, где на экране наши мощные тракторы растаскивали в разные стороны вывороченные с корнями и перевитые цепкими лианами африканские джунгли. И черные полуголые африканцы радостно кричали вокруг, сверкая белыми зубами. Они тоже надеются — на нашу страну, на наши тракторы, на Сережкиного отца.
— Ну, ты не дрейфь все-таки. Как-нибудь выздоровеешь, — положил я руку на худенькое Сережино плечо. Если б я мог чем-нибудь ему помочь!
А Сережка то и дело перебирал на тумбочке свои письма, и в его глазах загоралась и гасла надежда:
— Так ты, правда, его не знаешь, этого Чарва? — испытующе смотрел он на меня.
— Не знаю. Но если ты хочешь, я его найду! — решительно сказал я.
Я не знал, где и как буду искать. Но ведь человек — не иголка!
Можно каждый день сторожить во дворе, и, наверное, он пройдет еще. Пройдет, если, конечно, ему незачем прятаться.
Разные вопросы лезли в моей голове один на другой. Роились, как любили выражаться мои любимые герои — путешественники и разведчики.
Кто он все-таки в самом деле, тот дядька? Когда я брал письмо, мне и в голову не пришло, что сами Тимофеевы могли его не знать. Да еще советы какие-то непонятные написаны.
Я еще раз заглянул в письмо. «Три перуанских золотых яблока. Утром и вечером».
— А какие они, эти яблоки?
Сережка пожал плечами:
— Понятия не имею.
— Где же можно узнать?
— Может быть, в библиотеке? — предложил Сережка. — Ты ведь записан?
Я, конечно, был записан в библиотеке, в школьной. А на лето нам в детскую районную велели перейти. Но я так и не собрался.
— Я бы сам пошел, да еще не записан после Африки, — сказал Сережка. — Ну, и вообще…
Я догадался, что ему немножко боязно в первый раз выходить во двор и на улицу одному. Он стесняется своего хилого вида.
Я обрадовался, что хоть чем-то могу помочь ему.
— Давай вместе пойдем. Молоко только домой отнесу, — торопливо сказал я.
…В библиотеке толстая библиотекарша изнывала от жары. Перед ней вилась стайка малышей, перелистывая разложенные на барьере тоненькие книжицы.
— У нас есть про перуанские золотые яблоки? — раздвигая малышню, как сом уклейку, и наваливаясь на барьер, спросил я.
Библиотекарша недовольно потянула у меня из-под локтей книжонки:
— А почему ничего не сдаешь? Задолженности у тебя нет?
— Нет, задолженности у меня нет, — с достоинством ответил я.
Библиотекарша стала рыться в читательских формулярах, но, конечно, моего не нашла.
— Наверное, уже места там не осталось. Заполнено все, — подсказал я. — Его и выбросили.
— Ты думаешь? — библиотекарша еще раз пристально поглядела на меня. — У нас ничего не выбрасывают.
Я понял, что она уже обо всем догадалась. Что я ни разу за лето в библиотеке не был. И Сережка тоже, похоже, догадался.
Но они не подали виду. Библиотекарша вынесла нам из-за полок целую груду книжек:
— Поищите.
Мое лицо вытянулось, и я с сочувствием поглядел на Сережку. Но грустные Сережкины глаза при виде кипы заблестели непривычным мне азартным блеском.
Мы рылись в книгах, наверное, часа два. Никогда я не думал, что на свете существует столько растений. Баобабы и кокосы, фикусы и аспарагусы тянулись к нам со страниц ветвями и щупальцами, выпячивали толстые, словно бочонки с водой, стволы или, наоборот, не умещаясь из-за высоты на страницах, пересекали их своими тощими стволами наискосок.
Про одни только яблоки я узнал, наверное, больше, чем сам Мичурин. Но про перуанские золотые, тем не менее, не попадалось ни слова.
У меня даже спина устала от чтения. Уже кончились книжки про деревья, и теперь лезли в глаза с нарисованных грядок всякие помидоры и капустные кочаны.
И вдруг…
Перуанское золотое!
От радости я даже не огорчился, что таинственное яблоко оказалось всего-навсего обыкновенным помидором. Перуанским золотым яблоком называли в Европе помидор, когда испанцы впервые привезли его туда, открыв Америку.
Мы читали и хихикали над тем, как важные испанские гранды сажали желтые и красные помидоры посреди клумб не для еды, а для украшения. И даже воевали друг с другом из-за права посадить у себя в парке помидорный куст.
— Ваша честь, я требую перуанское золотое яблоко, или мы скрестим наши шпаги! — наступил я Сережке под столом на ногу, совсем забыв, что у него тропическая малярия.
— Даже за все сокровища, что зарыты под черным камнем, вам не видать его без моей доброй воли, — весело прошептал Сережка в ответ.
От книжки нас оторвал только тоненький звонок, извещавший о закрытии читалки на обед.
…Дома у Сережки нас встретила встревоженная тетя Лариса. В ее глазах застыли тревога и испуг. На меня она смотрела так, словно я не то похитил ее драгоценного племянника, не то нашел его, слабого и беззащитного, на улице и теперь, рискуя жизнью, доставил в безопасное место.
Но растерянность ее сразу прошла, едва Сережка потребовал у нее нарезать каждому из нас по три самых больших помидора и полить подсолнечным маслом. Что это и есть масло золотого цветка он догадался, пока мы шли из библиотеки домой. Не терял времени в своей Африке: подучил английский. По-английски, оказывается, подсолнух так и называется — «солнечный цветок».
Мы уплетали помидоры с таким аппетитом, что тетя Лариса даже фартуком два раза утиралась — не то от лука, не то от радости.
…Но на следующий день, когда я пришел к Сережке, его было не узнать. Вот она какая, тропическая малярия. Жара на улице, все ребята во дворе из шланга брызгаются, а он трясется, как в мороз, даже зубами стучит. И жалобно смотрит на меня:
— Ты… ничего не принес? Ну… письма? Нет, не принес?
Эх, я ж и забыл совсем про эти письма! Мне и так было интересно у Сереги. А он-то помнит! Ему-то важно! Там ведь как было написано: «Выполняй мои советы». А советов-то нет больше!
Ну, думаю, я тебя найду, дяденька.
— Ты, — говорю, — Серега, жди. Жди.
Целый день я во дворе торчал, сторожил. Даже к ребятам не шел, пропустить боялся. И назавтра сторожил. И на третий день. Никого!
А на четвертый все-таки увидел. Конечно, он, его фигура, его серый пиджак мелькнули под аркой. Я рванул что было сил. Но надо же такому случиться!
Только я вбежал под арку, откуда ни возьмись девчонка-карапузка игрушечный самосвал с песком за веревочку тащит. И прямо мне под ноги. В общем, песок — на асфальт, я — на песок, время безнадежно потеряно!
Когда я вылетел наконец из-под арки, пиджак незнакомца мелькал уже далеко-далеко в толпе.
— Подождите, — задыхаясь, крикнул я на бегу. — Подождите!
Прохожие удивленно смотрели на меня. «Ты ж людей посшибаешь!» — попытался ухватить меня за руку какой-то толстяк. Я вывернулся, но было уже поздно. «Пиджак» пропал, словно сквозь землю провалился.
Могу поспорить, незнакомец видел меня. Он тоже оглянулся вместе со всеми, когда я крикнул: «Подождите». Но не остановился, а лишь прибавил шагу.
Обида и досада душили меня.
— Нет, хорошие люди так не поступают. Это точно!
И когда назавтра, поднимаясь к Сережке, я увидел в их ящике письмо со знакомым почерком, то даже растерялся: говорить Сережке или не говорить? Нести или лучше выбросить? Конечно, письма у Чарва были интересные, по после такого его поведения…
«Принесу, но если что, все расскажу Сергею начистоту», — наконец решил я.
Но Сережка так обрадовался уже самому конверту в моих руках, что ничего-ничегошеньки я не рассказал.
В письме, как всегда, было всего несколько строчек:
«Только тот будет крепким, как сталь, кто сам ежедневно принимает внутрь железо. Его можно найти на дереве. Третья Парковая, дом 8».
«Белиберда какая-то, — подумал я. — Принимать железо, растет на дереве. Ботаник-самоучка! Хорошо, хоть на этот раз не в Америку посылает».
А Сережка определенно верил этому загадочному Чарву. И утверждал, что чувствует себя от его рецептов лучше, чем от порошков и микстур.
Вечером я спросил знакомых ребят во дворе, не знают ли они, где это Третья Парковая.
— А тебе зачем? — хитро прищурился Вовка Пальцев. — Яблок захотелось?
Что-то подозрительно екнуло у меня в груди. Как я забыл! Третья Парковая — это же обыкновенный дачный поселок в конце города. О каком растущем железе может здесь идти речь?
Я все больше подозревал, что кто-то морочит нам голову. Но зачем? И может быть, все это и не такие уж безобидные шуточки? Мало ли кто еще бродит по Африке, по своим бывшим колониям, мечтая вернуть их обратно. И небось сердце кровью обливается, когда видят, как советские специалисты помогают африканцам скорее построить собственные заводы, фабрики, дороги и стать независимыми и крепкими. Вот бы, мечтают, с ними чего-нибудь случилось!
Догадка молнией блеснула в моей голове:
— А может, они, чтоб вытурить Сережкиного отца, на сына напустили?! Эту самую малярию.
Я сразу вспомнил, как внимательно сверлили меня глаза незнакомца, который дал письмо. И марку покрасивее прилепил, для приманки. И я клюнул, клюнул, как дурачок.
Ведь они сами знают Сережкин адрес. А меня нарочно впутывают. Дескать, мы ни при чем, а этот все время с больным был, с него и спрашивайте.
Но я тут же отогнал последнюю мысль. Это уж гаденько с моей стороны получается. Вроде о себе забочусь.
Нет, Сережку я не брошу. Наоборот, буду его охранять. Зачем, например, они заманивают Сережку на Парковую? Может, хотят вызвать нарочно в глухое место и сделать ему плохое?
«Вовку Пальцева возьму с нами, — решил я. — Если что, пока я Сережку буду защищать, Вовка расскажет людям».
…Когда мы доехали до нужной остановки, в трамвае оставалась кроме пас всего одна пассажирка.
— Где дом номер восемь? — спросил я ее.
— Прониных? — уточнила женщина.
Мне показалось, что Сережка при ее вопросе как-то насторожился.
— Прониных или не Прониных, не знаю. Восемь, и все, — сказал я нарочно громко, чтобы в случае чего еще один человек запомнил адрес.
— Ты чего, ты чего! — замахала женщина руками. — Я не глухая. Прямо идите. Потом направо.
…Парковая восемь оказалась крошечной дачкой за зеленым штакетником. Только мы остановились у калитки, из дому, словно давно ждал, выскочил старичок, розовый и чистенький, как Айболит.
— Вы ко мне, молодые люди?
— Мы, собственно… — начал Сережка вежливо. Я в это время торопливо обшаривал глазами двор дачкн. Это было нетрудно. Посреди двора росла всего-навсего одна яблоня. Но зато какая! Высоченная и раскидистая, она возвышалась над всем двориком, словно шатер. И яблоки — на одной ветке все до одного красные, на второй — желтые, на третьей — белые.
Я глядел так, будто никогда в жизни не видел яблок. Но потом спохватился.
Все равно, какая-никакая, но яблоня. И никаким железом, насколько я соображал, здесь не пахло.
Старик тем временем гостеприимно распахивал калитку:
— Вы по письму? Да? Значит, все правильно. Вам посылка.
— Ванюша, — крикнул он, повернувшись к дому, — Ва-а-нюша…
Дверь домика отворилась, и на крыльце появился… пес. Здоровенный, как теленок, желто-пегий, с крутой лобастой головой.
— Неси, — махнул ему старик рукой.
Пес послушно ушел назад и через минуту вынес в зубах корзинку, прикрытую белой салфеткой. Осторожно поставил ее перед стариком и уселся рядом с видом исполненного долга.
— Не мне, не мне, — показал старик на нас рукой.
Ванюша снова взял корзинку и, как мне показалось, улыбнувшись белыми зубами, поставил ее перед нами. Из-под салфетки выглядывали разноцветные бока яблок.
— Нам с Ванюшей велено нарвать и передать, что мы и сделали, — заявил Айболит. — Угощайтесь.
— А… а кем велено? — запинаясь, выдавил я.
Чистенькие брови старика удивленно поползли вверх.
— Вам, наверное, это не хуже нас известно.
«Как же это насчет железа-то спросить? — лихорадочно соображал я. — Надо или спрашивать, или уходить. Вот и Ванюша что-то начал подозрительно посматривать на нас. И вообще странный какой-то пес. Уж очень умный. Может, и не пес вовсе, а зашитый в псиную шкуру шпион!»
Пора идти, но мы все мялись, мялись у калитки, и старик наконец спросил:
— Что-то осталось невыясненным?
— Да, — решился я идти напролом. — А где же железо?
Старикашка обрадовался так, словно я не человек, а только что приземлившийся у него во дворе марсианин. Он сначала приблизил ко мне свои близорукие глаза, потом отошел в сторону и стал любоваться издали.
— А вы в каком классе, молодые люди? — полюбопытствовал он. — И природоведение уже, значит, изучали?
— Изучали, — буркнул Вовка. Он, конечно, в обычной жизни немного тугодум, но если видит, что своих надо выручать, никогда не будет прятаться за чужую спину.
— Тогда ножичек перочинный попрошу, — протянул старик руку, как будто видел сквозь Вовкин карман.
Вовка смутился и молча достал ножик, с которым он, действительно, никогда не расставался.
Ловким движением старик разрезал яблоко на половинки.
— Это что такое? — ткнул он в темный налет, который начал расплываться от краев яблока.
— Да он чистый у меня был, ножик, — смутился Вовка. — Я его каждый день шкуркой чищу.
— Может быть, еще будут мнения? — повернулся Айболит к Сережке.
Я увидел, как бледные Сережкины щеки заливает румянец.
— Я… я… забыл сначала, — смутившись, произнес он.
— То-то же, — обрадовался старик и церемонно раскланялся: — Теперь нам с Ванюшей пора идти отдыхать, извините.
Нагруженные яблоками, мы вышли за калитку. Я не знал, как отнестись ко всей этой истории. Яблоки, конечно, вещь неплохая, но не за ними же мы ехали сюда.
Вовка тоже удрученно пыхтел сзади.
И только Сережка прямо-таки развеселился.
— Вы что, так ничего и не поняли?
— А чего понимать. Чудной старик, — изрек Вовка.
— Подозрительный, — добавил я.
— Да ведь он нам железо и показал! — засмеялся Сережка. — Ну, когда яблоко разрезал. Это железо выступало, как я забыл. Его очень много в яблоках. Так не видно, а если яблоко разрежешь, реакция на воздухе происходит.
— Надо же! — удивился Вовка. — А я сроду ножом не резал, так кусал.
Я тоже обрадовался, что наше странное путешествие кончилось благополучно. Но на всякий случай первое яблоко все-таки надкусил сам. Может, туда кроме железа чего-нибудь еще напихано? И сейчас начнется еще одна реакция. Внутри меня.
Но ничего не мелькало перед моим взором, и земля крепко стояла под ногами.
Сережка с Вовкой, не дожидаясь моего разрешения, тоже вовсю хрустели яблоками. Вспоминали Ванюшу, хвалили его за ум и, кажется, полностью остались довольны нашей странной поездкой.
И когда через несколько дней Сережка опять нашел в почтовом ящике письмо от Чарва, он снова принял это как само собой разумеющееся. Твепарет советовал на этот раз прогуляться в парк культуры и отдыха и померить там на силомере силу своих мускулов. И хотя у Сережки я еще особых мускулов не замечал, он с готовностью засобирался. Этот Чарв прямо гипнотизировал его своими фантазиями, и у Сережки сразу улучшалось настроение.
Он потащил нас с Вовкой в парк на следующий же день.
…Силомер располагался в холодке, под кустиком. Такое блестящее колечко на цепочке, только не круглое, а сплющенное с боков. И его надо было еще сильней сплющить, хочешь — правой, хочешь — левой рукой. И видно будет на ободочке, сколько в тебе силы.
Мы с Вовкой по очереди нажали. Ничего себе вышло, прилично.
— Ну, а ты Серега?
А Сережка мнется. Но все-таки подходит к силомеру. Честный он парень. Хотя мы-то с Вовкой только теперь сообразили, что зря первыми полезли. Сережке не выжать столько, сколько нам, здоровым. Если бы он первый жал, то не так бы стеснялся.
И тут Вовка показал, что не такой уж он тугодум:
А если двумя руками жать? Даже интереснее, а? Попробуй, Сережка.
Все-таки неплохой он парень, Вовка. Пыхтит-пыхтит, а потом что-нибудь дельное придумает.
— А правда, Серега, — подхватил я. — Или даже лучше, если мы все втроем сразу даванем. Три билета возьмем и втроем даванем. Мы все вместе, значит, и сила у нас общая.
Но только мы побежали к кассе билетов докупить, вдруг какие-то двое парней появляются. Здоровенные, наверное, уже паспорт получили.
— Ваши, — говорят, — билеты, джентльмены. — И нагло так ухмыляются. Нахально лезут. В саду как раз народу нет почти: женщины, которые с малышами гуляют, ушли, а до вечера еще далеко.
— Нам самим нужны, — насупился Вовка и зажал покрепче билеты в кулаке.
А те: «И нам тоже нужны! Какой ты, паренек, непонятливый!» — и ласково так нас в угол оттесняют, к забору. Мы поняли, что нам придется туго, попались хулиганам.
И вдруг непонятное случилось. Все так быстро произошло, что я даже не успел сообразить, что же именно. Но один из парней внезапно оказался лежащим на земле. А другой, даже не подумав прийти к нему на помощь, кинулся в сторону. Хулиганы на деле всегда трусы.
— Здо-о-рово ты его! — восхищенно ахнул Вовка. — В Африке учился?
Сережка растерянно улыбался:
— Да нет, дома, у отца. Только… я не думал, что… у меня… получится.
— Самбо! — восхитился я. Сколько раз я давал себе слово заняться самбо! Но у меня все не хватало терпения.
— Долго учился? — спросил я Сережку.
— Долго, — вздохнул он. — Я даже, честно, сам еще не знал, что, оказывается, уже научился. Мы сначала с отцом просто зарядкой занимались, вокруг дома каждый день бегали. А приемы он мне только начал показывать, и тут я заболел. Но сейчас, кажется, уже почти выздоровел! Врач тоже, наверное, согласится, завтра я его жду.
…А меня назавтра ждала… неожиданность!‥
В Сережкиной прихожей я нос к носу столкнулся с тем самым незнакомцем, который давал мне письмо и которого я так долго напрасно искал.
От неожиданности я застрял в дверях, как ледяной столб.
А из-за спины незнакомца уже высовывался Сережка.
— Познакомься, это Николай Николаевич, мой врач.
Николай Николаевич кивнул мне и так, чтобы не заметил Сережка, приложил палец к губам: молчи, мол.
Я понемногу начал размораживаться. Прищурил глаз, чтобы мигнуть, как делают заговорщики: понял, мол. Но, наверное, с непривычки у меня вышло не очень хорошо.
— Ты чего морщишься, зуб болит? — спросил Сережка.
— Да нет, — завертелся я. — У меня в сандалий камушек попал. — А сам усиленно соображал: «Если Николай Николаевич врач, при чем же здесь письма? И почему он их подписывал так странно? А может, он и не писал и не подписывал ничего? Его просто один раз попросили передать, как и он меня?»
Николай Николаевич между тем говорил:
— Ты мне понравился сегодня, Сережа. Определенно понравился. Вот тебе рецепт. Пей лекарство аккуратно, и скоро можно будет обрадовать твоего отца.
И еще зачем-то положил на столик рядом с рецептом зеркальце.
Я заглянул в рецепт: обыкновенный, врачебный. Ничего похожего на то, что писал Сергею Чарв!
— Я сбегаю в аптеку, — сказал я. — Сереже еще вредно по солнцу.
На самом деле я решил во что бы то ни стало остаться с этим Николаем Николаевичем наедине.
…Мы спускались по лестнице, и, кажется, оба ждали, кто заговорит первым. Мы как будто испытывали друг друга.
И вдруг, улыбнувшись, Николай Николаевич протянул мне руку и сказал:
— А тебе — спасибо! Ты мне здорово помог! Витаминов в Сережке теперь предостаточно. Не зря я заставил его есть помидоры и яблоки. А самое главное — с твоей помощью я сумел растормошить его, пробудить в нем любопытство и интерес к жизни. А это самое лучшее лекарство.
И засмеявшись, тоже сунул мне в ладонь маленькое зеркальце и пошел своей быстрой походкой прочь.
Сережка уже ждал меня у раскрытой двери. На столе, конечно, лежали его любимые письма!
— Ты догадался? — спросил он. — Гляди, — Сережка приставил зеркало к последней букве в слове «Твепарет». Читай.
— «Врач терапевт», — прочел я. — Врач терапевт. Вот это да!
Так значит, Николай Николаевич специально придумал таинственную игру с письмами, чтобы Сережке было интересно. Потому и от меня убежал, когда я его хотел догнать.
Так вот почему насторожился Сережка, услыхав на даче фамилию «Пронины». Ведь такая же фамилия у Николая Николаевича, я это увидел на рецепте. И вот почему Николай Николаевич показался мне на кого-то похожим. На того старика с яблоками. Это же его отец!
Я поглядел на Сережку, Сережка на меня.
И вдруг мы оба захохотали! Так, что у самой страшной африканской маски затряслась ее козлиная борода, а из кухни прибежала встревоженная тетя Лариса.
— А я-то сначала всерьез поверил, что ты что-то знаешь, что вы с этим Чарвом заодно, — захлебывался Сережка, валясь на диван.
— А я-то… гонялся за… за… шпионом!‥
— А я — думал…
— А я старался…
— А ты меня научишь самбо?‥
— А пойдем в футбол?‥
— Пойдем, Серега! Пойдем прямо сейчас.
Я давно не играл в футбол, а мне надо быть тренированным: вдруг нынче летом я еще сумею совершить поступок!
Нечаянное путешествие
Майских праздников я ждал в этом году, как никогда. Во-первых, получалось сразу четыре выходных дня. А во-вторых, и это самое главное, мы давно уже наметили поехать на велосипедах за целых двадцать километров на озеро и с ночевкой — ведь я был уже в шестом классе.
Мы — это Борис, Мишка Жук, я — все из нашего шестого «Б» — и Вовка Добриков — «ашник». Просилась еще Маринка Кондрашова: такая, хоть и девчонка, все пронюхает. Вообще-то она могла бы. Не только на велике гоняет не хуже нашего, но и мяч запулит, не догонишь. Но еще в самом начале сборов мы дали друг другу слово: только без девчонок.
Самым трудным, конечно, было получить разрешение на поход у домашних. Они, когда воспитывают, всегда первые: надо закаляться, привыкать к трудностям. А чуть что на деле, сразу на попятную: боятся, как бы с нами чего не случилось.
Я ползимы, наверное, маму уговаривал. Папа меня лучше понимал. Но у него привычка, он всегда говорит: «Спроси, как мама». Он не хочет ее расстраивать.
Но все-таки, по-моему, он на маму повлиял. Она ничего не сказала, когда я принес из кладовой в свою комнату рюкзак и начал постепенно его наполнять. Я нарочно это делал не торопясь, чтобы растянуть удовольствие.
На самое дно я положил складную удочку и картонку с запасными крючками. Отмотал потихоньку метров двадцать корда. Он тонкий, но крепкий, мама натягивает его в ванной вместо бельевых веревок. В походе пригодится — хоть палатку привязать, хоть на кукан для рыбы.
Правда, самой крупной рыбой, которую мне доводилось ловить, были пескари у бабушки в деревне. Но рыбацкое счастье переменчиво.
Я уложил в рюкзак волейбольную камеру в новенькой покрышке, котелок и три деревянные ложки, какие нашлись у нас в доме. Подумав, я положил сверху, так, чтобы мама заметила, две пары запасных носков и катушку ниток с аккуратно примотанной иголкой.
А однажды, придя из школы, я увидел рядом с рюкзаком целую гору продуктов. Пачки с галетами, тюбики какао, сгущенку. Поверх всего лежала банка, одна этикетка которой сказала мне больше всяких слов — «Завтрак туриста».
Мама! Конечно, она! Я понял, что теперь ничто уже не может помешать нашему походу.
Я даже не помнил, как кончалась четверть, хотя учителя испокон века называли ее самой ответственной и требовали приложить максимум усилий. Не помнил, как мы писали четвертные контрольные. К счастью, они все оказались легкими. И мы с Борисом и Вовкой, кажется, радовались больше не за себя, а за Мишку. У Мишки, после меня, было самое трудное положение с походом. Ему дома поставили условие: пойдешь, если исправишь тройки.
Ближе и ближе подходил заветный день. Погода стояла словно на заказ. Мы даже начали немного волноваться. Не может ведь так продолжаться бесконечно. С опаской каждый день заглядывали в сводку. Но она оставалась такой же безоблачной, как и небо. Солнце каталось по нему, словно золотое велосипедное колесо.
И вдруг все это рухнуло! Нет, не погода, не небо, не солнце. Не сам поход. Он остался. Для всех. Кроме меня.
Когда я узнал об этом, я не поверил. И ребята не поверили.
— Неостроумно, — сказал Мишка.
— Заливаешь ты, — сказал Вовка. А потом, поняв, что я говорю правду, сузил свои пронзительные глаза. — А ты знаешь, как это называется? Подвести в последнюю минуту!
Но мне уже было все равно. В голове у меня неотступно стоял утренний разговор с мамой.
Накануне вечером она пришла домой поздно. Ездила к своей знакомой, тете Симе. Я даже не слышал, как она вернулась, уснул.
А утром но заплаканному маминому лицу я понял: что-то случилось.
— Тетю Симу положили в больницу, — сказал отец.
В гостиной на диване спала под маминым пуховым шарфом тети Симина дочка, Наташка.
— Посмотри, как хорошо спит, — поманил меня отец.
Я поглядел. Ничего, по-моему, особенного. Обыкновенно спит. Как все.
Я вообще, хотя мы давно с тетей Симой знакомы, никогда к этой Наташке не приглядывался. Какие у меня могут быть с ней разговоры, с шестилетней? Это девчонки только любят с такими недорослями сюсюкать, и то, по-моему, для показухи. Я даже удивился на отца. Он так целое утро и проходил на цыпочках. Все палец к губам прикладывал: не разбуди, мол.
Отец уходил к себе на работу раньше меня. У меня еще оставалось минут пятнадцать в запасе, и я решил перебрать рюкзак. Но тут мама позвала меня:
— Юрик. Я должна тебе что-то сказать.
И уже по голосу ее я почувствовал себя тревожно. Мне спокойнее, если даже мама сердито позовет меня «Юрий». Тут знаешь, будет головомойка, и догадываешься — за что. А вот «Юрик» — это серьезней. Это значит, дело не только во мне. Мама будет внимательно смотреть в глаза, как будто решая: могу ли я действительно быть взрослым человеком, понимать и разделять семейные заботы или ничего стоящего доверить мне нельзя.
Вот и сейчас мама посмотрела на меня таким испытующим взглядом.
— Юра, тебе придется отвезти Наташу в Горенки. Я обещала тете Симе.
Она сказала это так коротко, так просто, без просьб, уговоров, объяснений, что я сразу понял: значит, все так и будет. Я не поеду с ребятами, не привезу из лесу ворох прохладных от росы ландышей и не раздам их небрежно во дворе. Не поймаю в пруду заспанного после зимы карася. Не протяну озябших рук к костру, который мы разожжем после рыбалки.
Мама еще что-то говорила, но я слышал как сквозь туман. Она говорила, что Горенки — это тоже неблизкая поездка, и я еще никогда не ездил так далеко один.
Ничего себе один, нянькой у девчонки!
— Наташа могла бы пожить и у нас, — вздохнула мама, — но у меня через день ночные дежурства, папа поздно возвращается с работы, придется отвезти.
Все уроки в классе я просидел как каменный. Учителя даже спрашивали, не заболел ли я. Все ребята радовались, что сегодня последний учебный день, строили разные планы, а мне и домой идти не хотелось. Я нарочно пошел кружным путем. В животе было пусто, под ложечкой сосало, но я травил себя:
— Пусть, пусть. Им там есть кого угощать.
— А мы уже волнуемся! — встретила меня мама. — Где ты так задержался?
— Волнуемся, — повторила за мамой, словно попугай, Наташка. Настоящий попугай, и косицы с бантами, как попугаев хвост.
— Собраться не успеем, — суетилась мама.
— Мне недолго! — Я рванул рюкзак, и из него, жалобно звякнув, покатилась жестянка с туристским завтраком.
— А может быть, вот эту возьмешь? — как-то неуверенно протянула мне мама большую хозяйственную сумку. Зато совсем по-хозяйски из-за маминой спины опять высунулась Наташка:
— В мешке пироги помнутся.
Я чуть не поперхнулся от такого нахальства.
Из сумки горой торчали свертки, кульки и кулечки, перевязанные ленточками. Над всем возвышались бутылка с молоком и лупоглазая кукла.
Поглядели бы на меня с этой сумкой ребята! Впрочем, и это уже было мне безразлично.
— Если хочешь, я не поеду далеко провожать, — опять, словно виноватая, сказала мама. Она знала, я просил, когда ехал с ребятами в пионерлагерь или еще куда, не провожать. Маменькиных сынков всегда ждали насмешки.
А сейчас я равнодушно пожал плечами:
— Какая разница.
Так же спокойно и безразлично я слушал многочисленные наставления мамы в вагоне.
Зато сразу наставила уши наша соседка по купе, остроносая старуха. Она даже кивала с удовольствием на мамины слова, словно все напутствия относились именно к ней. Я с тоской проводил глазами прошедших в соседнее купе троих военных. Кому-то везет! А я должен томиться со старухой и девчонкой.
Усатый проводник объяснил маме, что четвертое место у нас свободное, только что сдали билет. Потом он долго успокаивал маму, чтобы она не волновалась за детей, все будет в порядке.
Я был рад, когда поезд наконец тронулся. Мама махала с перрона платком, и Наташка махала в ответ, вытирая глаза кулаком. Но едва только мама скрылась из виду, заявила:
— Я кушать хочу. Покорми меня, пожалуйста.
Начинается!
А старуха уже тут как тут, снова навострилась.
Я сунул руку в сумку и торопливо вытащил первый попавшийся сверток. Это был сыр.
— На, ешь, — сунул я его Наташке.
— А хлеб? — потребовала она.
Я стал шарить по сумке, отыскивая хлеб, и с размаху натолкнулся на что-то больно-колючее.
— Это мой ежик игрушечный, — объяснила Наташка, спокойно глядя, как я трясу рукой.
Потом мои пальцы наткнулись в сумке на что-то противно-скользкое, и я опять инстинктивно отдернул руку, чуть не задев при этом вытянутый от любопытства нос старухи. Мне захотелось провалиться под пол вагона. Я перерыл полсумки, прежде чем отыскал нужный сверток.
— А знаешь, Юра, — вдруг спокойно заявила Наташка, — я вообще-то совсем не люблю с хлебом. Просто мама всегда заставляет. А ты… заставляешь?
— Как хочешь, — буркнул я и вышел в коридор.
Я слышал, как старуха за моей спиной начала шуршать бумагой.
— И-то поесть, — запела она, обращаясь не то к Наташке, не то к самой себе. — В дороге скус приходит.
Я вспомнил, что сам почти ничего еще не ел за сегодняшний день. Военные в своем купе тоже сидели вокруг столика и закусывали.
Нестерпимо защекотало во рту, но я не мог себя заставить вернуться в купе и приняться за еду, пока там домовито хлопотала старуха. Вот, скажет, бедную девочку кое-как накормил, а сам…
Я снова скосил глаза в купе. Наташка сидела на полке старухи, с аппетитом уплетала котлету.
— У нас свои есть, зачем ты! — сердито шагнул я к ней.
— У нас есть, — послушно повторила Наташка и положила котлету на столик.
Я не знал, что дальше говорить или делать. Надкушенная котлета сиротливо лежала на бумажке.
Вдруг старуха без всякой обиды спросила:
— А соленого огурчика у вас случаем нету? Я страсть люблю, а тут забыла. Дырявая голова.
Я вспомнил холодное и мягкое в сумке, и мне стало смешно и весело.
— Конечно, есть! — заторопился я. — Вот еще пирог, если хотите.
Старуха с удовольствием взяла кусок пирога, отщипнула крошечку темными пальцами, поднесла к сморщенному носу.
— Чем нюхается? — поинтересовалась Наташка.
— Пшеничкой, — помедлив, нараспев ответила старуха.
Я фыркнул, с удовольствием набивая рот котлетой и пирогом.
Заглянул в купе военный — сосед.
— А, мамаша с внучатами. Приятного аппетита. А я думал прикурить попросить, спички вышли.
По погонам я разглядел, что военный — артиллерийский капитан. Мне не хотелось, чтобы он сразу ушел от нас.
— Я поищу спички, — сделал я вид, будто усиленно роюсь в сумке. — А может, хотите пирог?
— Пирог? Это соблазнительно! — высокие брови капитана надломились, словно он силился что-то вспомнить и никак не мог. Он осторожно присел на полку. — Пирогами мы давно не баловались.
— А баловаться не надо! — неожиданно наставительно сказала Наташка. — Пирогами не балуются.
Я сердито поглядел на нее. Выскочка несчастная.
Но капитан ласково погладил ее по голове:
— Правильно говоришь. Хорошая, мамаша, у вас внучка, умница.
— А как же не умница! — с достоинством ответила старуха, словно Наташка и вправду была ее внучкой. — Конечно, умница.
«Хитрая бабка», — подумал я ревниво.
Наташка между тем преспокойно вскарабкалась на колени к капитану. Потрогала пальцем золотые скрещенные пушечки на погонах.
— Это винтовка? А ей можно винтики завинтовать?
«Ну, умница! Во всей красе!»
Чтобы хоть немного исправить положение, я торопливо стал допытываться у капитана, какого калибра у них орудия, могут ли они с ходу открыть беглый огонь.
Но капитан ответил мне скороговоркой и опять повернулся к Наташке. Ему определенно правилась ее болтовня. То она увидела в окно черную кошку, которую назвала «негритянской». То рассказывала про цирк, где собаки ходили на задних лапках, а люди — на передних.
Уже не одни капитан, а оба его спутника — лейтенанты, выйдя из купе, покатывались со смеху над этими рассказами и наперебой хвалили мне мою «сестру». И как я ни старался перевести разговор на серьезную тему, ничего не получалось.
Вечером капитан сам постелил Наташке постель, уложил ее и подоткнул одеяло.
— Жизня мха колесная, — вздохнула старуха вслед капитану. — Неукатанная жизня. Потому и весело им погреться вокруг радостного дитя. Старуха и Наташка давно спали, а я все лежал с открытыми глазами на своей верхней полке. Я чуть-чуть опустил раму, и сквозь узкую щель в лицо ударил тугой встречный ветер. Он пах не так, как наш городской. Тот пахнет заводскими трубами или сухой известкой, когда мечется среди вразброс стоящих домов. А этот — чем-то незнакомым, но неуловимо приятным. Может быть, майской землей. Или пшеницей, про которую говорила старуха. Или полем, в которое выйдут сегодня ночью капитан со спутниками, где ждут их тяжелые орудия, а может быть, и настоящие ракеты, готовые в любую минуту защитить нашу землю от врага. Нет, я не обижался на капитана, который, занимаясь Наташкой, нарочно не говорил о своей службе. Я понимал, это военная тайна.
Как заснул, я не помнил. А проснулся рано, оттого что мне было неудобно лежать. Что-то давило в щеку. Я сунул руку под подушку, и у меня перехватило дыхание. Это был ремень. Настоящий командирский ремень почти в ладонь шириной, приятно пахнущий новой кожей. Капитан, кто же еще!
Старуха и Наташка еще спали. Я торопливо оделся и выскочил в коридор. Мне не терпелось, чтобы чудесную обновку увидели на мне.
Поезд медленно тормозил у какой-то станции.
— Пойду погуляю по перрону, — решил я. — Правда, мама не велела нам выходить из вагона, но никто даже не узнает.
Из вагонов выскакивали люди и бежали к длинному прилавку вдалеке. Потом поскорее возвращались в вагон. Я подошел к прилавку не торопясь. Там торговали редиской и мочеными яблоками. Купил три яблока в газетном кулечке и продолжал неторопливо гулять вдоль вагонов.
Мне, честно говоря, уже начинала нравиться такая жизнь. Я тоже смогу кое-что рассказать, вернувшись, Мишке и Вовке.
Какая-то чужая проводница сердито приказала мне кончать гулять и подняться в вагон. Но я снисходительно показал ей на станционные часы и спокойно пошел к будке телефона-автомата, как будто мне обязательно было нужно кому-то позвонить.
Я вошел в вагон за секунду до отправления. Не раньше и не позже. Никто не мог бы упрекнуть меня в нарушении правил. Я не прыгал на ходу и не вис на подножке.
Я еще постоял минут десять в тамбуре, где курили и беседовали несколько мужчин. Один из них несколько раз заинтересованно смотрел на мой ремень. А меня так и распирало от гордости.
Когда я вернулся к себе, дверь в купе была прикрыта. Значит, Наташка и старуха еще спали. Я нажал ручку. Наташки в купе не было… Не было и старухи… Неприятное чувство кольнуло меня. Но я успокоил себя:
— Наверное, умыться пошли. Или в коридоре у окна стоят, а я не заметил.
Но в коридоре их не было. Проводив глазами станцию, люди постепенно разошлись по своим местам, и коридор был уже совсем пустой.
Я заглянул в купе капитана. Но, конечно, там тоже давно сидели новые пассажиры и с удивлением смотрели на меня. Я заметался по вагону.
— Нашли время в прятки играть!
Вернулся в купе, нарочно плотно уселся на полку.
— Надоест, и вылезут. Думают, я тут их ищу. А я вот буду себе спокойненько читать книжечку.
Но буквы прыгали перед глазами.
А может, они отстали? Из-за меня! Наташка проснулась, испугалась, что меня нет, они пошли искать. И отстали.
Где-то сейчас на незнакомой станции стоят маленькая Наташка и старуха, без еды, без денег… А поезд летел все дальше и дальше. Словно нарочно он набирал и набирал скорость, хотя до этого всю дорогу тащился, как черепаха.
Я еще раз обвел глазами купе. Нет, спрятаться они никак не могли. Негде.
И вдруг я увидел, что на полке нет ни Наташкиной маленькой корзиночки с разными ее ленточками-бантиками, ни клеенчатой старухиной сумки! Страшная догадка озарила меня.
Они вовсе не отстали! Остались специально! Хитрая старуха разведала у Наташки, что я ей не брат, а просто сын маминой знакомой и… Недаром ома говорила: «Вот бы мне такую внученьку!»
Усатый проводник заглянул в купе:
— Чай будешь?
Я чувствовал, как мои коленки противно дрожат. Странно, я почему-то совсем не думал в эту минуту о себе. С том, будут или не будут меня ругать дома. Я представлял, как старуха воровато и торопливо тащит Наташку по перрону, норовя поскорее скрыться. А Наташка, глупенькая, ничего не понимает, всему верит. Почему я не заставил ее запомнить хотя бы наш домашний адрес? Ведь если она и знает свой, у них дома сейчас никого нет.
«А чему ты вообще ее научил, о чем расспросил? — вмешался в мои мысли чужой противный голос. — С ней разговаривали по дороге чужая старуха, капитан, но только не ты…»
Проводник снова открыл мою дверь.
— Через две станции — ваша, — зашуршал он билетами.
Поглядел на пустую полку старухи:
— Где соседка?
Колючие усы проводника сердито зашевелились:
— Выходить скоро, а они разгуливают. Никакого порядка! — Он протянул мне билеты и двинулся к выходу.
— Дяденька! Товарищ проводник… — я кинулся ему вслед и, путаясь, залепетал: — Я, они…
— Защемило? — буркнул проводник. Он сосредоточенно начал что-то рассматривать в дверной защелке.
— Чего там защемило! — закричал я. — У меня, у меня… сестренка пропала.
Проводник не то слышал, не то не слышал меня. Потянул к себе кулек с мочеными яблоками.
— Это ты им, что ли, купил? Ядреные! Я б тоже взял, да ведь мы при обязанностях, не отлучись. Вагон заправь на остановке, вас посади-высади как следует.
«Как следует, как следует. А Наташку — увели!» — Мне стало немного полегче, как будто это не я один виноват в случившемся.
Но проводник, словно угадав мои мысли, укоризненно покачал головой.
— Нет, парень, у нас-то все как следует.
Потом положил мне на плечо тяжелую ладонь:
— Ну, ладно. Утрись. Все слезы сразу не выливай, пригодятся.
Он повел меня в свое купе. Постоял минуту в раздумье перед большим серым ящиком, утыканным рычажками и кнопками. Наверное, хотел объявить по радио. Потом повернулся:
— Нет, лучше идем.
Мы вышли в тамбур, перешли в соседний вагон.
«К бригадиру или начальнику поезда ведет, — догадался я. — Самому неохота связываться».
В соседнем вагоне проводник в самом деле постучал в купе с надписью: «Служебное».
— Можно к вам, барышни? Убрались?
— Можно, можно, — раздалось из-за двери.
…Посреди купе стояла Наташка, живая и невредимая! Кудрявая девушка-проводница вплетала в ее косу отглаженную ленту. За столиком сидела знакомая старуха и развязывала балку варенья.
— В самый раз поспели, чаек настоялся, — сказала она.
Я не знал, смеяться мне или сердиться.
— Садись, — подтолкнул меня в спину проводник. — Что было, то прошло. И на ус намоталось. Защемило у тебя, я видел, — он показал рукой себе на грудь, — значит, хорошо. А сейчас с праздничком всех вас, с Первомаем. Попьем чайку, а там молодежи нашей и выходить.
— Я проснулась, испугалась, тебя нет, — щебетала Наташка. — Мы тебя ждали, ждали, — голосишко ее дрогнул. — Я плакала. И бабушка тоже.
…Когда через две остановки мы сошли с поезда, я сразу взял Наташку за руку. Не хватало снова потеряться! Но Наташка сама жалась ко мне. Мы были, как два землепроходца, встретившиеся после долгой разлуки.
Со станции в Горенки нам нужно было добираться автобусом. Едва отъехали от железной дороги, как сразу попали в настоящее озерное царство. Со всех сторон блестели большие и маленькие озера, пруды, ерики.
Это, как говорили в автобусе, уходила после разлива речка и оставляла следы.
Наташка никогда ничего подобного не видела. Вопросы так и сыпались из нее один за другим. Мне даже стало интересно отвечать, она оказалась сообразительной.
Вдруг автобус остановился. Что-то случилось впереди.
— Похоже, дамбу размыло, — заговорили пассажиры.
Но через минуту к автобусу подошел старик с длинным шестом в руках.
— Не размыло, я мы сами ее немножко потревожили. Малька надо спустить. Уходит вода, погибнет малек. Солнышко нынче слишком работящее, не глядит, что праздник. — Руки у старика были красные-красные, как клешни у вареного рака. Наверное, долго возился в холодной воде.
— Кто, граждане хорошие, может помочь, милости просим, — сказал старик. — Мы — команда пенсионная, маленько своих сил не подрассчитали.
Трое или четверо мужчин поднялось за ним. Остальные в автобусе были женщины с детьми, старухи.
— Все, что ли? — выглянул из кабины в автобус шофер. — Маломощные остались? Ну, сидите, не озоруйте. Я тоже спущусь, подсоблю малость. Может, рыба вырастет, говорить научится и нам спасибо скажет. — Он засмеялся, а я подумал, что, ловя рыбу в пруду, мы с ребятами никогда не думали, что кто-то весной, может быть, заботился о ней.
— Подождите, — крикнул я. — Я — тоже…
Шофер с сомнением поглядел на меня:
— В полуботиночках? Сиди!
Мне показалось, сейчас все женщины в автобусе засмеются надо мной, и Наташка вместе с ними. Я упрямо рванулся к двери.
— Погоди, не злись, — шофер снова залез в кабину и вытащил из-под сиденья пару резиновых сапог.
Наверное, целый час мы загоняли мальков. Старик, как командир, расставил нас всех полукругом и велел кричать, шуметь и хлопать ладонями по воде. А потом, постепенно сжимая полукруг, гнать мальков к узкой горловине ерика.
Наконец старик довольно произнес:
— Ну, шабаш. Нам праздник, и рыбе тоже.
— Мне одному только начальство голову намылит, — покачал головой шофер. — За опоздание.
— А мы на что, общество? — выставил подбородок старик. — Нас голосу никто не лишал, выскажемся твоему начальству. Разобъясним как положено. Правильно я говорю?
— Правильно, — зашумели в автобусе.
Наташка терпеливо ждала, не сходя с места. Наверное, помнила про поезд.
— Не устала?
— Нет, нет, — торопливо замотала она головой, — а ты?
— Пустяки, — сказал я с видом человека, вернувшегося с приятной прогулки. Тело слегка ломило, но на душе было хорошо.
Мы доели дружно последние мамины запасы, и вдруг я понял, что скоро уже не будет со мной не только надоевшей сумки, но и самой Наташки. Не за кого мне будет беспокоиться, не за кого отвечать, я буду совсем-совсем вольный казак…
Но вместо того, чтобы представить прелести этой свободной жизни, я почему-то начал расспрашивать Наташку.
— А кто они тебе, ну, те, к кому мы едем? Родственники?
— Нет, — покачала Наташка уныло головой. — Но мама сказала, они могут приглядеть за мной.
— А ты их видала когда-нибудь?
— Нет, но мама сказала, что я привыкну.
Я хотел спросить, хочет ли она к ним, но посмотрел на Наташкино лицо и не спросил.
…Пока я искал нужный дом по адресу, который был у меня на бумажке, мы оба молчали. Я долго стучал в маленькую калитку, прорезанную в высоком деревянном заборе, утыканном гвоздями, но никто не выходил.
Мы ушли и долго бродили по улицам. Они показались мне скучными и пыльными, такими же неприветливыми, как забор с гвоздями.
Потом мы опять подошли к нужному нам дому.
— Теперь уж, наверное, они пришли, — говорил я бодро, по на самом деле мне почему-то вовсе не хотелось, чтобы «они» так быстро пришли.
Напряженно я ждал шагов за калиткой, но снова на наш стук никто не вышел.
— Да их нету никого, — наконец показалась из соседнего дома женщина. — Они вторую неделю как в отпуск уехали. А вы издалека? И не знали? — она жалостливо смотрела на нас.
Значит, все зря! Зря я не поехал с ребятами. Зря трясся на поезде, потом на автобусе. Плутал по этому чужому поселку.
Но странное дело, несмотря на все это, я совершенно не чувствовал досады. Я смотрел на закрытую калитку, и мне становилось все веселей и веселей.
Я не знал, сколько живет их в этом доме, знакомых, которые «могут присмотреть» за одним маленьким, попавшим в беду человеком. Но разве наша семья — это только мама, которая через день дежурит? И только папа, который поздно приходит с работы? А я? «Разве мы — не общество? — вспомнил я слова старика-рыбака. — Разве нас кто лишал голоса?»
Я еще не знал, как я скажу дома все, что мне хотелось сейчас сказать.
Но я знал, что больше никогда не повезу по этой дороге Наташку, чтобы оставить ее здесь одну. И мама не повезет. И папа. Это я знал наверняка.






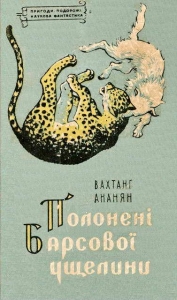

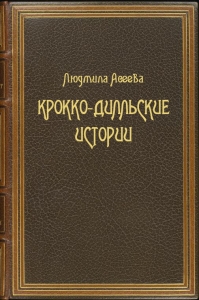




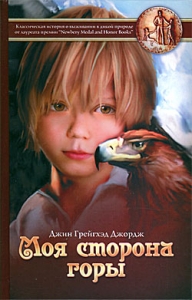
Комментарии к книге «13 историй из жизни Конькова (Рассказы)», Татьяна Леонидовна Мельникова
Всего 0 комментариев