Вениамин Александрович Каверин Сильвант
Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев.
Ю. Олеша[битая ссылка] ebooks@prospekt.org
Авиашуба
Говорят: «Не всякому слуху верь» – и это действительно был слух, которому почти никто не поверил. Да и в самом деле, могло ли быть, чтобы дежурный пожарный, под утро задремавший на своей каланче, вдруг проснулся, потому что над каланчой пролетела шуба? Более того: он утверждал, что шуба проделала иммельман – так называется одна из фигур высшего пилотажа, и тогда из нее выпал не то медвежонок, не то козленок, который бухнулся в сугроб, отряхнулся и опрометью побежал по Нескорой.
Надо сказать, что в Немухине привыкли к чудесам. Ну шуба. Ну пролетела, хотя шубам, вообще говоря, летать не положено. Ну вывалился из нее медвежонок – куда в таком случае он девался? Просто пожарный задремал к утру, а так как он лет сорок тому назад был летчиком, вот ему и померещился иммельман, потому что, если на худой конец шуба и пролетела над каланчой, едва ли ей удалось бы сделать иммельман, а потом принять нормальное положение.
Так или иначе, уже через два-три дня об этой истории забыли, тем более что у Марьи Павловны Заботкиной, директора Института красоты, – подумать только! – через четырнадцать лет после дочки Тани родился мальчик, которого назвали Славой. Разумеется, и в этом не было ничего особенного. Но Заботкиных любили. Вот почему едва ли не в каждом доме был поставлен на обсуждение интересный вопрос: как они вчетвером будут жить в двухкомнатной квартире? Конечно, другой архитектор на месте Николая Андреевича давно бы словчил, построив себе загородный дом или прибрав к рукам какой-нибудь жилищный кооператив побогаче. Но, во-первых, он был один из благороднейших людей не только в Немухине, но и в области, а во-вторых, одна из квартир только и ждала, чтобы ее обменяли.
Впрочем, это была даже не квартира, а целый особняк, с множеством пристроек, в котором некогда жил не то архиерей, не то сам губернатор. Теперь его занимали сестры Фетяска – фамилия, заставлявшая предполагать, что они были родом из Румынии. Фекла Никитишна хозяйничала, а Зоя Никитишна с утра до вечера раскладывала пасьянсы. Обе были страстные любительницы кофе, но не какого-нибудь, а настоящего турецкого, который варился в сужающихся кверху медных кастрюльках с длинными ручками и над которым, прежде чем снять его с огня, надо было произнести мусульманское заклинание.
Вот на какой дом собирались Заботкины менять свою уютную двухкомнатную квартиру. И это было сделано буквально в течение двух дней: Николай Андреевич получил нечто вроде пятиугольного салона, который он немедленно превратил в архитектурную мастерскую. Тане досталась так называемая гардеробная – в ней причудливо смешивались запахи нафталина и кофе. Зала с итальянскими окнами, выходившая на речку Немухинку, была отведена под столовую, а большая комната, напоминавшая фонарь, превратилась в детскую. По-видимому, она и была задумана как фонарь с разноцветными стеклами, так что в солнечный день казалось, что плывущие в воздухе желтый, сиреневый, красный и синий цвета бесшумно ссорятся между собой: каждому хотелось освещать колыбельку. Словом, все были довольны, и в особенности Мария Павловна, которая каким-то чудом существовала во всех четырех комнатах одновременно.
Что касается чердака… Почти до самой крыши он был набит разным хламом, от которого сестры Фетяска рады были отделаться, и отделались, упросив мягкосердечных Заботкиных распорядиться им по-своему: «предать огню», как они старомодно выразились, или продать какому-то татарину-старьевщику, который давно скончался и существовал только в их воображении.
Маленькие загадки
Встречаются в жизни маленькие загадки, на которые решительно не стоит обращать внимания. Тане показалось, что кто-то ночью погладил ее по лбу мягкой лапкой. Так что же? Это могло померещиться ей или просто присниться.
Кто-то выпил молоко, которое Мария Павловна налила в блюдечко для Тюпы – так звали розового, интеллигентного заботкинского кота, который не стал бы врать и жаловаться, если бы это было не так. А он, между прочим, жаловался – по крайней мере именно так можно было понять его обиженное мурлыканье. Причем это случилось не раз и не два.
Однажды под утро, когда Славик громким чмоканьем – он сосал свою пятку – разбудил Марию Павловну, она ясно услышала мягкие, негромкие звуки флейты, именно флейты, а не скрипки, что могло случиться, если бы Тане, любившей поспать, захотелось в шесть утра приняться за свою скрипку.
Это было странно, но у Марии Павловны просто не было времени удивляться. Надо было кормить Славика – собственная пятка, конечно, не могла заменить ему завтрак! Ну, флейта так флейта! Хорошо еще, хоть не барабан или контрабас!
Но когда на одном из чертежей Николая Андреевича появился загадочный рисунок, напоминавший добродушную собаку, вставшую на задние лапы, Заботкины задумались, хотя нисколько не разволновались. Мария Павловна припомнила, что кто-то воспользовался не только Тюпиным молоком – неоднократно пропадали остатки хлеба, которые она откладывала, чтобы насушить из них сухарей. Любимую соску Славика, потерянную в садике возле дома, кто-то нашел и положил в стакан с кипяченой водой, стоявший на столике подле его кроватки.
Конечно, никто не относился к этим случайностям серьезно. Николай Андреевич шутил, что, очевидно, у них поселился домовой и что этому надо только радоваться, потому что, согласно народным поверьям, этот невидимый жилец не только не причиняет зла людям, но старается предостеречь их от грядущих несчастий. А все же, все же…
Очевидное – невероятное
Причудливое явление, призрак, в старину называлось фантомом. Может быть, и в самом деле такой призрак поселился где-нибудь на чердаке в квартире Заботкиных? Причем, без сомнения, это был незлобивый, нетребовательный призрак, игравший по ночам на флейте и делившийся молоком с Тюпой.
– А интересно узнать, замечали ли эти странности сестры Фетяска? – сказала однажды Мария Павловна, когда за обедом обсуждался вопрос о домовых, леших, русалках и прочей нечистой силе.
И на другой день она решила навестить сестер Фетяска.
– Нет, – решительно заявили они, убедительно прибавив, что и не могли ничего заметить, потому что не держат кота, не сушат сухарей и не занимаются архитектурным черчением.
Словом, вопрос, что называется, остался открытым, если бы им не заинтересовался Петька Воробьев, старинный приятель Тани.
Уже давно никто его не называл Воробьем с сердцем Льва и теперь ему не надо было бросаться в Немухинку с трехметровой вышки, чтобы доказать свою храбрость.
Учитель географии Петр Степанович Неломахин, который, кстати, был Международным гроссмейстером по спасанию людей, птиц, зверей и полезных насекомых, считал его одним из самых способных учеников. Они оба не пропускали ни одной передачи «Очевидное-невероятное», и разница между ними заключалась в том, что все невероятное казалось Петьке очевидным, а Петру Степановичу – наоборот.
Эта существенная разница сказалась, между прочим, и в том, как они отнеслись к странностям в доме Заботкиных.
Петр Степанович думал, что все случившееся на деле не случилось, а померещилось не только Марии Павловне и Тане, но и коту Тюпе.
– Давно доказано, – сказал он, – что лешие, кикиморы, русалки и домовые не что иное, как плод народного воображения.
Петька не стал спорить. Однако к вечеру явился к Заботкиным в более чем странном наряде. Брюки с рубашкой и майка с трусиками были на нем вывернуты наизнанку, правая туфля надета на левую ногу, левая – на правую, а кепка торчала на затылке козырьком не вперед, а назад.
Увидев его, Таня покатилась со смеху, но он сделал большие глаза и приложил палец к губам.
– Читала «Демон» Лермонтова? – шепотом спросил он. – Нудная штука, но я одолел. Автор тоже, между прочим, считал невероятное очевидным. А у писателя – забыл фамилию – я прочел, что для того, чтобы увидеть какую-нибудь кикимору, надо ее удивить. Например, одеться шиворот-навыворот и сказать что-нибудь вроде: «Пречистые замки ключами не заперты, ладаном не запечатаны ныне и присно и во веки веков». Короче говоря, айда на чердак!
– Почему на чердак?
– А где, по-твоему, должны жить привидения?
На чердаке не было электричества, и Таня зажгла карманный фонарик.
– Погасить! – строго сказал Петька. – С логической точки зрения – это дело темное, а темные дела должны происходить в темноте.
Впрочем, ночь была лунная, и на чердаке не очень темно, свет украдкой проникал в невидимые щели. Плохо было, что Таня давилась от смеха, а между тем в ожидании чуда – как же иначе называть то, что должно было случиться, – нужно было, по мнению Петьки, сохранять «стоическое», как он выразился, то есть железное, спокойствие.
Однако прошло минуты две, и хотя Таня была не робкого десятка, она вдруг почувствовала, что ей вовсе не смешно, а даже, пожалуй, страшно.
На чердаке пахло пылью, в одном углу были свалены тяжелые сломанные карнизы, в другом – кресла с торчащими пружинами, и она стояла в перекрещивающихся лунных полосках, которые как будто связывали ее по рукам и ногам.
Петька шумно откашлялся – может быть, чтобы показать, что он ничуть не боится.
– Пречистые замки ключами не заперты, ладаном не запечатаны, открыты ныне и присно и во веки веков, – громко сказал он.
Сперва зазвенела пружина, точно кто-то вскочил с кресла, потом в наступившей тишине послышалось слабое дыхание. Что-то совершалось, очевидно, чудо. Можно было вообразить, что невидимые руки лепят какую-то неясную фигуру из сумеречного света, из пылинок, которые стали видны, из самого воздуха, который как бы уплотнился, хотя это было, кажется, невозможно.
– Можно, я зажгу фонарик? – дрожащим голосом спросила Таня.
Петька не успел ответить.
– Конечно, пожалуйста! – отозвался ясный молодой голос.
Теперь, при свете фонарика, можно было различить странную фигуру, чем-то похожую на детские рисунки. Ноги были как ноги – в потрепанных джинсах; руки как руки, хотя и покрытые шерсткой, на широких плечах ковбойка, но голова… Голова походила на шлем, с поднятым забралом, и неестественно большие глаза мягко сияли на лице, вогнутом, как сломанный обруч.
– Кто ты? – загробным голосом спросил Петька. – Домовой?
– Такой же, как ты, – отозвался спокойный голос.
– Извините, – вежливо возразила Таня. – Но если вы человек, почему у вас такая необычная внешность?
– Прежде всего познакомимся. Меня зовут Юра Ларин. Я из Хлебникова, может быть, вы слышали о таком городке на Черном море? Я ученик девятого класса Хлебниковской школы. Вы оба, кажется, тоже в девятом классе? Но ты, Таня, кажется, в музыкальной школе? Черт возьми, если бы не моя мачеха, мне тоже удалось бы поступить в музыкальную школу. Я играю на флейте.
– Так эту игру мы с мамой иногда слышали по ночам?
– Я нашел на чердаке старую окарину, на которой осталось только шесть дырочек вместо девяти. Говорят, Паганини на одной струне исполнял сложнейшие партии. Ну вот, так же и я. Вместо флейты играл на окарине, в которой вместо девяти дырочек всего-навсего шесть.
Петька, конечно, понятия не имел, кто такой Паганини, но Таня прекрасно знала, что был такой знаменитый скрипач и композитор.
– Я немного боялся, что беспокою Марию Павловну, – вежливо добавил Юра.
– Славик мешает ей спать, а тут еще я со своей окариной.
– Нет, мама не слышала, а мне было даже приятно. Мне мерещилось, что я слышу звуки флейты во сне.
– Ну ладно! Как говорится, вернемся к делу, – сказал Петька. – Все-таки ты, может быть, расскажешь нам, кто ты такой, как появился в Немухине и, в частности, в этом доме? Между прочим, заклинание, которым я тебя вызвал, относится не только к домовым.
– Может быть. Но на меня подействовало не твое заклинание. Просто смертельно соскучился и очень обрадовался, когда вас увидел. Конечно, пора объяснить, как я здесь оказался. Но с чего начать? Может быть, с мачехи? – задумчиво сказал Юра.
Его бледное лицо, как будто вырезанное в глубине лунного ободка, омрачилось, погрустнело.
– Валяй с мачехи, – согласился Петька. – Она кто у тебя? Ведьма?
Да, брат, тебе досталось
– Можете мне не поверить, но каких-нибудь две недели тому назад я почти ничем не отличался от вас. Когда мне было два года, у меня умерла мать, отец женился на молодой красивой женщине, но, к сожалению, с очень дурным характером и большими ногами. Не удивляйтесь, что я упоминаю о ногах. Она всю жизнь старается скрыть, что ей впору туфли сорок первого размера, и покупает двумя номерами меньше. А попробуйте-ка, особенно летом, в жару, носить такие туфли! Злость закипала у нее в ступнях, а потом поднималась вверх, как ртуть в градуснике. Короче говоря, утром моя мачеха еще могла улыбаться, особенно когда она кокетничала, а к вечеру просто кипела от злобы. Огрызалась, скрежетала зубами, старела на глазах и просто умирала от желания кого-нибудь съесть. И съела!
– Как съела? – одновременно спросили Таня и Петя.
– Очень просто! Моего отца, добродушнейшего, кроткого человека. У него даже в истории болезни было написано: «Не повезло с женой. Крайне неудачная семейная жизнь». Конечно, сразу же после смерти отца ей захотелось съесть меня. В самом деле, еще молодая, интересная дама, а тут под ногами вертится какой-то мальчишка, который к тому же не только знает, что она носит туфли на два номера меньше, но знает, что по всему свету она ищет хирурга, который превратил бы ее копыта в маленькие, изящные ножки. Конечно, каждый из них говорил: «Нет, мадам! Вам может помочь только волшебник». Тогда – представьте себе – она стала искать волшебника. И нашла!
– Нашла? – с изумлением спросила Таня.
– Заливаешь! – одновременно откликнулся Петька.
– Правда, не столько волшебника, сколько мошенника. То есть в прошлом он служил в Отделе Необъяснимых Странностей, но его прогнали и категорически запретили заниматься чудесами. В Хлебникове он показывал карточные фокусы в пивных и тайком лечил плешивых, причем с каждого брал клятву, что тот никому никогда не расскажет, почему у него заросла плешь. Вот из пивных-то его и выудила моя мачеха.
Юра тяжело вздохнул: видно было, что ему нелегко давалась эта история.
– Ты устал? – мягко спросила Таня. – Ведь можно встретиться в другой раз.
– А вы торопитесь?
– Я нет! – сказал Петька.
– Я тоже, – сказала Таня, – но уже двенадцатый час, и я боюсь, что мама станет беспокоиться, куда я пропала. Вот что: я скажу ей, что иду спать…
– Да, брат, тебе досталось, – мрачно сказал Петька, когда она убежала.
Они помолчали.
– Послушай, ты, может, голодный? – вдруг вскинулся Петька. – Хочешь, я тебе притащу что-нибудь из дому?
– Нет, спасибо. Между прочим, на твоем месте я бы переоделся, пока Таня не вернулась.
– Ах, да!
И Петька живо вывернул рубашку, брюки, переодел туфли. Только кепка осталась лихо торчать на затылке козырьком не вперед, а назад – впрочем, так он носил ее не только тогда, когда собирался вызывать домовых.
Таня вернулась.
– Все в порядке. Мама укачивает Славика. Я пожелала ей доброй ночи. Между прочим, у нас на ужин была макаронная запеканка. Я подогрела и принесла. Ты, наверное, проголодался?
– Спасибо. Я потом съем. Сейчас неохота.
– Остынет.
– Не беда.
– Ну, рассказывай! – нетерпеливо сказал Петька. – Значит, ты все-таки не человек?
Юра вздохнул.
– Я – сильвант. Многие выдумывают страны, которых нет, а я задумался о людях, которые живут на земле и знают, как она прекрасна, – сказал он. – У каждого дерева свой голос, береза шелестит, липовая роща шепчет, хвойный бор сердито бормочет, дубы задумчивы и молчаливы, а мачтовые сосны готовы пожертвовать собой, чтобы увидеть дальние страны. Сильванты понимают язык деревьев, потому что они очень похожи на них. Никогда не лгут, не ссорятся, никому не желают зла. Они стоят на земле твердо и прямо и гнутся только под ветром, который тоже прекрасен, потому что умеет вертеть мельничные крылья и в течение тысячелетий помогал людям открывать новые страны. Среди сильвантов много поэтов, художников, музыкантов, в их сонатах и ноктюрнах тонкий слух различает пение птиц и листвы. Они гораздо умнее обыкновенных людей и уступают в тонкости чувств только деревьям. Кстати, об этом думал один поэт. Он писал:
Я знаю, что деревьям, а не нам
Дано величье совершенной жизни
На ласковой земле, сестре звездам,
Мы – на чужбине, а они – в отчизне.
Вот так же и сильванты относятся к земле. Она для них не приплюснутый шар, который с утомительным однообразием вращается в пространстве, а ласковая звезда, на которой и деревья, и животные, и люди должны ежеминутно чувствовать радость существования. Я часто рисовал сильвантов, мне казалось, что они все же должны отличаться от обыкновенных людей. И вот однажды… Но прежде чем объяснить, что случилось, мне надо вернуться к своей мачехе. Кстати, ее зовут Неонилла, и она почему-то гордится этим именем. Она где-то познакомилась с Луканькой – его зовут Лука Лукич, но все в городе звали его Луканька. Приодела его, поселила где-то поблизости от нас, и буквально через неделю он совершенно преобразился. Кстати сказать, он служил в Игральных мастерских – у нас самые большие Мастерские Игральных Карт на всем свете, – и пристроила его туда она же, кажется, кладовщиком. И началось!
– Что началось?
– Через месяц он уже заведовал цехом пасьянсных карт, через два был заместителем директора, а потом каким-то образом пролез в Главный Филиал и стал управляющим делами и теперь требует, чтобы все называли его «Мэром». У нас он стал бывать каждый день и, между прочим, как бы подружился со мной, хотя меня воротило с души при одном виде его сизого носа.
– Сизого?
– Сизый нос сливой, глазки заплывшие, плешивоватый, все говорит, что нет времени, а сам шляется без дела в пальто с шелковыми отворотами, в лакированных туфлях и в цилиндре.
– В цилиндре?
Впервые Таня не поверила Юре, а Петька откровенно сказал:
– Врешь!
– Сильванты не лгут, – с достоинством отозвался Юра. – Так вот, он… Мне казалось, что он был против того, чтобы мачеха меня уморила. Но теперь-то мне ясно, что они были в сговоре и что он заступался за меня притворно.
– Но как же все-таки она могла тебя уморить?
Юра с досадой махнул рукой.
– Ну как? Очень просто! По ночам, как только я засыпал, колотила в дверь ногами или запускала радио на полную катушку. Распустила по всему городу слух, что я тайком опустошаю холодильник, а сама, между прочим, пристроила к нему электрический звонок, который трещит на весь дом, когда открывают дверцу. Сломала мои лыжи, не пускала на каток, не давала читать, а мою библиотеку продала за гроши. Вот такая была жизнь, и немудрено, что мне захотелось удрать. Но об этом нечего было и думать.
– Почему?
Юра долго молчал. Что-то одновременно и грустное и радостное показалось в его огромных добрых глазах, обведенных темными кругами.
– Ну, об этом как-нибудь в другой раз, – сказал он. – О чем я рассказывал? Ах, да! В тот вечер Лука Лукич пришел ко мне не в пальто, а в старой, поношенной шубе, хотя была мягкая осенняя погода. «Ну, как живешь, бедолага? – спросил он. – Скучаешь? Голодаешь? Я тебе подарочек принес. – И он бросил на мой стол связку свежих кренделей, несколько луковиц и финский сыр «Виола». – Ты держись! Дай срок, я на Неониллке женюсь, и мы с тобой ее одолеем. А что это ты рисуешь?» А я, на свою беду, как раз рисовал сильванта.
– Такого?
И Таня показала ему маленький рисунок, который Николай Андреевич с негодованием обнаружил на одном из своих чертежей.
– Да. Николай Андреевич очень сердился?
– Очень. Я успела скопировать, прежде чем он стер рисунок. Вот! Похоже?
– Пожалуйста, извинись перед ним. Я больше не буду.
– Дальше, – потребовал Петька.
– И я, на свою беду, стал рассказывать Луке Лукичу о сильвантах. А он… Конечно, теперь для меня ясно, что мачеха в этот день условилась с ним отделаться от меня, иначе он не явился бы ко мне в шубе. И вот он вдруг спросил меня… Но я совсем забыл сказать, что он озорник, проказник, любивший неожиданно ошеломить, ошарашить, озадачить. Ему было все равно, как избавиться от меня, а тут вдруг подвернулся случай еще и подшутить. Это было как раз в его духе! «А тебе не хочется стать вот таким сильвантом? – спросил он, взглянув на мой рисунок. – Конечно, не выходя из дому, потому что иначе на тебя станут показывать пальцами и сбежится толпа». Ну, что вы ответили бы на такой вопрос, ребята?
– Конечно, да! – закричал Петька. – Никогда не врать – это же интересно! Понимать, о чем говорят деревья! Ни с кем не ссориться и не драться, в то время как еще вчера Петр Степанович страшно отругал меня за то, что я врезал Вальке Стригунову!
– Ну вот и я ответил: да. И сразу почувствовал… Не знаю, как вам рассказать. Я как будто лишился сознания и в то же время ясно чувствовал и понимал, что со мной происходит. Видел, как он сильно потер свой сизый нос, похожий на подгнившую сливу, и этого оказалось достаточно…
Он замолчал, может быть, потому, что хотел справиться с волнением.
– И этого оказалось достаточно, чтобы я превратился в сильванта.
Таня тихонько ахнула, а Петька засопел – он всегда сопел, когда видел или слышал что-нибудь интересное.
– Откуда-то вдруг появилась мачеха, и, помнится, я снова подумал: «Они хотят от меня отделаться», – потому что она помогала ему, когда он надевал на меня шубу. Кажется, я все спрашивал: «Зачем, зачем?» – а Лука посмеивался: «Это, брат, не какой-нибудь планер! Где стоишь – оттуда и летишь! Три пуговицы – три скорости. Застегнешься на первую – подъем. На вторую – нормальный полет, шестьдесят километров в час. На третью… Ну, на третью я тебе не советую». Он вдруг сильно ударил меня по лбу, может быть, чтобы привести в сознание. «Ну, с богом! Счастливого пути».
Он сам застегнул нижнюю пуговицу, и я, приходя в себя, стал медленно подниматься. Потом, когда я почувствовал, что лечу над облаками и сквозь их прозрачную белизну вижу поля, леса, маленькие ленты дорог, которые то скрещивались, то разбегались, как на географической карте, мне захотелось петь, читать стихи, кувыркаться. Поднялся ветер, облака стали обгонять меня, но я застегнул вторую пуговицу и с такой силой рванулся вперед, что едва не вылетел из шубы. Признаться, я даже забыл, что превратился в сильванта, и вспомнил только потому, что, застегивая пуговицу, заметил, что у меня мохнатые руки. Это и была минута, когда я впервые пожалел, что не нарисовал сильванта другим. Но кому бы пришло в голову, что ты когда-нибудь превратишься в собственный рисунок?
Ночь была на исходе, когда Юра закончил свой рассказ. Впрочем, мы уже знаем, как он пролетел над Немухинской каланчой, вывалился из шубы и побежал по Нескорой. Сестры Фетяска крепко спали, когда он спрятался на чердаке, а через два или три дня дом перешел к Заботкиным, и начались те странные явления, о которых мы уже рассказали. Стоит только упомянуть, что, расставаясь с Юрой (чтобы вскоре снова встретиться), практичный Петька спросил:
– А куда делась шуба?
И получил короткий ответ:
– Не знаю.
Но Таню интересовал совсем другой, гораздо более сложный вопрос.
– Извини, Юра, – сказала она. – Но мне хотелось бы узнать: неужели ты, как настоящий сильвант, стал понимать язык деревьев? И никому не желаешь зла? И земля кажется тебе ласковой звездой?
Наступило молчание, такое долгое, что часы на вывеске часовой мастерской, только что пробившие шесть ударов, хрипло заурчали, как всегда, когда они подбирались к половине седьмого.
– Да, – наконец сказал Юра. – Но есть одна причина, которая заставляет меня глубоко сожалеть об этом превращении. У меня к тебе просьба, Таня. Подари мне свой рисунок. На обороте я напишу несколько слов. Ты не станешь их читать, не правда ли? Запечатай рисунок в конверт и пошли по адресу: Хлебников, улица Неизвестного поэта, 23. Ирине Синицыной. А когда получишь ответ, принеси его мне, хорошо?
– Ты можешь не беспокоиться. Я непременно сделаю это, – ответила Таня. Остается заметить, что в разговоре Юра упомянул о какой-то ветке, полной цветов и листьев. Когда Таня с Петькой спросили его, что это за ветка, он смущенно промолчал. На прощание Тане очень хотелось спросить, удалось ли мачехе добыть себе маленькие, стройные ножки. Но она не решилась. После серьезного разговора как-то неловко было спрашивать о таких пустяках.
Под строжайшим секретом
История Юры была в действительности гораздо сложнее, чем его рассказ. Но прежде чем вернуться к ней (а это значило бы без помощи летающей шубы добраться от Немухина до Хлебникова, то есть пролететь добрых восемьсот километров), полезно рассмотреть результаты того факта, что на чердаке у Заботкиных появилось существо, требующее хлопот и внимания, хотя зоологи всего мира не имели о нем ни малейшего представления.
Разумеется, и Петька и Таня понимали, как необходима осторожность. В Немухине, который гордился своими достопримечательностями, сильванта, единственного в своем роде, не только обласкали бы, но непременно попросили бы остаться сильвантом. Поэтому в ночной разговор на чердаке были посвящены только два человека – Мария Павловна и учитель географии Петр Степанович.
Мария Павловна подошла к делу практически. Хотя Юра уверял, что сильванты едят очень мало, она устроила для него регулярное трехразовое питание, так что теперь кот Тюпа мог быть совершенно спокоен за свое молоко, а отложенный хлеб беспрепятственно превращался в сухари, которые у Заботкиных очень любили.
Но Петр Степанович… Впрочем, сперва надо сказать о нем несколько слов. Он любил спасать не только людей, но и зверей и полезных насекомых. Ему ничего не стоило распутать паутину, в которую попала рассеянная бабочка. Его прекрасно знали в окрестных лесах. Маленькие лоси почему-то часто ранили ноги, и он бинтовал их и даже иногда накладывал гипсовые повязки. О людях и говорить нечего! Немухинка, на вид такая скромная и добродушная, была довольно коварной речкой: два-три раза за лето в ней непременно кто-нибудь тонул. Днем ли, ночью ли. За Петром Степановичем тогда бежали.
Впрочем, он вообще был необыкновенным человеком. За домашнюю или классную работу, так же как и за ответ у доски, он ставил, как это ни странно, двойку, если не находил возможным поставить тройку. Он не ходил, как это делали другие учителя, с маленькими счетами в кармане и не высчитывал, повлияет ли очередная двойка на общий процент успеваемости в школе.
Короче говоря, если бы не его слава Международного гроссмейстера, все эти двойки вместо троек и четверки вместо пятерок едва ли прошли ему даром.
Когда Петька под строжайшим секретом рассказал ему о превращении Юры Ларина в сильванта, он не удивился и не стал терять времени на расспросы, хотя в его практике этот случай был необыкновенный. Как человек дела, он прежде всего заинтересовался личностью волшебника – кто он такой, откуда взялся и нет ли возможности, так сказать, обвести его вокруг пальца. Он запросил о нем Отдел Необъяснимых Странностей и немедленно получил ответ: «Не числится». В дальнейшей переписке ему удалось выяснить причину увольнения: «Шулер и пьяница. Опасен. Уличен в краже волшебных палочек. Отчислен без права поступления на службу».
Как человек принципиальный, Петр Степанович сразу понял, что слабое место в биографии этого проходимца заключается в краже волшебных палочек. Можно было не сомневаться, что с помощью одной из них он превратил Юру в его собственный рисунок, с помощью другой отправил в полет, накинув на него потрепанную шубу.
Короче говоря, необходимо было отправиться в Хлебников и на месте решить, что делать. Кстати сказать, Петр Степанович каждый год ездил куда-нибудь со своими учениками, а на ближайшее лето была намечена экскурсия по старым городам. Хлебников вполне подходил под это понятие – он был основан в четырнадцатом веке.
А пока в Немухине надо было вооружиться сведениями, которые могли ему пригодиться. Во-первых, Таня под строжайшим секретом сказала, что Юра попросил ее отправить письмо какой-то Ирине Синицыной и с нетерпением ждет ответа. Во-вторых, оказалось, что Зоя Никитишна Фетяска – та из сестер, которая целый день раскладывала пасьянсы, – хорошо знакома с главным резчиком Мастерской Игральных Карт Иваном Георгиевичем Синицыным, близким родственником или даже отцом Ирины. Стоит заметить, что Петру Степановичу пришлось выслушать длинный рассказ о том, как Иван Георгиевич сорок лет назад влюбился в Зою Никитишну на гулянье в Петергофе и потом всю жизнь отказывался от «блестящих партий», как она выразилась, надеясь, что она выйдет за него замуж. Как он ежегодно, к дню рождения, присылает ей колоду пасьянсных карт. Более того, она показала недавнее письмо от Ивана Георгиевича, очень ее обеспокоившее, потому что ее старый друг с огорчением писал ей, что «Ирочка перестала петь».
– Дело в том, – объяснила она, – что его дочка Ирочка – изумительная певунья. Чем бы она ни занималась – прибирает ли в доме, моет ли посуду, вяжет ли, или готовит уроки, – непременно поет. Да так, что под окнами собираются, чтобы ее послушать! И вот перестала.
– Почему? Об Этом он вам не пишет?
– Нет. Но письмо кончается пословицей: «Не мил и свет, когда милого нет». Подумайте, мы сорок лет не виделись, – вздохнув, сказала Зоя Никитишна, – он женился, потерял жену, дочка на выданье, а он все-таки не может, не в силах меня забыть.
Конечно, Петр Степанович не стал убеждать ее, что пословица намекает не на долголетнюю привязанность Ивана Георгиевича, а на загадочную причину, заставившую замолчать «дочку на выданье», пение которой любил слушать весь город.
На ласковой земле
Ночь была безлунная, когда Юра спустился с пожарной лестницы, ничего не сказавшей ему вслед. Железо было молчаливо. Из чердачного окна он часто смотрел на березовую рощу за Немухинкой, и случалось, что в шелесте листьев до него доносились отдельные звонкие голоса. Когда он пробегал через мостик, перекинутый с одного берега на другой, он ясно услышал, как речка прошелестела ему вслед: «Осторожно, Юра! Места незнакомые. Легко заблудиться». Но невозможно было заблудиться в лесу, где каждое дерево показало бы ему дорогу.
Правда, он не мог разглядеть ни одной тропинки в темноте, но и тут ему повезло! Вдруг небо озарилось упавшей звездой, и он со всех ног побежал, чтобы подобрать ее. Это было в двух шагах от него. Кустарник вспыхнул сумеречно-багровым светом, и, хотя звезда почти погасла, ее мягкий свет был гораздо сильнее, чем свет карманного фонарика, который подарила ему Таня. Он поднял звезду и стал перебрасывать ее из одной руки в другую, радуясь, что, остывая, она почти не теряла света.
После душного чердака, в котором можно было задохнуться от пыли, он дышал всей грудью, беспричинно смеясь, и босыми ногами остро чувствовал мягкую, душистую землю.
Постепенно в беспорядочном шелесте листьев под легким ветром он стал различать слова.
– Смотрите, кто пришел к нам в гости! – сказала старая береза, подле которой он стоял. – Тот, кого мы ждали тысячу лет или по меньшей мере девятьсот девяносто девять… Ведь ты умеешь говорить не только с нами, но и с людьми. Не можешь ли ты передать, что мы верно служим им, а они так часто к нам беспощадны?
– Хорошо, передам! Но едва ли кто-нибудь прислушается к моим словам. Мне не поверят, что я понимаю язык деревьев. Ведь я только в девятом классе.
Горячая звезда немного опалила шерстку на пальцах, но и это почему-то присоединилось к тому чувству счастья, с которым он бродил по березовой роще.
Он невольно подслушал спор между молодыми дубком и осиной; это было забавно: запальчивый дубок упрекал осину за то, что она слишком быстро растет, заслоняя от него солнце. Молодая березка прихорашивалась под ветерком, и он подумал, что, может быть, деревья видят в темноте: она надеялась, что кто-то утром увидит ее с прибранной, блестящей листвой.
Слышались шорохи, шуршание, шелесты, ничего не происходило случайно, и Юра не был бы сильвантом, если бы ему не пришла в голову мысль, поразившая его своей простотой: никто никому не желал зла в этой душистой, неторопливо засыпающей роще. Ночная смена муравьев усердно строила свой многоэтажный дом с лабиринтом туннелей, ежи торопились домой после каких-то деловых разговоров, сова пожелала кому-то доброй ночи.
– Ты влюблен, сильвант? – спросила его насмешливая молодая лиственница, мимо которой он прошел, освещая звездой.
– Да. И к счастью и к сожалению.
– Почему «к сожалению»?
– Потому что, если я останусь сильвантом, мне не суждено увидеть ту, кого я люблю.
Начинало светать, когда он пробежал по еще пустым немухинским улицам. И у Заботкиных еще спали. Никто не слышал и не видел, как он поднялся на чердак и бросился в старое кресло, на котором лежало сложенное заботливой Таней одеяло.
Остаться сильвантом? Но как же быть с тем памятным вечером, когда Ириночка в легком платье встретилась с ним на набережной и сказала: «Если бы папа не уснул, я выскочила бы в окно»? Как быть с их отражением в спокойной воде? Как быть с веткой, которую он наудачу сломал в незнакомом саду, – ветку, странно прошелестевшую листьями и цветами?
Его весь город боится
Все было готово к отъезду, когда Петр Степанович все-таки решил встретиться с Юрой. Один существенный вопрос интересовал его, а на него не могли ответить ни Петька, ни Таня, ни Зоя Никитишна. Вот почему встреча все-таки состоялась, короткая, но полезная хотя бы потому, что сама внешность Петра Степановича обнадежила Юру. Он был небольшого роста, ходил, загребая левой ногой, на толстеньком носу была нашлепка, и трудно было представить себе, что в праздники у него на пиджаке умещалось множество медалей за спасание людей, птиц, зверей и полезных насекомых. Но едва он появлялся в любом доме или даже в учреждении – самые бестолковые люди становились более или менее толковыми, самые отчаявшиеся начинали надеяться, и все вокруг, как говорится, начинало дышать уверенностью и прямотой.
– Скажи, пожалуйста, – спросил он Юру, – вот ты говоришь, что Лука Лукич просто потер свой нос и этого было достаточно, чтобы ты превратился в сильванта?
– Да.
– Может быть, может быть… – задумчиво сказал Петр Степанович. – А ты случайно не заметил, не было ли у него в руках какой-нибудь палочки вроде тех, которые втыкают в цветочные горшки?
Юра задумался.
– Не помню, – наконец ответил он. – Лука Лукич постоянно вертит что-нибудь в руках. То карандаш, то цепочку – он носит старинные золотые часы на цепочке, то зубочистку. Возможно, была и палочка. Какое это имеет значение?
– Но ведь ты, кажется, сказал, что тебя буквально воротит с души от одного вида его сизого носа?
– О, да!
– И в тот вечер, когда вы дружески разговаривали, ты тоже не смотрел на него?
– Во всяком случае, старался не смотреть.
– Понятно, – сказал с удовлетворением Петр Степанович.
Нет времени рассказывать, какие старинные города осмотрели немухинские ребята, прежде чем попали в Хлебников. Стоит только упомянуть о том, чем этот город отличался от других городов. Он был расположен вдоль моря и окружен ветряными мельницами, которые больше не мололи муки, но зато не пропускали ни одного ветерка, чтобы не обменяться с ним каким-нибудь слухом или сплетней. Старые ржавые якоря попадались на каждом углу. К сожалению, они были молчаливы, но не было никакого сомнения, что каждый из них мог бы рассказать немало интересных историй. Зато чайки, летавшие над крышами, болтали без умолку, и, даже не понимая их языка, легко было угадать, что история города их не интересует. А между тем она была очень интересна, потому что с древнейших времен в городе жили поэты.
На главной площади стоял памятник, изображавший странника в рваном плаще, без шляпы, выронившего листы бумаги, которые в беспорядке лежали у его ног. Это был самый талантливый из прославивших город поэтов. Его звали старинным русским именем Велимир.
Впрочем, Петру Степановичу было некогда осматривать город. Заняться этим он поручил Петьке как старосте девятого класса, а сам отправился в пригород, где с незапамятных времен находилась Мастерская Игральных Карт, расходившихся по всему миру. На каждом доме была вылеплена карта: мастер, вырезывавший валетов, украшал свои дубовые двери изображением валета, его сосед – дамы, а сосед соседа – туза или короля. Только на одном доме была раскинута вся колода, и любой прохожий мог убедиться, что в этом доме живет главный резчик Иван Георгиевич Синицын.
Маленький, сухонький, похожий на деревянного человечка для щелканья орехов, он, когда постучался Петр Степанович, очевидно, только что встал с постели, потому что на его голове торчал вязаный желтый колпак с кисточкой. В разговоре с Петром Степановичем резчик вспомнил о колпаке и, рассмеявшись, сунул его в карман.
– А я не знал, что этого проходимца уволили за кражу волшебных палочек, – задумчиво сказал он. – И даже догадываюсь, куда он их спрятал.
– А именно?
– Вы заметили, что в городе почти не пахнет морем? Это потому, что все запахи заглушает аромат его сада. Там растут цветы, которых нет ни в одном ботаническом саду. К нам приезжают ботаники с мировыми именами, которые ничего не могут понять. Но мне сейчас все ясно: он посадил в землю волшебные палочки, они выросли и расцвели, и теперь каждая из них считается маленьким чудом.
– Хитер, – сказал Петр Степанович.
– И не только хитер, но мстителен, коварен и зол. Я в мастерской работаю сорок лет, меня каждая собака знает и уважает, а его я боюсь. Более того, его весь город боится.
– В чем же дело?
– Неизвестно. Вот, например, наш город славился поэтами, художниками, скульпторами. Но когда он приказал называть себя Мэром, все уехали. А почему? Потому что у тех, кто называл его просто Лукой Лукичом, он под разными коварными предлогами отбирал мастерскую. Темная личность! Но, между прочим, отлично играет в «японский сундучок» – есть такая карточная игра – и даже объявил, что, кто у него выиграет партию, может называть его не Мэром, а просто Лукой Лукичом.
– Ну что же! Будем посмотреть! – загадочно сказал Петр Степанович. – А теперь позвольте, Иван Георгиевич, поговорить с вашей дочкой и, если вы не возражаете, наедине?
Иван Георгиевич вздохнул.
– Да, разумеется. Но дело в том, что…
– Я знаю, она перестала петь. И очень похудела, должно быть? И не спит по ночам?
– Просто не узнать!
– Вот мы с ней и выясним, в чем дело! А пока я по секрету скажу вам, что Юра Ларин жив.
Надо было видеть, какое впечатление произвели на старого резчика эти слова. Он подпрыгнул от радости и так высоко, что ему позавидовал бы любой мастер спорта по прыжкам в высоту.
– Жив! Слава богу! Это такой мальчик! Такой мальчик! Он после учебного дня мыл пол в классе, а когда я его спросил: «Зачем?» – ответил: «Не «зачем», а почему. Потому что мне это нравится». Сам испек торт!
– Торт?
– Да! Для Ириночки в день ее рождения. И украсил его формулой, которую она не знала, когда, кончая восьмой класс, едва не провалилась по математике. Вообще она учится неважно, а Юра ей так помогал, так помогал!
– Вот пускай она о нем и расскажет!
Ветвь, полная цветов и листьев
Надо сказать, что Петр Степанович удивился, увидев Иру Синицыну.
Красавицы в подавляющем большинстве прекрасно знают, что они красавицы, а она, казалось, не имела об этом никакого понятия.
Она была такая тоненькая, что с сильным ветром, не говоря уже о штормовом, надо было заранее сговариваться, чтобы он не переломил ее. Глаза на нежном лице, казалось, стеснялись, что они такие большие, а длинные изогнутые ресницы старались казаться короткими, не заслуживающими никакого внимания.
Она смутилась до слез, когда Петр Степанович заговорил о Юре, и побледнела, как будто кто-то спрятал ее под папиросную бумагу.
– Ну, как он? Я получила от него письмо, только два слова: «Не забывай!» – и рисунок сильванта. Вы не знаете, получил ли он мой ответ?
– Не думаю. Я говорил с ним перед отъездом.
– Я ведь так и не знаю, что с ним случилось! Хотя мне стало смешно, когда я прочитала «Не забывай», но одновременно я заплакала, потому что все это очень грустно. Он постоянно рисовал своих сильвантов, мы часто говорили о том, что люди должны понимать язык деревьев. Однажды я даже показала ему глиняный горшок с углями и постаралась уверить, что это не угли, а погасшие звезды. Но ведь это казалось нам только игрой!
– Понимаю. А потом в вашу игру вмешался очень плохой человек, которого даже трудно назвать человеком. Но вот о чем я хотел у тебя спросить… Юра упомянул в одном разговоре о какой-то ветви, полной цветов и листьев. Я не стал расспрашивать, но мне показалось, что эта ветвь имеет для него особенное значение.
Ириночка засмеялась, и сразу стало ясно, что она любит петь. У нее был музыкальный смех.
– Ах, это тоже была просто игра! Мы постоянно придумывали что-то, и однажды, когда встретились на набережной, он спросил: «Хочешь, я подарю тебе кота с рубиновыми глазами? Или зеркальце из пушкинской сказки, ведь ты не догадываешься, что краше тебя нет никого на свете?» Я засмеялась и сказала: «Иди туда, не знаю куда; принеси то, не знаю что». И он бросился бежать по самому краешку набережной – это было вечером, и я испугалась, что он упадет в море. Но он не упал: через несколько минут он вернулся. «Я перелетел через самый высокий в мире забор, – сказал он, – и оказался в саду, который обиделся бы, если бы его назвали прекрасным. Это сад, в сравнении с которым висячий сад Семирамиды показался бы скучным городским сквером. Я пробежал вдоль кустарника и задел плечом ветку, прошелестевшую листьями и цветами. Вот она».
– И, надеюсь, ты не рассталась с нею?
Теперь Петр Степанович побледнел от волнения и тоже выглядел так, как будто его сунули под папиросную бумагу.
– Конечно, нет. Ведь это подарок Юры. По утрам я здоровалась с ней, а вечерами желала ей спокойной ночи. И хотя каждые два-три дня меняла воду в кувшине, ветка увяла – листья пожелтели и осыпались, цветы состарились и умирают, как люди. И теперь она стала похожа на обыкновенную палочку.
– Нет, она стала похожа на необыкновенную палочку, – энергично возразил Петр Степанович, – и, если действовать осмотрительно, с ее помощью я верну тебе Юру.
Здравствуйте, Лука Лукич!
На первый взгляд нельзя сказать, что Петр Степанович стал действовать так уж умно и неторопливо. На самом же деле он действовал именно так.
Прямо от Синицыных он явился в приемную Главного Филиала и спросил:
– Лука Лукич у себя?
– Позвольте, позвольте, – сказал секретарь. – А кто, позвольте спросить, разрешил вам называть Мэра Лукой Лукичом? Вы, очевидно, приезжий и не знаете, что по имени-отчеству его может называть только тот, кто выиграет у него партию в «японский сундучок».
– Считайте, что я ее уже выиграл, – возразил Петр Степанович и открыл дверь кабинета.
Надо признаться в том, что Юра довольно верно описал своего отчима: Лука Лукич был невзрачен, тощ и, хотя ежеминутно пыжился, как бы уверяя себя (и других), что он личность значительная, сразу было видно, что перед вами мелкий проходимец. Нос его действительно был похож на подгнившую сливу, рот маленький – он ежеминутно вытирал его носовым платком, глазки плоские, как у летучей мыши. Однако в этих глазках прятались коварство, хитрость и злоба, и по временам они начинали крутиться, как на шарнирах, чего никогда не бывает у обыкновенных людей.
– Здравствуйте, Лука Лукич!
– Обратитесь к секретарю!
– Прежде всего позвольте представиться: Петр Степанович Неломахин.
– Обратитесь к секретарю!
– Послушайте, нам надо поговорить, но называть вас Мэром я не согласен. Если угодно, сыграем в «японский сундучок». А потом поболтаем.
– Что?
Лука Лукич засмеялся. Он вынул из кармана и бросил на стол колоду, сложившуюся, как веер.
– Нет, уж извините, – возразил Петр Степанович. – Я предложу вам свою колоду.
Телефон зазвонил, Лука Лукич рявкнул в трубку:
– Я занят! – И, вызвав секретаря, сказал ему: – Прием закрыт.
– Слушаюсь, Мэр, – прошептал секретарь. У него почему-то дрожала челюсть.
Игра началась, первые карты легли на стол, и между ними сразу пошел разговор. Старые знакомые, они давно не встречались.
«Люди – наша судьба, – сказал Король Пик, – а мы – судьба людей. Но на этот раз истрепанные бумажки, которые они называют деньгами, кажется, не играют существенной роли?»
«Вы правы. Ваше Величество, – заметил Валет Бубен. – В этой игре деньги не играют роли. Гроссмейстер приехал в наш город для благородной цели. Он хочет спасти юношу, который даже не подозревает, что когда-нибудь он станет великим поэтом».
«Совершенно верно, – отозвалась Дама Бубен. – Мы должны помочь Гроссмейстеру выиграть. Тем более что этот Мэр лишен вкуса. Мне стыдно участвовать в игре, которой пользуются шулера в карточных притонах». – И она осталась в руках Петра Степановича, потому что он проиграл бы, положив ее на стол.
Возможно, что Мэр догадывался об этом разговоре. Колода Ивана Георгиевича была, как это делали в старину, напечатана по доскам, а доски старый мастер резал с такой любовью и вдохновением, что эти чувства передались картам. И это было очень кстати, потому что в «японском сундучке» все решает Случай, а карты вложили в игру Разум, и Случай потеснился, а потом совсем ушел, ни с кем не простившись.
Лука Лукич вдруг бросил карты – он проигрывал – и засмеялся.
– Черт с вами, называйте меня, как хотите. Кого же вы намерены спасать? И вообще, что вам от меня угодно?
Петр Степанович аккуратно сложил колоду и спрятал ее в карман.
– Видите ли, я намерен говорить о вашей, как это ни странно, склонности к проказам. У вас, если не ошибаюсь, приличный автомобиль – я заметил его у подъезда. Но ведь это не единственный способ передвижения, которым вы пользуетесь, не правда ли?
Сизый нос мгновенно разгорелся и даже замерцал, утратив свое сходство с подгнившей сливой. Плоские глазки бешено завертелись, и в кабинете почему-то запахло серой.
– Ну, положим, не единственный. А вам-то что за дело?
– Вопрос чести.
– Чести?
Лука Лукич засмеялся, и Петр Степанович невольно почувствовал холодок в сердце от этого негромкого, ядовитого смеха.
– По меньшей мере моей чести как Гроссмейстера по спасанию людей, птиц, зверей и полезных насекомых.
– Кого же, позвольте осведомиться, намерены спасать?
– Юру Ларина, которого вы отправили к черту на рога в какой-то авиашубе.
Сизый нос побелел, зеленая хитрость вспыхнула в плоских глазах, но тотчас же погасла, сменившись коварством, которое, в свою очередь, потеснилось, чтобы дать место самой черной бешеной злобе.
– Я не знаю никакого Юры Ларина.
Лука Лукич позвонил, и секретарь с дрожащей челюстью появился на пороге.
– Выведи гражданина. Он пьян!
Петр Степанович засмеялся.
– Последний вопрос: вам удалось устроить его мачехе маленькие, стройные ножки?
Вызов принят
Удалось. И более того: Неонилла затеяла большой костюмированный бал, чтобы весь город убедился в том, что она давно простилась со своими неуклюжими ногами.
В лучшем ателье Хлебникова она заказала себе кружевное белое платье, которое напоминало подвенечное, если бы не было таким коротким. Сапожник-любитель, широко известный на Юге, сшил ей золотые туфельки, от которых завистливые модницы должны были, как надеялась Неонилла, сойти с ума и отправиться в больницу.
Виноград закупался ящиками, арбузы, дыни, груши доставлялись на грузовиках. Дорожки в саду посыпались мелкими раковинками, чтобы они с приятным треском рассыпались под ногами. Словом, приготовления шли полным ходом, и весь город, можно сказать, трепетал, когда наутро после приезда Петра Степановича все были ошарашены сообщением по радио, которое подействовало на хлебниковцев, как ведро ледяной воды:
«Уважаемые граждане! Доводим до вашего сведения, что Гроссмейстер Петр Степанович Неломахин, прибывший из Немухина с группой школьников-экскурсантов, вчера выиграл у Мэра партию в «японский сундучок» и, таким образом, получил право называть его просто Лукой Лукичом. Этот же Гроссмейстер утверждает, что Лука Лукич в молодости служил в Отделе Необъяснимых Странностей и был уволен за кражу волшебных палочек. Трудно поверить, но, по словам Гроссмейстера, Лука Лукич посадил украденные палочки в землю, убив таким образом двух зайцев: с одной стороны, он скрыл свое преступление, а с другой – вырастил сад, который сбивает с толку ботаников всего мира. И, наконец, самое важное: Петр Степанович решительно утверждает, что недавнее загадочное исчезновение из Хлебникова ученика девятого класса Юры Ларина тоже не обошлось без участия Луки Лукича, отправившего его в неизвестном направлении в заколдованной шубе. А теперь посмотрим, уважаемые граждане, как на это ответит высокочтимый Мэр!"
Осталось неизвестным, что произошло на радиоузле, когда Лука Лукич примчался туда на своей машине и вышел из нее, легко опираясь на трость. Но, очевидно, именно эта трость приняла живое участие в разговоре, потому что Лука Лукич, крича на сотрудника, разбил ею не только стекла на всех письменных столах, но и матовую стеклянную стену, украшавшую город.
Короче говоря, вслед за первым, поразившим весь город сообщением появилось второе, после которого почти все учреждения и школы прекратили работу.
«Уважаемые друзья! Доводим до вашего сведения, что высокочтимый Мэр не только решительно отвергает все обвинения некоего гражданина Неломахина, но намерен проучить этого клеветника, вызывая его на дуэль, или, иначе говоря, на поединок. Судебным передрягам он предпочитает эту старинную, но благородную форму защиты своей чести. К барьеру, гражданин Неломахин, к барьеру!"
Дуэлей так давно не было в Хлебникове, что городская молодежь даже не знала этого слова, а старики знали, но забыли. Об этой форме защиты чести были осведомлены главным образом знатоки литературы, прочитавшие «Евгения Онегина». Но, как это ни странно, решительно все поняли, что между высокочтимым Мэром и приезжим Гроссмейстером в ближайшие дни должна состояться, схватка. Более того, в тот же день понятие «дуэль» так широко распространилось, что одна симпатичная, находчивая гражданка, стремившаяся купить заграничные джинсы, неожиданно сказала другой, менее симпатичной и пролезавшей вне очереди:
– Я вызываю вас на дуэль!
Очередь остолбенела, и джинсы были благополучно приобретены.
Третье сообщение было более чем кратким: «Вызов принят».
Неизвестно откуда появился молодой, но дельный администратор Саша, предложивший, чтобы схватка была публичной: противники в костюмах пушкинских времен, по его мысли, должны встретиться на сцене городского театра. Цены на билеты, ввиду исключительности зрелища, повышены, карета «скорой помощи» дежурит у подъезда. В случае смерти одного из противников духовой оркестр исполнит траурный марш.
Все эти предложения были отвергнуты, кроме одного: из отдела старинного оружия хлебниковского Городского музея были извлечены и приведены в порядок дуэльные пистолеты. Подходящих пуль оказалось только две, и это смутило администратора, потому что противники должны были стреляться «до результата», то есть пока один из них не будет убит, а две пули позволяли обменяться выстрелами только один раз. Но дельный молодой человек заказал местному ювелиру отлить из свинца еще несколько пуль и таким образом решил эту задачу.
По-видимому, Мэр считал, что полезно заручиться общественной поддержкой, и администратор по его распоряжению заказал последнему художнику, который остался в Хлебникове, плакат-карикатуру, появившийся очень кстати, чтобы закрыть дыру в матовой стене радиостудии. На плакате был изображен Мэр с носом, похожим на свежую сливу, а над ним плавал маленький Гроссмейстер с подвернутой ножкой, стараясь уклониться от направленного на него пистолета.
Вопрос о секундантах решился просто: Мэр предложил эту почетную обязанность администратору Саше, и тот, разумеется, с восторгом согласился, а Петру Степановичу, у которого в чужом городе не было друзей, пришлось попросить старого резчика.
– Извините, Иван Георгиевич, вы, разумеется, понимаете, что не мне пришла в голову эта глупая затея, – сказал он. – Но отказываться неудобно, а без вас мне никак не обойтись.
И действительно, очень скоро выяснилось, что без Ивана Георгиевича он никак не мог обойтись. Более того: без Ивана Георгиевича дело могло кончиться плохо.
О месте и времени поединка можно было только догадываться, но, очевидно, догадались многие, потому что на каждом дереве в городском парке сидели мальчики и девочки (и среди них, разумеется, немухинские экскурсанты). Парк был расположен вдоль набережной, и в парусных лодках на море колыхались нетерпеливые зрители с полевыми биноклями в руках.
Те и другие громко спорили, держали пари, перекликались, но все умолкли, когда большой серый автомобиль, перерезав парк (что запрещалось), затормозил у площадки над пляжем, и Мэр в ослепительно белой рубашке, в сияющем пиджаке стального цвета, с гвоздикой в петлице, в белых шотландских брюках, искусно скрывающих его кривые ноги, вышел из машины. Заплывшие глазки опасно сверкали. Сизый нос грозно торчал над маленьким ртом. На золотой цепочке свисали с шеи на грудь золотые очки. Словом в сравнении с ним Петр Степанович и его секундант, покуривавшие в тени под платаном, выглядели так, как будто их и вовсе не было.
Однако пора было приступать к делу. Секунданты сошлись. Ящик с пистолетами был открыт. Проверили условленное расстояние. Два мраморных фонтана, из которых высоко взлетали струи воды, находились как раз в десяти шагах один от другого.
Необходимо отметить, что Петр Степанович был меткий стрелок, хотя из дуэльных пистолетов ему стрелять не приходилось. Однако и Мэр неоднократно хвастался, что может попасть в подброшенную копейку.
– Начнем, пожалуй, – сказал администратор Саша, которому очень хотелось, чтобы зрелище напоминало роковой поединок между Онегиным и Ленским. О сходстве не могло быть и речи, хотя бы по той причине, что Саша, привыкший в самодеятельности руководить массовыми сценами, говорил в рупор.
– Прежде всего, согласно дуэльному кодексу 1892 года, предлагаю соперникам помириться.
Мэр энергично замотал головой, а Петр Степанович подошел к фонтану, напился, вытер рот носовым платком и тоже сказал:
– Нет.
Он был спокоен, хотя немного жалел, что решительно отказался от плана, который накануне предложил ему Петька. План заключался в поголовном вооружении всех немухинских ребят рогатками, которые били не хуже дуэльных пистолетов. Пустить их в ход предполагалось до начала дуэли, причем Петька брался сделать Мэра «небоеспособным», как он выразился, в два удара.
Теперь Петька, возглавляя экскурсантов, сидел на каштане, который простирал свои нежные ветви над местом дуэли.
– В таком случае прошу занять места, – сказал в рупор Саша.
Первый выстрел, согласно жеребьевке, был за Петром Степановичем, и все ахнули, когда он стал целиться в Мэра. Но в эту минуту он подумал, что Гроссмейстеру по спасанию людей как-то не с руки расправляться с Мэром, который считается человеком, хотя и несимпатичным во всех отношениях. И хотя расправиться все-таки хотелось, он отвел руку в сторону и выстрелил в воздух.
Все ахнули. Все перевели дух. Все до одного уставились на Мэра, который мог оценить великодушие Петра Степановича, а мог и не оценить. Мэр не оценил. Злобно поджав маленький ротик, он стал усердно целиться в своего противника.
Необходимо отметить, что старый резчик, секундант Петра Степановича, лучше всех в городе знал характер Мэра, который в свое время начинал в Мастерской Игральных Карт под его руководством. Он как раз был уверен в том, что Лука Лукич не способен оценить благородный поступок. Поэтому, отправляясь на поединок, он заранее вынул из чемодана Петра Степановича волшебную палочку и на всякий случай положил ее в боковой карман его пиджака. Он не очень-то верил в чудеса, но наступило мгновение, когда он был вынужден до известной степени в них поверить.
Мэр выстрелил, и пуля, почти долетевшая до груди Петра Степановича, под прямым углом повернула налево и упала в траву.
Трудно передать, какое острое впечатление произвел на Мэра этот странный случай. Коварство, злоба, хитрость уступили место глубокому изумлению в плоских птичьих глазах. Впрочем, все изумились, и немедленно завязался спор. Одни стали утверждать, что это – чудо, а другие – что дуэльные пистолеты состарились и нет ничего удивительного в том, что они не могут послать пулю дальше десяти шагов.
Согласно условиям дуэли, теперь должен был вновь стрелять Петр Степанович. И он действительно выстрелил, но не в Мэра, а в случайно пролетавшую мимо ворону, хотя она была не в десяти, а в добрых тридцати шагах от места дуэли.
Зрители на этот раз не только ахнули, но стали оглушительно аплодировать. Все, кроме, разумеется, вороны, почему-то развеселились. Послышались крики: «Вот это да!", «Вот это работа!", «Какая прелесть!", «Сдавайся, Мэр!» и так далее.
Однако Мэр, по-видимому, и не думал сдаваться. На этот раз он целился долго, очевидно, надеясь попасть в живот противника, а между тем, хотя Петр Степанович ежедневно делал зарядку, много ходил и плавал, живот был его самым уязвимым местом. И снова пуля, долетев до намеченной цели, круто под прямым углом повернула, но на этот раз не налево, а направо. Повернула и упала в море, звонко булькнув, точно вылетела не из пистолета, а из пустой бутылки.
Казалось бы, этот звук должен был подбодрить Петра Степановича. Но, как это ни странно, он вдруг рассердился. Добрые глаза его омрачились, нашлепка на толстеньком носу позеленела от злости, и вопреки дуэльному кодексу он как-то потоптался на месте, загребая левой ногой. Именно с таким упрямым, непреклонным лицом он ставил заслуженную двойку вместо незаслуженной тройки.
Он выстрелил, почти не целясь, и, очевидно, попал, потому что Лука Лукич завертелся на месте, как флюгер. Он почему-то стал ниже ростом. Лицо у него стало испуганное, и он куда-то пошел, шатаясь, на подгибающихся ногах. Администратор вызвал в рупор «скорую помощь», но Мэр хрипло сказал: «Не надо!» – и ввалился в машину, у которой тоже стал жалкий, пристыженный вид.
– Домой, – пробормотал он, и ошеломленные зрители шарахнулись в сторону, освобождая дорогу машине.
То, что произошло через несколько минут, осталось в памяти зрителей на всю жизнь. Поношенная шуба показалась над городом, совершенно не похожая на ковер-самолет, но, однако, чем-то и похожая, потому что, поднимаясь все выше, она не падала на землю, а летела.
По команде Петьки немухинские ребята немедленно обстреляли ее из рогаток, но она была уже далеко. Очевидно, набрав высоту, Мэр застегнул шубу на вторую пуговицу, потому что, долетев до моря, она рванулась вперед, в сторону Летандии, как отметили наиболее проницательные зрители.
Почему Мэр решился на этот отчаянный шаг? Был ли он серьезно ранен и надеялся, что его быстро поставят на ноги тамошние врачи? Боялся ли, что будет уличен в краже волшебных палочек и раскрыт как обманщик перед ботаниками всего мира? Потерял ли надежду восстановить свое положение в городе после злосчастной дуэли?
Выражение «это покрыто мраком неизвестности» сюда не подходит. Все неизвестное в конце концов становится известным, и можно не сомневаться, что когда-нибудь мы узнаем, куда улетел Лука Лукич, благополучно ли он приземлился, помогли ли ему тамошние врачи и, наконец, удалось ли ему убедить жителей Летандии, чтобы его называли не Лукой Лукичом, а Мэром.
Прощание с детством
Удивительно, как быстро все изменилось в городе, когда шуба скрылась из вида.
Художники и поэты, удравшие из Хлебникова, немедленно стали складывать свои чемоданы. Домой, домой! Бал, который Неонилла задумала, был отменен, потому что ее стройные ножки потолстели, и золотые туфельки пришлось отнести в комиссионный магазин, где они были проданы как самые обыкновенные туфли, потому что золото оказалось фальшивым. Директор экскурсионного бюро публично поблагодарил немухинских ребят с Петькой во главе за то, что они мужественно обстреляли из рогаток авиашубу. Сад из волшебных палочек был немедленно передан городу, а Мэр был объявлен по радио жуликом и авантюристом.
Ириночка Синицына еще не стала петь, но время от времени напевала, а ее отец срочно делал новую колоду, чтобы Петр Степанович отвез ее в подарок младшей сестре Фетяска.
Не изменилась только волшебная палочка, которая еще недавно была веткой, полной цветов и листьев.
Конечно, Юра не знал, что он подарил Ириночке маленькое чудо. Но этот подарок был воплощением любви, а он был убежден, что его может спасти только любовь. Интересно, что Петр Степанович придерживался такого же мнения. Однако на всякий случай, кроме сухой ветки, нарушившей законы баллистики, он попросил Ириночку спеть любимый романс Юры и записал его на пленку. Он взял с собой маленький магнитофон.
Обратное путешествие прошло без приключений, так что о нем можно только упомянуть. Но в Немухине Петра Степановича ждало известие, глубоко огорчившее его как Гроссмейстера и как человека: Юра пропал.
Первым это известие принес Петька, который прямо со станции побежал к Заботкиным, разумеется, чтобы узнать, очень ли соскучилась по нему Таня. И через несколько минут они оба были перед Петром Степановичем, умывавшимся с дороги.
– Он пропал! – закричал еще с порога Петька. – Удрал! Его третий день ищут.
Таня, как человек рассудительный, объяснилась более подробно:
– Однажды вечером я заметила, что Юра по пожарной лестнице спускается в город, – сказала она, – а в другой раз утром, когда еще все спали, он бегом взлетел на чердак. И у него было счастливое лицо, вот что меня удивило! Словом, я думаю, что его надо искать в лесу. Ему нравится разговаривать с деревьями, и я его вполне понимаю.
Юра не вернулся и на следующее утро, и решено было отправить за ним поисковую партию в составе Петра Степановича, Тани и Петьки. К ним присоединилась Мария Павловна с судками, в которых находились гороховой суп, куриные котлеты и на сладкое кусок шоколадного торта. Трехразовое питание оставалось нетронутым в течение трех дней, и Мария Павловна справедливо полагала, что мальчик проголодался.
Нельзя сказать, что они так уж быстро нашли его. Короче говоря, они сами успели изрядно проголодаться, прежде чем Петька увидел промелькнувшую в ивовом кустарнике тонкую фигуру. Юра вежливо поздоровался и сказал, смеясь, что не удрал бы, предположив, что это обеспокоит таких почтенных людей.
– Это были три лучшие дня в моей жизни. Белки кормили меня лесными орешками, а знакомый еж показал грибы, которые нужно есть сырыми, потому что на сковородке они теряют свой оригинальный вкус. С моим другом Старой Березой мы говорили о смысле жизни, и она объяснила мне, почему не надо бояться смерти.
«Мы – и деревья и люди, – умирая, отдаем свою жизнь другим, – сказала она. – Я жалею, что Пушкин назвал природу равнодушной».
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.
В молодости Старая Береза была влюблена в Ветра-Полуночника, случалось, что до утра он гладил ее покорные листья. В ее ветвях прятались партизаны. Она убедительно доказала мне, что деревья верно служат людям, а люди нередко относятся к ним беспощадно.
Юра рассказывал, и его странное лицо все разгоралось от радостного волнения.
– Мы верим тебе, – сказал Петр Степанович, – но ведь, кроме нас, никто тебе не поверит. Немногим удается проникнуть в выдуманную страну, и в конце концов они возвращаются, чтобы рассказать о ней обыкновенным людям. Я не стал бы уговаривать тебя, ты счастлив, но это короткое счастье! В обыкновенном мире, конечно, не бродят по лесам, разговаривая с березами, белками и ежами, ты же не захочешь огорчить тех, кто любит тебя. И, кстати, теперь тебе не нужно превращаться в собственный рисунок, потому что Лука Лукич улетел неизвестно куда в авиашубе, а мачеха надеется, что она навсегда избавилась от тебя.
– Короче говоря, – сказал Петька, – не будешь же ты всю жизнь бродить по лесам голодный, заросший, в ковбойке и оборванных джинсах. Вот еще Маугли нашелся! Лесники-то не знают о твоих фантазиях. Примут за браконьера – и вся недолга!
– Самое важное, что каждый час, каждую минуту тебя ждет надежда на счастье, – прибавила Таня.
Заслушавшаяся Мария Павловна уронила судки. Суп пролился, котлеты покатились, и только нетронутый кусок шоколадного торта соблазнительно темнел на зеленой траве.
Юра метнулся в сторону, когда Петр Степанович вынул из кармана волшебную палочку. В больших, мягких глазах было: «Да, да, да», но все выгнутое, как сломанный обруч, лицо говорило: «Нет, нет, нет». Победили, конечно, глаза, ведь недаром же говорят что они «зеркало души». В этом «зеркале» шаткое сомнение стало сменяться уверенностью, а ведь от уверенности не больше двух шагов до решения. Петр Степанович взял в руки волшебную палочку. Ему показалось, что Юра будет стесняться своего превращения, и он скомандовал:
– Прошу отвернуться!
Все послушно отвернулись в сторону, а когда Мария Павловна спросила: «Теперь можно?» – на месте сильванта стоял высокий юноша, смуглый, с вьющейся каштановой шевелюрой, длинноногий, плечистый, но, как ни странно, чем-то непохожий на обыкновенных людей.
«Это пройдет, – подумала Таня, – через два-три дня он ничем не будет отличаться от нас».
(Но она ошиблась. Прошли годы, Юра стал великим поэтом, а поэты, да еще великие, во многом отличаются от обыкновенных людей.)
– Это прощание с детством, – сказал он задумчиво. – Никогда больше я не буду жить в придуманной стране. Рисовать сильвантов я тоже не стану – я не трус, но, по-видимому, это слишком опасно. Мария Павловна, спасибо за обед, от которого остался только кусок шоколадного торта. Я с удовольствием съем его, у меня першит в горле от орехов, которыми меня угощали белки, а есть сырые грибы можно, мне кажется, только один раз в жизни. Сегодня я возвращаюсь в Хлебников. Я не буду больше жить у мачехи просто потому, что я ее не люблю, а она не любит меня. Я окончу школу, а потом стану резчиком в Мастерской Игральных Карт. Надеюсь, что Иван Георгиевич устроит меня в общежитие. Ириночка снова начнет петь, и весь город будет слушать ее. А иногда она будет петь негромко, почти шепотом для меня, когда мы будем одни гулять по набережной вдоль моря. А теперь простите меня за все тревоги, которые я нехотя вам причинил.
Все на свете, к сожалению, кончается, пора и мне поставить точку, без которой не может обойтись самая занимательная история. Но пусть это будет очень маленькая, едва заметная точка. Она не помешает мне снова вернуться в страну, где ловят погасшие звезды и говорят правду, только правду, и ничего, кроме правды.
Обсуждаем четвертую сказку и не находим пятую
– Почему вы думаете, – спросил меня дядя Костя, когда я прочитал ему эту историю, – что здесь нет ничего полезного для моего путеводителя? Во-первых, вы подробно рассказали о Павле Степановиче, что вполне соответствует третьему разделу плана: коренные жители, отлучавшиеся из города только по неотложным делам. А во-вторых, из этой истории можно сделать практические выводы. Почему бы, например, не устроить нечто вроде соревнования между Немухиным и Хлебниковым в отношении чистоты и порядка?
Я спросил, думает ли дядя Костя упомянуть в путеводителе о чудесах и нельзя ли их тоже включить в условия соревнования. Дядя Костя подумал.
– Именно можно. Более того, необходимо! Помилуйте, тысячи людей верят в летающие тарелки. Почему же не задуматься, по какой причине именно в Немухине и в Хлебникове никто не удивляется чудесам? И потом, не надо забывать, что мы еще не нашли ни самовар, ни пушечку, ни шкатулку.
– Дядя Костя, а вы не думаете, что эти вещи Лука Лукич оставил себе?
Это была минута, когда о глазах дяди Кости нельзя было сказать, что они смотрят в разные стороны, потому что они сошлись у переносицы и его ошеломленный взгляд был прямо устремлен на меня.
– Более того, – продолжал я, – не только Заботкины, но и Петя, и вы, и Павел Степанович много раз встречались с Юрой Лариным. Могли они спросить у него, не видел ли он у своего отчима самовар, пушечку или шкатулку? Правда, он улетел в неизвестном направлении, но в Хлебникове осталась мачеха Юры. Она, без сомнения, очень зла на Луку Лукича и именно поэтому расскажет нам, что он украл из Музея.
– Немедленно еду в Хлебников! – крепко зажмурив глаза от волнения, сказал дядя Костя. – Я просто вижу пушечку у нее на дворе.
Конечно, дядя Костя не поехал в Хлебников. Поехал я, и это было прекрасно. Правда, если смелая мысль о соревновании городов была бы осуществлена, Немухину пришлось бы признать свое поражение. Мне даже захотелось переписать страницы, на которых Юра Ларин рассказывал о том, как хорош его городок, опоясанный ветряными мельницами и украшенный ржавыми якорями. Я бы охотно побродил по узким улицам, вдоль которых дома стояли так близко друг от друга, что можно было обменяться рукопожатием с соседом, жившим на противоположной стороне.
В доме, где жил Лука Лукич, меня встретила мачеха Юры, Неонила Петровна. Пожалуй, теперь нельзя было назвать ее дамой, мечтавшей, чтобы ее маленькими стройными ножками любовался весь город. Скорее можно было поверить, что она действительно съела своего первого мужа. Она была в халате и шлепанцах (а не в узких туфлях). Однако, когда я заговорил о Луке Лукиче, злость все-таки закипела у нее в пятках и поднялась до самого горла.
– Слышала, слышала, – злобно сказала она, узнав, что я из Немухина. – Лука рассказывал, что он там жил, но климат, видите ли, ему не понравился. И уехал, хотя ему в ноги кланялись, чтобы остался.
– А вы случайно не помните, Неонила Петровна, не подарили ли ему что-нибудь на память, когда он уезжал?
– Как же не подарили? Подарили. Другой часы получает, или перстень какой-нибудь, или портфель с золотой дощечкой. А ему – смеху подобно – старую пушку.
– Пушку! – Сердце у меня куда-то поехало, и пришлось приструнить его, чтобы оно вернулось на место. – Можно взглянуть?
Пушечка, стоявшая во дворе, была петровская, а не елизаветинская, как значилось в описи. Ей цены не было, и сразу стало ясно, почему Лука Лукич увез ее из Немухина вместо прощального подарка. Я зажег электрический фонарик и заглянул в короткий ствол. Он был набит осенними листьями, занесенными в пушечку ветром, но когда мне удалось добраться до дна, я, к сожалению, ничего не нашел.
– Неонила Петровна, – сказал я таким сладким голосом, что слова растаяли во рту, прежде чем мне удалось заговорить снова. – А может быть, Лука Лукич получил в подарок не только пушечку, но еще что-нибудь? Скажем, модель фрегата или самовар?
На этот раз у меня не оставалось сомнений, что ей до смерти захотелось съесть меня, потому что вместо ответа она промолчала, злобно оскалив длинные желтые зубы.
Если бы ветер умел играть на свирели, я подумал бы, что это – ветер. Он даже представился мне в лаптях и соломенной широкополой шляпе. Чем ближе я подходил к Мастерской Игральных Карт, тем отчетливее различал нежный женский голос, а когда один прохожий с доброй улыбкой сказал другому:
«Ириночка», – я понял, что поет та самая Ириночка Синицына, о которой старый резчик с огорчением писал сестрам Фетяска, что его дочка перестала петь.
Приближаясь к дому Ивана Георгиевича, я увидел хлебниковцев, которые слушали ее на балконах, у калиток, а некоторые даже выглядывали из ворот. Как было принято выражаться в старину, они «щадили ее скромность».
Слушатели зашикали, убедившись, что я подхожу к дому. Впрочем, шиканье прекратилось, когда мне открыл сам Иван Георгиевич, которого сестры Фетяска предупредили о моем приезде.
– Милости просим, – радушно сказал он.
Я передал ему письмо от Зои Никитичны, а он не теряя времени, передал мне карточную колоду.
– Чтобы не забыть, – сказал он. – А то память стала слабовата… Извините, я отлучусь на минуту. Попрошу Ириночку петь немного потише. Видите ли она сейчас стирает и в этих случаях особенно громко поет.
Он вернулся не один. Юноша с каштановой шевелюрой, высокий, тот самый, который был чем-то похож на молодого Блока, поздоровался со мной и сказал, улыбаясь:
– А ведь я знаю, что вы были у мачехи и ничего не нашли. – Он был дома и хотя не участвовал в сцене, разыгравшейся между мною и мачехой, но как бы участвовал: сидел у окна и думал, войти ему или нет.
– Мне хотелось поговорить с вами наедине – сказал он. – А между тем по лицу Неонилы было уже заметно, что у нее закипает в пятках обида. Но скажите, пожалуйста, вы нарочно не спросили у нее о шкатулке, кроме фрегата и самовара?
Я схватился за голову:
– Забыл! Неужели она у нее?
– Нет, у меня. Я храню в ней письма, ответы на письма и…
Ручаюсь, что он хотел сказать: «и стихи». Но удержался.
– И другие бумаги.
– Где же она?
– У Ириночки, – ответил Юра, и я догадался, что именно он впервые стал называть ее именно Ириночкой, а вслед за ним и весь город. – Сейчас принесу.
Это была высокая шкатулка, внутри покрытая красным лаком, а снаружи – черным. Она искусно складывалась из двух других шкатулок и, раскрываясь, составляла, как это было недаром упомянуто в описи, поверхность, на которую, как на письменный стол, было наклеено зеленое сукно.
– Но в ней ничего нет, – сказал я, заглянув сперва в верхнюю, а потом в нижнюю часть.
– Совершенно верно. Но было.
– Рукопись?
– Да, и очень интересная, по меньшей мере для меня. В жизни Тани Заботкиной были, оказывается, приключения, которые мне и не снились. Я видел Лекаря – такой симпатичный маленький человек. Но представить себе, что за ним в Немухин прилетела вся его Аптека… Словом, много любопытного, хотя кое-что Ночной Сторож, без сомнения, придумал. Скажем, едва ли Солнечные Зайчики могли так долго прожить без воздуха. Все зайцы, как известно, нуждаются в воздухе, а солнечные уж и подавно! Ведь недаром же они старательно прячутся в пасмурную погоду! Но все это, разумеется, мелочи. Лошадь в розовых очках – просто прелесть! О сороках рассказано слишком подробно. Но зато историю о том, как два мальчика держали пари, кто дольше просидит под водой, вообразить, по-моему, невозможно. Вот!
И Юра торжественно протянул мне толстую тетрадь.
– Вам даже не придется переписывать ее, это сделала Ириночка, а у нее разборчивый почерк…
Он хотел продолжить, но в эту минуту Ириночка вошла в комнату, и это была минута, когда Юра забыл обо мне, о шкатулке, о том, что он в ней нашел, и даже, без сомнения, о том, что на дворе – день, а не ночь.
Я люблю слово «симпатичный», хотя в наши дни оно почему-то кажется старомодным. Так вот, это слово не просто подходило к Ириночке Синицыной, а, я бы сказал, подбегало. С первого взгляда можно было сказать, что о других она думает больше, чем о себе.
– Ночной Сторож назвал эту историю «Великий Нежелатель Добра Никому», – сказал Юра. – Но, по-моему, это не очень удачно. Ведь все-таки он желает добра собственной дочке! И потом, завидовать всем – это все-таки другое, чем не желать добра никому. Я назвал бы ее




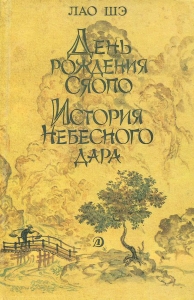

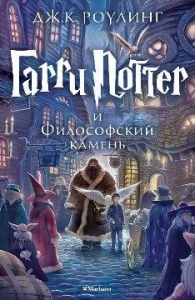




Комментарии к книге «Сильвант», Вениамин Александрович Каверин
Всего 0 комментариев