Мошковский А. И ТРАВА И СОЛНЦЕ Повести
Рисунки Ф. Лемкуля
ДЕЛЬФИНИЙ МЫС Повесть
ВСТУПЛЕНИЕ
Дул попутный ветер, и Зевс, косматый и грозный, смотрел с тугого паруса вдаль.
Там кувыркались дельфины, сверкало солнце, а здесь ритмично взлетали длинные весла и из трюма доносилось слабое постукивание: в несколько рядов стояли в деревянных ячеях большие глиняные сосуды с вином — острый, дурманящий запах его щекотал ноздри кормчего, управлявшего судном.
Понт Эвксинский[1] искрился и полыхал синевой.
Кормчий задумался. Он вспомнил слепящие белым камнем Афины, откуда еще мальчиком был увезен родителями сюда, в Скифию, потому что у отца отобрали за долги крошечную гончарную мастерскую. Здесь он окреп, возмужал, а год назад нанялся к хозяину судна кормчим: возил грузы. Что ни день — то качка, от которой поташнивает, брызги в лицо, скрип весел и острая резь в глазах — вечно напрягаешь их, глядя вперед, чтобы не налететь на риф, не сесть на мель, — и вечно от зноя сухо в глотке…
Скорей бы прибыть в Херсонес и спуститься в подвальчик, где много холодного вина и острой еды, усесться на деревянную лавку и забыть обо всем…
Кормчий смотрел вперед, оглохнув от солнца и воспоминаний, смотрел в смутную синеву — и ничего не видел.
И не слышал.
Не слышал голосов тех, кто сидел за веслами. А они о чем-то кричали. И очень громко и возбужденно.
Он трогал свою жесткую бородку и мечтательно улыбался.
И вдруг — удар!
Море вокруг клокотало, мачта накренилась. Огромное лицо Зевса с вытаращенными глазами перекосилось. В нем был гнев и ужас. Удар! Еще удар! Гигантский острый мыс, врезавшийся в море, был далеко, но из воды вокруг судна вдруг выскочили скалы. Море возле них взрывалось, крутилось, пенилось. Судно накренилось. Загремели, выскакивая из ячей, глиняные сосуды. Гребцы стали прыгать в воду. Мачта переломилась, и лицо Зевса сморщилось, исказилось от боли.
— Какой неверный, какой скалистый берег! — крикнул кормчий, хватаясь за обломок мачты…
Судно так и не прибыло со своим грузом в бухту назначения. Но гибель его не прошла бесследно. Не прошла хотя бы уж потому, что через две тысячи лет она перевернула вверх дном жизнь одного московского мальчишки, да и не только его…
Глава 1 ОДИК И ОЛЯ
Одик с сестрой и родителями ехал в Скалистый — приморский городок, названный так, наверно, потому, что там было множество острых опасных скал.
Оля смотрела в окно и хмурила тоненькие бесцветные бровки, а Одика так и распирало от улыбки, и он героически боролся с собой. Улыбаться сейчас было нельзя, потому что мама с отцом заспорили. Охота же! Делать им больше нечего. Мама провела пальцем по зеркалу, занимавшему всю дверь в купе, и зеркало, как молния, рассек зигзаг чистой дорожки. Она передернула плечом:
— Даже вагона не убрали как следует. А что будет днем? Духотища, жара…
Ну точно помешалась на чистоте! И дома от мамы нет спасения: охотится за каждой пылинкой и не успокоится, пока не поймает ее сырой тряпкой или пылесосом.
— Переживем, — буркнул из-под потолка отец, и очень правильно буркнул: такое дело… Он стоял на шаткой стремянке, сердитый, грузный, и самостоятельно застилал верхнюю полку.
— Но мы б уже были там… Там, понимаешь… Два часа — и никаких постелей и гари! В море б уже купались…
— А путь от аэропорта? И ты забываешь: детям надо брать на самолет взрослые билеты, не посадишь же Одика на коленки.
Одик прыснул.
— Пузырь! — Оля возмущенно убрала со столика худые локотки и стала вытираться платочком.
— А ты заморыш! — выпалил Одик. — Вяленая треска, щепка… А ну позвякай костями!..
Мама тут же вонзила в него осуждающий взгляд.
Одик прикусил язык. И не потому, что струсил — в семье он никого не боялся, — не хотел связываться с сестрой: еще рассыплется от его шуток на свои составные части и до моря они не доедут. А это совсем не входило в его планы. Дома мама то и дело твердит ему: отстань от нее, ты старший, ты здоровый и к тому же она девочка… Ну и что? Значит, потому что он парень, и не такой тощий, и кончил уже пятый класс, он должен вечно помалкивать? А может, он еще и виноват, что она не такая добрая и упитанная, как он, что у нее оказались слабоватые легкие и врачи прописали ей сухой, йодисто-смолистый воздух юга?
Нет уж! Худущие — они все злые. Все, как один.
— Билеты! — возразила мама. — Разве дело в билетах? Да мы бы на самолете целых три дня сэкономили — туда и обратно, я ведь так устала, и на питание бы не тратили, а ты…
— Валя! — обрезал отец, в сердцах оборвал на наволочке пуговицу, качнулся, стремянка рухнула, и он, удерживаясь на руках за верхние полки, запыхтел, беспомощно заболтал ногами. — Прошу тебя, не говори «сэкономили»! Что ты в этом понимаешь? Это моя монополия!
Одик заулыбался: уморили! И уткнулся в стекло с грязными разводами. Отец запрещал маме говорить «сэкономили» потому, что работал экономистом в Министерстве легкой промышленности и не хуже новейшей электронно-вычислительной машины мгновенно производил в уме сложнейшие подсчеты всех их расходов и приходов. Но, по словам мамы, экономистом он был никудышным, потому что их семейный бюджет вечно трещал и лопался по швам и перед получкой ей всегда приходилось как-то выкручиваться.
Ноги прыгали в воздухе до тех пор, пока мама не подвела под них стремянку.
— Воображаю, как мы будем сегодня спать! — сказала она.
— Зато у нас полная гарантия, что мы и наши драгоценные дети увидим море…
— Ах ты вот о чем, вот о чем! А я и не догадывалась, — угрюмо сказала мама.
«О чем это они?» — подумал Одик.
Кое-как покончив с постелью, отец, кряхтя и вздыхая, улегся и мгновенно заснул: тихо и удовлетворенно засопел. С него этот спор как с гуся вода — молодец! Только край плохо заправленной простыни выбился из-под матраца и лениво раскачивался в такт ходу поезда.
— Узнаю родной дом! — Мама показала глазами на простыню и развела в бессилии руками.
Этот жест был так знаком Одику. Мама и отец — они были такие разные. Он — беспечный, рассеянный, весь какой-то расслабленно-благодушный, а мама — всегда собранная. И ни капельки благодушия. Она вечно ходила за отцом по комнате и прибирала: ставила на свое место стаканы и туфли, половой щеткой выкатывала из-под кровати яблочные огрызки, рвала на клочки оставленные на тумбочке листы бумаги со столбиками цифр после длительной игры его с гостями в преферанс, вешала на спинку стула комом брошенный на кушетку пиджак, ползала по паркету и наскипидаренной суконкой стирала кривые черные полосы, оставленные отцовскими туфлями, — не может ходить, как все люди! Иногда мама до глубокой ночи наводила в комнате порядок — подметала, скребла, чистила, утверждая, что туда, где побывал отец, надо немедленно посылать экскаватор, пока еще можно что-то расчистить…
И говоря все это, мама вот так же разводила руками.
Отец жил, как хотел, и мамино стремление к аптечной чистоте и порядку иногда бесило его. И правильно. Жаль вот, от этой его беспечности частенько приходилось страдать Одику. Он смотрел на край качающейся простыни и вспоминал, как однажды чуть не получил из-за отца двойку по арифметике: отец с вечера по рассеянности сунул в свой портфель его тетрадку с задачником и унес в министерство; в другой раз отец потерял ключ от двери, мама ушла к школьной подруге, и Одику пришлось как кошке лезть в форточку, и он сильно поцарапал щеку. И еще маловато зарабатывал отец: ни копейки сверх зарплаты.
Второй год ждал от него Одик велосипеда и новых клееных эстонских лыж с полужесткими креплениями. Отец редко давал ему больше гривенника, даже после самых слезных просьб. А у других ребят было все — и велосипед, и легкие гибкие лыжи, и даже часики на руке, — эти ребята в точности знали, когда кончится какой урок и надо ли трястись, что тебя вот-вот вызовут, или можно спокойно откинуться на спинку парты и поплевывать в потолок… Чего-то все-таки не было в отце, чего-то не хватало ему, и, случалось, Одик целиком держал сторону мамы, хотя и она была не слишком щедра…
Вагон убаюкивающе болтало и трясло, словно поезд, как и они, дрожа от нетерпения, спешил к теплому морю и кипарисам.
Одик слушал стук колес, сопение, вздохи и скрип под собой. А утром стало совсем жарко: солнце быстро накалило цельнометаллический вагон. Мама с Олей почти ничего не ели, а вот у Одика разыгрался чудовищный аппетит. Да и не то чтоб разыгрался, он никогда не покидал его. Чего-чего, а поесть Одик любил.
В дорогу мама набрала всего: утром Одик запросто умял два крутых яйца, бутерброд с ветчиной и принялся обгладывать большой кусок цыпленка — кур он особенно любил: их белое мягкое мясо, разделявшееся на тонкие волокна-ниточки… Почаще бы давала! Когда он ел, Оля нудно тянула из стакана в блестящем подстаканнике чай и с нескрываемым презрением посматривала на него сквозь густые ресницы. И, видя это, Одик еще громче причмокивал, ухмылялся ей, точно говорил: «Вот как надо есть! Ела бы, как я, человеком была бы. А от того, что все время бегаешь, визжишь, играешь в мячик и без конца проглатываешь разные книжки, — от этого здоровой не станешь». И еще пуще нажимал на цыпленка. Скоро в глазах мамы появилось что-то похожее на испуг. И когда Одик, кое-как обглодав свою часть цыпленка, потянулся к ножке, лежавшей перед Олей, мама сказала:
— Хватит с тебя.
— Еще хочу, — проныл Одик.
— А Оля? Она ведь не ела еще.
— Да пусть лопает, — разрешила сестра, — а то умрет от истощения и не увидит моря… Жвачный!
— Так много есть вредно, — сказала мама.
— Так ведь все равно испортится, — вмешался в разговор отец. — Одик растет, ему надо побольше есть.
Одик уже протянул руку к Олиной куриной ножке, но мама схватила ее и вместе с другой снедью завернула в прозрачную хрустящую бумагу.
— Я считаю, что на нашу семью хватит одного толстяка, — сухо сказала она и придвинула Одику стакан. — Пей.
Одик с преувеличенным сожалением вздохнул, стал большими глотками пить полуостывший чай и захрустел печеньем.
— Он не сладкий… Попроси еще сахару. И печенье кончается.
— Одик, в нем четыре куска, — сказала мама, — это более чем достаточно.
Отец сидел рядом, без пиджака, в ярко-синей трикотажной безрукавке, с сонливыми глазами. Он улыбался Одику и поглаживал свой тугой, как бочонок, живот.
— Я хочу еще, — сказал Одик, — я не напился.
— Верблюд! — по-змеиному прошипела Оля. — Хочешь на всю неделю напиться!
— Хоть бы до обеда дотерпеть… — заявил Одик. — Печет как!..
— Ну хватит, мне надоели твои разговоры о еде, — сказала мама. — Какая же ты зануда и чревоугодник!
— Удав! — процедила Оля. — Пузырь!
— Замолчи, — сказала ей мама — то-то, и ее одернула! — и повернулась к Одику: — Займись чем-нибудь.
— Чем?
— Если нечем, то смотри, как я вяжу. — Мама вынула из сумки клубки толстых ниток и спицы.
— Вот еще! — хмыкнул Одик. — Очень мне это интересно… Что я, девчонка, что ли?
Тут уж Оля не растерялась.
— Тебе далеко до девчонки! — пискнула она и негодующе передернула плечиком — ну точь-в-точь как мама. — И разве тебя, кроме собственной утробы, что-нибудь интересует?
Одика слегка заело.
— Много ты знаешь! Заткнулась бы.
— И зачем ты едешь на юг? — не унималась сестра. — С тоски ведь помрешь там.
— Это почему же?
— Как будешь там жить без Игорька и Михи? Их бы с собой прихватил… Было бы кем командовать!
— Стоп, — сказал Одик. — Отдохни… Тебе вредно так долго злиться.
До сих пор не мог он понять до конца, почему сестра терпеть его не может. Наверно, потому, что завидует его силе и здоровью. Откуда же у нее может быть доброта?
Про Игорька вспомнила, про Миху! Ну и что с того, что они на три года моложе его? Зато у него с ними, как говорится, полный контакт. Его слово — для них закон. Вместе катают снежные бабы и пускают с верхнего этажа их дома бумажных голубей. Потом Одик приводит их к себе и начинает играть в шашки — сам же научил — и, конечно, быстро обыгрывает их, большеротого грустного Игорька и Миху — карапузика с удивленно вытаращенными глазищами. Они-то его ценят: хохочут от его острот, слушают не моргнув глазом разные истории, и всему верят, и повсюду бегают за ним. А с мальчишками из своего класса у него не очень ладится: дерутся, не дают списывать, перемигиваются за его спиной и дразнят Бубликом. А почему? Потому ли, что лицо у него румяное и круглое, как бублик? Или еще почему? И разве это плохо, что он Бублик?
Отец сладко зевнул, достал из чемодана колоду карт и стал бродить из купе в купе. Одик не слышал его голоса, но знал — уж тут ошибиться невозможно! — искал любителей преферанса. Скоро он вернулся, сел и стал обмахиваться сложенной «Вечеркой». По его крутому, с залысинами лбу и тугим красным щекам непрерывно катился пот.
— Что за народ подобрался! Хоть бы один в преферанс играл — бездарный вагон!
— Дома не надоело? — спросила мама. — Зачем брала «Мертвую зыбь»? Ведь по знакомству дали в библиотеке на весь отпуск.
— Ох и пекло же! — простонал отец и полез на верхнюю полку.
Мама, поджав ноги, без туфель, устроилась внизу и вязала Одику зеленый свитер.
Сверху донеслось густое сопение — заснул отец.
Обедали они в Харькове — хлебали горячий украинский борщ прямо на платформе под навесом и жевали малосъедобный шницель с тушеной капустой. Зато южнее этого города с продовольствием было куда лучше: отец рыскал по пристанционным рынкам и приносил то круги творога с оттиском марли, то пучки редиски и холодные моченые яблоки, а в одном месте — кажется, это был Мелитополь — принес что-то завернутое в промасленную бумагу — все семейство наблюдало из окна за его продовольственными экспедициями; Одику с Олей мама строго-настрого приказала из поезда не выходить. В бумаге оказался свежеизжаренный цыпленок. Узнав, что отец отвалил за него, не торгуясь, целых три рубля, мама вздохнула:
— Боже мой, Леня, какой ты неумелый, какой неприспособленный! Ведь нас четверо, и нам еще месяц жить у моря и брать обратные билеты…
— Сдаюсь! — Отец дурашливо поднял руки. — До самого Скалистого буду голодать, даже на газировку не потрачусь… Клянусь!.. — По его лбу еще обильней бежал пот. — Ох и жжет, как на сковородке!
Одик хохотнул, а мама посуровела.
— Не видела людей легкомысленней тебя… Надо же было поехать именно сейчас… Ведь говорила же… Если ты здоров и толстокож, то не все же такие…
Конечно, она имела в виду Олю, потому что и в Москве запрещала ей долго бегать на солнце.
— У моря жара переносится легче, — сказал отец. — И потом, сама понимаешь, нельзя упускать возможность — кто бы дал нам еще такое письмо? Я думаю, Карпов не сможет отказать…
— Наивный! — Мама стала распутывать мохнатую зеленую нитку. — А если он возьмет с нас не столько, сколько говорил Гена, а заломит? Сможем мы у него поселиться? Да и кто мы ему такие?
У Одика снова разгорелся жгучий интерес к тому письму, к конверту с синими ирисами, которым снабдил их в день отъезда сосед по квартире, дядя Гена. Он только что вернулся из отпуска, темно-коричневый, как орех, пополневший, весь какой-то лоснящийся от радости и впечатлений, и сказал, что жил у самого моря, в замечательных условиях, у Карпова, веселого и умного человека, директора местного дома отдыха, что может рекомендовать и их ему. Заодно они отвезут ему купленную по его просьбе головку для электробритвы «Москва» и несколько запасных лампочек для карманного фонарика. Отец с мамой обрадовались, и дядя Гена всю неделю бегал по магазинам, искал подарки и через какого-то знакомого, переплатив три рубля, достал югославскую нейлоновую сорочку, а потом несколько раз переписывал из-за помарок письмо — неловко было посылать грязное. Конверт он не заклеил, и у Одика так и чесались пальцы вынуть письмо. Но брать без спроса он побаивался, а просить не хотел. Одик только узнал, что жить им предстоит в городке Скалистом — ух, наверно, и скал там наворочено! — на Тенистой улице, дом номер 5, — вот где, должно быть, тенища! Потом, когда Оля на минуту вышла и в комнате никого не оказалось — была не была! — Одик кинулся к раскрытому чемодану, в который все было в беспорядке набросано: термос, мамин купальник, крем для загара, мотки ниток, — вынул из кармашка на внутренней стороне крышки чемодана письмо и принялся в лихорадке читать: «Глубокоуважаемый Георгий Ник…» За дверью послышался стук Олиных сандалий, и она едва не застала его на месте преступления — чуть успел сунуть конверт в кармашек. «Глубокоуважаемый…» — так, пожалуй, можно обратиться к одному морю», — вдруг вспомнил Одик и засмеялся.
— Ты чего? — спросила мама.
— Так… А море там очень глубокое?
— Тебе хватит, чтобы утонуть! — съязвила Оля.
— Заткнись. Вот научусь плавать — буду ловить тебя за ноги, пока не пущу ко дну.
— И неостроумно! Такой большой и толстый, а плаваешь как молоток. И не научишься без помощи Игорька.
— Зато ты способная — дальше некуда! — крикнул Одик. — Ты…
Мама оторвалась от ниток и так посмотрела на него, что Одик осекся и смягчился:
— Научусь… Вода в море соленая, плотная и лучше держит.
— Тебя удержит? Тебя ничто не удержит!
— Удержит. Научусь.
Оля иронически поджала губки:
— Попробуй!
Пейзаж за окном меж тем изменился: кончились леса, исчезли холмы с известковыми карьерами и огромные островерхие темно-бурые терриконы возле шахт — отвалы ненужной породы. Промелькнули длиннющие украинские станицы с белыми мазанками, с утками и гусями на прудах, с садами, в которых уже наливались яблоки, темнели вишни и сливы. Степь была гладкая, как стол, с белыми пятнами солончаков, с худыми и тощими, точно воды им давали по чайной ложке в день, пирамидальными тополями. И становилось все жарче, все суше и томительней…
Отец редко смотрел в окно — он уже ездил по этой дороге — и больше спал.
Глава 2 ПИСЬМО С СИНИМИ ИРИСАМИ НА КОНВЕРТЕ
Впереди показался большой южный город. Мама стала расталкивать отца и в панике укладываться. Отец тер заспанные глаза, а мама еще раз напомнила ему, чтоб переложил письмо из чемодана в пиджак, и, когда он сделал это, для верности переспросила, не сунул ли он его мимо кармана. Как будто все их благополучие, вся их жизнь у моря теперь зависели от этого письма с синими ирисами на конверте!
Потом они долго тряслись в большом, пропахшем бензином автобусе, мчались по автостраде со столбиками по краям, мимо каких-то беленьких поселков с шиферными крышами, с садами и огородиками, с автопавильонами и рыжими осликами у рынков, мимо виноградников и табачных посадок. Дорога лезла все выше. Холмы сменились горами, с гор смотрели сосны и дубы, и стало не так жарко; на поворотах дороги вдруг появлялись то бронзовые орлы на постаментах, то выбегали горные, тоже бронзовые, козы, то возникали бодрые бетонные пионеры с горнами и барабанами. Потом стало совсем свежо. Что-то белое, сырое и косматое заволокло все впереди и ворвалось в автобусные окна холодом и моросью.
— Облака! — завопила Оля. — Мы в облаке.
Сразу потемнело, потом внезапно стало светло, в глаза наотмашь ударило солнце, и Оля завопила:
— Море! Море! Я вижу — море!
От быстрой езды у Одика рябило в глазах, пейзаж так быстро менялся, повороты были так внезапны, его так подбрасывало и дергало, и горы над головой были такие отвесные, а ущелья у самых скатов автобуса такие крутые и глубокие, и все это так неслось, мелькало, дразнило, что у Одика кружилась голова и он не успевал увидеть и запомнить все.
Он должен был первым увидеть море, и не увидел, и не мог даже понять, где оно.
— Где ты видишь его? — крикнул Одик.
— Вон!
Он опять ничего не увидел, ничего, кроме бескрайнего синего неба. Внизу оно было темней, чем сверху.
— Я ничего не вижу! — Одик закрутил головой во все стороны: — Где оно, где?
— Скрылось! — крикнула Оля. — Ты снова жевал чего-нибудь?
Ох как хотелось стукнуть ее — и стукнул бы, да мама сидела рядом. Одик заранее знал, что Оля вконец отравит его существование на юге и уже принялась отравлять. Лучше всего не замечать ее. Но попробуй не заметь, если с утра до вечера путается под ногами и суется во все дела. Зато из-за нее-то и на юг поехали! Отец отнес в комиссионный на Арбате оставшуюся от дедушки подлинную картину Айвазовского; ее, на их счастье, купил какой-то провинциальный музей, и они смогли поехать…
Потом кое-кому из пассажиров — среди них был и отец — стало нехорошо. Водитель остановил автобус, люди вышли наружу подышать свежим воздухом. Отец стал зеленоватый и вроде бы чуть похудел. Но мама тем не менее спросила у него, когда все уселись:
— Письмо не потерял?
— Нет.
Потом и Одик увидел море, но оно, если быть до конца честным, не очень поразило его. Может, потому, что он устал и злился на Олю, что она первая увидела море, или потому, что глаза его не могли принять сразу такую уйму всего — не вмещалось! — не могли вобрать в себя так много гор, зелени, облаков, поселков и полей с аккуратными зелеными рядками, со всеми этими красивыми бетонными статуями — хоть музей открывай!
Море он увидел за стволами прямых, темных, похожих на тополя, но более строгих и узких деревьев — не кипарисы ли? — и оно было очень большое, очень синее и все в каких-то полосах ряби, точно от холода его обметало гусиной кожей…
Потом автобус мчался вдоль моря по ровной дороге, и назад убегали уютные городки с кафе, столовыми, гостиницами, с зонтами пляжей — только что это за пляжи? — все из камней, которыми можно укокошить, наверно, и бегемота. И вот они приехали, выгрузили чемоданы, сумки, свертки, и водитель показал отцу, куда надо идти к Тенистой улице.
— Невероятно! — сказала мама, оглядываясь. — И есть же такие, что живут здесь весь год… Ты письмо не потерял?
— Дети, не попадите под автобус! — крикнул отец.
Они рысью перебежали автостраду и двинулись в тени высоченных деревьев. Навстречу им шли легко одетые люди, шутили, смеялись, ели мороженое («Папа, купи!» — «Потом»). Где-то играла музыка. Они миновали магазин «Подарки» с просторными, богато убранными витринами — не хуже, чем в Москве; прошли мимо высокого кинотеатра «Волна», похожего на гигантский аквариум — бетон, стекло и металл, — с афиш его ослепительно улыбалась белозубая красавица в бескозырке и моряцкой тельняшке.
Навстречу им, замедлив ход, ехала машина с зеленым огоньком.
— Такси! — крикнул отец, изнемогавший под тяжестью двух чемоданов.
— Спасибо, нам уже близко, — сказала шоферу мама, перегруженная сумками, и машина, недовольно фыркнув, опять набрала скорость.
Впрочем, навьючены были все: Одик, весь перекосившись, мучительно сморщившись — ничего себе, приехали на отдых! — тащил на плече сумку-рюкзак; Оля, мелко семеня, тоже несла большую авоську с кульками. Справа от них, постепенно возвышаясь, уходили зеленые, лесистые снизу горы и совершенно голые, лысые сверху, точно вся растительность вылезла от старости. Слева — за деревьями и оградами — нестерпимо синело Черное море, то самое, к которому они так стремились.
— Скажите, Тенистая улица скоро? — спросил отец у длинного парня в морской мичманке.
— Третья отсюда.
— Ох-х-х! — крикнул отец и, мокролобый, колышущийся, со сползающими с живота брюками, двинулся вперед.
Улица и в самом деле была тенистой, почти темной — в платанах, кипарисах, тополях, и лишь редкие солнечные блики пробивались сквозь листву и, как медные монеты, прыгали на дороге.
— Кажется, тут. — Отец опустил чемоданы у металлической калитки и рукой провел по лбу. — Только бы устроиться… Эге, да тут техника в почете! — Вздохнул почему-то и храбро нажал большим пальцем кнопку звонка.
Дома не было видно. Он прятался в густейшей зелени — сплошные деревья и кусты.
— Как в тропиках! — пропищала Оля. — А море отсюда близко?
— Леня, приготовь письмо, — предупредила мама, — и, умоляю, будь с ним предельно вежлив.
Где-то в глубине сада, в листве непроходимых джунглей, возникла вдруг, приближаясь, негромкая песенка, послышались легкие шаги, и Одик увидел за решеткой калитки девушку в пестром сарафане. У нее была короткая стрижка; руки, плечи и лицо ее сильно загорели, глаза смотрели очень приветливо.
— Вы к кому? — спросила она, оглядывая их багаж.
И Одик подумал, что не так-то хороши у них дела.
— Это дом номер пять? — спросил отец.
— Да, но у нас нет свободных мест, и вообще мы никому со стороны не сдаем.
«Ну чего он медлит? — испугался Одик. — Почему не говорит про письмо?»
— Нет-нет… Подождите… Не уходите… Мы тут везем кое-что Георгию Никаноровичу, и у нас есть письмо к нему. — Отец засуетился и стал рыться в карманах. — Куда ж оно запропастилось?
— Ты потерял его? — У мамы даже голос, казалось, побледнел.
Девушка с прежней улыбкой смотрела на них. И тут Одик увидел, что она не одна. Рядом с ней стоял невысокий мальчик в майке и новых коротких штанах с большими, сильно оттопыренными наружными карманами. У него были серьезные глаза, а на тонкой шее висела ниточка с разноцветными ракушками.
— Вот оно, нашел! — радостно — и в этой радости было что-то жалкое — вскрикнул отец и протянул между железных прутьев измятый, переломанный в двух местах конверт с синими ирисами.
Девушка склонила голову и стала читать. Тень от ее длинных ресниц и круглой щеки лежала на бумаге. И чем дальше она читала, тем красивей казалось Одику ее смуглое лицо — точеное, узкое, с тонким носом и маленькими, аккуратно сложенными губками. А когда она перевернула письмо и, доканчивая его, читала, наверно, про эту самую югославскую сорочку и головку для электробритвы системы «Москва», она снисходительно улыбнулась и стала еще красивей, у него появилась надежда. А когда она кончила читать и подняла к ним лицо, Одик ни в чем уже не сомневался.
Однако мама, видно, не разделяла его уверенности: глаза у нее были довольно-таки тревожные.
— Право, не знаю, — сказала девушка, — у нас ведь совсем нет свободных комнат, есть одна с террасой, но мы со дня на день ждем родственников мужа… («Вот тебе и «девушка»: уже замуж выскочила!») Проходите, пожалуйста, поставьте пока что у нас вещи, а Виталик сводит вас к мужу… Он недалеко работает.
Мурлыча под нос все ту же песенку, она повела их к дому.
— А папа обещал достать павлинов — самца и самку, — сказал вдруг Виталик, и отец невольно рассмеялся.
— Зачем же вам тут павлины?
— Для красоты, — сказал мальчик. — Нету птиц красивей их!
Они прошли, чуть пригнувшись, по темному туннелю сквозь зелень, поставили вещи у большого дома с террасами, лестницами, с телеантенной на крыше, и отец с Виталиком и Одик зашагали к дому отдыха «Северное сияние». Одик шел сзади и старался не отставать. Он был слегка напуган всей этой красотой и неизвестностью — удастся ли устроиться? Как у него сложатся отношения с Виталиком? Он, пожалуй, не старше Игорька, но уж слишком независимо держится.
Быстро перебирая тонкими ножками, деловитый и уверенный, Виталик привел их через высокие ворота на территорию дома отдыха: дворец с колоннами, аллеи, клумбы, фонтаны со статуями… Мальчик кивнул сторожу и санитаркам в белых халатах и беспрепятственно провел Одика с отцом по гранитным ступеням в торжественную прохладу дворца. Мимо ожидавших в приемной они проследовали за Виталиком прямо в кабинет.
В глубоком кресле на низких ножках полусидел, полулежал плотный загорелый человек и, закинув ногу на ногу, басом разговаривал по телефону. Стол перед ним был громаден и ошеломительно пуст — лишь ручка да белый листок бумаги — и весь сверкал своей поверхностью на солнце; не то что стол отца у них дома — старый, скрипучий, испачканный чернилами, заваленный книгами и пожелтевшими газетами.
Одик с трудом заставил себя перешагнуть порожек. И, перешагнув, прижался лопатками к стене.
Увидев вошедших вместе с Виталиком, человек — а это, конечно, был сам директор дома отдыха Карпов — быстро кончил разговор, положил трубку на рычаг и улыбнулся.
— Чем могу быть полезен?
Отец ничего не сказал, и правильно сделал: еще напортит! Он протянул Карпову измятое письмо. Тот стал читать, и лицо его из властного и решительного потихоньку становилось все более мягким, понимающим, доступным.
И Одик почувствовал легкость.
— Присаживайтесь, пожалуйста. — Карпов показал рукой на стулья у стола.
Они присели. Оба на краешки стульев. Только Виталик не сел. Он стоял у порога и, видно, ждал, чем все это кончится.
— Благополучно доехали? — спросил Карпов.
— Вполне.
Лицо у отца было красное, напряженное.
— Ваш сосед, Геннадий Вениаминович, — прямо, без перехода начал Карпов и прошелся короткими сильными пальцами по этому громадному, пустынному, сверкающему столу, — прекрасный человек: точный и обязательный. Ненавижу болтунов.
Одик с отцом согласно качнули головой.
— Спасибо вам за труды, — продолжал Карпов, — а в смысле пристанища вот что: к сожалению, на днях должен приехать мой старший сын, так что могу приютить вас только временно, однако твердо обещаю устроить в другом хорошем месте у моих друзей, и тоже у моря.
— Благодарю вас, сказал отец, поспешно встал и суетливо закланялся на прощанье, неуклюже пятясь задом к двери.
Одик последовал за ним.
— Виталик, проводи гостей, — бросил Карпов. — Скажи, чтоб их расположили в комнате Всеволода. До вечера!
Глава 3 КАРПОВ
Они той же дорогой шли назад, и перед Одиком все стояло лицо директора, широкое, загорелое, с твердыми, уверенными глазами. И его стол, и просторный кабинет, блистающий чистотой и порядком.
И Одику впервые бросилось в глаза, что у отца, шедшего перед ним, — измятые брюки с пятном сзади, что они у него вечно сползают и он то и дело подтягивает их; что у него от полноты и несобранности неуклюжая, неустойчивая походка, словно его заносит то вправо, то влево и он неточно знает свое направление и свою цель.
Впереди по-прежнему шел Виталик. Что он за мальчишка? Добрый? Хитрый? Насмешливый? Сдружится с ним?
Что-то не похоже: чешет вперед и не оглянется. Точно и забыл про них.
Комната Всеволода была большая, светлая, оклеенная обоями в крупную золотистую клетку, с широченной тахтой, креслами на тонких ножках и низким столиком.
Видя, как отец с матерью восхищаются комнатой, Виталик, стоявший в дверях, сказал:
— Ничего особенного… Располагайтесь, пожалуйста, — бесшумно прикрыл дверь и удалился.
— Нам бы такую комнату в Москве! — сказала мама. — Жаль, что ненадолго… Вот бы где пожить!.. Оля, ты хочешь есть?
— Я хочу, — сказал Одик. — Может, ее цыпленок остался?
— Замолчи. Я тебя не спрашиваю.
— Идемте к морю, — попросила Оля.
Они распаковали вещи, наскоро поели из дорожных припасов, переоделись — и к морю. Оно было в трех минутах ходьбы от дома, а если быстро бежать по той же Тенистой улице, то, наверно, и в двух. И Одик с Олей побежали. Ограда участков оборвалась, деревья робко отступили куда-то назад, прикрывая ветвями улицу, и здесь Оля, сильно обогнавшая Одика, точно споткнулась обо что-то неправдоподобно огромное и синее. И едва не упала. И остановилась, давая Одику обогнать себя. И замерла.
Это и было море, и начиналось оно от ее ног, от ее легких, с дырочками сандалий, а упиралось в горизонт и поддерживало бескрайнее небо.
А рядом был узкий галечный пляж. Он был сплошь усеян людьми в пестрых купальниках и плавках. Потом подошли мама с отцом. Мама расстегнула сарафан, он упал на камни, и она зажмурилась, засмеялась, взвизгнула и бросилась в сверкающую пену прибоя. Оля тоже скинула платье и, в красных трусиках, худенькая — ребрышки да косточки, — хромая от непривычки на твердых камнях — она-то думала, пляжи бывают только песчаные! — забегала возле воды. Море играло с ней, щекотало пятки, швырялось пеной, кололось брызгами. И казалось свирепо-холодным.
Наплававшись, мама пошла к берегу и протянула ей руку. Оля осмелела, прыгнула через накат и сразу наглоталась моря: ну точно рассольник! Только с горчинкой. Заработала ногами и руками и поплыла рядом с мамой. Отец сидел на полотенце и, широко расставив локти, стаскивал рубаху, а Одик, в больших трусах и майке, белокожий, толстоногий и какой-то весь надутый, бродил в тапках по гальке и с досадой смотрел на нее, Олю.
«Так ему и надо, — думала она. — Пузырь! Бублик! До сих пор не научился… Только притворяется, что хочет плавать… Как же это можно — хотеть и не научиться?»
И, выйдя на берег, Оля спросила:
— А учиться когда будешь?
— Успею, — буркнул Одик. — Сама бы поучилась, а то дергаешься по-собачьи, смотреть противно.
— А тебе повезло, — сказала Оля. — Очень повезло.
Одик, защищаясь рукой от солнца, пристально посмотрел на нее.
— Почему?
— А потому, что Игорька сюда не нужно было везти. Местный Игорек нашелся: есть кем командовать! Ать, два, ать, два! Ни на шаг не отстанет…
— Давно не ревела? — Одик подбросил обкатанный камешек. Видит же, что Виталик не обращает на него ни малейшего внимания, а говорит!..
Оля показала ему язык и пошла к отцу.
После обеда они всем семейством сидели на солнечной террасе в удобных плетеных креслах, и дующий с моря ветер, процеженный листвой сада, касался их соленых от воды лиц и плеч прохладой. Неожиданно появился Карпов. Он легко взбежал по ступенькам на террасу. Крепкий, подтянутый, он был в том же сером костюме и в сиреневой рубахе с отложным воротником. В руке он держал бутылку муската.
— Выпьем за приезд, — сказал он, и тут же Виталик без напоминаний и просьб принес длинные рюмки и в полном молчании поставил перед каждым взрослым, а его молодая смуглая мама — ее звали Лиля — подала тарелку с крупной свежей клубникой, источавшей невыносимо вкусный аромат, и вазу с большими желтыми яблоками.
Одик увидел, как натянулось и застыло отцовское лицо, а мамино, наоборот, оживилось, вспыхнуло и стало невероятно любезным, — никогда не видел его таким Одик! Но и в том и в другом лице было что-то жалкое. Что ж, это и понятно: когда они еще имели дело с таким важным человеком, как Георгий Никанорович? Да и к тому же сильно зависели от него.
Он был из другого мира. Он, видно, знал что-то такое, чего не знали они.
Одик стал пристально разглядывать лицо директора, грубоватое, шершавое, четкое, с широкой мужественной шеей в отвороте рубахи и мужественной поперечной морщинкой на лбу: она, словно с размаху, клином врезалась в его переносицу. Он был густоволос — точно ни одного волоска не потерял за всю жизнь, так мощно росли они на его голове; и чтобы они не лезли на глаза и не закрывали уши, он подстригал их коротко.
— Прошу! — Карпов показал на угощение, и отец с мамой придвинулись к столу. — Ваше здоровье! — Карпов поднял рюмку с золотистым вином.
— Спасибо. — Отец с мамой тоже подняли свои.
Отец выпил сразу всю рюмку, а Георгий Никанорович с мамой отпили по маленькому глотку и поставили на стол. Карпов снова налил отцу, и он теперь не торопился осушить свою рюмку.
— Ничего? — спросил Карпов у родителей, которые по-прежнему молчали.
Да что они, говорить разучились? Как им не стыдно все время молчать!
— Замечательное, — сказал отец, — напиток богов, а не вино!
— Какой букет! — поддержала его мама. — Никогда не пила такое… Изумительное!
— Ну, бывает и получше, — заметил Карпов, — да кто теперь понимает толк в настоящем вине? Людям нужно, чтобы было покрепче, — напиться, надраться, извините, до потери человеческого облика, до уровня свиньи. А ведь вино существует для украшения жизни, для радости…
— Очень верно. — Отец снова коснулся губами рюмки.
— Как у вас здесь!.. — сказала мама, глядя в сад. — С утра до вечера можно смотреть на море — и не надоест: все время меняется и всегда оно прекрасное.
— Да, у нас неплохо, — проговорил Карпов, — свой микроклимат — вот эти горы защищают городок от холодных ветров с севера. Сухо и тепло. И земля хорошо родит, если воду провести. И берега, как вы могли убедиться, удобные для купания — не сразу обрываются…
Он говорил, и Одик чутко прислушивался к каждому его слову и с острым интересом поглядывал на Виталика, который то появлялся, то исчезал на террасе, однако по-прежнему не выказывал ни малейшего желания подружиться с ним.
Потом отец принес коробку с югославской сорочкой, и Карпов потрогал тонкую сверкающую ткань.
— Хороша! — Глаза его зажглись.
— И гладить не надо, — сказала Лиля, — выстирал в пене «Новость», отжал, повесил просохнуть — и готово. Модно и красиво. А воротник не будет мал?
— Нет, сорок четыре — в самый раз.
Карпов выпрямился, отпил немного вина и рюмкой показал через окно на стену в их комнате, где висел яркий эстамп — женщина в пестром платке.
— Узнаете?
— Да как вам сказать… — замялся отец.
Карпов был деликатен и не стал их мучить.
— Сарьян. Подлинный. Портрет восточной женщины, внизу собственноручная подпись есть, жаль, что карандашом, но все-таки… Ненавижу подделки.
— Понимаю вас, — сказал отец.
— Привез из Москвы один человек, по рекомендации которого у нас жил Геннадий Вениаминович.
— А у нас было море Айвазовского, — сказала вдруг Оля, — если б не оно…
— Помолчи, пожалуйста, — попросила мама.
Одик притих. Он был в каком-то оцепенении. Он вдруг понял, что раньше ничего не знал о жизни. И все, что с ним было до приезда сюда, — все это была не жизнь. Он вышел в сад, в его зыбкий зеленый сумрак. Здесь было прохладно и тихо. Одик, свесив голову, задумался. В это время где-то вблизи, за оградой, раздались ребячьи голоса, смех, и вдруг в его щеку с силой ударилось что-то тяжелое и студенистое. Левый глаз остро защипало. Под ноги плюхнулась прозрачная трясущаяся жижа.
— Ма! — закричал Одик и, закрыв рукой саднящий глаз, бросился к дому. — Меня кто-то ударил! — Губы его скривились.
— Опять эта банда! — сказала Лиля. — Какие сейчас жестокие, бесцеремонные мальчишки! Идем скорей сюда, я тебе промою лицо.
— Это они медузой бросились, — сразу определил Виталик. — Надо, в конце концов, проучить их… Чтобы знали, как бросаться и кричать под окнами.
Больше до самого вечера неприятностей не было. Укладываясь спать, Одик слышал частые, шипучие, как газировка, всплески волн и легкие, без особых переживаний и волнений, вздохи моря, теплый шорох листвы в саду, видел тонкие лунные блики на застекленном портрете восточной женщины. Проснулся он в полночь от чьих-то криков и оглушительных выстрелов, прогремевших где-то недалеко. Он вскочил с постели, вскинул голову, сжал в руках подушку. Прислушался. Все в комнате глубоко спали. Выстрелы смолкли. А может, они приснились ему?
Одик потер лоб, лег и тут же заснул.
Глава 4 ИНДЮКИ
Проснулся Одик от тихого шепота:
— Вставай, Лень… Идем к морю!
— Дай хоть на отдыхе поспать. — Отец отвернулся, и полная щека его, как блин, отдавилась на подушке.
Ну что мама пристала к нему?
Комната была наполнена ярким светом и запахом моря. За окнами заливались птицы и доносилось странное сердитое бормотание.
— Ма, я с тобой пойду, — вдруг отозвалась шепотом Оля и тотчас выпрыгнула из-под одеяла.
— Спи, — приказала мама. — Тебе надо спать.
— Ну, ма, — захныкала сестренка (ага, и она способна хныкать!), — я уже выспалась.
— Ну хорошо, только тихо… Одика не разбуди.
«Все правильно, — подумал Одик, — отец в отпуске, я — на каникулах, надо же хорошенько отдохнуть».
Он поудобней расположился под одеялом, послушал тоненький свист из приоткрытого отцовского рта и тотчас забылся. Мама с Олей, вернувшись с моря, разбудили их.
— Вставайте, бегемоты… Сколько же можно!
Отец умолял хоть на полчасика еще оставить его в покое. Одик валялся под одеялом из солидарности с ним. Вот Георгий Никанорович удивился бы, узнав, что они еще дрыхнут!
Прежде чем встать, отец долго сидел на тахте, тер сонные глаза и зевал, и со сна лицо его казалось еще толще и круглее. Вид у него был довольно разбитый, и во дворе, над цементным углублением, он нехотя плескал на лицо холодную воду из крана.
— Ма, — спросил Одик за завтраком, — ты что-нибудь слышала ночью?
— Нет, но на пляже говорят, что хотели ограбить магазин подарков. Да кто-то помешал.
Одик поежился: здесь так уютно и тепло, так пахнет морем и цветами — и вдруг эти грабители, эти выстрелы.
После завтрака все собрались к морю, но Одик задержался.
— Идите, я догоню, — сказал он.
А сам бросился искать Виталика. Может, тот, боясь отказа, стесняется первым подойти к нему, старшему?
Виталик сидел у каменного сарая и ножом чистил тоненькую морковку.
— Виталик, пошли с нами к морю, — сказал Одик.
Тот покачал головой:
— Мне нужно клубнику полоть, мама просила, а то дядя Ваня сегодня на дежурстве, а Пелагея у нас нерасторопная.
— А кто она?
— Тетка… Работает у нас… Но, как говорит папа, не очень утруждает себя.
В это время опять раздалось странное злое бормотание.
— Кто это? — Одик почувствовал легкую дрожь в теле: после ночных выстрелов он был немножко настороже.
— Индюки. Идем, покажу.
Виталик повел Одика по дорожке, посыпанной морским гравием. То и дело наклоняя головы, стукаясь лбами о плоды зеленых еще гранатов и абрикосов, подлезая под виноградные лозы, обходя ароматные клумбы с цветами, они пришли в конец сада. Там в загончике из проволочной сетки расхаживали индюки. До чего же это были отвратительные создания! Не лучше кондоров, питающихся падалью. Ходят надменно, шеи голые, розоватые, а под клювом болтается какая-то красная сопля. И, судя по их неприятному скрипящему бормотанию, они были недовольны решительно всем в этом зеленом благоухающем мире.
— Они очень хрупкие и нежные, — сказал Виталик, — за ними надо следить.
Вынырнув откуда-то из-за деревьев айвы, к ним подошла кособокая старуха в черной юбке и грязной кофте, из драных рукавов ее торчали голые локти.
— Здравствуйте, — сказал Одик и посмотрел на Виталика.
— Почему ты плохо убрала загон? — спросил мальчик. — Вокруг помет, и вода уже на самом дне… Ведь папа тебе говорил.
— Сейчас уберу. — Тетка с пустым ведром пошла к крану. Из старых брезентовых туфель мелькали в продранных чулках пятки.
— Это Пелагея? — шепотом спросил Одик. — Чего она так ходит?
— Спроси у нее. Ты когда-нибудь летал на вертолете?
— Нет.
— А я несколько раз. Вдоль побережья. Говорят, это совсем неопасно. Папу пригласил капитан ледокола «Витус Беринг».
Одик с уважением смотрел на него.
— А-а… почему капитан?
— Потому что папин дом отдыха называется «Северное сияние» и принадлежит полярникам…
И Одик узнал, что их здравница чуть ли не самая богатая на всем побережье: у каждого отдыхающего отдельная комната, кормят обильно и разнообразно и культурный досуг отдыхающих проходит на высоком уровне — ни один столичный артист, гастролирующий по югу, не минует «Северное сияние», потому что их тут не обижают…
«Живут же люди!» — подумал Одик и спросил:
— А папа тебе денег дает?
— Каких денег?
— Ну на мороженое там… На кино… Мало ли на что…
— А как же! — Виталик с иронией посмотрел на него. — И папа дает, и мама, иногда даже просить не надо, сами…
— И много?
— Сколько потребуется… Ну конечно, десятку я у них не попрошу, но трешку могут дать, если захочу купить что-нибудь в магазине.
— Это я понимаю! — Одик поскучнел, подавил вздох и с острой завистью посмотрел на Виталика. — Отец, наверно, много получает.
— Не жалуемся. — Глаза Виталика вспыхнули гордостью, но тут же внезапно погасли. — Да нет, не очень… Мы самые обыкновенные…
— Ну да! А какой у вас дом? Прямо-таки вилла! В нем, наверно, комнат шесть…
— Девять, — сказал Виталик. — Разве это много? Вот у Рукавицына — он из «Горняка» — двенадцать… Папа хочет пристроить к дому…
— А сад! — воскликнул Одик. — Чего у вас только здесь нет: и водопровод везде проведен, и дорожки посыпаны, и эти индюки…
— Ограду в нескольких местах надо менять, — сказал Виталик, — и потом, разные мальчишки да и другие не дают нам покоя: думают, все это само собой лезет из земли. Завидуют. А мы не из ленивых, даже сам папа помогал строить из ракушечника сарай и летнюю кухню, а если мы и приглашаем кого помочь, приходится платить, и немало. Все нынче знают цены…
«Вон какой он! — подумал Одик. — Во всем разбирается», — и стал вспоминать их комнатенку в Москве и все мелочные разговоры родителей дома и в поезде. Разве спорил бы Георгий Никанорович с Лилей, относить ли в комиссионный единственную фамильную драгоценность — картину Айвазовского «Море у Феодосии», чтобы поехать на юг и подлечить Олю, да и самим набраться сил? Никогда! У них нашлись бы денежки и без этой продажи. Они-то понимают, что к чему Хоть бы денек пожить, как Виталик! Ему, наверно, лет десять, а какой он умный, деловой: недаром сам Карпов и эта старуха Пелагея его уважают… А кто по сравнению с ним он, Одик?
— А ты плавать умеешь? — спросил он вдруг у Виталика.
Тот с недоумением посмотрел на него.
— Кто ж этого не умеет?
— Я, — признался Одик. — Никак не могу научиться.
— Ты очень толстый и, наверно, поэтому безвольный, — глядя ему в глаза, сказал Виталик.
На лбу Одика выступил пот. Это говорил ему, крепкому и сильному, худенький черноволосый мальчонка! И говорил так прямо и уверенно.
Потом Одик сбегал к морю, а после обеда и тихого часа опять остался дома: Виталик водил его по комнатам. В некоторых жили отдыхающие — их хорошие знакомые, как пояснил он. В комнате, которую они сейчас занимали с отцом и мамой, было много книг в подвешенных к стенам застекленных полках. С потолка свешивалась необычная, в тысячу хрустальных струек, как водопад, люстра, а на полу лежал огромный, ослепительный, как солнце, ковер — синтетический и легкомоющийся, как объяснил Виталик. А в углу стоял небольшой телевизор неведомой Одику марки, с маленькими изящными ручками внизу и громадным, во всю стенку, молочным экраном.
Отодвинув стекло, Виталик достал с полки толстую книгу — Полное собрание сочинений Пушкина в одном томе — с изящным золотым росчерком поэта по черной коже и золотой славянской вязью на корешке.
— Новинка, — сказал Виталик. — Редкость… Только что издана, а попробуй купи! Папа говорил, что тираж-то всего десять тысяч.
— Ого! — воскликнул Одик.
— Но это очень мало… Бывает и миллион.
— Ну?! — ахнул Одик. — Откуда ты все знаешь?
В это время скрипнула дверь, и в комнату вошел Георгий Никанорович. Одик почувствовал стесненность и даже что-то вроде страха.
— А-а-а, вот вы где! — весело сказал директор. — Виталий и… Прости, не разобрал вчера, как тебя зовут.
— Одик, — сказал Одик и почему-то непереносимо покраснел и почувствовал вдруг досаду на отца, хотя раньше даже гордился своим редким красивым именем.
— Как ты сказал? — Он знакомо, совсем как Виталик, сморщился.
— Ну Одя… Одиссей, иными словами…
— Любопытно!
— Это папа у нас такой фантазер, захотелось ему так, — виновато сказал Одик.
— Что ж, неплохое имя… И звучит… Правда, Виталик? Я думаю, оно имеет какой-то глубокий смысл?
— В основном мифологический, — уже почти совсем освоившись, многозначительно заметил Одик — в который уже раз за свою жизнь.
— Мифология? Ха-ха-ха! — громко рассмеялся Георгий Никанорович. — У нас в парке тоже есть мифология из мрамора, с фиговыми листками… Ха-ха!.. Ну так вот, Одиссей, тебе нравится у нас?
— Очень!
— Вот и хорошо. — Георгий Никанорович провел рукой по своим коротким, густым и жестким, как щетка, волосам и уселся в кресло, привычно бросив ногу на ногу. — Ты много раз бывал на юге? — спросил он у Одика.
— Первый раз.
— Так… А где работает твой папа?
Одик сказал.
— А мама?
Отвечать было не очень приятно, потому что ни частыми поездками на юг, ни должностью отца с мамой похвастаться он не мог. К тому же он побаивался, что Карпов кинет такой вопрос, что и не ответишь.
И Одик поспешно сполз с краешка тахты.
— Ну, я пойду.
— Торопишься куда-нибудь? — спросил Виталик.
— Тороплюсь… Дело есть…
А все дела у Одика на сегодняшний вечер были — сидеть у моря и бросать в воду камни. Дружбы с Виталиком не получалось. Ему, видно, давно наскучило это море, и прогулки по берегу, и бесцельное шатание по городку. И он, москвич, не мог его заинтересовать. Да и на кой он ему сдался, если у него такой отец! По наблюдениям Одика, Виталик очень дружил с ним. Случалось, проснувшись пораньше, Одик подсматривал сквозь щель в оконной шторе, как Георгий Никанорович выполнял во дворе с сыном сложный гимнастический комплекс. В плавках, похожий на штангиста, коренастый, весь прямо-таки вспухнувший от мускулатуры, он приходил в движение: приседал, вскидывал то одну, то другую ногу, молотил невидимого противника кулаками, да так молотил, что от того и мокрого места не осталось бы! Потом они со смехом брызгались у крана, обливались, смывая соленую воду, потому что, по словам Виталика, каждый день до зарядки делали длительные морские заплывы; насухо вытирались огромными махровыми полотенцами, после чего Георгий Никанорович наскоро ел — из летней кухни доносились волнующие запахи жареного мяса — и, с иголочки одетый, бодрый, свежий, энергичный, уходил в свое «Северное сияние», в сверкающий чистотой кабинет — командовать и распоряжаться.
Отец Одика вначале подолгу валялся в постели, зевал, неохотно тащился на море. Однако скоро и он зажил в другом темпе: после завтрака сразу бежал на пляж — он таки наконец разыскал желающих поиграть в преферанс, и больше, чем нужно, и теперь спешил, чтобы не опоздать…
Глава 5 ПЛЕННИКИ
Дела у Одика шли все хуже. Было одиноко. Он часами слонялся без дела. На нижней дороге, возле моря, он долго стоял у высокого обелиска с толстыми цепями, якорем и пустыми минами у подножия и прочел на бронзовой доске, что когда-то здесь был высажен героический морской десант. Почти все моряки погибли.
Одику стало еще грустней. Дружить было не с кем. На пляже ему попадались или слишком большие мальчики, или совсем несмышленыши. Куда меньше Игорька с Михой. Море, оно, конечно, прекрасно, но не будешь же на него все время пялить глаза. И с плаванием было безнадежно. Одик тонул, захлебывался и потом долго кашлял, и вся глотка была соленая. Оля хохотала и показывала ему язык, а Одик мрачнел: пророчество ее сбывалось — не научиться ему плавать! Однажды он даже довольно сильно стукнул ее — будет знать! Оля не заплакала. Она хлестнула его в ответ ладошкой по щеке и, как обезьянка, проворно отскочила в сторону Одик бросился за ней, но разве ее догонишь?
Он потер горящую щеку и показал ей кулак:
— Видала?
Она состроила издали гримасу: сморщилась, разинула по-бегемочьи пасть и стала делать вид, будто что-то бросает в нее. И раздула щеки. Одик с презрением отвернулся от сестры.
Четыре дня не замечал он ее, и, когда мама просила его отнести Оле из кухни тарелку со свекольником, он отвечал:
— Пусть сама возьмет.
— Ну тогда я отнесу, — угрожала мама.
— Неси.
И мама несла. Одик был непреклонен. Каждую минуту давал он знать сестре, что шутить с ней не намерен. При ней сразу умолкал, хмурился, угрюмо покусывал губы. А она… А она стала еще подвижней и крикливей! Будто и не случилось ничего. А на пятый день даже сказала ему:
— А я б на твоем месте дала телеграмму в Москву.
— Кому?
— «Спасите, Миха с Игорьком! Высылаю на билет деньги».
— Ну, ты… — буркнул Одик и обернулся — родителей поблизости не было. — Еще захотела?
Но бить ее уже не было охоты.
Однажды Одику так опротивело все — и это море, и зной, и непрерывное таскание за мамой, — что он сказал ей:
— Не хочу на пляж… Пойду погуляю по городу.
— Только не один. И Олю возьми. И пожалуйста, не держи ее на солнце.
— А на кой она мне сдалась?
— Ну тогда и ты не ходи.
— Ладно, пусть идет, — разрешил Одик.
— Я не пойду, — упрямо сказала Оля, и Одик даже испугался.
Он сунул в карман руку и нащупал в нем все свое богатство — юбилейный металлический рубль с солдатом, державшим в одной руке меч, а в другой — спасенную им девчонку.
— Пойдем. Конфетами угощу.
— Очень надо. Могу и так пойти. А то ты совсем…
— Стоп! — оборвал ее Одик, и они пошли.
Наверно, и ей стало скучновато в Скалистом. Ведь мама, когда не готовила еду и не бегала на базарчик и по магазинам за продуктами, все время вязала. Даже на берегу. А к девчонкам ее лет, которых немало было на пляже, Оля почему-то быстро теряла интерес.
Сильно жгло солнце. Одик видел, как под ее тонким и коротеньким, выше коленок, зеленым платьем остро ходили лопатки. Она то прыгала, то пританцовывала.
— Пошли на другую сторону, — сказал Одик, — здесь тебе вредно.
— А что тебе вредно, знаешь? Вот это! — И она описала пальцем вокруг лица большой круг.
Одик не удостоил ее ответа и силой перетащил на другую сторону. Впрочем, она почти не сопротивлялась. Идти код плотной тенью кипарисов и платанов было легко, даже приятно.
Оля шла впереди. Она была низенькая, и Одику вдруг стало жаль ее. Она беспрерывно крутила головой по сторонам, светлые реснички ее часто моргали, личико было крошечное и очень худенькое. «А все-таки она ничего, — подумал он, — если бы не язычок…»
— А куда мы идем? — спросила Оля.
— Просто так… Погуляем по Скалистому… Тебе пляж еще не опротивел?
— Так себе… Смотри, какой магазин! Ой, давай посмотрим витрины!
Одик был не против. Вдруг по его телу пробежал холодок. Это ведь был тот самый магазин, который хотели ограбить. Одик смотрел на узкогорлые кувшинчики серебряной чеканки с затейливыми узорами, на чашечки, часики, кольца и кулоны с драгоценными и полудрагоценными камнями, пылавшими на чернобархатном фоне. Он смотрел на них и вспоминал ту ночь, и крики, и раскатистое эхо близких выстрелов. У магазина, отражаясь в огромной витрине, проходили отдыхающие с гитарами, с играющими транзисторами на ремешках, с девушками под ручку, а Одик поглядывал на них и с некоторой опаской думал: а что, если у кого-то из них в кармане лежит пистолет и всевозможные отмычки и он ждет не дождется, когда на Скалистый ляжет ночь, чтобы пустить их в дело?
— Ну пошли! — Одик едва оторвал сестренку от статуэток балерин и зверей, повел дальше и увидел тележку с мороженым. — Хочешь?
— Мне все равно. Вообще-то можно — жарко.
«Ну и дурак, — подумал Одик, коснувшись пальцами холодного рубля, — ведь последний… Когда допросишься у отца еще? Надо бы истратить его на что-нибудь более важное».
Но отступать было поздно.
Он просто не узнавал себя. Мало того, что он разменял юбилейный рубль, он взял целых три стаканчика. Да еще сказал при этом:
— Давай вперегонки, кто скорей съест!.. Чемпиону — третий.
— Очень надо. — Оля независимо отвернулась и принялась медленно, с достоинством грызть вафельный стаканчик.
«Ну и пусть воображает! Все равно куплю ей «Мишку на севере», обещал ведь…» Он проглотил донце и куски стенок первого стаканчика и отлепил бумажку от второго.
— Оставить?
— Ешь сам. — Оля даже не посмотрела на него. Тоненьким длинным язычком она спокойно вылизывала мороженое, и стаканчик у нее оставался почти полный. — Смотри, здесь и музей есть! — Она кивнула на красную стрелку с надписью. — Сходим?
Не хватало еще на юге ходить в музеи! Даже в Москве он ходил раз-два в год, и то потому, что шел весь класс. Скучища! Но отговаривать не стал. Они свернули в темную аллейку и подошли к краеведческому музею — старому двухэтажному дому с какими-то нелепыми каменными фигурами у входа: они были очень грубые, неотесанные, и только при большой фантазии можно было догадаться, где у этих обрубков головы и туловища.
— Смех! — сказал Одик. — Скульптура называется.
Оля передернула плечиками, личико едко скривилось.
— А ты знаешь, что это такое?
— Куда уж мне.
Его вдруг опять заело: пусть она маленькая и хилая, а потакать ей ни в чем нельзя — за человека считать не будет!
— И знать не хочу, — отрезал он. — Какие-то каменные уроды.
— Сам ты урод! Они скифские каменные бабы, а ты…
Откуда она все это знает? Ведь моложе его…
Одик толкнул ее, не сильно толкнул — так, чтобы не упала, напрягся и лихо вскочил на кирпичный барьерчик у окна и заглянул внутрь: в большой комнате за стеклянными витринами темнели ископаемые кости, доисторические каменные ступки, наконечники стрел, бронзовые вещи, какие-то огромные глиняные сосуды и прочая музейная дребедень…
— Мура! — Он спрыгнул на землю. — Поехали дальше.
Мимо них проходили мальчишки. Один из них вдруг наклонился к нему и пронзительно свистнул в самое ухо, второй крепко поддал его коленом под зад, и Одик больно стукнулся лбом о каменного истукана. Он устоял на ногах, сжал кулаки и крикнул:
— Как вы смеете! — Но мальчишки, наверно, и не слышали: они уже были далеко и громко хохотали. — Трусы! — Одик потер лоб. — Трусы всегда спасаются бегством!
— Уж ты бы им показал, — сказала Оля. — Ног бы не унесли.
Одик нахмурился. Почему-то опять вспомнились выстрелы в ночи и брошенная в него медуза… Бр-р-р, какая холодная и скользкая, и глаз сразу защипало. Одик замкнулся.
Они молча ходили по улицам, и он даже решил не покупать ей «Мишку на севере»: нельзя перед ней рассыпаться…
Даже заснул он в эту ночь не сразу, а долго ворочался и вздыхал: думал сделать лучше, а что получилось? Когда он наконец заснул, и очень крепко, его стали тормошить. Одик разжал веки — у кровати стояла Оля и шептала в самое ухо:
— Вставай… Идем к морю, пока мама спит.
— Зачем? Я спать хочу.
Оля стащила, с него одеяло, и ему стало прохладно.
— Отстань!
— Тогда я пойду одна.
Одик стал протирать глаза и, давя рукой зевоту, подыматься.
Море было тихое, как огромное озеро, — даже наката не было, и берег был непривычно пустынный — ни души. Ни музыки, ни хохота и визга, ни загорелых тел и плеска купающихся. И во всем этом — в глубокой тишине, и в гальке, и в переливах солнца на воде, и в синей дали — было что-то таинственное, что-то загадочное.
— Смотри, как дельфины играют! — Оля показала на море.
Три черных силуэта, ловко изгибаясь в воздухе, выскакивали из воды, и брызги зажигались на солнце.
— Говорят, они очень умные, — сказала Оля, — и все понимают.
— Они и выпрыгивают сейчас, чтобы на тебя полюбоваться! — сказал Одик и пожалел.
Дельфины вдруг исчезли.
— Знаешь, почему они спрятались? — спросила Оля.
— Ну?
— Терпеть не могут глупых разговоров.
Одик промолчал и решил не обижаться. А сам подумал: странное дело, но почему-то и вправду, когда пляж полон народу, он ни разу не видел дельфинов. Боятся? Или они и верно, как о том пишут в некоторых книгах, настолько обогнали человека в своем развитии, что вид их не доставляет им большой радости?
— Смотри, пароход… — Оля показала на горизонт. — Его и не видно, один дым… Ой, краб! — Она подбежала к водорослям — они грядой лежали на гальке, — и небольшой крабик, очень похожий на громадного паука, бочком пробежал по влажным камешкам и скрылся в воде.
— А вон скалы. — Оля кивнула в ту сторону, где вдалеке виднелся причал и какие-то строения по берегу: там темнели большущие каменные глыбы. — Пошли туда… Хорошо, что наши спят!
— Пошли, — сказал Одик. В самом деле, почему бы не пойти?
С добрый километр шли они по хрустящей гальке, по сухим водорослям, по мусору, оставленному пляжниками, — обрывкам газет, ореховой скорлупе Вот и громадные глыбы. Видно, когда-то откололись они и скатились сюда с гор Они лежали на берегу, а одна — в воде. На ней сидели чайки.
— Вот бы забраться туда! — сказала Оля. — Увидели бы не только дым, а и пароход.
Одик прикинул глазами высоту глыб. Стенки их были бугроваты, в трещинах, изломах, углублениях.
— А, пожалуй, можно, — сказал он. — Босиком. Глыбы-то не гладкие.
— Ты ошалел! — ужаснулась Оля. — Голова закружится!
До чего ж плохо думала она о нем! И Одик понял: он должен влезть. В лепешку разбиться, но влезть. Ведь она в грош его не ставит! Словами не докажешь ей, какой ты на самом деле…
А какой он на самом деле? Конечно, не трус…
— Полезем, — твердо сказал Одик, — и не на эти, а на ту, что в воде… Сбрасывай сандалии!
— Ты с ума сошел! — крикнула Оля, радостно стряхнула сандалии и побежала к морю. Вода обожгла ноги, она подошла к глыбе и закинула голову. — Ого, даже не пробуй!
К ней приблизился Одик в закатанных выше колен штанах, которые у него, как и у папы, всегда сползали с живота. Он был так неуклюж, боязлив, а решил забраться на такую глыбу… Как он даже подумать об этом мог!
Одик положил ладонь на стенку.
— Лезь.
Оля повернула к нему голову:
— Ты вправду?
Крепкие руки брата приподняли ее. Сумасшедший!
Оля зацепилась руками за выступ, подтянулась, укрепила в кривой ноздреватой выбоине ступню, пристроила рядом вторую — кажется, ничего, устойчиво — и подала руку. Одик взялся за нее и полез. Она втиснулась всем телом в камень, зажмурив от страха глаза. Ничего, удержала его. Одик очутился рядом. Полезли выше. Впереди она, за ней он. Ее руки быстро выискивали и цеплялись за любую неровность, ноги ощупывали скалу, выбирали упор, и Оля подтягивалась выше. Она всегда легко лазила на деревья, а на эту скалу лезть было не трудней.
Вот только Одика приходилось тянуть. Он сопел, лицо его напрягалось, раздувалось, как резиновый шар, — вот-вот лопнет! Но он лез, только еще сильней пыхтел. Вот и последний метр подъема. Оля закинула за верхний край скалы руки, выпачкала в птичьем помете ладони и поморщилась.
— Ура! — Она подтянулась на руках и встала. — Лезь скорей!
Пальцы Одика легли к ее ногам, появилось его мокрое лицо — даже в волосах блестели капли. Он животом вывалился на площадку и встал. Его коленки были в царапинах. Даже на лбу краснела тоненькая ссадина. Одна штанина раскаталась. Он тяжело дышал, а губы улыбались…
— Виден пароход? — Он вытянул шею.
— Виден, — сказала Оля, хотя ничего, кроме хвоста черного дыма, не видела.
Здесь, на скале, было прекрасно! Хоть понятно теперь, почему городок называется Скалистый. А то ведь ровненький внизу, только выше начинаются горы… Было прохладно, и Оля поежилась. Море отсюда казалось зеленоватым, бесконечным. И все в бликах. И прозрачное до дна — то галька, то гряды водорослей: есть бурые, темно-фиолетовые бороды, есть и зеленые… Впереди, под самой скалой, дна не видно. Ох, наверно, и глубоко там!
— Одька, вот бы мама увидела!
— Визгу бы! — сказал брат.
И ей понравился его снисходительный тон: на этой высоченной скале все казалось немножко иным.
— Был тут кто-нибудь до нас? — спросил Одик.
— Миллион раз! Смотри. — Она показала на окурок, торчащий из щели в камне.
— Верно, — огорчился Одик. — А я думал, здесь есть лишь чаячьи гнезда.
— Полезем назад, — попросила Оля, — мне холодно и надо домой, а то мама, наверно, уже проснулась. — Оля подошла к краю скалы, глянула под ноги, и внутри что-то оборвалось: как они теперь слезут отсюда? Стены круто падали вниз, и совсем не видно было, куда ставить ногу. А как высоко: сорвешься — и насмерть!
— Одя, — спросила она, — как же мы слезем?
— Как влезли, так и слезем, — бодро сказал Одик. Он подошел к краю площадки, и Оля увидела в его глазах испуг. — Ничего, сейчас…
Он встал на коленки, повернулся спиной к берегу и спустил в пропасть ноги. Заболтал ими, но, видно, не мог отыскать надежного упора. Выбрался на площадку, лег на живот и стал оглядывать стенку. Лицо его медленно становилось серым. Он посмотрел на Олю, и губы его скривила странная улыбка:
— Попались в плен… Ничего, вертолетом снимут.
— Ну да, не хватало еще!.. — вспылила Оля.
Голос ее вдруг надломился, и из глаз брызнули слезы.
— Да брось ты… — Одик погладил ее по голове, а у самого губы так и тряслись. — Как-нибудь… Ведь здесь люди ходят… Кто-нибудь поможет…
— Но эти скалы в стороне от пляжа, — проплакала Оля.
— Покричим — услышат. — Он опять улыбнулся ей своими бескровными, сразу посиневшими губами.
— Смотри, мальчишки! — вскрикнула Оля. — Давай их попросим?
— Не надо мальчишек, — сказал Одик. — Лучше взрослых подождем.
И посмотрел на берег.
Глава 6 ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ
По берегу шла гурьба мальчишек. Передний, черный, как африканец, в линялых серых шортах, катил огромную, туго надутую автомобильную камеру и что-то со смехом рассказывал. За ним шагал длинноногий беловолосый мальчишка, тоже в коротких шортах, только синих, с большим рюкзаком за спиной. Один из ребят, в белой безрукавке, нес детское ведерко с кистью. Всего их было человек семь.
— Это они свистнули тебе в ухо, — сказала Оля. — Тот черный, что с колесом… Давай попросим?
— Не смей! — приказал Одик. — Они только посмеются.
— Мальчики! — крикнула Оля, когда они поравнялись со скалой. Одик мгновенно заткнул ей рот потной ладонью. Она стала вырываться. — Мальчики!..
Ребята остановились.
— Ну чего вам? — недовольно спросил кативший камеру.
Одик с ужасом смотрел на них: нет, лучше сидеть на этой скале и умереть с голоду, чем встречаться с ними.
— Помогите нам слезть, — попросила Оля, — мы боимся.
На берегу раздался хохот.
Мальчишка опустил на гальку камеру, сорвал с ног синие кеды и побежал к скале. Второй, крупный, в белой безрукавке, поставил на камни ведерко и бросился за ним. Первый мальчишка, как кошка по стволу дерева, отвесно карабкался вверх, второй — по пятам за ним. Одик лишь видел, как мелькали их руки, хватаясь за выступы. И минуты не прошло, как африканец вскарабкался на скалу.
— Браво, Катран! Утер нос Ильке! — закричали с берега.
«Что за имя?» — подумал Одик и увидел рядом с собой второго, в белой безрукавке, — лоб его почему-то был повязан синей лентой.
— Ух, какой ты толстый! — сказал Катран и покачал головой. — Ну просто пузырь!
Одика бросило в дрожь: они что, сговорились с Олькой?
— А я тебя где-то видел, — продолжал Катран. — Это ты живешь у Краба?
Одик бессмысленно уставился на него.
— Ну, у этого самого… Как его?.. У Карпова, — пояснил Катран.
— Нет, — гордо и независимо промолвила Оля. — Мы живем не у крабов, мы живем у хорошего человека!
Сухое, энергичное, с колющими черными глазами лицо Катрана так и затряслось от смеха.
— Ребята, вы слыхали, что они говорят? — заорал он вниз. — Спускать их после этого с камня или нет?
— Я бы не спускал, — сказал второй, забравшийся сюда, Илька, ржавый от веснушек, большой и плотный, видно, самый старший из ребят.
Одика колотило: вот они, они… Эти самые… Эта банда… Про них и Лиля говорила и Виталик… Они жестокие и бесцеремонные, а Олька позвала их на помощь! Как бы не сбросили еще со скалы…
— Быстрей вы, некогда! — крикнул паренек с рюкзаком.
— Ладно уж, — милостиво сказал Одику с Олей Катран. — Снимай ремень.
Одик стоял как в столбняке и не мог пошевелиться.
— Ну, кому говорят? — Катран даже легонько двинул его в плечо. — Девчонку жаль, а тебя, толстяк, оставить бы здесь на съедение чайкам.
Говоря это, он вытащил из петель своих шортов ремень, привязал его к ремню Ильки, чуть не с силой снял ремень с Одика — его штаны тут же поползли вниз, но он, несмотря на страх, по привычке своевременно натужил живот, чтоб не сползли.
— Как ты живешь с таким пузом? — с любопытством спросил Катран. — Как залез-то сюда?
— А тебе что?
Одик ненавидел и боялся этих ребят.
— Он зато может очень быстро бегать, — сразу вступилась за него Оля. — И еще он очень сильный, а живот может пройти. Он ведь мальчик еще.
— Жди! — захохотал Катран.
Одик не знал, что делать, что сказать.
В это время Катран быстро обвязал Олю ремнем вокруг пояса, и она, глупышка, еще улыбнулась ему.
— Мы тебя будем страховать, — инструктировал ее Катран, — а слезать будешь сама… Ну, живо!
Они с Илькой за руки спустили ее за край скалы и, когда Оля зацепилась ногами за выбоины и полезла вниз, стали потихоньку стравливать ремень.
— А твою тушу выдержит ремень? — со смехом спросил у Одика Илька, когда спустили Олю.
— Н-ннее з-знаю, — выдавил Одик.
Его по-прежнему трясло.
— А кто ж знает? — завопил Илька. — Угробишься — потеря невелика!
«Не надо! Не хочу! — рвалось из Одика. — Я позову взрослых, и они снимут меня!» Он оцепенел и позволил им подтолкнуть себя к краю скалы, перевалить через этот край, и почти в беспамятстве, весь горящий и оглушенный страхом, он полез, хватаясь руками и ногами за выступы и углубления и все время чувствуя натянутый ремень. Уже у самой воды он сорвался с уступа, но ремень спас.
Внизу его приняли руки других мальчишек, и он, обессилевший, поплелся к берегу, где Оля уже надевала сандалии.
Все произошло так внезапно, мальчишки были такие нахальные и быстрые, они так обозвали Георгия Никаноровича, они — конечно же, они! — швырнули тогда в него медузу, а вот сейчас выручили их, и Одик не знал, как вести себя, как держаться с ними.
— Спасибо, ребята, — сказала Оля, — за меня и за Одика…
— А кто это? — раздалось сверху, со скалы, где оставались Катран с Илькой.
— Он. — Оля ткнула пальцем в Одика, но никто уже не обращал на них внимания.
Катран вдруг скинул линялые шорты, сбросил рубашку, и оказалось, что он стройный, мускулистый и весь черный. Ну прямо как грач. На нем были тугие синие плавки. Сунув Ильке одежду, он подошел к краю скалы и прыгнул.
Оля от страха ойкнула. Катран летел на фоне белых тучек — руки вперед, упругий, легкий — и, как заостренный прутик, аккуратно вошел в воду. Цок! И стремительным кролем ринулся к берегу. И никто, никто, кроме Оли с Одиком, кажется, и не смотрел, как он нырял.
Илька с одеждой Катрана в зубах быстро слез со скалы. Катран, выйдя из воды, отряхнулся, как собака, но одеваться не стал. Он взял одежду под мышку, поднял с гальки камеру и обернулся к Одику:
— Еще не попались в его клешни?
— Какие клешни?
— Крабьи!
Одик покосился на Олю. Он не должен сплоховать перед ней.
— Как вам не стыдно! — крикнул он, дрожа от возбуждения и собственной отваги. — Вы же не знаете, не знаете его, если так говорите!
— Он добрый и культурный, — тут же помогла ему Оля. — И скажите, пожалуйста, куда вы катите это колесо? И зачем это краска в ведерке?
Уже разглядела! И вообще, если бы не она, они сидели бы еще на скале.
— Секрет, — многозначительно сказал Катран, — операция «А»… Поняла? Или, может, твой тучный, повышенной жирности брат понял?
Сказал он это так, что Одик не обиделся. А даже улыбнулся. И вообще он почувствовал, что Катран не очень вредный, хотя и грубый и, конечно, совершенно бесцеремонный. В их классе тоже были такие — Лешка Семенов и Боря Левашов. Они тоже не выбирали слов, но были куда зловредней Катрана: считали себя богами, а Одика — за получеловека, поколачивали, мешали дружить с другими ребятами; и Одик плюнул на все: и без них обойдется!..
— Ну, вы идете или нет? — крикнул высокий белоголовый паренек с рюкзаком — его звали Мишей — и, не дожидаясь остальных, зашагал вперед.
И тут сестра буквально поразила Одика.
— А нам можно? — спросила вдруг она. — Ну, пожалуйста, ребята.
Да что она, рехнулась?
— Нельзя! — отрезал Илька. — На кой вы нам сдались? Скажите спасибо, что с камня сняли.
— А я уже сказала вам спасибо, — ответила Оля.
— А я не слышал! — с хохотом крикнул Илька. — Говори, чтобы все услышали, ну?
Оля чуть надулась.
— Говори, а то салазки загну!
Ну чего он прицепился! И почему у него на лбу эта лента? Ведь только у него.
— Отстань от нее! — сказал Катран, и вдруг в его черных колющих глазах сверкнула какая-то догадка. — Хлопцы, давайте прихватим их… Покажем настоящих героев Скалистого!
Мальчишки засмеялись.
— Ну вот еще, — мрачно осклабился Илька. — А у мамочки они отпросились?
— Беру их под свою ответственность, — заявил Катран.
Одик с тревогой посмотрел на Олю. И что она так рвется за ними? Глупышка, еще ведь неизвестно, что они задумали.
— Идемте, — сказал Катран, — не пожалеете! Век проживете, а такого не увидите! Я, Жорка, беру вас с собой, а Жорка слов на ветер не бросает.
— Ну и хвастун, ну и трепло! — сказал Миша.
— А вы кто — Жора или Катран? — осторожно спросила Оля, идя следом за ними.
— Зови, как нравится, — разрешил мальчишка.
— Мне больше нравится Катран, — сказала Оля. — Только что это такое?
— Акула! Понятно? — ответил Илька. — Ты идешь с черноморской акулой… Откроет зубастую пасть — ам! — и сожрала… Уматывай лучше домой с этим толстяком.
Одика передернуло всего, так обидно и зло говорил Илька.
— Но-но! — пригрозил ему Катран. — Боишься опозориться при даме и лишних свидетелях? Идемте, вы увидите грандиозный позор этого человека!
Катран ловко катил перед собой камеру: толкал ее, и она двигалась сама по себе, потом догонял и снова с силой толкал.
— А вы далеко идете? — снова открыл рот Одик.
— Да нет, рядом. — Катран выкинул руку. — На Дельфина. Видишь? Не дрейфь…
Впереди, километрах в двух от них, в море врезался темно-бурый мыс. Сверху он был покрыт зеленью — не то лес, не то кустарник, а снизу был обрывист и гол. И не надо было спрашивать, почему он так называется: кончик его был точь-в-точь как дельфиний клюв, а сама гора удивительно напоминала игравшего в волнах дельфина, изогнутого в прыжке.
Ребята тем временем сильно обогнали Одика. «Надо отстать, — решил он, — нечего нам тащиться за ними…» Но впереди, рядом с Катраном, проворно бежала Оля, и Одик ринулся вдогонку.
Вокруг уже было много загоравших, и приходилось все время обходить их. Впрочем, Катран то и дело дурачился, перепрыгивал через их ноги и спины, и при этом не переставал катить камеру.
Одик иногда отставал от них, чтобы люди не подумали, что он из их компании.
Внезапно шедший впереди Миша остановился, обернулся к ребятам и тихо сказал:
— Вон Федор Михайлович… Чтобы ни слова ему об этом!
— Понятно, — подтвердил за всех Катран.
Миша двинулся вперед, прошел метров сорок — Одик зорко следил за ним — и присел возле одного пляжника Странно, то все торопился, подгонял, а то расселся.
Катран тоже остановил камеру, пригладил непросохшие черные волосы и как-то весь приосанился. Потом опустился на камеру и уставился на этого человека.
Он был в старомодных плавках с тесемкой на боку и чем-то поразительно напомнил Одику отца: лысоват, лобаст, не худ. И даже ямочка на подбородке! Как-то странно и тревожно было смотреть на него… Может, он родной брат отца? Но Одик знал, что братьев у отца нет, есть две сестры.
Этот человек был только постарше отца — с седыми висками и очень сильным телом.
— Что так рано поднялись? — спросил он. — Поесть хоть успели?
— Мы-то с Мишей и Толяном — да, — сказал Катран, — а за Ваську не ручаюсь: он у нас произошел не от обезьяны.
— А от кого же? — вдруг пискнула Оля, и Одик вобрал голову в плечи.
— От черепахи, — сказал Катран, и все расхохотались.
А один мальчишка — конечно же, это и был Вася, круглолицый, ушастый, как горшок с ручками, — мгновенно покраснел. Подтянулись остальные ребята и тоже расселись: один поближе, другой подальше от Федора Михайловича — видно, от степени знакомства с ним.
— Вся команда в сборе. — Он глянул на синюю Илькину ленту. — Опять на Дельфиний? Надоело жить с целыми шеями и неполоманными ногами?
— Что вы! — сказал Катран и небрежно бросил: — Приходится, Ильку выводим в герои, а то совсем сна лишился… Вот увидите, и месяца не пройдет, как он проберется на мыс.
— Слушайте его больше! — крикнул Илька и подскочил с земли. — Сегодня же проберусь!
— Ого как быстро! — сказал Федор Михайлович. — У вас, я вижу, открылись краткосрочные курсы по героизму? До какого возраста туда принимают?
Катран показал все свои белые зубы.
— Без ограничения! — Потом оглянулся на Одика с Олей и неожиданно тихим, очень серьезным голосом спросил: — Как же вы теперь будете?
— Ты что имеешь в виду? — спросил Федор Михайлович.
Катран на миг замялся.
— Ну, если они… эти самые… и вправду сделают то, что обещают? Ведь могут же?
Федор Михайлович подобрал под себя не по годам крепкие, мускулистые ноги, присел по-турецки и улыбнулся.
— Почему ж не могут? Такие все могут.
— А вы так и будете ждать?
— А я не жду. И не думаю о них.
— Нельзя так… Попросили бы милиционера для охраны.
Федор Михайлович засмеялся.
— Что ты, Жора. Откуда в отделении лишние милиционеры? И я думаю, это пустые угрозы.
Все немножко помолчали.
«О чем это они? — забеспокоился Одик и почесал голову. — Что за угроза? Почему и кому нужна охрана?»
— Что это вы в такую рань сегодня? — прервал молчание Миша.
— В десять надо быть в школе, — сказал Федор Михайлович, — у меня ведь каникулы еще не начались.
«Учитель! Конечно, он учитель!» — догадался Одик.
— Жаль, — произнес Миша, — снова бы сходить с вами в ту крепость к таврам, где был храм Девы, которой они приносили в жертву пленных греков, потерпевших кораблекрушение…
— Подождите. Вот освобожусь…
Ничего понять из этого разговора Одик не мог. Ну решительно ничего! И вот что еще слегка тревожило его: ребята вроде бы по-свойски разговаривали с учителем, улыбались и в то же время по приказу Миши что-то тщательно скрывали от него… Что?
Миша встал, встряхнул рюкзаком — в нем что-то громко звякнуло — и сказал:
— Ну мы пойдем, а то сегодня много дел.
— С Илькой хлопот не оберешься, — добавил Катран.
— Пустобрех! — Илька под смех ребят замахнулся на Катрана, и тот отскочил.
— Ну идите, идите отсюда, — заторопил их Федор Михайлович. — Пляж — общественное место, а хотите расквасить друг другу носы — катитесь на свой мыс…
Все повскакали с мест. Федор Михайлович тоже встал и, сказав: «Ну, последний раз — и домой», пошел к морю. Одик посмотрел ему вслед и увидел на спине, чуть левей позвоночника, два глубоких розовых рубца; кожа на них не загорела, и они так и бросались в глаза.
Катран поднял камеру, и мальчишки двинулись дальше.
— А что это у него на спине? — спросил Одик, догнав Мишу.
Миша повернул к нему острые синие глаза.
— Может, слышал: на свете была война? — холодно спросил он, не сбавляя хода.
— Слышал.
— Молодец, поздравляю… Так вот, от нее… Командиром танка был. — Последние слова он произнес уже не глядя на Одика, а вперед, в сторону мыса. И не так презрительно.
Скоро путь им преградил серый бетонный забор со следами тщательно заделанных проломов в нескольких местах.
— Что за олухи отгородили пляж? — сказал Одик, нарочно сказал погрубее, чтобы не думали, что он такого уж нежного воспитания.
— У своего Краба спроси! — Катран сплюнул сквозь зубы. — Его владения! А там, где ты живешь, — филиал! Никто из директоров не пошел на это, а он… Ломали мы, ломали все его ограды, пока бетон не воздвиг! — И совсем спокойно кончил: — Как пойдем — водой или парком?
— Парком, — отозвался Миша.
Глава 7 ОПЕРАЦИЯ «А»
Они отогнули «секретный» кусок бетона, державшийся на металлических прутьях, аккуратно приладили его на старое место, пронеслись через тенистый благоухающий парк и минут через двадцать подошли к пустынной бухте у самого Дельфиньего мыса.
Здесь не было ни дач среди фруктовых деревьев и благоухающих цветов, ни аккуратных курортных пальм с веерами толстых лакированных листьев. На выжженом пустыре одиноко торчали тощие кривые деревца, густо росли высокий пыльный репейник и лебеда. Да стоял полуразрушенный каменный сарай. А у моря — галька и валуны. И совсем рядом, прямо-таки над головой, нависало старое, темное, все в трещинах, морщинах и складках громадное усталое тело горы, кончавшейся мысом. Ничем эта гора вблизи не напоминала весело играющего на волнах дельфина.
Все выше поднималось солнце. Все отвесней падали его лучи.
Странная тишина, знойная, чуткая и настороженная, лежала над берегом и серо-голубой бухтой, неподвижной и молчаливой. Только от кончика мыса доносился мерный невнятный рокот.
Все злее жгло солнце.
Одик глянул на Олю и вдруг спохватился. Скинув рубаху, обмотал ею голову сестры в виде тюрбана. Оля не возражала, лишь перемотала по-своему — так было красивей. Ее сейчас нельзя было узнать: притихла, посерьезнела, точно прислушивалась к чему-то.
— Буек не сорвало? — Миша подошел к самой воде и посмотрел на бухту.
— На месте, — сказал Катран.
Но Миша точно не поверил ему. Он еще несколько минут стоял у воды и вглядывался в гладь бухты. Он держался очень прямо, и этому не мешал даже большущий и, очевидно, тяжелый рюкзак за его плечами. Во всей его фигуре, в том, как он стоял и смотрел, в каждом повороте головы и в каждом слове чувствовалась независимость и даже немножко — самоуверенность.
Наконец он отошел от воды, точными движениями освободил плечи от лямок рюкзака, опустил его на гальку, и все, словно был дан сигнал, стали раздеваться. Миша привстал на одно колено и принялся потрошить рюкзак — вынул две пары рубчатых ластов с двумя масками для подводного плавания, трубки для дыхания, тоненький ломик и саперную лопатку.
— Ну, кто в первую очередь? — спросил Миша.
— Я! — закричал Илька.
— Я, — сказал Катран.
— Я, — проговорил Толян; он был плотный, коренастый и почти всю дорогу молчал.
— Ты, Илья, пойдешь во вторую, — распорядился Миша.
— Набирайся на берегу храбрости! — засмеялся Катран. — А то на мысу подкачаешь… Дама здесь!
— Заткнись, черномазый, — ругнулся Илька, — а то сейчас нос белилами вымажу! — и уже схватился за кисть, торчавшую из ведерка.
— В первую очередь пойдет Катран с Толяном, — спокойно повторил Миша, прилаживая к камере брезент, и Одик вдруг понял: ведь это же плотик, великолепный плотик!
Миша спустил плотик на воду и положил на брезент ломик, лопатку и большой камень. И, подталкивая его на глубину, пошел за ним. Катран с Толяном, уже в масках, с дыхательными трубками, с ластами на ногах, зашлепали следом. На какое-то мгновение Катран приподнял маску и сверкнул белизной зубов.
— Не тоскуйте! — крикнул он Одику с Олей. — Главное — впереди!
— Хорошо, — откликнулся Одик. — Мы не уйдем!
И сердце его тревожно екнуло: что-то новое, что-то важное и неведомое было в самом воздухе этого отдаленного берега, этой оцепеневшей, точно заколдованной бухты с круглым плотиком и мальчишками в масках…
Посередине плотика лежал Миша и быстро греб обеими руками, а по сторонам, придерживаясь за плотик, плыли Катран с Толяном. Метрах в двадцати от берега плотик остановился. Катран с лопаткой в руках оторвался от него и, сильно плеснув водой, нырнул. Давно успокоилось над ним море, а он все не появлялся на поверхности.
Одик переступал с ноги на ногу. И не отрывал от плотика глаз. Плотик лежал неподвижно. Ребята на нем словно замерли.
— Он не утонул? — тихо спросила Оля.
— Акулы не тонут! — сказал Илька. — А такие хищники, как Катран, в особенности… Ему б ставридки побольше на зуб, а глотка у него — во!
«Похоже, он завидует ему. Из-за чего?»
— Он у нас чемпион по нырянию, — заметил Костя, юркий и остроносый. Он, как и все мальчишки, сидел в плавках на горячей гальке. — Никто так долго не может находиться под водой. Даже Миша столько не выдерживает.
— Легкие натренировал? — спросил Одик.
— Наверно… Он к тому же из рыбаков… Все у них в роду рыбачат.
— А что вы здесь все-таки ищете?
— Тебе разве не сказали? Операция «А»! — засмеялся Вася, тот самый, который, по уверению Катрана, произошел от черепахи, и голова его показалась еще круглей, а щеки улыбчивей и добрее.
В нем Одик сразу почувствовал что-то родственное себе, и уже не казалось, что они с сестрой такие лишние и чужие среди этих ребят.
В это время из воды возле плотика высунулся кончик трубки, из нее, как из насоса, вылетел сверкающий фонтанчик воды, плотик резко качнула волна, и Катран опять ушел ко дну.
— А ну, огольцы, по домам! — приказал Илька. — Нечего вам торчать здесь!
— Не уйдем, — сказал Одик.
Он уже понял, что нет силы, которая прогнала бы его сейчас отсюда. Одно только пугало и мучило его: как же теперь быть с Карповым? Еще час назад он так уважал Георгия Никаноровича, можно сказать, преклонялся перед ним, а как же теперь? Зачем, правда, он отгородил кусок моря этим забором? И мальчишки что-то еще знают про него — не стали бы так смеяться… Как теперь держаться с ним?
Часа два еще, наверно, ныряли ребята, сменяясь. Нырял и Миша, натянув на плотике маску и ласты, взяв с собой камень. Потом, когда его позвали, к ним поплыл Илька. Он тоже, оказывается, неплохо нырял.
Затем плотик двинулся к берегу, туда, где, отвесно возвышаясь, темнела гора, кончавшаяся крутым Дельфиньим мысом.
С плотика вдруг раздался громкий спор и даже брань: Катран ругался с Мишей.
Что это они? Не поделили что-нибудь? Ведь Миша все время был таким спокойным, деловым, он и голоса-то ни разу не повысил.
— Я против! — крикнул Миша уже у самого берега. — Ты этим все напортишь! Сколько тебе надо говорить?
— Значит, все так оставить, да?
— Ну хорошо, потом договорим. — Миша отвернулся. — Ты какая-то стихия, ты вулкан, землетрясение, чума, а не человек… Думаешь, в этом храбрость? Ты все для себя делаешь, натворишь всего, а потом другим расхлебывать…
— Будь уверен, все пройдет чисто. У меня уже и план разработан. — Одик вдруг уловил на себе быстрый взгляд Катрана. — Только не надо трусить…
— Все равно я против, — холодно сказал Миша, — и ты этого делать не будешь.
— Ну, это мы еще посмотрим! — с вызовом крикнул Катран и стукнул кулаком в свою гулкую черную грудь.
Плотик ткнулся в берег, Миша спрыгнул на гальку, намотал на руку длинную веревку и повел плотик с Катраном к мысу. Одик отчетливо видел на фоне моря его высокую узкую фигуру, неширокие крепкие плечи и тонкую шею с аккуратно подстриженными на затылке волосами.
За Мишей шли Толян с Костей и Вася с Илькой.
Одик с Олей пристроились к концу цепочки. Илька, все с той же лентой на лбу, нес ведерко с кистью.
— Давай ведерко! — крикнул Катран.
— Зачем? — огрызнулся Илька. — Сам донесу.
— Отдай, — негромко сказал Миша.
Илька выругался, и ведерко по цепочке перешло к Катрану, шедшему впереди.
— Ну, теперь ты пропал! — Крикнул Катран. — Не отступишь назад… Мосты за тобой сожжены!
И взял дужку ведерка в зубы.
— Захлопнись! — бросил Илька.
Скоро полоска гальки кончилась, и вверх полезла едва заметная тропка — с камня на уступ, с уступа на выбоину. У Одика то и дело подворачивались ноги, одной рукой он придерживал Олю, второй касался бугроватой стены. Перед ними, сопя и потея, ковылял и неуклюже прыгал с камня на камень Вася. От стены, нависшей над ними, веяло прохладой и дикостью.
Остальные ребята, видно, давно привыкли к этой тропке и сильно оторвались от них. Особенно быстро двигались Катран с Толяном и Миша.
Из-под ног Одика вывернулся камешек и полетел вниз. Одик вскрикнул и притиснулся к стенке. Камешек звучно врезался в воду. Одик скосил глаза на расходящиеся круги, и сердце его сдавило: вода была темная, и от высоты слегка мутило.
Как высоко они поднялись!
Тропа больше не лезла вверх, а шла горизонтально.
— Стойте, — сказал Вася.
— А дальше нельзя? — подала голос Оля, руку которой не выпускал из своей потной руки Одик.
— Не видишь, какая пошла дорога?
И в самом деле, дороги впереди не было, не во что было упереть ноги, а мальчишки продолжали двигаться. Но вот перед ними встала почти отвесная голая стена. Все, кроме Катрана, остановились, а он почти не замедлил шага и непонятно как двигался по этой стене, серой и мощной, с едва заметными бугорками. Потом пошел медленней и почти прижался грудью к стене. Его ноги выбирали малейшие выступы и щербатины в литом камне и цеплялись за них пальцами. В зубах его со скрипом покачивалось ведерко с кистью. Метрах в десяти под ним было море — густое и черное, как деготь. Потом даже малейшие бугорки и углубления на пути Катрана исчезли. Впереди была гладкая, стесанная ветром и временем стена. Но и теперь Катран каким-то образом двигался вперед… Вот-вот сорвется!
Одик оцепенел и крепче ухватился за камень.
Внезапно Катран скрылся из виду — самого мыса отсюда не было видно.
— Давай! — донесся издали его голос, и по стене так же ловко и сноровисто полез Толян, за ним Костя: он тоже, оказывается, смельчак!
— Теперь ты. — Миша повернулся к Ильке. — Иди — я буду корректировать…
— Я в этом не нуждаюсь, — резко ответил Илька.
Вот откуда-то из-за скалы Костя крикнул, что и он благополучно прошел. И тогда Илька двинулся вперед.
— И ты полезешь туда? — шепотом спросил Одик у Васи.
— Куда мне! Из всех нас только четверо туда добираются… Знаешь, как страшно? Я даже пробовать боюсь.
— А зачем туда? — спросил Одик. — Что они там делают?
— Не знаю, — сказал Вася. — Там Дельфиний мыс, — мы его зовем еще мысом Мужества, и я не знаю, как там… Год назад Катран с лодки увидел на нем пещеру и рассказал Мише. Вот они и нашли эту дорогу. В пещере лежали полуистлевший бушлат, бескозырка и матросские ботинки, очень старые, заплесневевшие. И больше ничего. Ни бумажки в кармане, ни документов. Лишь на стене процарапаны три буквы: «В», точка и еще две — «К» и «А»… Инициалы, что ли? Попробуй, догадайся. Наверно, с войны осталось. На ленте бескозырки было написано «Мужественный» — видно, корабль такой был, морской охотник или эсминец. Мы отнесли все в музей, думали, узнаем что-нибудь. Так в музее спрятали в какой-то шкаф, и все.
— А чье это было? — спросила Оля.
— Я ведь сказал, что никто ничего не знает. Покрыто мраком неизвестности. Говорят, там внизу есть подводный грот.
— Нет, это правда? — ахнула Оля. — Я хочу туда…
— Дуреха! — ласково сказал Вася. — Туда ниоткуда попасть нельзя.
— Какой же ты мальчишка? — Оля презрительно отвернулась от него. — Они ходят, а ты…
— У меня голова слабая — кружится, — признался Вася. — Ну ничего не могу поделать. Внизу там всегда волны и прибой… Сейчас в бухте тихо, а смотрите, какой у мыса ветер и волнение! И так, говорят, всегда было, даже две тысячи лет назад, когда у нас появились колонии древних греков, и, кажется, у этого мыса разбилось на камнях античное судно и затонуло…
Миша гневно обернулся к нему. Вася прикусил язык.
«Не с этим ли связана их операция «А»?» — внезапно подумал Одик.
…Илька шел по стене все медленней, потом припал ухом к камню, точно прослушивал гору, и его вытянутые руки, казалось, были прибиты к стене гвоздями.
— Не смотри в воду! — крикнул Миша. — Отдохни и дальше. Смотри только на стену!
Илька не отвечал и не двигался.
— Ты что, заснул? — напряженно спросил Миша. — Ты можешь ответить?
— Чего ж он полез, если боится? — шепотом спросил у Васи Одик.
— Хотел пятым быть и написать на скале свои инициалы — это у нас как посвящение…
Одик больше не слышал Васю. Он смотрел на скалу с распятым Илькой. Тот по-прежнему был неподвижен.
— Иди назад! — четким голосом приказал Миша. — А если не можешь, прыгай в воду!
Оля вдруг крепко стиснула руку Одика, и он почувствовал, что всю ее бьет озноб.
— Спокойно, — прерывистым голосом шепнул Одик и на мгновение закрыл глаза.
Когда он разжал их, Илька осторожно пятился назад. И кажется, прошел целый век, когда все так же с распростертыми на скале руками, точно обнимал ее в последнем усилье, Илька добрался до безопасной площадки. Его лицо было в крупных каплях и — как бумага. Губы мелко тряслись. Он ни на кого не смотрел.
— Почти порядок, Илюша, — сказал вдруг Миша, и сказал не своим обычным холодноватым голосом, а мягко. — Еще неделька — и одолеешь. Уверен. Краска будет ждать тебя на мысу… Ну, я пошел.
С тонкой веревкой в зубах Миша быстро полез вверх, распластался, как и Катран, по стене и — высокий, в маленьких красных плавках — плашмя стал быстро переставлять по скале ноги. За ним на веревке тащился плотик. Через несколько секунд Миша исчез за поворотом, спрятался и плотик, и где-то там, за мощно выпирающим боком гигантской горы Дельфин, послышались заглушенные ветром и клекотом волн голоса ребят.
— Там всегда ветер и волны, — опять сказал Вася, как о чем-то недоступном, и вздохнул. — Везде штиль, а там вечно клокочет… Ну пошли, что ль? Что здесь околачиваться? Они там всегда подолгу сидят, не дождешься.
Мальчишки по той же тропке спустились на галечную полосу и стали одеваться.
Молчали.
Одик старался не смотреть на Ильку. Да и другие не приставали к нему: понимали — не надо. Илька надел белую безрукавку, натянул штаны на сухие плавки и сказал:
— Много берет на себя! Нужны мне его указания!.. Ну ладно, ладно… Он еще узнает меня… — и вдруг резким движением руки сорвал со лба синюю ленту, скомкал и сунул в карман.
«Что это он?» — с тревогой подумал Одик. Потом вспомнил, что еще не ел сегодня, что мама с отцом давно встали, хватились их и очень волнуются. Это плохо. А есть ему, признаться, не хотелось…
До еды ли, когда здесь такие события!
Глава 8 НЕНАВИСТЬ КАТРАНА
— Ты что это разорался? — спросил Миша — Опять родичи допекли?
— Отстань.
Уперев локти в колени, Катран смотрел в море.
— А зачем курортников приволок?
— Жалко? — угрюмо спросил Катран.
— Нет. Но у таких, как он, случаются солнечные удары, а она…
— Не твоя забота, — прервал его Катран и умолк.
Насупился. Притих.
Миша незаметно глянул на него и отвел глаза.
До чего ж непривычно было видеть Катрана неподвижным и молчащим!
И еще было очень странно, что он не развивал дальше плана, предложенного им на плотике, об использовании этого круглощекого и его сестры в каких-то своих корыстных целях. Миша сразу возразил ему, и как орал, как разорялся Катран! Чуть не с кулаками лез. А тут словно язык проглотил.
Что с ним?
Утром еще, когда они спускали с камня ребят, Катран был ничего: взбалмошный, веселый, как всегда. А вот когда они стали нырять за амфорой, что-то вдруг вселилось в него. Озлился. В чем дело? День был не из удачных. Амфора лежала на слишком большой для ныряния с маской глубине и сильно вошла, словно вцементировалась, в твердое дно, и они который уже день подрывали ее лопаткой и ломиком.
— Может, рыбу половим? — спросил из пещеры Костя.
— Не надо сегодня, — сказал Миша.
Ему в самом деле было не до рыбы. Рыбу хорошо ловить, когда нечего делать и на душе спокойно.
Миша встал, вытянулся, прошелся по громадной плите и снова кинул взгляд на Катрана. По согнутой, напряженной спине его, точно Катран держал многотонный груз, было видно, что ему плохо. Но лезть с расспросами было нельзя.
Миша отвернулся от моря и, слегка пригнувшись, вошел в полусумрак и прохладу пещеры.
Это была глубокая и сухая каменная пещера, в ней они в особых нишах, задвинутых на всякий случай камнями, хранили закидушки для рыбной ловли, спички, перочинные ножи, флягу с пресной водой, закопченный котелок, в углу — дрова для костра и несколько банок консервов — свой НЗ. Мало ли что может случиться на мысу! И еще лежало там несколько книг, обернутых в целлофан, которые можно было без конца читать и перечитывать. И про себя, и вслух. Впрочем, ребята напрасно прикрывали ниши камнями: ни один человек еще, кроме них четырех да того таинственного моряка, не бывал здесь: мыс был неприступен со всех сторон. Справа — стена отвесно падала в море, даже горная ящерица вряд ли пробежит; сверху — острие гладкого носа, даже трава не смогла протиснуть в трещинки корешки и укрепиться на нем; внизу — море, и над ним козырьком нависает толстая плита, на которой сидели трое ребят; никак с воды не закинешь на нее руку, не заберешься сюда, даже если ты кончил цирковое училище. Был сюда только один путь, — слева, невидимый и сумасшедший, если разобраться, путь по стене. И только четверо сумели преодолеть его…
На стене пещеры — в стороне от трех кем-то процарапанных букв — белели огромные буквы их инициалов. Каждый собственноручно вывел их краской. А еще в пещере лежала мина, огромная пустая рожковая мина с проржавевшим корпусом, мина, которую они отыскали на берегу и втащили сюда. И хотя к ней давно все привыкли, из-за нее в пещере было тревожно, неуютно. Но с какой силой тянул их к себе этот неуют!
Почему? Может, потому, что так бешено колотится сердце, когда, рискуя свалиться в море, бежишь сюда по стене. Может, потому, что сюда не доносится визг и хохот пляжа, а ведь так хочется иногда спрятаться от суеты, от всех. А может, потому, что здесь часто приходят в голову самые неожиданные мысли и мыс, мыс Мужества, будто покачивался, как нос гигантского корабля, уходящего в главный рейс твоей завтрашней жизни.
Может… Нет, нельзя объяснить, почему так тянул к себе этот мыс.
«Ха-ха-ха!» — захлюпало, заухало, загремело под ними — это Дельфиний мыс втягивал в подводный грот под пещерой море: вода с силой рвалась в образовавшуюся пустоту, напирала со всех сторон, оголтело лезла, выла, пенилась, чтоб через несколько минут выхлестнуться наружу и снова с натужным смехом хлынуть под пещеру. Здесь всегда был ветер и волны, и в зависимости от силы напора воды море то хихикало, мелко и мстительно, то сокрушенно, потерянно охало, то бессовестно и злобно хохотало.
Да, еще вот и поэтому, из-за этих человеческих и нечеловеческих звуков, полных угроз и загадок, тянуло их на мыс.
Ребята молчали, точно Катран заразил всех странным молчанием. В нем было что-то неясное, недосказанное, горькое. Миша не любил много говорить, но это молчание стало тяготить и его.
Или он что-то не так сделал? Кого-то обидел?
— А Илька сегодня был молодцом, — сказал Миша, чтобы рассеять молчание, и вышел из пещеры. — Ведь больше половины пути прошел…
— Самого легкого, — уточнил Толян.
— Ну и что? Главное, что он решился, — сказал Миша. — Ты что, не хочешь, чтобы у нас был пятый?
— С чего ты это взял? — В голосе Толяна почувствовалась обида. — Мыс большой, и пещера большая, и на стене для росписей еще много места…
— А я думал, ты не любишь его, — сказал Миша. — Ведь он не трус, правда? И деловит, и силен. Как старался сегодня! Все время нырял и нырял. Без отдыха. Пришлось прекратить дальнейшие погружения…
«Хи-хи-хи!» — раздалось где-то под ногами.
— Силен-то он силен, — сказал Костя. — А вот насчет… Да ладно!
— Чего же у него нет? — быстро спросил Миша, надеясь понять это тягостное молчание, но Костя умолк и стал постукивать пальцем по гулкому ржавому боку мины. — По-моему, у него все в порядке.
— Может быть, — отозвался Толян.
Он сидел на краю плиты, опустив босые ноги, и море до пояса охлестывало его крепкое коренастое тело — он, пожалуй, был самый сильный и молчаливый из ребят.
— А может быть, и нет, — сказал Костя и встал.
Миша опустил голову и принялся разглядывать большого коричневого краба, недоверчиво смотревшего на него с края плиты. Все-таки он не ошибся. Что-то он сделал не так. Или им не нравится, что он терпимо относится к Ильке? Ну как они не поймут, что можно быть нервным, крикливым, даже грубым и, в общем-то, не плохим. Катрана они принимают, прощают ему взбалмошность и резкость, а вот Ильке ничего не хотят прощать… А может, они в чем-то правы?
Дующий с моря ветер, то и дело меняясь, ерошил светлые, как пшеница, Мишины волосы, старательно кидал на глаза, зачесывал набок, ставил дыбом, точно примерял, что больше идет ему.
— Понимаю, чем-то он все-таки недоволен, — медленно сказал Миша. — Все вроде хорошо, а что-то не так, чем-то мы с вами не угодили ему. Ну что вы молчите? — Он посмотрел на Костю, потом на Толяна, потом на Катрана, но они уклонялись от его взгляда. И Миша решил пойти напрямую: — Не любите его?
— Обожаем! — сказал Костя. — Ты, Мишка, зоркий, но бываешь слеп, как летучая мышь…
— Зато у нее радиолокатор внутри, — сказал Миша и улыбнулся, — ни на один предмет не наткнется ночью.
— А ты натыкаешься, — проговорил Костя, не глядя в глаза Мише.
— Хочешь, чтобы он был доволен? — спросил Толян.
— Хочу, — сказал Миша.
— Тогда отметь мелом все точки опоры на стене и потренируй его.
Лицо Миши напряглось, ярко-синие глаза прищурились и потемнели. Он начал о чем-то догадываться.
— Но это же против нашего устава! — сказал он. — Каждый должен сам найти дорогу сюда, и всякая подсказка — удар по нашей дружбе!
— Тогда не спрашивай, чем он недоволен, — сказал Толян и вдруг перекинулся на другое: — А не стоит ли поискать амфоры в другом месте? Если судно, как мы думаем, потерпело крушение у этого мыса и перевернулось, обшивка со временем прогнила и амфоры раскатились по дну. Они могут быть и в других местах…
— А разве мы там не искали? — сказал Костя.
— Но ведь эту же не отдерешь ото дна! — проговорил Толян.
— А может, вообще позовем аквалангистов, — предложил вдруг Костя, — они-то без труда достанут ее.
— Черта с два! — вдруг крикнул Катран. — Мы нашли, мы ныряем который уже день, а они…
«Хо-хо-хо!» — пробасило море, врываясь в грот, и захлебнулось.
— Обойдемся без них, — отрезал Миша.
Кое-что все-таки прояснилось: они не любят Ильку и хотят, чтобы и Миша не любил его. И не только хотят — требуют. Не грубо, конечно, не нахально, один Катран мог бы требовать нахально, но он сегодня не в настроении… Ну и пусть требуют. Они видят то, что снаружи, и многого не понимают.
Миша поглядел на море у мыса и на миг отвлекся от своих мыслей.
У мыса было глубоко, но местами из воды торчали едва заметные верхушки скал, и море там пенилось, брызгалось, кидало вверх фонтаны, точно под водой не на жизнь, а на смерть дрались два чудовищных мифических кита, наскакивали друг на друга, подныривали, рвали бока, бились лоб в лоб, но вот какое уж столетье ни один не мог победить. Потом появилось судно — длинное, узкое, на веслах, с грозным косматым Зевсом на звонкой, тугой парусине. И с кормчим на корме: бородка и тонкий плащ… Да что он, вздремнул? Ведь острые скалы у носа!.. Удар — и в судне течь. Воздух наполнился воплями, треском обшивки, плеском волн и криками гребцов… Спасся ли кто-нибудь?
Миша встряхнул головой, и все это исчезло.
— Ребята, — сказал он, — мы должны помочь Федору Михайловичу. Ведь он совсем безоружный… И еще шутит.
— Хоть бы на время выдали ему наган! — вздохнул Костя. — Он никого еще не опознал?
— Нет, — сказал Катран. — Как они злы на него! Ведь он — единственный свидетель, видевший их у магазина. И запомнил их… Что это он так поздно возвращался домой?
— Иди спроси у него, — сказал Костя. — Может, со свидания шел…
«Хи-хи-хи…» — процедил под ногами грот, точно прислушивался к их разговорам.
— И он до сих пор ходит опознавать всех задержанных по подозрению в грабеже? — спросил Костя.
— Нет, не всех, через одного! — съязвил Катран.
— А почему они в него стреляли? Он что, гнался за ними?
— Спрашивал — не сказал, — ответил Миша, — говорит, пытался задержать их… Вот и все.
— В кого же им еще стрелять было, как не в него! — крикнул Катран. — В твою бабушку, что ль? — И вздохнул: — А я, ребята, знаете, что сделал сегодня?
— Откусил у кошки хвост? — спросил Костя.
— Нет, без хвоста она мышей ловить не будет… Я вышел сегодня во двор и хлопнул о стену обезьянку.
— Какую обезьянку? — спросил Толян.
— Лилькину. Подарила мне когда-то на елку.
— Поэтому и орешь сегодня?
— Бестолочь, — устало сказал Катран, — объяснил бы, да не поймешь…
И снова ощутил в руках эту обезьянку, большую стеклянную, с шаловливыми блестящими глазами и загнутым кверху хвостом. Она была темно-коричневая, а лапки и мордочка — светлые… Он берег ее все годы. А вот сегодня он выскочил из дому во двор и хлопнул ее о стенку, и она — вдрызг. Мгновенно. И это случилось после того, как мамка погнала его за деньгами к Лильке. Пятерка нужна была позарез — в больницу к бате собралась: на билет да и купить кой-что из еды — кормят там не так, чтобы очень… У соседей хоть шаром покати, у постояльцев, которым в сезон сдавали вторую комнату, давно взяли вперед, а батю только через две недели выпишут: прободение язвы — это не шутка… Но Катран сказал мамке — нет! Хоть повесьте на первом кипарисе, а к Крабу он не пойдет, не пойдет — и точка. Времени, когда Лилька вышла замуж, Катран не помнил. Но помнил, что всегда стеснялся ходить к ним: уж слишком известным и важным человеком в их городе был Карпов. Уж слишком шикарно было в их большом доме. И сестра все реже и реже прибегала к ним — дела: сын, дом, хозяйство… Только по крайней необходимости заглядывал к ним Катран. Но когда он по-настоящему возненавидел Краба (тогда он еще не получил этой клички), так это в прошлую зиму. Мамка послала его к Лильке за швейной машинкой: машинка нужна была, чтобы сшить ему, Катрану, костюм из грубого сукна. Он явился к ним слякотным вечером — шел снег пополам с дождем. У входа в дом Катран стряхнул с коротенького бобрикового пальтеца, скорее похожего на длинный пиджак, мокрые хлопья, счистил о вделанный в деревяшку металлический скребок грязь с ботинок и вошел. Время было несезонное, и дом был непривычно тих, почти мертв. «Ну, иди, иди, чего ты», — заставил он себя открыть наружную дверь и войти в коридор. Стукнул в дверь гостиной. «Прошу!» — крикнул изнутри Карпов, и Катран вошел. Карпов, видно, давно пришел с работы, потому что был одет по-домашнему: в ярко-красной байковой ковбойке с закатанными рукавами и в мягких ковровых туфлях. Плотный, покрытый добротным кофейным загаром. Сидя у низкого столика с радиоприемником, он досадливо — оторвали от дела! — полуобернулся к нему. А пальцы его оставались на белых, как у пианино, клавишах переключателей. Видно, что-то ловил в эфире.
«Лиля дома?» — спросил Катран, поздоровавшись.
«Дома. — Карпов отвернулся от него. — Наверху… А тебе зачем она?»
«Мама просила швейную машинку».
Карпов долго не отвечал ему на это и не звал Лильку, и Катран добавил:
«Нам дня на два, не больше».
«Подожди. — Карпов выключил приемник и, во весь голос крикнув: — Виталий, позанимай гостя!» — вышел из гостиной, и его четкие шаги удалились по узкой лестнице вверх.
Катран стоял на самом пороге гостиной, и ему веяло в лицо теплом и уютом этой комнаты, с ее огромным мягким ковром, удобными креслами, красивой люстрой и пестрыми корешками книг на полках. И оттого, что все это было так непохоже на то, что окружало его дома, он чувствовал себя случайным и чуждым здесь, и что-то тихонько поползло к горлу, и начали ныть зубы, хотя все до единого были здоровы.
В коридоре бесшумно появился Виталик; Катран заслонял вход, и тот протиснулся мимо него в гостиную. И, протиснувшись, сказал:
«Здравствуй, Жора».
«Здорово», — произнес Катран и как-то глупо и не очень культурно хихикнул, потому что уж очень не был Виталик похож на его родню.
«Ты чего это?» — с грустным осуждением посмотрел на него Виталик, с ногами забрался в кресло, натянул зачем-то на кисти рук, точно ему было холодно, рукава пестрого свитерка и недовольно повел плечами.
И снова с ног до головы окинул Катрана и остановил глаза на его ботинках. И долго не подымал их. Катрану вдруг стало противно от всего этого. Он тоже глянул на свои ноги и увидел, что сильно наследил. И с его пальтеца капало на паркет. Катран молча вышел на крылечко и снова стал вытирать ноги и отряхиваться. А когда вернулся, опять напоролся на глаза Виталика, и они тотчас скользнули с его лица на ноги. «Вот гад!» — подумал Катран.
Вверху между тем послышались негромкие голоса — Лилькин и Карпова. Вдруг Катран почувствовал духоту и липкий жар. На него накатывало. В этом стоянии в дверях и ожидании было что-то унизительное. Молчать больше не мог.
«Ну, как живем?» — развязно спросил он.
«Да так… — Виталик хмуро посмотрел на него. — А ты?»
«А я прекрасно!» — чуть не крикнул Катран.
В глубине его что-то стало твориться. Шириться. Лезть наружу. Он смотрел на аккуратненько причесанную головенку Виталика, на его серьезненькие глазки, и в душе вдруг тяжело заворочалось подозрение: Карпов вызвал Виталика не просто так, не для того, чтобы «занять гостя» — какой он гость! — а для того… Да, да, для того, чтобы он, Катран, не упер чего у них…
Гады! Надо уйти, убежать отсюда.
Но Катран, сжав в карманах кулаки, стоял и ждал, только стоял уже не на пороге, а в коридоре, у самых дверей. Ненависть с каждой секундой росла, тяжелела, царапала его, скрипела в нем.
Наконец сверху раздались шаги, и вниз спустились Лилька и Карпов.
Она приветливо, по-родственному — это она умеет — улыбнулась ему.
«Привет, Жора… Что ж ты не раздеваешься?»
«Я на минуту», — выдавил Катран и уставился в книги на стене.
«А ты донесешь машинку? — спросила Лилька. — Может, мама у нас пошьет?»
«Донесу».
«Ну конечно, донесет, — поддержал его Карпов. — Чтобы такой молодец да не донес! Небось мускулатурка — во! Дай-ка пощупать».
Катран и с места не сдвинулся.
«Не хочет, чтоб мамка заходила, — понял он. — Карпов ведь терпеть не может нас за то, что мы простые, и еще за то, что нас слишком много».
«Даете или нет?» — спросил он, готовый рвануться с места.
Лилька побежала в другую комнату, а Катран тяжело молчал в дверях.
«Как будто самим купить нельзя, — сказал вдруг Виталик. — Пить меньше надо…»
У Катрана сорвались сжатые челюсти, но он тут же подобрал их и водворил на место — сжал.
Лилька поставила перед ним на стул машинку в полированном футляре и опять посокрушалась:
«Ну как же это так: раз в год придешь, а и не разденешься? Хоть чаю попей… А?» Катран поднял и поудобней обхватил руками машинку.
«У нас и торт остался «Подарочный». Поешь? Ну тогда маме хоть снеси кусок. Я заверну…»
И здесь у Катрана сорвались и запрыгали челюсти.
«Нам не нужны ваши объедки! — Он плечом двинул дверь и быстро пошел по коридору. — Сволочи! Крабы!»
Через день мамка вернула им машинку (Катран донес ее до калитки — дальше несла сама) и, конечно же, извинялась за его невыдержанность. Нашла перед кем! Как будто их чем-нибудь прошибешь. Ведь только месяц назад их дедушка встретил Лильку в гастрономе, подошел, как человек, про здоровье спросил, про сына ее, Виталика. И ничего не просил. Дедушка у них старенький и по дряхлости лет может иногда попросить, а здесь — ничего. Так она, сестра, сама стала жаловаться ему, что с деньгами у них туговато, что забор не чинен и подохло два индюка, а эта ихняя Пелагея только объедает их. Дедушка — на что уж негордый человек! — махнул рукой и ушел. А ведь мамка говорила, когда Лилька кончала десятый класс, добрая была, простая, улыбка с лица не сходила, и все вокруг говорили мамке: «Счастливая ты, Евфросинья, какая девочка у тебя!» Такой красивой, как Лилька, не было на их улице. Другие поступали в школу медицинских сестер, или шли в официантки, или на кондукторшу автобуса учились — это проще всего! А Лилька решила в МГУ подать, и не на какой-нибудь там биологический или юридический, а на мехмат — механико-математический факультет! И уехала в Москву, и провалилась там: каких-то два балла недобрала — вот же не повезло. Вернувшись в Скалистый, устроилась в киоске по продаже сувениров; и когда возле нее не толклись покупатели, а толклись они почти всегда, когда и товара-то нового не было, она зубрила физику — на будущий год готовилась поступить. Иногда она жаловалась мамке: «Ох, как бы снова не срезаться… Что тогда делать буду? Кем устроюсь? Не билетики же мне отрывать в автобусе, не бегать по больным с уколами», — и тонкие губы ее высокомерно кривились. «И это дело, — утешала ее мамка, — не всем же быть профессоршами…» — «Нет, мама, нет, — твердила Лилька, — не по мне это, не хочу…» И здесь ее крабья клешня — рраз! — точно напополам перерезала…
И сегодня мамка погнала его к ней за деньгами, и он хлопнул эту обезьянку — замечательного зверька с умными глазами — об стену! Как будто она была в чем-то виновата… И когда спало напряжение дня — ныряние и дорога по стене, он вспомнил обо всем. Все свои унижения… Но разве могли понять это мальчишки?!
— Лилька была хорошая, — сказал Катран, — и оставалась бы хорошей, если бы не Краб.
— Возможно, — заметил Костя, — наш Володька с ней в школе учился, тоже говорит, девочка была — во! Гимнастка и плавунья.
— Пловчиха, — сказал Толян.
— Ну пловчиха… Только с соревнований по плаванью сбегала, если соседние школы выставляли сильный состав…
— Враки! — резанул Катран. — Сильней ее пловчих не было! И красивей… Теперь тебе ясно, мечтатель, — крикнул он на Мишу, — почему я хочу привлечь к этому делу того пузатого с сестренкой? Они помогут мне отомстить Крабу! Они будут нашими разведчиками в его штаб-квартире! По их знаку мы нападем на Краба…
— И нанесем некоторый ущерб его богатству? — иронически спросил Миша.
— Да! — Катран кричал в такт словам и махал своими черными кулаками.
— Свернешь головы индюкам?
— Сверну!
— Айву с абрикосами оборвешь?
— Оборву!
— Клубнику вытопчешь?
— Вытопчу! — Катран рубил кулаком воздух.
— Ты уже, кажется, пробовал?
— Теперь мы лучше подготовимся! Краб очень хитер и осторожен, у него везде спрятаны лампочки, и при малейшем шуме в саду он включает свет, но мы ликвидируем эту систему…
— Ребята, пора назад. — Миша встал, размял замлевшие от сидения ноги и поправил треугольник красных плавок. И когда они шли по пляжу, сказал: — Ты только напортишь всем, надо не так. Сейчас не пещерный век…
— А как надо?
Миша промолчал.
А когда они вошли в городок, сказал:
— Для охраны Федора Михайловича, если чуть что — выставим посты.
Глава 9 В БУХТЕ АМФОР
Утром следующего дня плотик качался на старом месте, в бухте Амфор (так прозвали они безымянную бухту у Дельфиньего мыса), качался возле маленького, для приметы, буйка — литровой бутылки на рыбацкой жилке, прикрепленной к камню на дне.
Первым погрузился Миша.
Глотнув как можно больше воздуха, плотно сжав в зубах резиновый загубник трубки, он ринулся вниз, и узкое, длинное, сильное тело его обжала со всех сторон прохладная вода. И чем глубже, тем прохладней. Она ласково касалась нагретой солнцем кожи, охотно пуская его в свою глубину.
В одной руке Миша держал ломик, другой усиленно греб. Утро было безоблачное, и дно хорошо просматривалось — все в голубых пятнах и зыбких солнечных бликах. А до него было немало — метров семь.
Миша всегда любил море, но сейчас — особенно, сейчас, когда они обнаружили эту амфору. Зеленухи, ерши, лобанчики, медузы — это давно приелось. Сейчас, бросаясь в море, в его глубину, он словно дорывался до какой-то тайны. Того и гляди, где-то рядом, среди замшелых камней и шевелящихся водорослей, в зеленоватом мраке вдруг замерцает длинный, чудом уцелевший корпус того самого греческого судна, весь мохнатый — в ракушках, в траве, в толстой холодной слизи.
Стало сильней давить на уши, в маске начала собираться вода. Миша по привычке выдул носом воздух в маску — давить стало меньше. Он не замечал ни вертлявых рыбок, ни притаившихся крабов, ни леса водорослей — не до них было.
Вдруг его сердце радостно толкнулось внутри. Вон, вон она — глубоко вросшая в дно, полукруглая, грязно-рыжая, с приплюснутой к туловищу ручкой, слепленная и обожженная, может, в самих античных Афинах!
В который уже раз видит ее, а все не может привыкнуть.
Коснувшись пальцами дна, Миша сразу зажал обеими ступнями большой гладкий камень — специально опустили его сюда, чтобы вода не выталкивала. Пригнувшись, провел ладонью по скользкому плавному телу амфоры. И, подымая со дна муть, стал долбить ломиком грунт — прочно спекшийся массив гальки. Точными ударами он рубил ее, выворачивал, сдвигал. И был очень осторожен.
За эти дни они аккуратно окопали ее вокруг, но амфора точно намертво вросла в грунт. «Дурни мы, видно, — на мгновение мелькнуло у Мишки, — не надо было фасонить и скрывать от Федора Михайловича, он бы советом помог, а то и сам снырял бы с нами: он не молод, но грудная клетка у него и запас кислорода — будь здоров!» Но мысли, даже о Федоре Михайловиче, отвлекали и мешали сейчас. Уже невмоготу было работать — все сильней жало на уши, слегка подташнивало и воздуха в легких оставалось скудная капля. А вот Катран бы еще терпел. Он всех пересиживает секунд на десять — пятнадцать.
Миша еще ударил два раза, положил ломик рядом с амфорой и отпустил камень, за который держался ногами. Чтобы не выскочить быстро — от резкой смены давлений может заболеть голова, — он, всплывая, притормаживал руками и ластами. Вот и верх, и тень плотика, и зыбкие ребячьи головы на нем. Миша сильно дунул в трубку и вытолкнул струю воды. Глубоко вздохнул — в грудь полился одуряюще свежий воздух.
И снова кинулся вниз.
Без ломика легче было пробиваться сквозь толщу воды — он загребал двумя руками. Секунд пять выгадал. И опять удобно пристроил в ступнях камень. Тук-тук! — громко отдаваясь под водой, стучал ломик. Кусок за куском отваливалась галька. Главное, чтобы амфору не задеть…
И опять воздух на исходе. Миша оторвался ото дна, и снова тугая струя вылетела из трубки. И он, разрывая воду, опять дотянулся до дна. Через шесть погружений мускулы рук стали ватными, ноги слегка свело, в голове шумело от недостатка воздуха: надо было не задаваться, а всплыть секунд на десять раньше и не идти наперегонки с Жоркой: он таки рыбацкий сын, истинный Катран…
«Ну хватит! Лезь на плотик», — приказал себе Миша.
«Нет, не хватит… Еще, еще секунду… Ну еще полсекунды… — скрипело и ныло внутри него. — Лезь! От всех требуешь дисциплины, а сам…»
Миша медленно всплыл, кинул руки на край плотика, и Толян подхватил его. Миша сильным толчком вскарабкался на пляшущую камеру. Вынул трубку, стащил маску — свежий воздух ворвался в него, и он чуть не потерял сознание. Но терять его было нельзя — на него смотрело столько глаз!
Миша на всякий случай сделал вид, что вытирает лицо, а сам задержал на нем руку — никто не должен видеть усталости, почти боли на лице.
Маску у него выхватил Илька.
Он лежал на плотике, краснотелый от загара, с головы до ног обметанный веснушками, но волосы у него почему-то были не рыжие, как у большинства неистово веснушчатых, а русые. Илька в воде натянул на ступни ласты, просунул в тугую маску узкую голову, продел меж щекой и резиной маски трубку, резанул Мишу с Катраном глазами через овальное стекло и мгновенно пошел ко дну.
«Нервный он какой-то сегодня, злой, — подумал Миша. — И все-таки ребята вчера перегнули, когда говорили о нем…» Миша посмотрел на берег — низкий и выжженный. И опять увидел вчерашнего, случайно примкнувшего к ним толстенького курортника в сандалиях. А где же девчонка?
— Уже явился твой разведчик. — Миша коснулся плечом раскаленного плеча Катрана, лежавшего рядом на плотике. — Дисциплинированный!.. Много платить будешь?
— Он ничего не знает, — буркнул Катран, — и ты никому ни слова.
Илька меж тем секунд пять уже трудился на глубине.
«Что в ней может быть? — думал он. — А вдруг? Нет… Скорей всего, ничего. Что может сохраниться за пятнадцать — или сколько их там прошло — веков? Конечно, как говорил Федор Михайлович, наукой не подтверждено, что греки хранили в амфорах деньги, — амфоры у них предназначались для вина, зерна и разных масел. Но бывает, и наука ошибается…»
Его рука скользнула к горлышку, и длинные худые пальцы полезли в вязкий холодный ил. Вдруг что-то больно кольнуло палец, Илька отдернул руку и выругался про себя: «Завелся в амфоре кто-то? У-у, сволочь!» И тотчас с утроенной энергией заработал ломиком. И подумал: здорово Мишка наворочал тут гальки за свои погружения! Старался… Чтобы верховодить и покрикивать на других! А ведь он-то, Мишка, самый обыкновенный, и к тому же года на два моложе его. Но умеет показать себя, сделать вид, задрать нос. Сейчас это главное — показать себя и охмурить окружающих разными словечками. И обещать. Кто это умеет, тот всегда на коне… И как это получилось, что Мишка стал над всеми? Хорошо бы ему, Ильке, откопать сейчас эту амфору, самому откопать и всплыть с ней… У всех, как по команде, глаза бы на лоб! Добил-таки! Отодрал ото дна! Первый! А то ведь кое-кто думает, что он…
Время от времени Илька всплывал, хватал через высунувшуюся трубку воздух и снова погружался к ломику. Старательно бил им в дно, тщательно целясь и вздымая ил. И чем больше думал, чем сильней бил и энергичней двигался, тем быстрей расходовался воздух. И хотелось немедленно выскочить наружу. Но он сидел на дне, терпел и все глубже подрывался под бок амфоры. Он бил аккуратно — не дай бог задеть ее! Тогда он сразу откатится к последним мальчишкам и займет место где-то возле этого увальня Васьки… Никак нельзя промахнуться и разбить ее. Никак! По стене к Дельфиньему мысу можно пройти и после третьей попытки — и он пройдет! — а попробуй найди на дне вторую амфору!
Илька всплыл и опять пошел на погружение, но кто-то цепко схватил его за ногу.
— Хватит, Жоркина очередь! — раздался чей-то голос над водой.
Илька рванул ногу и стремительно пошел ко дну: они думали, он обессилел? Они всегда думают о нем не так. Не так, как надо! Они еще узнают, чего он стоит!
Илька стал колотить ломиком. Он бы сидел здесь целый час и колотил, пока не добыл амфору. Он бы… Но воздух уже кончался, а амфора прочно сидела в дне. И конечно, они больше не пустят его сюда.
Вдруг Илька смекнул, что надо делать, как надуть их и в этот раз. Он отплыл в сторону метров на пять, вынырнул, рывком втянул воздух и, слыша угрожающие вопли с плотика, пошел к своей амфоре. Илька очень торопился, вода вокруг него кипела, и в спешке он долго не мог найти амфору. А когда наконец отыскал, воздух уже кончался. И здесь он вздрогнул: чья-то рука скользнула по его спине. Илька отшатнулся и чуть не стукнул ломиком по амфоре. Обернулся — Катран. В маске и ластах, он делал ему гневные жесты: не дури, дескать, иди наверх! И стал вырывать из его рук ломик.
Делать было нечего, Илька позволил ему вывернуть из своих пальцев инструмент и лениво, с затаенным чувством маленькой победы — перехитрил-таки! — всплыл, сдвинул на лоб маску и полез на плотик.
— Подводный лихач! — сказал Миша. — Хочешь, чтобы права отобрали?
— Попробуйте, — процедил Илька.
Катран, как всегда, долго не появлялся, а потом его вдруг словно выбросило вверх, и сперва из воды вылетела его темная рука, а в ней… — нет, Миша не мог поверить глазам, — в ней была гнутая глиняная ручка…
— Что ты наделал! — закричал Миша, так закричал, что плотик встряхнулся на воде и закачался. — Что ты натворил!
«Вот он, твой хваленый Катран, полюбуйся!» — подумал Илька при виде этой ручки и быстро отвернул от Миши свое веснушчатое тонкогубое лицо, потому что откуда-то из глубины его вдруг протиснулась и вырвалась почти против его воли радость и ярко вспыхнула на лице.
Глава 10 ВОПРОСЫ И ДОГАДКИ
Одику было странно, что из-за этих вот никудышных глиняных черепков было столько возни, волнений, крика. Ведь чуть не подрались! Ну хорошо — древние, ну хорошо — античные, но толку-то что? Другое дело, нашли бы, как об этом иногда сообщают газеты, кувшин с кладом — золотыми дукатами или, на худой конец, с серебряными талерами. Ну пусть даже с медными. Пусть ничего в ней не было б, но сама амфора была бы красиво расписана старинными художниками… А то ведь ничего этого, лишь красноватые глиняные черепки!
Обломки амфоры нес Миша, нес в хозяйственной кожаной сумке, с которой его мать, наверно, ходила по магазинам. Обломков было штук пять-шесть: отдельно длинная гнутая ручка и горлышко с оттиснутой каемкой, отдельно донце с куском стенки и еще два-три больших куска с белым и твердым — Одик лично потрогал пальцем — наростом соли, с илом и каким-то черным налетом внутри.
— Куда нам это? — сказал Илька, брезгливо оттопырив нижнюю губу, и сказал, по мнению Одика, совершенно справедливо. — Целую неделю сгубили! И это все ты, Катран…
— Сам бы попробовал! — озлился Катран. — Век бы нам не отодрать целую… Я видел в музее и помельче осколки… Правда, Миш? Потом, их как-нибудь скрепить можно. Ведь можно, Миш?
Миша не ответил.
Он быстро шел по пляжу, точно сам хотел немедленно узнать, все потеряно или еще не все, можно склеить эти черепки и восстановить амфору или нельзя. Ветер играл его легкими светлыми волосами, и он движением головы то и дело откидывал их с глаз.
Одик не отставал от него.
Но Миша шел такими шажищами, что приходилось бежать за ним рысью. Уж очень длинные были у него ноги.
Минут через пять Миша остановился.
— Если встретим Федора Михайловича — ни слова, — предупредил он. — Починим — тогда и покажем.
— Правильно! — радостно одобрил его Одик.
Другие промолчали, только в знак согласия качнули головой, и Одик покраснел.
Миша холодно скользнул по нему глазами и двинулся дальше.
На Одика никто не обращал внимания. Даже Катран. Он был не в духе: ведь это он оторвал у амфоры ручку и словно показал пример другим ныряльщикам, которые и доломали ее.
Когда они подходили к тому месту где к морю спускалась Тенистая улица, Одик стал глядеть во все глаза: он совсем не хотел, чтоб мама увидела его в обществе этих ребят. Вчера ему был сильный нагоняй за то, что они без спросу ушли и так долго пропадали невесть где и не ели; особенно за Олю попало — ей ведь нужен строгий режим. Сегодня утром пришлось убегать от нее: и маму надул, и сестру. Правда, успел пожевать кое-чего.
Мамы с сестрой на пляже не было, а отца он заметил. В большой соломенной шляпе, в сетке на рыхлом незагорелом теле, он сидел под огромным зонтом за колченогим, кем-то принесенным на пляж столиком и играл: держал в руке веер карт и посматривал на расчерченный лист бумаги на столе. Он глядел на партнеров, сосредоточенно шевелил губами, и лицо его было так озабоченно, точно сейчас решалась его судьба: жить ему или не жить.
Одик хотел было окликнуть отца — от него не влетит. Но сдержался. Еще собьет его с каких-то мыслей… А потом, и ребята могут засмеять — ведь отец куда полней его. Да и вообще…
Миша шел впереди. Замыкал шествие Катран, и камера на этот раз плохо слушалась его: неохотно, точно потеряла вдруг округлость, катилась около ног, сумок и разостланных полотенец. А подчас и наезжала на загорающих, и на Катрана кричали.
Компания едва поспевала за Мишей.
— На сверхзвуковой шпарит! — сказал Илька посмеиваясь. — Точно бриллианты в ювелирный тащит!
— Не говори! — согласился Вася. — Вот Федор Михайлович обрадуется! Вот, скажет, подводные археологи…
— Жди! — перебил его Костя. — Влетит нам от него — вот что. Изуродовали. Доконали. Принесли бы целенькую…
— Вообще-то да, — вздохнул Вася.
— А как будем скреплять? — спросил Костя. — Все куски достали? Совпадут ли?
— Как миленькие! — усмехнулся Илька. — Как же они могут не совпасть у такого человека, как Миша? Пусть посмеют!
«Он опять за свое, — подумал Одик. — До сих пор не может простить Мише и ребятам, что они забираются на мыс, а он — нет!»
Один человек не принимал участия в разговоре — Толян. Он всю дорогу молчал.
Скоро они свернули от моря в узкий проулок. Навстречу им шла высокая худощавая женщина с седым пучком. Ее авоську оттягивали пакеты с пастеризованным молоком и хлеб. Ребята поздоровались с ней, уступая дорогу. Она ответила, улыбнулась, и возле губ ее и на щеках прорезались морщинки.
— Кто это? — спросил у Васи Одик, когда она прошла.
— Анна Петровна, — шепнул Вася. — Химичка. Она всегда за ребят… Справедливая… До ужаса!
— Между прочим, когда-то была женой Краба, — бросил Костя. — Их Севка учится в ЛГУ, а летом живет здесь. То у нее, то у него. Видно, не решил еще… — Костя замолк.
Перед глазами Одика встало лицо Лили — смуглое, узкое, с тонким носом и блестящими карими глазами. И еще почему-то встали перед ним серьезные, точные глаза Виталика.
Ребята вышли к главной улице — автостраде, скоро очутились у большого двухэтажного дома и нырнули в подъезд. Вслед за Катраном с его камерой нырнул и Одик.
— А ты куда? — спросил его Илька у лестницы. — У тебя есть пригласительный билет?
— Нет, — сказал Одик, и ребята грохнули.
Одик покрылся липкой испариной.
Пока Миша открывал, все сгрудились у двери.
— А куда камеру? — спросил Катран. — С собой взять или как?
— Оставь у двери, — сказал Миша.
— А не свистнут?
И здесь Илька ткнул пальцем в Одика и завопил:
— А он на что? Пусть в благодарность за то, что не прогнали, стоит на часах у двери и сторожит наш корабль! А?
Одику стало жарко. Он отпрянул от ребят и бросился по лестнице вниз. Его душил стыд. Он не нужен им, они издеваются над ним и гонят прочь! И даже Катран не заступился!
Одик выбежал на тротуар. Навстречу двигались легко одетые люди с фотоаппаратами, с играющими транзисторами на ремешках и яркими пляжными сумками. Парень в тренировочных брюках нес в одной руке сверкающее прикладом подводное ружье и сетку полную рыбы, другой — снимал маленькой жужжащей кинокамерой улицу и вместе с гуляющей публикой снял и его, Одика. Но ему сейчас было не до этого. Он понуро шел домой. Шел и думал: вот и готово, вот и все. Зачем он им? У них свои дела, свои заботы и законы… А он? Кто он для них?
Все получается, как дома, как в Москве…
Одик брел домой и вспоминал, как вчера после обеда они с Олей встретили Федора Михайловича вот на этой улице.
— Смотри, — шепнула Оля. — Ихний учитель…
И Одик опять увидел отца. Ну не совсем отца, но почти… Одет он был довольно небрежно — небось так в школу не ходил. Из кармана мятых хлопчатобумажных штанов торчал свернутый в трубку еженедельник «За рубежом», сандалеты на босу ногу, спортивная куртка на «молнии». Под мышкой у него была зажата какая-то книга.
— Вылитый отец… — шепнул Одик. — Как похож!
— Ни капельки, — заявила Оля. — У папы совсем другое выражение…
Одик немного огорчился: ну как она не видит!
— Какое? — спросил он.
— Другое.
Федор Михайлович шел неторопливо, подолгу стоял у витрин, частенько отвечал на приветствия. У одного магазина ему через стекло витрины кивнула белокурая продавщица, а один парикмахер, бривший какого-то намыленного курортника, помахал ему рукой с опасной бритвой.
— Ой, кто идет! — Оля вдруг дернула Одика за рукав.
Навстречу им, размахивая, как в строю, одной рукой — в другой был огромный желтый портфель, — быстро шел Георгий Никанорович. Он мгновенно догнал Федора Михайловича.
— Федя, мое тебе! — сказал директор своим зычным голосом и вскинул к виску руку — не был ли военным?
— А, это ты… Здравствуй, — без особого энтузиазма произнес Федор Михайлович.
— Ну как живешь? Зашел бы. Винцо хорошее есть.
— Некогда. — Учитель смотрел прямо перед собой.
— Опять с кем-нибудь борешься? Входишь в чье-то положение?
Федор Михайлович продолжал медленно идти по тротуару, а Георгий Никанорович — крепкий, коренастый и одновременно легкий — шел рядом и не умолкал:
— Хандришь все? Копаешься в себе? Запомни, ипохондрики мало живут!
— А я с тобой в этом не собираюсь состязаться.
— Ну, бывай… Мне пора. Горисполком вызывает! — Он похлопал учителя твердой загорелой рукой по спине. — Так заходи… Жду!
Федор Михайлович ничего не ответил, и ярко начищенные стремительные туфли Карпова полетели дальше.
— Как он быстро ходит! — сказала Оля. — Как молодой.
— Ну и что с того? — ответил Одик и задумался.
— А что такое ипохондрик? — спросила вдруг Оля.
— Кто плохо ходит, — мгновенно придумал Одик. — Медленно, как вот сейчас идет Федор Михайлович. Но это ничего не значит.
— А-а… — протянула Оля.
Они по-прежнему шли за учителем.
Когда он стал у небольшого книжного магазина с пыльным окном, продавщица что-то крикнула ему, и он вошел внутрь.
— Подождем? — сказала Оля.
Они присели на каменный барьер у огромной веерной пальмы с лохматым стволом. Федор Михайлович вышел очень скоро.
В руках у него была раскрытая книга. Не та, что была зажата под мышкой, а другая, с черной обложкой, перечеркнутой белыми молниями.
Он на ходу читал ее.
— Пошли, — шепнул Одик, и они двинулись за ним.
С учителем здоровались, как заметил Одик, не приезжие, не отдыхающие, а местный, коренной люд. Федор Михайлович, не отрывая от страниц глаз, отвечал и даже называл имя-отчество или только имя встречного.
— А может, он не совсем нормальный? — спросил Одик.
— Ну да! — обиделась Оля. — Тогда ты — вообще псих… С тобой мальчики и знаться не хотят, а с ним…
— Хватит! — оборвал ее Одик. — Вспомнила!
Они шли за учителем по пятам, шли неотступно и осторожно заглядывали ему в лицо. Он читал. Переходя дорогу, он лишь на миг оторвался от книги и снова углубился.
— Что он читает? — спросила сестра.
— «Альберт Эйнштейн», — шепнул Одик.
— А-а, как же! Знаю, — сказала Оля. — Это его кино — «Броненосец Потемкин». Старое, без звука… По телевизору показывали.
— Сказала! Кино-то Эйзенштейна!
Вдруг об асфальт что-то громко стукнулось — книга! Федор Михайлович по-прежнему шел и читал. Оля нагнулась и схватила книгу. Одик тотчас вырвал ее у сестры, погрозил пальцем и подбежал к учителю.
— Федор Михайлович, вы потеряли!
Учитель поднял голову, сунул книгу под мышку и посмотрел на Одика.
— Спасибо… Где это я тебя видел? Не с экспедицией подводников?
— Да, это был я, — сказал Одик, смутился и отступил в тень платана, но тут вперед нахально выскочила Оля.
— А что они там ищут все?
— О, это только у них можно узнать, и мне не говорят.
Может быть, Одик с сестрой и узнали бы что-нибудь новое, но помешал мотоциклист с черными бачками. Он проезжал мимо, приостановил возле них машину и упер ногу в остроносой туфле в край тротуара.
— Привет, Михалыч! Жив-здоров?
— Как видишь.
У мотоциклиста было блестящее, крепкощекое лицо.
— Еще вызывают? — спросил он. — Смотри, они умеют мстить.
— Ехал бы ты, Павел, своей дорогой.
Но мотоциклист и не думал уезжать. В глазах его светилось любопытство и участие.
— Не опознал? От тебя ведь все зависит — мог и забыть их лица, не днем было дело… Мог ведь забыть?
— Не мог.
— И напрасно. Ничего тебя, Михалыч, не научило. Помнишь, в школе…
— Ну, всего. — Федор Михайлович пошел дальше и уткнулся в книгу.
«Опять эти секретные разговоры, — подумал Одик. — Кто это ему все грозит? Кого он должен опознать? И что было в школе?» И здесь его мысль внезапно перекинулась на другое: а умеет он играть в преферанс? Конечно, умеет. Должен уметь. Но и все же трудно было представить его на солнцепеке, озабоченного, с веером обтрепанных карт в руке.
Голова Одика пухла, тяжелела от вопросов и догадок…
Все это было вчера. Вчера, когда он думал, что уже почти подружился с ребятами, особенно с Катраном, и что у него начнется теперь другая жизнь.
Но сегодня мечта его рухнула. И все из-за Ильки, из-за его идиотской шутки.
Когда Одик вернулся домой, мама спросила:
— Ну куда тебя все носит? То от дома отойти боялся, а то…
— Да никуда меня не носит, — ответил Одик и хотел уже рассказать про амфору, про ребят и Федора Михайловича, но от одной мысли о том, чем все это кончилось, у него совсем испортилось настроение, и он не рассказал. — Не могу же я весь день валяться на раскаленных камнях и смотреть, как ты вяжешь, а папа дуется в свой преферанс.
— Скажите пожалуйста! — блеснула глазами мама, и Одику показалось, что она осталась довольна им.
Вечером отец сказал маме:
— А тут ничего, правда?
— Ничего… Совсем ничего! — ответила мама. — Впервые за столько лет отдыхаю. И Одик с Олей, по-моему, не скучают… Одно вот беспокоит меня: явится его сын — найдем ли что-нибудь подходящее?
— Но Георгий Никанорович обещал.
— А если только из вежливости? Теперь ведь все больше и больше народу приезжает сюда. Самый сезон. Скоро и студенты нахлынут… Что тогда делать будем!
— Ай! — сказал отец. — Не хочу на отдыхе ломать голову. Как-нибудь уладится… Он ведь порядочный человек и не мог бросать слова на ветер…
«Много вы знаете о нем», — подумал Одик, но вслух ничего не сказал. И еще больше помрачнел.
Мальчишки и Федор Михайлович не выходили у него из головы.
Интересно, склеится амфора или нет?
Глава 11 «В АМФОРАХ МЫ НЕ НУЖДАЕМСЯ»
Амфора склеивалась.
Комната, где жил Миша, звенела от голосов. Его отец был на службе — в отделении местного госбанка; его мать, старшая сестра из санатория нефтяников, принимала отдыхающих в процедурном кабинете, и мальчишкам никто не мешал. Илька, стараясь делать это незаметно пристально оглядывал комнату: на стене висела большая карта Черного моря, исчерченная красными линиями, утыканная флажками возле Скалистого, который и назван-то не был, а лишь был отмечен микроскопической точкой, словно муха ее посадила. Под картой стоял Мишин столик, а на нем — навалом разных пыльных обтрепанных книг, сложенных карт и схем; книги стопками лежали и под столом. У двери громоздился синий потертый диван, посреди комнаты — широченный овальный стол и тяжелые, с засаленной обивкой стулья; в углу виднелся приемник, и не маленький, транзисторный, какие сейчас у всех, а громадный, ламповый, давно вышедший из моды, с поцарапанным корпусом и неуклюжей ручкой настройки.
«Неважно живут, — подумал Илька. — Обстановочку давно пора менять… А гонору сколько! Или из-за этой вот исчерченной карты на стене? Тоже мне, великий исследователь Черного моря…»
Миша между тем разостлал на столике старый белый халат матери, висевший на гвоздике у окна, и осторожно достал из сумки куски амфоры.
— Что это? — Катран дотронулся до чего-то твердого, черно-коричневого, вроде смолы, на донце амфоры и поднес палец к носу.
— Не знаешь? — удивился Костя. — Честно?
— Честно.
Катран по-рачьи вращал глазами.
— Ребята, держите его за руки. Сейчас он упьется от запахов и снова раскокает амфору.
Илька с Толяном переглянулись.
— Не верите? — допытывался Костя. — Нет? Ведь это же не смола, это то, что осталось за две тысячи лет от вина.
— Ну? — открыл рот Вася.
— Да, да, и в одном запахе тысяча градусов!
— Не бойся, — засмеялся Миша, — на этот раз ты не упьешься: греки добавляли в амфору смолу, чтобы вино не прокисало и скорее старело.
— А ты откуда знаешь? — тут как тут подоспел Илька и оглянулся на ребят.
— Потому что он самый умный, — ядовито сказал Толян.
Миша недовольно посмотрел на него. Костя с Катраном улыбнулись, а Илька словно взорвался:
— Как же… это весь Скалистый знает!
— Об этом после, — сказал Миша Ильке, — а сейчас бери горло — и не урони. И все берите по куску — и пойдем к крану отмывать.
Илька фыркнул, взял гнутую ручку с горлышком и с презрительным лицом вышел из комнаты.
— А ты, — сказал Миша Васе, — беги в хозмаг за бээфом, купи два тюбика, вот тебе полтинник…
Через день автостраду у кинотеатра «Волна» пересекла группа мальчишек. Впереди, все с той же кожаной сумкой в руке, шел Миша.
— А что я говорил! — кричал шагавший за ним Катран. — Как новенькая! И воду не пропускает. А то, что не очень красивая, со швами, — ничего.
— А может, нальем полную сухого вина? — сказал Костя. — И принесем Федору Михайловичу — подарок от древних эллинов, и поручим передачу амфоры их дальнему, растрепанному потомку товарищу Катрану?
— Не возражаю! — Катран еще пуще взлохматил рукой черные волосы.
— Куда нам, — заныл Вася, — где столько денег возьмем? Ведь бутылок десять войдет. По ноль семь. И потом, Федор Михайлович терпеть не может пьянчуг.
Они остановились у небольшого дома в тихом зеленом проулке, в котором мало жило курортников, потому что до моря было отсюда далековато, прошли через калитку во двор, и тетя Ася, жена Федора Михайловича, мывшая крыльцо, сказала, что он куда-то ушел и когда вернется — неизвестно.
Этого ребята ждали меньше всего.
— Может, поищем по Скалистому? — предложил Костя.
— С амфорой? Еще чего скажешь! — оборвал его Катран. — И где его искать?
— Тогда отнесем ее домой и сделаем второй заход, когда он вернется, — сказал Костя.
— Так и будем бегать? — отозвался Миша. — А если он вернется поздно вечером? Давайте уж прямо отнесем в музей, а потом приведем Федора Михайловича и, ни о чем не предупредив, покажем… Вот поразится! Это еще лучше, чем так показать… Правда?
— А вдруг он не поверит, что нашли ее именно мы? — спросил Вася.
— Этого не может быть! И вообще в музеях делают надписи — кто, где, когда нашел, особенно если экспонат — подарок, — объяснил Костя, как будто всю жизнь только тем и занимался, что дарил разным музеям страны подарки.
Вот и здание музея. Старое, кирпичное, еще довоенное.
— А может, лучше школе подарим? — тоскующим голосом сказал вдруг Вася. — И объясним, что нами руководил Федор Михайлович?
— Ну нет уж! — возразил Костя. — Врать нельзя… И потом, кто ее увидит в школе? Одни ученики…
— Прекратить дискуссию! — обрезал их Илька. — Музей — это рангом повыше и чести больше, а в школе мы и так расскажем, что и как…
За дверью музея с билетной книжкой на столике сидела тетка в синем халате.
— Молодые люди, билетики!
— Мы новый экспонат принесли, — сказал Миша и внушительно покачал перед столиком сумкой. — Хотим передать музею.
Тетка подозрительно посмотрела на него, подошла и заглянула в сумку:
— А и правда что-то приволокли… Тогда пройдите двое (из группы сразу выскочил Катран) в комнату на втором этаже. Остальные могут подождать здесь…
И в это время Катран увидел, как из музея вышел тот самый толстый мальчуган с сестрой.
Катран страшно обрадовался им:
— Здорово, приятель! Не сердись, что не позвали тебя тогда!.. Сами едва вместились…
— Да что вы, — сказал Одик, — я понимаю.
— У него с детства полное отсутствие гордости! — заявила девочка и передернула плечиком.
— Я тебе! — пригрозил мальчуган, но в светлых глазах девочки мелькнула усмешка.
— Тронули, — сказал Миша и, прижимая к груди сумку, осторожно, чтоб не споткнуться и не упасть на ступеньках, пошел наверх.
За ним огромными скачками понесся Катран.
Ребята стояли у порога и смотрели на узкую, убегавшую вверх лестницу.
— Хорошо получилось? — спросил у Васи Одик. — Склеилась?
— Лучше новой! Бээф намертво схватил. Я покупал его. Только вот отмыть всю не удалось. Илька советовал потереть кирпичом, да Миша был против: нельзя историческую вещь портить…
— Прикуси язык! — крикнул Илька. — Своего мнения у тебя нет, только и умеешь чужие мысли повторять.
— Можно немножко помолчать? — спросил Толян; все замолкли, и стало очень тихо.
Минуты через три вверху на лестнице раздались шаги. Были они громкие, тяжелые и частые — ну никак не шаги Миши с Катраном! И тут ребята увидели спускавшиеся сверху начищенные сандалеты с медными пряжками, потом чесучовые брюки, пиджак, белую вышитую крестом рубашку и багровое лицо.
И уже сзади, за плечами этого человека, послышались дробные ребячьи шаги.
Человек в чесучовых брюках, неровно дыша, ворвался в первый зал музея, стремительно дал круг, вернулся к выходу и возбужденно сказал:
— Так… Прекрасно… Все на месте…
— А вы что думали? — отчужденно, весь бледный, насупленный, спросил Миша.
— Ничего, дорогой, ничего… В нашей работе всякое случается… Народ нынче пошел ловкий. Ученый. Спасибо, что пришли, но в амфорах мы не нуждаемся — уже есть три штуки. Хватит с нас… — И застучал сандалетами с медными пряжками, поднимаясь по лестнице, и Одик увидел его желтоватые, болтающиеся на ногах, сильно измятые чесучовые брюки. И поежился: что теперь будет?
Ребята в дверях молча расступились, пропуская Мишу с Катраном. Миша был обескуражен, а у Катрана от ярости прыгали губы и дергались щеки.
— Ну хорошо, хорошо, я покажу им еще… Покажу! Ведь ничего же не просили за нее… Ничего!
Он почти кричал, и Миша тащил его за руку подальше от музея, точно не хотел, чтобы музейные служители слышали их.
— Ведь нет же у них такой, — с огорчением сказал Миша, оттащив Катрана на изрядное расстояние от музея. — У них есть одна короткая и две толстых, как бочонок, а такой, как наша, нет.
— Давай разобьем ее, раз она никому не нужна! — крикнул вдруг Катран и, задыхаясь, рванул из Мишиных рук сумку.
— Не дури, — устало сказал Миша. — От тебя дым пошел, как от Везувия.
Илька хохотнул, и в узких губах его встрепенулась и застыла какая-то шалая, радостная, неуместная сейчас улыбка.
— Черт с ними! — сказал Костя. — Может, Федор Михайлович вернулся?
— Вряд ли, — заметил Толян.
На всякий случай они еще раз подошли к ограде домика, где жил учитель: его не было. Ребята медленно поплелись назад. Одик, вспомнив рассказ Васи возле мыса, хотел спросить у кого-нибудь, не этот ли дядька из музея спрятал в шкафу бушлат, бескозырку, на ленте которой надпись — «Мужественный», и матросские ботинки, вместо того чтоб выставить их на обозрение всем, но тут же раздумал: может, Вася раскрыл их секрет и ему за это сильно влетит…
Между тем ребята проходили у заброшенного участка со сломанной изгородью, за которой среди лопухов и пыльной лебеды стояло несколько странных голоствольных деревьев; Костя остановился.
— А если спрятать под Иудины деревья? — сказал он. — И близко от Федора Михайловича, и безопасно.
— Я бы не рискнул, — ответил Миша, — мало ли что.
— Неужели? — с издевкой спросил Илька, вплотную — нос к носу — приблизился к Мише и стал нахально рассматривать его лицо.
Миша, казалось, слегка опешил.
— А что?
— А то, что не верится, что это говоришь ты, — сказал Илька. — Ты, такой рисковый и храбрый! Уши просто вянут!
Миша отступил от него.
— Плохо поливаешь, если вянут.
Но, видно поняв, что острота получилась натянутой и никто не отреагировал на нее, безучастно сказал:
— Как хотите, но я не стал бы прятать ее.
— Скажи — кому еще нужна твоя амфора? — продолжал наступать на него Илька. — Кому? Уж будь уверен, если бы она представляла какую-то ценность, музей взял бы ее…
— И я за то, чтобы спрятать, — сказал Катран. — Чего таскать ее туда-сюда.
— Ну и прячьте.
Миша опустил на землю сумку, отошел от нее на шаг и, свесив голову с рассыпавшимися по лбу светлыми волосами, неподвижно и грустно смотрел, как Катран грязными руками достает из сумки амфору. Мишу просто нельзя было узнать.
Глава 12 ИУДИНО ДЕРЕВО
Катран положил амфору между больших камней, прикрыл сверху ноздреватыми плитами ракушечника, устроив что-то вроде грота, и стал закидывать крупными мясистыми листьями лопуха. Кривые, пронзительно черные тени деревьев падали на землю, на привядшую от зноя траву заброшенного участка, ломаясь на камнях, на согнутой спине Катрана. Одик поднял на деревья глаза: гнутые, почти безлистые, они ярко пылали густыми гроздьями мелких розовых цветков, и в их красоте было что-то неведомое и зловещее.
Оля дернула его за руку:
— Ты что зазевался? Все пошли.
Они бросились догонять ребят.
— А почему Иудино дерево? — осторожно спросил Одик у Миши, когда они перешли автостраду. — Это вы так прозвали?
Миша внимательно посмотрел на него.
— Не мы, — сказал он, и в его голосе уже не было того холодка и даже заносчивости, которые были на пляже, когда Одик спросил о рубцах на спине учителя: то ли Миша немного привык к нему, то ли от неудачи подобрел. — Научное его название — багряник, но больше оно известно как Иудино дерево, и о нем есть разные легенды: по одной — его листья всегда дрожат на ветру от испуга и коварства, как тот Иуда, который предал Христа за тридцать сребреников…
— А-а-а, — сказал Одик, — странное название! — Кто такой Иуда, он спросить побоялся.
— Странное?! — вмешался Илька. — Странное, говоришь? А мы тебе не странные? И чего ты все таскаешься за нами? Для того, чтобы похудеть?
Катран, хранивший молчание, сделал Ильке резкий жест рукой: заткнись, мол, — и, пропустив остальных, чуть приотстал и пошел рядом с Одиком и его сестрой.
— Можно тебя на минутку… — Он потянул Одика за руку, видно, не хотел чего-то говорить при Оле, и Одик отошел от нее. — Не обращай на него внимания: пока не испортит людям настроение, не успокоится, — громко сказал Катран, потом наклонился к Одику и негромко шепнул, едва не касаясь губами уха: — Скажи, ваши хозяева рано ложатся спать?
Одика поразил не столько вопрос, сколько то, что Катран впервые не назвал Георгия Никаноровича Крабом.
— Да не очень, — охотно начал Одик и пустился в подробности быта Георгия Никаноровича. Закончил он так: — И встает чуть не с солнцем, бежит на море для заплыва, потом делает с Виталиком гимнастику в саду и обходит каждый цветок и дерево…
— И каждого индюка? — вставил Катран.
— Наверно! — засмеялся Одик. — Они с Виталиком очень гордятся своими индюками и еще хотят завести знаешь кого?
— Кого?
— Павлинов.
Сказал и чуть пожалел. Вот и он уже целиком поддался их влиянию и поругивает Карпова.
— Ребята! — заорал Катран. — Вы послушайте!.. — И тут же осекся, и это было так внезапно, что у Одика что-то неловко повернулось в душе. Что это с Катраном? Решил умолчать?
Одик хотел уже вернуться к Оле, но Катран взял его под руку и не отпустил. Несколько минут шел молча. Видно, что-то решал.
— Ты не мог бы… — сказал он вдруг. — Ты не мог бы перерезать…
— Что-что? — Одик придвинулся к нему, заранее холодея от чего-то неведомого и страшноватого, что хотел предложить ему Катран.
— Ну, это самое… Тебе ведь это пара пустяков… Живешь там, в самом, можно сказать, логове… И никто не догадается…
— Катран! — крикнул Миша своим прежним отрывистым голосом и подошел к ним. — Ты о чем с ним шепчешься? Все о том?
Катран на какой-то миг смутился:
— Да ничего мы не шепчемся.
— Оставь его в покое. Если я узнаю, что ты подговариваешь его, даю перед всеми ребятами слово: тебе несдобровать.
«О чем это они? — напряженно думал Одик, расставаясь с мальчишками. — Что они такое задумали? Зачем это я понадобился Катрану?»
Одик с Олей ушли в одну сторону, ребята — в другую.
Илька шагал с Катраном.
— Ты чего у него допытывался? — спросил Илька.
— Ничего. Так просто… Дело одно тут задумал, да сорвалось. Во все суется Мишка… Ну что ему надо?
— А ты первый раз это замечаешь? — шепотом, чтобы никто больше не слышал, спросил Илька. — Первый раз, да? Не понимаю, как ты терпишь это.
Катран мрачно молчал.
— Я всегда считал, что у тебя есть характер, — продолжал Илька. — Ты, такой умный и храбрый, перед ним как ягненок!
— Уйди! — рявкнул Катран так, что даже Толян обернулся.
Несколько минут Илька молчал, потом сказал:
— Напрасно ты, Жора, сердишься… Разве я обидел тебя? Я просто хотел сказать, что другие тебе и в подметки не годятся, а ты должен подчиняться им… Но все это ерунда… Слушай, ты не хочешь слетать на вертолете в Кипарисы? Там, говорят, «Великолепную» еще крутят…
— Кто ж не хочет! — на миг загорелся Катран, но тут же опомнился. — А на какие шиши?
— Не беспокойся. Это для меня не проблема.
— Не знаю, — вяло сказал Катран, и Илька понял, что Жорка, всегда энергичный и напористый, сейчас почти ручной.
— Я к тебе через час зайду, — сказал Илька.
Возле ресторана «Якорь» он оторвался от компании и скользнул в широкую дверь под огромной, выгнутой из стеклянных трубок эмблемой якоря — по вечерам она ослепительно и призывно пылала голубым неоновым светом, а сейчас едва была заметна. Народу в это время в залах было маловато, зато во внутреннем уютном дворике, под прямыми темно-зелеными кипарисами, мест свободных не было. Илька сразу увидел отца, но не побежал к нему: отец принимал заказ. Он стоял в знакомой почтительной позе у столика и вписывал в блокнотик все, что просил у него пожилой человек с суровым лицом, в костюме стального цвета. Иногда тот советовался с молодой красивой женщиной, сидевшей рядом, и отец с застывшей улыбкой терпеливо ждал в прежней, слегка согнутой, покорной позе, хотя изрядно выпившие парни в ковбойках, сидевшие за другим столиком, подзывали его громкими криками: «Официант, подсчитайте нам!»
Ильку покоробило: подождать не могут! Отец у него человек опытный и знает, к кому подойти в первую очередь, а к кому — в третью и как с кем говорить. А они требуют. Приняв заказ, отец отнес его на кухню и только после этого вернулся к парням в ковбойках, быстро подсчитал в блокнотике стоимость выпитого и съеденного, оторвал листок и положил на столик. Один из парней, с рыжей бородкой, долго изучал его, потом сунул второму, и тот стал тщательно рассматривать его через толстые, как лупы, очки, словно делал экспертизу. «Вам ходить в столовку самообслуживания у моря, а не в ресторан», — раздраженно подумал Илька. Он торопился, а эти затягивали расчет. Видно, отец сплоховал — не точно определил степень их опьянения и поторопился приписать лишние рубль-два. Он не скрывал от Ильки, что делает это: раз клиент пришел в ресторан, где значительная наценка на все, значит, денежки есть. Заранее не знаешь, кто даст, а кто не даст на чай, вот и приходится самому вмешиваться в это дело и немножко приписывать — за границей, например, народ воспитанный, культурный: все дают чаевые, такая уж там традиция, а у нас не то…
Потом счет перешел в руки третьего — длинноносого и тощего с ремешком фотоаппарата на плече. Тот коснулся носом счета и что-то сказал. Отец взял счет, покраснел и, сильно согнувшись над столиком — спина у него была очень гибкая, — что-то переправил карандашом в счете. «Эх ты, — подумал Илька, — разве можно с такими связываться? Ну теперь извиняйся перед ними…»
Отец и правда стал что-то говорить им. Попробуй не извинись — пойдут к самому «метру», метрдотелю, или попросят жалобную книгу. Конечно, отец из любой ситуации вывернется — не впервые, но зачем понапрасну трепать себе нервы? Ильке стыдно было смотреть, как отец в своей безупречно белой куртке с тоненькой черной бабочкой на нейлоновой сорочке, скорей похожий на артиста эстрады, чем на официанта, оправдывается и что-то объясняет этой шантрапе…
У-у-у, врезал бы им! Таких и на километр нельзя подпускать к приличному ресторану… Даст ли отец теперь денег?
Парни ушли без всякого скандала.
Отец побежал к окошечку и, ловко лавируя между столиками, вернулся с подносом — его он держал, как цирковой жонглер, в одной руке — к мужчине в стальном костюме. Расставил на столе бутылки с рюмками и холодную закуску и, как положено, стоя за их спиной, аккуратно налил из бутылки в тонкие рюмочки вино: разумеется, вначале даме, потом мужчине, изогнулся, что-то сказал им и понесся к другому столику рассчитываться с молодым капитаном третьего ранга…
«Ну что это за жизнь — бегать и прислуживать, и так до старости лет? — с горечью подумал Илька. — Ведь не мальчишка давно. А что иногда щедро дают чаевые — это ерунда. Нет того, чтобы устроиться посолидней, чтобы знать себе цену и уважение других». Ильке такая жизнь не улыбалась. Илька не будет на побегушках. У Ильки есть гордость и честь.
Мимо Ильки проходили официанты — у них работали только мужчины — и приветливо кивали ему. Пришлось еще подождать, пока отец рассчитается с одним-другим. Лицо у него при этом было очень любезное. Илька уже терял терпение, но ждал, потому что ему очень нужны были деньги. Он ведь вышел из возраста этой мелюзги, которой распоряжается Мишка. Зачем мелюзге деньги? Чтобы полизать сладенькое мороженое да сбегать в киношку… А ему, Ильке, иногда хочется и покурить, особенно по вечерам, когда он расхаживает по Скалистому со взрослыми ребятами, и хочется купить шерстяные немецкие плавки с карманчиком на «молнии» и белой рыбкой, которые он видел недавно у отдыхающего, снявшего у них комнату. Да и вообще без денег в Скалистом никуда. Проголодался под вечер — ступай на террасу кафе, возьми бутылку «Жигулевского» с порцией сосисок, развались в кресле, попивай из стакана, жуй да поглядывай, как сверкает море, как галдит пляж и ходят голубые катера… Шикарно! Но сегодня деньги нужны были не только на это. Точнее, совсем не на это. Как-то так получилось, что друзей у него в Скалистом оставалось маловато. Лучшего его дружка, Женьку Лагутина, в прошлом году кое за что упекли в колонию для несовершеннолетних (ничего особенного, немножко подзарабатывал на пляже, сущую мелочишку, ведь больших денег никто на пляж не берет), другой, Фимка Сименков, уехал с родителями в Батуми, остальные же сверстники были скучны ему. Так что Ильке ничего не оставалось делать, как водиться с этой ребятней: все-таки мальчики были ничего — живые. Особенно Катран с Костей — веселые, хваткие, — и Толян не промах, хоть и молчит все время. Да и сам Мишка не из трусливых, но уж очень ломается, и он его терпеть не может за это. Ну хорошо, ловят крабов, таскают на закидушку рыбу, ходят в горы — это понятно, но на что ему сдался этот мыс? Что в нем интересного? Голая скала и нагромождение камней, и только. И чего не приплел он к этому мысу! Героизм, мужество, вечная дружба… Кого только не строит из себя!
А зачем ему эта амфора? Достали с таким трудом, измучились, а много от нее толку? А сколько было вокруг нее болтовни! И Федор Михайлович ему понадобился зачем-то. Мужик-то он ничего, в танке горел под Кенигсбергом, плавает хорошо и знает много разных историй. Но ведь взрослые в душе не считают мальчишек за людей и при первом же удобном случае продают их. И он, Федор Михайлович, сделай что-нибудь не по нему, накапает на них директору…
Как все-таки проучить Мишку с его болтологией? Ребята — они послушные, их можно натаскать, как охотничьих щенят, и для начала прогуляться по совхозным виноградникам, а заодно и пошарить по сараям с сохнущим чаем — его можно неплохо загнать!
Илька давно бы сверг Мишку, выгнал в шею или разжаловал в рядовые, если бы не этот мыс…
Ох, мыс! Лучше и не думать о нем.
Как могут относиться к Ильке ребята, если он не в силах пробраться на мыс? И почему Мишка ни разу не сковырнулся со стены носом в море? Почему не грохнулись вниз Катран с Костей и Толяном? Почему они благополучно пробегают по стене, а он, Илька, куда более умный, ловкий и смелый, в который уже раз едва не сковырнулся и не грохнулся в воду? Полпути проходит — ничего, но потом темнеет в глазах, стена шатается и падает на него, и он едва удерживается на ногах и пятится назад… И все, даже этот сопляк Васька, видят его позор и ликуют!..
Он должен пройти и пройдет!
И все будут слушаться каждого его слова. И этому совсем не помешает, если в его кармане всегда будут позвякивать деньжата. Скажем, зной, безветрие, жажда. Они проходят возле палатки с разными напитками. Почему бы ему когда-нибудь не остановиться и не взять на всех одну-две бутылки ледяного яблочного лимонада и не распить? А когда-нибудь можно разориться и на мороженое, которое они так любят: «Налетайте, лижите, разве жалко?»
Ну и тому подобное.
Отец все не подходил к нему. Не замечал или нарочно?
По просьбе Ильки один официант шепнул отцу, и тот наконец подошел.
— Нужно четыре, — сухо сказал Илька, отозвав отца к каменному желобу во дворике, по которому во время дождей стекала вдоль стенки вода.
— Ого! — сказал отец. Его узкое, досиня выбритое лицо со щепоткой черных усиков под носом враз утратило живость. — Ты просишь все больше и больше.
Но Илька по опыту знал, что с отцом нужно мало говорить и ничего не объяснять. И говорить с каменным лицом. Тогда он даст все, что просишь. Конечно, надо знать меру.
— Не прибедняйся, — сказал Илька.
Отец даже слегка возмутился:
— Ты думаешь, я много получаю? Ведь и делиться приходится.
— Отец, только четыре, — повторил Илька. — Срочно нужны.
— Нет, столько не могу… Два с полтиной, в крайнем случае трешку…
— Официант! — крикнули от столиков.
— Меня зовут. Вот три, — засуетился отец.
— Не нужно, — холодно произнес Илька. — Я подожду.
— Больше не смогу.
— Дашь, — сказал Илька, глядя в гибкую спину убегающего отца.
Илька этого не хотел, но когда отец опять подошел к нему, пришлось пустить в ход последнее. Он сказал:
— Я ведь могу кое-что рассказать матери о твоих поездках с приятелями к водопаду.
— На, и отстань! — Отец, спрятав руку за спину, чтобы никто из сослуживцев не заметил, ловким движением сунул ему в ладонь две бумажки и побежал за подносом.
Глава 13 ПЕЛАГЕЯ
Одик с сестрой возвращались домой.
У калитки стоял Виталик с тремя незнакомыми мальчиками. Наконец-то!
А то можно было подумать, что, кроме индюков, ему и дружить не с кем. Мальчики о чем-то говорили. Они были чисто одеты, аккуратно причесаны и с вежливыми глазами.
— Привет, — сказал Одик, направляясь к калитке.
Мальчики уступили им дорогу и сразу замолкли.
— Приходите еще, — услышал Одик за спиной. — Я вам не то покажу…
Не успел Одик с сестрой дойти по дорожке до дому, как Виталик догнал их.
— Гости были? — спросил Одик.
— Да… Очень хорошие мальчики. Видел Сережу Рукавицына? Он в панамке и вышитой рубашке. Его папа директор «Горняка».
— А что это?
— Ну и память у тебя! Ведь говорил же, есть такой дом отдыха, и они большие друзья с моим папой.
— А-а, — сказал Одик. — А кто другие ребята?
— Разные… Папа Вити работает в городском… — И вдруг, подумав о чем-то другом, Виталик спросил: — А вы что, дружите с ними?
— С кем? — спросил Одик.
— Да с этими… Они на всех тут наводят страх… Мы с папой ненавидим их.
— Значит, это другие, — сказал Одик. — Мои знакомые искали амфору в бухте.
— И ты им веришь? — Виталик с жалостью посмотрел на него, склонил голову и почесал плечом ухо.
— Я сам видел. Они все время ныряли и достали ее, а сегодня носили в музей. — О том, как их приняли в музее, он умолчал.
— Делать им больше нечего, — сказал Виталик. — Бездельники. Нахалы.
Одик перевел разговор на другое. Он до сих пор, признаться, не мог до конца понять, почему Виталик и все его семейство так не любят мальчишек. Он снова решил позвать его к морю. Виталик сказал, что сходить он не против, надо только дождаться механика из телеателье: иногда на экране телевизора прыгает изображение.
— А Пелагея ведь дома.
Виталик посмотрел на него как на недоразвитого.
— Доверься ей! Вечно испортит все и напутает.
— Но она ведь старенькая уже.
— Много ты знаешь! Пятьдесят три — разве это старость?
Одик поразился: ей пятьдесят три? А он думал — семьдесят, не меньше!
— Отлынивает от работ: таких больше нет в папином семействе.
— А она что, ваша родственница?
— Немножко. — Виталик замялся. — По папиной линии.
— Кем же она приходится папе?
— Сестра… Только ты не думай — у них ничего общего нет… Папа энергичный и умный, а она… — Он вдруг словно прикусил язык: из-под черешен вынырнула Пелагея в неизменном белом платочке и длинном, до земли, темном грязном платье; лицо у Виталика сразу застыло. — Тебя кто звал? Подслушиваешь все?
Одику стало стыдно за него. А если бы слышал Георгий Никанорович, как он разговаривает с Пелагеей? Хоть бы его, Одика, постеснялся.
— Зачем мне, детка, подслушивать тебя, — сказала тетка и почему-то показала большой палец правой руки. — Я сымала с ящика с-под клубники крышку…
Виталик вдруг захохотал и с торжествующим видом посмотрел на Одика.
— Когда ты говорить правильно научишься? Какой уж год из деревни, а все «сымала», да «лётают», да «наскрозь»…
У Одика что-то заныло внутри.
— Ну чего тебе? — спросил ее Виталик. — Что из того, что ты «сымала» крышку?
Пелагея опять показала большой, черный, весь в земле палец.
— Скабку загнала… И несподручно левой вытянуть… Как бы не заядрило…
Виталик сморщился и посмотрел на ее палец.
— Иди мой руку, и только живо, а то мне некогда.
Пелагея отвернулась от них и косовато, левым плечом чуть вперед, как всегда ходила, скрылась в зелени сада.
— Ну зачем ты с ней так? — спросил Одик. — Ведь обиделась, наверно.
— Она? — искренне удивился Виталик. — Ты ее не знаешь! Устроилась на тепленькое место, питается почти так же, как и мы, а никакой благодарности. Будто папа обязан был брать ее из деревни и поить-кормить до смерти. Он думал, она будет его помощницей, а она… Она и занозу эту засадила-то нарочно, чтобы не работать.
Одик был ошеломлен и не знал, что сказать.
— А мне жалко ее, — проговорил наконец он и вздохнул. — Она такая худая.
— Ты ничего не понимаешь… Худые — они всегда крепкие и здоровые. А вы с отцом со своими телесами долго не проживете. И еще вы совсем безвольные. Не разбираетесь, что к чему… «Жалко» ему!
Одик был разгромлен: что-то в словах Виталика было и верно. Не отец ли подсказал?
У Одика упало настроение.
— А ты сказки Пушкина читал? — спросил он вдруг у Виталика, чтобы опять перевести разговор на другое.
— Кто ж их не читал! — слегка даже рассердился Виталик. — Все прочитал. Давно уже. Папа сказал, что я должен быть начитанным. Специально для меня их из Москвы выписал. Я и сейчас кое-что помню наизусть, и папа, как будто я маленький, просит меня рассказывать, когда к нам приходят гости. И особенно это место: «Князь у синя моря ходит, с синя моря глаз не сводит; глядь — поверх текучих вод лебедь белая плывет…» Помнишь?
— Помню. — Одик посмотрел на блестящие листья абрикосов, за которыми скрылась Пелагея, и зевнул.
Родители и сестра — она давно убежала от Одика — были у моря: ему не захотелось одному тащиться на раскаленный пляж, и он прошелся по асфальтированным дорожкам сада. У каменного сарая на перевернутом ведре сидела Пелагея и, приблизив к глазу палец, пыталась вытащить занозу. Одик подошел к ней.
— Дайте я попробую.
— Не вылазит… Никак не могу уцепить — нету ногтей. Придется иголкой расковырять…
Одик присел возле нее на корточки и взял в руку ее кисть, иссохшую, легкую, с устрашающе выпуклыми синими венами, точно они были не под кожей, а перехлестывали руку сверху. В ее пальце, истресканном и грязном, он увидел черную точечку и, ухватив ее ногтями, дернул вверх. Старуха вскрикнула и затрясла рукой:
— Спасибо, миленький… Выдернул!
— Не за что. — Одик встал с корточек, постоял, думая, что бы такое сказать, потому что просто так уйти было бы невежливо. — Вам тут плохо, — сказал он, — когда ни посмотришь из окна, все вы в саду…
Пелагея подняла на него мутноватые, в глубоких морщинах глаза.
— Что ты, сыночек… Как же не работать — бог любит работящих, спасибо Егору, кормильцу… Чтоб без него робила? Кому нужна старуха? Ведь и подписаться-то не могу. — Она почесала длинным худущим пальцем костлявое плечо. Потом быстро огляделась и проговорила: — Иди гуляй, милый, чего тут со мной, со старухой, время тратить. Да и я совсем заболталась с тобой. — Она подняла с земли цапку и ушла за сарай. Не поймешь Пелагею: он ее эксплуатирует, а она благодарит…
Через час пришла с моря Оля. Потом явились мама с отцом; они ели приготовленную накануне окрошку, оладьи, и отец все рассказывал про то, как обманчив бывает внешний вид игроков. Взять Сергея Викторовича, — до чего, казалось бы, растяпистый человек, ведь и на карты вроде бы не смотрит, а все помнит, что скинули. Все до единой помнит!
— Несчастный! — сказала мама. — Жалкий, беспробудный картежник! Для этого ты приехал сюда? Дома не было партнеров? Лучше бы купался, загорал и ходил в горы… Вон как разнесло! Тебе надо больше двигаться и активно отдыхать, а не сидеть на месте. Ведь все нервы истрепал на этих картах…
— Стоп! — сказал отец и засмеялся. — Прошу при детях выбирать слова.
Дети засмеялись громче его.
— Сходим сегодня в кино, — сказала мама, — идет «Девушка в тельняшке»; говорят, прекрасная картина.
— Так и быть, уломала жалкого картежника! — проговорил отец. — Тяжка моя участь… Иду!
«Все-таки отец хороший, все понимает, — подумал Одик, — только и правда, как ему не надоест преферанс?»
Картина не показалась Одику прекрасной, но смотреть было можно.
Зато следующий день был наихудшим днем в Скалистом. Одик не знал, куда себя деть. С утра он был с мамой и Олей на пляже и томился. Лежал на полотенце под огромной пилоткой, свернутой мамой из «Недели», и смотрел на берег, на проходивших иногда по гальке мальчишек. Знакомых среди них не было. Ну ясно, амфору они подняли со дна бухты и делать там вроде больше нечего.
Но ведь Дельфиний мыс остался на прежнем месте, и Илька еще не прошел на него. Да, может, и другие, более робкие ребята осмелятся повязать свой лоб синей лентой и захватить ведерко с белилами…
Мама по-прежнему вязала из зеленых ниток свитер — мотки сильно уменьшились, — заговаривала с соседками по пляжу, а Оля бродила у воды: охотилась за крабиками, которые были настолько глупы, что изредка давали себя поймать. Одик, за последние дни слегка охладевший к сестре, снова от скуки стал поглядывать на нее.
«А что, если рассказать маме про амфору и про Дельфиний мыс? — вдруг подумал он. — Будет ей интересно слушать?»
И Одик рассказал. Но, конечно, про то, что ребята прогнали его от дверей Мишиной квартиры и что в музее не взяли амфору, не сказал ни слова. Мама слушала его очень внимательно. Оля тоже прекратила охоту за крабиками и не спускала с его лица глаз, на этот раз не очень каверзных.
— Смотрите вы! — сказала мама. — Что ж ты раньше молчал? А я думала, где это он все пропадает! А мне можно посмотреть на эту амфору?
— И мне? — пискнула Оля.
— Только не сейчас, попозже… Ее даже Федор Михайлович еще не видел.
— А кто это? — Мама оторвалась от вязания.
— Учитель, — тут же встряла Оля, — он очень насмешливый и даже на ходу читает книги про броненосец «Потемкин».
Одик снисходительно улыбнулся, но не поправил сестру.
— Ого, да у вас тут, я вижу, полно знакомств! — сказала мама. — Не то что дома. Даже с учителями… А я думала, в Москве успели надоесть! Ты ведь все время жаловался на Полину Семеновну…
— Да что ты сравниваешь их, — перебил ее Одик, — она нудная и придира, слушать ее скучно.
— Подумайте вы! — сказала мама. — А мы с папой тебе не скучны?
Глава 14 НАЛЕТ
Вечером мама спросила у Георгия Никаноровича про его старшего сына, который вот-вот должен был приехать.
— О, на ваше счастье, сын задерживается, — сказал Карпов, поглаживая себя по груди. — Но если и нагрянет, вы не беспокойтесь, что-нибудь подыщем.
— Спасибо.
В голосе мамы Одик уловил заискивающие нотки.
— Я понимаю вас, Валентина, — сказал Карпов. — В жизни так много зависит от жилья… Разве можно чувствовать себя человеком в какой-нибудь халупе, без всяких удобств, без надежной крыши над головой, без уюта и тишины?..
Он продолжал развивать свою мысль, и временами в его речь вплетался голос телевизионного диктора, долетавший из-за стенки.
Одик пристально смотрел ему в лицо — крупно вылепленное, большеносое, с суровой поперечной складкой на загорелом лбу — и думал: такой ли он, как о нем говорят мальчишки? Не очень похоже… Но зачем он отгородил пляж? Почему так заставляет работать сестру Пелагею? Почему ушел от той, справедливой, по словам ребят, жены? Нрав у него крутой — это сразу видно, и Виталик его надменный и считает себя чуть ли не пупом уж если не земли, то по крайней мере Скалистого…
Весь этот день Одик жил с каким-то смутным, тревожным чувством на душе и, чтобы поскорей отделаться от него, пораньше лег. Лег и мгновенно уснул и не слышал, как ложились родители, как кашляла где-то за окнами Пелагея и трубил на море катер…
Проснулся Одик от криков. Он вскочил, подбежал к окну и в ужасе отпрянул от него. Сад был залит резким электрическим светом, в нем метались какие-то тени и раздавались крики. Вот-вот начнут стрелять, палить из пистолетов, а может, и бросать гранаты. И Одик, чтобы в него не попали, прижался к стенке у окна.
Мама с отцом крепко спали, Оля беспокойно шевелилась. Еще мгновение — и Одик вскрикнул: огромное стекло их комнаты с оглушительным звоном рассыпалось, и весь дом, казалось, содрогнулся.
Мама с отцом вскочили с тахты.
Оля спросонья заревела.
Стало слышно, как по дому забегали. Захлопали двери. Со двора донеслись испуганные голоса и крики.
— Что здесь делается? — спросил отец, протирая глаза.
У Одика тряслись губы. Отец торопливо застегивал пижаму, мама накинула легкий халат, а Оля, как спала, в трусиках, стояла в кровати на коленях, сонная, заплаканная, и смотрела на Одика.
«Грабители!» — мелькнуло у него.
Отец подошел к двери и взялся за ключ.
— Не смей! — прошептала мама и, опасливо поглядывая в окно, стала собирать с пола осколки. — Хочешь, чтобы ножом пырнули?
Крики в саду утихли, только отчетливо слышался громкий, со скрытой радостью голос Карпова:
— Жаль, одного схватили! Завтра мы с ним потолкуем. А теперь — спать!
Одик не знал, спал ли Георгий Никанорович, Лиля и другие жильцы дома, сам же он уснул только под утро, когда на море уже шли первые купальщики с полотенцами через плечо. Отец с мамой тоже, кажется, глаз не сомкнули, потому что лица у них были посеревшие, опухшие. Утром Одик узнал, что это был налет — местное хулиганье решило обобрать всю клубнику и черешню. Но нашкодить они, можно сказать, не успели: Пелагея, спавшая в сарае, услышала шум, включила свет и всех разбудила. Убегая, кто-то из налетчиков в бессильной злобе бросил в окно камень.
Она стояла возле дома и, убиваясь, причитала:
— Вот паскудники! Вот бы я их!.. — Она грозила кулаком каменному сараю.
Лиля, в красном мятом сарафане, в тапках на босу ногу, поправляя черные косы на голове, нервно ходила по дорожкам сада, еще более красивая от возбуждения, и говорила:
— Вандалы! Розы зачем же ломать было?
Виталик стоял у сарая и, показывая пальцем на дверь, требовал:
— Надо вызвать милицию, а то удерет!
— Не удерет, — сказал Георгий Никанорович, — от меня он не удерет.
— А что ты с ним будешь делать? — спросил Виталик. — Их надо проучить раз и навсегда! Если ты не можешь, я сам сбегаю в милицию.
— Замолкни, — сказал Георгий Никанорович.
— Они бьют стекла, топчут клубнику и рвут абрикосы, они нам спать не дают, а ты что, жалеешь их?
— Ты мне сегодня не нужен, иди погуляй по городу.
— Не хочу я гулять… Здесь такое дело, а ты — гулять!
— Пошел отсюда вон! — закричал Карпов, раздражаясь. — Ну? Что тебе говорят!
Виталик надулся, крутнул плечом и быстро пошел, почти побежал к калитке. Между тем из дому вышли отец с мамой.
Одик показал им на сарай и шепнул:
— Поймали…
— Очень приятно, — сказал отец. — Дойти до такой наглости! Они ведь могли голову пробить камнем.
— Это ужасно, — все еще бледная от бессонной ночи, сказала мама. — Я думала, мы тут в полной безопасности.
Одику было страшновато и, признаться, жутко интересно, чем все это кончится. Он даже не пошел на пляж, как мама ни звала его. Чтобы не показать виду, что все это очень волнует его, он остался в комнате, сказав, что скоро придет. Когда все ушли, он спустился с террасы, никто, кажется, не заметил его — и бесшумно, с обратной стороны, подкрался к сараю. Это был большой прочный сарай из пористого желтоватого ракушечника. И все-таки, несмотря на толщину его стен, Одик, припав ухом к камню, услышал изнутри голос Георгия Никаноровича.
— Ну, не надумал еще?
— Нет, — негромко сказал кто-то, и голос показался Одику знакомым.
— Я человек добрый и не хочу тебе угрожать… Но ты думаешь, отцу будет приятно, если в ресторане его начальство узнает о твоем поведении? Я бы мог тебя отвести в милицию, тебе б записали привод и взяли на учет, а может, и крупно оштрафовали отца. Но это не в моей манере…
«Какой он добрый!» — удивился Одик.
— Что вы хотите от меня? — спросил пойманный, и Одик вздрогнул от волнения: конечно, он не ошибся — голос принадлежал Ильке… Да, да, это был он! Значит, вот кто совершил сегодня налет на их дом. Так ему и надо, типус! Только издеваться и подтрунивать может!
— Ничего особого, — сказал Карпов. — Ответь, пожалуйста, только на один вопрос: кто был с тобой? Я, со своей стороны, даю слово, что не выдам тебя.
— Я не знаю, — упрямо сказал Илька.
«Молодцом, — мелькнуло у Одика, — а может, это совсем не Илька?»
— Занятно! — усмехнулся Георгий Никанорович. — Налетели, потоптали, помяли все, выбили стекло — целая банда! — а ты никого не знаешь?
Илька молчал.
— Ну хорошо, подумай еще. Я буду держать здесь тебя, пока родители не хватятся и не обратятся в милицию, и тогда…
В это время Одик услышал сзади шелест и хруст и, вздрогнув, обернулся. Пелагея ползала на коленях в грядках с корзиной и собирала клубнику. Одик зашел за угол сарая и услышал, как туго проскрежетала дверь, из сарая вышел Карпов, плотно запер его. И пошел к дому.
Лоб у Одика горел. Что делать?
Он быстро скользнул к двери и шепнул сквозь щель:
— Это ты, Илька?
— Я, — раздалось у самых дверей. — Слушай, мальчик, выручи. Выпусти меня отсюда.
На двери висел большой замок. Одик и представить не мог, как снять его. Вырвать пробой? Но чем? И потом, почему он должен рисковать из-за Ильки, который причинил ему столько неприятностей?
— Ну, ты слышишь? Одик!
Одик был в смятении. Он отскочил от двери и опять приблизился.
— Сними замок, — донесся громкий шепот. — Он его не защелкнул.
Одик коснулся пальцами замка, его дужки. Нажал. Дужка вышла из замка. Что делать? Отпустить?
Одик оглянулся. Вот-вот опять появится Карпов!
Он отошел от сарая.
— Что ж ты? — раздался шепот из-за дверей. — Вот тебе рубль. Держи. — Одик увидел, как сквозь узкую щель просунулась желтая бумажка. — Одик, я прошу тебя как друга, выручи…
Одика бросило в жар. И вдруг странная злость захлестнула его.
— Так тебе и надо! — бросил он. — Будешь знать, как издеваться! И ты не подкупишь меня рублем! — и побежал от сарая к дому.
И здесь ему в голову пришла другая мысль: с Илькой, наверно, был и Катран, и другие ребята, нырявшие за амфорой, и Ильку надо бы освободить. Надо? Ни за что!
Одик выскочил из калитки на улицу и здесь вспомнил, как Катран с Илькой спускали его с Олей с глыбы у моря. Все-таки надо снять, надо немедленно снять замок, что бы потом ему за это ни было от Карпова!..
Одик кинулся во двор. На ступеньках террасы сидел Георгий Никанорович и поглядывал на сарай. Услышав его шаги, он быстро обернулся:
— Ты почему не на море?
— Так, — сказал Одик и залился краской.
— А чем это ты так перепуган?
— Я?.. Ничем… Что вы…
Одик повернулся от него, медленно прошел по зеленому тоннелю до калитки, так же медленно открыл ее, запер за собой и со всех ног полетел к Мише: ему надо все сказать. Он — главный. Да к тому ж Одик знал лишь его дом.
Миши дома не оказалось, и Одик побрел по улице назад.
Только сейчас понял он, что натворил. Ему больше не видеть ребят: ведь он, можно сказать, предал их. Ну что ему стоило вынуть из пробоев замок и сразу же уйти? Никто бы не доказал, что он выпустил. Правда, Виталик мог бы подтвердить, что видел его в их компании. Видел, ну и что? Это ведь еще не доказательство.
«А что, если сбегать к Федору Михайловичу?» — вдруг подумал Одик. Он наверняка знает, кто где живет, и вообще с ним можно быть откровенным. Он, кажется, запомнил его, Одика.
А не выгонит? Будь что будет.
Одик перебежал перед носом автобуса автостраду и углубился в пустынный проулок.
Чьи-то громкие голоса отвлекли его от мыслей. Незнакомые мальчишки возились на заброшенном участке под кривыми Иудиными деревьями. В ослепительно ярких гроздьях мелких розовых цветков, густо облепивших ствол и ветки, было что-то еще более зловещее, ядовитое. Одик поежился. Он подбежал к полуразрушенной ограде и застыл от страха: тощий мальчишка в полосатой тенниске ногой катал по траве их залатанную во многих местах, бесценную амфору! А другие радостно гоготали.
— Что вы делаете! — закричал Одик. — Она же античная!
— Вовец, — сказал тот, кто катал ногой амфору, — доставь этого крикуна сюда!
Плотный мальчишка с облупленным носом, сидевший на траве, посмотрел на него.
— Я правду говорю. Не верите? — не унимался Одик.
— Вовец, ты слышал?
Вовец неохотно встал с земли и с кулаками пошел на Одика.
— Ребята, — жалобно сказал Одик, — я не вру, она античная, древняя.
— Заливай! Дураков нашел? — сказал Вовец.
— Честное слово! И можете бить меня — не уйду.
— Ого! — удивился Вовец. — Ты это вправду? — И опустил кулаки, разрешение бить обезоружило его, он оглянулся на мальчишку в полосатой тенниске, катавшего ногой амфору.
— Стукни, стукни его! — потребовал тот, и Вовец снова вскинул кулаки.
Одик отшатнулся от ограды и со всех ног побежал к дому Федора Михайловича. Он бежал, а где-то в висках стучало и стучало: «Надо спасти, спасти амфору…»
Глава 15 ОДИССЕЙ
Миша возвращался из соседнего городка Кипарисы.
Туда он уехал утром, прослышав от соседа, что в магазин «Спорттовары» закинули кеды. Свои Миша износил, а они были незаменимы для игры в волейбол и походов в горы. Однако купить кеды не удалось: перед самым носом кончился его размер. Огорченный, Миша вскочил в автобус и поехал назад.
Весь остаток вчерашнего дня да и сегодня утром он не мог отделаться от чувства досады. Зачем он так легко поддался вчера Ильке с Катраном? Зачем оставили там амфору? Надо было сегодня же утром взять ее оттуда, да вот эти кеды… Будь они неладны!
Автобус мчался по прямой, синевато-влажной от солнца автостраде к Скалистому, и с каждым километром росла у Миши тревога.
Выскочив на своей остановке, он быстрыми шагами, почти бегом ринулся к заброшенному саду.
Вот и проулок, и покинутый сад. И, еще не перелезая через ограду, Миша понял: украли! Камни у подножия Иудиных деревьев были передвинуты, и грот, куда они положили амфору, был открыт.
Миша перелез в сад и на всякий случай пошарил рукой в гроте — пусто. Обошел каменную горку и чуть не заплакал. Как старались! Чуть не перессорились. И когда ныряли и Катран повредил ее, и когда, склеивая, Костя уронил один кусок на пол и на амфоре одним швом оказалось больше.
Теперь хоть тысячу раз рассказывай Федору Михайловичу — не поверит. Высмеет. Это он умеет. И правильно сделает. Не каждый день в этих местах случаются такие находки. Говорят, под Херсонесом, а еще возле Сухуми, где была Диоскуриада — затонувшая столица древней греческой Колхиды, амфоры находят часто, а про Скалистый этого не скажешь…
Миша добежал до калитки Федора Михайловича, заглянул во двор и услышал за углом голоса: учителя и еще чей-то — ребячий.
Миша выглянул из-за угла дома. И первое, что бросилось в глаза, — не Федор Михайлович и не тот надоедливый толстый мальчишка, который вот уже несколько дней таскается повсюду за ними, не стопки разложенных на земле книг и журналов. В глаза бросилась амфора.
Она лежала на деревянном крылечке и была целехонькая, в узких, как на футбольном мяче, трещинках швов, не хватало только одной продолговатой ручки… Конечно, амфору вытащил из тайника и принес этот мальчишка, бывший вчера с ними. Кто его просил? И где ручка? Куда она делась?
Миша выскочил из-за угла.
— А почему ручку отбил, болван? — закричал он, и толстый мальчишка вскочил от испуга и чуть не заплакал.
— Уходи отсюда! — оборвал его Федор Михайлович. — Вернешься, когда придешь в себя… И поздороваться иногда бывает нелишне.
Миша унял дыхание. Сделал шаг назад. Остановился.
— Здравствуйте… Простите… Я… я в себе.
— Не похоже.
Миша ждал, что скажет дальше Федор Михайлович, но он ничего не говорил, и Миша молчал, глядя на крупные узловатые кисти его рук, державших книгу.
Молчал и толстый мальчишка. И это молчание было хуже всего.
— Я не хотел никого обидеть, — тихо сказал Миша.
Учитель даже не повернул к нему голову.
Потом проговорил:
— Скажи спасибо Одиссею, что амфора здесь, ручку еще можно найти в траве, где амфорой забавлялись какие-то малолетние варвары, истинные лестригоны…
Миша ровным счетом ничего не понял.
— Вы, кажется, что-то сказали про Одиссея?
— Правильно, сказал, — ответил Федор Михайлович, по-прежнему не глядя на него.
Миша неопределенно мгыкнул.
— Или ты не знаком с ним? — Учитель кивнул на мальчишку, который, по его словам, спас эту амфору.
— Да нет… знаком, — выдавил из себя Миша. — Только имени его не знаю.
— Ну, если имени не знаешь, значит, не знаком… Познакомьтесь.
Миша шагнул к мальчишке и протянул руку. Тот, сильно смутившись, подал ему свою пухлую руку и пробормотал:
— Да мы знакомы… Сколько раз виделись… Одя. — И Миша сразу догадался, при чем тут Одиссей. — Да это и ни к чему…
— Нет, «к чему», — проговорил Федор Михайлович. — Раз тебе дали такое имя, должен хоть немного оправдывать его. Разве можно представить Одиссея робким и боязливым, без чувства собственного достоинства?
— Нет, — ответил мальчишка и вздохнул и потом, видно чтобы скрыть неловкость, спросил: — А кто такие лестригоны?
— Ни разу «Одиссею» не читал?
— Что вы!.. — сказал мальчишка и сильно покраснел. — Два раза…
— Значит, должен помнить мифических кровожадных людоедов, живших когда-то на этих берегах. Они-то погубили одиннадцать кораблей из флотилии твоего тезки и живьем слопали его спутников, и, не спасись он на двенадцатом, никогда б не увидал своей Итаки.
Круглые щеки мальчишки радостно порозовели.
— А твоя Итака далеко отсюда? — спросил Федор Михайлович.
— Не особенно… Москва.
«Значит, и правда пробовал читать», — подумал Миша.
— Твой тезка у Гомера быстроногий и хитроумный и такой сильный, что никто не мог натянуть тетиву его боевого лука, чтобы отправить стрелу в цель… А кто придумал громадного деревянного коня, который помог грекам взять неприступную Трою? А кто победил одноглазого великана Полифема в его пещере? А кто велел своим спутникам привязать себя к мачте, чтобы не поддаться волшебному пению хищных сирен, чей остров был усеян костями и черепами их жертв?.. Всем бы нам неплохо быть хоть немножко похожими на твоего тезку.
И здесь учитель перевел взгляд на Мишу.
— Так вот, эта амфора здесь благодаря Одику… Вы нашли замечательный экземпляр — это амфора для вина, и она очень хорошо сохранилась, даже клеймо мастера отчетливо видно. Посмотри…
И Миша увидел глубоко вырезанные в обожженной глине характерные для греческого языка буквы, похожие на русские.
— А вы знаете, что нам сказали в музее?
— Знаю, — ответил учитель. — Даже знаю, что один твой приятель сидит уже в тюрьме.
У Миши точно какой-то тяжелый предмет повернулся в душе и стал резать ее острыми краями.
— Кто?
— Илья.
— В какой тюрьме? За что? — Миша был вне себя.
— Пока что в частной… А ты что ж ходишь на воле? Или не участвовал в боевой операции?
— Значит, они таки напали на Краба?
— Да, — быстро заговорил толстый мальчишка с доблестным древнегреческим именем. — Сегодня ночью, когда все спали. И одного из них поймали. Я сразу не знал, что это ваши ребята, а потом услышал из сарая знакомый голос и узнал Ильку, и он… Он даже просил меня… — Одик вдруг осекся.
— Чего просил? — в упор спросил Миша, и пухлое лицо мальчишки залилось краской и стало по форме и цвету похоже на спелый гранат.
— Чтобы я открыл ему дверь, — не очень-то героично промямлил этот щекастый Одиссей.
— Ну, а ты что? — Миша не спускал с него глаз.
Глава 16 УЧИТЕЛЬ
Одик поглядел на кучку журналов в сторонке и сказал:
— В окно все время смотрел Карпов…
— Это дело Катрана! — выдохнул Миша. — Сколько я раз говорил ему: ты напортишь всем, добьешься того, что нас будут называть шайкой хулиганов… — Миша стал ходить вокруг учителя.
Он подумал вдруг, что его слова, наверно, больно ранят Федора Михайловича, потому что год назад он сильно вступился за Катрана, когда того хотели изгнать из школы. Директору позвонили из отделения милиции, где сидел Жорка, задержанный за драку у кинотеатра: он до крови исколотил какого-то мальчишку, продавшего ему перед сеансом старый билет с переправленной датой.
— А кто еще с ним участвовал в налете? — спросил Миша.
— Не видел, — сказал Одик. — Это было ночью, и все мы спали.
— Что ж теперь делать, Федор Михайлович? — спросил Миша. — Как вырвать его из клешней Краба?
— Не знаю. — Учитель развел руками. — Он не отдает того, что попало к нему в руки. И всегда действует на законном основании. Уж что-что, а законы он знает назубок.
Вдруг Одик издал какой-то странный звук.
Миша посмотрел на него и неожиданно для себя заметил в его круглом, добродушно-простоватом лице что-то иное: острое внимание, догадку, переходящую в изумление.
— Мы выгоним его из нашей группы, — твердо сказал Миша.
— Кого? — спросил Федор Михайлович. — Илью? Или Жору?
Миша вдруг помрачнел: в самом деле, ведь виноват здесь, скорее, Катран.
— Слушай, — сказал вдруг Миша Одику, — будь другом, сбегай туда, поищи ручку от амфоры.
Одик вскочил с места. Когда он скрылся, Миша спросил:
— Он может на них подать в суд? Могут Ильке что-нибудь пришить?
— При желании — да, но не думаю. Карпов осторожен и не хочет озлоблять против себя народ — обжигался уже! Он, конечно, догадывается, что главный в этом налете Жорка, что он мстит ему…
— Не может примириться, что его сестра стала такой!..
— Возможно. — Федор Михайлович стал связывать бечевкой стопку книг. — Я был у нее классным руководителем и знал, что она самолюбива, красива и — это и тогда уже было видно — ищет уютное местечко под солнцем. И нашла.
Миша присел на корточки, поморщил лоб, помолчал.
— Что это вы делаете? — спросил он, оглядывая книги и журналы.
— Хочу избавиться от ненужного.
— Негде хранить?
— Абсолютно. Моя Ася просто подняла мятеж. На грани захвата власти. А я пасую: и правда, негде повернуться из-за них… Сколько я, оказывается, покупал ерунды!
В это время раздался частый топот ног и появился Одик. В руках у него была глиняная ручка — как быстро отыскал!
— Спасибо, — сказал Миша, — еще раз приклеим… А эту амфору, Федор Михайлович, мы решили подарить вам.
— Ну что вы! Зачем же… У меня в квартире — амфора? Ни к чему. Понимаю, там, за границей, они нынче входят в моду; те, чьи карманы отвисают от излишка денег, обставляются ими, как у нас когда-то обставлялись слониками. Какой шик! И цены на амфоры лезут вверх. Подводные браконьеры, конечно, не зевают. Пишут, даже охотники за кораллами срочно переквалифицировались: охотятся за амфорами. Где-то я читал, что на юге Франции, у мыса Таят, обнаружили целое «месторождение» амфор; чтобы их не разграбили, весь участок оградили противолодочными сетями — военно-морской флот выделил. Так что вы думаете? Браконьеры прорезали эту сеть из толстых стальных колец специальными щипцами с небольшими зарядами на конце и похитили знаете сколько амфор!
— Сколько? — спросил Одик.
— Штук семьсот и даже, кажется, больше… А почему? Хорошо платят…
— Ого! — вырвалось у Одика.
— А что касается вас… Это прекрасная находка! Я не специалист по амфорам, но, возможно, ученым она сможет многое рассказать.
— Даже в таком виде? — спросил Миша.
— А ты думаешь, Венера Милосская много бы выиграла, будь у нее руки? Или Зевс с Аполлоном и Афиной на фризах Парфенона не стали для мира тем, что они есть, хотя дошли до нас не в идеальной сохранности?
— Да и Ника Самофракийская прекрасно обходится без головы, — с улыбкой сказал Миша и вдруг заметил, что Одик опять с каким-то странным выражением — пристально, слегка недоуменно — смотрит то на Федора Михайловича, то на него.
— Ну конечно! — продолжал свою мысль учитель. — И не нужно гадать, какая у нее была голова. Великое произведение искусства можно определить и по одной уцелевшей руке и даже по одной странице.
Лицо у Одика оставалось очень напряженным.
Миша стал копаться в горке книг.
— И от этой избавляетесь? — Он взял тяжелый том в ледериновом переплете.
— Конечно.
— Этот роман я читал, по-моему, он ничего…
— Нет, Миша, в том-то и дело, что он очень плох, все в нем вздор и вранье.
— Федор Михайлович, — робко попросил Миша, — может, тогда дадите его мне?..
— Зачем он тебе?
Миша промолчал.
— Не трать напрасно времени, выбери что-нибудь получше… Что толку от лжи? Она ведь только калечит душу.
— Верно. — Миша вздохнул. — А написан он красиво.
— Нет. Неправда не бывает красивой… Ты поймешь это, когда вырастешь.
Сзади раздались шаги, и Миша увидел почтальона с тяжелой сумкой на плече.
— Добрый день, Федор Михайлович… Вам журнал и письмо.
— А, спасибо. — Учитель встал навстречу и взял почту. Глянул на конверт, бросил на землю и сказал Мише: — Можешь порвать.
— Как же так? — изумился Одик. — Вы ведь даже не прочитали его!
— А чего читать? Чего нового могут написать мелкие местные гангстеры… По конверту вижу — левой рукой написано…
— Это от них! — вскочил с земли Миша. — Можно посмотреть?
— Смотри.
Миша разорвал конверт, вытащил лист в линейку и стал читать каракули: «Ты, учительская морда, в последний раз придуприждаем, если еще будишь хадить в пракуратуру и соваться со своей прынцыпиальностью, прикончим тибя в собственной кануре или окола моря так и знай, рука у нас не дрогнит истреблять гадов, и тогда пиняй на себя…»
— Негодяи! — сказал Миша, и руки у него задрожали от презрения.
— Много ошибок? — спросил Федор Михайлович.
— Хватает…
— А мне можно прочитать? — спросил вдруг Одик.
— Читай.
И Миша увидел, как Одик, держа обеими руками тетрадочный лист, с жадностью уставился в него. Читал он почему-то долго, точно заучивал наизусть. Потом поднял голову, и в его лице появился испуг.
— А если они и вправду… убьют вас? — спросил он.
— От них всего можно ожидать, — ответил Федор Михайлович. — У них же еще не возникла высшая нервная деятельность, и они не разбираются в жизни, даже приблизительно не знают, что это такое. Для них она — есть, пить, одеваться, и все это даром, без единой капли пота. И только иногда, во время воровства, они рискуют своей ничтожнейшей шкурой. Жалкий, безграмотный народ!.. Разорви письмо.
Одик помедлил, еще заглянул в письмо и только потом разорвал на мелкие клочки.
— Федор Михайлович, — спросил вдруг он, — а наш Карпов не очень хороший?
— Он? — Учитель на секунду задумался. — Ну как бы тебе сказать… В общем, да… Говорят, что «Северное сияние» — образцовый дом отдыха. Возможно. Хотя и не верится. Но что там сытно — уж это точно, но, понимаешь ли, при всем этом он… Он сам… Ну, словом, он сам абсолютно нищий.
— Нищий? — переспросил Одик, и тонкие брови его приподнялись на лоб и словно застыли там. — Он нищий?
— Ну конечно же. И его было бы жаль, как любого обывателя, если б он не был так активен…
В глазах Одика вспыхнула яркая искра несогласия.
— А вы были у него дома?
— А зачем я должен ходить в его дом?
— Но у него столько книг! И хороших — Пушкин, Лермонтов, Чехов… У него так культурно… Его сынок мне не нравится, а вот он…
— Ну, что он? Из родной сестры сделал батрачку, жену обратил в свою веру, сына превратил в хозяйчика…
Одик моргнул ресницами, слушая его.
— А с кем он дружит? С теми, кто может что-то достать ему… А что он любит, кроме того, чтоб вкусно поесть, выпить и похвастаться своей устроенностью?.. А к чему стремится? Побольше иметь. И книги его только реклама для таких доверчивых, как ты.
Глава 17 КОРЗИНКА С КЛУБНИКОЙ
Одик быстро шел домой. То новое, что узнал он сегодня, не умещалось в его голове. Ошеломляло. Выходит, Федор Михайлович, и Миша, и, наверно, другие мальчишки понимают что-то такое, о чем он и не догадывается. А зачем учитель говорил про Троянского коня? И про то, как Одиссей попросил привязать его к мачте, чтобы не поддаться на провокацию этих хищных сирен, которые так волшебно поют, а потом обгладывают черепа и кости легковерных мореходов? И про тугой Одиссеев лук?
Случайно это?
Все, что говорил Федор Михайлович, наверно, правда. Человеку, который не боится таких писем и, не читая, рвет их, нельзя не верить. И потом, он — учитель, и все в городке знают его и, кажется, любят. Не говоря уж о мальчишках. Значит, Карпов нищий… Так… Ничего себе!
Одик шел домой, подавленный этими мыслями, такие они были трудные, тяжелые, точно мешок камней нес. И не давали покоя. Перед ним вдруг открылся новый, тревожный, может быть, высший смысл жизни.
Нищий… А кто ж тогда богатый? Кто?
Только перед калиткой вспомнил Одик про Ильку. Войдя во двор, он сразу же побежал к сараю — дверь его была открыта. Значит, выпустили? Вот как! А что ему за это было?
По двору в открытом летнем платье, напевая, ходила Лиля и развешивала на веревке белье. И хотя Одик знал теперь, что она такая заурядная, все же он не решался спросить у нее про Ильку. Не мог. Еще подумает чего… Он посидел немножко на крылечке, будто поджидал своих, и терзался, что не может открыть рта. И решился — пусть думает о нем что хочет!
— А где тот, что был в сарае? — быстро спросил он.
Лиля достала из таза сырую простыню и расправила ее в руках.
— Отпустили… Покаялся, что больше не будет.
— А-а-а, — протянул Одик. И вдруг ему в голову пришла совершенно шальная мысль: а что, если Илька выдал ребят?
Но тут же отбросил ее: нет! Судя по допросу в сарае и по Дельфиньему мысу, он не из трусов.
Потом Одик беспокойно походил у террасы, зашел в дом — стекло уже вставили, — встряхнул головой, словно для того, чтобы в ней лучше уложились все мысли.
Он так и не обедал сегодня, и мама поругала его.
Но Одик не убивался: подумаешь, дело какое — не поел! Все это было так мелко. Он расспросил у сестры про Ильку, и та сказала, что видела его перед обедом: он быстро прошел по двору с корзинкой, полной клубники.
— Георгий Никанорович дал? — спросил Одик.
— А кто ж еще?
Что-то неприятно кольнуло Одика: зачем же он взял ее? А что, если он все-таки?.. Нет, этого нельзя было допустить!
Часа через три явился с работы Карпов, пожелал всем доброго вечера, снял костюм и вышел к крану в спортивных брюках на резинке, в тапках на босу ногу и белой майке. Он хлопнул себя по животу и кивнул Одику:
— Как делишки?
— Ничего.
— Не перетрусил ночью?
— Немножко… А что им надо от вас?
— Спроси у них… Злющие! Топчут, мнут, ломают. Скоро за клубнику возьмутся — у них губа не дура: три рубля на рынке! Потом за цветы примутся — гвоздику, розы, гладиолусы — они тоже не копейку стоят! Мы выращиваем это для себя — ненавижу тех, кто все растит специально на продажу… Мы редко продаем, уж если очень просят и неловко отказать. И ягоды, и фрукты, и цветы — все для себя… Люблю, когда вокруг все красиво! А человек — для чего он создан? Для красоты ведь, для радости… Правда?
«Неправда! — хотел крикнуть Одик. — Не только для этого!» Но не крикнул. Промолчал.
Потом, фырча как морж, Карпов стал мыться, подвигал толстыми мускулистыми руками, вытерся махровым полотенцем, перекинулся шуткой с женой, басом начал победную арию тореадора, которую часто передавали по радио, и пошел к дому.
Лиля засмеялась:
— У тебя после такой ночи прекрасное настроение!
— А как же!.. Теперь будем спокойно спать… Сообразительный мальчишка.
Одик помрачнел.
Неужели Илька и вправду поклялся больше не лезть в сад? И вдруг подумал: «А я бы мог полезть?»
Карпов ушел ужинать и скоро вернулся, очевидно выпив свою неизменную рюмку легкого вина, и стал ходить по саду, осматривая абрикосовые и гранатовые деревья.
Виталика не было видно. Недоволен был отцом, что ли, за то, что тот не послушался его и не вызвал милицию, а отпустил Ильку с миром, да еще с клубникой? Кончив осмотр сада, Карпов громко зевнул, с силой потер, точно массировал свою грудь — этот жест он очень любил, — и сказал Одику:
— Пойду искупаюсь. Люблю купаться на закате. Бодрит.
Одик ждал, что он скажет дальше.
— Не хочешь со мной? — спросил Карпов.
— А Виталик?
— Не в духе он что-то, — ответил Карпов и улыбнулся. — Не угодили мы ему чем-то.
— Видно, — проговорил Одик.
— Характерец у него, скажу я тебе! Норов! Вырастет — меня за человека считать не будет. Ну, так идешь?
— Меня что-то знобит — простыл, — соврал Одик и для большей убедительности кашлянул.
— А-а, тогда не нужно, здоровье — прежде всего. — И Карпов ушел своей легкой, несмотря на изрядный вес и годы, походкой к морю.
Все следующее утро Одик лежал с родителями у воды и не спускал с пляжа глаз — нет, ребят нигде не было. Тогда он перевернулся на другой бок и посмотрел на далекий Дельфиний мыс, дымчато-синий, можно сказать — легендарный, плывущий в мареве нагретого воздуха.
Нет, лучше не смотреть на него!
Все утро, до самого солнцепека, он пролежал на гальке и уже не скучал: его голова была забита разными мыслями, сомнениями, предположениями. Оля подбирала обкатанные прибоем голыши, а отец жарко спорил о чем-то с преферансистами у столика.
Мама, конечно, сразу почувствовала перемены в настроении Одика.
— Ты что, рассорился со своими друзьями?
— Откуда ты взяла?
— Иначе б не валялся сейчас с нами.
— Ну да!
Ничего лучшего ответить он не нашелся.
— А когда покажете амфору? — спросила мама. — Ты ведь обещал.
— Немножко попозже.
— Это я уже слышала от тебя… Какие-нибудь неприятности?
— Что ты! Все в порядке! Прекрасно! — поспешил заверить Одик и, кажется, перестарался, потому что мама недоверчиво посмотрела на него и покачала головой. Но разве можно было что-то объяснить ей? Ведь и сам он понимал далеко не все.
Потом солнце достигло зенита, стало неимоверно печь, и мама погнала его с Олей домой и сама ушла: принялась готовить обед. После обеда все улеглись, и когда уже крепко спали, Одик осторожно выскользнул во двор, дошел до автобусной остановки и поехал в сторону Дельфиньего мыса. Ехать пришлось не больше пяти минут. Потом он быстро добрался до берега. Здесь было по-прежнему пустынно, если не считать небольшой брезентовой палатки каких-то туристов.
И еще Одик увидел в море, не очень далеко от берега, одинокого купальщика. Ребят нигде не было — ни здесь, ни у Дельфиньего мыса. Одик шел по берегу и жмурился от солнца. Вдруг он заметил на гальке чьи-то штаны и остановился: это были латаные шорты Катрана, а рядом лежали его же рыжие босоножки… Так это он купается?
— Жора! — крикнул Одик и посмотрел в море, но оно было пустым.
Видно, Катран нырнул.
Скоро на поверхности появилась голова и снова исчезла. Странно было, что он один. Когда Катран вынырнул, Одик закричал громче, замахал руками, и тот подплыл к нему. Губы у него посинели и подрагивали.
— Чего надо? — недружелюбно спросил Катран, подняв на лоб маску.
— Где все ребята?
— А я откуда знаю? Ты что тут болтаешься?
— Так.
— А чего один?
— А с кем я еще должен быть? — спросил Одик.
— Ни разу не видел тебя без сестренки.
— Спит, — сказал Одик и подумал, что, наверно, Катран переругался, перессорился со всеми или не хочет встречать Мишу, потому что не послушался его и налет кончился полным провалом. — А ты что здесь ищешь?
— Ничего, просто так.
— Еще одну амфору нашел?
— Хватит! Чтобы опять в шею погнали?.. А Краб ваш — вот гад! Слыхал? — И, не дав Одику вставить слово, добавил: — А Илька-то каков оказался! Сталь, а не человек.
Одик кивнул головой и промолчал. Потом снова спросил:
— А ты что все ныряешь?
— На рыб охочусь.
— А где же подводное ружье?
— Я без ружья, просто наблюдаю пока… Ну, всего! — Катран спустил со лба на глаза маску с толстым стеклом, боком плюхнулся в воду и исчез из виду. А Одик пошел к пляжу Скалистого.
В этих одиноких ныряниях Катрана было что-то подозрительное: не такой он человек, чтобы просто так нырять в пустынных местах и любоваться подводным ландшафтом.
Ну, почему Катран говорил с ним сердито, это ясно: конечно, Илька рассказал, что он, Одик, не выручил его. Хорошо хоть, Катран не тронул, а то мог бы… Но почему Илька ушел от Карпова с корзинкой клубники? Значит… Значит, Карпов остался доволен им? И вообще, в тот день, когда Илька ушел с их двора, у Карпова было преотличное настроение… А то, что он, по словам учителя, не очень хороший — это уж точно!
У Одика было трудное положение: с одной стороны, он был причастен к Мишиной группе — и Федора Михайловича знал, и был посвящен в тайну Дельфиньего мыса, и даже амфору, можно сказать, спас. Но, с другой стороны, он не выпустил из сарая Ильку, а ведь мог бы… Ну конечно, мог бы! Уж если бы об этом попросил Катран, или Костя, или Толян, или даже Вася — обязательно снял бы замок.
Да, Катран был не очень ласков с ним — это ничего. Но… Но, если признаться, до чего ж боялся Одик встречи с Илькой!
Глава 18 ЧТО-ТО НЕ ТО
Мальчишки долго не встречались Одику. Он, конечно, мог бы зайти к Мише, но не хотел. Увидеть бы их случайно на пляже. Но они куда-то исчезли. Одик весь исстрадался от ожидания. Наконец он стал искать встречи с ними, но так, чтобы они не догадались, что он ищет их. На третий день, не выдержав, Одик побрел по пляжу в сторону, противоположную Дельфиньему мысу, прошел мимо глыбы, с которой Катран с Илькой сняли его с Олей, и двинулся дальше, где были причалы — рыбацкий и пассажирский, для рейсовых теплоходов.
И здесь ему невиданно повезло: он увидел мальчишек!
Рядом с рыбацкими сараями они красили баркас, лежавший кверху днищем на брусьях. Вон сосредоточенно водит по обшивке кистью Миша, вон палочкой помешивает краску в ведерке черный, голый по пояс Катран, а Илька, рослый, в веснушках — даже, казалось, с носа капают! — красит киль…
Одик приостановил шаг и стал наблюдать за ними издали.
— Эй, Одька, ты чего не идешь? — крикнул Вася. — Топай сюда!
«Разыгрывает, — подумал Одик, — могут сильно насовать. Ну и пусть, ведь не убьют же? А если и захотят, Миша не позволит». Всерьез он боялся одного Ильку. От него можно было ждать всего, и в любом случае он был бы прав. Одик внимательно смотрел на него — лицо у Ильки вроде бы оставалось прежним — и, осмелев, подошел к ним.
— Ты где пропадал-то? — спросил Вася.
«А вы где?» — хотел спросить Одик, но не спросил.
— Нигде.
И опять посмотрел на Ильку: вот-вот оторвет от киля кисть и мазнет его крест-накрест по лицу.
Илька не мазнул.
— Мы тут Катрану помогаем, — пояснил Вася. — А то его братец запарывается с планом.
Одик выдавил улыбку. И опять поглядел на Ильку.
И тут он заметил: Илька старается не смотреть на него. Он работал, отвернув от него лицо, неудобно вывернув шею. Верно, мазнул бы, стукнул бы, да побаивается ребят.
— Илья, — сказал Миша, — передвинь, пожалуйста, сюда ведро…
Ого, как он с ним вежливо! С чего бы это?
— Давайте скорей кончим — и купаться, — крикнул Катран, — сил никаких нету!
Скоро они докрасили баркас и гурьбой побежали к морю, на ходу стягивая майки. Лишь Одик не торопился раздеться. Катран уже кинулся руками вперед под волну; Миша, нырнув, плыл где-то у дна; почти все уже бултыхались и с визгом брызгались, а Одик все медлил. Да еще Илька не спешил броситься в воду.
Вдруг он обернулся к Одику.
— Ты как лучше плаваешь, брассом или кролем?
На лице его не было и следа прежней резкости и злобы. Оно было обычное, даже приятное, и пестрые брызги веснушек совсем не портили его. До чего ж он, Одик, плохо еще разбирается в людях! Илька знает: нечего обижаться на него — если не отпер дверь, значит, не мог. И Одику вдруг захотелось побольней хлестнуть себя за свою недоверчивость.
— Лучше всего стилем «топор», — сказал он.
Илька засмеялся.
— Нет, ты правда?
— Ага. — Одик мотнул головой. — Я совсем бездарный в воде.
— Хочешь, научу? — сказал Илька. — Сегодня же будешь плавать… К вечеру! Только воды не бойся.
— Не научишь, — проговорил Одик.
Все-таки что-то случилось с Илькой. После того, что произошло, еще учить плавать? Нет, в этом было что-то не то…
— Илька, догони! — крикнул из пены и волн Костя.
— Раздевайся же! — почти приказал Одику Илька. — Ну? Значит, не хочешь научиться?
— Хочу.
— Ну так что же ты?
Ну как мог Одик раздеться и демонстрировать этим мальчишкам, по-рыбьи ловким, насмешливым, свою беспомощность и абсолютную сухопутность!
— А ты что-нибудь слышал тогда? — вдруг быстро спросил Илька, приблизив к Одику лицо.
— Когда? — спросил Одик.
— Да когда меня сцапал этот куркуль…
«А что это его так интересует?»
— Слышал, как он у тебя требовал…
Лицо у Ильки чуть посерело, стало чутко-тревожным.
— Чего требовал? Ты все подробно слышал? Все, да? — Илька оглянулся и посмотрел на купающихся.
— Кое-что слышал…
— Вот мразь! — сказал Илька. — Негодяй! Такого повесить мало.
Здесь Одик даже нашел нужным вступиться за Карпова:
— Ну, это ты чересчур… За что его вешать? Он ведь нищий…
Илька резко вскинул голову:
— Кто? Это он? — и принужденно засмеялся. — Всем быть бы такими нищими — рай был бы на земле!
— Скажешь тоже! — вдруг озлился Одик. — Он одноклеточный, и настоящее богатство не в доме, не в саде… Федор Михайлович сказал…
— Ого, ты уже и с ним познакомился! — крикнул Илька.
— Немножко.
— Когда успел?
— Недавно… Шел я с Олей…
— Слушай, — прервал его Илька, — неужели ты и вправду не умеешь плавать? Давай раздевайся, и живо! Скажи, ты когда-нибудь летал на вертолете?
— Нет, — ответил Одик и вспомнил, как Виталик хвастался, что летал с отцом и еще каким-то полярным капитаном, который пригласил их.
— Могу взять тебя с собой… Давай слетаем?
— Не знаю, — замялся Одик и подумал, что мама может не пустить его, да и вообще с какой это стати он полетит на Илькины деньги — ведь стоит-то, наверно, недешево?
— Ты знаешь, где я живу? — спросил вдруг Илька. — Нет? Хочешь, сегодня прямо отсюда зайдем ко мне? Покажу тебе большущих высушенных крабов и рыбу-иглу и еще кое-что такое, — Илька многозначительно подмигнул ему, — чего ни у кого больше не увидишь… И кроме того, одного краба могу даже подарить.
Натиск Ильки немножко обескуражил Одика.
— Хорошо, только не сегодня… Сегодня мы в кино собрались, — соврал он.
— Ну тогда завтра.
— А кто твой папа? — вдруг спросил Одик.
— Мой? — Одику показалось, что Илька на мгновение смутился. — Он работник общественного питания… Ну давай раздевайся…
Одик стал отнекиваться.
— Ну, как знаешь! — Илька красиво бросился в воду и вынырнул далеко от берега.
— Он у нас герой, — сказал Вася, выходя на берег. — Его Краб в тюрьму засадил, а он ни слова и совсем не сдрейфил! И даже опять подговаривает нас напасть на него.
— Подговаривает? — воскликнул Одик. Нет, в это просто нельзя было поверить!
— Да-да, и знаешь когда? Завтра… Завтра в час ночи. Только чтоб никому. Ясно? Мишка не знает ничего. Нечего ему знать… Ух как он крыл Катрана за этот набег и за то, что тот хотел попросить тебя перерезать провода!.. Сказал, что дисквалифицирует Ильку и не пустит на Дельфиний мыс, а ведь через два дня у Ильки еще одна попытка…
«Так вот в чем дело! — чуть не вскрикнул Одик. — Вот почему Катран оказывал ему знаки внимания и даже взял в бухту Амфор!..»
— Ты чего не купаешься? Идем! — И Вася, раскинув руки, спиной упал в налетевшую от глиссера волну.
Одик посмотрел в море и стал искать среди купающихся Ильку. Все было бы ясно, все было бы ничего, если бы не эта клубника…
На следующий день Одик с некоторой дрожью ждал вечера. Он, конечно, понимал, что Вася болтун — никто бы другой, наверно, не выдал ему этой тайны, ему, живущему в доме Карпова, и в то же время Одик был благодарен Васе за доверие. Пусть другие, более сдержанные и сильные ребята, не сказали ему, а только он, Вася, сказал, но это тоже ничего. Теперь Одик знает, что надо делать: он должен помочь ребятам, хотя они и не просили его об этом.
Глава 19 ДИВЕРСИЯ
В этот день Одик долго бродил по саду, незаметно разглядывая проводку. Он не знал, где лучше ее перерезать. Надо, конечно, в таком месте, чтобы нигде не горел свет — ни возле дома, ни в отдаленных уголках сада, где растет клубника и виноград, где живут индюки. Одик не знал, чем лучше перерезать проводку и не убьет ли его током, если он будет без резиновых перчаток.
Больше всего мешала Пелагея. Она временами появлялась и сновала по саду, сновала бесшумно и, казалось, возникала одновременно в разных местах.
Одик так и не смог найти места, где находился выключатель. Проволоку он решил перерезать за сараем — это было самое глухое место, — и перерезать перочинным ножом отца.
Время летело быстро. Карпов еще не вернулся с работы, Виталик куда-то исчез, Лиля гладила в комнате, и нужно было торопиться…
Одик достал с полки настенного шкафчика нож, сложил в полоску клеенку — чтобы не ударил ток, обмотал ручку ножа и выскользнул из дому. Возле сарая остановился, осторожно огляделся: окна дома не выходили сюда, — это он бессовестно наврал Мише, будто выходили. Потом, весь мокрый от страха, беспрерывно оглядываясь, подтащил лежавший у двери сарая ящик, встал на него — ящик скрипнул под его тяжестью — и стал резать, пилить ножом провод. Ящик громко скрипел в такт его движениям. Одик быстро прошел верхнюю и резиновую изоляцию, но металл был крепок и не поддавался.
За домом послышались голоса.
Одик спрыгнул с ящика, оттащил его на старое место и лег за кустами крыжовника. Он часто дышал, почти задыхался. Лежал он минут пять, но дышал все так же тяжело, словно и не прекращал работы. Голоса утихли, участок будто вымер, а он все не решался подняться. Потом встал, осмотрелся и опять подтащил ящик. Он представил: ночь, ребята забрались в сад, Карпов проснулся, услышал, выскочил из дому и бросился к выключателю, повернул его, а в саду темнота, хоть глаза выколи: попробуй поймай хоть одного!
Провод становился все тоньше. Только бы успеть. Только бы не помешали!
Кровь отлила от поднятых вверх рук, и Одик не чувствовал их…
Готово — перерезал!
Одик стал оттаскивать ящик. И вдруг подумал: нельзя так! Ведь стоит кому-нибудь случайно поднять голову — увидит торчащие концы обрезанного провода. Он опять ринулся к ящику и заметил Пелагею: она шла своей обычной косоватой походкой — левым плечом чуть вперед — и глядела на него из-под платка.
— Что ты такой мокрый, детка?
Неужто видела?
— Жарища… — нарочно заныл Одик и повторил мамины слова. — Я плохо переношу жару.
— Умеренности не знаешь, детка, вон как раскормили. Был бы похудей — и солнца не боялся бы.
Значит, не видела. Одик чуть успокоился.
Но целых полтора часа он ожидал: ходил и наблюдал за домом и старухой, чтобы устранить свою оплошность. Наконец он подправил палкой провода так, что не был заметен обрыв.
Вечером к Карпову стали сходиться люди — их было человек пять. Одного из них Одик узнал — сторож из «Северного сияния», — видел, когда Виталик в день приезда водил их к отцу. Эти люди не были похожи на гостей, потому что пришли одни мужчины, и не было обычных в таких случаях шуток и смеха, и хозяин не показывал сад и дом. Скорее всего, это были служащие дома отдыха: Виталик то и дело подходил к одному, к другому и говорил: «Дядь Вить, вам нужно будет поправить сток возле крана — плохо пригладили цемент» или: «Петя, не забудь принести нам семян…» — и шло какое-то сложное латинское название.
Мама хлопотала на террасе с ужином. Оля рисовала цветными карандашами, а отец углубился в «Мертвую зыбь», кажется впервые со дня приезда. Неожиданно Одик заметил, как от сарая в дом прошел Карпов с двумя бутылками «Столичной» — по бутылке в руке. Скоро из-за стены донеслись громкие голоса и смех, и можно было подумать, что собирались закадычные друзья директора. Они долго не расходились. Мама уже заставила Олю лечь, намного раньше сестры улегся отец. Одик сидел на ступеньках террасы, смотрел на зажигавшиеся звезды и слушал голоса. Когда совсем стемнело, голоса за стеной чуть стихли, но никто не уходил.
Одик был весь на взводе.
Через полчаса должна быть атака на твердыню Карпова… Если, конечно, Вася не соврал. Поможет ли его диверсия?
— Одик, спать! — сказала мама, укладываясь.
— Ну еще немножко, мам… Я не хочу спать и все равно не усну.
— Но ты скоро ляжешь?
— Скоро.
Через несколько минут Одик услышал, что мама спит. И вообще все в их комнате и доме спали. Только у Карповых еще продолжался негромкий разговор. Одик поднялся со ступенек, прикрыв дверь, вошел на террасу и присел на низенькую красную табуретку, которые продаются в московском «Детском мире». Отвернув уголок марлевой занавески, стал смотреть во двор, на темные плодовые деревья и редкие проблески лунного моря меж густой листвы.
Все, что он увидел потом, сильно встревожило его.
Во дворе вдруг появились темные силуэты: Карпов беззвучно, как в немом кино, показывал руками то одному, то другому человеку в разные стороны, и силуэты удалялись в отдаленные углы участка. Расходились они таинственно, слегка пригнувшись, словно очень не хотели, чтобы кто-то заметил их.
Вдруг Одика прошиб легкий пот. Он все понял. Ведь они, эти люди, пришли сюда, чтобы поймать мальчишек. Они обо всем знают, их предупредили… Не случайно пришли они в этот день и час.
Но кто их предупредил? Кто?
Одик на цыпочках прошел в комнату. Часы показывали пять минут первого. Скоро начнется атака. И конечно, всех переловят. Всех! И даже не поможет то, что он перерезал провода… Ведь здесь так много людей.
Одик снова вышел на террасу. Сердце у него колотилось.
Но что он может сделать еще? Как им помочь? Ясно: их надо предостеречь. Но как?
А что, если незаметно выскользнуть из дому и перехватить ребят на подступах к участку?
Так и надо сделать.
Но ведь его услышат люди Карпова, и потом, калитка может звякнуть. Да и нельзя через калитку: на ночь она запирается изнутри на замок… Как же быть?
Голова Одика горела. И все-таки надо через калитку. Она менее всего находится под наблюдением: какой же дурак полезет в сад прямо через нее? Ему надо перебраться именно здесь.
Кто же все-таки предупредил Карпова?
Он. Конечно он… Кто ж другой?
Больше раздумывать было некогда. Одик скинул сандалии — так будет тише, — приоткрыл дверь террасы, на цыпочках сошел по ступенькам и нырнул в темно-зеленый туннель, ведущий к калитке.
Он почти не дышал. Лоб его был холодным. И сердце совсем не стучало. Точно его и не было у него.
Вот и калитка. Она высока. И железобетонная ограда возле нее высокая. Калитка чуть пониже. Одик поставил ногу на перекладину, приподнялся — калитка скрипнула. Он замер. Поднял вторую ногу и еще приподнялся.
Ночь была тихая и теплая. И звездная. Где-то с надрывом трещали цикады. Пролетела по автостраде машина, и снова все затихло.
Одик поднялся еще выше. Верх калитки в острых прутьях — не перевалишься на животе. Вот он на самом верху. Отдышался. Перекинул ногу через прутья. Руки напряжены. Как стальные. Нога ловит перекладину по другую сторону калитки. Больно — нога босая. Вот пальцы нащупали что-то. Оперлись. Одик заносит вторую ногу. Но что-то мешает, держит. Точно кто-то со двора схватил и не пускает.
Одик дернулся всем телом — раздался треск рубахи. Черт с ней. Он полез вниз.
Спрыгнул, огляделся. Ни души. Темно и жутко.
Наверно, ребята решили проникнуть в сад с другой стороны. Со стороны моря, например. Или с тыла. Одик помчался к автостраде. Встречались редкие парочки, отдельные подвыпившие гуляки… И больше никого.
Тогда Одик вернулся и побежал по Тенистой улице к морю — пусто. Он постоял немного, посмотрел на неподвижное, точно замерзшее море, надвое рассеченное, как мечом, лунной дорожкой и тяжело вздохнул.
Где ж ребята? Вася не наврал — это точно. Карпов не делал бы таких приготовлений. Но где ж тогда мальчишки? Или кто-то другой успел им сказать?
Одик побежал назад и здесь на кого-то налетел. Он вскрикнул и отскочил. Было очень темно. И эта сплошная чернота вдруг наполнилась шевелящимися силуэтами, легким шуршанием листвы, острыми запахами.
— Кто здесь? — спросил чей-то голос.
Одик так испугался, что не мог шевельнуть губами.
Он хотел броситься к морю, но и сзади и спереди возникли смутные силуэты.
— Так это ж Одька! — тихо ахнула вдруг темнота голосом Катрана. — Ты что делаешь в такое время?
— Ребята! Вы? — вскрикнул Одик. — А я ищу вас.
— Что такое? — спросил из темноты Толян.
— Не ходите сегодня, — громко зашептал Одик. — Вас ждут, весь сад полон людей… Карпов позвал…
— Врешь небось? — бросил Катран.
— Честное слово! — крикнул Одик, обиделся и решил не говорить им, что перерезал провод. — Надо мне врать!
— Тише ты, — сказал чей-то вкрадчивый, до дрожи знакомый голос.
— А Илька здесь? — спросил Одик. — Он здесь?
— А где ж мне еще быть? — бодро прозвучало впотьмах. — Ну раз так, раз у него такие точные сведения, придется отменить атаку…
— А как ты вышел из дому? — поинтересовался Катран. — Они ведь, наверно, все ходы-выходы перекрыли.
— Я тихонько, — сказал Одик. — Разулся… Через калитку… Едва перелез… Не знаю, как вернусь назад.
— Бедняжка, — со вздохом проговорил Илька. — Идем, мы тебе покажем несколько секретных лазов.
Они пошли по Тенистой улице, и когда Одик, подобрав живот, с силой втиснул себя в узкое отверстие под оградой, Катран негромко сказал ему вслед:
— Приходи завтра в десять ноль-ноль к Дельфиньему… Не опаздывай!
Глава 20 МУЖЕСТВО
Спал Одик плохо, а может, и вообще не спал. Он слышал, как далеко за полночь с тихим говором расходились со двора люди Карпова, как с восходом солнца зашумела водой Пелагея, как попозже она лязгала садовыми ножницами, а еще позже — покрикивал на индюков Виталик…
Одик лежал и слушал похрапывание отца, слабое посапывание мамы… Лежал и думал. Он был уверен: их предал Илька. Он предатель. Карпов уговорил его устроить ловушку для ребят, и он чуть не устроил ее… Теперь ясно, почему он подлизывался к нему у моря и предлагал свои услуги и почему сегодня держался так браво.
Он боялся его. Он хотел, чтобы Одик молчал. Илька не случайно хотел узнать, слышал ли Одик, как он продался Карпову…
Все утро у Одика ушло на то, чтобы опять, незаметно от всех, соединить провода, чтобы в сад шел ток, иначе Карпов догадался бы, чьих рук это дело: Виталик помог бы.
И еще одно событие произошло утром. Не успел Карпов сбежать с крыльца, отправляясь на работу, как принесли телеграмму. Карпов быстро распечатал ее, прочитал и разорвал на мелкие клочки, точно опасался, что кто-то может подобрать их, склеить и восстановить текст. Лицо у него при этом почти не изменилось, только все как-то застыло: глаза, брови, губы — все остановилось. Словно перестало жить.
Мимо него с лейкой в руках проходила Лиля.
— Что с тобой? — спросила она.
— Ничего. — Карпов крепко сжал в кулаке клочки телеграммы. — Севка извещает, что не приедет, будет отдыхать в Гагре.
— Странно. — Лиля пожала плечами. — Всегда ведь приезжал.
— Ничего странного. Слишком умным стал… Набрался там всего… Я в последний его приезд заметил это.
— Очень неприятно, — сказала Лиля.
— Он еще пожалеет. Вот возьму и не оставлю ему ничего — ни метра площади, ни метра земли… Попляшет тогда.
И с клочками телеграммы в туго сжатом кулаке тяжело пошел к калитке.
Значит, они могут теперь жить здесь сколько хотят, понял Одик, стоявший у открытого окна их комнаты. Вот небось мама с отцом обрадуются! Они ведь по-прежнему не знают ничего. Не знают того, что знает он…
К морю Одик пришел на полчаса раньше условленного. Он сидел на камне и терпеливо ждал мальчишек.
Хрипло орали чайки, волнистая линия бурых водорослей у прибойной полосы уходила вдаль. Было неуютно и промозгло. И очень тревожно. Полуразрушенный каменный сарай на пустыре, заросшем кустами и репейником, казалось, таил в себе неразгаданную мрачную тайну: может, за его щербатыми стенами таились грабители или шпионы, переброшенные ночью на подводной лодке? Одик поежился и отвернулся от сарая. И сразу увидел мальчишек: они шли сюда, и впереди — Катран. Он катил перед собой камеру. И вдруг Одик подумал, и ему стало горько и тяжело от этой мысли: а что, если бы он выпустил тогда из сарая Ильку? Может, он и не стал бы предателем и оставался обыкновенным мальчишкой…
Вряд ли… Он и тогда уже был неприятным — заносчивым, завистливым. И чем раньше ребята узнают его, тем лучше.
— Привет! — крикнул еще издали Катран и махнул рукой. — Лови! — И пустил камеру на Одика.
Одик вскочил, выставил вперед руки, чтобы поймать, но камера ударила его, и Одик чуть не упал.
— Как спалось? — спросил Катран.
Он так радостно смотрел на Одика — да и не только он, — что сердце его учащенно забилось.
Один Миша по-прежнему строго поглядывал на Одика. Может, потому, что мальчишки и в этот раз скрыли от него готовящийся налет на Карпова. Одик стал искать глазами Ильку. И нашел. И чуть не обалдел. На лбу Ильки опять синела узкая лента…
Так вот зачем пришли они сегодня на Дельфиний мыс!
Одик впился в него глазами. Вот перед ним он — предатель, и никто, кроме Одика, не знает этого… Никто!
И ведь ничем вроде не отличался он от других мальчишек: лицо у него холодное, собранное, глаза цепкие, зоркие и совсем не смотрят на Одика. В них даже чувствуется что-то похожее на решимость и бесстрашие.
Одик сжал зубы и застыл. Он смотрел, как ребята пошли к горе, и он пошел за ними и вместе лез к опасной стене. Он видел, как Толян и Костя пробежали по этой стене. Пробежали туда, куда, может, за всю историю человечества пробралось только четверо отважнейших. Да, возможно, еще один — тот военный моряк, чей бушлат, ботинки и бескозырку с надписью на ленте «Мужественный» (не оттого ль они повязывают лоб новичка лентой?) они нашли в пещере.
— Готовься, — тихо сказал Миша. — Только спокойней… Точность, быстрота и спокойствие!
Илька оглянулся. Глаза его вдруг столкнулись с глазами Одика и вспыхнули злобой и отвагой.
— Не учи меня! — крикнул Илька, в какую-то долю секунды он понял: пройдет!
Хоть бы для того, чтобы этот дурачок из Москвы не думал о нем ничего такого… Чтобы не поверил своим ушам, если и слышал у сарая, как он на ухо шепнул Карпову имена тех, кто лез в его сад; ведь они и в грош его не ставят; им подавай таких, как Мишка, а Мишка никчемный, и не ему командовать их группой. Они бы с другим командиром не то делали! Толк был бы. Он, может, и пошел в этот глупейший налет на Карпова только в пику Мишке… Чего налетать на Карпова? Он неплохой мужик: крепкий, неглупый — вон какую домину отгрохал! — и на участке порядок: чего только не растет. И Лиля живет у него как у Христа за пазухой. Не то что у жалких, вечно пьяненьких Катраньих рыбачков… Карпов как надо поговорил с ним: ему нужно только одно — поймать хоть раз Катрана, и тогда все будет в порядке!.. Вначале Илька не хотел связываться с ним и обещать. Но потом выяснилось, что Карпов знает про Ильку все и даже то, что его мамка потихоньку носит на базар самодельную виноградную водку и на дому тайком продает ее желающим, а это ведь строго-настрого запрещено законом — говорят, даже статья специальная в Уголовном кодексе есть: торговля крепкими спиртными напитками — монополия государства… Не дай бог, Карпов еще разболтает это в отделении милиции! И отцу тогда несдобровать: выгонят из «Якоря», и денежек у него не получишь. Так что умней было согласиться. Конечно, неприятно было, таясь ото всех, красться в его «Северное сияние», чтобы сообщить, когда лучше расставить в саду мышеловки. А когда прокрался, стало хорошо: ведь, черт побери, они в его руках: что хочет сделает с ними, с героями! Захочет — их оштрафуют или по их героическим задам основательно погуляет отцовский ремень… Ха-ха!
Но нельзя было допустить, чтобы они узнали это.
И нельзя, чтобы этот дурачок смотрел на него такими глазами и думал, что он боится пройти по скале, что в сарае он, трясясь от страха, все рассказал.
Он думает, Илька трус?
Смотри же!
Илька махнул рукой, оторвался от выступавшего из горы камня и быстрыми маленькими шажками пошел, побежал по отвесной, уходящей в воду стене, пошел туда, где сидели эти храбрецы, уверенные, что они — соль земли, самые смелые, самые умные…
Он шел вперед. И не падал.
Страха не было. А может, он был, и такой сильный, такой ледяной, такой мертвящий, что Илька не чувствовал тела и, ничего не понимая, бежал по этой скале.
— Ур-р-р-р-а! — загремело вокруг Одика, и он весь как-то ослабел, поник и сел на камень.
Илька скрылся за полукруглым поворотом стены. И как только он выпал из поля зрения Одика, там, на невидимом отсюда мысу, тоже прогремело ура.
— Пятый, пятый там! — закричал Вася и нервно, в припадке странного веселья, стал тормошить Одика. — Ты чего ж, не рад? Пятый уже там! И может, когда-нибудь все мы проберемся худа!
— Отстань от меня, — устало сказал Одик, встал и, потупясь, обходя ребят, пошел по тропке, потом по гальке — у самого моря. Потом сорвался с места и побежал.
Он бежал изо всех сил, бежал к Федору Михайловичу…
Одик постучал.
— Заходите! — Одик толкнул дверь.
Учитель сидел у открытого окна и рассматривал большой альбом со старыми, красноватыми, полуоблезшими фресками. Одик перевел дыхание, поздоровался и вытер лоб.
— Одиссей? — немножко удивился учитель. — Ну как там наша ребятня?
— Федор Михайлович, — каким-то чужим, деревянным голосом спросил Одик, — скажите, пожалуйста… Предатель… может быть мужественным?
Федор Михайлович оторвал от фресок голову.
— Странный вопрос, — сказал он, — это исключено… Как у тебя даже мог возникнуть такой вопрос?
Одик ничего не ответил.
— Это совершенно невозможно… Понимаю, все не так просто… Случается и такое, что даже трус оказывается храбрым или смелым на минуту-другую или даже на больший срок… Но мужественным… Нет, этого не может быть… Мужество и предательство? Никогда! Эти понятия несовместимы. Ведь мужество — это одна сторона благородства, а вторая его сторона — бескорыстие, а третья — справедливость… Ты никогда не думал об этом?
Одик отрицательно покачал головой.
— Мужество… Это ведь что? Когда человеку очень трудно, и его жизни, его убеждениям — конечно, хорошим убеждениям — грозит опасность, и нет уже, казалось бы, сил, — он не сдается. Он выше опасений и страхов за собственную шкуру, потому что знает: он не столько для себя, сколько для других… Понимаешь?
— Понимаю. — Одик огляделся: крохотный кабинет со стулом, столиком и койкой, весь прямо-таки задавленный книгами. — Значит, он предатель, — сказал Одик всхлипнув.
— Значит, да, — проговорил учитель.
И не спросил кто. И не потому, что не хотел узнать, кого имеет в виду Одик, а потому что знал: не всегда можно задавать вопросы, бывает и тогда нельзя, когда это очень хочется.
— До свидания, Федор Михайлович, — сказал Одик и быстро вышел из его комнаты.
И побежал.
Глава 21 «ОХ И ЗЛЮЩИЙ ТЫ СТАЛ, КАТРАН!»
Кто-то дернул за одеяло. Катран промычал что-то и опять зарылся носом в красную подушку. Одеяло дернули посильней, он вмиг, еще во сне, разозлился и, точно его окатили ведром ледяной воды, вскочил. И увидел мамку. Она сидела на краю кровати и смотрела на него. Так смотрела, что Катран сразу понял: сейчас просить о чем-нибудь начнет…
— Чего тебе? — Катран вылез из-под одеяла: пусть просит о чем хочет, только не об этом… Но похоже, что опять будет просить об этом. Уж очень у нее сейчас доброе лицо. И даже морщины меньше видны.
— Ты знаешь, — сказала мамка, — через два дня отца выпишут, надо встретить его, пирог испечь, и ему нужно будет усиленное питание… А до получки — неделя…
Конечно же, он не ошибся!
— Ну и что? — заранее раздражаясь, почти крикнул Катран. — Опять заставишь идти к Крабу?
— Нужна хотя бы десятка… Тогда ведь ты не ходил и я у других заняла, а теперь больше не у кого.
— Ни за что!
— Жора, — сказала мамка, — ты не забывай, что Лиля все-таки твоя сестра. У кого ж нам еще попросить, как не у нее?.. Ну не кричи, не сходи с ума…
— И слушать не хочу! — закричал Катран. — И не сестра она мне!.. Знаешь, что она сказала, когда я встретил ее позавчера?
— Что?
Он уже пожалел, что начал этот разговор. Ведь он — и матери в упрек.
— Сказала, что я похож на оборванца!.. — вырвалось у него. — И я не хочу иметь с ней никаких дел.
— Ну, тогда мне придется сходить… А от них бежать прямо на работу.
Мамка работала уборщицей в отдаленном санатории медицинских работников.
— И ты не смей! — крикнул Катран. — Мы не должны перед ними унижаться… Они за людей нас не считают, а мы на поклон? Возьми в кассе взаимопомощи! И чтобы дед на пушечный выстрел не приближался к их дому! Подумаешь, обойтись без них не можем…
Катран вдруг вспомнил тот день, когда встретил Лильку на широкой улице — красивую, улыбающуюся, в синей плиссированной юбке, — и их нелепый разговор, и этого «оборванца» — ведь он и правда как-то незаметно пообносился, пообтрепался и никак не попросит мамку, чтобы подправила, — да и сам бы мог, если бы придавал этому значение. «Как мама и дедушка?» — спросила Лилька. «Нормально». — «А папа?» — «Еще лучше!» Как будто ей было до них дело и у нее хоть на миг забьется сердце оттого, что отец ее с язвой в больнице! Она презирает их… «Передай им наилучший привет от меня и мужа». — «Посмотрю…» Он отвернулся от нее и услышал, как сзади звучно и ритмично — ни разу ногу не сбила с ритма — зацокали об асфальт ее каблуки. Он удалялся от нее и вдруг увидел сувенирный киоск: весь из стекла и металла, наполненный брелоками с бутылочками — для ключей, всевозможными авоськами, косынками, кремами, черными очками, купальниками, духами, резиновыми шапочками… В этом самом киоске когда-то сидела Лилька. Теперь из него выглядывала — и, наверно, так же, как тогда она, — смазливая мордочка: глаза оттенены синевой и удлинены, ресницы тщательно обработаны тушью, улыбка подогнана точно, губки в меру подкрашены… Ох как хотелось ему садануть ногой по этому киоску, чтобы отлетел он отсюда, с главной магистрали Скалистого, куда-то к морю, грохнулся о гальку и ничего от него не осталось. Тоже ведь, наверно, ждет кого-то, кто сделает из нее то же самое, что и Краб…
«Ох и злющий ты стал, Катран! — подумал он вдруг о себе и даже улыбнулся. — На людей скоро будешь бросаться… Может, эта девчонка совсем не такая…»
Но как все-таки отомстить Крабу? Выбить из рогатки все окна? Снова вставит, не разорится на стекле. Вытоптать клубнику? Спилить все черешни, абрикосы и айву с инжиром? Это не сделает его другим.
Ведь чуть не переловил всех!.. Что-то не так решил он с ним. Может, Мишка и прав: так бороться с Крабом — глупо, но как иначе? Зато этому типу из музея он покажет. Ух как покажет! И — сегодня же…
Недаром он, забыв про ребят, все последние дни нырял вокруг Дельфиньего мыса, разыскивая кое-что, — и нашел ведь! — кое-что такое, что и не снилось этому жалкому, захудалому музейчику! Вот будет потеха! И никто из ребят этого не знает. И вообще — никто. Пусть бы хватила этого типа кондрашка. Все-таки ему, Катрану, повезло. Крупно. Недаром пишут газеты, что их край буквально начинен археологическими ценностями. Точно. Начинен. Их только надо хорошенько поискать…
А может, показать вначале находку Федору Михайловичу? Нет уж. Станет отговаривать. Он хоть и свой мужик, понятливый и железный, но ведь станет же отговаривать… Конечно, станет!
Не пойдет он к нему, и все. Если всех слушаться, никогда никому не отомстишь.
Катран быстро съел кусок жареной пеламиды — брат-рыбак исправно снабжал их свежей рыбой, выпил чаю и выбежал из дому во двор, забитый сарайчиками: у каждого жильца крошечный клочок земли, только и хватает на гряду винограда, клубники и сарайчик. Отомкнув замок, Катран забежал в свой, сунул меж досок и старых весел руку, положил за пазуху сверток и побежал в музей. Возле музея он остановился, вынул из тряпки эту вещь, еще раз внимательно посмотрел на нее, и так жаль стало ее, так жаль…
В музее Катран был ровно три минуты, он застал там того же типа, который, можно сказать, выгнал их с амфорой… И вся операция прошла как нельзя лучше: вещь разлетелась на тысячу кусочков! Сам не ожидал…
Катран сбежал по ступенькам вниз и, весь красный, не задерживаясь ни минуты, полетел к автостраде, к морю. Он бежал, но что-то так и сосало его внутри… Ведь никогда больше не увидит эту штуку, никогда! И никто из ребят не увидит, и Федор Михайлович. И не поверят, какая это была вещь! А ведь при желании на дне бухты Амфор можно найти много всякого, только надо иметь сильное желание и, конечно, сильные легкие, чтобы долго быть под водой и не выскакивать малодушно через двадцать секунд…
Но все-таки жалко, ах как жалко, что никто больше не увидит его находки!
В каком-то лихорадочном ознобе бродил он с час по главной улице Скалистого, толкался у кинотеатра «Волна», беседуя со знакомыми мальчишками, заглянул в городской сквер и все не мог найти себе места.
Сегодня после обеда они условились встретиться у Дельфиньего мыса — надо отпраздновать Илькины успехи: прошел все-таки! Теперь-то он, наверно, будет сносным парнем, а то ведь как заедало его: четверо прошли, а он нет… Разве можно вытерпеть такое? Он давно подкатывался к нему: просил указать точки опоры для ног на последнем участке стены. Ему, Катрану, конечно, не жалко было — пусть хоть все мальчишки пройдут на мыс. Но ведь сами же твердо договорились еще год назад, когда открыли этот мыс: каждый должен пройти на него самостоятельно, и никаких указок, никаких нянек, никаких помощников… Только самостоятельно… Только!
Хорошо хоть, в последний момент отказался полететь с Илькой на вертолете в Кипарисы. Плохо быть обязанным кому-то, а особенно Ильке.
В городском сквере еще было пустынно и душно, потому что плотные деревья задерживали бриз. Да и скучновато. Катран опять вышел на главную улицу, полную автобусов и легковых машин, магазинов, палаток, гама и смеха. Здесь было не так одиноко, но все-таки что-то продолжало жечь и колоть его изнутри.
«Забрести, что ли, к Федору Михайловичу? — подумал он вдруг. — Теперь не страшно».
И как всегда, не успел он додумать до конца какую-то мысль, как ноги уже несли его к домику учителя. Войдя во двор, он направился к крыльцу и по закрытому окну его комнаты понял — нет дома. На всякий случай подергал дверь — чуть было не сорвал. Ни его, ни тети Аси. Вздохнул, сплюнул и побрел назад. А когда еще вспомнил про мамку — достанет ли она денег? — ему стало совсем тошно.
Глава 22 ТАМ, ГДЕ ВОЛНЫ И ВЕТЕР
Катран не знал, что полчаса назад в эту же самую дверь стучался тот человек, к которому он принес свою находку. Получив разрешение войти — а его направила сюда женщина, продававшая билеты у входа в музей, знавшая почти всех коренных жителей Скалистого, — он, пыхтя и задыхаясь от возбуждения, ввалился в комнатку и представился:
— Научный сотрудник музея Егорьев.
Федор Михайлович показал на свободный стул:
— Прошу.
Но тот был так взволнован, что не мог говорить сидя и не сел, а спросил, его ли это ученик — и он подробно описал внешность Катрана — и знает ли он, где тот проживает.
— Мой, — сказал учитель. — Знаю.
— Боже мой, если бы вы знали, что он натворил!.. Ведь это было произведение искусства… И какое! Второй или третий век до нашей эры…
У Федора Михайловича плотно сошлись брови.
— Что ж все-таки сделал Жора?
— Идемте… У меня нет слов… — Егорьев потащил его за руку. — Это сущий вандализм!
До самого музея Федор Михайлович ничего не мог понять, а когда поднялся по лестнице в комнату подсобного помещения, где на полках хранились материалы, не попавшие в основную экспозицию или не обработанные еще, — понял все.
Егорьев достал из ящика картонную коробку с какими-то красно-белыми осколками.
— Что это? — спросил Федор Михайлович. — Какое это имеет отношение к Жоре?
— Это то, что он принес… — сбивчиво стал говорить Егорьев, — и это не то… не то… То была ваза, пусть не полная, а только половина вазы, но зато какая половина! Какие на ней были росписи!.. По мотивам «Одиссеи»: Сцилла и Харибда, а меж ними Одиссеево судно под всеми парусами… И он сам, Одиссей… Вы понимаете, что это такое?
— Как же это превратилось в щебень?
— Как? Вот как: только что постучали в эту дверь; вошел этот самый плохо одетый мальчишка, белый весь, с дергающимися щеками, с ненормальным лицом; здоровается и спрашивает, нет ли в нашем музее этого, и достает из-за пазухи завернутую в какую-то грязную тряпку вазу. Я протягиваю руку — не дает, вертит перед моими глазами, и сразу видно — не стащил…
— Среди моих учеников нет воров, — резко сказал Федор Михайлович.
— Вы простите… Это я так… Я, конечно, этого не подумал… Я хотел сказать, что сразу понял: это вещь не из музея, без следов реставрации, с наплывами морской соли, древний лак поцарапан, с язвочками и трещинками; значит, сам нашел… И на ней росписи… Боже мой, какие росписи! Что делали мастера античной Греции! Да что я вам объясняю, возьмите любой осколок и посмотрите…
Федор Михайлович выбрал кусок побольше. На выпуклой блестящей поверхности осколка нарисован Одиссей. Бесспорно, это был он: овальная моряцкая шапочка, короткая густая борода — так на всех древних фресках и вазах рисовали его греки, и он стоял, очевидно, на корабле, рядом с мачтой, и смотрел вперед.
Это была удивительная по красоте, точности и мудрой наивности живопись. По чистоте и ясности линий. В ней жила та ярчайшая, неповторимая эпоха детства человечества с бесконечной жаждой самопознания, ликующей радости жизни, здоровья, с вечным поиском равновесия, совершенства и красоты.
— Замечательно! — сказал Федор Михайлович. — Умели писать… И когда!
— А вы бы все посмотрели! Не уверен, что есть такая вторая в Афинах или даже в Британском музее.
— Не думал, что вы любите искусство…
— Почему? — озадаченно спросил Егорьев.
— Как же может любить его человек, который не разглядел великолепную амфору, которую ему принесли мальчишки, и, можно сказать, прогнал их, унизил…
Егорьев резко покраснел. Федор Михайлович прервал себя и спросил:
— Но скажите, почему тут одни осколки?
— А потому, что когда он показал мне вазу и спросил, есть ли в нашем музее такая, и я, естественно, сказал ему, что такой нет, он вдруг затрясся весь, поднял вазу, грохнул ее об пол и бросился по лестнице вниз.
Федор Михайлович положил в коробку осколок и стал рассматривать другие.
— Я теперь не знаю, что с ними делать, — сказал Егорьев.
— Послать на реставрацию в Эрмитаж, там осколки склеят, и у вас будет только одна опасность…
— Какая же?
— Вам могут не вернуть вазу, а прислать что-нибудь взамен, из своих дублетов.
Егорьев вздохнул, потрогал полные щеки и осторожно спросил:
— Скажите, а он… он нормальный?
— Кто? — Федор Михайлович продолжал рассматривать ноги Сциллы на одной из скал.
— Ну, этот Жора…
— Более чем нормальный. Он добр и азартен, и этого в нем выше нормы. А еще — ранимости… Скажите, разве у вас есть такая амфора, которую они хотели подарить музею?
— Но какое это имеет отношение к вазе?
— Самое прямое… Он гордый парень, он очень гордый парень…
— Откуда ж я знал? — растерянно сказал Егорьев.
— А что ж здесь знать? Люди вам несут всего себя, сердце свое, можно сказать, несут, а вы что? — Федор Михайлович встал, кинул: — Всего, — и ушел.
Катрана дома он не застал и пошел к Мише, и того не оказалось на месте, и он зашагал к Косте. Но и Костя отсутствовал — ну точно сговорились все!..
Откуда же было знать Федору Михайловичу, что мальчишки в это время собрались у Дельфиньего мыса?
Они сидели на камнях, поджав ноги. Стоял один Миша. Он стоял и негромко, но торжественно говорил:
— Итак, еще один из нас прошел на Дельфиний мыс, отыскал на стене свои точки для ног и не сорвался. Я уверен, что он пробирался не точно так, как Костя, или Толян, или Катран. У каждого должен быть свой путь к мысу Мужества. И вообще… Это для нас хороший день, и я уверен, что рано или поздно все найдут свои точки опоры на стене — и не только на стене — и достигнут всего, чего хотят. И это будет очень нужно всем. И я от имени всех поздравляю…
— Нечего поздравлять! — вдруг раздался чей-то прерывистый голос, и Миша на миг смолк.
— Кто это?
Он стал искать глазами говорившего.
— Он предатель! — крикнул тот же голос, и Миша увидел Одика: он кричал, подпрыгивая и размахивая руками. — Он продался Карпову, он…
— Сволочь ты! — вдруг заорал Илька, побледнев, и кинулся на Одика, и не успел Миша глазом моргнуть или что-то предпринять, как Илька стал колотить кулаками Одика в лицо, в голову, в грудь.
Первым прыгнул к ним Катран, растащил и завопил как бешеный:
— Вы чего это, а? Кто предатель?
— Он. — Одик заплакал, сплюнул кровь, весь в синяках и ссадинах, и показал пальцем на Ильку. — Он…
Илька, стоявший возле ребят, вдруг отскочил в сторону, весь потный, взлохмаченный.
— Да! — крикнул он. — Я ненавижу вас всех! На что вы мне сдались? Будьте вы прокляты!
— Убью! — Катран бросился на Ильку, но тот увернулся и быстро-быстро побежал к Скалистому.
— Назад! — приказал Катрану Миша.
Тот нехотя вернулся и, чтобы как-нибудь успокоиться, швырнул вслед убегавшему камень.
Одик, всхлипывая, приложил ладонь к распухшим, кровоточащим губам.
— Вот вам и праздник… — проговорил Вася. — Ничего себе…
Миша неподвижно смотрел в гальку.
— Тише ты, не хнычь, — сказал Одику Катран. — Та рана, что снаружи, не самая тяжелая… Мы ведь дружили с ним, верили… Откуда ты знаешь все? Как он до этого докатился?
Одик вытер щеки и глаза, унял дрожь в губах и все рассказал.
Миша не смотрел на него, но чутко слушал.
Когда Одик кончил, Миша поднял голову:
— Плохи наши дела, ребята… Ведь Илька осквернил наш мыс, он побывал там, и я теперь не знаю, что делать.
— Да-а-а… — сказал Толян.
— Стойте! — крикнул вдруг Катран. — Выход найден: или никто, или самые достойные!
— Что это значит? — спросил Костя.
— А вот что, — сказал Катран. — Мы установим здесь свой пост, чтоб ни Ильку и никого похожего на него и близко не подпускать сюда…
— Чушь, — сказал Толян. — Круглосуточное дежурство? Чушь.
— А ведь и правда, — уныло согласился Катран.
— Мы сделаем не так, — поднял голову Миша. — Мы всё заберем с мыса, будто и не были там никогда, и собьем, стешем все бугорки и выемки на стене, чтобы никто туда не пробрался. А если все-таки кто-то и найдет туда дорогу, тот и будет иметь право на этот мыс… Правильно сказал Жора: или никто, или самый достойный!
— Но ведь это почти невозможно, — вздохнул Костя.
— «Почти» не в счет, — бросил Толян.
— Верно! — крикнул Одик.
Лицо его еще болело, ныла губа, но это было таким пустяком. Ведь теперь он был не только среди них. Он был с ними. Они приняли его. И это было самым важным, самым большим событием в его жизни.
Ребята еще долго спорили, и спор их слушала огромная и старая, нависшая над водой гора.
Нестерпимо жгло солнце, сверкало спокойно-голубое море, и по небу, точно суда с надутыми парусами, плыли откуда-то со стороны Греции легкие облака.
А совсем рядом врезался в море Дельфиний мыс, острый и неприступный, и там, как всегда, было свежо, там клокотали, пенились и шли на приступ волны и непрерывно дул сильный, порывистый ветер.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Под слоем гальки и песка лежат обломки античного судна, листы свинца, соединявшие корпус, и бронзовые гвозди — найдут ли их когда-нибудь? А сколько ваз и амфор, расколотых и совсем целехоньких, замытых илом и торчащих вверх горлышком, еще разбросано возле этого мыса! Увидит ли их кто-нибудь? Или, кроме одной амфоры, найденной мальчишками, и разбитой вазы, ничего не суждено увидеть людям?
А может, их найдут завтра или через двести лет, и они помогут узнать людям о страстях и событиях, потрясавших берега Понта Эвксинского две тысячи лет назад. И может, в нелегких поисках амфор люди лучше поймут себя, своих товарищей и даже свое время…
Нет, не так уж бессмысленно погибло когда-то здесь, у Скалистого, судно с грозным Зевсом на тугом, звенящем от ветра парусе.
1967
ТРАВА И СОЛНЦЕ Повесть
Глава 1 ВЫСТРЕЛ
Аверя издали увидел Фиму. По-старушечьи повязавшись платочком, она сидела под тополем у «Буфета» и торговала семечками. Торговала она странно: сидела чуть в сторонке от корзины, озиралась по сторонам, руки на худых коленках ерзали, и ей было не очень уютно под этим добрым тенистым тополем.
«А еще капитанка!» — подумал Аверя.
Незаметно подойти к Фиме не удалось. Глаза ее, раскосые и быстрые, заметили его и сразу как-то застыли. Руки перестали приплясывать на коленях. Фима еще чуть отодвинулась от корзины, в которой стояли два стакана с калеными пузанками — большой и маленький.
«Никодимовна определила на свою точку, — понял Аверя, — самое расторговое место!»
В «Буфет» входили мужчины, большей частью рыбаки, потому что их городок Шараново исстари был рыбацким городком, — входили, чтобы выпить пива или стаканчик-другой прозрачного виноградного вина.
Кое-кто из рыбаков совал Фиме монетку и подставлял растянутый пальцами карман.
Аверя подошел, играя новеньким блескучим пятаком, и метко пустил его в Фимин подол.
— Отпусти-ка маленький!
Фима подобралась, покраснела, как рачья клешня в кипятке.
— На… И забирай свои деньги. Ну?
И быстро протянула ему насыпанный верхом стакан с прижатым к граненой стенке пятаком.
— Я не жадный. Гони маленький, а пятак прячь.
— Бери, дурной. Бери и проваливай.
— Со своих, значит, не берешь?
— Уходи. — Фима стала оглядываться.
— А если весь класс навалится? Тоже брать не будешь?
Аверя вдруг понял, что сказал лишнее. В серых с синими крапинками Фиминых глазах засветился гнев.
— Ладно уж, давай, — быстро сказал он, — только потом пеняй на себя, что недостача будет. Бабка, поди, на стаканы отпустила товару?
— А тебе что? Я уж и полузгать не имею права?
— Смотри влетит! Не на чем завтра сидеть будет.
— О себе думай! — Фима фыркнула, втолкнула в его карман вместе с пятаком стакан, постучала по донцу, чтобы все высыпалось.
Аверя щелкнул и сплюнул.
— Нормально поджарено. Сама?
— Бабка. Когда не молится — жарит.
— А-а-а, — протянул Аверя, — между семечками и богом время проводит?
Фима хохотнула; в ее глазах засверкало веселье и расположенность к Авере, и ему это понравилось: он любил производить впечатление.
— Наторговала-то хоть много?
— Кое-что. — Фима достала из карманчика носовой платок, развязала и позвякала на ладони мелочью. — Рубля с полтора.
Вдруг Аверя вскинул голову: он услышал отрывисто-радостный лай. Так мог лаять только один пес в Шаранове — пес Выстрел. Фима перестала для него существовать. Лай доносился со стороны базара. Сломя голову кинулся Аверя туда, и от него шарахались бабки с корзинами, полными черешни и первой желтовато-красной клубники.
У магазинчика «Ткани» стоял пограничный «ГАЗ-63»; в кузове его, сидя у левой ноги инструктора Саши, весело полаивал Выстрел, а внизу, на земле, творилось невесть что. Тут были и Аверины дружки — Аким с Власом, и Селька с Ванюшкой, и малыши, и все тянули вверх руки и лезли в кузов машины.
— Одного — вы понимаете по-русски? — одного мне надо! — надрывался Саша, отрывая от борта ребячьи пальцы.
Однако двое — Аким с Власом — уже сидели на борту.
У Авери что-то потянуло внутри, защемило. Выбросив вперед руки, точно ныряя, он врезался в гурьбу. Раздвинул, оттеснил, добрался до борта, дернул за ногу Акима. Тот вскрикнул и полетел в Аверины руки. Аверя мягко принял его и поставил на ноги, затем так же стремительно дернул Власа. Однако Влас успел убрать в кузов ногу.
Выстрел запрыгал на поводке, застучал хвостом в дно кузова, но теперь в его лае не было добродушия.
Саша что-то крикнул собаке, и она умолкла.
Аверя тянул изо всех сил, повис на Власовой ноге, и тот полетел вниз. Аверя поймал его и поставил рядом с Акимом.
— Пока! — Аверя кинул на борт ладони, напрягся и как-то странно, боком, сразу обеими ногами забросил себя в кузов, вывернул занемевшие руки и растроганно, как какой-нибудь президент африканской державы с улетающего из Москвы самолета, помахал дружкам: — До скорого!.. Саша, стучи в кабину!
Внизу вопили и колотили в кузов.
— Ну чего вы, дурачье! — до ушей разинув рот, заорал Аверя, видя, что пограничник не слушается его приказа. — Влас даже не ЮДП! А я заместитель начальника штаба и значок имею — и должен ехать в первую очередь!
Аверя распалился, кричал все пуще и не заметил, как возле машины все стихло.
— Аверьян, спустись, — негромко произнес женский голос.
Сбоку, у акации, совсем не на виду, будто даже прячась, стояла Маряна. На ней был узкий сарафанчик с выгоревшими цветами и черными тесемками купальника, бантиком завязанными на шее. Она сурово смотрела на него. Маряна работала на рыбозаводе, была в их отряде вожатой.
Аверя готов был спрыгнуть с машины, но внизу сгрудилось так много ребятни… Ну как мог уронить он себя перед ней?
— Ты слышал?
Саша при виде Маряны преобразился — растерял всю строгость и локтями оперся о борт, точно о плетень:
— Приходи на танцы, Маряша, ждать буду.
Маряна смотрела не на него. Она смотрела на Аверю.
Аверя набычился, потом, ни на кого не глядя, перемахнул через борт, точно этой лихостью хотел оправдать послушание.
— Мальчики, кто первый забрался в кузов? — спросила Маряна.
— Аким, — пискнул кто-то.
— Влас, — сказал другой голос.
— Аким, ты? — спросила Маряна.
Аким побарабанил пальцами о переплет книги, засунутой за ремень, и поднял на Аверю глаза:
— Нокаутом бы его, да рук на такого жалко. Да и страшно, еще дух испустит — большая физическая сила пропадет.
Аверя ревниво скосил глаза на Маряну и ребят:
— Умник!
Иногда Аверя прямо-таки ненавидел этого всезнайку, к которому — странное дело! — очень неплохо относилась Маряна. Не хуже, чем к нему, Авере. А за что, спрашивается?
— Ну так кто из вас поедет? — Маряна теряла терпение. — Ты, Аким, или Влас?
Ребята, нахмурив лбы, молчали.
— Мне что, пусть едут. — Аверя сплюнул, достал горсть семечек и стал по одной кидать в рот. — Какое счастье — от собаки бегать. Пусть…
Он уже понял, что хватил через край, особенно с Акимом. С ним ухо надо держать востро. Но и отступать было поздно.
— Да чего вы там, ехайте кто-нибудь, ну? — застонал Саша. — В другой раз никого не докличешься, а тут машину готовы сломать.
Аверя отвернулся от дружков.
— Я не поеду, — твердо сказал Аким, — у меня книга не дочитана — Чехов.
— Маряна, повлияй! — взмолился Саша.
— Да вы не бойтесь, — сказал Аверя, — память у меня не злая, никого в ерик не спихну.
— Едем мы или не едем? — раздраженно крикнул из кабины шофер, тоже пограничник.
— Ну, если нет охотников, могу и я: как не послужить родным погранвойскам. — Аверя потянулся и, кряхтя, медлительно, как дед на печку, полез в кузов. Сощурил в щелку глаза, сквозь узкую прорезь, точно бритвой, полоснул по ребятам и кинул назад: — Ехай!
— Маряна, так придешь? — крикнул Саша. — Я немножко поработаю и вернусь…
Взревел мотор. Саша увидел полуоткрытый Марянин рот, но ничего не расслышал и замахал ей рукой. Аверя подошел к Саше, присел на корточки:
— Что будем отрабатывать?
Он хорошо знал всех пограничников Шарановской заставы и, уж конечно, всех служебных собак. Даже по лаю различал.
— Горячий след. — Саша потрепал жесткую гриву Выстрела. — А ты, брат, не промах. Чего учудил!
— А чего? — Аверя наивно заморгал ресницами.
— А того. Знал бы — не взял бы. Не собаку надо посылать по твоему следу, а тебя — по собачьему. Разорвешь. Что зверь. А небось еще в пионерах ходишь. В седьмом ведь.
— В восьмой перешагнул.
— Смотри не причини вреда Выстрелу. Поддавайся. Обеспечь хорошую работу.
— Да уж постараюсь. На клыки, конечно, не полезу. Он ведь у тебя умный.
— Его бы мозги тебе — ничего был бы парнишка. Уважение бы имел. А ему бы твои — все наряды с границы можно бы снять: ни один нарушитель не перешел бы.
— Точно, — согласился Аверя и вдруг во все горло дурашливо завопил: — «Эх, девчонка дорогая! Дорогая ты моя!»
— Ну-ну, ты… Свихнулся?.. Да, чтоб не забыть: скоро ваш отряд идет в патрулирование.
Машина пронеслась по Центральной улице у домов и магазинчиков, обнесенного забором гаража, вылетела на открытое ветру и солнцу шоссе и остановилась против лесничества — домика, белевшего за молодыми посадками.
Саша сделал дугообразный жест, и пес выпрыгнул из кузова.
— Ох, леший, сапоги-то и забыли! — ударил себя по лбу Саша, глянув на Аверины туфли. — Василь, придется тебе пожертвовать.
Шофер вылез из кабины и сплюнул.
— А чем его плохи? Каши еще не просят.
— А если Выстрел цапнет чуть повыше? Давай разувайся. Конечно, если не хочешь сорвать учебную задачу…
— Ох и хитры вы, инструктора! От собак, что ли, научились?
Шофер стащил кирзовый сапог и стал разматывать портянку. Авере сапог был великоват, но не слишком, потому что шофер был не из великанов, а Аверя не из недомерков. Старательно обувшись, чтоб ни складочки, ни морщинки не легло под ступню, облекся в толстый и длинный старый армейский плащ, который не позабыл взять Саша.
— Значит, так. Пройдешь километра два куда хочешь, в любую сторону, — ни я, ни Выстрел смотреть не будем; на половине дороги выбросишь из кармана платок… Есть он у тебя?
— Дома позабыл…
— А что-нибудь другое есть? Я свое передать не могу: запах должен быть твой.
Аверя нащупал в кармане перочинный ножичек — жалко; яблочко-зеленуху постыдился вынуть; леску, намотанную на фанерку, тоже жалко; пачку «Севера» с тремя мятыми папиросками — побоялся: Сашка хоть и свой парень и лет ему не больше двадцати, да эти пограничники себе на уме, всегда что-то скрывают. Еще расскажет Дмитрию Алексеевичу, директору…
Пришлось вынуть дощечку с леской.
— Сгодится?
— А крючок есть?
— Какая же леска без крючка? — обиделся Аверя, считавший себя потомственным рыбаком. — Это у вас, у степняков, леска может быть без крючка, а мы…
— Отставить треп. Откусывай крючок и прячь. Ну, давай, давай. Так-то безвредней будет Выстрелу. Бросишь, значит, леску…
— Не найдет — купишь новую.
— Жадина! Моя собачка работает как часы. Убедишься. А платок носи при себе, если культурный человек, личная гигиена требует… Ну, пошел.
В плаще было жарко, прошибал пот, длинные полы мешали идти. Аверя добрел до кустарника, присел, оглянулся: ни Саша, ни Выстрел не подглядывали за ним — они стояли за кабиной. Однако, задетый тоном инструктора, Аверя решил проучить его.
Местность была пересеченная, с мелкими озерцами, с частым березняком. Местами рос кустарник такой густоты, что в нем можно было спрятаться и от целой своры Выстрелов. В Аверину школу, где был организован отряд ЮДП — юных друзей пограничников, — не раз приходили инструкторы с собаками и рассказывали об их нравах, еде, работе, и ребята помогали тренировать собак: прокладывали следы для поиска или выстраивались в шеренгу и каждый клал что-нибудь из кармана в одну кучу; приходила собака и по запаху любого предмета безошибочно находила владельца…
Сапоги вязли в песке, плащ душил зноем, и скоро Аверя взмок. Но он был очень сильный и шел быстро. Шел зигзагами, петлял, долго кружился возле кривой сосны, перелезал с деревца на деревцо, чтобы не оставлять на песке следа; в двух местах отважно перешел озерца — сапоги-то не свои, не жалко! — потом вынул леску. Сердце его прямо-таки стиснулось, когда он, прощаясь с леской — не одну сотню сомят выловил ею в порту! — положил ее на песчаном бугорке под сквозистой березкой: уж здесь-то ее Выстрел обязан был найти!
«Черт с ней, пусть пропадает! — вдруг решился Аверя, засовывая леску под обнажившиеся корни небольшой елки. — Зато нос им утру!»
Совсем выбившись из сил, он уполз в кусты и, весь скрючившись и завернувшись с головой в плащ, стал ждать. Минут пять напряженно прислушивался — не раздастся ли лай? — и повторял наизусть слова инструктора, как надо вести себя, когда приблизится собака. От напряжения Аверя устал. Задумался. Вспомнил Фиму. Все еще торчит возле «Буфета» с семечками или уже домой умотала?
Грозный лай вбил его душу в пятки.
Страх бился в нем секунду-другую. И вошел он в Аверю не потому, что он был трусом, а потому, что забылся на мгновенье. А еще оттого, что слишком уж быстро раздался этот остервенелый лай.
Мужской голос — он совсем не был похож на Сашин — что-то крикнул. И хотя Аверя знал: все, что от него требуется, — это лежать, он вскочил, закричал, замахал руками, и на него навалилось что-то огромное, тяжелое и сшибло с ног. Он забил ногами и руками и услышал сухой треск — словно небо треснуло от грома.
И тут же услышал голос:
— Фу, фу!
И команду для себя:
— Руки вверх!
Аверя вскинул руки: людей с поднятыми руками служебные собаки не трогают.
Выстрел замолк, и Саша убавил поводок. Из страшной собачьей пасти ниточками тянулась слюна. Черная, жесткая, как у дикого кабана, шерсть торчком стояла на загривке. Выстрел был крепколап, мускулист и тверд в груди.
Саша что-то сунул ему в пасть, и Выстрел, как самая заурядная дворняга, заработал хвостом и захрустел.
— Отлично. — Саша вытер рукавом гимнастерки щеки.
У Авери, мокрого и ослабевшего, сразу отлегло внутри.
— А чего там, конечно, отлично, — сказал он, сбрасывая плащ.
Выпрямился. Отдышался. И вдруг почувствовал холодок на правой ноге. Глянул на ногу, и сердце екнуло: вся правая штанина, вместе с трусами, сверху донизу была порвана. В чудовищной прорехе виднелось незагоревшее тело.
— Не по инструкции вел себя — потому, — заметил Саша, поглаживая Выстрела.
— У-у, зараза! — шикнул Аверя. — Чтоб тебе…
— Бежать не надо было: сапог бы съехал, ну и цапнул бы… Инструкции — они недаром пишутся. А он тебя ничего — чистая работа.
Они пошли сквозь кустарник к машине.
— Как же я теперь домой явлюсь? Через весь город идти-то.
— Не огорчайся, доставим… А вот тебе леска — целехонька, только в одном месте фанерку прокусил.
Аверя, не ощутив радости, сунул в карман леску.
У машины Саша снова сделал резкий полукруглый жест, показывая Выстрелу на кузов; пес упруго подскочил, сжался, разжался в воздухе и очутился в кузове.
Английских булавок у пограничников не оказалось, и Аверя удрученно смотрел на пробегавшие дома Центральной улицы, придерживая разлетавшиеся сзади края штанины.
С ненавистью поглядывал на Выстрела, на его умные карие глаза, на мокрый, вздрагивающий нос и повторял про себя:
«Ух, я бы тебе… Еще улыбаешься… Я бы…»
Саша предложил Авере доехать до заставы и там отремонтироваться, но Аверя наотрез отказался: не вынес бы он смеха пограничников.
— Так как же ты?
— Как-нибудь.
Чтоб ближе было до дому, машина доставила Аверю до начала ериков — длинных нешироких каналов, которые прорезали почти все Шараново и являлись как бы его улицами. По такой улице можно было проехать на лодке или пройти у края по кладям — доскам, постланным на столбики.
— Благодарю, Аверьян! — Саша хлопнул по его руке. — Славно мы сегодня поработали! Ты отлично прокладывал след. Благодарю от всего личного состава…
— Да чего там… — поморщился Аверя, оглядываясь по сторонам, и, видя, что никого вокруг нет, стал сползать с машины.
Машина затарахтела и умчалась, а он прижался спиной к заборчику. Самое скверное, что порвано сзади: выйдет кто-нибудь и увидит, а потом пойдет по всему Шаранову звон…
Пограничники — эти умеют держать язык за зубами, служба у них такая, а взять какую-нибудь Алку или…
Слабый плеск воды заставил Аверю вздрогнуть и еще крепче прижаться к заборчику. По ерику (а точнее, по улице Нахимова, где он жил), отпихиваясь веслом, ехал Акимов дед — дед Акиндин. Лодка была сильно нагружена рифленым шифером и глубоко сидела в воде. Седая борода деда развевалась на ветру, как флаг.
— Пособь-ка! — крикнул он, подъезжая к мостику, доски которого специально для пропуска лодок не крепились к столбикам.
Аверя оглянулся: справа по кладям с сумкой, набитой газетами и журналами, шла почтальонша Вера, и Аверя не посмел оторваться от заборчика.
Дед Акиндин уставился на него:
— Оглох или к смоле пристал?
Аверя молчал.
Дед выбрался на клади, поднял широкие доски мостка и стал ногой проталкивать лодку.
— Приди теперь к нам за яблоками!.. — опустил доски и веслом оттолкнулся от дна.
Шагов двадцать Аверя пробежал благополучно, без единого свидетеля. До дому оставалось метров сто, но здесь было оживленное место: перекресток двух ериков.
Все похолодело у Авери, когда он увидел Алку. Тоненькая, в аккуратненьком голубом платьице, с таким же бантом в волосах, бежала она навстречу ему.
Аверя прилип к камышовому плетню. Проскрежетал зубами: трусов бы не тронул, подлый! А то ведь видно все…
— Здравствуй, Аверьянчик, — запела Алка и красиво посмотрела на него лучистыми глазами. — Ты, говорят, отличился сегодня…
Аверю облил холодный пот: дошло уже?
— Как отличился? — Он стал осторожно прощупывать обстановку.
— На машине уехал. Один. С пограничниками. И с собакой… Ты такой отчаянный!..
Аверя заулыбался. Услышать это после стольких страданий было приятно. Все-таки она ничего девчонка, Алка, понимает его, и такая тоненькая и хорошенькая. Но лучше бы встретилась не сейчас…
— Ну ты чего все стоишь? — Алка подошла к нему.
— А тебе чего? Хочу — и стою.
— Смешно как-то.
— А ты чего остановилась? — Аверя стал сердиться. — Ведь шла куда-то?
— А теперь хочу с тобой поговорить.
— А мне некогда. Иди, куда шла.
— Некогда, а сам стоишь… Сейчас плетень упадет.
— Плевать! — Аверя едва сдерживал себя.
Раздался стук туфелек, и Аверя увидел Фиму с корзиной на руке. Не хватало еще одной!
— Отторговалась? — спросила Алка. — Сколько выручила?
— Тебе не сосчитать.
— А все-таки?
— Сама поторгуй — узнаешь. — Голос Фимы был глух и недобр.
— Мы этим делом не занимаемся. Мама никогда не пошлет меня торговать. Даже виноградом. В прошлом году у нас его было завались сколько, а продавала соседка, тетя Шура. Самим ведь неудобно, мы к тому же пионерки. Что скажут…
У Фимы сузились глаза.
— А мне удобно. Я врожденная торговка!..
— Ну, раз так…
Фима глянула на Аверю и, кажется, все заметила, потому что глаза ее перестали быть холодными, а в краешках сжатых губ неуловимо затрепетала улыбка.
Аверя сделал ей таинственный знак: повел бровью на Алку и тихонько мотнул головой в сторону — уведи, дескать.
— Аверчик, — попросила Алка, — пойдем завтра купаться на Дунаец, туда, где кино крутили… Хорошо?
— Ладно, — тут же согласился Аверя. Он готов был на любое, лишь бы отделаться от нее.
— Только не с утра, а попозже, после двенадцати.
— Ладно.
— Ну, пошли к нам, — заторопила ее Фима и подтолкнула плечом, — я такую книгу сменяла в библиотеке…
Больше Аверя ничего не слышал. Он попятился назад, юркнул в пустынный проулочек, перелез через плетень, сверкнув незагоревшей белизной зада сквозь порванные трусы, и под айвами и черешнями стал красться к своему дому.
Глава 2 ФИМА ИЗ «ВТОРОЙ ВЕНЕЦИИ»
Кладь была неширокая, в две доски, и Алка шла не рядом, а сзади. Обдавая шею Фимы теплом дыхания, она без умолку лопотала о том, что на пляже прибавилось еще две палатки туристов. Одна — удивительно красивая, не похожая на остальные, разбитые ранее, наверно, из нейлона, вторая — обычная, какие продают и в их магазине.
В одной из этих палаток, по ее словам, все время раздается музыка, слышится смех, и ее обитатели, видно, не скучают Неподалеку от новых палаток стоит серый «Москвич», на нем, наверно, и прикатили сюда.
Фима слушала ее вполуха: мешали собственные мысли — уж очень не хотелось являться домой с Алкой. Бабка с матерью начнут про семечки спрашивать, деньги подсчитывать. Уж Алка не упустит случая и пойдет по городу языком молотить, что и как.
Жаль, что дом был недалеко, и как ни шла Фима медленно, никак не могла придумать причины, чтоб отвадить Алку.
Помог делу братишка Локтя; в зрелые годы его будут величать Галактионом. Он сидел на приступочке против калитки в их дворик и удил рыбу. Рядом, как воробьи на проводе, сидели еще четыре существа: Федька, по прозванию Лысый, — волосы его были до того белы и редки, что, казалось, их вообще нет; братец Акима, кривоногий и упитанный Саха; молчаливый, но чрезвычайно озорной и отчаянный Толян; четвертый был полосатый котенок Тигрик.
Локтя удил серьезно и обстоятельно, как и подобает дунайскому рыбаку, а остальные рассеянно поглядывали на пробочку поплавка и чирикали кто о чем. Самым заинтересованным лицом во всей этой компании был Тигрик, отпробовавший уже два снятых с крючка малька. Видя, как вокруг поплавка разбегаются круги, он замирал в предвкушении веселого хруста косточек, и худенький хвостик его нервно шевелился на досках.
— Подсекай! — скомандовал Саха.
— Не торопись, дай заглотить, — предупредил Лысый.
— Ну и откусили червя, — холодно констатировал Толян.
Локтя дернул и вытащил пустой крючок. Малыши стали издеваться над ним.
— Дай-ка сюда. — Фима вырвала из рук брата удочку, скатала в пальцах шарик из хлеба, предварительно поплевав на него, чтоб плотнее был, и быстро насадила на крючок.
Воцарилось злорадное ожидание.
Котенок терся об ее ногу и мурлыкал что-то задушевно-кошачье. Наверно, это-то и мешало ей сосредоточиться: под радостное улюлюканье ребятни мальки, сверкнув в воде искрой, то уходили во время подсечки вглубь, то на лету срывались с крючка и шлепались в воду.
Алка, стоявшая рядом, все время канючила:
— Ну чего ты, маленькая? Связалась с кем…
Фима точно не слышала ее.
— И вправду капитанка ты, верно тебя дразнят… Вот возьму сейчас и уйду.
Фима катала в пальцах новый хлебный шарик.
Алка сдержала слово. Когда ее голубенькое платьице исчезло за углом поперечного ерика, Фима подала Локте удочку:
— Держи… Видно, мальки берутся только у мальков, а взрослых не признают.
Подхватила корзинку и толкнула калитку.
К домику вела ровная, усыпанная крупным песком с ракушками дорожка, аккуратно выложенная по краям зубцами кирпичей. Возле домика цвели ирисы. Вокруг росла черешня с айвой, а на грядках поспевала клубника. Домик их, как и все дома Шаранова, был из камыша, обмазанного илом, и был очень стар — лет сто, наверно, простоял; на побеленной стене кое-где чернели молнии трещин. Поэтому-то метрах в пяти от этого дома виднелся новый каркас из сох — жердей, плотно обшитый камышовыми стенами.
Мать, половшая клубнику, выпрямила спину:
— Принесла что обратно? — и запачканными землей руками потянула к себе корзинку. — Боже праведный, и половины не продала!.. Чем же ты это занималась?
— Не нравится — могли не посылать.
— И не посылали б, кабы не бабка. Не видишь — второй день разогнуться не может… — И уже милостивей добавила: — Ну иди покушай.
Первое, что почувствовала Фима, войдя в дом, — запах жареных семечек, и вздохнула: и все это на ее голову! Скорей бы уж бабка поправилась.
Бабка по дешевке покупала на базаре у старух украинок мешок-другой привозных семечек, поджаривала на сковородке и, когда была не в церкви, торговала ими, зарабатывая немало — два-три рубля в день.
Подсолнухов здесь не сажали, потому что уж очень мало было в городе земли. Огородики у домов из ила. Ил выбирался из канав, выбрасывался под стены и вокруг, чтоб не подмыло дом по весне в большую воду, когда тают снега. Поэтому-то и образовались в городе сотни затопленных водой канав-ериков. Сажали на этих огородиках самое полезное и доходное: виноград, клубнику да черешню с айвой. А на подсолнухи не было места.
— Давай сюда. — Бабка протянула сухую и костистую рябоватую руку.
Фима подала платок с завязанными в узел деньгами и пошла на кухню. Плита была уставлена сковородами. От гари запершило в горле.
— А пожевать дадите чего?
— Видишь, занято все… Поешь холодную картошку — вон, в чугунке, или погоди маленько.
Фима достала огромную картошину, насыпала из деревянной солонки соли и, на ходу жуя, вышла из кухни.
В доме было темно от икон. Они давно перебороли белизну известки и черными гроздьями глядели из углов. Тут было крещение Христа, и распятие его на кресте — кровь капала из-под гвоздей на ладонях, — и положение во гроб его, мертвого, снятого с этого самого креста. Была тут, конечно, икона воскресения его: Христос с раскинутыми руками улетал на небо, где белели райские тучки, из которых выглядывали умильные ангельские мордашки. Ох, сколько здесь было всего! Святые угодники, плосколицые, бородатые и пучеглазые, чередовались с горестными — до чего у них скорбные глаза! — богородицами.
Доски икон тускло отсвечивали старой позолотой. Краска, мрачная, глухая, прокопченная, кое-где облупилась.
То в своем большинстве были иконы старого письма, доставшиеся от прадеда, а может, и от прапрадедов, которые жили лет двести — триста назад в центральных губерниях России, не то на Волге, не то на Кубани — теперь точно не установишь — и бежали сюда, в дикие дунайские плавни, после великого раскола, после того, как патриарх Никон ввел свою реформу и велел по-новому и молиться — тремя пальцами, — и по-новому поклоны отвешивать, и книги другие читать. Бежали сюда те, кто хоть на костер готов был идти за истинную старую веру, и потому прозвали их староверами. Бежали сюда еще и потому, что здесь было далековато от царева глаза да и помещичий кнут сюда не доставал. Тут не было ни щепотки пахотной земли, зато Дунай, его гирла и приморские куты прямо-таки кишели рыбой, белой и красной; зато камыш в плавнях день и ночь шевелился от дичи и сам воздух здесь был привольный и легкий…
Жили староверы и под турком, и под румыном, были почти эмигрантами, и звали их, как везде, липованами. По утрам они истово молились, крестясь двумя перстами, как боярыня Морозова на суриковской картине, не пропускали ни одной службы в церкви. Они мостили в плавнях ил, бросали его лопатами, стоя по пояс в воде, ставили на площадках домики, сажали кое-что да на лодках уходили рыбачить на Дунай. В те годы в море ходили редко: под самым Шарановом густо шли на крючки и в сети белуга, и севрюга, и сом…
Рядом, в этом же посаде, скоро начали селиться украинцы, бежавшие сюда из Запорожской Сечи и других мест; они были новой веры, и липоване враждовали с ними, сторонились, плевались, глядя на купола их «хохлацкой» церкви. Неслыханным было делом, чтоб липован женился на «хохлушке».
Все у них было порознь: и лабазы, и говор, и кладбища, и жили они в разных краях посада — Дунаец лег меж ними прочной границей: в сторону моря — липоване, в сторону степи — украинцы.
Долго жили старообрядцы уединенно, блюдя строгость веры, молитвами укрепляя свой дух, готовя себя к жизни в ином, ангельском мире. И только в сороковом году, ненадолго, когда Советский Союз вернул себе Бессарабию, увидели старообрядцы людей со звездами и красным флагом — людей, говоривших, что бога нет, что надо строить хорошую жизнь здесь, на земле, а не готовить себя к жизни, придуманной попами…
Потом война, разруха, карточки… В те времена, когда родилась Фима, над городком возносили свои купола три церкви — две Никольские и одна Рождественская, и видны они были далеко-далеко. Подъезжаешь ли к Шаранову на лодке с моря, на «Ракете» ли со стороны Измаила, в рейсовом ли автобусе с материка, из степи, еще не видно шарановских крыш, а уж над зелеными береговыми лозами и тополями, над холмами да лугами высокомерно и отрешенно посверкивают серебром церковные купола.
Давно притихла вражда меж липованами и украинцами, все чаще игрались между ними свадьбы. Дунаец уже разделял город скорей географически, но гуще, чем в других городах и деревнях страны, валил здесь народ в церкви, и у многих под рубахами на тонких тесемках висели нательные крестики. Старообрядцы ходили в свои церкви, верующие украинцы — в свою, Никольскую, что против базара, с пузатыми, как самовар, приплющенными и сытыми куполами…
Отец вернулся из церкви под вечер, снял старую фетровую шляпу, потеребил темную бородку; как и все старообрядцы, он стал отпускать ее, когда годы подвалили под пятый десяток. (Почему-то люди старой веры считали своим долгом носить в пожилом возрасте бороды.)
— Слава тебе господи, — сказал он, — отменно поговорили с батюшкой, послезавтра еду в Широкое, а сейчас вентеря по ерикам проверю…
Он снял парадный шевиотовый костюм, облекся в замызганную рыбацкую робу, в которой рыбалил в звене вентерщиков возле дунайского устья, и на маленькой смоленой плоскодонке-однопырке пошел с Локтей проверять вентеря — сетки на деревянных обручах, распространенные у дунайских рыбаков.
Крупная рыба в ерики заходила редко, и все же килограмма два-три на юшку иногда попадалось; отец вытряхивал рыбу в лодку и ехал от одного вентеря к другому. Когда-то он брал с собой и Фиму. Но это в те времена, когда с ними жил старший брат Артамон, ныне капитан колхозного сейнера, ежегодно уходившего в экспедиции на Черное море. Потом брат подрос, женился и, вопреки желанию отца, отделился, не стал жить с ними. Ушел, не обвенчавшись в церкви, с «хохлушкой» Ксаной Поэтому-то отец не очень задерживался у городской Доски почета в центральном сквере города, где у памятника Ленину среди других фотографий красуется и фотография его сына.
С тех-то пор и дружба с Фимой пошла у отца на убыль, и он не звал больше дочку с собой на однопырку.
Фима любила воду, плеск волн в борта, запах тины и сырости, но не напрашивалась к отцу в экипаж. Зато мать с бабкой не забывали ее.
— С утра будем обляпывать, — предупредила после ужина мать, — чтоб дома была.
Фима нырнула под одеяло, легла на бочок, скорчилась и долго не могла согреться.
За окном, из сырой темноты заросших травой ериков и болотец с надсадом, с надрывом, металлическими голосами стонали лягушки. От этого стона нельзя заснуть. Он проникает сквозь камышовые стены, сквозь стекла и натянутое на голову одеяло. В этом стоне есть что-то резкое и злое, что-то фантастическое и застарело-нетерпимое, как у молящихся староверок.
А может, не лягушки виноваты в том, что не идет к ней сон, может, всему виной ее неладная, ее расщепленная жизнь? А может, все дело в Аверьке, храбром и равнодушном, с твердыми мускулами на втянутом животе, — в Аверьке, который завтра после двенадцати обещал Алке пойти купаться на Дунаец?
Вот было бы, если б не пришел. Чего не пообещаешь в том положении, в каком он был…
До полудня Фима с Локтей таскали в носилках ил. Он был тяжелый, липкий, зеленовато-черный. Перемешанный с соломой, плотно вмазанный в камышовые стены домов, он надежно, не хуже камня, держал тепло в зимние морозы. Вчерашний ил, прикрытый на ночь от высыхания травой и рогожками из болотного чакана, часам к десяти кончился; пришлось замешивать новый. Ил привозил все в той же однопырке отец, скидывал лопатой на узкую греблю возле плетня. Свалив ил у строящегося дома, ребята тащились назад.
— Н-но! — покрикивала Фима и, топая босыми ногами, толкала носилки.
Локтя взвивался на дыбы, тоненько, как жеребенок, ржал, осаждал назад и так стремительно припускал вперед, что едва не вырывал из Фиминых рук носилки. На всем скаку подлетали к матери и Груне — так звали старшую сестру.
— Тише вы, окаянные, в ерик угодите!
Женщины босыми ногами месили ил. С сытым чавканьем, хлюпаньем и сопеньем шевелился он под их ногами; стрелял и чмокал, когда ноги выдирались из месива; шипел, раздаваясь, как тесто, неохотно отступал, пропуская внутрь черные, измазанные ноги.
На один дом нужно с полсотни таких лодок ила, и отдыхать было некогда. Когда ил был замешан, принялись обляпывать стены. Здесь уж некому было угнаться за Груней! Она и в колхозе была мазальщицей — работала в бригаде подсобного хозяйства и мазала дома на усадьбе их колхоза, одного из самых больших колхозов Причерноморья.
Груня сидела на лесах в расстегнутой от жары кофточке, в грязных мужских штанах, туго обтягивающих худые ноги, и быстро вмазывала, втирала ил в камышовую стену, в щели и пустоты там, где камыш соединяется с жердями каркаса.
Груня была одинока. Ее плоское, рано увядшее лицо — ей было за тридцать — безжалостно изрыла когда-то оспа: метины были и на носу, и на лбу, и на подбородке. На людях она держалась замкнуто, была исполнительна, тиха — и муху не обидит. Но когда Груня молилась, Фима боялась ее. Потому, казалось, всегда молчала сестра и держалась в сторонке, чтоб здесь вот, под скопищем древних икон, вдруг излиться перед богом, не таясь открыться перед ним в потоке слов, славя того, кого она считала всемогущим и мудрым, от которого все доброе и святое на этой грешной, переполненной пороками и страданиями земле.
Прямо холод пробегал меж лопаток у Фимы, когда слышала она эти горячие, эти частые, с придыханиями и всхлипываниями заклинания и просьбы. Мать с отцом молились спокойней, уверенней, а в Груниных словах была униженность и страх, что бог ей не поверит и накажет за безверие подруг, брата и сестры и не даст спасения, не примет в царство небесное.
Как она не понимает, что все это бесполезно? А мать с отцом? До чего же все это дико и странно. Все, кажется, ясно как день: есть только одна жизнь, и она здесь — солнечная, терпкая и соленая, как пот, — только здесь, и больше нигде, разве только на других планетах. А им этого не понять.
Молятся доскам с черствыми, изможденными постом и страданиями ликами, читают пропахшие ладаном, замусоленные церковные книги, напечатанные древнеславянскими буквами с замысловатыми виньетками; как эпилептики, падают в церкви на колени и целуют липкий от сотен губ медный крест и оклад чудотворной иконы…
В тот день, когда Фима явилась домой в красном галстуке, Груня испуганно посмотрела на нее и не сказала ни слова. Но отдалилась от нее, и если разговаривала, так только по делу. Фима была не из робких, но ей было не по себе, когда ее будил по утрам этот страшный, исступленный шепот Груни перед иконами: два ее черных пальца взлетали в мольбе на фоне солнечного окна…
К часу все выбились из сил. Ребята уже не дурачились, не взвивались на дыбы. Фима работала босиком, в трусах и майке. На Локте были одни трусы, по его телу бежал пот, сбегал по тесемке креста и капал вниз. Крестик был дешевенький, свинцовый, с ушком для нитки и вторым крестиком, оттиснутым на нем, и был однажды надет на Локтю попом и стоил по новым деньгам в церкви всего десять копеек.
Фима надеялась, что после обеда мать освободит ее, да не тут-то было.
— Ну, с богом, — сказала мать, — надо торопиться: когда еще отца отпустят…
И Фима с Локтей снова впряглись в носилки.
А дел у нее сегодня была уйма. Во-первых, надо хоть на часок вырваться к Матрене, семидесятилетней бабке, которой она помогала как тимуровка. Во-вторых, она здорово устала, ей наскучила одуряюще однообразная работа, молчание матери и шлепки густой кашицы по камышу. Ах, как тянула быстрая, прохладная вода Дунайца — канала-протоки, который брал начало в Дунае и впадал в море! Там, наверно, уже давно кувыркается Аверька с мальчишками и девчонками…
Впрочем, может, он не пришел?
Вряд ли. Как миленький явился, прибежал и теперь веселит и ужасает своими рискованными номерами ребят, и в их восторженном визге отчетливо слышится голосок Алки.
Как удрать с работы? Ведь до осени еще будут возиться с домом. Мать работает как вол и от других требует того же.
Канючить? Не выйдет. Сказать, что очень устала? Не поверит. Может, сбежать?
Ах, как хочется в воду! В легкую, прохладную, ломящую косточки и обжигающую тело свежестью и радостью.
Фима вдруг вскрикнула и, выронив носилки, повалилась в тень, под стену строящегося дома.
— Ма! — закричал Локтя. — Ма, Фимка упала!
Мать вышла через дверной проем, строго сощурилась на солнце, жилистой рукой убрала с глаз седоватые волосы.
— Чего с тобой? Ушиблась?
Фима держалась грязной рукой за лоб.
— Голова что-то закружилась трошки… С солнца, что ли…
— Галактион, принеси воды, — приказала мать, — а ты посиди немножко, пройдет!
Фима прильнула губами к краю холодной кружки, напилась и осталась сидеть в тени. Скоро мать вышла из проема с носилками.
— Полегчало?
Фима мотнула головой:
— Не. Ни капельки.
— Иди в хату. Полежи.
— А потом я немного погуляю. Ладно?
Мать пошла с носилками к ерику, не сказав ни слова, и это означало — согласна.
Фима юркнула в дом, умылась, подмигнула осколку зеркала у рукомойника, надела чистое платьице, сунула ноги в тапки, выскользнула из калитки, прошла по кладям до угла своего участка, перешла изогнутый, как кошачья спина, мостик, оглянулась и… полетела к Дунайцу.
Она была быстрая, тонконогая, и доски почти не прогибались под ней. На ней хорошо сидело короткое платьице — сама сшила — с пуговками на спине. Она была смуглая, как глазированный кувшин, почти черная; кожа на носу трижды облезла и грозилась облезть в четвертый раз; коленки и локти были в болячках и косых царапинах, глаза смотрели живо и враскос. В мочках ушей, как маленькие акробаты на кольцах, в такт бегу раскачивались «золоченые» сережки из раймага — сорок копеек пара…
Вода отражала ее быстрые ноги, и рвущееся на ветру платье, и заборчики двориков, и тополя с акациями в этих двориках, и тучки в небе. Было знойно, и в ериках, распластав ноги, дремотно, как неживые, лежали лягушки. А может, они устали от своих ночных воплей и теперь отдыхают?
Лягушки, сидевшие на гребле, при ее приближении, как комочки грязи, прыгали в ерики. По воде, как конькобежцы, бегали длинноногие жучки-водомеры.
Как-то здесь снимали кинокартину, и курчавый человек с кинокамерой в руках охнул и сказал:
— Красотища-то какая! Ну, вторая Венеция, и только. Даже, может, красивей… Все здесь естественней, уютней и человечней, чем там, — сам видел. Там точный расчет архитекторов, а здесь сама жизнь…
Ловко обегая встречных бородачей, баб с бельем в тазах, перелетая крутые спины мостиков, перепрыгивая пропасти там, где доски были сорваны и виднелись столбики, летела Фима к Дунайцу, летела по этой самой «второй Венеции», красоту которой не замечала, потому что в других городах не была и не знала, что не все они такие необычные и красивые.
А вон и крыша лодочного цеха, и любимое место их купания, и мальчишки на кладях, и брызги над каналом…
Фима на ходу стала стаскивать через голову платье и, когда добежала до ребят, была в одном темно-синем купальнике. Стряхнула тапки, подпрыгнула, изогнулась и…
Глава 3 МАРЯНА
Аверя вынырнул и увидел в воздухе изогнутую фигурку в купальнике. Звонко, почти без брызг вошла она в воду.
Аверя знал, кто может так нырять.
Набрав побольше воздуха, он мгновенно погрузился и, быстро работая ногами, с силой загребая руками, поплыл туда, где должна была вынырнуть Фима.
Вода в канале была мутноватая, и Аверя редко открывал глаза: все равно ничего не увидишь. И все-таки, чтоб схватить Фиму за ногу, для этого стоило не жалеть глаз: вот потеха-то будет!
Стремительно, с акульим проворством мчался Аверя у самого дна, глядел вверх и видел смутное сияние солнечного дня, пляшущие тени у поверхности и смотрел вниз — в холодный, тесный, выталкивающий сумрак глубин.
Фимы нигде не было.
Неужто подалась вбок? Аверя стал крутиться из стороны в сторону, шаря вокруг руками.
Воздух кончался. Все сильней давило на барабанные перепонки. В ушах заныл тоненький комариный звон. В голове чуть помутилось.
Он старался как можно дольше продержаться в глубине, но к горлу уже подкатывала дурнота удушья. И Аверя не сразу, а медленно, словно нехотя, высунулся наружу, рывком головы отбросил с лица налипшие волосы, жадно хватил струю воздуха. И оглянулся.
С бревна смотрела на него в открытом сарафанчике Алка; на воде, крестом раскинув руки и ноги, лежал Аким.
Аверя искал глазами Фиму.
Ее нигде не было. Ого!
Аверя саженками поплыл на середину Дунайца. И тут, метрах в четырех от него, выскочила из воды Фима и брассом поплыла к берегу. Аверя ринулся следом. Фима взвизгнула, засмеялась и снова нырнула. Аверя — за ней, стремительно поплыл под водой, вынырнул и увидел Фимину голову у другого берега.
Аким глядел на Дунаец. На Аверю не смотрел, хотя среди мальчишек было признано, что нет в Шаранове пловца лучше его, и все им любовались.
Аверя не огорчался: завидует! Конечно, Аким — парень крепкий, весь из мускулов, — каждое утро зарядка, а вот хорошо плавать научиться у него нет времени: вечно торчит в библиотеке. Пусть делает вид, что не замечает его…
Зато Алка не спускала с него глаз. Аверя подплыл к берегу, схватился за борт лодки, рывком бросил свое тело в корму и знал, не глядя на Алку, что она любуется вспухшими на его плечах и руках мускулами.
Потом попрыгал на одной ноге, вытряхивая из уха воду, схватил сзади мокрыми руками Алку, — она взвизгнула.
— Сейчас пузыри у меня запускаешь!
Алка подняла на него круглые глаза:
— Не надо, Аверчик, не надо… Насморк у меня с утра, застудилась, видно.
На берег вылезла Фима. С носа, с локтей и мокрых косичек ее сильно капало. Губы от долгого пребывания в воде чуть посинели и мелко вздрагивали. Авере не очень нравилось, что она так здорово плавала сегодня, и он старался не смотреть на нее. Он только вежливо осведомился:
— Замерзла? А знаешь почему? Потому что дохлая. Смотри — одни мослы торчат: на спине каждый позвонок сосчитать можно… — и провел пальцем по ее спине.
Фима отпрянула.
Алка смерила ее взглядом и засмеялась.
— Смотри, стукну! В воду полетишь! — Фима погрозила Авере кулаком.
— Дохлая, дохлая! — завопил Аверя. — Что у тебя за кулак?.. Ну иди пощекочи меня — не боюсь…
— А сам убегаешь? Пусть, кто хочет, заплывает жиром, а я не хочу. Ну куда ж ты убегаешь от моих мослов?
— А слабо вытащить кол, — сказал вдруг Аверя, — он вон там, в трех метрах от лодки. Вишь, сколько натаскали, а этот не дается.
На берегу, рядом с лодками, валялось с десяток толстых кольев. В прошлом году, когда здесь снимали кинокартину, над Дунайцем специально соорудили живописный мостик и с него по ходу съемок, за деньги, предлагали мальчишкам прыгать. Аверя тогда сильно разбогател: заработал пятнадцать тридцать; раз сто, наверно, нырнул в одежде, то с перил, то, словно спьяну, грохался, — подменял одного актера, героя картины, который не пожелал это делать. Вначале репетировал падения и выслушивал указания курчавого человека с кинокамерой, как нужно естественней падать, потом падал, учитывая все пожелания, и его снимали на пленку. Затем мостик разобрали. Но большинство кольев так и осталось в воде. Они мешали лодкам и фелюгам, да и нырять с берега было небезопасно. Ребята привязывали к кольям веревки и выдирали.
— Дурочку нашел! — сказала Фима. — Алку попроси, у нее силы больше — не одни мослы.
— Только мне это и нужно! — закривила губами Алка. — Я такими вещами не занимаюсь.
Фима посмотрела на нее и вдруг быстро подошла к веревке, конец которой валялся на берегу. Намотала на руку и стала дергать.
— Ну-ну, — приободрил Аверя.
— Если не замолчишь — брошу.
— Да я ведь жалеючи, чтоб не надорвалась. Уж очень азартно взялась.
Алка прыснула в ладони.
Фима подергала-подергала — кол, чересчур добросовестно вбитый в дно, сидел прочно. Тогда Фима принялась дергать кол то в одну, то в другую сторону. Кол не поддавался.
Фима давно уже высохла на солнце, и теперь на лбу ее блестели капельки пота. Она отошла к лодке, в которой лениво раскинулся Влас, выпрямилась и… и не с края причала, а в метре от него прыгнула, пролетела над причалом и лодкой — это у мальчишек считалось высшим шиком! — и вонзилась головой в воду.
— Видала? — повернулся к Алке Аверя. — Дает Фимка!
— Ну и что? — сказала Алка. — Зато она плохо одевается, платья на ней, как на пугале, и худущая такая.
— Верно, — вздохнул Аверя, — тощая! Заставили б тебя дома так молиться, не такой стала б.
Алка поправила на коленях сарафан и хихикнула.
— Зато из нее может получиться прекрасный капитан. Евфимия Зябина — капитан крейсера, гордость Шаранова!
— Не крейсера, а какого-нибудь пассажирского, — заметил Аверя. — Крейсеры теперича ни к чему. Сейчас в моде подводные лодки и авианосцы. Пустят торпеду или ракету с ядерной боеголовкой, и точка… Нет, вряд ли будет она капитаном.
— Почему? По-моему, это по ней. И плавает как селедка, и ныряет как угорь, и характерец…
— Мужик и тот не каждый на капитанский мостик забирается. Надо, во-первых, чтоб в мореходку приняли на судоводительский. Кто ж ее примет, девчонку-то? Будто ребят мало. Ходят, наверно, толпами вокруг непринятые-то…
Фима доплыла до места, где торчал под водой кол, нырнула, и вода в том месте закипела, заходила.
— Чего вытворяет! — похвалил Аверя. — Вот девка! Ты, поди, и Дунаец не переплывешь? А тут метров десять, не больше.
— Зато я могу шить и пою красиво, и отец с матерью относятся ко мне хорошо…
— Смотри, смотри!.. — Аверя мотнул головой на канал.
Фима вынырнула, снова погрузилась по веревке, и опять вверху заклокотала вода.
Вот Фима выплыла с огромным колом, выставив его острием вперед, и поплыла к берегу.
Аким с Власом бешено зааплодировали. Алка скривила губы и отвернулась:
— Как мальчишка.
— А это плохо? — Аверя посмотрел на ее округлую румяную щеку с черной щеточкой тугих ресниц.
— А чего ж хорошего?
— Зато она бесшабашная и ничего не боится.
— Не бояться должен мальчишка. А женщине это ни к чему. Ей не ходить с рогатиной на медведя.
— А теперича и мужчины не ходят на медведя с рогатиной…
— Аверчик, не говори, пожалуйста, «теперича» и «трошки».
— Почему? Мой батя так говорит и братан.
— А ты не говори. Не нужно. Это не очень культурно — так говорить.
Кинув руки на край берега, укрепленного от оползней и размыва кольями и досками, Фима подтянулась, закинула коленку на доски, вышла на берег и похлопала себя по животу:
— Ох, какая водичка!
Враскос прорезанные глаза ее на черном от загара лице казались почти прозрачными. Они смеялись и разбрызгивали вокруг веселье и радость.
Аверю немного заело, что она подошла не к нему, а села возле Акима, обхватив руками колени, и о чем-то заговорила с ним. Аверя плохо слышал, о чем они говорили, кажется, о каком-то фантастическом романе, потому что то и дело с их стороны доносился смех и такие словечки, как «астронавт», «кольцо Сатурна», «космическая пыль»…
Чем больше слушал он эти серьезные разговоры и этот смех, тем сильней портилось у него настроение.
А день был погож. По каналу туда-сюда сновали лодки, на моторах и без, грузные каюки и большие весельные магуны. Бородатый дед Абрам, Селькин дядя, транспортировал на канате за моторкой два сосновых бревна — лес тут на вес золота; две женщины везли в лодке кирпич и мотки еще не окрашенных белых капроновых сетей — наверно, из сетестроительного цеха, который помещался возле конторы рыбоколхоза; потом проследовала бабка Назаровна в утлой однопырке, с верхом нагруженной зеленым камышом для скота…
— Отнесешь колья домой! — приказал Аверя Власу, толстому, с добродушными губами.
Неподалеку затрещал мотор, и Аверя увидел брата. Он шел на большой лодке.
— Куда? — завопил Аверя. — На остров?
Брат, сидевший с папироской в зубах у руля, закивал. На островах находились основные огороды шарановцев, и целый день туда и оттуда бегали лодки.
— Ребята, на косочку! — бросил клич Аверя. — За мной!
— А я? — растерянно спросил Влас, видя, как все ребята изготовились броситься в воду.
— Отнесешь домой колья и притащишь нашу одежду на косочку… За мной!
И прыгнул в Дунаец.
За ним сиганула Фима, неохотно плюхнулись Селя с Акимом.
— Нас возьми! До косочки! — орал Аверя, переходя на быстроходный кроль. Он и не обернулся в сторону Власа, потому что был уверен, что тот все исполнит в точности.
Ругаясь, Федот приглушил мотор и в сердцах бросил недокуренную папироску. Он был горяч и прославился по городу тем, что с месяц назад порубал все иконы жениных стариков. Он был механиком на передовом колхозном сейнере «Щука», слыл за весельчака и острослова. Как-то встретил его на базаре директор средней школы и при нескольких членах команды пожурил: ай-яй-яй как получается — в клубе читают антирелигиозные лекции, деликатно разъясняя рыбакам, что бога нет, что мир сотворен не им и все это вранье и поповский дурман, а он, Федот, вроде сознательный, видный в городе человек, живет в доме, где полным-полно зловредных икон, — учительница, заходившая к ним, видела…
Федот был разъярен. Вернувшись домой, он содрал со стен иконы, вынес во двор, схватил колун и стал во гневе рубить их почем зря. Деда дома не было — ушел в церковь, зато старуха вопила дурным голосом, а Алка, случайно очутившаяся рядом, рассказывала всем, что старуха была страшна в своей злобе и горе. «Чтоб бог потопил твой сейнер в море, чтоб ни одна рыбка не попала в твои сети, чтоб сдох ты, как чумной поросенок, антихрист!» — вопила она на всю улицу, собирая у забора народ.
Несколько дней Федот не ночевал дома. Трясло всего от гнева. Сейнер его, как назло, проходил профилактический ремонт в судоремонтных мастерских, и Федот немедленно отпросился на первый попавшийся сейнер, уходивший к крымским берегам.
Вопреки мольбам тещи, бог не потопил его сейнер, не отогнал от сетей рыбу.
Невредимый и по-прежнему шалый, мчался сейчас Федот к огороду.
Его лодка сильно осела под тяжестью ребят. Федот дал газу, и они понеслись против течения к Дунаю.
Моторка шла возле причалов с десятками лодок — район пограничный, и лодки, личные и колхозные, должны стоять не возле домов, а здесь. Нырнули под массивный деревянный мост, перекинутый через Дунаец, промчались у причалов и цехов рыбозавода, главного предприятия города, с подъемными кранами, тележками и навесами; у судоремонтных мастерских с двумя вытащенными из воды сейнерами, стоящими на особых устройствах — слипах…
А вон и острокрышая вышка погранзаставы с наблюдателем справа, и приземистый землесос слева, постоянно углубляющий от наносов исток Дунайца, а вон и сама река, просторная и мутная…
Метрах в ста от косы ребята посыпались через борт в воду и, подбрасываемые волной моторки, поплыли к берегу. Только Аверя с Фимой сидели в лодке. Сто метров — пустяк, стоило ради этого залезать в моторку?!
— Ну, — крикнул Федот сквозь треск мотора, — вались!
— Погоди трошки! — приподнял руку Аверя.
Вход в Дунаец, коса с палатками туристов поодаль, мальчишечьи головы в воде — все это быстро удалялось. Зато низкий румынский берег, в кустах и толстых вербах, со стогами на лугах и редкими домишками, рос.
— Давай! — крикнул Федот.
Если б здесь не было Фимы, Аверя давно бы сковырнулся с лодки. А так не мог. И Фима не хотела прыгать раньше его. Федот схватил лежавшее в лодке весло и хватил им по спине брата, но тот и сейчас не прыгнул.
У Федота от ярости запрыгали губы. Он ринулся на брата с веслом наперевес, как с пикой, точно проткнуть хотел. И тут Аверя не выдержал: перевалился через борт.
Вслед прыгнула Фима, прижав к груди коленки и два раза перевернувшись в воздухе, и, относимые стремительным Дунаем, перекрикиваясь и хохоча, они поплыли к берегу.
Дунай был шумен. Просигналила длинная нефтеналивная баржа и подкинула им добавочную волну. Как реактивный, пронесся пограничный катерок с военно-морским флагом. С десяток моторок и весельных лодок сновали от острова к Шаранову и обратно.
Вот пальцы коснулись илистого дна, еще два гребка, и Фима вслед за Аверей — обогнал все-таки, дьявол! — пошла по мелководью к берегу.
Вода едва покрывала щиколотки ног и была горячей.
На косе уже были Влас с одеждой и Алка.
Песок там был твердый, смешанный с илом, и мальчишки разбросались на нем в разных позах, подставляя под солнце кто спину, кто живот.
— Ой, Маряна, никак! — вдруг вскрикнула Алка.
Все подняли головы. Недалеко от берега шла под парусом лодка. На ней не было мотора — не каждый мог купить мотор, и две женщины изо всех сил гребли против течения: одна — Маряна, все в том же сарафане с красными цветами, вторая — ее старуха мать; на корме сидела их соседка с Придунайской улицы и управляла веслом.
Ребята повскакали с песка и бросились навстречу, в волны и пену. Ветер слабо помогал женщинам. Он то надувал бязевый парус, то проскальзывал мимо и хлопал им, и тогда толку от него было мало.
Лодка пошла к берегу, и Аверя первый вцепился в ее смоляной борт. Подоспел Влас с Селькой, и они резво потащили лодку по мелководью.
— Добрый вечер, тетя Глаша! — крикнул Аверя Маряниной матери. — Идем, Марянка, с нами загорать.
— А разгружать кто будет?
— Брига-а-да, становись! — загорланил Аверя, выворачивая из лодки верхнюю корзину с клубникой.
Вторую подтянул Влас, и ребята зашлепали с корзинами к берегу. Соседка несла ведро с закопченным котелком. Мать Маряны столкнула с мели порожнюю лодку и на одном парусе повела в Дунаец, к причалу, на положенное место.
Скоро ребята вернулись, прошли мимо туристских палаток — их было семь штук, — обошли два «Москвича», «Волгу» и бегом вернулись на пляж.
Народу на пляже прибавилось. Аверя с завистью поглядывал, как высокий парень в очках прилаживал к ступням зеленые ласты, затягивал у лодыжек лямочки. На парне были отличные, с карманчиком на «молнии» плавки, плотно облегавшие тело.
Аверю удивило: несмотря на очки, парень был мускулист, широк и, наверно, запросто положил бы его, Аверю, на лопатки.
Второй парень, сидевший рядом в красных с белой полосой плавках, был кудряв, полноват и явно не спортсмен. Он держал маску и трубку для дыхания под водой.
«Ага, те новенькие, о которых говорила Алка», — сразу смекнул Аверя. Возле туристов на расстеленном брезенте, подложив под головы ядовито-желтые подушки, лежали в ярких купальниках две девушки, повернув к солнцу свои не очень-то загорелые и не очень-то худые спины и бока.
— Ты местный? — спросил вдруг у Авери длинный.
— Ага, а что?
— Вон то Румыния, да? — Он показал подбородком.
— Ну, Румыния, — ответил Аверя. — А что?
— А ничего. Как близко она все-таки! Мы, понимаешь, неплохие пловцы… Как бы тут нечаянно водную границу не нарушить… Докуда Дунай наш?
Аверя слегка насторожился.
— Как раз посередке проходит граница.
— Сам из липован?
— Липован, — угрюмо бросил Аверя и, чтоб показать, что и он не какая-то там деревенщина, спросил: — А вы откуда будете?
— Из столицы нашей Родины… Ну, Аркадий, если погибну, прошу меня считать…
— Только ненадолго, Левка. Не так, как на Богазе…
— Идет. — Шлепая, как большая лягушка, по песку ластами, в овальной маске со стеклом, с дыхательной трубкой в зубах, длинный зашагал к реке.
— С богом! — крикнул Аркадий и стал смотреть, как его приятель лег на воду и поплыл, опустив вниз маску и выставив вверх трубку, как подводная лодка перископ.
Аверя решил кое-что выведать у них:
— Надолго приехали?
— Пока понравится. У вас тут чудно.
— Да ничего. А сами кто будете?
— А ты, однако, любопытный малый, — сказал кудрявый, — думаешь что-нибудь про нас такое?
Аверя мучительно покраснел:
— Ничего я не думаю.
— Ну если так, большое тебе спасибо от себя, от Льва и от обеих представительниц слабого пола. — В прищуренных глазах Аркадия блеснула усмешка. Но дальше парень повел себя необъяснимо. Он, оказывается, совсем не обиделся на Аверю за допрос, потому что неожиданно сказал: — Ты, наверно, здорово плаваешь? Я уж заметил, как великолепно плавают местные ребята.
— Да ничего. Как же не плавать — живем при реке.
— После Льва я поплаваю с маской, а потом дам тебе… Хочешь?
Вопрос был так неожидан, что Аверя смешался.
— Почему бы не попробовать. Можно.
— Тебя как зовут?
— Аверьян.
— Ну, очень приятно… А я — Аркадий. Давай руку. У вас тут столько удивительных старорусских, полузабытых у нас имен, что просто сердце замирает. Я, например, сегодня услышал имя Мавра… Удивительно! У нас только в книгах это встретишь.
— Всякие есть, — поддержал беседу Аверя, ведь могут же они оказаться полезными, и решил блеснуть: — У нас и Мартьян есть, и Викула, и Фока, и Куприян, и Филат, и Леон… — Он вспоминал имена позамысловатей. — А у меня есть брат родной, так его зовут Федот…
— Интересно! — вздохнул Аркадий. — Приехали мы сюда — и как в другой мир окунулись. Здорово! Не похоже на все, что видел. И эти ерики…
— Как вторая Венеция?
— Вот именно. — Аркадий заулыбался. — И эти ерики, и бочки с вином в «Буфетах» и ларьках, и дома из камыша с илом, и раки на базаре, и огромные, как блюда, камбалы… Твой отец кто — рыбак?
— М-г-гу, — произнес Аверя. — А вы кто будете — студенты?
— Были, сейчас на работе: вот он — артист, читает с эстрады юмор, басни и прочее, а я — экономист.
— А-а-а… — протянул Аверя, с неподдельным удивлением глядя на него, потому что за все свои тринадцать лет не видел ни одного живого экономиста. Артистов видел — приезжали из Одессы, а вот экономистов — нет, наверно, он очень важная персона.
Аверя и не заметил за разговором, как из воды вышел Лев с маской, поднятой на лоб.
— Контакт с местным населением! — бросил он.
Так и не удалось в этот день Авере поплавать с ластами и маской.
Знакомый пронзительный визг заставил его подскочить с песка и броситься в глубину пляжа, к старым корявым вербам у плетней. Там лежал конец толстого ребристого шланга, по которому землесос, работавший на Дунайце, гнал со дна протоки воду с илом.
Вода была темно-коричневая, почти черная, била упругой и толстой, с бревно, струей и широким ручьем, проложив в песке руслице, сбегала в реку. Там-то вот, у конца шланга, и раздался визг.
Аверя ринулся туда. Аким с Власом и Фимой держали за руки и ноги Маряну перед самым жерлом шланга, а она вырывалась, билась, вся черная от жидкости, судорожно дергая ногами…
Ее визг не был мольбой о помощи. Просто Маряне было приятно, страшновато и весело — вот она и визжала. Аверя не стал ее освобождать. Помогая Фиме, он отобрал у нее одну Марянину ногу — самому бы две не удержать — и схватил ее железной хваткой. Ах, как ему стало жаль, что так много времени проговорил напрасно с Аркадием и столько упустил! И как это Маряна далась ребятам в руки…
Брызги темной жидкости попадали Фиме в лицо; она щурилась, гримасничала и, едва удерживая вырывавшуюся ногу, хохотала и визжала не хуже Маряны.
— Ну давай мне, давай! — Аверя оттолкнул Фиму, прижал локтем к боку и вторую Марянину ногу и завопил на весь пляж: — В воду ее, в воду!
Они торжественно понесли ее к Дунаю, а Фима бежала рядом, держась за живот от смеха. Маряна дергалась своим негритянским телом: даже щеки и нос и те измазаны.
Зайдя по колено воду, стали раскачивать ее за ноги и руки.
— Раз, два… — громко считал Аверя.
— Ну пустите, мальчики, пустите свою вожатую… Как не совестно… Вот откажусь от вас…
— Два с половиной… — неумолимо считал Аверя.
Увидев, что Лев бежит от палатки, на ходу открывая футляр фотоаппарата, Аверя замедлил счет и, когда убедился, что Лев успел поймать их в объектив, произнес трагическим голосом:
— Три!
Метра на два, с разбросанными руками и ногами, взлетела Маряна в воздух, шлепнулась в воду, тут же вынырнула и, совершенно чистая, сверкая смуглотой плеч, вскочила на ноги и бросилась мстить Авере:
— Предатель!
Аверя увертывался от нее, падал в ноги, хлопался в болотца илистой воды и, наверно, в конце концов попался бы в Марянины руки, если б не Саша, не тот самый пограничник, след для которого вчера прокладывал Аверя…
Он шел через пляж, чуть наискосок от домиков с вербами, шел в полной военной форме, с пистолетом на боку, и среди полуголых купающихся людей выглядел очень странно. Но еще странней было то, что он шагал без своего неизменного Выстрела. Саша по прямой двигался к ним, к Маряне с Аверей. Они не видели его, перебегали с места на место, и ему несколько раз приходилось менять направление.
— Саша! — крикнула Алка, первая заметившая его.
И Маряна перестала преследовать Аверю.
— Здравия желаю! — сказал старший сержант и даже взял под козырек. — Можно вас на минутку? — Он никогда не обращался к Маряне на «вы».
— Ну чего тебе? — Маряна показала отбежавшему Авере кулак.
«Сейчас начнет благодарность выносить от имени и по поручению…» — весело подумал Аверя и почти ничего не расслышал из их разговора, потому что Саша отвел ее в сторонку. Расслышал Аверя только вот что.
— А мне не совестно, — на какой-то его вопрос ответила Маряна. — Ну и что, что я вожатая? Пусть другие, а я — нет… Ерунду ты городишь — мне нравится дурачиться с ними…
Саша заговорил еще тише, и Аверя услышал только несколько разрозненных слов:
— Дистанцию… Нельзя… Уважение…
На эти слова, непонятно зачем сказанные, Маряна только рассмеялась:
— Ну и пусть… Ты вот, доблестный представитель Вооруженных Сил Советского Союза, снисходишь до нас, а я что, хуже? Ну и скажешь же… Что-что? А разве ты приглашал? Не слышала, честно говорю.
Саша еще что-то сказал.
— Постараюсь, — и опять засмеялась. — Когда? В девятнадцать ноль-ноль?
Саша снова взял под козырек, деревянно повернулся через левое плечо и едва ли не строевым шагом зашагал по пляжу назад. Маряна сразу перестала интересоваться Аверей, села в кружке ребят, и он подсел к ним.
— А ты, Фима, сколько раз была у Матрены?
Фима, отжимавшая из косичек воду — искупалась, смывая ил, — сморщила лоб, подсчитывая:
— Разика три.
— Не очень-то много. А обещала…
— Маряша, — запричитала, улыбаясь, Фима, — да все вырваться не могу… Дом проклятый…
— А сюда вырвалась? И не скажешь, что у тебя усталый вид.
Фима сузила глаза и затаила в уголках губ улыбку.
— Так то не полы мыть и не на базар для стариков бегать. И ночью встану, чтоб вымазать тебя илом и бросить в Дунай…
— Ох и хитрющая ты! Я тебе… — погрозила пальцем Маряна. — Чтоб в ближайшие дни сбегала…
— Есть! — Фима вскинула к виску ладошку.
— А ты, Селивестр?
— Был у своего деда раз пять.
— Как дела у Аверьяна?
— Нормально. Жалоб от старушки не поступит. — Аверя нахально посмотрел в глаза Маряне, и его лицо, худощавое с грубым, неровным, обветренным, каким-то пятнистым загаром, было чуть надменным и лихим.
— Проверю.
— Хоть сейчас.
За спиной заиграла румынская музыка: скрипки и цимбалы, обгоняя друг друга, разлились над пляжем и полетели над Дунаем.
Аверя перекатился на другой бок и увидел в руках Льва маленький, чуть побольше «Зоркого», приемничек в кожаном футляре. Лев с Аркадием и две девушки сидели неподалеку от них и прислушивались к голосу Маряны.
Лев поманил Аверю пальцем. Аверя подполз на коленях.
— Кто она такая?
— Маряна-то? Вожатая. А что?
— Аркадь, ты слышишь… Как тебе нравится это имя? Как звучит, а?! А ты не хотел ехать сюда, дурья голова. — Потом вдруг быстро спросил у Авери: — Ты-то в бога веришь?
Готовый к любому вопросу, но не к этому, Аверя смутился.
— А чего в него верить?.. Мне… Мне все равно…
— А бог есть, нет?
— Нет, — проговорил Аверя, — откуда ему быть… Атмосферные явления все это… В школе так говорили, и опять же — Маряна.
— А дед-бабка у тебя есть?
— У кого же их нет?
— Молятся на иконы? Справно молятся на иконы?
— Так они старые.
— А много их у вас?
— Откуда много, только трое: одна бабка, материна, померла, а теперича трое…
Лев пригладил волосы и поморщился:
— Да не стариков, икон.
— Да есть. А вам что?
— Да я так просто.
— А я думал — верующий. У нас в городе церкви богатые. Одну старообрядческую, правда с согласия епархии, закрыли…
— Ну? — Лев заинтересованно придвинулся к нему и серьезно изучал его лицо сквозь большие, в квадратной оправе очки с широкими дужками на ушах.
— А почему закрыли?
— Между батюшками ссора произошла — не поделили они что-то, писали друг на друга архиепископу нашему…
— Как это — нашему?
— Да старообрядческому. Наша церковь особая, мы — за старую веру…
— Ты, я вижу, в этом деле академик…
— Чего там… — Аверя прямо-таки весь зарделся. — Жить здесь и не знать… Вот мой деда такое рассказывал о протопопе Аввакуме…
— Ребята, вы слышите, что он говорит?! — закричал своим товарищам Лев, и они на животах сползлись к Авере. — Об Аввакуме слыхал, и вообще, должен вам сказать, образованнейший малый…
— Аверька, мы уходим! — крикнул Селька.
И Аверя увидел, что все уже одеты. Ах, как не хотелось ему уходить! И он остался бы с этими добрыми, веселыми туристами, если б не Алка, подошедшая к ним.
— Садись, девочка, — предложил Лев, — ты тоже местная?
— Наша, — бросил Аверя, — я вот ее все плавать учу — слабовата.
— Не похоже, что местная.
— Мой папа мастер по лодкам, и я скоро уеду отсюда, — сказала Алка. — Он не сам делает лодки, а руководит, и все в цеху ему подчиняются…
— Вот оно как… — пропела толстенькая девушка в синей купальной шапочке, с ямками на тугих щеках, Вера, как звали ее туристы.
— Аверька, — вдруг сказала Алка, — как тебе не стыдно купаться в таких трусах? Прямо до колен. Все культурные люди купаются в плавках, а ты как деревенщина.
— Отстань, — вяло огрызнулся Аверя, — не продаются они у нас.
— А твои родители молятся на иконы? — спросил у Алки Лев.
Алка, трогавшая на коленях хорошо накрахмаленное платьице, возмущенно посмотрела на него:
— За кого вы меня считаете? Мой отец — член партии, мама активистка, и председатель райисполкома часто бывает у нас в гостях, а вы про бога! Я убежденная атеистка…
— Ого! — воскликнула вторая беленькая девушка — Люда. — И ты никогда не верила?
— Что я, дура какая? Старичкам еще простить можно: жили при русском царизме и под турецкими боярами, темные и невежественные, потому и верили в сверхъестественные силы… А чтоб я?..
— Идейная какая! — Вера похлопала себя по собравшимся в складки бокам.
Алка зарозовела от удовольствия.
— А как же иначе, я как пионерка… — И вдруг перебила себя и показала на уходившую с ребятами Фиму. — Вон ту видите? Так сама помню, как она в церковь бегала. А братишка ее, Локтя, и сейчас ходит с крестиком. И главное — пионер: под красным галстуком носит крестик. Это ведь возмутительно! — При этом Алка выразительно посмотрела в лицо Авере.
— Позор! — отрезал Лев.
— Зато она плавает, как шаран, — вставил Аверя, — как сазан, по-вашему.
— И вся она как мальчишка! Только что не курит. И хочет стать капитаном. Правда, смешно? Настоящей девочке не самое главное — хорошо плавать. Я вот даже и учиться не хочу хорошо плавать. Это для мальчишек, а не для нас, девочек… Что у нее за жизнь: торгует семечками, месит ногами ил, спит под иконами, а их у Зябиных что ворон на лозе…
— Что ты говоришь?! — Лев вскочил с песка.
— Ну, пошли, — сказал Аверя, хмурясь и прерывая Алку, — надо Маряну догнать.
— А я не пойду и расскажу им все.
— Ну и оставайся. Пока.
Аверя быстро оделся и побежал за скрывшимися ребятами.
Ребят он не догнал.
Зато вечером столкнулся с Маряной у Дома культуры. Она была все в том же платье, только без тесемок купальника, узлом завязанных на шелушащейся от загара шее. Маряна жила небогато, со стариками, и, по предположениям Авери, у нее было одно-два летних платья, не больше.
— Тебе Саша сказал что-нибудь? — спросила она.
— А чего? Нет, ни слова. Как с собакой — так я нужен, я и мои штаны, а как без собаки — так другие… Или, постой, что-то, кажется, говорил…
Маряна дала ему легкий подзатыльник.
— Завтра патрулирование. Сообщи связным, чтоб к семи утра все были на месте.
— Есть, — вяло сказал Аверя.
У щита с объявлением, что в Доме культуры открыта школа бальных танцев, а также липси и других, топталась Алка с белыми капроновыми бантиками в волосах и в белоснежных туфельках. Но Аверя лишь краем глаз посмотрел на нее — болтушка!
Откуда-то явился Саша с пограничниками и за руку, как маленькую, повел Маряну на танцплощадку, примыкавшую к Дому культуры. Площадка была ограждена высоким забором, и у входа стояла билетерша. Пограничники и знакомые проходили даром, и Саша запросто провел Маряну внутрь.
Аверя прильнул к щелке в заборе. На длинных скамьях сидели разряженные девушки, тщательно причесанные, отглаженные.
Особенно бросались в глаза две: в ярко-красном и ярко-голубом платьях, таких широких и круглых внизу, точно вентерь на обручах. У них были высоченные, как стожки сена, прически. Девушки стояли у стены, такие необычные, броские (одна работала секретаршей в райисполкоме, вторая — официанткой в чайной), что ребята и подойти к ним стеснялись.
Зеленой группкой толклись у стенки пограничники, робели видно, и поглядывали, как танцуют наиболее смелые пары. С солдатами была и Маряна.
Танцевали больше девушка с девушкой.
Вдруг Саша махнул рукой и потянул Маряну, положил одну руку на ее талию, вторую — ладонь в ладонь, поймал старым кирзовым сапогом такт и поплыл по танцплощадке.
В это время у входа раздался шум. Молодые рыбаки вталкивали на площадку случайно оказавшегося здесь Акимова деда. Дед ругался, мотал седой бородищей, упирался в косяк двери. И все-таки его втолкнули внутрь и загородили выход. Деду надоело ругаться, он засмеялся и протянул руки к билетерше, приглашая на «русскую».
— Пошел, старый. Бородой исколешь, да и на службе я…
На голоса бесшумно нагрянули три дружинника с красными повязками на рукавах. Молодые ребята тут же подались в тень, и Акиндин беспрепятственно, хотя и без явной охоты, вышел с танцплощадки. Чей-то локоть коснулся Авериной руки. Оглянулся — Фима. Она тоже прильнула к щели.
— Завтра в семь к заставе, — сказал Аверя, — на патрулирование. И еще вот что: сходила бы к моему деду, к тимуровскому, полы надо вымыть.
— Хорошо.
Аверя оторвался от забора и пошел по вечерней, полной народа Центральной улице.
Глава 4 У ПОГРАНИЧНОГО СТОЛБА
— Смотри, смотри, может, тот? — шепнула Фима и показала на человека, одиноко стоявшего у вербы.
— Своих не узнаешь, — прошипел сквозь зубы Аверя. — Гаврила, рыбак с «Норда».
Они пошли дальше. Миновали пограничный столб. Железобетонный, зеленый, с красными полосами и номером, он стоял в деревянной оградке и сверкал оттиснутым металлическим гербом Советского Союза. Фима знала: такие столбы расставлены вдоль всего Дуная, потому что эта пограничная река только наполовину наша.
«Как смешно, — думала часто Фима, — одна и та же рыба, скажем сом, зигзагами плывущий по Дунаю, то и дело нарушает границу и по десятку раз в день является то советским, то румынским, пока не попадется на чей-либо крючок и гражданство его определится окончательно и навсегда…»
Они шли группкой в три человека. Здесь были последние метры нашей земли, илистой, топкой, заросшей густейшими плавнями, прорезанной заливами и канавами, но родной, которую нужно очень беречь.
Хотя на той стороне реки была и дружеская страна, мало ли кто мог перейти оттуда сюда или от нас туда с важными сведениями, а потом дальше, в другие страны.
— Смотрите за деревьями и на воду, — предупредил Аверя.
В глазах Фимы заплясала дунайская рябь, зашевелились бородавчатые дуплистые стволы старых ревматических верб, залитых по щиколотку водой, — две трети своей жизни проводят в сырости!
За каждым из них, казалось, кто-то прятался, выглядывал и снова прятался.
Считалось, что граница у них тихая, но случалось кое-что и здесь.
Несколько лет назад, как рассказывали, в чайную на Центральной улице зашел незнакомый человек в чересчур потрепанном пиджачишке и чересчур видавших виды рыбацких сапогах, заказал стакан водки, бутерброд с черной икрой, выпил полстакана и стал приглашать к своему столику сидевших рядом рыбаков. На деньги не скупился, хохотал и рассказывал занятные истории и анекдоты.
Буфетчице он показался странным. Она послала судомойку на заставу. Пришли, проверили документы, увели, и скоро выяснилось: крупный агент, хотел уйти на тот берег и, чтоб никто его не заподозрил, решил соответственно одеться, продемонстрировать щедрость души и… И перестарался.
А еще и такой был случай. Ловили наши рыбаки в Григорьевском гирле селедку. В одной из лодок сидели два брата Мокровы; видят, судно под турецким флагом проходит вблизи. А воды-то здесь наши. Не имеет права. Судно уже совсем близко, того и гляди, сеть на винт намотает. Старший Мокров и закричал: дескать, не положено здесь быть турецкому судну. Поняли. Были, видно, на борту знающие русский язык. Отвечают: сбились с курса в тумане. А туман-то нельзя сказать, чтоб очень…
— Оставайтесь здесь! — кричит старший Мокров. — Не имеем права отпустить без проверки. — А сам схитрил: нагнулся к дну лодки, взял черную деревянную ложку тыльной стороной и кричит в нее, точно в телефонную трубку: — Товарищ начальник заставы, задержан турецкий теплоход! Прошу срочно прислать катер… — А сам подмигнул проходившей мимо рыбацкой лодке: чеши, дескать, к рыбоприемному пункту, где есть телефон, свяжись с заставой и вызывай.
Примчался пограничный катер, и офицеры стали разбираться, в чем дело, а Мокровы получили по ручным часам, деньги и благодарность; о братьях и в газетах писали.
А было и такое. Приплыли однажды ночью к нашему берегу на камышовом снопе двое маленьких румын: привели их на заставу как нарушителей; и тут выяснилось: побила их мамка за то, что ведро клубники умяли в погребе, вот и решили они искать справедливости на наших берегах.
— Должны отправить вас обратно, — сказал начальник заставы, — не имеем права задерживать.
Те — в слезы, чуть не на колени становятся, не хотят на тот берег, к мамкиным кулакам. Ничего не поделаешь — отправили и только дали совет: уж коли есть клубнику, так не ведрами, ну а, скажем, поллитровыми банками или, что еще лучше, прямо с грядки рвать…
— Тише ты, в воду свалишься! — зашипел Аверя, хватая Фиму за руку: задумавшись, она споткнулась о неровно прибитую доску. — Смотреть надо глазами!
Фима поежилась, прислушалась. Было тихо, очень тихо, так тихо, что даже слышалось, как на мглистой румынской стороне внятно и одиноко кукует кукушка.
Впереди шел Аверя в кургузом пиджачке, из которого давно вырос. Глубоко на лоб надвинута тесная кепочка. Крупные руки далеко высовывались из рукавов: они то прятались в карман, то пересчитывали пуговицы, то висели без дела, и, конечно, им так не хватало какого-нибудь оружия, скажем пистолета!
Фима давно знала Аверю, так же давно, как знала небо над головой, упругие сучья пирамидального тополя, росшего возле их калитки, как знала отца и мать.
Он жил через два дома от них, маленький и сопливый крепыш. Они в один год научились плавать в ерике, пугали одних и тех же лягушек, а потом, чуть попозже, с одним и тем же бредешком, держась каждый за свою палку, бродили по горло в воде, и на их шеях раскачивались, когда они нагибались к корягам, свинцовые крестики…
Потом эти крестики исчезли: Фима на глазах у матери в порыве ярости выбросила в ерик, а Аверя втихую спрятал за иконой богородицы. Они вместе играли в нырки: бегали друг за другом по воде, падали, норовя ухватить за ногу, подныривали друг под друга, удирали и брызгались. Аверя был силен, смел, напорист. Недаром же, когда в школе организовался отряд ЮДП, его избрали заместителем начальника штаба. Впрочем, из него бы вышел и отличный командир отряда Разве можно его сравнить с Валеркой Кошкиным?! Того избрали, конечно, только потому, что его отец — начальник пожарной команды Шаранова. А если у него, как говорили, и лучше дисциплина, чем у Авери, и он выдержанней, так это еще не значит, что надо выбирать именно его.
Куда ему до Авери! Он, Аверя, один такой на все Шараново, а может, и на весь Дунай. Жаль только вот, не всегда он разбирается, кто его друг, а кто — нет, что хорошее, а что не очень, хоть и красивое внешне…
Они подошли к порту с огромной пристанью и двумя кранами и баржей, стоявшей со вчерашнего дня под разгрузкой: все товары в магазины привозили сюда по воде.
Впереди шел Аверя, и глаза его настороженно смотрели по сторонам. Вдруг он застыл на месте. Фима с Акимом тоже остановились и принялись смотреть туда, куда глядел Аверя.
— Тише, — прошептал Аверя, — не дышите.
— Что там, кто там? — придвинулась к нему Фима.
— Чего там узрел? — вполголоса спросил Аким.
— Тс-с! — Аверя торнул его локтем в живот. — Неизвестный. Снимает местность… Фимка, приготовьсь.
Холодок пробежал по Фиминой спине.
— Как — приготовьсь? — шепотом спросила она.
— На заставу побежишь.
— А где он, где? — заморгал ресницами Аким. — В воде или на берегу? Переплывает Дунай?
— Да вы что, ослепли? Смотрите! — И Аверя показал, куда надо смотреть.
И Фима увидела. Увидела рослого человека в плаще с фотоаппаратом в руках. Он был далеко и сливался с деревьями и кустами. Но Фима четко видела, как он поднес к лицу фотоаппарат — объектив блеснул на солнце — и что-то снял.
— Румынию щелкает, — шепнул Аким.
Фима знала: фотографировать границу, все пограничные объекты и румынскую сторону запрещено.
— Аверь, — вдруг шепнула она, хорошенько приглядевшись. — Какой же это неизвестный?! По-моему, это тот… с пляжа, с которым ты говорил вчера… Смотри, и очки у него… рост тот же…
— Ну-ну! — шепотом запротестовал было Аверя, застыл на месте, впиваясь в незнакомца глазами, потом нехотя согласился: — Вроде ты права… Он.
— А я-то думала… — чуть разочарованно сказала Фима.
Аверя, несколько секунд молчавший, повернул к ней посуровевшее лицо:
— Беги на заставу. Слышишь?
Фима фыркнула:
— Сам беги… Осрамиться хочешь?
— Ты слышала, что я тебе сказал? И в обход, не спугни. И чтоб быстро. А мы с Акимом будем вести наблюдение и следить за ним.
— Не смеши, — сказала Фима.
— И самого Маслова вызывай, начальника, скажи: группа Аверьяна Галкина обнаружила… Ну и все такое…
— Сам…
Аверя вдруг схватил ее за руки и крепко сжал:
— Я тебе приказываю! Приказываю, как заместитель начальника шта…
— Ну сходи, чего тебе стоит? — перебил Аверю Аким. — Он и в самом деле снимает то, что нельзя.
И Фима пошла — пошла не торопясь.
— Бегом! — крикнул Аверя.
Фима пошла побыстрей.
Всю жизнь прожила она на границе, можно сказать у самых пограничных столбов, а никого не задерживала и даже не помогала задерживать. Правда, она много раз бывала на погранзаставе: с отцом, когда его задержали с лодкой за небольшое нарушение режима погранзоны — позже положенного времени возвращался; и когда они всем отрядом ходили сюда на встречу с пограничниками и осматривали их хозяйство: спортгородок, место для заряжания и разряжания оружия, глухую толстую стенку и два пограничных столба, совсем такие же, как на границе, только деревянные, и помещения, где живут служебные собаки…
До заставы было недалеко, с километр, и скоро Фима толкнула калитку у ворот и вошла в огромный, огражденный двор заставы. На вышке под острой крышей расхаживал солдат. Время от времени он смотрел в бинокль в сторону Дуная.
Фима пошла к деревянному дому, на первом этаже которого за стеклянным окошечком всегда — днем и ночью — сидит дежурный.
Он и сейчас сидел там, парень в зеленой фуражке с очень знакомым лицом, хотя имени его Фима не знала.
Она нерешительно постучала в окошко. Ей было неловко — очень уж по сомнительному делу обращалась.
— Чего тебе? — Солдат открыл окошечко.
— К начальнику бы.
— А зачем?
— Надо. Наш отряд ЮДП патрулировал…
— А где же пограничники, которые были с вами?
— Они в другом месте… С теми, кто подальше… А мы у порта…
— Минутку. — Дежурный взял телефонную трубку и отчеканил: — Товарищ майор, докладывает дежурный рядовой Усенко. Здесь школьница требует, чтоб пропустили к вам.
Лицо рядового Усенко было подтянуто и сосредоточенно.
— Есть, товарищ майор, — сказал он молодцевато, положил на рычаг трубку и бросил Фиме: — Беги, третья дверь направо…
Фима пошла по коридору — в нем пахло вымытыми полами, гимнастерками и еще чем-то строго служебным.
Негромко постучала в дверь.
— Войдите!
Раздались быстрые — навстречу ей — шаги.
Вошла. Два стола — один начальника, другой — для совещаний. У стены — железная койка под байковым одеялом. На одной стене — портрет Ленина, на второй — Дзержинского, с пристальным, целящимся взглядом из-под козырька надвинутой на лоб фуражки. На столе начальника — толстая книга с торчащей закладкой («О'Генри», — прочитала на корешке Фима) и телефоны.
А лицо у начальника совсем не строгое, не военное, чуть полноватое, глаза мягкие, синие, добрые и губы не жесткие и вроде бы даже не очень волевые. И вообще — сними с него гимнастерку с погонами, пояс и сапоги, переодень в здешнее — ну рыбак рыбаком…
А говорят, он беспощаден и строг. Многие рыбаки даже недовольны: чуть нарушат погранрежим — штраф или запрещение на какой-то срок выходить на лодке.
— Что стряслось, девочка? — Майор улыбнулся.
И Фима рассказала…
Она так и не успела увидеть, как пограничники забирали нарушителя. Когда Фима вернулась на берег, все было уже сделано и даже ребят там не было.
Часом позже Аверя рассказал ей, как все было. Возбужденный, обрадованный, посверкивая глазами и почесывая кудлатую голову, Аверя стоял у бревна — сидеть он не мог — и говорил:
— Только ты, Фимка, скрылась, мне не по себе: как бы не ушел! Конечно, и мы с Акимом могли бы попробовать задержать, да вдруг у него оружие?! А он ходит себе, ничего не подозревая, и щелкает оборонные объекты. Гад! Мы его выведем на чистую воду! И его дружка надо проверить, и этих, в купальниках, которые на желтых подушечках лежали, их тоже надо…
— Как это его звали? — спросил Селька. — Помнишь, ты с ним…
— Да ничего я с ним… Ругался, и только. Все насмехался, гад, над нашим Шарановом: грязные канавы, вонища и как только вы тут живете, среди комаров и змей? Уходили бы…
— Куда уходили? — резко спросил Аким. — Неужели он так и говорил с тобой? А мне помнится…
— Еще хуже говорил. Все маскировался. То спросит, Румыния ли на той стороне, то начнет уверять, чтоб я ничего плохого не думал, что он не шпион, а очень даже преданный человек… Буду я помнить имя такого? Ничего не помню!
— Дурак он, вот кто! — отрезал Аким. — Настоящие шпионы — они поумней и не будут так открыто фотографировать местность, и никаких объектов здесь нет…
— Тебе завидно, что не ты первый заметил его? Да? Ничего, не бойся, я не жадный. Все мы заметили его по-равному: я, ты и даже Фима…
— Почему — даже? — спросил Аким. — Она что, полчеловека?
— Полтора! — крикнул Аверя и рассмеялся.
Фиме не понравился его смех.
— Пойдем проверим: забрали других или нет? — предложил Аверя.
Ребята ринулись к пляжу, где стояли автомашины и палатки туристов. Палатки и «Москвича» пограничники не тронули.
— Палатки-то на месте, а вот как их содержимое? — улыбнулся Аверя.
— А ты бы хотел, чтоб их всех арестовали? — спросил вдруг Аким.
— Да что ты! Жалел бы их, слезки проливал бы! — передразнил его Аверя.
— Может, они хорошие ребята, а ты…
— Дай бог! — вскричал Аверя.
Его стал злить глупый спор, где все было так ясно. Аверя вообще, насколько помнила Фима, не очень-то любил споры, особенно с таким человеком, как Аким.
— А я б хотел, чтоб они оказались нашими людьми, — сказал Аким, — и это было бы лучше всяких там наград за поимку и…
— Дам в рыло! — вспылил Аверя. — Поговори еще у меня… Я, что ли, за наградами стремлюсь?
— А кто тебя знает. Вон сколько знаком с тобой, а так и не раскусил, что ты за человек… к чему стремишься…
Фима с неприязнью посмотрела на аккуратно зачесанные назад волосы Акима и остроносые туфли фабрики «Буревестник», — он покупал их при ней в обувном магазине за семь рублей. Неплохой вроде парень, а воображает. Ходит в рубахах навыпуск, как приезжие, точит, как червь, книги и уж думает, что можно оскорблять таких ребят, как Аверя.
У Фимы с Акимом всегда были приятельские отношения: с ним и о новых книгах можно поговорить, и о кинофильмах, а сейчас она не сдержалась.
— Не дери, пожалуйста, нос! — крикнула она и отошла за Аверину спину, хотя знала, что Аким с девчонками не дерется. — Он за границу болеет, а не за награду. Сам, наверно, мечтаешь…
«Куда меня понесло! — ужаснулась она. — Ведь все не то говорю!» Даже Авере не понравилось, как она себя вела.
— Прекрати! — Он дернул ее за кофту.
— Тоже мне подпевала! — резанул Аким. — Прячешься за его спину?
Фиме стало жарко и стыдно. Даже пот выступил меж лопаток. Она не нашлась, что ответить. Только крикнула ожесточенно:
— Дурной ты!
Как назло, у пляжа появилась Алка — из девчонок только Фима и Настя Грачева были в отряде.
— Опять Фимка ругается?.. — сказала она. — Грубая, не может без этого… Ну, как ваш улов?
— Одного диверсанта точно и троих под сомнением, — желчно проговорил Аким.
Алка сделала испуганные глаза:
— Мальчики, это правда?
— Это ты вчера им глазки строила, — сказал Аким, — этим туристам?
— Они диверсанты? Это ужасно!
— Заданий от них не получала? — Аким с ухмылкой косился на Аверю.
Алка побледнела, голубенькие глаза ее в черных ресницах замерли, рот приоткрылся.
— Кайся, — проскрипел Аким.
— Дам в морду, — повторил Аверя. — Не трожь ее, она не виновата.
Фима молчала в сторонке и не могла собраться с мыслями и чувствами, нахлынувшими на нее, — так все было сложно и запутанно: ей был неприятен Аким своим отношением к Авере, но с Алкой он вел себя как нужно; с другой стороны, в словах о диверсантах был удар и по Авере. Аверя хороший, но почему он вступается за Алку?
Ничего нельзя понять! Что за штука — жизнь: в хорошем есть и плохое, а в плохом — хорошее; и все это так перемешано, что не так-то просто отрезать ножом, отделить одно от другого. Это в кишмане — рыбьих кишках — нетрудно отделить пузырь с желчью, чтоб все мясо не испортить, а в жизни…
От реки с котлом, наполненным водой, прошли мимо них две девушки в ситцевых платьицах. Лица их показались Фиме знакомыми.
— Куда это Левка запропастился? — спросила одна — Два часа, как пропал, сказал: «Не спится, пойду погуляю», — и нет.
— Вернется. Верно, набрел на что-то.
Девушки скрылись в огненно-красной палатке.
— Съел? — бросил Авере Аким.
— Это еще ничего не значит. Может, они и невиноватые, а один он и скрывает от них…
Фима вдруг хватилась, что пора домой: явилась вчера поздно и убежала тайком ни свет ни заря, когда все спали, чтоб мать не могла запретить ей уйти сегодня из дому.
Потом Фима вдруг вспомнила про бабку Матрену и про Авериного подшефного деда, которому тоже надо помочь. И побежала не домой, а к нему. Часа два таскала воду, мыла полы, сдувала пыль, бегала в магазин за хлебом и едва даже не столкнулась с матерью.
Перед тем как идти домой, решила искупаться. Добежав до реки, сбросила платье и готовилась уже нырнуть с мостков, как вдруг услышала голос Авери.
— Слабо, говорите? А вот смотрите…
Послышался плеск. Фима выглянула из-за кустов, росших у подножия корявой, полуразвалившейся от старости вербы, и увидела…
Нет, в это нельзя было поверить! На кладях на корточках сидел тот самый, в очках, тот самый, длинный, обнаруженный Аверей за неположенной съемкой, и, опустив вниз руки, смотрел на то место, где только что был Аверя.
Вот Аверя шумно вынырнул и поплыл к берегу, держа в руке, поднятой над водой, рака. Рак был крупный, яростно работал клешнями и всеми ножками, а Аверя хохотал.
— Ловите, Лева! Здесь обрыв, а в нем полно их нор… Хотите, еще поймаю?
— А не искусают тебя?
— Надо уметь брать их: за спинку — и тогда ничего, не дотянутся клешнями.
— Ну поймай еще трех: преподнесем Аркашке и двум нашим дамам как подарок от тебя… Не возражаешь?
— А чего? Не.
Аверя стал нырять, выбрасывая из воды ноги. Вода вокруг бурлила, пенилась, и Фима представила, как его пальцы скользят по срезу обрыва, влезают в норки, ощупывают их и, почуяв рачью спинку, берут за шершавый панцирь.
На этот раз Аверя вынырнул с двумя раками. Лев заворачивал их в носовой платок, а Аверька, дрожащий от озноба, посиневший и готовый, снова нырнул.
— Ну как, не напужались? — спросил он Льва, когда одевался. — А на заставе не выговаривали?
— Было… Неприятно, да что поделаешь… Не знал, что у вас здесь так строго.
— Очень. — Морщась, Аверя стал причесываться.
— Обошлось. Теперь умнее будем… А в общем, они неплохие ребята, даже пленку вернули, вырезав несколько кадров.
— Интересно, — вздохнул Аверька и посмотрел на шевелящихся в платке раков. — Раки — что! Теперича у нас никто их не промышляет, мяса у них кот наплакал.
— Ну, это ты брось — первейшая закуска под пиво.
— И под наше вино идет, — с видом знатока сказал Аверя, — да все равно это не промысел. Так только, для забавы. Хотите, я свожу вас на Крымское гирло? Бредешок захватим, будьте здоровы сколько рыбы наловим!
— А застава разрешит?
— А чего ей? Все по-законному оформим, лодку отмечу у причальщика в журнале, и порядок.
— А когда?
— Хоть завтра. Правда, лодка безмоторная, да это недалеко.
— Прекрасно, — сказал Лев. — Ты изумительный парень, Аверьян! А наша компания вместится в лодку?
— Запросто. Я еще Власа захвачу, чтобы с другой стороны заводил бредень, и Ваньку — этот пугать и воду баламутить будет.
— Давай и ту девочку возьмем, — сказал вдруг Лев, — ну, у которой дома жизнь нелегкая, родители религиозные.
Фима вся напряглась.
— А, это Фимку? А зачем она нам сдалась?
— Мне хочется с ней поговорить… Ты у нее дома бывал?
— Мильон раз! Старый дом у них, плохой, стены едва держат иконы.
— Позови ее, пожалуйста.
— Хорошо. Будет кашеварить… Мы такую юшку соорудим — закачаешься.
— Вот и хорошо. Можешь сейчас же прийти за ластами и маской. Через день вернешь.
Они ушли, а Фима так и осталась стоять возле развалистой вербы. Что ж это получается — то крыл его последними словами, то раков для него ловит, роется в иле… И зачем это еще она, Фима, тому потребовалась? Даже купаться расхотелось Фиме. Она оделась и быстро пошла к дому.
Глава 5 БЕЗРЫБЬЕ
Лев забрался в палатку.
— Влезай, не стесняйся, — донеслось изнутри.
Аверя просунул голову, влез и присел на корточки. У стенки на надувном матрасе в одних трусах посапывал Аркадий; другой матрас, очевидно Льва, пустовал; на ящичке стоял приемничек в кожаном футляре с ремешком, — однажды на пляже Аверя уже слушал музыку. Тут же лежал рюкзак и валялись ласты с маской и трубкой.
— В этой — мы, в той — женское общежитие. — Лев хлопнул по пустому матрасу, приглашая Аверю присесть.
Аверя присел и зевнул от волнения: никогда еще такие люди не оказывали ему столько внимания.
— Слушай, друг, — Лев улыбнулся, — ты вчера что-то хотел рассказать про ваши церкви и попов, а потом не успел. Прошу. — Он протянул Авере пачку с сигаретами. — Надеюсь, куришь?
Нельзя сказать, что Аверя очень уж курил. Мог даже через нос дым пускать. Но до конца не пристрастился к курению: большого удовольствия оно ему не доставляло.
— А как же! — Аверя потянулся к пачке, хотел лихо вытащить одну, но, как назло, цеплялись сразу три. Он повлажнел от неловкости: у Льва, верно, рука заболела, пока Аверя отделял от трех одну.
Лев был очень вежлив, держался с ним как с равным: поднес горящую спичку вначале ему, потому прикурил сам.
— Слушаю.
— А чего там говорить… Работали две церкви старообрядческие, одну недавно закрыли. Почему? Небольшой городок, а две церкви метрах в трехстах друг от друга и одинаковые, только что названия разные: одна — Никольская, вторая — Рождественская. Ни к чему вроде держать обе. Нецелесообразно.
Лев улыбнулся краешками тонких губ. Он развалился на матрасе, пускал в потолок струи дыма и внимательно слушал. Его длинные ноги, туго обтянутые синими тренировочными брюками, с резинками у щиколоток и на поясе, свешивались, потому что на кончике матраса примостился Аверя. Горбоносое смуглое лицо Льва, досиня выбритое, четкое и напористое, с твердыми губами, все время было повернуто к Авере.
— Ну-ну, это очень интересно…
— Одну, значит, и прикрыли, сам епископ наш согласился, и батюшка обещался сдать ключи, сдать всю церковную утварь в епархию. А у нас церкви — будь здоров!..
— Она внутри была такая же, как и Никольская? — перебил Лев.
— Пожалуй, почище. Бывали в Никольской?
— Захаживали. Ну-ну, дальше.
— Обещался, значит, сдать всю утварь, а колокола, как по закону полагается, должны перейти государству на цветной металл…
— Скажи, а иконы там были?
— Видимо-невидимо, и очень старые, писанные, сказывают, настоящими художниками и еще в древности. На некоторых и Христа-то с богородицей не увидишь — сквозь гарь и копоть едва пробиваются. Едва выглядывают из потемок, как живые.
Лев задрыгал ногами и скосил глаза на Аркадия. Тот все еще спал, слегка посвистывая и отдуваясь. Кожа на полноватой шее под круглым подбородком собралась складками — в таком положении Аркадий казался просто толстяком.
— Ну, и что дальше?
— Уйма недовольных было.
— Еще бы!
— Особенно старики. Даже делегацию специальную командировали в Москву на Рогожскую, в епархию, к главе нашей церкви, чтоб помог. Кучу денег собранных проездили, а ничего не добились: архиепископ не поддержал. Горсовет решил пустить закрытую церковь под какое-нибудь помещение, под склад или что другое, а они ключей не дают. Знаете, какие у нас старики из церковного совета?
— Какие?
— Неподступные. Да и другие дедки не хуже их. Липован за стол не сядет не перекрестившись, стакан воды в киоске не выпьет, мимо церкви не пройдет… Да что там «мимо» — купола издаля увидит, и сама рука тянется ко лбу…
— А ты-то рад, что закрыли?
— Мне все равно: что была, что нет… Бог мне не мешает. Правда бабушка стала как больная, все охает и ахает по Рождественской, отца Василия жалеет. Любили его все, а епархия отправила его в соседний городишко Плавск. А этот, который остался, хочет его со свету сжить…
— Что ты говоришь! — воскликнул Лев и ударил себя по коленям. — Не думал, что такие страсти могут кипеть в вашем городке! И главное, среди кого — среди самих служителей культа… — И, сказав это, он вдруг так громко засмеялся, что Аркадий зашевелился и перестал посвистывать.
Он полудремал: одна рука его сгоняла надоедливую муху, что садилась то на плечо, то на грудь, безмускульную и рыхловатую, поросшую золотистыми волосками.
— А вы думали! — сказал Аверя, польщенный, что его слушают с таким интересом. — Батюшка из Никольской, отец Игнатий, вообще хотел отделаться от нашего, от отца Василия, писал на него, что он венчает дальних родственников, а это по церковному закону не положено, что… Ну и много там всякого.
— И сняли его?
— Нет. Народ отстоял. Стал отец Василий служить в Плавске, а к нам приезжать на службу только по воскресеньям.
— А служат оба в одной и той же церкви?
— Ну да.
— Ой и смех! Аркадий, да проснись же ты, соня! — Лев зажал ему пальцами нос; Аркадий замотал головой и открыл глаза. — Здесь такое рассказывают, а ты дрыхнешь!
Аркадий сел и стал тереть заплывшие со сна глаза.
— Скажи, — спросил Лев, — а почему закрыли именно Рождественскую?
Аверя напрягся, по лбу побежали морщины. Ах, как хотелось ответить и на этот вопрос!
— В точности сказать не могу, но думаю, потому, что Николай-угодник является покровителем всех моряков. Ну, а всякий рыбак — моряк, вот он и помогает нашим рыбачкам. Потому и оставили Никольскую.
У двери раздался женский голос:
— Можно? — И тотчас всунулось полненькое личико с челочкой на лбу — Вера. — Ого, у вас гости… Пошли, ребята, поедим в чайной, спиртовка что-то забарахлила.
— Я не против, — сказал Лев. — А вы знаете, куда мы завтра отправляемся? Не отгадаете. Не буду мучить. На рыбалку. Аверьян зовет. Вот дунайскую юшку отпробуем!
— Прекрасно! — Вера принялась рассматривать ногти. — Как быстро лак слезает…
— Ну забирай ласты и прочее, — сказал Лев, — только смотри потуже на ногах затягивай, а то потеряешь в реке.
— Будьте спокойны.
Туристы стали готовиться, а Аверя, сам не зная почему, все не уходил. Он стоял между двух палаток — ярко-красной и зеленоватой — со снаряжением для подводного плавания, завернутым в оберточную бумагу, стоял и чего-то ждал. А когда все пошли в город, пошел за ними и он.
Они были хорошо и модно одеты: у девушек — открытые цветастые платья, у парней — легкие светлые рубахи навыпуск, узкие брюки и сандалии на босу ногу.
На боку у Льва болтался «Зоркий», у Веры — маленький приемничек; из Москвы передавали последние известия. Аверя шел за приемничком и отчетливо слышал каждое слово.
Чувствовал себя Аверя очень хорошо. Приятно было идти в компании этих ярких, по-столичному одетых туристов, разговорчивых, веселых, которые могут ценить дружбу даже таких мальчишек, как он. Ему очень хотелось оказаться нужным, показать им что-то, предостеречь от чего-то, направить куда-то.
— Поймай-ка Бухарест, — попросил Аркадий, — до него отсюда рукой подать, в Москве не берет.
Вера стала медленно двигать красный диск на передней стенке. Передача наплывала на передачу: четкий мужской голос вдруг разбавлялся грустной музыкой, музыка сменялась свистом и грохотом джаза, а из джаза рождался быстрый, огненно-легкий веселый марш.
— Стоп, — сказал Аркадий, — законсервируй.
Они шли вдоль опустевших полдневных ериков, с распластанными на поверхности лягушками, шли под лязг медных тарелок, под ошалелые стуки барабана и переливы кларнета. Из одной калитки высунулся стриженый малыш и тут же в испуге убрал голову. Бородач, сидевший у кладей на лавочке спиной к дощатому заборчику, поднял на них мутноватые глаза, полные хитрости и лукавства, и провожал их глазами, пока компания не скрылась.
По дороге уточняли подробности завтрашней вылазки.
— Хотите, я возьму еще Алку, — предложил Аверя, но, вспомнив, как она критиковала на пляже его длинные трусы, пожалел.
Спас его Лев:
— Пожалуй, не стоит. Девочка она симпатичная, но, как мне кажется, не ахти как… — Он повертел указательный палец у лба. — Верно?
Аверя не совсем понял, что хотел сказать Лев, но, чтоб не показаться малосообразительным, кивнул:
— Точно… Не ахти.
Шедшие впереди девушки рассмеялись, и Аверя был вне себя от гордости.
— Только Фиму не забудь прихватить.
— Что вы, она такую юшку варит! Я на что уж рыбак, а и то три раза после оближусь.
— Скажи, а отец Василий живет в Шаранове или переехал в Плавск? — спросил вдруг Лев.
Этот вопрос немного удивил Аверю.
Странно, что Лев так интересуется религией. Точно третьим хочет вступить в борьбу двух батюшек за приход в Никольской церкви…
— Здесь… Хотите, покажу его дом?
— А это недалеко?
— Рядом!
— Ребята, я сейчас. — Лев быстро зашагал за Аверей по поперечному проулку.
А сзади раздавались иронические возгласы Аркадия:
— Честное слово, братцы, он с ума сойдет от них: с севера привез — мало, Смоленщину обшарил — мало…
«Чего это ему все мало?» — подумал Аверя, подводя Льва к поповскому дому. Он был такой же, как и все рыбацкие дома, может, более щеголеватый, со свежей белизной стен, с более затейливыми наличниками и новеньким — ни трещинки, ни зазубринки — шифером на крыше…
Возле чайной Аверя спросил у Аркадия:
— Из чего, вы думаете, этот дом?
— Как — из чего? Из камня. — Аркадий окинул взглядом прочный двухэтажный дом с большим и вполне современным обувным магазином внизу: обувь стояла на полках по размерам, и отдельно — мужская, женская и детская. Авере уже покупали полуботинки в мужском отделе.
— А спорим, что нет?
Немало шоколадин и поллитров было проспорено новичками из-за этого дома. Аверя тоже решил огорошить новых знакомых и блеснуть мастерством местных строителей.
— Нет, — сказал он.
— Из чего же тогда? Из дерева?
— Нет.
— Я больше и материала-то не знаю, из чего можно строить… Ага, из железобетонных конструкций.
Аверя покачал головой:
— Из камыша да ила.
Все шло как по-писаному. Лев разбил пари. Спорили на баночку черной икры. Потом в вестибюле перед лестницей вверх, где помещалась чайная, Аверя отломал от беленой стены кусок ила, — и все увидели камышовую стену: желтые стебли были пригнаны плотно, один к одному, — и победоносно улыбнулся.
— Ай-яй-яй! — вскрикнул Лев. — Вот так ил, великий ил… Да здравствует ил — первооснова жизни на земле!
Все четверо громко захохотали; не удержался и Аверя.
— С меня, — сказал Лев и подмигнул Авере, — хорошая будет закуска!
Аверя еще громче засмеялся.
Первым движением его было пойти за ними, он даже сделал несколько шагов по лестнице, но потом решил — неловко: денег у него нет, а смотреть, как они едят, нехорошо. Подумают, набивается на еду.
Аверя вышел наружу в тень, под акацию. Ждать пришлось долго; он присел на тротуар — Центральная улица была асфальтирована. Аверя прислонился спиной к стволу и поглядывал на двери чайной — скоро ли? Кто-то тронул Аверю за кончик уха. Не оборачиваясь, он схватил кого-то, стоящего за спиной, и поймал тонкую руку.
— А, Фимка, — сказал он чуть разочарованно. — Завтра едем рыбалить. Собирайся.
— Не хочу, — ответила Фима.
Аверю словно ударили по голове.
— Что-о? Повтори-ка!
— Не поеду.
И он увидел, что лицо у нее не такое, как всегда, когда она продавала семечки, когда встречала его у ериков. Оно было решительное. Как на Дунайце, когда она прыгала с лодок или плавала. Но не было сейчас той веселости и азарта в ее раскосых, отчаянно прорезанных глазах. Они были холодны и неласковы.
Редко видел ее такой Аверя.
— Фимочка, ты нам очень нужна… Не сердись на меня — ни пальцем, ни словом больше не задену… Ну?
…Фима поехала. Явилась она нарочно с опозданием. Все на причале и в лодке уже ждали ее — четверо москвичей, Влас и Ванюшка из пятого класса, веснушчатый, как ствол орешника, рыжеватый малый, предназначенный пугать рыбу, загоняя в бредень. И лодка уже была оформлена как нужно у причальщика: в лодочном паспорте — школьной тетрадке в корочках от «Геометрии» Киселева — стоял штампик со временем убытия и прибытия; и бредень с казаном принесены; и кой-какая еда к юшке припасена, а Фимы все не было.
Наконец ее тапки застучали по кладям. Поздоровалась со всеми, оглядела и вдруг спросила:
— А где Аким?
Пришлось соврать:
— Упал вчера на кладях, ногу вывернул.
Сказал это Аверя, не глядя в глаза, чужим, утробным баском. Фима, видно, не очень-то поверила ему.
— Хоть жив остался! — В ее глазах блеснуло что-то едкое, чего всегда побаивался Аверя.
Он даже пожалел, что позвал ее: сам бы сготовил юшку не хуже.
— Ну залазьте, трогаем, — сказал он.
Лодка стояла в широком, как пруд, ерике, и в нем отражались и дрожали от легчайшего волнения высокие камышовые плетни, низкие сараи, крытые камышом, и высоченные, в два человеческих роста, составленные шалашом снопы сухого камыша с метелками.
— Какая прелесть! — вздохнула Люда. — Как где-нибудь на Таити: хижины, вода, солнце, только что пальм нет…
— Не говори. — Аркадий уселся на свернутый бредень. — И юная раскосая таитянка. — Он кивнул на Фиму. — Кто бы мог подумать, что здесь так! Ух!
«И чего они в этом находят? — подумал Аверя и ногой оттолкнул от кладей лодку. — Камыша, что ли, не видали? Чудачье! Живут в таком городе, а удивляются разной ерунде».
— Влас, подай-ка бабайки, — попросил Аверя.
Лев насторожился и широко открытыми глазами посмотрел на Аверю:
— Как ты сказал?
— Да это весла у нас так называются.
— А-а-а…
Надев петли весел на штыри в борту, Аверя вывел лодку на середину ерика. Лодка была большая, тяжелая и двигалась медленно, но он греб во всю силу, и лодка пошла быстрей.
Фима сидела на корме, управляла веслом и довольно враждебно поглядывала на Аверю да и на туристов.
Аверя стал прикидывать в уме, чем мог провиниться перед ней, но так ничего и не нашел. То все было в норме: дружила, уважала, семечками задаром угощала, вечно торчала рядом, подчас даже всовывала свой остренький носик в сугубо мужские дела, и приходилось всякими способами избавляться от нее, а то… Ну какой овод ее укусил?
Вот лодка прошла под мостиком с березовыми поручнями, скроенными из еловых столбиков и досок, и вошла в узкий ерик, покрытый у берегов зеленой ряской. Местами ветви склоненных ив холодной листвой касались их лиц.
За поворотом увидели рыбаков: двое малышей, свесив с кладей ноги, удили мальков.
— Эй, Саха! — крикнула Фима кривоногому мальчонке с выбитым передним зубом. — Где Аким?
— С книгой! — Саха обреченно махнул рукой. — Какого-то Хмин… Хвин… Хмингвея читает — про африканские холмы и львов. Не вытащишь его!
Лев залился мелким истерическим смешком. Даже лицо руками закрыл, и только плечи его все сотрясались, как от падучей.
Аркадий тоже почему-то заулыбался, улыбались и Вера с Людой. Зато Аверя дико покраснел, куснул губу и насупился. Фима же передернула плечами, отвернулась от Авери. Правя веслом, она смотрела в воду, словно хотела проникнуть взглядом до самого дна и увидеть там что-то очень важное для себя.
Аверя греб из одного ерика в другой и нервно посвистывал. Люда не выпускала из рук «Зоркий», то и дело щелкала им, и не успела лодка выбраться из сложной системы ериков в Дунаец и через него в Дунай, как она доконала пленку и полезла в сумку за другой кассетой.
Потом их принял на свои волны Дунай и понес по одной из проток. Авере больше не нужно было напрягаться; он отдыхал и, скорее для вида, чем для дела, погружал и поднимал тяжелые весла.
Впереди были безлюдные низкие берега с редкими телефонными столбами. По правую руку шел длинный, заросший кустами и камышом, принадлежащий нам остров.
Изредка навстречу шли самоходные баржи и моторки; повстречался и колхозный сейнер «Рыбец». Аверя помахал двоюродному брату Мишке и во все горло крикнул:
— Много взяли?
Мишка что-то крикнул, но ничего нельзя было разобрать.
— Потише ты, лодку своим криком потопишь, — бросила Фима и как-то странно улыбнулась.
Аркадий почесал ухо и подмигнул Авере.
Авере все это очень не понравилось, и он решил: больше потакать ей нельзя.
— Ты куда правишь? Когда скажу — к берегу, тогда и будешь. Прямо держи.
— Не волнуйся, знаю. А утомился — дай Ванюшке бабайки, он не хуже тебя справится. Охотник ты вниз грести…
Аверю прямо-таки обожгла обида.
— Делай, что говорят, и точка! — Он так рассердился, что не мог придумать ничего более остроумного и хлесткого.
Его утешало то, что другие члены экипажа вели себя по-иному. Стоило Авере сказать Ваньке: «Дай-ка напиться», как тот перегибался через борт, черпал кружкой воду и подавал. Влас тоже с готовностью смотрел на Аверю и несколько раз заикался, чтоб он и ему дал немного погрести, хотя бы одним веслом.
— Погоди.
Аверя щегольски подымал и опускал весла, и течение стремительно несло лодку.
Мальчишки повиновались, и он старался покрикивать на них, говорить баском.
Одна Фима взбунтовалась и плохо поддерживала авторитет Авери. Она словно похудела за этот час, и тонкие брови ее так переломились углом вниз на переносице, отчего глаза еще более смотрели враскос. Ох и вредина она, оказывается!
Туристы жадно глядели по сторонам, щелкали аппаратом, кратко переговаривались меж собой.
— Далеко осталось? — спросила Вера.
— Сейчас пристанем, ополоснем бредешок — увидите, что у нас водится… Не обижаемся на Дунаюшко, кормит покамест рыбака.
Наконец лодка ткнулась в дно. Аверя сбросил брюки, в трусах проворно спрыгнул в воду и потащил лодку к берегу. Бултыхая ногами, слез и Влас и стал помогать.
— Фимка, собирать хворост, и побольше! — приказал Аверя. — Чтоб юшка была — во!
А когда она вместе с другими очутилась на берегу, подошел к ней и тихонько спросил:
— Ты чего это?
— Ничего. Сам все знаешь, не прикидывайся.
Аверя ничего не понимал.
— Что я знаю? Хоть бы людей постеснялась. Что подумают о нас?
— Очень плохо. Что ж им еще подумать?
Аверя насторожился:
— Это почему же?
— Объяснять надо?..
— Угу. — Аверя выдавил улыбку. — В компании с тобой и твоим Акимом вовсе оглупел…
— Да, — с жаром сказала вдруг Фима. — Аким прав был, а я тебя защищала… С утра ты называешь человека шпионом и гадом, а в полдень унижаешься перед ним, ползаешь в иле и ныряешь за раками…
— Ты откуда знаешь? — Аверя нахмурил лоб.
— Видела… Ходила купаться и видела.
Вдруг Аверя рассмеялся и хлопнул себя кулаком по лбу:
— Ах, подумаешь какое дело! Ну и что в этом такого? Да, и сейчас повторяю: думал, шпион, а потом выяснилось, что нет. Отличный парень. Так что же я должен делать — сторониться его? Так?
— Ты даже не понимаешь…
— Что я должен еще понимать? Твои глупости? А я тебя считал, Фимка, умней, и вообще…
— Холуем не будь, вот! — прервала его Фима. — Не выслуживайся перед ними. Себя держи как надо, ты ведь…
— Замолчи! — Аверя покраснел, и кулаки его сами по себе сжались. — Не тебе меня…
В это время к ним подошел Лев, уже раздетый, как и другие туристы, в одних плавках; спросил, что надо делать, и, видно, это спасло Фиму от Авериных кулаков.
— Может корзинку для рыбы носить, — сказал Аверя.
— О, это прекрасная должность! Где можно получить корзинку?
— Ванька, подай корзинку и тащи сюда бредень! — крикнул Аверя.
— Иду! — Ванюшка бегом принес намотанный на две палки бредень.
Аверя с Власом раскатали его над водой, зашли поглубже, и от течения полотно сети выгнулось дугой.
Далее, уже полусогнувшись над водой, потому что одна рука обхватила палку с сетью у самого дна, Аверя пустил на берег целую серию приказаний:
— Фимка, найди камни под очажок и собирай хворост! Ванька, бери какую-нибудь палку и скорей сюда! Остальные могут загорать и заготовлять топливо.
Желающих собирать хворост оказалось не так уж много. Люда, видно, задалась целью поскорей доконать вторую пленку. Вера — она, как и Люда, была уже в купальнике, — выше колен утопая в вязком холодном иле, с криком и хохотом тащилась сзади. Лев тоже вошел по пояс в воду и захромал с плетенной из чакана корзинкой — с такими корзинками шарановцы ходят на базар.
Аркадий, скрестив на жидковатой груди руки, ничего не делал. Он смотрел по сторонам и улыбался:
— Ну и смех! Ну и диво!
— Загоняй! — завопил Аверя.
И Ванюшка, взбаламучивая ногами воду, вовсю работая палкой, ринулся к движущемуся на него бредню. Четыре руки быстро подняли края сети.
— Ой, что это? Покажите мне, покажите! — К бредню ринулась Вера.
— Ничего особенного, — заметил Лев, — раки. — Он стал хватать их за спинки и бросать в корзинку.
Ему усердно помогал Ванюшка.
— Да куда вы их! — сказал Аверя. — Мы поехали не за раками, надо время беречь.
— Ничего-ничего. — Лев отрывал от сети рака, зацепившегося клешней за нитки. — Какая ушица без рака?
Во второй раз бредешок подвели к самому берегу. Ванюшка вопил во всю глотку и так старательно топал ногами и колотил по воде палкой, чтоб выгнать из всех тайников рыбу, что сильно обрызгал Аверю, и пришлось на ходу поддать Ванюшке коленом по мягкому месту.
На этот раз в сети оказались маленький шаранчик и с десяток разнокалиберных черно-зеленоватых раков; они норовили удрать, копошились и ползали, путаясь в ячеях.
— У-у-у, зараза! — Аверя в порыве злости стал вытряхивать раков из сети, однако девушки закричали на него и двумя пальчиками с визгом и криками принялись выбирать их.
Аверя грустно стоял в сторонке, опершись на палку бредня. В третий раз попались две плотички и десятка полтора раков.
— Не можешь ты гонять! — вздохнул Аверя. — Давай, Власик, мы сами.
Они долго шли с сетью. Аверя шел с глубокого конца, и временами ему приходилось плыть, загребая одной рукой. Довели сеть до места, где росла гигантская бородища зеленых, извивающихся по течению водорослей, обвели их бредешком, воткнув двумя заостренными концами в дно, и с шумом, баламутя ногами воду, бросились топтать водоросли; им помогал и Лев с Ванюшкой; потом быстро вырвали из ила палки и подняли сеть.
Пять небольших рыбешек и охапка раков прибавились в корзине.
К берегу подошла Фима, вошла в воду и, приподымая подол платья, заглянула в корзину:
— Ну и поймали!
— Не здесь, так на том берегу поймаем! — крикнул Аверя.
— И там не поймаешь! — уверила Фима.
Лев поудобней пристроил на носу сползшие очки и, состроив хитрейшую рожицу, подмигнул Вере:
— Ведь поймем, правда? Так поймем, что никто нас не поймет.
Вера заулыбалась ямочками на тугих щеках.
Фима исподлобья поглядела на Льва и, постепенно опуская подол, ушла на берег.
— Что это с ней сегодня? — спросил у Авери Лев.
Тот пожал плечами, почесал темя и нахмурился:
— Характерная. А нам придется к тому берегу податься… У нас как когда — то там, то здесь…
Смотав бредень с запутавшейся в нем травой и мелкими невыбранными раками, погрузились в лодку, и Аверя снова сел за весла. Фима с Верой остались разжигать костер. У берега, куда минут через десять подъехала лодка, густо рос зеленый камыш, и в нем можно было ходить, как в джунглях: плавни наступали на реку.
Здесь нельзя было повернуться с сетью, и Аверя с Власом ставили бредень неподалеку, а сами выгоняли из зарослей рыбу. И тут ее было не густо. Редкая рыбешка забегала в сеть, зато раков было хоть отбавляй. Они беспрерывно шуршали в корзинке, наиболее резвые по спинам других вылезали наружу, и Лев предупреждал их бегство, стряхивая внутрь.
— Дела… — вздохнул Аверя, когда они отправились на лодке назад. — Не помню, когда такое было.
Теперь управлял лодкой Влас. Ванюшка сидел в его ногах. Люда со Львом на заднем сиденье, а Аркадий с корзиной устроился на днище перед Аверей. Раскрыв корзину, он трогал пальцами раков; взял одного за панцирь, перевернул кверху ногами и, рассматривая его, улыбнулся.
— Панцирь — что у рыцаря средневекового! Да и хвост в отличных латах. А глазищи — ну как фары «Москвича». Смех! А это что еще такое? — Рот у Аркадия открылся от изумления. — Смотрите, рачата! Крошечные, еще прозрачные рачки, но точно как большие! — Он протянул Авере рака, на панцире и животе которого шевелились мельчайшие, не больше муравьев, рачки…
— Видал. — Аверя вздохнул и налег на весла: сейчас плыть было труднее — сильно сносило течением. — Из икры только-только повылазили…
— А ты, Левка, видел? — Аркадий протянул рака.
Лев двумя пальцами взял его за спинку и долго рассматривал с Людой.
— Забавно, — сказал он, возвращая рака. — Давай-ка, Аркаша, поменяемся местами.
И, держась за плотные плечи Люды, двинулся на его место.
«Помочь хочет, что ли?» — подумал Аверя. На него снизу смотрело горбоносое, худощавое лицо.
— Знаешь что… — тихо сказал Лев и опустил за борт руку, так что сквозь пальцы журчала вода. — Мне нужно несколько икон. Поможешь достать? На новые я уже не претендую, бог с ними, с новыми… Согласен и на старье, на закопченные и треснувшие.
— Эх, да поздно ты мне!.. — Аверя чуть покраснел, назвав Льва на «ты». — Сказали б раньше. Мой Федот штук семь порубил во дворе топором…
— Что ты говоришь! — Лев внезапно повысил голос. — Топором! Да я бы купил их… Деньги бы отдал… Может, их еще спасти можно… Покажешь мне их?
— Вряд ли. На дощечки наколол. Самовар впору растапливать. Если хочешь, посмотри, может, что и уцелело.
— Я их реставрирую, склею… Сегодня, хорошо?
— Можно и сегодня. — Аверя стряхнул со лба капли пота.
Когда они вылезли на берег, Фима уже развела огонь в наскоро сложенном из камней очаге. Она потрошила пойманную рыбу, снимала деревянной ложкой с ухи пену, солила, перчила, подкладывала лавровый лист.
Аверя тем временем нарезал ножом две большие, слабо просоленные дунайские сельди — одну из вкуснейших рыб на свете! — и вздохнул:
— Нет улова, так хоть это пожуем… — И тут же совсем другим голосом приказал: — Влас, а ну распутывай сеть, живо! И выбери все водоросли: останется хоть одна травинка — к казану не подпущу. Ясно?
— Ага. — Влас, прихрамывая, поплелся к лодке.
— А ты, Иван, чего баклуши бьешь? Марш за хворостом, ну?
— Да пусть сидит, устал, наверно, — вступилась за него Люда. — Давай я схожу.
— Ничего он не устал, притворяется! Кому сказано!
Ванюшка поднялся с земли.
— Не смей идти! — крикнула вдруг Фима, сверкая глазами. — Сиди здесь, понял? Ты что, в работниках у него? За юшку нанялся?
Ванюшка затравленно смотрел то на Аверю, то на нее, не зная, кого слушаться.
— Давно не ревела? — Аверя холодно блеснул в ее сторону глазами.
— А ты… ты… — Голос ее как-то сломался, осекся. — В батраки нанялся вот к этим? А?
Аверя налился кровью, левое веко его задергалось, как у контуженного. Он часто задышал.
— Иди, чтоб тебя!.. — завопил он вдруг на Ванюшку, и ему стало легче.
Ванюшка проворно побежал, стал ползать по земле, собирая хворост, то и дело поглядывая на Аверю и всех, кто был у костра. Фима уселась в сторонке.
Вначале, по рыбацкому обычаю, почерпали из мисок рыбный отвар — его было немного, потом, отдельно, съели рыбу: едва досталось по рыбешке на рот. А уж потом принялись за раков.
Аверя с остервенением вывалил в казан с кипящей водой треть раков. Они заполнили весь котел, заметались, зашевелились, потом понемногу притихли и стали краснеть.
Сваренных раков Аверя ивовой рогулькой вывалил из казана на траву и снова засыпал полный казан.
Все начали хрустеть клешнями, панцирями, шейками, доставая из них белое, покрытое розоватой пленкой, вкусное, чуть сладковатое рачье мясо.
Фима, подвернув под себя босые ноги, отворачивала панцирь, выедала и высасывала содержимое. Ловко извлекала из раковой шейки полосатый хвост, жевала и выплевывала тонкие ножки.
Аверя не узнавал ее. Он не знал, что люди могут меняться за такой короткий срок. Ну что она взъелась на него? Почему при всех оскорбляет? Будь это не она, а кто-то другой, уж он показал бы. Совсем распустилась…
— Ну как вам раки? — спросил он у Люды. — Не повезло нам, извините уж… На безрыбье, знаете, приходится… хоть раки…
— Замечательно! И нечего тут извинять… Никогда не ела таких свежих и в таком количестве.
— У нас ведь все не так, — поддержала разговор Вера. — Да и бывают они редко.
— А вам? — обратился Аверя к Льву и Аркадию.
— Слыхал, что наши бабайки сказали? Присоединяемся. Целиком, — жуя, сказал Лев.
Аверя засиял. Вдруг он вскочил, подбежал к куче раков, схватил обеими руками ворох и отнес Люде, второй ворох — Вере, затем — мужчинам. У казана осталась небольшая кучка.
— Кушайте, пожалуйста, — сказал он, — кушайте на здоровье…
— А ребятам что? — поднял голос Аркадий. — Мы ведь, можно сказать, и не ловили.
— Кушайте, внимания на них не обращайте… Живут около этих раков. Не впервой… Наедятся еще. Раки от них не уползут.
— Точно, — подтвердил Влас, выбиравший из оставшейся кучки рака покрупнее.
Фима встала, начала искать тапки. Нашла, сунула в них ноги, взяла свой порожний мешочек — все было высыпано в общий котел.
— Ты что? — Аверя поднял голову.
— Ничего. Глаза ее вдруг гневно блеснули. — Ненавижу тебя! У… Ты… Подхалим! — Она резко повернулась от них, жующих и хрустящих, от их ртов и недоуменных глаз, повернулась и быстро пошла прочь.
— Какая! — сказала Вера. — А личико-то добродушное.
— Я ей дам еще! — Аверя сплюнул сквозь зубы. — Она у меня за такие слова ответит! Никто так не обзывал меня… Жадина! Раков пожалела… Да я их… — Он вдруг вскочил и в сердцах стал с яростью топтать лежавшую перед Власом и Ванюшкой жиденькую кучку.
Аркадий внимательно смотрел на него.
— Ух ты какой, оказывается! Да вы стоите друг друга. — Он провел рукой по волосам. — Нельзя так с ней: девчонка ведь все-таки, слабый, так сказать, пол.
— Ну и что? — остервенело спросил взъерошенный Аверя.
— Нельзя так с ней… Понимать надо. Не рыцарь ты, братец.
— Не знаете вы ее, она хуже другого мальчишки! Только кажется тихонькой. Уж я знаю! Будешь здесь рыцарем…
В разговор вступил Лев. Он покачал головой:
— Ты должен помириться с ней. Нельзя же так.
— А зачем мне с ней мириться? — прямо-таки напустился на Льва Аверя. — Мне что, скучно без нее? Солнце без нее не светит?
— Вот какой ты несносный… — Лев вздохнул. — Мне неприятно, что ссора случилась во время нашей поездки. Словно мы виноваты в чем. Помирись с ней. Прошу тебя…
Аверя подпер кулаками подбородок, уткнув локти в колени.
— Обещаешь?
— Если сама прибежит. А чтоб я первый…
— Первым — нет?
— Ни в какую!
— Какой характерный! — весело пропела Вера. — Не хуже Фимы.
Через час лодка плыла назад по Дунаю.
Против ветра и сильного течения трудно было идти, и Аверя напрягал все мышцы. Лодка медленно продвигалась вверх, или, как говорили в здешних местах, в гору. Весла скрипели, пеньковые петли стонали, и Аверя несколько раз брызгал на петли воду, чтоб не перетерлись.
Его лицо напряглось, на лбу и руках вздулись жилы, и он, сколько было сил, упирался ногами в ребра лодки. На руле сидел Влас и правил веслом, тоже через пеньковую петлю продетым на металлический штырек у кормы.
Авере было очень неприятно: Фимка опозорила его в глазах туристов. Рыбалка и без того не удалась, и все же они были довольны раками. Да Фимка все отравила. Но мысли о ней все реже и реже мучили Аверю, потому что грести становилось все труднее. Лодка была перегружена, и он скоро начал выдыхаться.
— Дай мне одно весло, — попросил Ванюшка.
— Сам справлюсь, — буркнул Аверя, да и не он буркнул, не он, а что-то сидящее в нем, упрямое и независимое от него, и через секунду он пожалел, что не согласился.
«Давно пора мотор завести, — подумал он вдруг, — поставить «шестисилку» — «Л-6». Налил бензина, дернул ногой рычажок — и готово! Застучал, затарахтел, понес тебя с любым грузом, только рулем управлять не забывай. А ведь лет пять назад в Шаранове был один-два мотора, а теперь их столько, что и рыба, наверно, хуже ловится в Дунае, потому что распугана всей этой техникой… Придется отца уламывать, чтоб меньше пил, на мотор собирал, — не так это дорого, если разобраться. Вот продадут всю клубнику и купят мотор…
Ветер крепчал, бросал в лицо пену.
— А она не заблудится? — спросила вдруг Люда.
— Дойдет.
— А места там не топкие?
— Выберется.
У Авери просто не было времени думать сейчас о постороннем. Он стал держать курс на тот берег, под укрытие острова: там и ветер не так дует и, говорят старики, там и течение не такое сумасшедшее.
— Подвинься, помогу, — сказал вдруг Лев.
— А вы можете? Смотрите, мозоли натрете. — Уж очень не хотелось ему впрягать в это дело приезжих.
— Не хочешь — не надо. — Лев пожал плечами.
Авере было трудно. Даже паруса захватить не догадался, дурень! Он вдруг вспомнил Маряну, ее лодку, под парусом шедшую с острова. Как бы она себя вела, если б очутилась с ними в лодке и ловила этих злополучных раков? Может, он и в самом деле слишком покрикивал на ребят и выслуживался перед приезжими?
Но ведь они гости, это понимать надо… Потом, дали ему на день ласты и маску, и он до вечера плавал, плавал тайно, чтоб никто не увидел и не стал просить: потеряют еще. Правда, в эту пору вода в Дунае мутная, но кое-что он все-таки увидел: змееподобные водоросли, искорки рыбешек и клешнястых раков на дне… Эх, жаль, сегодня надо возвратить маску с ластами.
Руки его стали затекать, пальцы едва держали толстые весла.
Аркадий шагнул к нему, отодвинул Аверю плечом — Аверя и не сопротивлялся, — взял обеими руками весло, и они, стараясь грести в лад, ударили ими по воде.
— Скоро опять загребем к тому берегу, — выдавил Аверя, — а то перед Шарановом Дунай будет широк — с километр.
— Идет, — сказал Аркадий, — дашь тогда команду.
Глава 6 КОРЫТНЫЙ БОЙ
Фима быстро шла по едва заметной тропке. Временами тропка терялась в болотце, и под ногами чавкала вода. Тапки промокли насквозь. Осока, шершавая и острая, хлестала по ногам.
Фиму душила обида. Нет, обидно было не из-за тех слов, которые бросил ей Аверька. Ее сердило не его самоуправство и покрикивание на Ванюшку и Власа. Нет. Все это было пустяком. Он стал совсем другим, когда в их город приехали эти туристы…
Нет, он таким не стал. Он таким был давно. Может, не всегда, но давно. И она не заметила, когда…
До сих пор не подозревает Лев, что это именно Аверька задержал его и говорил о нем такие вещи, а потом…
В одном месте Фима согнала с берега трех белых цапель, в другом — рябого журавля, охотившегося за лягушками. До Шаранова шла она долго, часа два, а может, и больше, прежде чем увидела крайние полузаросшие ерики, кое-как постланные клади…
Черная гадюка быстро переползла перед ней тропинку.
Фима вскрикнула, отпрянула, прыжками добежала до кладей, вспрыгнула на доску и быстро пошла. Потом чуть умерила шаг: куда торопиться?
Мать сразу же отправит на стройку дома. Может погнать на Центральную с семечками. До чего это противное дело — лучше уж ил месить и мазать стены, чем сидеть возле корзинки и смотреть на проходящих, и ведь почти все знакомые! Когда мимо проходят ее учителя, она отворачивается или смотрит вниз, а когда однажды мимо прошагал директор школы Дмитрий Алексеевич, так она прямо со стыда лицо в платок уткнула.
Сидит, как какая-то жадноватая бабка, которая и стакан-то верхом насыпать жалеет. А что сделаешь? Мать прямо сказала еще два года назад: «Не нравится — на все четыре стороны, крест можешь и не носить, бесстыжая, но чтоб по дому все делала, что велю. Кто не работает, тот и не ест, — это еще в Библии сказано, хоть и красуется теперь на улице на красных полотнищах».
До чего же неладная у нее жизнь! А тут еще этот Аверя… Ну был бы он другим — обидно не было бы. А то ведь Аверя — смельчак и силач, такой веселый и азартный, с ним и минуты не заскучаешь, и вдруг такое… Даже в голове не укладывается.
Брату Артамону хорошо — ушел. Стал капитаном сейнера. Как женился на Ксане, так привел по ерику к дому лодку, погрузил в нее свой скарб: два чемодана, связку книг, радиоприемник «Аккорд», несколько складных бамбуковых удочек и спиннинг, узел с простынями и подушками, — погрузил, помахал ей и родителям рукой и отчалил. Ксана, ладненькая, с веселыми глазами, босая, шла рядом с мужем и поднимала на пути лодки невысокие мостки: под высокими Артамон проезжал согнувшись… Вот и все. Почти без ссор, без ругани. Не пожелал — и уехал. Отец хотел было поругаться с ним, пошуметь накануне, да Артамон, хоть и капитан, да не любитель шума и всякого такого.
— Спокойней, батя, — сказал он, — и на хохлацкой стороне мне будет неплохо: они нам отдают полхаты. А со временем и сами отстроимся. Помогать тебе буду по-прежнему. Не думай и в уме не носи, что зло на тебя таю. Приходите с матерью — добрыми гостями будете.
— Некогда нам на вашу сторону шататься. Плохо ты с нами поступил. Что старики говорить будут?
— Как бы я жил, отец, в одной комнатушке? Не холостой ведь уже.
— Хотел бы — жил бы. В новом доме побольше выделил бы. Две не могу — у меня и Грунька с Фимкой, и бабка, и Галактион. Все так получается, когда бога забывают. Грех большой на себя принимаешь. Не будет тебе спасенья.
— Чего опять про это, отец! Уже немало говорено, думаю прожить без бога как-нибудь, и уж здесь мы с тобой не сойдемся ни в какую.
— Езжай. — Отец махнул рукой и пошел в дом не оборачиваясь.
Мать — та мало говорила, та больше плакала, и отец сказал ей в первый вечер:
— Ревешь теперь? Реви… Не уследила. Я-то все на рыбе, по гирлам да кутам маюсь, а ты из хаты не вылазишь, при детях все… Откуда же они у тебя такие? В церкву, видать, плохо водила, слов к ним не знала, ласки в душе не держала. Суровая ты с ними больно…
— А Груня… — отвечала мать. — Моя она дочка, Груня, послушливая, сердешная… А Локтя?
В этом мать была, пожалуй, права. Впрочем, в отношении Локти не совсем. По утрам Фиму будил материнский окрик:
— Локтя, к иконам!
Мальчонка долго ворочался в постели, протирая глаза, зевал. Тогда с него летело сорванное одеяло. Он умывался, становился под иконы, тоненьким голоском бормотал «Отче наш». Все это когда-то велели проделывать и Фиме, но только до четвертого класса. В четвертом она сказала — нет. Один галстук ее мать сожгла, другой спрятала невесть куда. Поколачивала, не давала есть, рвала библиотечные книги. Фима скрывала это в школе. Стыдно было такое говорить о матери.
Третий галстук — на покупку его дал деньги Артамон — мать не тронула.
Многое изменилось в ее жизни. Даже смешно было, что когда-то, маленькой, ей нравилось ходить с матерью в церковь, торжественную и высокую, всю в позолоте таинственных икон, в разноцветных стекляшках окон, нравилось слушать церковный хор, прерываемый иногда голосом священника. Даже сам запах церковных свечек, мигание языков огня, подпевание женщин в белых платочках — почему-то все в их церкви ходят в белых платочках, и у нее такой был, только маленький, — во всем этом было что-то загадочное и странное.
«Все от бога, — говорила мать. — Хочешь быть счастливой — молись; хочешь хорошо учиться — молись; хочешь, чтоб отец поймал много рыбы и хорошо заработал, — молись…»
И Фима молилась. В церковь она ходила, как в кино.
Комнатка Артамона освободилась, но не стало в отцовском доме просторней и светлей. Несколько икон, которые брат вынес из своей комнаты, вернулись на свои привычные места. Вначале Фима думала, что только мать такая упорная, что с отцом легче договориться. Ничуть не бывало. Разве что отец был сдержанней и принимал спор. Узнав в школе, что Гагарин на своем «Востоке» впервые взлетел в космос, Фима ворвалась домой:
— Отец, слыхал? Где ж он, твой бог? Если б Гагарин увидел его — сказал бы.
Отец, расчесывавший у зеркала бороду, холодно посмотрел на нее:
— А он и не хотел ему показываться. Велика честь.
— За тучку спрятался? Или куда еще?
— Спаситель нам не докладывает. Его дело.
— А чего же он пустил туда космонавта? Он ведь всемогущ. Мог бы и не пускать.
— Знать, такая его воля. Захотел — и пустил.
— Как же мог он это захотеть, если Гагарин своим полетом доказал, что в природе все не так, как пишет Библия?
— Не нам знать. Иди-ка лучше помоги матери грядки вскопать. Больше пользы будет, чем насмехаться над родителями.
— Ох и жалко мне тебя, отец!
— Ну иди-иди, некогда мне с тобой… Много тут вас развелось. На разные лекции тащут… Деды что, глупые были?
— Не глупые, а темные! — запальчиво вставила Фима.
— Я тоже, может, у тебя темный?
— Конечно же, самый что ни на есть темный!..
Отец резко повернул к ней лицо:
— Проваливай отсюдова… Ну? Чтоб дети в старое время такое отмочили родителю своему… Вон!
Хоть не дрался. Вот так и жили они. Даже Локтя и тот плохо слушался Фиму. Бубнил молитвы и, нарядненький, причесанный, прилизанный, ходил с матерью в церковь.
— Дурачок, — говорила ему Фима, — где он, твой бог? Помог ли он тебе хоть раз?
Локтя хлопал глазами и пожимал плечиками.
— Мама говорит, что да. Если б не господь, у меня бы скарлатина не прошла: мама все молилась за меня.
— Врачи тебя спасли, а не ее молитвы.
— Не знаю, может быть… Лысый сказывал, что видел на кладях черта, сидел и жрал Пахомову корову, а хвост с кисточкой в ерик свисал…
— А ты и уши распустил?
— Да, — серьезно отвечал Локтя, — наверное, бога нет… Не буду больше верить.
А через день бабка кричала:
— Локтя, чисть ботинки. В церкву!
И Локтя бросал недовырезанный кинжал, чистил ботинки и чинно шагал с высокой, негнущейся, как весло, старухой в церковь…
Визг, вопли, плеск воды отвлекли Фимку от мыслей. На широком водном пространстве, там, где сходилось несколько ериков, образовав что-то похожее на пруд, развернулся морской бой, а точнее — корытный. Десятка два малышей на металлических корытах носились по пруду и с воплями брызгались водой. Острая зависть кольнула Фиму. Давно ли сама участвовала в таких вот боях! Утащит потихоньку у матери корыто, спустит с кладей, сядет в него и, работая, как веслами, двумя фанерками, понесется по знакомым ерикам…
Что делать! Лодку у взрослых не выклянчишь, с собой на рыбалку берут редко — не до игр взрослым: надо рыбу ловить, чтоб домой вернуться не с пустыми руками. А желание поплавать в какой-нибудь посудине у рыбацких детей велико…
Был среди ребят и Локтя. Он важно сидел в огромном — и Фима здорово плавала в нем! — оцинкованном корыте и, отчаянно работая руками, брызгался, лил воду, как водомет, в корыто рыжеватого Толяна. Конечно, Локтя сидел не в каком-то там корыте, а в новейшем, оснащенном ракетами с ядерными боеголовками судне!
Судно Толяна быстро наполнялось водой, но его брат — Костик, сидевший в том же корыте за братниной спиной, — усиленно выливал воду ладонями, сложенными в черпачок. Рядом с Локтей, борт о борт, отважно сражались кривоногий Саха и Лысый. Один Толян почему-то воевал не на их стороне.
В неразберихе и горячке боя невозможно было понять, кто против кого воюет.
Локтя сражался отчаянно; крестик на его шее взлетал на тесемке, болтался из стороны в сторону. Чтоб крестик не мешал, не кололся, Локтя откинул его назад, и теперь он прыгал на лопатках. Чтоб он не потерялся и его нельзя было снять, мать хитро завязала тесьму вокруг шеи.
Увидев, что корабль брата потихоньку наполняется водой, Фима крикнула:
— А воду кто будет черпать за тебя? Дуралей!
И ушла. Ей было не до боя. Хорошо бы сходить сейчас к Маряне и рассказать обо всем. Она поймет. Недаром старшая пионервожатая как-то сказала ей: «Ты, Марянка, сама еще не выросла из галстука, и тебе он очень идет». Лучше не скажешь. Второй год она у них в отряде, а все и забыли прежнюю — Нюську, десятиклассницу, плосколицую и скучную: даже бегать по-настоящему не умела или считала это ниже своего достоинства. Даже кричать и смеяться не научилась за свои семнадцать лет! Голос у нее какой-то однотонный: бу-бу. Как заладит на одной ноте, так даже про Курчатова слушать не хочется! И все были как-то сами по себе.
А с Маряной все по-другому: бегать — даже Аверька ее не перегонит; хохотать — в этом она тоже мастер; станет рассказывать об Америке — словно сама выходила на демонстрации с неграми. Впрочем, не очень-то любила Маряна сидеть в классе и рассказывать о чем-либо: таскала ребят на сейнеры, в холодильник рыбозавода, где даже в тридцатиградусную жару, как на Новой Земле, ниже сорока; даже на рыбопункт в Широкое возила — добилась специальной фелюги для ребят.
Она и летом успевала кое-что сделать. А ведь времени-то у нее в обрез: на патрулирование и то не смогла выбраться…
Пойти бы к ней. Да она на рыбозаводе. Там у нее работы будь здоров: то и дело приезжают суденышко «Байкал» да фелюги с рыбой.
Не до Фимы ей сейчас. Да и неловко жаловаться на Аверю — еще подумает чего… Нет, с ней можно поговорить просто так, и не о нем, а просто обо всем, вспомнить про Одессу, куда они должны поехать всем отрядом в начале сентября… Ох, как хочется Фиме побывать на Потемкинской лестнице и особенно в порту! Говорят, там порт громадный и пришвартовываются у стенки суда из всех стран мира. Скоро туда придет «Слава» — матка китобойной флотилии, промышляющей у ледяной Антарктиды китов. Побывать бы на ней!
Фима и не заметила, как добрела до дома.
— Корыто не брала? — закричала на Фиму мать, выскакивая из калитки.
— Зачем мне твое корыто!
— Может, Локтя стащил?
— У него и спрашивай.
— Не видала его?
— Больше у меня нет дела, как за ним следить! — фыркнула Фима.
Мать в сердцах хлопнула калиткой и пошла к дому, — как только работать не позвала? Фиме не захотелось идти к себе, и она решила погулять по соседним улицам-ерикам.
Долго гулять не пришлось. По доскам застучали чьи-то твердые босые пятки, и ее дернул за платье Саха. Лицо у него было мокрое, замурзанное и очень бледное.
— Фи… Фи… Там… там… Лок… Лок…
Что-то толкнуло ее изнутри.
— Что случилось? — Она схватила за плечи и затормошила Саху. — С Локтей?
— Д-да-а… — выдавил Саха.
— Что же, что? — Ее уже всю трясло.
— У-у-у-у…
— Что «у-у-у-у»? — передразнила она его. — Ты паровоз или человек?
— У-у-топ! — наконец выговорил Саха, и стала видна брешь выбитого в драке зуба.
— Где? — закричала Фима.
Саха помчался по кладям, она — за ним.
Бежали целую вечность. Саха остановился у глубокого ерика, в котором уже не стрелялись водой «боевые корабли», а уныло покачивались обыкновенные корыта. Большинство команд покинули свои «суда» и, дрожа от холода и испуга, жались на мостках.
Двое ребят постарше ныряли в ерике.
Фима скинула платье, бросилась с мостков и стала носиться у самого дна, прочесывая ерик. Он был широк, этот ерик, но для нее, привыкшей к Дунайцу и даже Дунаю, он казался не больше лужи.
Ее руки лихорадочно обшаривали вязкое, холодное дно.
Вот она нащупала Локтю, схватила за плечо и тотчас вынырнула.
— Подержите! — крикнула она, держась за край клади и подтягивая к ребятам брата.
Ребята, стоявшие вверху, с плачем и криками бросились наутек. Мальчишки постарше, искавшие Локтю, подплыли, поддержали его. Фима вылезла на доски, подняла Локтю — он слабо зашевелился — и стала делать искусственное дыхание: подымать и опускать его руки.
Изо рта Локти полилась вода, его стало рвать чем-то зеленым, и скоро, бледный, вялый, он уже сидел на досках, прислонившись к плетню. Когда он совсем отошел и кровь потихоньку стала приливать к лицу, он вспомнил все, что было, дико испугался и заплакал.
— А корыто где? — сердито спросила Фима.
— Оно вон там затонуло. — Черноволосый паренек показал рукой.
Фима нырнула, быстро нашарила корыто и за веревку с помощью ребят вытащила на клади.
— Ох и попадет тебе от мамки! — крикнула Фима. — Корыто ей надо.
Локтя нервно теребил на шее петлю от крестика. Потом посерьезнел, сморщился, по груди побежали слезы, и его прорвало, да так, что, наверное, за плавнями, в степи было слышно.
— Замолкни ты у меня, а то как дам сейчас! — закричала Фима. — Как тонуть, так ничего — не ревешь, а как домой идти, так…
Она взяла за край корыто и потащила по кладям. Локтя, утирая слезы и все еще всхлипывая и размазывая грязь на щеках, плелся сзади.
Вдруг Фима остановилась, столкнула корыто на воду, опустилась в него, силой втянула Локтю, посадила у себя меж коленями, загребла ладонями и двинулась к улице Нахимова.
Перед ее лицом было худенькое, в гусиной коже, тельце брата с крестиком меж лопаток, и ей вдруг стало остро жаль его: растет один, с малышами, все его братья и сестры слишком оторвались от него по возрасту, и, в сущности, им нет до него дела. Ох, Локтя, Локтя!
Фима мчалась, кое-где вспугивая удивленных гусей, которые считали себя полноправными хозяевами ериков, сутками плавали и ныряли тут, показывая небу свои хвостики и пожирая насекомых и водяную траву. В одном месте ребят облаял пегий ушастый щенок, лаявший для солидности басом. В третьем месте они едва не завалили мостик, стукнувшись об него с разгона. Ничего, корыто не помялось.
Фима не причалила к своей калитке. Остановилась за углом, помогла Локте вылезти на клади.
— Сразу домой не иди, дай мамке остыть… Что брал корыто — не признавайся. Я его незаметно внесу.
Локтя смотрел на нее восхищенно, был еще более жалким, и Фима подумала: «Какой же он еще неразумный криволапый щенок!»
— А ты как же?
— Как-нибудь…
Чьи-то шаги заскрипели неподалеку, и Фима втиснула себя с корытом под доски. Над головой прошагал дед Акиндин, — на ее волосы посыпалась пыль.
Когда шаги замолкли, Локтя высунулся из-за толстой лозы и дал ей сигнал:
— Можно… Никого.
Фима вылезла наверх, перевалила через заборчик в огород корыто и незаметно потащила его в сарай.
Глава 7 «КАПИТАН СХОДИТ ПОСЛЕДНИМ»
Два дня помогала Фима обмазывать дом. Работников на этот раз было негусто. Груня на рыбоприемном пункте Широкое строила с колхозной бригадой клуб. Отец тоже был на лову. Бабка Никодимовна чуть оправилась и подносила ил.
Локтя выполнял подсобную работу: подавал инструмент и воду, чистил к обеду картошку, бегал за хлебом, сыпал уткам кукурузное зерно; однажды был даже послан торговать семечками и принес рубль сорок пять копеек.
Два дня Фима не выходила в город. Иногда вспоминала об Авере. Верно, все-таки он не так виноват, как ей казалось. Плохо, конечно, что он так быстро сдружился с тем, кого два часа назад обзывал гадом. Ну что ж, взрослые говорят, без недостатков людей не бывает. А то, что он угождал этим туристам и покрикивал на своих — хотел похвастаться властью, — он ведь из таких… К тому же они гости, москвичи, может, скоро уедут… Почему бы не показать им свою щедрость?
На третий день после обеда мать сказала ей:
— Чего не пожалуешься? Притомилась ведь?..
— Ничего, — сказала Фима.
— Вижу я твое «ничего», иди прогуляйся… Лицо у тебя от работы стало плохое, загар начал слазить.
— Могу пойти, мне все равно. — Фима пожала плечами. — А Локтю отпустишь?
Мать сморщила лоб, поглядела на нее, потом перебросила усталый взгляд на сына:
— У тебя что, дружков, окромя него, нету?
— Не хочешь — не отпускай, пойду одна.
— Ну пусть идет, только смотри у меня… Чтоб… Сама понимаешь…
Наверно, мать боялась слишком сильного влияния ее на своего меньшого.
Они умылись, переоделись и вышли.
Три дня не хотела Фима видеть Аверю. Может, поэтому и возилась с такой старательностью с илом. А теперь ничего, теперь она не возражала бы, если бы он встретился. Ну, поздоровались бы, может, перекинулись бы словом-другим…
Пройдя последний ерик, вышли к закрытой Рождественской церкви. Локтя чуть отстал и быстренько перекрестился двумя пальцами, по-старообрядчески.
Фима сделала вид, что не заметила. Церковь белела прочным камнем, огромная, массивная. Купола ее улетали вверх, свежевыкрашенные серебристой краской, и по ним соскальзывали лучи послеобеденного солнца. Церковь была ограждена новенькой металлической оградой, над калиткой высился ажурный крест.
И закрытая, церковь излучала тяжелую прохладу и мощь и совсем не собиралась сдаваться.
Увидев новый купол ее, Фима вспомнила прошлогоднюю историю и сказала брату:
— Отремонтировали… Помнишь, как горел купол? Молния угодила в крест.
— Помню.
— Совсем обнаглела молния — Илья-пророк послал в святой крест. Бога не побоялся.
Локтя молчал.
— Дрянь, видно, дела на небе, если по своему же кресту бьют, на котором был распят ихний Христос. Но ты, Локоток, не огорчайся: поставили к кресту громоотвод и весь электрический заряд теперь будет уходить в землю.
— А чего мне бояться?
— А вдруг сожжет? Куда тогда будешь ходить молиться с мамой?
Локтя ничего не отвечал.
— Тогда в другую церковь пойдешь, у нас ведь их две… Тебе повезло.
Локтя обиженно надул губы:
— Я хожу с мамой просто так — водит, ну и хожу. Я маленький и должен слушаться.
— А как же. Особенно если страшно ремня.
В это время они увидели Маряну. Она летела по тротуару; платье било по коленям и вилось сзади, как волна за пограничным катером.
— А-а, Фим, привет! — Она с ходу остановилась. — Эх и Аверька! Маху дал, а?
Фима посерьезнела: может, хочет разыграть?
— А зачем тот снимал, что не положено? Правильно задержал.
— Ты куда сейчас? — спросила Маряна.
— С братишкой хочу погулять. Три дня месила тесто для новой хибары.
— А… — Маряна о чем-то задумалась. Потом вдруг спросила ее: — Была в кино?
— Некогда. И деньгами батя не сорит.
— Слушай, вчера привезли новую картину. Сходи. Обязательно.
— Что за кино?
— Понравится. Очень даже. В твоем духе. Ну, я побегу. Ведь с работы отпустили: надо Машку посетить, прихворнула что-то. Да еще в магазин забежать — купить что-нибудь ей. А тебе вот, — Маряна протянула Фиме блестящую монету, — полтинник.
— Да что ты, Маряша! Не нужно мне. Что я сама не…
— Бери, и точка… Всего!
И не успела Фима придумать, как лучше возвратить деньги, Марянино красноватое платье уже летело далеко впереди.
— И на меня хватит? — спросил Локтя.
— Если сядешь на первый ряд — хватит Будем сидеть порознь, хорошо?
— Спрашиваешь еще…
Они подошли к порту: к причальной стенке, укрепленной бревнами, к кучам досок, к громадной пристани и плавучему крану с длиннющей шеей.
Фима любила приходить сюда, по сходням взбегать на пристань, куда ежедневно пристают несколько речных трамваев из города Измаила, до отказа набитых рыбаками и бабками с корзинами, испачканными клубникой (торговали в районном городе, где цены дороже), служащими и просто любопытным людом… Три раза в день подлетала к пристани «Ракета» на подводных крыльях и тоже высаживала людей.
Когда-нибудь, наверное, не будет тихоходных судов, все будут летать, как «Ракета»: в эпоху космических полетов нельзя по-черепашьи ползать по морям-океанам. Фима обязательно станет к пульту управления одного из таких вот судов, и они в три часа долетят до Каира, а в полдня — до Нью-Йорка.
На рейде покачивались на якорях три самоходные баржи: их перегоняли из Чехословакии в наши порты. С барж доносилась музыка.
Они были новенькие, блестящие, белоснежные, и старое слово «баржа» — что-то закопченное, черное, неуклюжее — никак не подходило к ним. Это были корабли с двигателем, рубкой и каютами для команды, но три четверти выдвинутого вперед корпуса предназначалось для грузов.
Сирена прорезала тишину дня.
— «Ракета»! — Локтя бросился к пристани.
Прочертив дугу, острогрудое, как космический снаряд, летящее над волнами судно снизило скорость, чуть опустилось и легко подкатило к пристани.
Фима побежала за Локтей: всегда жгуче интересно посмотреть, кто новый приехал сегодня. Фима взбежала на пристань и замерла.
У трапа, уже перекинутого на борт «Ракеты», стояли Аверя и Лев. Они пристально смотрели вперед, кого-то дожидаясь. Цепочкой, по одному, поднимались пассажиры из люка и ступали на трап.
Вот вышли два пограничника, — лица у Авери и Льва серьезны; вот появился толстобрюхий парикмахер Леон, — они слабо кивнули ему; вот вышел директор школы Дмитрий Алексеевич с сыном Петькой, — вежливо поздоровались с ним; вот вынырнул поп, отец Василий, рослый, в шапочке, с волосами, заплетенными косичкой, и в длинной дорогой рясе…
— Здравствуйте, отец Василий, — смущенно пролепетал Аверя, — с вами желает познакомиться мой товарищ, он из Москвы и очень хотел бы…
Тут вперед вышел Лев, учтиво улыбнулся и как-то быстро и весело заговорил с попом.
Фима не слышала, о чем: она сразу отпрянула. Хотела найти Локтю, но так и не нашла — затерялась в толпе; сбежала по трапу и остановилась у горы порожних ящиков из-под консервов.
Лев с попом, оба высокие и заметные, прошли вперед. За ними, точно лишний и ненужный, проследовал Аверя. По случаю прогулки он принарядился: на серую рубаху надел отглаженный, только в двух местах штопанный чешский пиджачок, свои неизменные полуботинки до блеска начистил. И вся эта парадность так не вязалась с опущенной головой, с неуверенной, вялой, совсем не аверинской, искусственно замедленной походкой, — он не решался обогнать их, но и не был уверен, что их можно оставить вдвоем, потихоньку отстать и уйти куда-нибудь.
Когда приезжие прошли вперед, Фима вышла из-за укрытия. Ее мучил вопрос, о чем говорит Лев с попом. Она тут же вспомнила, что Лев не раз в ее присутствии заговаривал о религии, о церквах. Зачем ему понадобился поп?
Приехать из такого города, как Москва, в котором она мечтала побывать хоть часок, и в их захолустье интересоваться самым неинтересным, что только может быть на свете, от чего не первый уже год спасается она бегством и никак не может спастись? Это было выше ее понимания.
Попутно она вспомнила другого попа — отца Игнатия. Тот был полной противоположностью этому. Этот был франтоват и величествен; тот, решивший столкнуть этого, в быту мало чем отличался от простого рыбака («Работал под рыбака», — как сказал однажды Дмитрий Алексеевич), ходил по улицам во внеслужебное время в тапках на босу ногу; старенькая ряса скорей напоминала халат рабочего на рыбоприемном пункте, да и лицо у него было не надменно-холеное, значительное, а простецкое: нос картошкой, щеки подушечками — они немного перекосились и нарушили симметрию — и глаза глядели доверительно, даже грустно… И вот он, такой простоватый и неблестящий, такой будничный поп, переборол, пересилил, перехитрил этого, который так величественно шел сейчас, и благосклонно слушал Льва, и сам говорил что-то мягко и вкрадчиво, как и пристало служителю культа, и лицо у него было упитанное, почти без морщинок, хотя в заплетенных в косицу волосах было немало седины.
— Ах, вот ты где, а я тебя ищу! — Локтя схватил ее за руку. — В кино пойдем, да?
Он сильно потянул ее за руку, лопоча о каких-то тральщиках и ракетоносцах, и, конечно, наткнулся на Аверю.
Тот заметил Фиму и протянул ей руку:
— Все злишься?
Фима давно простила ему многое, но, как только задал он этот вопрос, нахмурилась, надулась, точно и вправду еще сердилась.
— Не надо, — сказал он, — мало ли что могу я брякнуть…
Фима помолчала и пошла вперед, стараясь не смотреть на него. Ей всегда хотелось дружить с ним, бегать купаться на Дунай и играть в нырки, хотя это было и страшновато. И никогда не ссориться. И сейчас вот Локтя помог встретиться им. Точно и не было ссоры. Странно, но именно сейчас их дружба казалась ей, как никогда, крепкой и доброй…
На старом тополе Фима увидела вдруг рекламный плакат. На фоне бушующего моря написано зигзагами молний: «Капитан сходит последним». А рядом — силуэт военного корабля и темный профиль моряка.
Про эту картину, верно, говорила Маряна.
— Сходим, — сказала Фима, не глядя на Аверю.
— Рад бы, но… — Тут Аверя похлопал себя по карманам и пропел: — «Штаны без звона у меня».
— А у меня вот. — Фима показала полтинник. — Тоже не мои, Маряна дала.
— Так нам хватит, возьмем самые дешевые! — обрадовался Аверя.
— А этот человек? — Она кивнула на неровно, волнами стриженную голову Локти. — Обещала…
— Подумаешь! Поручи это мне.
Аверя тут же взял монету, отвел малыша в сторону и заговорил о чем-то. Потом подошел к киоску, где продавали мороженое, пристроился к очереди. Мороженое в Шаранове продавали редко, и, по отзывам тех, кто ел его в Одессе, в Киеве и особенно в Москве, было оно отвратительное, с кристалликами льда, пахнущее кислым молоком.
Ни Фима, ни Локтя проверить этого не могли, и оно им казалось великолепным.
Аверя примазался к знакомому рыбаку у окошечка и получил вафельный стаканчик. Торжественно вручил его Локте, снова что-то тихо сказал ему, и тот, улыбаясь во все лицо, отошел и принялся деятельно слизывать мороженое, криво наложенное в стаканчик. Так же без очереди Аверя купил билеты в кино, и они пошли в зал. Здание кинотеатра было новое, большое — одно из красивейших зданий в Шаранове — и было построено все из того же ила.
Кинотеатр работал без контролера. Они опустили в стеклянный ящичек билеты, разыскали в полутьме свои места, и скоро началась картина. На вспыхнувшем экране появился эсминец. Матросы отрабатывали учебные задачи, стреляли по щитам в море, отбивали учебные воздушные налеты. Один усатый весельчак ловко накладывал пластырь в трюме судна на «пробоину» от «торпедировавшей» его «вражеской» подводной лодки. На усатого со всех сторон лилось, а он, по пояс в воде, не растерялся, отдавал команды и подтрунивал над перепуганным безусым новичком.
А потом была настоящая война, и бомбы, пачками летящие на наши города из бомболюков немецких «юнкерсов», и осада Одессы, и боевые выходы в море, и потопление этим эсминцем двух вражьих подводных лодок и нескольких транспортов с войсками…
С экрана в зал плыл дым, летели крики умирающих и стоны раненых; в лица Фимы и Авери долетали соленые брызги от взрывов снарядов…
Но счастье изменило эсминцу: нашла его в открытом море торпеда. Эсминец стал заваливаться набок, тонуть, окутанный дымом и пламенем. Самые нервные сразу же попрыгали за борт; более выдержанные стали выполнять приказы командира и спускать шлюпки и спасательные плотики…
Капитан ходил по судну, отдавал приказы.
Усатого весельчака он чуть не пристрелил из пистолета, потому что тот стал вырывать спасжилет из рук контуженного матроса. Старший помощник, легко раненный осколком дерева в руку, потерял речь и, словно парализованный, смотрел на все вокруг.
Капитан распорядился, чтобы с партией раненых помощника опустили на одну из последних шлюпок. В артпогребе взорвались снаряды, и на тонущем судне началась паника. Капитан приказал последним оставшимся на борту проверить все помещения: не остались ли где раненые. И выяснилось — остались. В одной из кают от взрыва заклинило дверь.
Эсминец все глубже оседал и погружался, объятый пламенем, а матросы взломали дверь и вынесли раненых на шлюпку. Потом капитан велел последней горстке самых храбрых и верных покинуть судно.
«А вы, товарищ командир? — крикнул в грохоте и пламени один из матросов. — Пять минут — и судно взорвется. Воронкой засосет — не выплывете…»
«Выполняйте приказ!» — крикнул капитан.
Шлюпка отплыла. Он остался на судне. Он еще раз обошел все, что можно было обойти, проверил каждую каюту, камбуз, мостик и уже с почти затонувшего судна сошел на последний спасательный плотик…
Сверху смотрели звезды, когда Фима с Аверей возвращались из кино. Фонарей на ериках не было, им светили редкие огоньки окон. Чтобы не свалиться с кладей, шли, касаясь рукой заборчиков.
После этой картины ни о чем не хотелось говорить. Все казалось мелким и несерьезным. С надсадом скрежетали лягушки, ухала какая-то птица, и где-то на Дунае оглушительно трещал лодочный мотор…
— Слушай, — сказал Аверя, когда они подошли к ее дому, — дай, пожалуйста, для ребят одну икону. У вас ведь их так много. Никак не могут найти хорошую. Все печенки проел мне Лев. Просто помешался на них. Привел я его домой в тот день, как вернулись с рыбалки, принес порубанные Федотом… И что ты думаешь? Чуть не плакал над ними: «Такие вещи погубил!..» Складывал на траве по дощечкам и палочкам, как малый — кубики. Сложил две иконы, взял с собой: склеивать будет…
— Хорошо, я принесу.
— Да какую постарей, не очень заметную, чтоб родители не хватились.
— Хорошо. Ту, что в моей комнате. Георгий-победоносец на скаку пронзает копьем змия. Небольшая она.
— Давай. Только потише.
— Ничего, я одна. Груня — на Широком.
Фима исчезла в потемках и явилась не скоро — минут через десять: все приходилось делать в потемках. За стенкой похрапывали мать с бабкой. Когда она снимала со стены тяжелую доску, внутри тревожно заныло, засвербило. Но отступать было поздно. Прижав к груди икону, выскользнула из дому и передала через забор Авере. Тот приблизил к ней лицо, разглядывая изображение.
— Чушь какая-то, — сказал он. — Не знаю, понравится ли ему. Ребенок может так нарисовать. Но что старая — так это точно. Словом, ничего.
Фима стояла у заборчика и молчала.
— Ну, до завтрого… Ты как-нибудь сдвинь остальные иконы, чтоб не так было заметно, чтоб голого места не оставалось на стене… Ну, пока.
— Спокойной ночи.
Фима пошла к дому, а в глазах ее все еще клокотали волны, заваливался на нос эсминец и спрыгивал на последний плотик капитан — человек, который по морскому закону должен сходить со своего корабля последним.
Глава 8 ГЕОРГИЙ-ПОБЕДОНОСЕЦ
На всякий случай Аверя спрятал икону под пиджак и прижал локтем к боку. Хорошо бы отнести ее сейчас Льву. Да поздно. Наверно, уже спят. И тащиться к Дунаю в темноте не очень-то приятно: не раз за свою жизнь падал Аверя в ерики, а сейчас он в лучшей одежде да еще с иконой.
Он пошел домой.
Засыпалось плохо. Все думал: понравится ль икона Льву. На взгляд Авери, она никудышная, но у этого странного парня свои вкусы. По его просьбе Аверя исходил с ним немало рыбацких домиков — домики тех, у кого были или должны быть, по Авериным предположениям, иконы. Происходило это чаще всего так. Они заходили в один из «Буфетов». Лев заказывал два стакана местного сухого вина. Они стояли, облокотившись об огромную бочку, и потихоньку попивали. Народу тут обычно битком. На днищах порожних бочек резали для закуски селедку, потягивали из стаканов и вели бесконечный пьяноватый разговор обо всем на свете. Но разговор все время соскальзывал на путину, на сейнеры и погоду.
Почти всех знал здесь Аверя. Завязывалась беседа. Лев тут же предлагал стакан вина и через час как самый лучший друг помогал какому-нибудь старику добраться до жилья и, приглашенный на чай или пообещав сфотографировать семью, входил в дом как гость.
Две иконы ему подарили, три — продали, но, отзываясь о них, Лев брезгливо морщился:
— Ерунда, конец восемнадцатого.
Аверя про себя вычислял: ого, конец восемнадцатого века — это, значит, тысяча семьсот какой-то год… Какая старь! Тогда, пожалуй, и Шаранова-то не было. А для него это плохо…
Или вот еще что странно: когда Льву попадались отлично и четко выписанные иконы, сверкавшие краской, — ну совсем из магазина! — он еще больше кривился, точно ел клюкву.
— Безвкусица какая! Кисть в руках не умел держать, богомаз проклятый! Беру только для обмена, а то бы и не повез: груз лишний…
Не успел Аверя утром и глаза открыть, как вспомнил об иконе, спрятанной под матрасом. Когда в комнате никого не было, вытащил ее, стал рассматривать и совсем разочаровался. То, что она была старая в смысле века написания, может устроить Льва. Но ведь краска-то на ней местами сильно пожухла, кое-где были темные пятна и копоть. Вряд ли ее очистишь когда-нибудь.
Едва дождавшись завтрака, Аверя поел, спрятал под пиджак икону и помчался к Дунаю.
Все были в сборе, пили чай, шутили о том-сем.
— Принес? — спросил Лев.
— Да вот припер кое-что, — на всякий случай небрежно сказал Аверя, вытащил из-под пиджака тяжелую доску и протянул Льву.
Лев глянул на нее, и руки у него задрожали. В первый миг он задохнулся и не мог ничего сказать. Потом взял икону прыгающими пальцами, подробно осмотрел всю, ощупал своими цепкими глазами тыльную сторону ее, сухую, массивную, потемневшую от времени, — слабо выгнутую доску с широкими клиньями, чтоб не рассохлась, не треснула, — и выдохнул:
— Ух! — Потом более членораздельно добавил: — Вот это да! И в Третьяковке такой нет!
— А что, там иконы есть? — удивился Аверя.
— Разумеется. Экспозиция начинается с отдела икон, несколько залов. И вообще я должен тебе сказать: всякое искусство начинается с икон, а я считаю так: и кончается. Ничего лучше не создали еще люди.
Аверя прямо-таки присел.
— А Шишкин? — сказал он. — А «Запорожцы» Репина?.. У него еще есть «Бурлаки». Мы в школе…
— Дорогой мой! — вскрикнул Лев. — Иконы — это все!
— Ну, ты уж чересчур так, — проговорил Аркадий, брившийся у круглого зеркальца на складном столике. — Ты просто немного больной человек…
— А Матисс — он тоже больной? Ты не знаешь, наверно, такого факта, а я знаю: до революции он приезжал в Москву и посетил галерею Третьякова. Он спокойно обходил зал за залом, у некоторых картин немного задерживался, но очень ненамного — все это он уже знал и видел, хотя ни разу не был в России. Но как только подвели его к иконам, остановился, замер, застыл! Вот… А ты?
— А кто такой Масисс? — робко подал голос Аверя.
— Матисс — надо говорить. Кто он? Величайший французский художник-декоративист, ярчайший и оригинальнейший. Он первый понял всю радость открытого цвета — красного, синего, зеленого… Надо знать таких, хамингваи вы, хамингваи!..
— А-а-а… — протянул Аверя, ровным счетом ничего не понимая.
— А иконы тут при чем? — Аркадий провел помазком по верхней, подпертой языком губе.
— Если б не они, может, не было бы и Матисса… Монументальность, обобщенность — ни одной мелкой, дробящей впечатление детали, лаконизм и простота…
— Модные словечки!
— И все это он взял у икон, и в особенности — у русских икон!.. Ах, какой ты мне сделал подарок, Аверя, век не забуду! Будешь в Москве, обязательно заезжай ко мне. Даже можешь остановиться у меня. Приму… Ах, какая штука! Пожалуй, лучшая из моего собрания, а у меня за двадцать пять перевалило, и всё только старые…
Авере прямо неловко было, что он доставил столько радости этому бурному человеку с горящими глазами.
— Может, у нее еще такие есть? Да, конечно, наверно есть… Ведь она сняла первую попавшуюся.
— Да, — подтвердил Аверя, чувствуя, к чему клонит Лев.
— Слушай, а если я подарю тебе ласты и трубку, ты не сможешь попробовать еще?
— Трудно, — вздохнул Аверя. — Не знаю еще, как с этой кончится. У нее старики лютые и верят в бога люто. Мой-то батя тоже немного верит, да как-то весело и не молится, а они лютые!..
— А может, обойдется? Я б, пожалуй, и с маской расстался. Тебе она нужней… Хочешь маску?
— Зачем вы это говорите? — У Авери заколотилось сердце: ах, как хотелось ему получить все это насовсем!
— На, забирай. Для хорошего человека ничего не жалко. — Лев протянул ему маску — продолговатое стекло, обтянутое резиной, — маску, какой не было ни у кого в Шаранове.
Она очутилась в Авериных руках. Он совсем не хотел брать ее, потому что знал, как трудно будет просить Фиму снять со стены еще одну икону, но маска каким-то образом очутилась в его руке. Он не брал ее — просто свел вместе пальцы — и вдруг почувствовал ее прохладную тяжесть.
— И ласты получишь. Притащи две, и постарее… У них ведь много… Обойдется.
Аверя весь пылал. Он становился единовластным владельцем такого богатства!
— Не удастся — что ж, придется вернуть, — сказал Лев.
Аверя все понимал.
Лев опять взял в руки икону, зачем-то подул на нее, нежно прикоснулся тыльной стороной ладони.
— Георгий… Как выразительно, сколько экспрессии в повороте тела, в руке! А какое благородство в тонах! Вроде приглушен главный цвет, но он орет, орет!
Аверя смотрел на него и растерянно улыбался.
— Попробую, — проговорил он.
— Слушай, — сказал вдруг Аркадий, — прошу тебя: оставь Аверю в покое. Неужели мало всего того, что он тебе сделал? Ты просто жаден, а жадность до добра не доводит — Голос Аркадия звучал жестко и холодно. — Думал, сам поймешь, и не хотел тебе это говорить, а приходится. Ты собираешь эти иконы только потому, что это модно, только потому, что у тенора вашего концертно-гастрольного объединения Гришаева их двадцать семь штук, а у куплетиста Катькина — тридцать одна. Тебе приятно поразить ими гостей, подчеркнуть, что ты не отстаешь от времени и понимаешь толк в настоящем искусстве, а на самом деле ты… — Аркадий начал сердиться.
Лев покраснел, надулся, и Аверя поспешил из палатки.
Маску и трубку на всякий случай он спрятал под полу пиджака. Аверя шел по улице Железнякова и думал, как бы лучше подъехать к Фиме, и ничего не мог придумать.
Он даже не слышал, как с мчавшегося сзади грузовика кто-то кричал ему. И уже когда грузовик почти поравнялся с ним, Аверя очнулся.
— Ну, поехали? — крикнул ему Саша, и пес Выстрел подтвердил лаем; что не прочь снова схватить его клыками, если будет глупить.
— Не, — закачал головой Аверя, — сегодня мне недосуг.
— А то садись, вне конкуренции будешь… Поработать с собачкой надо.
«Видно, на границе ей маловато работы, — подумал Аверя, — тренируют, чтобы по следу идти не разучилась».
— Ну смотри. — Саша кивнул ему с машины, а Выстрел отрывисто тявкнул на прощание.
Аверина голова была занята другим. Даже Алка, которую он повстречал на Центральной улице у детской библиотеки, мало заинтересовала его. А вообще-то он любил говорить с этой звонкой красивой девочкой. Купаться с ней не пойдешь — с тоски подохнешь, в нырки играть она не умеет: увидит плывущего по Дунаю ужа и орет как резаная.
Зато беседовать с ней бывает приятно. Особенно слушать ее. Чего только не знает она! И когда в обувной магазин привезут синтетические сандалеты по четыре рубля, и у кого сейчас на руках библиотечная книга про диверсантов «Это было на Дунае», и почему отец Коськи Заречного ушел из семьи и поселился в доме номер семнадцать, где надпись «Злая собака» и в подтверждение нарисована страшная пасть с торчащими кривыми клыками, и…
Все знала она, буквально все, что творилось в Шаранове.
— Ты куда так торопишься, Аверчик? — остановила она его. — Давай походим.
— Зачем? — спросил Аверя.
— Поговорить хочется. Давно не видала тебя.
— Как-нибудь в другой раз.
— Слушай, а ты знаешь, что…
Целый час пробродил он с Алкой, и у нее ни на минуту не закрывался рот. Потом, когда все главные новости были выговорены и ничего интересного нельзя было ждать, Аверя отделался от Алки, сославшись на то, что отец велел прийти сегодня пораньше. А сам полетел к Фиме.
Как вот только лучше подъехать к ней, как объяснить, чтоб правильно поняла: совсем не из корысти хочет он раздобыть эти иконы — все ребята будут нырять и плавать с этими ластами и маской. Можно даже через Маряну организовать секцию подводных охотников…
Спрятав под лопухом своего огородика то, что дал ему Лев, Аверя зашагал к домику Фимы.
Он шел по кладям, подыскивая слова помягче и поубедительнее, и вдруг услышал крик.
Кричала Фимина мать. Крик был хриплый, надрывный и какой-то слепой. Какой-то яростный и дикий был этот крик. И вслед за ним — плач. Ее, Фимин, плач.
— Убить тебя после этого мало! Убить!
Следовали громкие удары кулака, а может, и палки обо что-то мягкое, живое, и слышался плач. Он то прерывался, то возникал. Это был плач взахлеб, горький и тяжелый. Фима что-то кричала сквозь слезы, что-то твердила. Но удары заглушали и прерывали эти слова и плач.
Аверя ринулся обратно. Он бежал по кладям к Дунаю, бежал и только сейчас начинал понимать, что наделал. Он бежал к мосту через Дунаец, бежал к воротам рыбозавода.
Старичок вахтер, сидевший на ящике из-под рыбы, знал Аверю и пропустил. Аверя пробежал вдоль коптильни, мимо грязноватой горы крупной соли. Пересек путь автокара, перевозившего из цеха в цех рыбу, и подбежал к причалу, что у посолочного цеха.
Здесь под навесом орудовали три работницы — принимали с фелюг и взвешивали рыбу. Маряна в жестком фартуке на черном халатике и резиновых сапогах поливала из шланга огромных, только что выпотрошенных белуг, лежавших на тележке.
Тугая струя шланга хлестала по спинам и мордам, раздвигала створки вспоротых животов и вымывала кровь.
Аверя схватил Маряну за рукав и громко зашептал:
— Маряша, идем… Фимку убивают…
Маряна направила струю шланга в пол, и струя остервенело забила по резиновым сапогам подруг.
— Мамка ее… Совсем озверела… Кабы успеть…
Маряна сняла фартук, развязала сзади тесемки халата.
— Девки, — сказала она, — мне тут отлучиться надо на часок. Если будут спрашивать, наплетите чего-нибудь.
— Опять твои пионеры? — Толсторукая рыжая Кланя покосилась на Аверю и затараторила: — Ох, Маряша, дивлюсь я тебе. Или делов других нету? Таких парней отшиваешь! Ну чем плох Сашка? А этот инженер из лаборатории… Остаться тебе вековухой…
— Слыхали, что просила?
Из дежурки посолцеха вышел толстый мастер Дубов:
— Маряна, ты нам нужна… На подходе «Байкал». На нем две белуги икряные, килограмм по полтораста, надо обработать.
— Иван Сидорович, — сказала Маряна, — через час приду… Вон Маруська не хуже меня примет. Она…
— Я не хочу, чтоб Маруська. Опять не как зернистая пойдет, а как паюсная…
— Иван Сидорович, не заставляйте меня…
— Если уйдешь…
Маряна швырнула халат на тачку, закинула руки, поправляя волосы, и туго обтягивающее ее штопаное платьишко угрожающе затрещало.
— Уже ухожу.
И пошла через двор завода, пошла быстро и решительно, а за ней, едва поспевая, припустился Аверя. Он бежал рядом и, задыхаясь, рассказывал все, что слышал в Фимином дворе.
— Ну что они хотят от нее? — словно сама у себя спрашивала Маряна. — Думала, оставили в покое, так нет…
Платочек на ее волосах рвался и хлопал концом, платье отскакивало от коленей — так быстро она шла.
Потом шаги ее замедлились. Вот и ограда Фиминого дома. Вот сам дом.
Маряна остановилась.
Из-за ограды доносился плач. Он уже не был прерывистым. Теперь он был ровным и горьким.
— И за что она ее так? — шепотом спросила у Авери Маряна.
Аверя уткнул в доски кладей глаза.
— Не знаю, — едва выдавил он.
Солнце уже клонилось к закату, было тихо, где-то в соседнем ерике под днищем плывущей лодки хлюпала вода, а они, Маряна и Аверя, стояли у ограды, точно не знали, что делать. Кроме плача, со стороны домика доносились два женских голоса: крепкий, зычный, непримиримый и надтреснутый, скрипуче-старческий.
— Пойдем отсюда, — неожиданно сказала Маряна и повернула назад.
Он схватил ее за руку и не пустил:
— Зачем же я бегал за тобой? Ты должна зайти к ним и поговорить… Она ведь из твоего отряда-то, Фимка…
— Я не знаю, о чем и как с ними говорить, — тихо сказала Маряна. — Да и не послушают они меня… Напорчу только, — и медленно пошла прочь от домика.
Аверя не стронулся с места. Он остался стоять, где был.
— Маряна, — громко зашептал он, — вернись… Ведь если не ты, так кто ж другой?
Она уходила все дальше.
— Струсила! Забоялась и струсила! — закричал он вслед. — А мы-то, мы-то, дураки, мы считали тебя…
Маряна, наверно, ничего уже не слыхала, потому что была далеко.
Он стоял, и ему было стыдно. Стыд жег его. Раскаленным докрасна гвоздем входил в его сердце. Ведь он не сказал Маряне, в чем дело, не признался… Какое имел он право кричать ей такое!
Аверя постоял еще немного у ограды, свесив голову, и поплелся домой. Но не успел он сделать и десяти шагов, как все понял и сообразил.
Он знал, что должен делать, чтоб выручить Фиму. Знал. Он во всем виноват, он и расхлебает это дело. Не ожидал же он, что так все обернется…
Сбегав домой, Аверя вынес ласты, подобрал в ограде под лопухом маску с трубкой и быстрым шагом пошел, почти побежал к Дунаю.
Вот и зеленая палатка и красная, девичья, рядом с ней.
— Можно? — Он остановился у завешенной двери.
— Заходи, — разрешил заспанный голос Аркадия. — Ты что это все приволок назад?
— Где Лев? — спросил Аверя и сбивчиво продолжал: — Больше не смогу… Фимку избили за эту… Отдайте мне ее.
Лицо у Аркадия стало озабоченным, по лбу побежали морщинки:
— Сколько раз говорил ему: так где там! Ушел он куда-то, кажется, кто-то обещал ему еще несколько икон. Попозже зайди, а это можешь оставить.
— Арк… Дядя Аркадий, — горячо попросил вдруг Аверя, — выдайте мне, пожалуйста, ту, что я принес… Ведь Фимку прибили из-за нее…
— Ах ты, какое дело! — забормотал Аркадий и в досаде замахал руками. — Ну на кой черт совался ты в эту историю, клянчил у Фимки?! Плюнул бы на все это…
— А я не знал. Откуда я знал, что так…
— Ну идем, он их держит в машине.
Аркадий, как был, в трусах, босой, без майки, подрагивая своим полноватым, не сжатым мускулами телом, достал из-под надувного матраса ключик от машины, вышел из палатки. Потом открыл заднюю дверцу «Москвича» и начал греметь досками икон в грубом мешке из-под муки.
— Что на твоей, забыл?
— Всадник там с копьем. В дракона вонзает… — торопливо ответил Аверя и от радостного прилива сил взъерошил на голове волосы. Он уже решил, что икону вернет Фиме не сразу, не сегодня, а дня через два и обязательно выдумает для Фиминой матери какую-нибудь правдоподобную историю насчет ее пропажи…
Аркадий минут пять стукал досками, роясь в мешке, потом вылез из машины, весь потный и красный. Вылез без иконы. Аверя прямо опешил.
— Что? — спросил он. — Не нашли? Дайте я… Я в одну секунду…
Аркадий с силой захлопнул дверцу — как только не погнулась? — щелкнул на ключик и сказал:
— Пусть сам тебе отдает. Позже приходи. — И, не глядя на Аверю, пошел к палатке и, не оборачиваясь, кинул через плечо: — Ну, кто тебя тащил?.. Головы нет на плечах, что ли? Ах ты!.. — и скрылся в палатке.
Поздно вечером, когда сумерки окутали Шараново и на Центральной улице зажглись огни, Аверя снова двинулся к лагерю.
Проходя возле закрытой церкви, вдруг заметил во дворе на фоне выбеленной стены две темные фигуры и услышал легкий скрип закрывающейся церковной двери.
Аверя, прижавшись к дому, замер.
Фигуры вышли из металлических воротец. Один человек что-то говорил другому, вроде благодарил. Потом обе фигуры пожали руки и разошлись в разные стороны. Одна прошла близко от Авери, и он вдруг понял: отец Василий! А второй… Аверя сразу догадался, кто был второй.
Переждав немного, Аверя пошел за Львом, прячась в глубокой тени домов. Народу на улице почти не было, и идти за ним было опасно: стоило Льву обернуться — заметил бы. Лев нес, прижав к боку, что-то тяжелое, завернутое в материю.
Вспоминая после этот вечер, Аверя сам не мог понять, почему не подошел ко Льву, а стал красться за ним. Наверно, потому, что выход двух людей из закрытой церкви, разговор вполголоса в сумерках — все это было как в книгах про шпионов из библиотечки военных приключений, которые он обожал, все это было так таинственно, что он и не мог поступить иначе. Когда Лев скрылся в палатке, Аверя быстро подбежал к ней с той стороны, где не было окошечка, и услышал его голос:
— Ну, старик, и везет же мне! Такой сегодня денек… Смотри, сразу четыре штуки, и совсем, если разобраться, по дешевке… В Москве одна стоит столько, как здесь — все четыре.
— Пошел ты со своими иконами, дай спать! — пробубнил спросонья Аркадий.
И Аверя понял: сейчас самая пора прийти за своим Георгием.
Он отполз в сторонку и громко, преувеличенно громко стуча полуботинками, подошел к палатке и твердо спросил:
— Можно?
— Аверя? Тебе чего? — Лев, видно, уже знал о цели его прихода, потому что голос его нельзя было назвать ласковым. Тут же он добавил: — Значит, это ты донес на меня, ты? И молчал?
— Не я! — в пылу, сам не зная, зачем врет, крикнул Аверя. — Кто вам сказал, что я? Не я!
— Сказали… Зачем пожаловал?
Аверя, вспотевший, с горящими ушами, сбивчиво объяснил.
— Завтра утром приходи, не хочу сейчас рыться в машине. Пока…
Аверя, опять громко стуча полуботинками, отошел и притаился в сторонке, не очень далеко от палатки: ах, как помогали ему жить маленькие книжки из военной библиотечки приключений!
Минут десять палатка молчала, потом послышался негромкий голос Льва — он тоже, видно, читал эти книги и говорил так, что ничего нельзя было разобрать. Зато Аркадий проявил полное незнание шпионской литературы, потому что совершенно пренебрегал осторожностью и говорил чуть ли не в полный голос:
— А я думал еще с недельку здесь пожить… И, знаешь, все это мне вконец осточертело! Я приехал сюда отдыхать, а не… (Тут Аверя не разобрал.) Чтоб снова ввязался с тобой в поездку…
Лев опять что-то прошептал, но так, что Аверя и слова не расслышал.
Аверя уходил домой поздней ночью, и от горечи и беспокойства, от каких-то новых и неопределенных, очень трудных и непривычных для него мыслей у него прямо разрывалось сердце. Утром он явился на то же место. Огненно-красной палатки и «Москвича» как не бывало. Однако зеленая палатка, в которой жили парни, осталась. Аверя не знал, что делать, и в нерешительности присел неподалеку.
Вдруг из палатки донеслись женские всхлипывания и голос Аркадия:
— Да перестань ты, слышишь? Встречу его в Москве — не поздороваюсь.
— Но зачем было так сразу, — сказала женщина, — и так грубо, хоть бы слова выбирал, он бы не обиделся так…
— Слова? — с усмешкой произнес Аркадий. — Проймешь такого словами! Он… он и не понимает, что наделал…
— Куда ж мы теперь с палаткой и всем имуществом? На себе потащим?
Аверя слушал, не стронувшись с места.
— Довольно, — сказал Аркадий, и это слово, и все, что он говорил до этого, так не вязалось с ним, с его вялым лицом и рыхловатой фигурой. — Я не знаю, как посмотрю в глаза этому мальчишке, ведь он явится скоро… И почему не отдал ему вчера эту икону…
Дверца палатки шевельнулась. Аверя вскочил и со всех ног бросился с пляжа.
Глава 9 ЧЕТВЕРО В МОРЕ
Фима легла спать не поужинав. Да мать и не поставила ничего на кухонный столик. Легла, не раздеваясь, и лежала, уткнувшись в подушку. Такого еще не было. Фима думала, что родители смирились. А значит, нет. Молчали, терпели до поры до времени, ждали… Чего ждали? А может, просто нервы не выдержали…
Конечно, дело не только в этой иконе. Фима перебирала в памяти каждый день и час своей жизни в отцовском доме, вспоминала Артамона; перейти бы к нему…
Она лежала неподвижно, вдавив в подушку лицо, и не плакала, даже не всхлипывала. Ее плечи, руки, щеки, бока не горели, не ныли от ударов, хотя кое-где, наверно, остались синяки. Все это было так мелко и ничтожно по сравнению с тем, что надвигалось на нее, захлестывало, как прибой, поднимало вверх на волну, с которой далеко видно.
Фима вдруг впервые поняла совершенно ясно и отчетливо: в этом доме ей больше делать нечего.
Она не знала, спала ли хоть час. Все-таки к утру она, кажется, уснула и немного поспала. Ее разбудил Локтя. Он стоял возле койки, непривычно серьезный, с насупленными бровками, решительными глазами, и шептал:
— Фим, больше так не будет… Не будет…
— Уйди, — сказала Фима. Ей было неприятно, что кто-то хочет посочувствовать ей; но ведь Локтя и не сочувствовал. — Останься, — вернула она его.
Встала, причесалась.
— Я больше не буду здесь жить, — сказала она. — Не хочу.
— А что ж ты будешь делать?
— Поступлю куда-нибудь в техникум. Ведь кончила семилетку.
— Не уходи, Фим, — попросил Локтя, — мне без тебя будет плохо.
Фима посмотрела на него и вздохнула.
Услышала за окнами знакомый говор и выглянула в оконце. За оградой по ерику плыла Маряна со своим отцом.
Отец стоял в колхозной моторке и отталкивался веслом.
Не обращая внимания на мать, копавшуюся в огородике, Фима выскочила на клади и очутилась рядом с лодкой:
— Маряна, куда ты?
Маряна испуганно посмотрела на Фиму, лицо ее напряглось от каких-то мыслей, и тут же все это соскользнуло, и оно стало, как всегда, оживленное:
— За ракушей с батей собрались. Надо под пол подсыпать и возле дома. Не хочешь с нами?
— Очень даже! — Фима готова была броситься и расцеловать Маряну: хоть к черту на кулички убежать бы сейчас от всего этого!
— Бать, остановись.
Отец ее, коренастый курносый бородач в сатиновой косоворотке с расстегнутым воротом, собрал над глазами торчащие во все стороны брови.
— А ракушу куда класть будем?
Возле Фимы появился и Локтя. Он тоже жадно смотрел на лодку.
— И тебя? — спросила Маряна.
— Ошалела ты, девка! — возмутился Марянин отец. — Тогда сама езжай с энтой компанией, а меня уволь. Выговора из-за них получаешь, дом забываешь — и все мало.
Он сердился, из-под его усов вылетали злые, как оводы, слова. Он хмурил лоб, кривил в гневе щеки, но лицо его сердитей от этого не становилось: уж слишком несолидным, несерьезным делал его короткий, картошкой, курносый нос.
— Хватит, — засмеялась Маряна, — лодка у тебя огромадная, а это что — дети, пустяшный груз, и на ракушу хватит, и еще останется… — И, видно, отлично зная характер отца, крикнула: — Залазьте!
Фима села на ватник Маряниного отца. Локтя устроился на носу, и отец стал молча отпихиваться веслом. Мимо них по кладям проходили жители: кто черпал с приступочек у калиток воду ведром, кто нес из магазина кругляк белого хлеба, прижав его к боку, кто, присев на корточки, мыл в воде старую черепицу.
Со всеми Марянин отец здоровался.
Фима сидела отвернувшись. Не хотелось никого замечать. И все-таки худшее, чего она боялась, случилось. Впереди, на лавочке, сидела Алка в коротеньком нежно-лиловом платьице и с таким же бантом в волосах.
Увидев их лодку, она вскочила и бросилась навстречу.
— Здравствуйте, здравствуйте! — затараторила она. — Как я рада, что вас увидела! Ну, как ты себя чувствуешь, Фима? Я так переживала за тебя, точно это меня исколотили…
Фима угрюмо смотрела в черные ребра лодки и чувствовала, как тяжело отвисают вниз щеки и плечи, как тянет на груди и спине платье, хотя была худа, легка и платье было свободно.
Алка шла за лодкой и возмущалась:
— Этому надо положить конец! Маряна, ты, как вожатая, обязана собрать отряд или даже настоять, чтоб собрали дружину, пригласить на сбор Дмитрия Алексеевича и Фиминых родителей и пристыдить их, получить с них слово, что больше такого не…
— Алла, иди займись чем-нибудь, — мягко прервала ее Маряна, — вон сколько воробьев на вашей черешне…
Алка застыла с открытым ртом.
— Да, да, о тебе же беспокоюсь: ведь с кладей чуть не свалилась в ерик в таком хорошем платье… Когда говоришь, надо смотреть под ноги. Сходи, девочка, сходи — попугай воробьев…
Алка прямо-таки растерялась.
— Хорошо, Маряна, — сказала она, — пойду…
Лодка пробиралась к каналу, выбирая наиболее глубокие ерики, чтоб не задеть винтом дно.
Иногда под мостами приходилось нагибаться, почти ложиться, чтоб проехать. На Дунайце отец положил весло и сильным толчком ноги завел мотор. Резко пахнуло бензином, стук двигателя ударил по ушам, и лодка понеслась по Дунайцу в сторону моря.
Канал был естественный — он представлял собой одно из гирлец Дуная и по сравнению с рекой раза в два сокращал путь к морю. Он был глубок, но у места впадения в море (да и само море там) был мелок, и по нему ходили только лодки да не сильно загруженные фелюги.
Быстро проскочили Шараново с домишками и кладями, с тополями и акациями на греблях и вылетели в плавни, в зеленую равнину с колышущимися до горизонта камышом и чаканом. Говорить из-за треска мотора было неудобно, и все молчали. Молчать было не скучно: день был яркий, добрый, и от скорости их обдувал свежий ветерок, ерошил на Локте слегка отросшие волосы.
Маряна сидела рядом с Фимой, и ее крепкое горячее плечо то и дело плотно прижималось к ее плечу. Фима видела ее профиль — задиристо вздернутый нос, смешливые губы и упрямый, выставленный навстречу ветру подбородок.
Иногда Маряна подмигивала ей, Фима улыбалась, и временами ей даже хотелось смеяться.
Скоро они вылетели в море, в его синеву, беспредельность, в блеск гребешков и ветер. Берега были в песчаных косах. Кое-где они заросли камышом и кустарником. По горизонту, усиленно дымя, карабкался крошечный, как букашка, пароход…
— Была в кино? — спросила Маряна.
— Ага. Только мне неловко. Я верну…
Маряна заткнула ей рот, засмеялась, и Фима чуть не упала с сиденья навзничь. Оправила волосы. Оглянулась.
Море слабо поворачивалось, то сверкая, как гигантское зеркало, то оказываясь в тени. В разных направлениях его пересекали шершавые ветреные полосы, и Фиме стало свежо и привольно.
Не в первый раз видела она море, и оно всегда тянуло ее. Оно пустынно, но полно жизни, сурово, но все в красках и переливах. В море никогда не скучно. Брат Артамон водит по нему сейнер, но никто не знает, что будет водить она, Фима. Может, сто раз латанную баржу, как злословил Аверька. Может, неведомый еще корабль, который живет только в чертежах конструкторов, что-то вроде реактивного судна, остроносого, узкого, как космическая ракета…
Мотор вдруг замолк. Лодка колыхалась на собственных волнах. Маряна сдернула сарафан, посмотрела вниз и спрыгнула в воду. Здесь было по пояс.
Отец подал ей лопату, взял что-то наподобие большого сака — железный обруч на черенке, нетуго обтянутый сеткой, — и сказал:
— Давай.
Маряна вонзила в дно лопату и вывалила в подставленный отцом сак мелкую гальку с ракушками и песком. Песок потек в воду, замутив ее, а ракушки остались в ячейках.
— Пойдет? — спросила Маряна, прежде чем снова вонзить в дно лопату.
Отец ответил не сразу. Взял из кучи ракуши горсть, поднес к глазам, стал рассматривать, перебирать белые и серые раковинки, то продолговатые, то круглые с загогулинками, то совершенно целые, то поломанные. Потом выбросил горсть в море.
— Не пойдет? — Маряна встряхнула головой.
— Рой.
Локтя, довольный больше всех, сбросил рубашку и, свесившись с борта, стал смотреть на дно.
— Ой, мальки, целая стая! — Он сунул руку в воду.
Крестик постукивал о борт лодки.
Сбросила свое платье и Фима. Стараясь хоть как-нибудь помочь, она, чтоб не обрызгать Маряниного отца, осторожно спустилась в море — вода ей была почти по грудь — и стала ногой разрывать ракушу. Она была не везде в море, эта ракуша, которой рыбаки любят украшать землю перед своими домиками. Везде были песок да ил. Ракуша была только в некоторых местах, и шарановцы хорошо знали эти места.
Работали часа два без перерыва. Фима поддерживала снизу лопату, когда Маряна начала уставать, и помогала поднимать ее, а то и сама сыпала в сак горсти ракуши. Потом стала загребать ее лодочным черпаком.
Найдена была работа и для Локти. Он перебирал ракушу, выбрасывая ломаную. Наиболее красивые и редкие ракуши — голубоватые и розовые с волнистыми узорами, похожие на перламутр, — откладывал в сторонку, оттуда — в нос лодки, для себя.
— Перекур, — сказал отец и прилег в корму, накрыв лицо картузом. Треснутый козырек закрывал глаза и лоб, сам картуз — лицо, но всего лица спрятать не мог, и наружу торчала подстриженная рыжеватая борода.
Маряна с Фимой передохнули и пошли купаться.
Локтя заныл, просясь к ним.
— Ну, прыгай в воду, здесь мелко. — Фима поманила его рукой.
Он прыгнул и пустил пузыри, забарахтался, забился: вода ему была по брови, а плавать он не мог. «А еще дунаец! — подумала с грустью Фима. — Сейчас же буду учить. Я-то научилась, когда была года на два моложе его…»
Она подхватила братишку, подвела под живот ладонь, подождала, пока тот отфыркается, и отпустила:
— Плыви.
Потом Фима посадила уставшего Локтю в лодку, а сама с Маряной пошла поглубже, и они поплыли. Вода здесь была не очень соленая, но теплей, чем в Дунае, и плылось легко и приятно. Временами над морем пролетали большие черные бакланы, пристально вглядываясь в воду: искали рыбу.
Маряна плыла впереди; подмокшие на затылке волосы ее смешно слиплись. За ней неслась Фима. Она не жалела волос, мочила их в воде, ныряла и открытыми глазами смотрела на зеленоватое, переливающееся, все в бликах и белых пятнах дно. Потом Маряна легла на спину и раскинула по сторонам руки. Фима подплыла к ней.
— Ты вчера видала Аверю? — спросила вдруг Маряна.
— Нет, а что? — Фима насторожилась.
— А я думала, он сам к тебе заявится. Потом, когда я решила, что лучше не входить… Значит, побоялся. Чувствовал какую-то вину…
«Хочет, чтоб я рассказала ей все, — подумала вдруг Фима. — Интересно, говорил ли он ей, как просил у меня эту икону? Мне все равно. Возьму и расскажу…»
Маряна лежала на спине, смотрела в синее-синее небо, и ее слегка колыхала волна. Изредка струйки перебегали по ее ногам, сильным и загорелым, по животу, по шее, омывая выступавшую грудь.
И Фима все рассказала.
— А он тебе говорил что-нибудь про Алку?
— Ни словечка.
— Ну и правильно. Мужчина не должен уподобляться бабам базарным. И особенно про женщин плохое говорить не должен… Так вот, Алка, оказывается, все время торчала в палатках у этих туристов, особенно в красной, где жили Вера с Людой, выспрашивала их о последних столичных модах, о том-сем и, конечно, языком трепала про Шараново… И про Аверю наболтала, как он заметил Льва с фотоаппаратом и велел тебе бежать на заставу…
— Что ты говоришь? Почему ж я этого не знала?
— Я сама это узнала сегодня утром, когда Аверя забежал и рассказал обо всем… Говорит, спать не мог, держать в себе не мог это… Кто бы подумал, что все так обернется? Когда мне в райкоме комсомола поручали ваш отряд, я взялась не раздумывая: люблю быть на людях, веселье люблю, шум, смех, споры… А что оказалось? Как обернулось? Ох, не игра все это, оказывается, совсем не игра… Не травой надо быть, а солнцем…
Фима смотрела ей в глаза и все понимала. Даже холодок продрал по коже, пробежал по лопаткам, когда дошла до нее вся суть Маряниных слов. В мире есть трава и солнце: трава — в общем, хорошая и нужная — под ногами, солнце — вверху. Трава растет везде, где только можно, бездумно и беспечно. Есть люди, которые живут, как живется, без больших помыслов, мечтаний и целей, и есть другие люди, которые хотят добра и счастья для всех и сражаются за правду и честь. Жизнь этих людей излучает свет и радость, как само солнце, и надо быть только таким, только солнцем!
— Маряшка! — донеслось с лодки.
Маряна перевернулась со спины, и они поплыли к лодке.
Отец развязал сумку из-под противогаза, постлал на коленях вафельное, не первой свежести полотенце, разложил пучки зеленого лука с белыми головками, редиску. Потом нарезал на куски хлеб и принялся резать на дольки большого копченого шарана.
Спазма перехватила Фимино горло, когда она увидела все это: со вчерашнего вечера ничего во рту не держала! И есть ведь не хотелось.
Локтя сидел на носу, держа на ладошке раковину, и рассматривал дымчатый, лиловато-синий рисунок на створке.
Марянин отец смачно захрустел редиской; борода его так и ходила вся.
— А вас что, приглашать надо? — Маряна посыпала солью хлеб.
Первым подполз к полотенцу Локтя, ухватил дольку шарана и стал зубами срывать золотистую, в чешуе кожицу. Фима еще немного крепилась, потом и она придвинулась, застенчиво протянула руку и взяла копченый хвостик.
— Лук бери и редиску! — приказала Маряна.
После еды поменяли еще два места, выбирая самую крупную и красивую ракушку. Локтя до того втянулся в дело, что даже покрикивал на Маряну, когда на ее лопате оказывался один песок, выбрасывал за борт ракушечный бой.
— А про отца Василия ничего не знаешь? — вполголоса спросила Маряна.
— Откуда?
— Так вот… Это все от Авери… — полушепотом сказала Маряна, чтоб отец не слыхал. — Утварью закрытой церкви торгует… Четыре иконы вчера Льву продал…
— Что ты говоришь?! — воскликнула Фима и вдруг вспомнила пристань, подошедшую «Ракету» и Аверю, знакомящего попа со Львом, и вежливый разговор их.
— А туристы-то переругались насмерть, разъехались.
Локтя поднял на них чуть раскосые, как и у Фимы, глаза. Маряна вдруг спохватилась:
— Работай… Нечего подслушивать старших… Мало ли о чем мы хотим поговорить.
Локтя надулся:
— Я работаю… Ты не забыла, завтра нам опять дом обмазывать? Или сбежишь?
— Ох, этот дом! — Фима насупилась. — Когда же наконец станут у нас строить не из этого чертова ила?
— Сбежишь? — опять спросил Локтя.
— Это уж мое дело: захочу — сбегу, захочу — нет.
— Не сбегай, Фима, не надо, мама жаловалась с утра на поясницу и…
— Там видно будет. Работай.
Глава 10 А УТРОМ…
Фимины ноги вязнут в иле, она топчет крутую жижу, перемешанную с соломой, тяжело перебирает ногами. Груня, получившая в бригаде отгул, мажет во второй раз просохшие стены. Мать бросает ил из лодки на греблю.
Солнце взошло не так давно, и его косые лучи пробиваются сквозь заросли акации: эти деревья любят здесь сажать, и не только потому, что тут они хорошо растут, но и потому, что ствол у них твердый, тверже дуба, и всегда идет на жерди для каркаса дома — не поломаются, не подгниют.
Ил шуршит, чавкает, чмокает под Фимиными пятками, а сзади — шлеп-шлеп-шлеп — с материной лопаты слетают, сползают огромные темные лепешки…
Локтя снует по дому — готовит завтрак. Когда нужно будет, Фима позовет его, и они потащат груженые носилки к дому, и она тоже начнет мазать.
По телу бежит пот, щиплет глаза. Тупо ноют коленки.
Могла б отказаться: «Не хочу, и все». — «Уходи из дому вон!» — «Пожалуйста!» И она уйдет, обязательно уйдет! Это никогда не поздно. Но бежать она не хочет. Это самое простое. Странно, но именно сейчас, после всего, что случилось, какая-то сила удерживает ее здесь, дома.
Вдруг где-то совсем рядом Фима услышала ребячьи голоса. Все знакомые. Вот чуть сиплый голос Власа. Вот резкий — Акима. А вот тоненький — Ванюшки… Даже Аверя тут! И куда это они собрались всей гурьбой? Верно, куда-нибудь на экскурсию. А ее-то и не позвали. Думают, если у нее мать такая строгая, то она уж и уйти никуда не может…
Стукнула калитка, показался Влас:
— Приветик!
На нем донельзя изношенные штаны и видавшие виды брезентовые туфли; большой палец выглядывает из дыры. За ним — Ванюшка, Аким, Селька, Сергей, Лука, Нинка, Василь… А вот и Аверькина голова маячит, и все в каком-то грязном тряпье. Кое у кого на плече лопата.
Мать так и застыла в лодке с лопатой на весу, — ил капает на ноги. Фима замерла в месиве, точно ноги вырвать не может. Груня с лесов обернулась — никак не поймет, что такое. Локтя испуганно вытаращился из дверей дома…
— Батальон, смирно! — проревел Аверя.
Ребята с хохотом опустили лопаты.
Тогда Аверя, чеканя шаг, подошел к ерику, где в лодке стояла Фимина мать, поднес ладонь к виску и громогласно заревел:
— Товарищ начальник, строительный батальон номер один по приказу дружины средней школы города Шаранова в ваше распоряжение прибыл! — и так закатил, так чудовищно выпучил глаза, что оба дома, новый и старый, задрожали от хохота.
Мать опустила лопату, вздохнула, посмотрела на двор через ограду и крикнула:
— На клубнику там не посматривайте! Не для вас сажена.
Фима отвернулась и вытянула ноги из месива.
Ладонь опять взлетела к Авериному виску.
— Пришли не клубнику кушать — строить пришли!
— Ладно вам, дурошлепы. — Мать нагнулась и всадила лопату в ил.
Аверя подмигнул ребятам, выскочил из туфель, засучил повыше драные брюки из «чертовой кожи» и принялся с таким остервенением месить ил, что Фиме там делать было нечего. Она отошла в сторонку.
По ерику подъехал на лодке Федька Лозин. Аверя повернулся к нему и дал команду:
— Федор, хватай Сельку — и за илом!
Мальчишки уехали к Дунайцу. Девчонки стали подносить к дому ил и подавать Груне. Одна девчонка взобралась на леса и тоже стала вмазывать ил в камышовую стену.
— А умеешь? — недобро спросила бабка.
— Не так что — прогоните, батя оставался доволен.
Это говорила дочка заведующего подсобным хозяйством колхоза, куда входила и Грунина бригада мазальщиц.
Все нашли себе работу. Кое-кто подправлял шатающийся плетень и укреплял столбики, на которые опирались доски кладей. Девочки возились на цветочной клумбе, выпалывали сорную траву.
Фима была ошеломлена. Она вспомнила, что не с такой уж охотой ходила мыть полы к бабке Матрене, а тут столько народу привалило — чуть не весь отряд! Не верилось просто. И, улучив момент, она тихонько спросила у Авери:
— Маряна все подстроила?
— Какая Маряна? Да где ты видишь Маряну?
— Не придуривайся. Она. Кто же еще?
Фима не сомневалась. Кто, кроме нее, догадался бы! Одна она у них такая, Маряна, и это ее работа!
— Думай как хочешь. — Аверя вздохнул, шмыгнул носом и как-то сразу превратился из горластого и неунывающего парня в обычного и понятного. — Фим, — сказал он негромко, — ты на меня не особенно… Плохо я это… Глупо все как-то, по-дурацки получилось…
— Да что ты, чудак! — заспешила Фима, боясь того, что он мог сказать дальше. — Пустяки какие! Иди лучше носилки тащить помоги…
И Аверя, приободренный, что она не заставила его говорить то, что так трудно было сказать, поспешно отошел от нее. И тут Фима услыхала, как мать позвала Локтю.
Босой, в одних трусиках подбежал Локтя к матери; она уже выбросила из лодки весь ил и стояла на гребле, опершись о лопату.
— Где твой крестик? — в упор спросила она.
И тут Фима увидела, что Локтя и вправду без креста.
— Нету! — Локтя отскочил от матери, точно ждал удара. — Выбросил, в море выбросил! — и еще дальше отскочил.
Мать побледнела. Пальцы, сжимавшие ручку лопаты, побелели.
— Как ты смел?
Локтя ничего не ответил. Склонил лобастую голову, и одно ухо его слабо пошевелилось.
Потом тяжело и медленно сказал:
— Не хочу.
Мать влезла в лодку, оттолкнулась ногой и опять поехала за илом.
Ребята продолжали работать. Скоро мать приехала. Ребята не дали ей разгружать ил, потому что многим нечего было делать, — с лопатами наперевес бросились трое к лодке. Мать побрела к лесам, на которых сидела Груня. Бабки рядом не было. Где ж она?
Фима нашла ее в доме: бабка торопливо пересыпала из мешочка в корзину жареные семечки, и Фиму вдруг бросило в краску.
— Хоть этот вечер потерпела бы!
— Не указывай! — буркнула бабка. — И кто тебя просил нагонять столько? Попробуй накорми теперь всех… Сами бы справились…
— А я и не звала их! — Красная от стыда, Фима выскочила наружу.
Мать больше ни на кого не кричала. Она вместе с Груней молча вмазывала в стенку плотный и клейкий, как бетон, ил. Фима подавала и, подавая, краем уха услышала:
— Одна ты у меня осталась, Грунюшка. — Мать всхлипнула. — И зачем растила детей, ночи не спала, дня не видела?.. Локтю и того увели… Нет нынче у детей послушания и веры. И не надо их таких, не огорчайся, что своих не имеешь… Есть у меня старик да ты… И больше никого.
Фима не могла слышать ее голоса. Она отошла от дома и стала помогать разгружать лодку. Скоро приехали на другой лодке Федька с Ванюшкой, и работы прибавилось. Фима бросала тяжелое, убегающее с лопаты месиво, и вдруг ей стало пронзительно жаль мать: она все-таки много сделала для нее, для своих дочерей и сыновей и только не смогла понять одного: время их другое, и они не могут жить по законам времени, которое кончилось…
Ну как это ей объяснить?
1963
Примечания
1
Так древние греки называли Черное море.
(обратно)
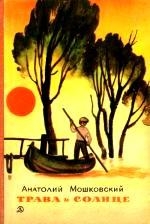





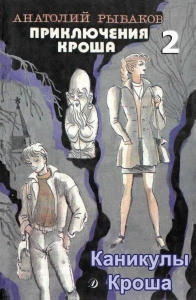



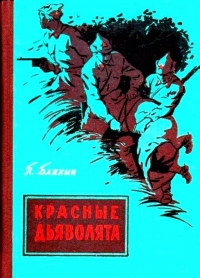


Комментарии к книге «Трава и солнце», Анатолий Иванович Мошковский
Всего 0 комментариев