ПОХОЖДЕНИЯ ВАНИ ЖИТНОГО, или ВОЛШЕБНЫЙ МЕЛ
Глава 1. Больница
Детей находят в капусте, аисты своими длинными клювами вытаскивают ребятишек из колодцев и приносят родителям, говорят даже, что ребёночка можно купить, если, конечно, заплатишь хорошие деньги.
Ваню Житного однажды ранним утром тысяча девятьсот восемьдесят четвёртого года нашли на вокзальной скамейке одного из городков средней полосы.
Людей в зале ожидания было немного, кое‑кто провёл тут ночь на мешках, баулах и чемоданах. Среди прочих была пассажирка с двумя детьми, приехавшая из района загодя, с вечера, чтоб поспеть на ранний поезд, следующий куда‑то на юг, не то в Курск, не то в Ростов. Она и обнаружила на соседней лавке свёрток с младенцем.
Ребёнок разбудил её, наладившись издавать звуки, свойственные всем голодным младенцам такого возраста. Пассажирка поохала, посмотрела в одну сторону, в другую — нет, матери нигде не видать. Подошла, взяла на руки, потетёшкала — ребёнок примолк. Положила сверток туда, откуда взяла, поглядела на часы, на своих двух свернувшихся калачиком дочек, ещё раз оглядела зал ожидания — матери по–прежнему не было, а младенец вновь принялся кричать. Пассажирка, вздохнув, вновь взяла свёрток на руки, откинула покрывало и увидела щекастого младенца в замызганном байковом чепчике, из‑под которого дыбился треугольный чубчик белобрысых волос.
Уставив на неё сердитый взгляд — глаза у него были, как отметила пассажирка, цвета прояснившегося неба за вокзальным окном, — младенец выпростал ручонки, с досады затолкал в рот целый кулак и с причмоком принялся сосать его, ясно давая понять, что не прочь бы отведать чего‑нибудь более существенного. Решительно разворошив пелёнки, пассажирка по некоторым известным ей признакам обнаружила, что это мальчик, а не девочка. Тут старшая дочка пассажирки, не успев продрать глаза, не умывшись и не расчесавшись, настоятельно стала требовать взять кагоньку[1] к себе, мотивируя свои требования тем, что у неё нет братика и папа сколько раз уже заводил речь о наследнике…
И вдруг трубный голос объявил, что ожидаемый ими скорый поезд прибывает на второй путь. Пассажирка, с орущим и яростно выгибающимся свёртком в одной руке и чемоданом в другой, заметалась по залу. По пятам за ней с пузатыми мешками в руках неслись уже обе дочки и в два голоса умоляли взять в поезд ничейного ребёночка. Неизвестно, чем бы дело кончилось, — вполне возможно, что дочкам удалось бы уговорить мать, которая и сама уже склонялась к тому, чтобы взять мальчика с такими же, как у её девочек, волосами, — но тут откуда ни возьмись, словно перст судьбы, вывернулся дежурный милиционер, которому женщина, не раздумывая больше ни минуты, и сдала младенца с рук на руки. Семья второпях погрузилась в свой поезд дальнего следования и исчезла в южной дали. Там мы их и оставим вместе с напрасными уже сожалениями и вечными вопросами, что было бы, если бы… и как бы оно повернулось, кабы…
И вернёмся к милиционеру, который, как положено, отнёс свёрток с орущим младенцем в дежурную часть вокзала, где он извивался некоторое время на милицейском столе, как на горячей сковороде, обмочив несколько протоколов, а оттуда его доставили в инфекционную больницу, на карантин. Там‑то и обнаружили записку, на живульку пришитую к изнанке покрывала, из которой стало известно имя мальчика, далее следовала приписка, дескать, я от ребёнка ни в коем случае не отказываюсь и скоро за ним вернусь. Никакой подписи не было. Когда мальчика раздели, вокруг запревшей шейки увидели ожерелье из сушёных змеиных головок, ожерелье, чтоб не разводить антисанитарию, с приличествующими случаю плевками немедленно выкинули в помойный бак.
Так‑то вот Ваня Житный и оказался в инфекционной больнице, где и прожил без малого девять лет. Ни дома ребёнка, где брошенные младенцы обретаются до трёхлетнего возраста, ни детского дома, где в дальнейшем протекает их сиротская жизнь, в городке не было. Поскольку неизвестная корреспондентка, не оставившая адреса, от Вани не отказалась, а, напротив, грозилась вернуться, то отдать его на усыновление не имели никакого права. Поэтому в больнице здраво рассудили: что в лоб, что по лбу — всё одно, то есть, что в детском доме жить, что здесь — для Вани разницы никакой.
Лежал Ваня как кум королю, в отдельном боксе. Первое время к нему частенько наведывались любопытные молоденькие медсестрички, пытавшиеся освоить науку пеленания, кормленья из бутылочки и тому подобное, каковая могла им пригодиться, как они надеялись, в недалёком замужнем будущем. Но довольно скоро эта наука навязла у них в зубах, и они уже гораздо реже появлялись в Ванином боксе. Обязанность кормить и обихаживать Ваню легла в основном на санитарку Нюру, которую он стал отличать от всего остального человечества. Уже через несколько месяцев, едва завидев за стеклом двери её круглое лицо с приплюснутым носом, мальчишка начинал прыгать и подскакивать чуть не до потолка, так что железная кроватка грозила развалиться на запчасти.
Может, так бы и пролежал Ваня в своём боксе безвылазно все девять лет, если бы не сердобольная санитарка, которая вытащила его из тесной одиночки в большой больничный свет: инфекции, мол, инфекциями, а взаперти дитё всё одно не продержишь… Как‑то раз, когда больные разошлись по палатам, Нюра притащила младенца в столовую, чтоб накормить дармовой манкой. Сидя на обширных коленях санитарки, ровно на троне, Ваня загодя широко разевал рот, во все глаза следя за тем, как ложка опускается в холодное белое море густой каши и, доверху полная, плывёт по воздуху к нему. Нюра разводила тары–бары с раздатчицей, а Ваня, не переставая следить за равномерными движениями ложки, внимательно вслушивался, стараясь, как и положено всякому усердному младенцу, выделять и понимать слова. Поскольку главврач замечания самоуправной санитарке не сделала, то так и повелось: кушал Ваня теперь в столовой и слушал, что говорят вокруг него да около; его мирок раздался до размеров отделения.
Когда он стал ползать, в Ванином распоряжении оказался бесконечный больничный коридор, со множеством поворотов и загогулин, где можно было сидеть, слушать и наблюдать, а то и попытаться сыграть с кем‑нибудь в прятки. Но все были шибко заняты, редко когда доставалось Ване чьё‑либо ласковое прикосновение или слово, а играла с ним одна Нюра, вырывая из своего рабочего времени дорогие минуты. «Где Ваня? Тю–тю Вани?» — кричала громогласная санитарка, отыскивая его то под шкафом с лекарствами, то под кушеткой, за свесившейся рыжей клеёнкой (сверху лежал очередной больной, которому ставили клизму), то в каморке, среди вёдер и швабр.
Гулять с Ваней не гуляли — у санитарки работы и без того было через край. Но однажды Ваня попал‑таки на улицу. Обычно дверь, которой заканчивался коридор, была заперта, а тут кто‑то оставил её приоткрытой… Ваня, обнаружив прореху, которая вела в неизвестное место, боднул дверь, от чего она распахнулась, живо выполз на площадку и вполз в широко раззявленный рот лифта, тут же за его пятками сомкнувшийся. Лифт с проглоченным Ваней, удовлетворённо урча, пополз вниз, пасть опять раскрылась — и Ваня выбрался наружу. Он быстрёхонько прополз между чьих‑то ног, через очередные двери выполз на крыльцо и… остолбенел, вцепившись давно не стриженными коготками в камень площадки. Ослеплённый ярким солнцем, оглушённый широтой открывшегося пространства, заполненного неизвестными предметами, красками и звуками, Ваня зажмурился, потряс головой с мотавшимися туда–сюда волосёнками и попятился назад… Кто‑то из отделения как раз шёл мимо, подхватил мальчишку и водворил на место. Но Ваня успел‑таки поместить в себя широту мира.
Потом санитарка принесла из дома внучкины ходунки, поставила в них Ваню и, дав легкого шлепка, пустила — Ваня, окрылённый, помчался вперёд, а вскорости выучился ходить без всяких ходунков. Однажды вприскочку, как молодой бычок по зелёной травке, бегая по коридору, затянутому драным линолеумом, он на одном из углов столкнулся с мамашей, торопившейся вынести полнёхонький горшок своего сынка, больного дизентерией… Эмалированная крышка соскочила и покатилась колесом, а содержимое горшка выплеснулось частично на пол, а большей частью на ошеломлённого Ваню. Как назло было не Нюрино дежурство, другая санитарка взвыла, что не будет убирать говно, мамаша тоже отказалась. Старшая медсестра, призванная рассудить спор, хотела перво–наперво выдрать негодного мальчишку, но побрезговала, пол досталось мыть мамаше, а загаженного Ваню поручили санитарке. Кое‑как, с матами–перематами его отмыли и затолкали в бокс. Старшая строго–настрого приказала больше его оттуда не выпускать. Других последствий это столкновение не имело — Ваня провёл положенный инкубационный период взаперти, но дизентерией, вопреки всем прогнозам, не заболел. Больничный воздух, пронизанный всевозможными инфекциями и бактериями, стал для него родным: «Удобрили нашего Ваню по самую маковку, — смеялась Нюра, — авось расти лучше будет!»
Когда угроза заражения миновала, Ваню стали выпускать из одиночки, но только после того, как старшая медсестра уйдёт домой. Как‑то раз Ваню выпустили, а та некстати вернулась — зонтик забыла… Застигнутый врасплох, он сжался под грозным взглядом старшей… «Ах ты, маленький говнюк!» — сказала она, но водворять его на место не стала, и шлагбаум в большой больничный мир опять для него открылся самым законным образом. Но теперь Ваня был учёный: ретивых мамаш с полными горшками старался обходить стороной и на глаза начальству не попадаться, когда шёл, скажем, врачебный обход, сидел в своём боксе — и ни гу–гу.
Ваня рос, а дни текли, как тихие часы. Больные приходили и уходили, болезни с известными именами находили себе всё новые и новые человеческие оболочки — врачи, указывая на разных людей, произносили одно и то же: сальмонеллёз, или гепатит А, или палочка коли, или энцефалит. Имена больных, с некоторыми из которых любознательный Ваня заводил знакомство, забывались, а названия болезней оставались. Особенно интересовали Ваню ребята — такие же, как он, с которыми он мог бы поиграть. Ребята поступали в больницу порушенные болезнями: полуживые, бледные, зелёные, немощные, плачущие, не встающие с постелей, иных рвало не переставая, иные поносили безостановочно — нет, с этим народом играть было положительно невозможно. Атаки болезней, которые угнездились в людях, врачи отражали, имея в арсенале три вида вооружений: мечи уколов, боеголовки капельниц и яд таблеток. Ваня выучился воевать всеми тремя способами. Он ставил уколы рыжим резиновым клизмам, таким же подушкам и надутым шнурам, приводя всё это в негодность многочисленными проколами.
А однажды ночью, когда дежурная медсестра, покинув свой пост, спустилась к санитару в морг распить бутылочку беленькой, а мама больного малыша рвала и метала, крича, что у ребёнка температура сорок, а их тут шаром покати, разбуженный Ваня выбрался из бокса, открыл процедурную, надел белый халат, — края которого волочились за ним, как шлейф, — взял шприц, набрал полкубика анальгина пополам с димедролом, вошел в палату и, воспользовавшись отсутствием бегавшей по коридорам заполошной мамаши, всадил укол куда положено. Когда сестра прибежала, температура у больного уже упала до тридцати восьми. Ваня считал, что теперь–то ему могли бы доверить ставить уколы не только клизмам, а и людям, но этого не случилось. Ванин вид не внушал доверия — ему всего‑то шёл тогда седьмой годок. Зато ему доверяли относить по утрам банки с анализами в лабораторию, которая была в подвале, приносить истории болезней из приёмного покоя, разносить лекарства по палатам, выносить судна, следить за капельницами… Ваня, как мог, старался помочь врачам и сёстрам ставить больных ребят на ноги. После всех усилий болезнь чаще всего удавалось одолеть — и тогда лежачие превращались в ходячих и бегающих, это были совсем уже другие дети, шумные и весёлые, с которыми можно было бы и поиграть… Но тут‑то их и выписывали. А выписка — это конец. Ни одного выписавшегося Ваня никогда больше в своей жизни не встречал.
Больным детям и взрослым из дому приносили передачи, которые держали в столовой, в общем шкафу, — и Ваня по ночам брал то оттуда, то отсюда: где яблоко, где печенинку, где банан, стараясь ни в коем случае не попасться… Он оправдывал себя тем, что раз это добро находится в больнице — значит, оно больничное, то есть общее (и ведь иначе у Вани не было никакой надежды отведать запредельные яства). Кое‑кто из выписавшихся детей забывал в палате игрушки или книжки — и они тоже доставались Ване, но это было очень и очень редко, потому что есть примета: если что‑то из личных вещей, вплоть до куска мыла, оставишь в больнице, то непременно вернёшься обратно. Поэтому из игрушек у Вани была только свистулька, на которой он прегромко выучился насвистывать, подражая голосам птиц, которые сидели на деревьях, охранявших больницу, а из книжек — потрёпанный сборник русских народных сказок, причём у первой сказки не было начала, а у последней — конца.
Читать он выучился по плакатам, висящим на стенах больничных коридоров: «Берегись — грипп!». Или: «Что нужно знать о дифтерии…» А то ещё: «Кто такой энцефалитный клещ». Но всё это были старые зависевшиеся плакаты, а однажды на стене появился совсем свежий, от него так вкусно пахло типографской краской, что Ваня облизнулся, на этом плакате кроваво–угольными буквами было написано: «СПИД — чума XX века». Из этого заголовка Ваня наконец узнал, в каком веке живет. Ваня много чего умел, не только ставить уколы и читать плакаты — от буквы до буквы, от самых крупных букв до самых меленьких: «тираж 100000 экземпляров». Санитарка Нюра с четырёх годков выучила его мыть полы: «Ты хлорку‑то не жалей, сыпь, сыпь её в ведро, вот так, теперь тряпку намотай на швабру, ведёрко‑то я тебе помогу донести…» И к семи годам Ваня вовсю уже тёр коридоры, палаты, кабинеты врачей, процедурную и прочие каморки и закоулки отделения. Нюра почти все свои дежурства просиживала теперь у кастелянши, жалуясь, что ноги у неё стали колоды колодами, совсем не хотят ходить…
По временам в больнице был такой наплыв больных — чаще всего это бывало летом, в жару кишечным бактериям одно раздолье, — что Ване приходилось ночевать в коридоре, в его бокс клали кого‑то из заболевших. Но случалось это не часто, бокс был почти личной его комнатой, и не один детдомовец, деливший палату с десятком соседей, узнав о таком потрясающем везении, позавидовал бы больничному сироте чёрной завистью.
А с каждым годом в больницу на карантин всё больше поступало таких же брошенных детей, как он. Правда, в отличие от него почти все они были больны и вылечить их, как говорила Нюра, не было никакой людской возможности. У кого‑то был церебральный паралич, у кого‑то болезнь Дауна, кто‑то отстал в развитии так, что теперь уже не догонит. После того как карантин заканчивался, за этими детьми приезжали и увозили в специальный детский дом, который находился в соседнем райцентре. Ваня же оставался в больнице.
И вот мало–помалу Ваня Житный дотянул до того возраста, когда детей определяют в школу. Читать плакаты от слова до слова — это одно, а ходить в школу — совсем другое. Тут портфель нужен, учебники, тетрадки, опять же в больничной пижаме и дерматиновых шлёпанцах на три размера больше, чем нужно, в школу не побежишь! А куртка, а шапка, а ботинки! Целый склад вещей! Решили, пускай уж Ваня этот год сидит в больнице, а потом придётся его, как ни крути, везти в область, определять в детский дом… Ваня испугался до диареи, он привык к инфекционке, другой жизни не знал и не хотел знать, и потом — его оставили в этом городе, значит, в этом городе и будут искать, а если он поселится в областном центре, как же мать его сыщет? (Нюра по секрету рассказала ему про покрывало, которое до сих пор, говорят, где‑то припрятано, и про записку, в которой за ним обещались вернуться…) На следующий год в область его не повезли, общими усилиями собрали в школу — у кого что от детей–внуков осталось, то и принесли Ване.
Школа стояла неподалёку — Ваня в окно своего бокса видел её среди жилых домов, — и учиться Ване нравилось: читать он умел, писать–считать быстрёхонько выучился. В его боксе стола–стула не было, на тумбочке особо не разложишься, поэтому уроки он делал на столе, где был пост дежурной медсестры, решал, шевеля губами, свои задачки и примеры, а вокруг шла обычная жизнь. Сестра сзывала больных в процедурную на уколы. Вели мимо только что обработанного новенького. «Куда ж мне его положить?» — задавалась вопросом Нюра, и Ваня, кинув свою писанину, подсказывал: «В пятой палате место освободилось, выписались давеча с ребёнком‑то…» — «В пятую идите, сейчас бельё принесём…» — И Ваня бежал за свежим бельём. Потом раздатчица кричала, погромыхивая судками: «Ужин! Все на ужин!» — и Ваня шёл ужинать.
Ужин был рано, раздатчице не терпелось уйти домой, а вечер долгий — Ваня набирал хлебца с общей тарелки, в тумбочке у него стояла соль, и часов в восемь устраивал себе одинокий второй ужин. В больнице сменились порядки — больные держали теперь передачи в прикроватных тумбах, и Ваня остался без печенья и фруктов. В остальном жизнь его мало изменялась: друзей у него по–прежнему не было. Он не мог пригласить одноклассников к себе в гости: никто бы ему не позволил, да и кто бы к нему пошел! И они не звали его домой — родители опасались, что Ваня может быть носителем заразы: сам, дескать, не болеет, что такому‑то сделается! А других позаражает. Об этом и на родительском собрании поднимался вопрос, но никто из одноклассников никакой из инфекционных болезней не заболел, зато к Ване прилипла кличка Инфекция. Главврач на родительские собрания не ходила: на ней больных целый воз, а бумаг и того больше, лекарств не хватает, одноразовых шприцов нет, а тут — родительское собрание… Нюре тоже было недосуг.
Приблизительно раз в четверть, а то и чаще, учительница посылала главврачу записку. Ваня, вздыхая, передавал её из рук в руки. В записках было одно и то же: «Уважаемая главврач городской инфекционной больницы № 1! Настоятельно прошу Вас обратить внимание на длину Ваниных волос, она уже перешла всякие допустимые границы! С такими волосами посещать учебное заведение противопоказано… Очень прошу Вас, постригите Ваню, иначе он не будет допущен к занятиям. Подпись и число». Дальше всё шло по одному и тому же рецепту: главврач хваталась за голову и звала Нюру. Санитарка, с трудом отыскав единственные на всё отделение тупейшие ножницы, пыталась совладать с Ваниной шевелюрой… А надо сказать, что умывался‑то Ваня каждый день, поскольку кран с раковиной в боксе был, а вот остальные части тела, в том числе голову, мыл не чаще чем раз в три месяца — и это ещё хорошо! Ванна была одна на всё отделение — и мытьё в ней не приветствовалось, да и проржавевший душ выжимал из себя воду тоненькой капелью, причём вода была один раз кипяток, другой раз — чистый ледок. И Ванины волосы, густые от природы, от грязи становились ещё толще, соединяясь в кисточки, и росли не по дням, а по часам. Поэтому голова его смахивала на соломенное воронье гнездо. Расчесать этот клубок непослушных волос Ване тоже никак не удавалось — расчёски с пластмассовым хрустом переламывались пополам. «Чесалок на тебя не напасёшься» — ворчали в отделении. Нюра отхватывала ножницами, — которым волосы пытались всячески сопротивляться, — где много, где мало, потому вид у Вани после стрижки был совсем ужасный, но одно можно было сказать смело: волосы стали короче. Правда, ненадолго. Ногти Ваня давно приноровился обгрызать — не потому, что был нервный ребёнок, а по той же причине, что ножницы замаешься искать — поэтому с ногтями в школе проблем не возникало. А с волосами — да, были проблемы…
Однажды в так‑то протекающую Ванину жизнь ворвалось телевидение. Решено было для выздоравливающих, а также для дежурного персонала поставить в столовой телевизор. Решили — сделали. И Ваню от этого окошка, которое, как ему казалось, выходит в большой мир, стало не оторвать. Дела он перестал проворить, уроки делал через пень колоду, свистулька валялась на тумбочке — Ваня, уперев глаза в одну точку, смотрел в теледыру. Спать его загоняли чуть не толчками и пинками. За полгода в бедную Ванину голову наползло из этой дыры столько всяких замысловатых сведений, которые торчали в ней колом и вовсе непереваренными кусками, сколько за всю прежнюю жизнь не попадало.
А потом из Москвы в их больницу приехал корреспондент программы «Взгляд», и не за тем, чтоб рассказать, как тут людей на ноги ставят, а чтоб на Ваню Житного поглядеть, а после всем его показать. Как в Москве узнали про Ваню, живущего в инфекционной больнице провинциального городка, никто бы сказать не взялся! Ваня знал, да помалкивал: пока телевизора не было, про него не ведали, как телевизор появился, всё стало известно. Дело ясное: ты в него смотришь, он в тебя… В больнице началась беготня, суета, Ваню пытались расчесать, переодеть из пижамы, в которой он по–прежнему сновал по больнице, — в школьное, наконец, немножко причепурив, вывели из бокса и представили московскому корреспонденту, рядом с которым стоял оператор с большущей камерой. «Вот он — наш красавец!» — сказала главврач, а старшая медсестра дружески приобняла Ваню за плечи и притиснула к себе. Собралось всё отделение, больные — и стар и млад — приникли к застеклённым дверям боксов, повысовывались из палат, не было только Нюры, не её дежурство оказалось. Ваня косился на камеру и молчал.
«Он у нас трудяга — как полы моет, любо–дорого посмотреть!» — высунулась старшая. Ваня видел, что главврач, сделав большие глаза, попыталась её остановить — но было уже поздно, корреспондент захотел посмотреть, как Ваня управляется со шваброй. Принесли орудия труда, велено было освободить площадку, корреспондент отправил всех собравшихся за спину оператора, где они и толпились. Ване дали в руки швабру и велели мыть коридор и ни в коем случае не поглядывать на камеру. Все стали смотреть, как Ваня трёт пол. Ваня старался изо всех сил, но не протёр и пяти метров линолеума, как корреспондент его одёрнул: «Потише, потише ты, камеру сшибёшь!» — и засмеялся. «Хорош, снято!» — сказал он оператору, швабру у Вани выхватил, сунул старшей медсестре и велел унести на место. Потом повёл его в бокс и начал задавать вопросы. Нравится ему в больнице жить или не нравится? Ваня сказал, что очень нравится, а в детдом он не хочет…
— Ты что — не боишься заразиться какой‑нибудь страшной болезнью и умереть?
— Я привычный, — отвечал Ваня.
— А есть у тебя друзья?
— Есть, Нюра, санитарка, только сегодня не её дежурство.
— Кем ты видишь себя в будущем?
Ваня себя в будущем никем не видел, но корреспондент велел ему сказать, что Ваня видит себя медбратом, и Ваня отвечал, как велено. А оператор в это время снимал да снимал. Потом корреспондент заметил свистульку на тумбочке — и бросился на неё, как орел на куропатку: это твоя? Свистеть умеешь? — Ваня кивнул, и с готовностью посвистал мелодию, которую напел корреспондент: не будь ко мне жестоко, прекрасное далёко, прекрасное далёко, жестоко не будь…
Потом Ваню показали по телевизору — и главврач там была, и старшая медсестра, Нюра горько жалела, что её не оказалось в тот день на работе и никто‑то её не позвал. И в интервью не осталось про Нюру ни вопроса, ни ответа — вырезали, объяснили Ване сведущие люди. А потом приехал ещё один корреспондент, на этот раз из местной газеты, — и вскоре про Ваню Житного из инфекционки появилась статья. Целую неделю и в больнице, и в школе разговоров было только про Ваню. И одноклассники, и ребята из старших классов провожали Ваню придирчиво–завистливыми взглядами, не давая Инфекции прохода, старались насолить где только можно. А ещё через пару недель телевизионно–газетный фурор забылся — и жизнь вошла, казалось, в прежнюю колею.
Глава 2. Встреча
День был томительный, воскресный. Ваня сидел на широком подоконнике и перечитывал свои потрёпанные русские сказки, — библиотечных книг ему с собой не давали, опасались, что больничная зараза через книги пойдёт гулять по всей школе. Ваня, читавший иногда книжки в читальном зале, вычитал в одной из них, что страницы книг и впрямь могут быть отравленными, возьмешь её в руки, откроешь — и бац — упадёшь замертво. Поэтому не роптал.
Оторвавшись от сказки про Лутонюшку, он блуждающим взором охватил свой бокс. Кровать его была заправлена по–солдатски — старшая медсестра не терпела беспорядка. В углу стояла одноногая деревянная вешалка, которую Нюра притащила из кладовки со старой рухлядью, на ней висели школьная форма, тёмное клетчатое пальтишко и задрипанная ушанка — шапка на все сезоны. На полу стояли огромные, разбитые, все в трещинах ботинки. По другую сторону двери находился кран с раковиной, где лежал осклизок хозяйственного мыла. Ваня поглядел в окно: за окном плакал дождь, стекая каплями по своей сторонке стекла… Телевизор в больнице сломался, и чинить его было некому… Наступало время тихого часа — Ваня, хоть и не был больным, должен был соблюдать общий режим… Потом будет полдник, дадут киселя с хлебом, потому что вчера было какао. После надо будет разнести лекарства по палатам, потом позовут на уколы, дальше — ужин… И целая пропасть времени до ночного сна… И так день за днём… Ваня тяжко вздохнул и позадумался о своей больничной жизни.
И вот, когда он совсем так‑то приуныл, нежданно и негаданно начались перемены… В бокс влетела запыхавшаяся Нюра с криком: «Ваня, ой Ваня! Там какая‑то старуха пришла, говорит, твоя бабушка!» Ваня соскочил с подоконника, уронив книжку, хотел поднять, махнул рукой и мёртвой хваткой вцепился в санитарку: «Где? Где она, Нюра, где?» Он знал, он всегда знал, что за ним придут! Он ждал, ждал все эти годы, ждал, ждал — а никто не приходил, обещались прийти — и не приходили. И вот… Только он не думал, что это будет бабушка. «Да отпусти плечо‑то, больно ведь… За дверью ждёт, в отделение‑то её не пускают. — тарахтела Нюра. — Главврач сегодня в приёмном дежурит, послали за ней. Сейчас, небось, в кабинет пойдут, разговаривать. Ой, Ваня, Ваня… Не понравилась мне она. Сердитая больно. Зубы все железные. И откуда она взялась‑то? Жил себе, жил… Разве ж тебе тут плохо? Сыт, одет, в тепле… Куда ты пойдёшь‑то от нас? Ох, Ваня, Ваня…» — Нюра опустилась на кровать, закачав головой, и плечами, и всем туловищем. Ваня же, не слушая уже санитаркиных причитаний, теряя шлепанцы, бросился вон из бокса — сначала в одну сторону, по направлению к двери, где его ждали… Сколько раз приходили посетители к больным — а к нему никогда… И вот теперь… Потом, резко затормозив, бросился в другую — он решил подслушать, про что они будут говорить, а ну как его не отдадут бабушке!
Ваня побежал в конец коридора, мимо всех палат и боксов, мимо двери в столовую. За углом, в самом конце, за перегородкой был кабинет главврача — дверь, как часто бывало, оказалась не заперта. Ваня вошёл и огляделся — где тут спрячешься? Под столом нельзя, за шторкой — увидят, в шифоньере… Послышались голоса, шаги… Вот идут! Распахнул одну дверцу: папки с историями болезней на полках, какие‑то бумаги, другую — тут висят накрахмаленные белые халаты, пальто… Ваня влез между халатами и только успел прикрыть дверцу, оставив щель, как в кабинет вошли.
Главврач расположилась за своим столом, бабушка села напротив. Ваня из своего угла видел её профиль: в тёмном платочке, в плюшевой жакетке, на коленях держит котомку. Ванино сердце неистово колотилось, грозя выскочить вначале из груди, а после из шифоньера.
— Василиса Гордеевна, я ещё раз говорю — без бумаг я не могу отдать мальчика, не положено, — видно продолжая начатый в коридоре разговор, отчеканивала слова главврач. Ваня оторопел в своём шифоньере — так он и знал! На всё нужен рецепт!
— Дак это же внук мой, внук, он Житный — и я Житная, вот мой паспорт, поглядите, там всё написано… — бабушка полезла было в котомку, но главврач замахала на неё руками:
— Там про вас всё написано, а про Ваню там ни слова нет. Вы, как его родная бабушка — как вы утверждаете — можете оформить опеку, а для этого вам надо привезти документы, соберёте документы — приезжайте. А комиссия уж там решит — отдавать вам мальчика, нет ли, вы уже в таком возрасте… Всякое может случиться.
— С теми, кто помоложе, тоже всякое случается, — резонно заметила бабушка. Голос у неё скрипел, как несмазанная телега.
— Не спорю. Значит, где мать мальчика, вам не известно. А где отец, кто он такой?
— Не знаю и знать не хочу. А внука вы мне отдайте. Чего он, как погань какая, в больнице живёт. Я ему бабушка — а вы ему кто? Врач? Так сами говорите, что он не больной, зачем ему врачи? Не дело это. Я его домой забираю… Нехай со мной живёт.
— Я вам ещё раз повторяю — до–ку–мен–ты! Без документов никто вам мальчика не отдаст! Это подсудное дело! — совсем уже повысила голос главврач. — Соберёте документы — тогда поговорим.
Повисло тягостное молчание.
— А какие документы‑то? — сдалась бабушка.
— Справка из собеса о размере вашей пенсии, справка из домоуправления о составе семьи, справка о размере жилплощади, а также резолюция жилкомиссии об условиях проживания, решение суда о лишении матери родительских прав, справка о состоянии вашего здоровья за подписями всех специалистов, — главврач, перечисляя, загибала пальцы и одновременно привставала со своего места, давая этим понять, что пора, мол, и честь знать, времени у неё в обрез, надо и делами заниматься, небось, хвост в приёмной выстроился из больных‑то. Бабушка тоже привстала… И тут случилось неладное. На столе главврача стояла подаренная кем‑то хрустальная ваза, из которой по весеннему времени торчали три вицы с едва набухшими почками. Бабушка, не успел Ваня и глазом моргнуть, выдернула одну из вичек и, перегнувшись через стол, огрела ею главврача по плечу. И главврач, как стояла, полусогнувшись, с приподнятыми руками и загнутыми в счёте пальцами, так и осталась стоять. Бабушка же подбежала к столу, поднырнула между руками окаменевшей врачихи, вытащила из ящика стола какую‑то папку, надергала из неё листков, поплевала на бумажки, что‑то пошептала, водя над ними руками, вернулась на своё место и щёлкнула замершую прутиком по другому плечу. Главврач тотчас отмерла, поправила очки и как ни в чём не бывало продолжала загибать пальцы:
— И свидетельство о рождении мальчика.
Бабушка же оплёванные листки мигом подложила главврачу на стол:
— Так вот же они — документы‑то. Ах я, растяпа, растяпа, дура старая, совсем памяти‑то нету…
Главврач уставилась на бумажки, села на своё место, прочитала один листок за другим и наконец сказала:
— Что ж, все документы в порядке, можете забирать мальчика, сейчас я распоряжусь.
Ваня в своём шифоньере чуть не подпрыгнул от радости. А всё увиденное показалось ему какой‑то странной игрой, в которую решили сыграть взрослые. Едва за ними закрылась дверь, он, выбравшись из шифоньера, подбежал к столу и заглянул в документы: оказалось, что это были результаты многочисленных анализов некоего Петрова О. Е. и его же кардиограмма.
Ваня, ни минуты не думая про этого Петрова О. Е. с его пакостными анализами, которые главврач почему‑то приняла за требуемые от бабушки документы, свернул на чёрную лестницу (чтоб не оказаться у бабушки с главврачом за спиной и не выдать своего крамольного присутствия в кабинете), в мгновение ока сбежал по ней вниз, промчался через подвал, оказался на площадке у главного входа, на лифте поднялся на свой этаж, открыл ключом, — который висел у него на шее на замызганном бинте, — дверь в отделение и, сделав таким образом круг, как стрела влетел в свой бокс, где его уже ждали.
— Ваня, вот твоя бабушка, Василиса Гордеевна, — сказала главврач, — собирайся, поедешь с ней.
Запыхавшийся Ваня поднял глаза: бабушка стояла возле тумбочки, пощёлкивая по ней сухими пальцами, и хмуро смотрела на него. Василиса Гордеевна оказалась высокой и худощавой, подол тёмно–синей юбки подметал пол, из‑под него выглядывали суконные боты. Лицо у неё было тёмное, но морщин немного, губы плотно сжаты, глаза под нависшими бровями — выцветшие до белизны, вроде вот–вот из глаз снег повалит. Концы бахромчатого платка завязаны под подбородком. Василиса Гордеевна сказала:
— Кожа да кости. Ничего, я его выкормлю.
Зубы у неё во рту и вправду были железные. Вставные, наверно, решил Ваня и принялся сворачивать постельное бельё — так делали все покидавшие больницу, — отнёс его в каморку с надписью «Горшечная», где на полках стояли горшки с номерами на крышках, засунул в клеёнчатый узел с грязным бельём. Сложил в потрёпанный рюкзачок кроме школьных принадлежностей свистульку и книгу. Он не хотел ничего оставлять в инфекционке — чтоб невзначай не вернуться обратно. А больше ничего своего у него здесь не было. Надел поверх пижамы (главврач разрешила поддеть пижаму для тепла, да и память останется о больнице) школьный костюмчик, влез в затрапезное пальтишко, обул раздолбайские ботинки, нахлобучил шапчошку — теперь всё. Главврач попрощалась и ушла, а Нюра от её имени вручила ему свёрнутое покрывало, в котором принесли сюда маленького Ваню, и истрепавшуюся за девять лет записку с вылинявшими словами. Покрывало бабушка сложила в котомку, записку прочитала, хмыкнула и порвала, взяла Ваню за руку — и они пошли.
На воле Ваня обернулся и поглядел на широкое кирпичное здание, в котором провёл всю свою жизнь… Окошко третьего этажа распахнулось — из него высунулась Нюра, вытерла глаза концом косынки, высморкалась и замахала вслед ему рукой: «Прощай, Ваня–а–а… Лихом‑то не помина–ай…» Сердце Вани невольно сжалось.
Василиса Гордеевна с Ваней оказались на том самом вокзале, где около девяти лет назад нашли мальчика, и даже уселись на ту самую лавку, где он был оставлен. Василиса Гордеевна покрыла грязноватую лавку газеткой — Ваня увидел на сгибе статью про себя — достала из котомки варёные яйца, кусок курицы, шаньги, термос с травяным чаем, и они стали есть–пить. Домашняя стряпня Ване очень понравилась — наворачивал за обе щёки.
— А это что такое? — несмело спросил он, указывая на шаньги, называть бабушку бабушкой он ещё не приноровился.
— Зови меня бабаня, — сказала Василиса Гордеевна. — А это — шаньги, ты что ж, шанег никогда не едал? Вот ведь — ровно только на свет народился, ничего‑то не знат!
Мимо прошёл милиционер — тоже, конечно, тот самый, только теперь он был не худой, как перст, а раздобревший так, что околыш фуражки врезался в лоб и, после того как голова обнажалась, на лбу оставался красный полукруг. Взгляды жующего мальчика и прохожего милиционера встретились, но каждый равнодушно отвернулся в свою сторону. Пришёл поезд, Ваня с бабушкой Василисой Гордеевной заняли в вагоне свои боковые места, и поезд помчался в глубину России.
Глава 3. Первый день дома
В промышленный город Чудов, где бабушка проживала, прибыли совсем уже в ночь, едва поспели на последний трамвай, в котором Ваня подрёмывал, вышли на ярко освещённом проспекте, а потом свернули в тёмную улочку с маленькими домишками, окна которых не светились.
Бабушка отперла ворота, поднялись по деревянной лестнице в сени, оттуда в маленькую холодную комнатушку с лавками и столом возле оконца.
— Изба‑то выстыла, — сказала бабушка, — сколь времени провожжалась с тобой. Полезай–ко на полати — там твоё место.
Ваня взглянул на печку, занимавшую чуть не всю избу, под потолком, вроде третьей полки в вагоне, был устроен дощатый навес.
— Какие полати? — не понял Ваня.
— Вон полати, — кивнула Василиса Гордеевна на навес.
— А… я не упаду? — засомневался мальчик.
— Упадёшь — туда тебе и дорога! — отрезала бабушка. Принесла подушку с одеялом, сунула Ване, и он, делать нечего, полез на печку, а с неё перебрался на верхотуру и, свернувшись калачиком, мгновенно уснул.
Утром Ваня первым делом треснулся головой об нависавший низко потолок, перегнувшись, посмотрел на пол, видневшийся в широкую прореху между полатями и печкой: сверзишься — костей не соберёшь, это точно. Перелез на печку — и был приятно поражён идущим от неё теплом. Здесь было углубление, где лежали ситцевые мешки и мешочки с неизвестным содержимым, Ваня развязал один — и обнаружил семечки, другой — какие‑то сушёные ягоды, попробовал — малина! Третий был мягкий — с травой, что ли. А четвёртый…
— Эй, Ваня, — крикнула бабушка, — сбегай–ко за дровами, я уж давным–давно встала, сколь работы переработала, а ты всё дрыхнешь! — Ваня слез с печи и заглянул вперёд, в кухоньку, тут возле огромного печного зева, откуда тянуло съестным духом, стояла с ухватом в одной руке и заслонкой в другой Василиса Гордеевна: — Да умойся сначала‑то.
Ваня обнаружил в передней комнатушке рукомойник, вода из него бежала, если снизу как следует наподдать ладошкой, помазал глаза водичкой — которая тут же и кончилась. Оказалось, что за водой надо идти на колодец.
— Вёдра на лавке, — крикнула бабушка.
Ваня стянул с вешалки телогрейку, набросил на пижаму — и выбежал на улицу. Лестница вела на дощатый тротуар, который заканчивался у ворот. Ваня поднял задвижку и, выйдя за ворота, налетел на корявый ствол могучего дуба, росшего, почти у самого выхода, корни дыбились и лезли под ворота, во двор, чёрные сучья с едва проклюнувшейся зеленью уходили куда‑то под небеса, дерево пришлось обходить. «Растёт тут — на самой дороге!» — проворчал Ваня, и вдруг дуб тяжко зашумел, закачал вершиной, ветки, веточки и ветвищи стали хлестать и хлопать друг о дружку, порыв холодного ветра — остаточного зимнего — слетел откуда‑то на Ваню и едва не вырвал ведро из рук. Ваня удержался на ногах и ведро удержал. Колодец оказался в двух шагах. Мальчик заглянул в него — и увидел далеко внизу самого себя, от головы во все стороны лучами расходились чёрные сучья… «Это дуб отражается», — понял Ваня. Прицепил ведро, взялся за ручку и стал осторожно раскручивать ворот… Но железная загогулина вырвалась из Ваниных рук — и грозно — не подходи, зашибу! — завертелась.
Ведро ахнуло вниз, прямо в Ванин нос, от которого пошли волны. Вода зачерпнулась — теперь тащить ведро было тяжеленько. Ваня, упираясь в землю, изо всех сил налегал на ворот. Весь облился — но отцепил ведро и поставил у колодезного сруба. Стал отдыхиваться и глядеть по сторонам: по всей улице стояли избы с наличниками на окнах, с высокими дощатыми воротами, дорога между домами тянулась не асфальтированная, грязная, с двух сторон обсаженная деревьями, только не дубом, как возле их ворот — липой да осиной. Ваня взялся за дужку, поднял тяжеленное ведро — тут ворота открылись, и со двора вышла бабушка, он думал, на подмогу ему, но Василиса Гордеевна к ведру не притронулась, она с поднятой головой остановилась у дуба и вдруг… взяла и поклонилась дереву в пояс:
— Доброго утра вам, Святодуб Земелькович, как живётся–можется? — Ваня обрушил полное ведро себе на ногу и взвыл, а дуб, ему показалось, сильнее зашумел своими ветвями, стая галок сорвалась откуда‑то с вершины и закружила в небе над деревом. Ваня, оставив ведро, подошёл к бабушке и сказал назидательно:
— Бабаня, ты чего его по имени–отчеству, это же дерево, дуб!
— Сам ты дуб, а это Святодуб, — зашипела бабушка в самое Ванино ухо, будто боялась, что дуб услышит. — У тебя, значит, имя может быть, а у него имени не может быть, а ведь ему годков‑то, наверно, поболе твою, — докончила бабушка ядовито.
— Вот этот отросток, — продолжала она вслух, пытаясь склонить Ванину голову в поклоне, — внук мой, Ваня, он ничего — смирный, только глуповат маленько… Если полезет вдруг на тебя, ты уж не шмякай его сильно об землю‑то. А птиц твоих из рогатки он стрелять не будет, не таковский.
Василиса Гордеевна поглядела на Ваню грозно:
— Со старшими‑то здороваться надо… — и кивнула на дуб.
— Здрасьте, — пробормотал Ваня серому стволу, который в данный момент загораживал от него весь белый свет, и увидел, что по стволу бежит муравейко. Муравейко остановился и обернулся… А откуда‑то сверху прямо к черным Ваниным ботинкам упала обломившаяся ветка с зелёными почками. Ваня наклонился и зачем‑то поднял ветку.
— А спасибо где? — осведомилась Василиса Гордеевна.
— Спасибо, — вякнул Ваня. А дерево опять зашумело — то ли порыв ветра был виноват, то ли оно отвечало по–своему — пожалуйста….
Когда Ваня наносил воды полны вёдра, принёс дров и умылся, Василиса Гордеевна наконец накормила его — толчёной картошкой с маринованными грибками, а к чаю были лепёшки, которые они по очереди макали в черничное варенье. Дубовую ветку бабушка велела поставить в бутылку с водой, и ветка была с ними во время завтрака — стояла на подоконнике. Наевшись до отвала, Ваня пошёл исследовать дом.
Из передней комнатушки дверной проём вёл в зало, как назвала эту комнату бабушка. Там над круглым столом, застланным синей дырчатой скатёркой–самовязкой, в простенке между окнами Ваня увидел фотографии, собранные в одной большой раме. Сунулся носом — но нигде не обнаружил незнакомого женского, иди девичьего, или девчоночьего лица. Василиса Гордеевна на фотографиях была — только помоложе, все в том же — или очень похожем — платке, плюшевой жакетке, тёмной юбке и ботах. Но в основном на фотографиях были какие‑то военные или полувоенные мужчины, где по двое, где по трое, а то и целой ротой, то в лесу, то рядом с пушками, то возле лошадей. Василиса Гордеевна показала на одного из мужчин, который чаще других попадался на фотографиях, и сказала, что это Ванин дедушка, Серафим Петрович. Только он уже умер. Приглядевшись внимательнее, Ваня заметил бородатого мужичонку, который тоже был почти что на каждой фотографии, хотя лицо его проявилось как‑то не полностью. Мужичонка в любую прореху совал свою ухмыляющуюся физиономию в лихо заломленном треухе: обнимутся ли два друга–сержанта, между их голов просунута голова мужичонки; едят ли в промежутке между боев кашу артиллеристы, мужичонка тут как тут: оседлал пушечное дуло на манер коня, сидит, свесив ножки, и тоже уплетает кашу; залез ли лётчик в кабину своего фанерного самолётика, а механик ему машет — мужичонка тоже при деле, разлёгся на крыле, а треух его ветром от пропеллера снесло.
— А это кто? — спросил Ваня, указывая на любителя всюду соваться. Василиса Гордеевна поглядела на фотографии, потом на Ваню, потом опять на фотографии, усмехнулась и сказала:
— Дед Пихто! — добавив про себя: — Вишь, углядел!
— Нет, правда?
— Не вяжись ты — я тебе правду и говорю…
— Да нет, ты шутишь, бабаня, скажи, кто это?
— Ну… суседко это.
— А чего это сосед всюду тут, — начал Ваня и едва не договорил: А моей мамки ни на одной фотографии нет… — но скрепился и смолчал. Он ещё в поезде попытался выспросить про мать, но бабушка приказала и не заикаться про неё, чтоб и помину не было! Василиса Гордеевна до того осерчала, что глаза её, и так‑то изголуба–белые, вовсе побелели, Ваня вжался в уголок и прикусил язык.
Когда бабушка вышла во двор, он исследовал все ящики в комоде, все отделы в пузатом шифоньере — но нигде не обнаружил ни фотографий, ни писем, ни украшений, ни каких‑либо нарядов, которые могли принадлежать его матери — нигде никаких следов её былого присутствия. В комоде везде и всюду — какие‑то мешочки и коробочки (даже спичечные) с сушёной травой и семенами, в шифоньере — полны отделы постельного белья, на целую палату хватит, мотки и клубки шерсти — чёрной и белой, старческая одёжка, а в большом отделе висят мужские пиджаки и костюмы. Оставался ещё сундук, стоящий в бабушкиной угловой комнате подле железной кровати, но сундук оказался на запоре. Ваня подёргал массивный замок — нет, не открывается, поглядел на тканый коврик, висевший на стенке над кроватью, на котором оказалась одна–разъединственная молодая женщина в доме: сестрица Алёнушка, сидевшая на бережку… Услышал бабушкины шаги и, выскочив из комнаты, присел за стол к своей раскрытой книжице. Книжек в доме тоже обнаружить не удалось. К огромному Ваниному разочарованию не оказалось у бабушки и телевизора. Да что там телевизора — какого‑нибудь завалящего радиоприемника и того не было.
Увидев, что Ваня бездельничает, Василиса Гордеевна быстро спровадила его из дому:
— Чего сиднем сидеть, сейчас огород копать будем.
Ваня отправился в сарай за лопатой, лопату не нашел, зато увидел посреди сарая какой‑то странный предмет, заваленный не разбери чем: какими‑то корзинами без ручек, бочками без дна, сломанными пчелиными ульями, рамами о трёх сторонах, одинокими сапогами, пудовыми утюгами, просящими горячих углей, дырявыми чугунками, прохудившимися вёдрами и прочей дребеденью. Ваня смахнул хлам и увидел чёрную лакированную поверхность — это был музыкальный инструмент, пианино. Он поднял запылившуюся крышку — некоторые клавиши выскочили из своих гнёзд, нажал на одну, другую, третью… Клавиши отозвались звуками, которые в них сидели: до, ре, ми… Чьё это пианино? Кто на нём играл? Уж, конечно, не бабушка. А значит… Ваня не успел порадоваться находке — он услышал странный звук, пианино, хоть и было изрядно расстроено, всё равно никак не могло издавать подобного мерзкого блеянья… Ваня насторожился и отступил к дверям. И как нельзя более кстати… Потому что из‑за инструмента показалась страшная рогатая и бородатая голова — Ваня ещё отпрянул, за головой показалось лохматое, серое с подпалинами туловище, существо живо вскочило на четыре ноги, опять издало тот же режущий ухо звук и вдруг, наклонив остророгую голову, безо всякого предупрежденья побежало на Ваню. И как Ваня ни мчался — был настигнут ударом пониже спины, как раз туда, куда в больнице тычут уколы. Взвившись в воздух, Ваня пролетел через весь двор и грохнулся подле ворот, как будто существо намекало, что неплохо бы Ване оказаться там, откуда он пришёл — за воротами. Но тут на помощь к поверженному подоспела бабушка Василиса Гордеевна, которая и усмирила рогача. Надо сказать, что Ваня никогда в своей жизни не видел живого козла или козы, — а также коровы, овцы, лошади и всех прочих животных, которых не принято было держать в больнице, — разве только на картинках, а неожиданное соседство живности с музыкальным инструментом совсем сбило его с толку, и он не сразу признал домашнее животное.
— Ладно тебе, Мекеша, ишь развоевался, это Ваня, он у нас жить будет. Запомни, Ваня — он свой. Вот он тебе папиросочку сейчас даст… — Василиса Гордеевна достала из кармана передника пачку «Беломора», выщелкнула папиросу, прикурила её и сунула Ване, кивая и подмаргивая, чтоб он вручил папиросу козлу, который уже и сам почти вырвал из Ваниных рук папироску зубастым ртом и закурил так, что только дым повалил из козлиных ноздрей.
Ваня едва успел отойти от пережитого потрясения, как Василиса Гордеевна сунула ему лопату в руки и, показав, как именно нужно копать, принялась обрабатывать землю в своём углу огорода. У него ничего не получалось — лопата ли не хотела входить в землю, или земля не пускала её, — но как Ваня ни толкал лопату ногой, как ни налегал на ручку, толку не было. Он, чуть приткнув лопату, даже с разбегу заскакивал на лопатино плечо — нет, и так не выходило. А бабушка на своей стороне копала и копала — и уж порядочная черная плешь появилась в том углу, а у Вани земля как лежала, так и лежит. Бабушка, сказав, что пошла «исти готовить», а он тут пускай мужскую работу проворит, ушла. Ваня чуть не плакал… Но помаленьку что‑то стало выходить — лопата с землёй нашли общий язык, Ваня, как толмач, им помогал, но дело подвигалось крайне медленно. Посмотрев на крохотный вскопанный половичок и оглянувшись на огромное невскопанное пространство, Ваня просто заскрежетал зубами — сколько же это он будет копать. Наверное, всю жизнь… Но тут бабушка позвала обедать — и Ваня, отбросив лопату, побежал в избу.
После обеда опять копали — и у Вани на ладонях к концу дня выскочили пузыри, хотя руки и были в шерстяных (правда, поеденных молью) рукавицах. Одновременно с копкой Василиса Гордеевна затеяла топить баню, Ваня сказал:
— Я уж мылся этой весной–от…
Но бабушка не приняла его заявление во внимание, и пришлось Ване опять носить воду из колодца, таскать дрова, да всё с оглядкой — как бы Мекеша откуда‑нибудь не выскочил.
— Вот напарю тебя хорошенько, тогда уж… — недоговаривала чего‑то Василиса Гордеевна, сея в Ваниной душе смутную тревогу. Веников в предбаннике висел целый лес: и березовый, и дубовый, и липовый, и ивовый, и можжевеловый, даже крапивный веник был. Ваня надеялся, что последним его колотить не будут. Василиса Гордеевна растапливала печь, а Ваня смотрел и вникал, попытался сам нащепать лучины — нож сорвался. Взялся крупное полено расколоть на мелкие полешки, ухнул топором — да мимо чурки, хорошо, что ботинки у него на пару размеров больше, чем нужно, — так что по пальцу всё же не попал. В конце концов печка растопилась, и жарко заполыхали в ней дрова. Ваня покопает, покопает — бежит в печку подкладывать, а огонь уж ждёт, поленья вот–вот прогорят, языки пламени подлизываются к Ване — он затолкает новых дровишек в печь, и огонь ну радоваться, ну гореть!
День поспешал на встречу с ночью, со стороны проспекта поползли серые сумерки, когда бабушка Василиса Гордеевна повела Ваню париться. Ваня не был в Африке, да какое там в Африке! Он и на юге родной страны не бывал, но ясное дело, что ни одно из этих мест никак не могло тягаться с бабушкиной баней! Эфиопы бы бежали отсюда сломя голову, Ване же пришлось остаться — сколько ни пытался он соскочить с полка и убежать куда глаза глядят, Василиса Гордеевна его ловила и методично водворяла на место.
— Бабаня, жарко! Бабаня, не могу больше! Миленькая бабушка, пусти меня домой! — Но Ванины вопли никакого влияния на бабушку не оказывали — она колотила его вениками с обеих рук почём зря… Когда же Ваня увидел в руках у ней крапивный пучок — то, не совладав с собой, заплакал горючими слезами, но, к счастью, веник не жёгся, и всё обошлось более–менее сносно.
Василиса Гордеевна то и дело плескала в каменку кипяточком, от чего пару становилось всё больше, а в бане всё жарче. Горячий пар клубами вился над полком, в клубах его Ване мерещилась подмигивающая банная рожа — сомлевший Ваня отмахивался от неё: только этого ещё не хватало! Наконец бабушка смилостивилась и выпустила Ваню в предбанник отдышаться, от него там то ли пар повалил, как от закипающего чайника, то ли дым, как от головешки… Но не успел Ваня толком остыть, как бабушкина рука высунулась из парилки и затащила его обратно. Теперь Василиса Гордеевна, посадив Ваню на пол, принялась натирать его намыленной вехоткой, смывать, и снова натирать, и опять смывать… Голову мылила и скребла так, что он только попискивал. Вода в тазу, видел мальчик, была чёрная, но раз от разу светлела, после девятого таза бабушка успокоилась — водица теперь была обычной, прозрачной… Окачивая его напоследок с головой — вода была с каким‑то пахучим настоем — Василиса Гордеевна бормотала:
— Шла баба из‑за морья, несла кузов здоровья: тому–сему кусочек, тебе весь кузовочек! С гуся вода, с Ванюши худоба, вода б книзу, а ты б кверху.
В предбаннике он нашел всё чистое — когда‑то бабушка успела дедушкины трусы, брюки и рубашки перешить на Ванин размер. Шатаясь, Ваня прибрёл домой и свалился в прихожей на лавку. Следом пришла Василиса Гордеевна в полотеничном тюрбане на голове и дала Ване квасу, он пил, пил, пил, пил — и всё не мог напиться.
Только Ваня собрался забраться к себе на полати, но не тут‑то было — Василиса Гордеевна принесла широкий железный гребень и стала драть Ванины долгие волосы.
— Этот только и оборет твои волосья, — сказала бабушка, — я, когда коз держала, окромя Мекеши, шерсть козлищам этим гребнем вычёсывала.
Но Ване уже было всё равно — козий гребень так козий… Наконец вымытый и расчёсанный Ваня был отпущен бабушкой на покой — с напутствием: «Доброй вам ночи, хорошего сна, желаю увидеть душного козла!» Кое‑как забрался он на полати и заснул как убитый. Слава богу, Мекеша ему не приснился.
Глава 4. Неприятности
Но под утро пришлось Ване встать спозаранку — квасок, с вечера выпитый, давал о себе знать. Он неодетый выскочил на крыльцо, спустился во двор и, разделавшись со своими делишками, повернул было в избу — но вдруг какое‑то движение по ту сторону кольев, отделявших двор от огорода, насторожило его. Ваня, дрожа от холода, подбежал к забору, распахнул калитку — и увидел: лопата, оставленная им в огороде, сама, безо всякой сторонней помощи, копает землю. Воткнётся, отворотит шматок — перевернёт, потом за следующий, и всё ломти такие большущие, ровно какой здоровяк орудует. А никого не видать… И уж порядочно обработано земли — совсем не столько они с бабушкой вчера вскопали. Вдруг лопата приостановилась, повисла в воздухе — и с размаху вонзилась в землю. Ваня подождал — нет, лопата не шевелится, замерла, будто его учуяла. Он попятился — и бегом домой, хлопнул дверями в сенцы, потом входными, забрался к себе на полати — и укрылся одеялом с головой: зуб на зуб не попадает, вот сейчас бы в баньку‑то…
Проснувшись по второму разу, Ваня припомнил предутреннее происшествие — и оно показалось ему сном. Да ведь у Вани и привычки такой никогда не было — по ночам вставать. Но когда они с бабушкой отправились после завтрака в огород, земли было вскопано гораздо больше, чем вчера…
— Кто это тут копал‑то? — забросил Ваня удочку. — Вроде вчера меньше было вскопано…
— Кто‑кто — дед Пихто, — проворчала бабушка. — Кто нам с тобой вскопает? У нас работников‑то: ты да я да мы с тобой… Пока ты дрых — бабушка у тебя работала. Кто вскопал? И не стыдно ведь спрашивать!
Ваня покраснел и, опустив голову, принялся копать. Старался вовсю — хотя волдыри на ладонях полопались и руки болели нестерпимо.
Ближе к обеду Василиса Гордеевна послала Ваню в магазин, вручив ему хрустящую пятисотку и наказав, кроме молока и хлеба, купить ещё пачку «Беломора» для козла. Мол, другого курева Мекеша не признаёт. Ваня, собираясь на выход, глянул ненароком в поясное зеркало, висевшее в прихожей, и оторопел: волосы у него из пегих превратились в золотые… И расчесать их ничего теперь не стоило, они не слипались враждующими кистями, дружно лежали — волосок к волоску. Ваня потряс волосьями и, подмигнув золотоволосому отражению, нахлобучил на голову ушанку.
— Смотри не потеряй деньги‑то! — крикнула вслед ему бабушка.
— Не потеряю! — отозвался Ваня из сенцов.
Выметнувшись на улицу, Ваня покосился на дуб и повернул, как было сказано, в сторону, откуда они давеча прибыли.
3–я Земледельческая улица выходила на широкий проспект, по которому в несколько рядов сновали машины, а посерёдке были проложены ещё и рельсы для трамваев. На той стороне оживлённого проспекта рядами стояли девятиэтажные дома, но Ване на ту сторону не надо было. Свернёшь направо — иди себе да иди, говорила бабушка, минуешь пустырь (место, где до недавних пор были 1–я Земледельческая и 2–я Земледельческая) и увидишь магазин в первом этаже пятиэтажного дома. Ваня шёл, придерживаясь бабушкиной инструкции, но на ходу достал денежную бумажку из кармана пальто и стал её исследовать — до сего дня он не держал в руках никаких денег, ни новых, российских, ни старых, советских, да и в магазин ему ходить не доводилось. На зелёном поле оказались нарисованы большие ёлки и маленький Кремль. Четыре раза было написано 500 цифрами и один раз прописью. Ваня перевернул бумажку… но тут кто‑то вырвал её из рук. Ваня увидел свою пятисотку, зажатую как флаг, большим и указательным пальцами парня лет так четырнадцати. Рядом с парнем, преградив Ване путь, стояло ещё человек пять разновозрастных мальчишек, с ухмылкой глядящих на него. Справа был означенный пустырь — заваленный щебёнкой, брёвнами и всяческим неубранным мусором.
— Это самое, из какой школы? — с ходу спросил парень, Ваня проследил, как денежка исчезает в чужом кармане.
— Не из какой, — машинально отвечал Ваня. — Отдай деньги‑то, мне от бабани влетит…
— Не из како–ой! — повторил парень, оставив Ванину просьбу без всякого внимания. — Пацан понты кидает, — сказал он, обращаясь к согласно закивавшим товарищам. — Эй, понтяра, а с какой ты, это самое, улицы?
— Вон с той, — кивнул Ваня на оставшуюся в стороне улочку.
— Понятно — деревня, значит… А, это самое, бабки ещё есть?
— Нету у меня никаких денег, я их и в руках никогда не держал…
— Ага, — сказал парень, — так я тебе и поверил! Ну‑ка, Эдик, пошмонай.
Мальчик с блестящими, как слюда, глазами выворотил Ванины карманы наизнанку — в одном ничего не оказалось, а из другого выпала пустая упаковка от аспирина.
— Пусто, — сказал разочарованно Эдик.
— Ты, это самое, тут больше не ходи, это — наш город, а твоё место, сявка, там, — набольший из парней показал на зады огородов, — а то, это самое, перо в бок получишь. Ясно?! — И, схватив Ваню за грудки, так что старенькое пальтишко затрещало по всем швам, приподнял над землёй. Кто‑то сдёрнул с Вани ушанку и бросил в грязь, а Это Самое прыгнул на шапчонку и как следует на ней потоптался.
— А про бабки — никому! Пшёл вон! — Ване дали пинка, и он несолоно хлебавши, да ещё без шапки, побежал домой.
Возле ворот остановился, постоял и, сделав с десяток витков вокруг дуба, не нашёл ничего лучшего, как залезть на дерево. Лезть было непросто, на деревья Ване тоже лазить ещё не приходилось — а ведь это было всем деревьям дерево! Ваня сам себе казался никчемным муравейкой, хотя у муравья‑то, конечно, был промысел на дубе, а какие–такие дела здесь у него, зачем он лезет вверх — никому не известно. Цепляясь за ветки, перебираясь с сучка на сучок, мальчик понемногу добрался до середины. Приметил на очередной ветке сорочье гнездо, сорока сидит на яйцах, увидела Ваню — растопырила крылья и давай костерить его на чём свет стоит, по–своему, конечно, по–птичьи. Полез он дальше, поглядел вверх: до неба ещё далеко, сплошные окроплённые почками заросли, поглядел вниз — улочка сквозь переплёт ветвей видна из конца в конец. Вон у колодца стоят две тётеньки, вёдра поставили, калякают, вон из крайнего дома выезжает мужик на мотоцикле с коляской, а в коляске его жена в шлеме, мотоцикл свернул и помчался по проспекту. Ваня поднял руку, чтоб зацепиться за отросток, выходящий из ствола, и попал ладонью в отверстие… Залез на следующий сук — и увидел в стволе дупло в виде арки, наверное, беличье. Ваня попытался заглянуть в дупло, но там была кромешная тьма, сунул руку — глубокое. Рука просунулась по самое плечо — а внизу всё пусто да пусто, дна нет… Наконец, когда Ваня с головой просунулся внутрь — пальцы нащупали что‑то твёрдое… Дно. А там шерстяное что‑то. Не белка ли попалась? Нет, раз молчит… Ваня вытащил добычу на свет — и увидел… Да это шапка! Чёрная, вязаная шапка — очень ему такие нравились, ребята из его класса ходили в таких… Что за дела! Его шапка осталась на дороге в грязи — а тут как раз шапка в дупле, что это значит? Ваня поглядел вверх, вниз, по сторонам — шутки, что ли, кто‑то шутит? Оглядел шапку — почти новая, на отвороте пришит дубовый листок. Интере–есно… И что‑то ещё за отворот засунуто… Бумажка какая‑то скрученная… Он вытащил бумажку, развернул — вот тебе и на! Пятисотка! Ваня чуть с дерева не сверзился — но ухватился в последний момент за сучок. Оглядел денежку — конечно, это не та самая, не новая уже, помятая… И недолго думая, сунул пятисотку по–глубже в карман, а шапку натянул на голову. Лучше вопросов не задавать — а принимать всё как есть, молча.
Когда слез на землю — далеко уже отошёл от дуба, да вдруг опамятовался. Посмотрел — никого на улице нет, в окошки тоже вроде не подглядывают, кому он нужен, на него глядеть, — и поклонился дереву, как бабушка, в пояс:
— Спасибо, дяденька Святодуб…
Дерево зашумело в ответ, и сорока прострекотала по–своему в подголосок ему, дескать, давно бы так. При выходе со своей улицы на городской тротуар Ваня внимательно поглядел налево, потом направо — мальчишек нет, но он был теперь учёный, решил обойти пустырь кругом: перейти на ту сторону проспекта, дойти до следующего пешеходного перехода и вернуться на эту, зайти в магазин — и тем же путём обратно… Получалось, дорогу надо переходить четыре раза, и крюк выходил порядочный — а что делать? Проспект был широченный, светофор, не успеешь дойти до конца, загорался вновь красным светом, да ещё трамваи выскакивали откуда‑то, когда их совсем не ждёшь… С риском для жизни Ваня проделал задуманную операцию. Купил в магазине что надо, даже сдачу не забыл взять — и вернулся домой.
Василиса Гордеевна сидела за прялкой, выпрядала, вытаскивала, скручивала махрящуюся нить, которая тянулась из чёрной шерстяной тучи. Поплюет на пальцы, помочит шерсть — и свивает. Веретено плясало на бабушкином колене.
— Тебя только за смертью посылать, — проворчала Василиса Гордеевна. Ваня пожал плечами, сунул шапку в рукав пальто, а сдачу положил на комод.
— А ты что, бабаня, делаешь?
— Нитку тебе пряду.
— Мне–е?
— А кому ж — тебе, конечно. Сегодня чёрную, а завтра или послезавтра, а может, и через месяц, — там поглядим когда, — белую.
Ваня понаблюдал ещё, как бабушка прядёт ему чёрную нитку и, вздохнув, сказал то, что наболело:
— Даже телевизора у тебя нет!..
— А на кой он тебе?
— Так мультики смотреть, передачи разные…
— А ты в окошко смотри. Вон Мекеша ходит.
Мекеша не просто ходил по двору, а, разбежавшись, подскакивал к воротам — и поддавал им как следует рогами. Бабушка спиной повернулась, не видела. Может, и не слышала — хотя грохот стоял знатный. Тренируется, приёмы свои отрабатывает — потом на Ване их станет применять…
— Мекеша… Твой Мекеша бодается как не знай кто, а телевизор…
— И телевизор бодается.
— Скажешь тоже — телевизор бодаться не умеет…
— А я тебе говорю — бодается.
— Нет, не может он бодаться.
— Может!
— Не может!
— Может!
— Не может!
— Может! И не спорь с бабушкой — мал ещё зубатить‑то… Ишь, тырта, туда же! Одна зубатила, зубатила, теперь на–ко! Второй зубастый объявился! Смотри — тоже дозубатишься…
Ваня примолк — соображая, что бы это значило. На мамку его намекает, с которой что‑то случилось, или как?.. Значит, всё‑таки она жила здесь, а то уж Ваня подумал, что не было её здесь никогда. А пианино? Так мало ли чей это может быть инструмент…
Глава 5. Телевизор
Так и повелось в дальнейшем: Ваня огород копал, дрова носил, по воду ходил, с риском для жизни в магазин бегал, а когда заговорил про школу, Василиса Гордеевна сказала, что от этой школы одни только неприятности, читать–писать–считать он умеет — чего ещё надо? Да и лето скоро придёт, каникулы — какая школа! На тот год уж, — если так ему приспичило, — запишет она его в школу. Ваня, делать нечего, согласился.
Дубовая ветка пустила в воде корешки — тоненькие, беленькие, ровно глисты. Ваня посадил ветку возле забора в огороде — чтоб Мекеша не достал. Когда огород был вскопан, стали сажать картошку, устраивать грядки, в грядки втыкать семена, присыпая их земелькой, поливать стали да рыхлить.
— После картошку будем окучивать, полоть, — рассказывала Василиса Гордеевна о будущем.
Однажды, когда бабушка ушла в избу обед готовить, Ваня присел для роздыху у забора, на солнечном припёке, подставив под зад чурбачок. И услыхал голоса:
— А может, и не ейный это вовсе мальчишко…
— А то чей же?
— А кто ж его знат…
Забор был сплошной, дощатый, но Ваня исхитрился найти дырочку — и подглядел, что в соседском огороде, близко к забору стоит, видать, лавка, дырку загораживало что‑то тёмное — наверно, спина одной из говорящих. Первый голос показался ему знакомым, принадлежал он старухе, которая пару раз захаживала к Василисе Гордеевне. Беседа продолжалась — и Ваня был весь внимание, почему‑то мнилось ему, что речь ведётся о нём…
Второй из голосов произнёс задумчиво:
— Да–а… Крутится парнишко — как белка в колесе, без всякого продыху.
Первый голос:
— Нашла себе дармового работничка…
Второй голос:
— Затем и брала.
Первый:
— Хитра баба — самой‑то тяжело уж работать стало, так внука где‑то откопала… И как ведь вовремя — аккурат к копке поспел внучек…
Второй голос, подхихикнув:
— Откуда ж она его взяла?
Первый голос:
— А кто ж его знат… Говорят, из больницы какой‑то…
Второй голос — с восторгом:
— Из дурки?
Первый:
— А может, и из дурки.
Второй:
— Ахти! Вона что… Ас виду‑то шустрый такой мальчошка, и не подумаешь, что головой мается… А тебе что ж — Гордеевна не сказывала, откуда привезла парня?
Первый — плаксиво:
— Рази у ней что узнаешь… Рази она кому что скажет…
Второй со вздохом:
— Да–а, Василиса Гордеевна — кремень–баба.
Первый, перейдя на шепоток:
— Потише надо бы — чегой‑то мы расшумелись — услышит дак…
Второй:
— И что?
Первый:
— Что‑что… Не знаешь, что ль, — типун на язык нашлёт или ещё что учудит, с неё, шептуньи, станется…
Но тут интересная беседа разом оборвалась — Ваня, решивший поглядеть на говоривших, встал на чурбак и, подтянувшись, перевесился через забор, но предательский чурбачок выскользнул из под ног и повалился, а Ваня с шумом сверзился на землю. Когда он поднялся и заглянул в дырочку, то увидел две убегавшие вперевалочку старушечьи фигурки.
Когда Ваня вернулся в избу, бабушки Василисы Гордеевны нигде не было, Ваня обошёл весь дом — нету, пропала. Подошёл к сундуку, очень его интересовавшему, — замок был такой, что не откроешь, разве только ключ поискать… Ваня принялся шарить в комоде, но, услыхав, что бабушка его зовёт, быстрёхонько задвинул ящики. Выбежав в сенцы, он увидал, что Василиса Гордеевна выглядывает из чердачной дыры. Тут и лестница приставлена, как он не заметил?..
— Помоги‑ка, Ваня! — крикнула бабушка, углом в дыру торчала большущая коробка. Ваня живо вскарабкался по лестнице — принял и спустил тяжёлую вещь. Оказалось, коробка полна ношеной-переношеной обуви. Василиса Гордеевна слезла с чердака и отрыла в коробке сандалии для Вани, дескать, в ботинках ходить уже нельзя, жарко, так вот тебе, Ваня, летняя обувка. Сандалии были помятые и задубевшие, но не это было главное.
— Ну–ко, примерь–ко, — сказала Василиса Гордеевна, поставив сандалии на широкую половицу.
Ваня нахмурился:
— Не буду.
— Это ещё почему? — удивилась бабушка.
— Они девчачьи.
— Какие ещё девчачьи, никакие не девчачьи…
— Девчачьи, — упорствовал Ваня.
— Ничего не девчачьи, меряй давай, других нету, — осердилась Василиса Гордеевна. Но тут Ваню вдруг озарило — чьи это могут быть сандалии… Сердце его заколотилось — и он безропотно вдел ноги в обувку, сунул железные тычинки в разношенные дырочки и затянул ремешки.
— Ну как? — спросила бабушка.
— В самый раз! — отчеканил Ваня.
— То‑то же, — проворчала Василиса Гордеевна, — а то не бу–уду…
Ванина больничная пижама в полоску куда‑то пропала, но к лету бабушка справила Ване всё, что требуется: перетрясла гардероб умершего дедушки — перелицевала, скроила и сшила пару штанов да пару рубашек.
А чердак Ваня держал теперь на примете, ждал только, чтобы бабушка куда‑нибудь со двора ушла, тогда уж он обследует помещение. Может, и ещё какие следы сыщутся его мамки — кроме сандалий.
Но бабушка всё никак не уходила из избы — и куда ей ходить, в магазин Ваня бегает, в огород они вместе, по соседям она не ходок. Зато одна из старушек, чей голос Ваня признал, подслушав беседу из–за забора, опять понаведалась к Василисе Гордеевне. Бабушка поставила на стол самовар, сушки, посетовала, что печёного сегодня нет ничего, не ждала гостей–от.
— Дак какая я гостья! — махнула рукой соседка. — И я ведь по делу к тебе, Гордеевна. Надумала я всё же уезжать — продаю избу и к дочке в Москву покачу. Вот оно как оборачивается, Гордеевна. Всё равно сносить нас будут — дак кака разница: тут ли на девятом этаже сидеть, в Москве ли… А там всё же не одна, и присмотрят за мной, ежели что.
— Ага, — сказала бабушка.
— Деньги хорошие дают — их тут пропишется пропасть народу, большущую квартиру получат, как‑то они там договорились в инстанциях, за мзду, конечно, чтоб прописали их.
— Ага, — опять сказала бабушка.
— Так вот, Гордеевна, распродаю я своё добро, за копеечки распродаю… Тебе телевизор хочу отдать — так, забесплатно.
Ваня, сидевший тут же, пивший потихоньку чаёк и поглядывавший в самовар на свою раздутую монгольскую рожу с толстым носом, опрокинул чашку… Телевизор!.. Не может быть!
— Ты надысь поставила на ноги Тоньку‑то мою, — продолжала соседка, — денег брать не хотела. Не свидимся ведь более… Так не хочу я должницей на тот свет уходить — возьми, Гордеевна, телевизор-от! Не цветной он, конечно, а всё ж… У тебя‑то никакого нет.
Ваня умоляюще смотрел на бабушку. Телевизо–ор!..
Василиса Гордеевна на Ваню и не поглядела, хлебнула кипятку с блюдца, поставила его на стол, наконец сказала:
— Не цветной, говоришь…
— Нет, не цветной, Гордеевна.
— И в Москве он тебе не нужон…
— Не нужон, — вздохнула соседка. — Там без моего три штуки есть.
— Ладно, давай.
Ваня едва не захлопал в ладоши.
Телевизор поставили в зале на круглом столе, Ваня тут же его включил — и выставился, про всё позабыв. Показывали мультик про трёх американских утят и их дядьку–миллионера. Не заметил даже, что Василиса Гордеевна звала его куда‑то, отмахнулся рукой, не приметил также, что бабушка, как он долго ждал, убралась со двора.
Мультик мелькал вовсю — Ваня наслаждался… Как вдруг на самом интересном месте экран погас — Ваня взревел и вскочил со стула! И увидел: вилка выпрыгнула из розетки и телевизионный провод, ровно змея с раздвоенным жалом, пополз по столу… Ваня глядел во все глаза… А чёрный змеистый шнур свалился на пол и, на ходу вытягиваясь и всё удлиняясь, складываясь как червяк и разгибаясь, прямиком пополз к Ване. Ваня отпрыгнул — но чернозмеий шнур с шипением нацелил жало в Ванину ногу. Ваня опять отпрыгнул — но шнур подлетел и со свистом захлестнулся петлёй вокруг его лодыжки. Ваня кричал — а провод всё туже стягивался на ноге, намертво привязывая его к телевизору. Он оглянулся — увидал ножницы на столе, дотянулся до них и, изо всех сил нажав, перерезал провод, содрав заодно кожу с ноги. Но не тут‑то было: перерезанный кусок мигом сросся с остальным шнуром — и, целый–невредимый, опять пополз к Ване. Ваня заорал уже благим матом — и бросился вон из пустой избы. Он услыхал, как за его спиной что‑то тяжело бухнулось, не утерпев, оглянулся — и увидал, что это телевизор свалился на пол. Шнур рывками ползёт по полу — а телевизор подтягивается за ним. Ваня с криком бросился в огород — но бабушки и тут не было. А телевизор уже скакал неуклюже по ступенькам, будто бульдог на поводке… Тут шнур взвился в воздух — и телевизор тоже поднялся вначале на полметра от земли, потом на метр… И вот, развив скорость, он распахивает калитку — и летит, выставив рога комнатной антенны, за Ваней. Вот нагонит!.. Вот боднет!.. Ваня споткнулся и упал. А провод взвился над ним чёрным бичом, и вилка с размаху воткнулась в Ванины ноздри, как в электрическую розетку. Как будто обычной розеткой этот взбесившийся телевизор довольствоваться уже не мог — и решил подключиться к Ване. Мальчик зажмурился, ноздри, он почувствовал, расшеперились… И тут Ваня услыхал знакомые мультголоса. Он распахнул глаза — и с ужасом увидел, что телевизор заработал, экран светится. Стоит телевизор на земле, включённый в Ваню, и показывает свой мультик. Но Ване уже совсем не хотелось смотреть ни этот мультфильм, ни какой‑либо другой, он заорал, дёрнулся, вилка выскочила из носа — и экран погас, а телевизор, размахивая шнуром, как лассо, опять погнался за Ваней. Сделав обманный скачок в сторону, Ваня вбежал во двор, в три прыжка перемахнул его и выскочил за ворота, на улицу. Телевизор показался над краем ворот — сейчас перелетит… Неужто и тут его не оставит в покое выжившая из ума техника?!. Телевизор, не пересекая границы ворот, поднялся ещё выше, ещё… И вдруг что‑то случилось — телевизор с размаху грохнулся о землю, там, во дворе. И стало тихо. Только синичка на дубе бормотала вопросительно: пинь–пинь? пинь–пинь? пинь–пинь?
Ваня украдкой заглянул в ворота — от телевизора осталась куча металлолома: лампы, микросхемы, с жутким кинескопом во главе. Чёрный провод лежал, как дохлая змея. Антенна валялась далеко в стороне. Долго Ваня не решался войти во двор, маячил у ворот. И вот в конце улицы он увидал бабушку Василису Гордеевну, рядом с ней, как собачонка, бежал Мекеша. Шагнув во двор, бабушка спросила:
— А чего это у нас тут за помойка?
— Это телевизор, — развёл руками Ваня.
— Ага, — сказала Василиса Гордеевна. — Так я и думала…
Глава 6. Плакун-трава
Ночью Ване не спалось — и во сне проклятый телевизор преследовал его, пытался задушить своим проводом–удавкой. Ваня с криком проснулся — простыня закрутилась вокруг шеи, он высвободился, но уснуть никак уже не мог. Крутился, крутился, полати вдруг показались жёсткими, он уж привык спать на голых досках, а тут никак не мог пристроиться: на спину ляжет — лопатки мешают, на бок — в коленке свербит, на живот лёг — всему телу маетно. Да что такое!
Вдруг Ваня услыхал лёгкие шаги в прихожей, входную дверь притворили, кто‑то сошёл с крыльца, шаги прошелестели по дощатому настилу, вот ворота отворились… Кто это ходит по ночам?! Ваня перелез на печь, соскочил на пол и заглянул в бабушкину комнату: постель разобрана, одеяло откинуто — а бабушки нет… Краем глаза Ваня заметил какое‑то движение за окном… Приник к окошку — бабушка Василиса Гордеевна в ночной рубахе стоит на той стороне дороги, где ряд супротивных изб, круглая луна над трубой светит лучше всякого фонаря, и соседская осина шевелит тёмной листвой. А бабушка приникла к дереву, вцепилась в ствол и что‑то там делает… Ваня глядел во все глаза — но понять никак не мог. Только осина прямо дрожмя дрожит. Василиса Гордеевна спиной стояла, потом повернулась боком — и Ваня увидел: бабушка дерево грызёт!.. Ему даже показалось, что он слышит, как железные зубы скыркают по дереву: скырлы–скырлы–скырлы… Ваня так и обмер. Зубы точит… Это что ж такое?! Знает Ваня, что надо отлепиться от окошка — и бегом назад, на полати. Но не может — будто ноги к полу приросли, а нос к стеклу. Вот Василиса Гордеевна оторвалась от дерева, утерлась рукой, — стружки, что ли, смахивает, — повернулась и пошла к дому. Вот перешла дорогу, ветер подул — и рубаха белая, в горошек, надулась колоколом, вот, Ваня слышит, ворота отворяются… Сорвавшись с места, как вешний ветер, миновал Ваня пространство до печки, мигом забрался на неё, а оттуда перескочил на полати. И замер.
Услышал, как дверь открылась, шаги прошебуршали в прихожей, вдруг тихо стало. Ваня зажмурился изо всех сил и потянул одеяло на голову. Опять шаги послышались, удаляются, Василиса Гордеевна завозилась у себя. Легла?
Эту ночь Ваня не спал — всё прислушивался. Под утро забылся тяжёлым сном — а проснулся от бабушкиного зова:
— Эй, лежебока, всё на свете проспишь — я сегодня пирог с малиной затеяла, твой любимый. Вставай–ко!
Ваня медленно слез со своего места, пошёл умываться: пошоркал лицо, руки, глянул в зеркало — на малого с золотыми волосьями и круглой мордой… Откормила! Что ж теперь делать?..
— Да чего ты там вошкаешься, тютя, иди исти — остынет всё.
— Сейчас, — отозвался Ваня, поглядывая за окно во двор. Бежать? А куда? В больницу? Денег‑то у него ни копейки, как туда добираться? Да и кто там его ждёт… Нюра? Нет, не хочет он в больницу. А может померещилось ему? А может, он неправильно увидел?.. Бывает — смотришь и видишь, только не то видишь. Может, спросить, что она ночью делала? Нет, нельзя. Молчать и быть настороже.
Ваня вошёл в кухню, глянул на зев печи, куда свободно взрослый поместится, не то что малец, на заслонку поглядел, приткнутую рядом, на Василису Гордеевну… Бабушка сидела за столом, пила чай из блюдечка с голубой каёмочкой и заедала пирогом. Пирог, порезанный на куски, лежал на доске, верх из ароматной сушёной малины (сначала бабушка её распаривает, а после уж налёвку делает) притягивал так, что сил нет. Ваня проглотил слюну.
— Чего стоишь? В ногах правды нет. — Бабушкины железные зубы при каждом звуке поблескивали.
Ваня хотел спросить: «А в зубах правда есть?» — да промолчал, сел, стараясь не глядеть на Василису Гордеевну, открыл краник на самоваре, смотрел, как кипяток льётся в стакан, подлил травяного настоя из чайника с голубым цветком на пузатом боку. Чай пил, а пирог не брал. На бабушкино приглашение отнекнулся, дескать, не хочется что‑то.
— Как знашь, — пожала плечами бабушка. — Ишь, нос воротит. Не с той ноги, что ли, встал? Больше приглашений не будет.
Мальчик смолчал, выпил пустой чаёк, опять покосился на раскрытый печной зев — и пошёл копаться в огороде.
По пути в магазин Ваня, предварительно обернувшись на свои окна, не глядит ли Василиса Гордеевна, подкрался к соседской осине — и увидал на коре, выше своей головы, явственные следы зубов. И не только кора была погрызена, а и твердь дерева. Последние его сомнения отпали — не сон то был, не ночной кошмар, а самая настоящая явь. В которой ему теперь предстоит как‑то жить.
Есть Ваня стал малёхочко, как воробей. Он думал, раз Василиса Гордеевна, привезя его из больницы, сразу не… (у Вани даже в мыслях не складывалось в слово то страшное подозрение, которое у него возникло), значит, что‑то не пришлось ей по вкусу. Надо стать таким же, как раньше — есть поменьше, мыться пореже, вот и всё.
Выходит, никакая она ему не бабушка. А кто тогда? Чужая старуха, которая прочитала в газетке про трудягу Ваню из инфекционной больницы — и решила взять себе в работники? Но если она взяла его в работники — то зачем ей его… Или к зиме работы в огороде закончатся, тогда она его и… Но Василиса Гордеевна вовсе не была такой уж любительницей мяса, печёное она любила, картошку во всех видах — тоже, капустку ещё квашеную, а мясцом не увлекалась. Это она обычным мясцом не увлекается, а… У Вани ото всех этих мыслей голова шла кругом и ноги подкашивались. И выходит тогда — никогда не жила здесь его мамка? Он ведь так и не узнал, была ли вообще у старухи дочь. Пианино ей могли просто отдать — как вон телевизор. Старую обувь — тоже. Или приезжала как‑нибудь летом погостить какая-нибудь внучатая племянница из Москвы — и оставила перед отъездом изношенные сандалии, а старухе жаль их было выкинуть, вот и прибрала. А Ваня‑то как радовался — отыскав материнские следы! И почему она запретила ему говорить про мать — потому что ответить‑то ей нечего, и не заикайся, дескать… А он‑то дурак!.. Ваня полол морковь — и капал на грядку горючими слезами. Будет теперь морковь не сладкая, а горькая, как редька, — вот будет бабушке подарочек‑то.
Василиса Гордеевна же за каждой трапезой подкладывала и подкладывала Ване снедь на тарелку, Ваня не съедал ничего, или обратно перекладывал, или положит себе чуток — а ест часок.
— Ну и ну! — качает головой бабушка. — Вот положил так положил — как ведь с полатей поплевал!
Другой раз:
— Тьфу! Смотреть противно, как ты ешь, копается, копается, выбирает, перебирает… Бери большую ложку — и наворачивай!
Но мальчик ел по–прежнему мало, тогда Василиса Гордеевна принялась отпаивать Ваню, потерявшего аппетит, настоями.
— Изурочили, — бормотала она, — как есть изурочили! И какая же зараза добралась до малого?! Ну, я ужо узнаю!..
Бабушка повезла его через весь город к грязноватой речушке, выбрала место побезлюднее и, раздев Ваню донага, принялась макать его с головой в речку. Он подумал, что она утопить его хочет, как кутёнка, и пытался сопротивляться. Но у Василисы Гордеевны не вырвешься. Окуная мальчика в воду, бабушка приговаривала:
— Матушка водица, родная сестрица! Обмываешь ты круты берега, жёлты пески, бел–горюч камень своей быстриной и золотой струёй. Обмой‑ка ты с Ванятки все хитки и притки, уроки и призоры, скорби и болезни, щипоты и ломоты, злу худобу… Понеси‑ка их, матушка быстра река, своей быстриной — золотой струёй в чистое поле, зимнее море, за. топучие грязи, за зыбучие болота, за сосновый лес, за осиновый тын.
Никак старуха не успокоится — тосковал Ваня. Не катаньем, так мытьём хочет своего добиться, не нравится, вишь, ей его худоба… Ничего, думал Ваня, посмотрим ещё кто кого — нашла коса на камень! И ел опять помаленечку.
Однажды, — дело было уже к ночи, — Василиса Гордеевна сказала, что спать они сегодня не будут. Ваня насторожился… А поедут, дескать, в одно место… В какое–такое место? Бабушка не ответила, а велела ему собираться. Ване долго ли собраться — только вот куда это они на ночь глядя? Бабушка накинула пиджачишко, в карманы денег положила, взяла с собой котомку — и они пошли. На последнем трамвае приехали на вокзал… Ваня заподозрил, что Василиса Гордеевна его, отощавшего, хочет вернуть туда, откуда взяла, — в инфекционку, но бабушка купила билеты не на поезд дальнего следования, а на ближайшую электричку. Сошли где‑то на полустанке — никто, кроме них, в этом месте электричку не покинул. «Сороковой километр», — объявил голос по репродуктору, когда они уже соскакивали на платформу. Фонари тут не горели, от полустанка Василиса Гордеевна не пошла через рельсы к посёлку, чьи редкие огни кое–где ещё светились, а поворотила во тьму. Тут один месяц подсвечивал им путь. Шла бабушка уверенно, вроде уж бывала тут. Дорога вела в лес, пройдя по ней какое‑то время, свернули на тропу и двинулись среди тёмных елей, коловших ветками глаза, ударявших то по лбу, то по груди. Ваня спотыкался через шаг. Зачем они идут в тёмный лес?
— Траву будем сбирать, — ответила на Ванин мысленный вопрос Василиса Гордеевна, ходко шагая впереди. Ваня едва за ней поспевал.
— А почему ночью? — спросил Ваня, увёртываясь от веток, стронутых с места бабушкиной ходьбой.
— А когда ж ещё? — удивилась Василиса Гордеевна. — Для каждой травки своё время. Есть мурава рассветная, есть полуденная, есть сумеречная, а есть ночная… Мы за ночной травкой сегодня прибыли.
— Как же мы её увидим в темноте‑то?
— А чего её видать — мы её услышим.
— Как это?
— А так. Нам надобна плакун–трава. А растёт она на обидящем месте — где кровушка невинная пролилась…
Ваня вздрогнул, услыхав про кровушку. Уж не его ли кровушку хотят пролить на обидящем месте… Может, повернуть, пока не поздно, — да бежать! Но шёл за бабушкой, ровно привязанный. Воздух, которым он дышал, казался ему каким‑то не таким, как надо. Ваню знобило. Всё тело чесалось, и глаза пощипывало.
— Раз в году, в Иванов день, плакун–трава плачет, как услышим плач — пойдём и выкопаем корешок, и вся недолга.
— А где это — обидящее место?
— А вот оно! — Василиса Гордеевна резко остановилась, и Ваня налетел на бабушку и отпрянул. Среди деревьев, едва освещённая луной, открылась поляна. Со всех сторон стеной стоял чёрный зубчатый лес. Ваня поднял голову — и увидел повозку Большой Медведицы. Звёзды в небе мигали подслеповато, стараясь разглядеть, что тут деется.
— И… и кого тут обидели? — трясясь как осиновый лист и задыхаясь, спросил Ваня.
— А уж это не твого ума дело! — отвечала Василиса Гордеевна.
И вдруг Ваня услыхал явственный тоненький плач — как будто ребёнок в лесу заблудился, совсем махонький, годовалый, может, не больше… Плачет так жалобно: а–а, а–а, а–а, — прямо сердце разрывается. Василиса Гордеевна пошла на плач, а Ваня, едва поспевая, — за ней. Нет, не похоже это на траву, похоже на человека… Поляна оказалась неровная — вся в кочках да рытвинах, Ваня упал пару раз, а Василиса Гордеевна не падала. Глухой плач не становился ни громче, ни тише — а–а, а–а, а–а, на одной ноте. Бабушка, достав из котомки маленькую, с локоток, кирку, вертелась во все стороны, заглядывала под кусты, ощупывала, когтила землю, звала тонюсеньким голоском, подстраиваясь под тон плакуна:
— Эй, миленький, да где же ты, да иди ко мне, мой хороший… Дай я тебя вытащу на свет божий, чего тебе там в земле делать‑то, в темени непроглядной… Иди ко мне, мой маленький…
Тут Ваня почувствовал, что дыханье у него совсем спёрло.
— Бабаня, — прохрипел он, садясь на землю, — не могу больше… Воздуху… воз–духу не хватает… — и опустил голову меж колен. Василиса Гордеевна, оставив свои поиски, подбежала к Ване — приподняла его голову со свесившимися волосами, вгляделась в лицо и воскликнула:
— Да будь оно неладно! Окаянная трясовица[2], лютая огнея! Сенная лихорадка… Ахти мне, дуре старой, повела заморыша в лес, дышал он там, в своей больнице, всякой пакостью, а тут — дух чистый, лесной, непривычный. Али от обидящего места так его выламыват?!. А ведь могёт быть…
Ваня поднял голову и прохрипел:
— Аллергия это… У нас один мальчик помер так в больнице… Поставили укол, антибиотик — а у него непереносимость. Так и не спасли…
— Да ладно каркать‑то. Не спасли… Там бабушки твоей не было… Не спасли… Ничего, Ванятка, вставай–ко, нам бы только с тобой убраться отсюда подобру–поздорову да до дому как‑нибудь доковылять, а уж там я тебя на ноги‑то подыму. Огнею эту лютую вытрясу из тебя… — Василиса Гордеевна потащила Ваню вон из лесу. А он уж совсем хрипит и бормочет несуразное:
— Су–су–су–прастинчику[3] бы сейчас…
Бабушка Василиса Гордеевна отвечает:
— Ладно тебе прощеваться… Простинчику… Это мне у тебя прощенья надо просить… Прости ты меня, Ваня, дуру старую, завела тебя в лес, не подумавши…
— И ты меня, бабаня, прости… Ох, прости!.. — заплакал Ваня, вспомнив свои ужасные подозрения, и услышал далёкий уже тоненький детский плач — А… а как же плакун‑то трава — плачет ведь она…
— Поплачет и перестанет. Не до неё сейчас.
— Мальчик тот, из больницы, как камень лежал, твёрдый да холодный, я в морге видел, в подвале, — бормочет Ваня.
— Тот лежал, а ты не будешь, — возражает Василиса Гордеевна, стукая себя по лбу: путь назад не близкий, а электрички‑то сейчас не ходят… И вдруг вскрикнула: — Камень! Где‑то тут камень должен быть на пути, погоди‑ка, Ванюша, я мигом!
Бабушка убежала, а Ваня сквозь глазные щёлки на небо глядит — где же тут в звёздном тумане повозка Большой Медведицы, сейчас она за ним спустится, и полетит он… Но тут Василиса Гордеевна вернулась, схватила Ваню и волоком поволокла:
— Тут рядом, рядом, Ванюша, сейчас, сейчас мы с тобой живёхонько дома будем… Потерпи.
В стороне от тропы, впритык к стволу древней ели с разлапистыми ветвями жил старый камень, похожий на голову обернувшегося коня. Ваня мало что уже соображал. Камень так камень, конь так конь. Запыхавшаяся Василиса Гордеевна ссадила Ваню на землю, сама встала перед камнем и, поправив лямки котомки, забормотала:
— На море, на окияне, на острове на Буяне лежит бел–горюч камень Алатырь[4]. На том камне сидит красная девица, зашивает раны кровавые. Подойду я поближе, поклонюся пониже, — Василиса Гордеевна низко поклонилась, — бел–горюч камень, дай нам простору, не дай нам раздору, дай ужины, а посля ширины…
Бабушка посадила Ваню на камень, сама пристроилась рядом, мальчик сквозь жар, охвативший его, ощутил, что камень с ударом грома раздался до горизонта — перед глазами до самого звёздного неба каменная равнина в белой пыли, с неровностями, трещинами и углублениями, похожая на лунное плато. Или это он уменьшился до муравьиных размеров, а камень остался прежним… Но где же бабушка? Её не было рядом, её не было нигде… Ваня попытался позвать бабушку — и не мог, вместо голоса из горла выходило одно шипение, как из сдувшейся резиновой груши.
Он пошёл, озираясь, по мёртвой пустыне. Идти было легко и весело — до щекотки, его подбрасывало вверх, как мячик. Ваня хохотал с раззявленным ртом — из которого не выходило ни капли хохота. В три касания он отмахал хороший кусок. Глядел по сторонам — но всюду было одно и то же: ровная каменистая пустыня.
И вдруг далеко–далеко видит Ваня бабушку, она бежит ему навстречу с открытым ртом, тоже пытается позвать — и тоже не может, машет руками, платок сбился на сторону… Она неудержимо приближалась — летела просто со скоростью звука. И вдруг Ваня замечает, что на пути у неё дыра… То ли лунный кратер, то ли канализационный люк. А бабушка так торопится к Ване, что не видит этой дыры. Ваня бросается к бабушке навстречу — и они одновременно достигают чёрной дыры, Василиса Гордеевна успевает обхватить Ваню — и они вместе проваливаются в этот открытый люк, который оказывается до того узким, до того тугим, что грудная клетка, Ваня понимает, сейчас не выдержит, лопнет и…
Неожиданно дышать стало легче — они стоят на ярко освещённом проспекте, перед поворотом в свою улицу. Рассветало — и первый трамвай, дребезжа, проехал по рельсам за их спинами. Василиса Гордеевна быстро глянула на Ваню — и потащила его домой.
Ваня, войдя в избу, мельком взглянул в зеркало и не узнал себя в одутловатом, безглазом, в синяках и отёках биче, которого, казалось, били целый день с утра до вечера. Василиса Гордеевна положила бича на свою постель. Подняв к лицу опухшие красные руки, Ваня тут же уронил их на одеяло. Повернул голову — и показалось ему, что Алёнушка на ковре, на своем камушке, приподняла голову и посмотрела на него… Вот еще! Блазнится. Сморгнул, поглядел — нет, вроде не шевелится, тьфу ведь! Когда бабушка прибежала с крынкой какого‑то горячего настоя, он попытался произнести:
— Крапивница, отёк Квинке, анафилактический шок…
Но у него вышло:
— Пивца, свинке, фифок…
— Да, да, да, — согласно закивала Василиса Гордеевна, — выпей–ко…
Ваня выпил, а бабушка налила ещё настою, но Ване его не дала — а, набрав в рот, надула щёки, брызнула на него и зашептала:
— Заря–заряница, красная девица, избавь раба божьего Ивана от матухи, от знобухи, от летучки, от гнетучки, от огней, от мокрей, от всех двенадцати девиц–трясавиц, — тут Василиса Гордеевна дунула на Ваню так, что золотые его космы встали дыбом, потом сплюнула в угол. Опять дунула — так, что одеяло взлетело до потолка, а упало уже на пол, и опять сплюнула. А в третий раз бабушка дунула так, что железная кровать поднялась в воздух — а когда грохнулась об пол, то одна ножка подломилась и Ваня едва не скатился с кровати (хорошо, успел пойматься за железные бока), но Василиса Гордеевна довела дело до конца — и плюнула в третий угол. А уж только после того принесла чурбак со двора и подставила вместо обрушенной ножки.
Наутро Ваня был здоровёхонек: дышалось легко, руки были обычные, худые, краснота и отёки сошли с тела. Сощурившись, он глядел некоторое время на бабушкин коврик: но сестрица Алёнушка сидела на своём камушке смирно, глядела на воду, а не на него. Ладно тогда. И захотелось ему сказки свои почитать, давно что‑то не читал, поваляться в постели захотелось, поболеть — только собрался потихоньку сбегать за книжкой, как Василиса Гордеевна, унюхав как‑то, что он проснулся, застучала из кухни в дощатую перегородку:
— Хватит дрыхнуть‑то… Всё на свете ведь проспишь!
И, обойдя комнаты кругом, появилась в дверном проёме:
— Я уж позавтракала, обедать собралась. Обедать‑то будешь, нет ли? Или всё голодовать думать?
Ваня закачал головой:
— Не–е. Я бы сейчас медведя съел! А… пирога с малиной нету сегодня?
— Нетути. Картофельны шаньги есть — в печке сидят.
— Здорово! — Ваня помолчал и задал вконец измучивший его вопрос: — Бабаня, а… вот чего ты надысь ночью соседскую осину грызла? Пирогов, что ль, тебе не хватает?
— А–а–а… Дак это я зубы лечила.
— Лечила зубы?! — Ваня так и сел на постели. — Ты что — зубы стоматолог лечит!
— Зачем мне сто матологов, мне одной осины хватает, от неё зубы, знаешь, какие крепкие делаются… Вот как‑нибудь твои полечим!
Глава 7. Жабодлак
Ваня как заново на свет народился. Бояться и думать забыл. Он теперь почти не сомневался, что Василиса Гордеевна его родная бабушка. Только вот вопрос с мамкой так и оставался открытым. На радостях Ваня опять заикнулся о матери, но получил такую отповедь, что зарёкся у бабушки вызнавать про мать. Но у кого же тогда про неё спрашивать? Что с ней случилось? Почему она не вернулась за Ваней, как обещала? И где она сейчас? И почему бабушка ни за что не хочет говорить о ней? А вдруг всё не так… Василиса Гордеевна — никто ему, взяла его как работника, а потом Ваня ей глянулся, пожалела его, и вот… Опять двадцать пять! Всё те же подозрения. Ну да, а вдруг так оно и есть… И родная Ванина мать, вернувшись за ним в Ужгу — город, где жил он раньше, — не найдёт его. И адреса ведь Василиса Гордеевна не оставила — кроме оплёванных анализов у главврача ничегошеньки нет. Ищи–свищи…
Он шёл в магазин, помахивая пестерем[5], и перебирал в уме думы о своей родне. Деньги у него лежали в кармане штанов, он давно перестал денежные знаки изучать и разглядывать, поглубже сунет в карман — и айда. И давненько уже не ходил он в магазин десятой дорогой, шёл напрямки, мимо пустыря. Парней он в последнее время не опасался, не до хулиганов тут, когда думаешь, что тебя вот–вот съедят. Но этот кошмар остался в прошлом, а мальчишки‑то были в настоящем!
Ваня шёл с опущенной головой — и прямиком нарвался на всё ту же компанию. Его затащили на пустырь, где там–сям торчали печные остовы, стояли изломанные и покорёженные липы, а, если дул ветер, пыль от снесённого быта могла запорошить глаза любому прохожему так, что он ничего уже не видел. Ветер подул — и редкие прохожие, продирая глаза, не обратили никакого внимания на мальчишеские разборки. Ваню притиснули к переломившемуся надвое стволу.
— А–а, старый знакомый! Забыл, сявка, что тебе весной было говорено? Память, это самое, отшибло, да? Напомнить? Тебе говорили, это самое, не ходить здесь? Говорили?
— Говорили, — вздохнул Ваня.
— Как порядочного предупреждали тебя! А ты, это самое, не слушаешься старших, ходишь… Что за это полагается, знаешь?
— Нет, — сказал Ваня, тщетно глядя в сторону тротуара, по которому шли взрослые люди, а на проспекте машин, как всегда, было видимо–невидимо.
— Так мы щас напо–омним… — протянул Это Самое.
И Ване наподдавали так, что он переломился пополам, как липа, к которой его поставили. После такого напоминания Это Самое стал опять требовать бабки.
Ваня, окончательно не сломленный, деньги отдавать не хотел. Тогда Эдик — правая рука Этого Самого, а также левая, к которой почему‑то обращались по фамилии — Мичурин, с двух сторон принялись обрабатывать Ванины карманы, после чего в них стал ветер гулять. Ване, как и в прошлый раз, дали хорошего пинка, и он мог отправляться домой.
Постояв у ворот и не решаясь войти, Ваня снова полез на дуб и прямиком направился к уже известному ему дуплу, но теперь в дыре ничего, кроме нескольких желудей, не оказалось. Ваня и так и сяк ощупывал дно — пусто. Разочарование его было слишком велико. Ваня вспомнил, что в последнее время совсем перестал здороваться со Святодубом. Пройдёт мимо — и не поглядит даже, какое там поздороваться! Как будто так и надо. Он посмотрел вниз: крыша избы темнела позапрошлой листвой, венчал её вырезанный из дерева петушок. Ну что тут будешь делать — Ваня решил признаваться во всём.
Василиса Гордеевна сидела за прялкой, только теперь она выпрядала алую нить из зоревого шерстяного облака. Веретено крутилось, как юла, нитка наматывалась да наматывалась. Ваня опять спросил:
— Это кому ты нитку прядёшь, бабаня, мне?
— Тебе, а то кому ж… Видишь — красная нитка пошла, чёрная шерсть нынче кончилась… — Василиса Гордеевна подняла глаза на Ваню: — А ты чего такой расцарапанный, кошки, что ли, тя драли? Аль от собак отбивался?
— Не кошки и не собаки…
— Ага, понятно, ребяты, значит, шалопаи беспутые.
Ваня кивнул и выговорил:
— И… и денег тоже нет… Всё отняли! — быстро взглянув на нахмурившуюся бабушку — вот–вот из побелевших глаз снег повалит, — Ваня зачастил:
— Бабаня, ты же всё можешь — наказала бы ты их как‑нибудь, порчу наслала бы на них какую‑нибудь, а? Или сглаз? Или ещё что? Я ведь не говорил тебе, это уж не первый раз, тогда Святодуб мне подсобил, а… И сколько я кругов намотал, всю весну да пол–лета дугами ходил, чтоб на глаза им не попадаться. Это такие… Ты не знаешь… — Боясь поглядеть в бабушкины глаза, Ваня докончил:
— Они и зарезать могут!
— Вона как!
— Запросто!
Василиса Гордеевна молча продолжала прясть, веретено так и отплясывало на колене, у Вани даже голова закружилась смотреть. Наконец бабушка, не поднимая на Ваню глаз, сказала:
— Только ведь порча, али сглаз, али ещё что — это ведь, Ваня, дело такое, двоякое. Придётся тебе помогать мне.
— А что надо делать?
Оказалось, что надо или вырезать следы, которые мальчишеские ботинки оставят в земле, или собрать с каждой головы хоть по волоску, можно также заиметь по личной вещичке врага, ну а если ничего этого нет, то в таком разе принести фотографии хулиганов. Ваня приуныл — задача почти невыполнимая, если учесть, что ни с кем из парней он не знаком, не знает, где они живут, где помимо пустыря ходят, как же он сможет выдрать волосья, или срезать следы, или подтибрить какие‑нибудь личные мелочи… Ну а уж фотографии с дарственной надписью «сявке — на вечную память» они ему точно дарить не станут. Всё же Ваня решил попытать счастья — уж больно надоело ему ходить с оглядкой. И первым делом отправился на пустырь. Парней на сей раз не было, и следы их ветер унёс. Вот если бы тут была грязь, тогда да, а так…
И на следующий день, ровно по заказу, пошёл дождь. Теперь Ваня шёл в магазин, как на охоту: проходя мимо пустыря, зорко глядел по сторонам. Но пустырь был, как и положено такому месту, мёртв и бесприютен. Только какая‑то бездомная кошка сидела на обломках печи и громко мяргала[6]. Небось, когда‑то лежала на этой самой печке, растопырив лапы, и грелась — а теперь вот мокнет под дождём.
Из магазина на полквартала протянулся облезлый хвост очереди — отоваривали талоны на водку. В очереди стоял и сосед из дома напротив, алкаш Коля Лабода. Сосед иногда приходил к Василисе Гордеевне занять денег до получки, денег бабушка ему никогда не давала, но он всё равно приходил. Талоны на сахар, узнал Ваня, отоваривать будут завтра. Пока что он купил хлеба, молока, постного масла и пачку «Беломора» для Мекеши.
Ване везло — парни караулили его. Вовремя заметив компанию, Ваня свернул на пустырь, так что они оказались позади него. Он припустил что было духу, мальчишки за ним, и Ваня, петляя, завёл их в самое грязное место, он и сам, конечно, завязал в глине, но и они вязли, оставляя отчётливейшие следы. Только бы отставшие не затоптали следы передних… Ваня обернулся — и увидел, что они рассыпались, собираясь окружить его — ну, теперь‑то ото всех останутся такие следочки, что любо–дорого будет смотреть! Эдик, правда, упал — и со страшными матюгами поднялся — но Ваня надеялся, что много следов он своим паденьем не смазал.
Но тут Ваню окружили и отметелили так, что первые два раза показались ему дружескими похлопываниями. Тем более что денег у него на сей раз не было. Да ещё Ваня, когда голова Этого Самого оказалась в непосредственной близости от его лица, предпринял попытку выдрать у парня клок волос. Поплатился Ваня за эти волосья жестоко…
Хорошо, что пестерь с провизией с самого начала отлетел далеко в сторону — и Ваня, вывалянный в грязи, смог подобрать его, когда напоследок Это Самое дал ему хорошего пинка. Домой Ваня пришёл весь изгвазданный, но с клоком волос, зажатым в руке. Пестерь с продуктами поставил на пол, а волосы Василиса Гордеевна спрятала в жестяную банку из‑под индийского чая.
Бабушке пришлось затеять баню — Ваню‑то отмывать было надо. Он носил воду, дрова, топил, подкладывал в печь, а в промежутке успел несколько раз сбегать с лопаткой и ведром на пустырь. Встречные сомневались: то ли клад идёт копать парнишко, дескать, в одном из подполий снесённых домов золотые царские червонцы зарыты, то ли червей добывать для рыбалки… А Ване нужны были грязные мальчишечьи следы. Он приметил, что Эдик и ещё один парень были в кроссовках, Мичурин — в резиновых сапогах, Это Самое — в скороходовских ботинках, пятый был в сандалиях, как и Ваня, а шестой, бедолага, в тапочках.
Следы и вправду отпечатались в глине очень чётко — некоторые вплоть до циферок размера. Так что оставалось только аккуратно поддевать следок, класть в ведёрко — и домой. А там уж бабушка разберётся с ними. Путаница вышла только со следами кроссовок, в них были двое ребят, размер, видать, носили один — и Ваня опасался, как бы дважды не взять один и тот же след. Задачу свою Ваня выполнил без помех: он предполагал, что парни, изгваздавшиеся в грязи не меньше, чем он, на улицу пока не покажутся, тоже, небось, отмываться станут — так и вышло.
На другой день, заглянув в кухню, Ваня мельком увидел, что бабушка Василиса Гордеевна запекает глинистые следы, ровно шаньги, в печи на железном листе. Потом он подсмотрел, как бабушка, вытащив подсушенную и потрескавшуюся продукцию, налила в каждый след колодезной воды, и туда же положила по шерстяному поясу — когда только связать успела, никак ночью работала… Пояски были из чёрно–красных махрящихся ниток. Василиса Гордеевна начала метаться по кухне, враз ставшей ей тесной, шептаться и плеваться, но, что потом было, Ваня уже не видел: бабушка цыкнула на него — и вытолкала из кухни, чтоб не путался под ногами, а шёл бы картошку окучивать.
Прошёл ещё день — и бабушка вручила ему кучу высохших поясов (концы каждого были связаны, так что получилась петля), наказав при встрече накинуть эти шерстяные петельки на парней.
— А что с ними будет? — полюбопытствовал Ваня.
— Там увидишь, — ответствовала Василиса Гордеевна.
— Ладно, — сказал Ваня и пошёл.
Вот это была настоящая охота! У Вани так и подпрыгивало всё внутри от предвкушения. Уж он им теперь покажет! А то — проходу не дают… Разве ж это жизнь? А в школу как он будет ходить? Да вдруг и они там учатся — что скорей всего… Школу‑то эту он видел, за магазин надо свернуть да пройти немного, такая же, как прежняя, в которую он ходил в Ужге, один к одному: кирпичная, в четыре этажа и буквой П. Не отвлекаться, одёрнул себя Ваня. Надо было ещё найти парней да умудриться набросить верёвки им на шею. Их‑то шестеро, а Ваня‑то со своими вязанками один.
И опять Ване повезло — на ловца и зверь бежит. Парни вразвалочку, сунув руки в карманы, перегородив широкий тротуар, шли на него, а потом — в тычки да в толчки — оттеснили его на свой излюбленный пустырь. Верёвки Ваня на левую руку намотал и придерживал, свисают они внутрь пестеря и не видны совсем, разве только чуть–чуть, а ежели что, под рукой. Когда Ваню затолкали в глубину пустыря, подальше от людских глаз, за печной остов, Эдик, ткнув его в грудь, заголосил:
— Ах ты, лярва, тебе что — мало, что ли, и чего ты тут ходишь, хорошим людям глаза мозолишь, весь кайф ломаешь?
— Да он бабки нам несёт, старается, так ведь, сявка? — спросил Это Самое. — Бабки отдаёшь — бить не будем. Сам отдашь — или, это самое, пацаны помогут?
Ваня быстро вытащил заготовленную сотенку — и протянул. Вот сейчас надо, сейчас… Но всё не решался, только крепче сжимал своё вязаное оружие.
— Стольник? Всего‑то? Нет, сотней ты не отделаешься, — сказал Мичурин и заехал Ване по лицу.
— А вот мы его сейчас маленько пощекочем, так по–другому заговорит, побежит за денежками‑то! — говорил Это Самое, вынимая из кармана ножик.
А Эдик подскочил, чтоб скрутить ему руки, но Ваня, изловчившись, вывернулся, отбросил пестерь, а связка верёвок оказалась снаружи. Отделив крайний хомуток, он в мгновение ока накинул его Эдику на шею, ещё доля секунды — и второй хомут на Этом Самом, и тут же третий накинут на кого‑то, оказавшегося поблизости.
Что произошло в следующее мгновение, Ваня плохо потом помнил, так был потрясён. Эдик, Это Самое и третий мальчишка один за другим прямо на глазах стали меняться. Волосы клочьями полезли из щёк, покрыли всё тело, лица вытянулись в морды, руки и ноги скрючились, из задов выбросило по хвосту — и вот между Ваней и оставшимися тремя ребятами стоят три пса в вязаных ошейниках. Все оцепенели — и собаки, и люди. Ваня первым пришёл в себя — ощутив, что верёвки, как живые, рвутся из рук. Довершая начатое, пока те не опомнились, он стал набрасывать их на людей, и ему показалось даже, что верёвки сами окрутили шеи жертв. Все, кроме одного, перекинулись псами. Эдик стал таксой, Мичурин белым пуделем, а все остальные обычными дворнягами, даже Это Самое. Собаки лязгнули зубами — и, подвывая, бросились наутёк.
Оставшийся парень — он был в кроссовках, всё‑таки Ваня дважды срезал один и тот же след, и этому просто повезло — никак не мог опомниться. Он оторопело глядел на то место, где минуту назад стояли человеческие создания, потом собаки — а теперь никого нет, только нож лежит у Ваниных ног. Мальчишка поднял глаза на Ваню — завизжал и, не переставая визжать, побежал куда‑то по пустырю.
Ваня съехал спиной по бывшей печке и сел на заваленную щебёнкой землю — ничего, кроме потрясения, он не испытывал. И тут в совершенном оцепенении он увидел, как из отброшенного пестеря выползает ещё одна, седьмая петля — откуда она взялась‑то, их всего было шесть, Ваня сколько раз считал. И этот красно–черный ошейник, складываясь восьмёркой и разжимаясь в нуль, приближается к нему… Ползёт… Ваня не мог отвести от него глаз. Оказавшись в непосредственной близости от Вани, последняя петля взвилась в воздух и оказалась на Ваниной шее…
Горло сжало, земля куда‑то покатилась — Ваня зажмурился, хотел крикнуть… но только булькнул…
Открыв глаза, он увидел, что земля дотянулась до его подбородка. Ваня внимательно поглядел на неё, воды в ней почти не было, суха, очень суха, слишком суха. Плохое место. Надо было искать хорошее. И тут очень близко он увидел перепончатые лапы. Что за напасть… Ваня попытался отскочить подальше от лап, он прыгал хорошо, очень хорошо, просто как подушка, р–раз — и там! Одно было плохо: лапы прыгали вместе с ним. Ваня попытался отделаться от лап, потряс ногой — но не тут‑то было! Лапы оказались крепко к нему приклеены.
— Гнида, — вдруг услышал он и, с трудом подняв голову, увидел высоко–высоко на каменной вершине эту, как её, он знал, как её зовут, только забыл…
— Ты кто? — попытался спросить Ваня, и даже спросил, но только не на русском языке, и даже не на английском, и не на каком‑либо другом наречии, а очень странными, но, оказывается, очень удобными для него звуками.
— Не видишь, что ли, — кошка. А ты гнида…
— Почему? — удивился Ваня.
— Потому что наделал собак. Мало их тут бегает, никакого покоя от них нет! Это какой‑то собачий город, кругом одни бездомные псы. Не мог сотворить кошек, раз уж так тебе не терпелось! Гнида ты и всё…
— Нет, я не гнида, — сказал Ваня, — я …
— Тогда жаба…
— И не жаба. Я…
— Спроси кого хочешь, ты — самая настоящая жаба. Как только земля таких носит — ни съесть тебя, ни поиграть с тобой. Гнида ты…
С этими словами кошка прыгнула куда‑то, только Ваня не понял куда — и больше он её никогда не видел. Надо было искать хорошее место — это было плохое. Хорошее место — это когда вода: сверху, снизу, вокруг, рядом… А тут сухо, глаза сохнут, ноздри сохнут, есть нечего, острые камни — того гляди брюхо распорешь, брюхо у него было мягкое, слишком мягкое. И пустое. Вперёд! И Ваня, как он теперь умел, совершил великолепный чемпионский прыжок — р–раз, и там. И ещё — р–раз! Только его немного заносило — но это ничего, он всё же подвигался к тому, хорошему месту, он это чувствовал. Скакал Ваня долго — просто выбился из сил, а хорошего места всё не было.
Наконец он увидел это место — и издал такой клич радости, что сам вздрогнул. Он нырнул в эту жёлтую воду, погрузился в неё с ноздрями и ощутил, что по обеим сторонам головы раздуваются какие‑то воздушные шары… Как на параде. Это было приятно. Отдышавшись как следует, Ваня увидел довольно далеко эту, как её, она летала, чёрная такая, а крылышки прозрачные, он знал, как её зовут, да забыл и не хотел вспоминать, и разговаривать с ней он тоже не хотел. Он только услышал, как она пискнула «ой, мамочка!», и одновременно с этим «ой, мамочка!» Ванин язык покинул его, он умчался так далеко, что Ваня уже с ним распрощался, но после прогулки язык вернулся, и не один, а с этой летучкой. Она была вкусная.
На пустыре, в луже, оставшейся после позавчерашнего дождя, Василиса Гордеевна и отыскала Ваню, особая примета — чёрно–красный вязаный ошейник.
Он пытался зарыться от неё в жиже, потом вырвался из рук — и скакнул так далеко, что бабушка едва догнала его и прихлопнула банкой. В банке и понесла домой. Во дворе Мекеша едва не разбил трёхлитровку своими рогами. Ваня, сжавшись за стеклом, слышал, как он ругается:
— Пар–разит, папирос опять не принёс! Ушёл — и с концами, ты смотри, что учудил — жабой заделался, только чтоб в магазин не ходить. Ну ужо я с ним разделаюсь! На рога поддену паскуду! Раздавлю сморчка…
— Ну–ко! — прикрикнула на него Василиса Гордеевна. — Вояка! Поди вон, не до тебя сейчас. Уж все лёгкие прокурил, сдохнешь скоро, а всё ему папиросочки подавай. Научил курить дурак–от этот, пьяница проклятый Лабода Колька — теперь никакого спасу нет! Сколь денег на «Беломор» твой извела! Ни молока от тебя, ни шерсти, чего держу — сама не знаю!
Банку с Ваней Василиса Гордеевна поставила на подоконник, налила туда молока. В стеклянной банке по горло в молоке он и жил целых девять дней. Иногда бабушка выносила его в огород, иногда во двор — там он беседовал с Мекешей. Ваня почти подружился с козлом. Мухи — так звали летучек — покоя Мекеше не давали, так и вились вокруг, хотя что они в нём нашли, Ваня понять не мог. Конечно, запах от козла шёл внушительный — может, он их и привлекал. Ваня спасал его, расправляясь с назойливыми влюблёнными по–свойски. Конечно, не до всякой мухи Ванин язык мог дотянуться — есть предел и совершенству, — но чаще всего Ване удавалось облегчить жизнь козлу ещё на одну муху. Мекеша был Ване благодарен и в хорошем настроении — которое бывало у козла очень редко — говорил:
— Не такой уж ты гад, как я думал спервоначалу. Только больно страшон, а так ничего, не вредный… И проткнуть тебя ничего не стоит — только Она не позволит. С воротами тебя не сравнишь. Они, проклятые, покоя мне не дают! Сколько можно с ними бороться, прямо не знаю… И талдычат своё и талдычат, дескать, они испокон веку тут стоят, а Мекеша здесь никто. Всё время одно и то же скрипят: мы тебя переживём, твои косточки сгниют, одни рожки да ножки останутся, а мы, дескать, ве–ечные… Ну как с такими не бороться! Ох, ме–е–е–чта моей жизни — поддеть их на рога!
Через девять дней Василиса Гордеевна, посадив Ваню на крыльцо, сняла с него ошейник… Съехав по ступенькам к дощатому настилу, Ваня открыл глаза и заплетающимся языком произнёс:
— Где я?
Дальше:
— Кто я?
Потом узнал Василису Гордеевну и горько заплакал. Он прекрасно помнил, что был жабой, квакал и ел говорящих мух.
В тот же день Ваня пошёл на пустырь. Его очень тянуло не шагать, а передвигаться прыжками, причём ему казалось, что препятствие в виде куста или человека у него на пути — это пустяк и ему ничего не стоит его преодолеть. Он совершал прыжок: куст иногда и впрямь удавалось перескочить, а человека — ни разу. Дважды произошло столкновение, после чего Ваня сообразил, что перенестись через прохожего ему не по зубам.
Собачья свора, как он и думал, бегала по пустырю. Только тут было четыре пса в чёрно–красных ошейниках, пятого, таксы Эдика, недоставало. Ваня решил освободить хоть этих. Псы, сначала ощерившие на него зубы, поняв, что зла он им не хочет, заскулили, стали прыгать вокруг и вилять хвостами. Ваня поснимал собакам ошейники — и увидел, как псы превращаются в людей: шерсть с них клочьями сходит, руки–ноги растягиваются, морды преображаются в лица, хвосты втягиваются, как шасси. Вот и опять вся компания, за исключением Эдика, в сборе!
Сбившись кучкой, парни настороженно следили за Ваней, Мичурин по собачьей привычке скалил зубы, Это Самое, пытаясь что‑то сказать, пока ещё потявкивал.
— Где Эдика‑то потеряли? — спросил Ваня.
— Со–гав–гав–бачники приезжали и, это самое, гав–гав, поймали его — мы‑то разбежав–жав–жав–лись, а у него лапы короткие, что с него возьмёшь — такса, вот, это самое, и попался!
— Небось и в живых уж нет! — сказал Мичурин и завыл.
— Не гавкай! Это когда было — утром, не успели ещё кокнуть Эдика.
Ваня говорил:
— Поторапливаться надо, бабушка сказала, если сегодня ошейник не снять, девять лет будет бегать собакой.
— Ё–моё! — сказал один.
— Если проживёт, — вздохнул другой. — Собаки столько не живут…
— Живут, только он, это самое, дедом к тому времени станет, девять лет — для собаки старость.
Мичурин, откашлявшись, крикнул громче, чем надо:
— Я погнал, меня дома ждут! Ищут, небось, с собаками…
— Всех ждут! Всех ищут! Эдика, это самое, из тюряги вытащим — тогда все по домам.
Вместе, хоть и не разговаривая особо между собой, поехали к собачникам, на окраину города.
Пойманных собак держали в загородке.
— Чего надо? — спросил мужик из‑за забора. Ещё один вышел из каптёрки, вытирая руки о заскорузлый фартук.
У бывших псов при виде собачников вся шерсть на голове встала дыбом. Тут пахло смертью, и мух летало столько! Ванин язык волей–неволей выскочил изо рта, нацелившись в самую жирную, но Ваня, опомнившись, тут же втянул его обратно.
— Это самое — дружок тут наш у вас…
Ваня пихнул парня и сказал:
— Собака Дружок, такса с ошейником вязаным.
После долгих разборок и препирательств собачники всё же вернули Эдика, изрядно потрёпанного настоящими собаками и скакавшего на трёх лапах.
Это Самое схватил жалобно завывшую таксу и, отойдя подальше от собачников и вообще от чужих взглядов, указал Ване на ошейник:
— Давай, что ли, снимай…
Такса молотила хвостом по асфальту так, будто решила его пробить. Ваня стащил ошейник и сунул его туда же, куда остальные, — в пестерь. Эдик перекинулся в человека, и Это Самое, обняв его, сказал:
— У, морда!
Эдик–человек, как и такса, сильно хромал.
В трамвае ехали опять вместе. Ване очень хотелось попробовать дотянуться языком до стекла, по которому ползала муха, и он сдерживал себя из последних сил. Парни вспоминали, как они пытались попасть домой, а их гнали камнями и палками. Как они сидели под окнами каждый своего дома и слушали, как родные воют по ним и выли в ответ, но их не понимали. Как они сошлись потом на пустыре и порешили не расставаться, как вместе лазили по помойкам и гоняли кошек. Тут пошли такие мерзости, что Ване хотелось уши заткнуть. Бедная кошка с пустыря — ведь он был с ней знаком! Но, с другой стороны, хорошо ему судить — он‑то все девять дней просидел под бабушкиным крылом, на подоконнике, по уши в молоке. Выйдя на своей остановке, бывшие псы и бывшая жаба, пожав друг другу руки, распрощались. Ваня отдал им ошейники и велел сжечь, если не хотят они опять стать собаками. Парни ошейники взяли, а сожгли, нет ли, Ваня не знал. Свой ошейник он сжёг. Но долго ещё тянуло Ваню не ходить, как все люди, а прыгать и ловить языком всякие посторонние предметы.
Глава 8. Святодуб
Василиса Гордеевна собралась в лес за полуденной травой, Ваню после горького лесного опыта с собой брать не стала. Высунувшись в окошко, он видел, как бабушка вышла за ворота и поклонилась Святодубу:
— Добрый день, Святодуб Земелькович…
Дерево запело в ответ птичьими голосами так, что Ваня едва не оглох. А бабушка, послушав, отвечала:
— Ну что ж поделать — у меня тоже кости ломит, а спина иной раз так болит — не согнуться не разогнуться.
Дуб опять загомонил по–птичьи, а бабушка, покачав головой, говорила:
— Ну, это тебе незачем сгинаться — стоишь себе и стоишь, а мне ведь работать надо, ходить туда да сюда. Ну да, не стоится нам, человекам, на месте, каждому ведь своё.
Святодуб на сей раз зашумел и птичьими голосами, и ветвями, которые птицы оседлали.
А Василиса Гордеевна, согласно покивав, отвечала:
— Да–а, дождичка‑то надо бы, и хорошего. Это ты правильно гуторишь… Три недели уж нет дождя — в огороде всё повысохло, колодезной воды‑то не наносишься. Но тебе грех жаловаться, у тебя корешки, небось, не такие, как у твово мальца. До подземной реки, небось, достают.
В ответ на очередной шум, который поднял дуб, Василиса Гордеевна махнула на него рукой:
— За это не тревожься! Ваня у меня поливат его, никогда не забыват… Чай, не засохнет твой отросток, вытянется. Ну пошла я, тирлич–траву хочу поискать. Будь здоров!
На бабушку слетел откуда‑то попутный ветер — и она, несмотря на свои жалобы, помчалась вперёд так, что не всякая молодушка угналась бы за ней…
Ваня уже не удивлялся тому, что бабушка разговаривает с дубом, с козлом, с травами и вообще с кем ни попадя, он помнил, что, будучи в жабьей шкуре, прекрасно понимал язык не только кошек, но и мух. Это сейчас он ничего не разбирает, даже обидно… Много бы полезного услышал.
Переделав свои ежедневные дела, Ваня вспомнил про чердак, который так ведь и не обследовал. Когда ещё подвернётся такой случай… Только вот как бы бабушка не вернулась — поздновато он спохватился, кто её знает, куда она подалась за этой своей травой, а ну как в ближайший лесок… Ваня бегом бросился в сени, отвалил лестницу от стены и, покраснев от натуги, приткнул к чердачному квадрату. Живо вскарабкался наверх — и огляделся. Балки, всё паутиной затянуто. И вроде как пусто… Неужто коробка со старой обувью — всё, что тут есть? Ведь если мамка его жила здесь когда‑то, то ходила в школу, — должны же остаться книжки, тетрадки, какая‑то одёжка… А нет ничего. Кроме пары сандалий да сомнительного пианино — никаких следов.
Но в самом углу, за печной трубой, увидал он ещё какую‑то коробку. Подтащил к чердачному оконцу. Снял крышку: внутри коробочка поменьше — в пожелтевшей вате лежат ёлочные украшения! Доставал по очереди стеклянные шары с позолотой — багровый, синий, зелёный, жёлтый… К металлическим петелькам ниточки привязаны, крутанёшь шар — он блестит на солнце, яркий–яркий. Каждую стеклянную драгоценность Ваня осторожно складывал на место. Серенький волчишко… Гипсовый Дед Мороз с отбитым носом и мешком подарков за спиной… Золотая шишка… Картонные раскрашенные игрушки: петушок, козлёнок. Серебряная мишура, обрывки серпантина… И на дне большой коробки ещё что‑то лежит — из пожелтевшей марли, расшито ёлочными бусами… Ваня осторожно вытащил на свет и растряхнул — платье!.. Он держал его на вытянутых руках — платье на девочку чуть постарше его. Ваня заглянул в коробку — и достал оттуда картонную корону, оклеенную ватой, из битых ёлочных игрушек выложена звезда. Колючая… И ещё там что‑то лежало — на дне… Месяц, затянутый серебряной фольгой. Царевна–лебедь! Она была царевна–лебедь…
Что‑то как будто стукнуло… Перевесившись в чердачное окошко, Ваня углядел, что ворота закрываются… Вот те на — бабушка возвращается! Ваня затолкал всё как попало на место, подкрался к чердачному квадрату и выглянул в него… Сенцы стояли тёмные, пустые. Вроде не заходит? Услыхав, что бабушка говорит с Мекешей на дворе, Ваня вихрем слетел с лестницы, отволок её на место и едва успел прислонить к стене, как услышал бабушкины шаги на ступеньках. Заскочил в избу — и как ни в чём не бывало сел на лавку в прихожей и засвистал в свою свистульку.
Василиса Гордеевна, шагнув за порог, пристально поглядела на Ваню:
— Сколь раз тебе было говорено не свистать в избе — а ты свистишь и свистишь… Высвисташь ведь всё!
Бабушка ушла в сенцы растрясать свои травы, Ваня отправился помогать ей. Кроме травы Василиса Гордеевна набрала малины полно ведро, и, когда травы были связаны в пучки и развешаны под потолком, взялись за ягоды. Ваня рассыпал их на фанерных листах и вынес сушить на солнце. Потом насыпал малины в миску. Василиса Гордеевна, подливая туда молока, качала головой:
— Э–эх! Вот ведь, на старости лет самой приходится, как девчонке, ягоды сбирать! Какой ведь внучек попался паршивый — в лес, в лес! ему нельзя ходить, от чистого духа задыхатся, это кому сказать добрым людям — засмеют ведь!
Ваня хлебал молоко с малиной да помалкивал, чтоб не заводить бабушку, чего‑то она была сегодня не в духе. Потом дёрнул его чёрт за язык, спросил:
— Бабань, а ты нашла тирлич–траву‑то?
— Найдёшь тут с вами! Плакун–траву прозевала, тирлич–травы нету нигде… Поизгваздали всё, ироды, ничего на своих местах не растёт. Ушла куда‑то тирлич–трава! Нету её, нету!
Василиса Гордеевна выметнулась из‑за стола и пошла греметь ухватами, грохотать чугунками, брякать мисками.
Ваня убрался от греха подальше в огород, а ну как бабушка найдёт какую‑нибудь работу несделанной!
А Василиса Гордеевна кликнула его голосом, скрипучим как несмазанная телега, и послала наломать дубовых веток, предварительно переговорив о чём‑то со Святодубом.
Ваня слазил на дерево, принёс бабушке кучу ветвей. Василиса Гордеевна часть веток оголила, собрав с них листья в свою ночную рубаху, и связала затем из рубахи узелок, а остальные пустила на веник. И затеяла какое‑то варево — как на Маланьину свадьбу: в ведёрном котле поставила воду, насыпала туда чего‑то, а мешать стала не ложкой и не поварёшкой, а новым веником. Вот те на! Ваня‑то думал, что веник для бани… Помешает, пошлёпает, — так что брызги летят во все стороны, — пошлёпает, помешает, и что‑то при этом шепчет. Что уж там она шептала, Ваня не услышал — Василиса Гордеевна опять велела ему лезть на дуб, на этот раз, чтоб подвесить узел с листьями. Ваня, пожав плечами, выполнил задание, хоть и не понял, зачем это сначала надо обрывать листья, а после их в узле возвращать на старое место.
Когда он спросил про это да про необычное варево, бурлящее на печке, бабушка зыркнула на него глазами и, насупив брови, ответила:
— Дождя‑то сколь времени нет, неладно это. Опять небось, чтоб мериканским гостям сухо было, в тучу стрелили. Делать нечего: самой придётся мокрецкую погоду делать, дождь добывать…
Ваня не стал расспрашивать, каким именно образом бабушка будет делать мокрецкую погоду — всё равно не поймёт. Да и не очень это его интересовало, ему хотелось спросить про другое: чей это новогодний костюм лежит на чердаке. Только он не решался. Может, после как‑нибудь…
Но тут случилось такое, что забыли они и про дождь, которого нет три недели, и про всё остальное… Ваня, глянув мельком в окошко, выходящее на дорогу, увидал, что к дому подъехал грузовик, из него выпрыгнули трое рабочих в робах, открыли задний борт и вытащили на дорогу топоры да пилы. Василиса Гордеевна, учуявшая неладное, притиснув Ваню к подоконнику, высунулась в раскрытое окошко и крикнула:
— Эй, мужики, по дрова, что ли, собралися? Дак тут вам не лес.
Рабочие, не отвечая бабушке, присели на лавке, приткнутой у колодца, покурить. Василиса Гордеевна тогда вышла за ворота и возобновила расспросы:
— Чего пилить собираетесь?
Один из мужиков лениво отвечал:
— А тебе, бабка, не всё равно? Чего надо — то и будем пилить.
— Вы тут у меня под окнами расселися с пилами да с топорами, ровно разбойнички, и как это мне не всё равно ещё!
— Тьфу, настырная, щас увидишь!..
Один из рабочих поднялся, бросив окурок, за ним остальные, и, взяв в руки инструменты, работяги подошли к Святодубу… Даже Ваня у своего окошка обомлел. А уж Василиса Гордеевна, он видел, покачнулась, схватившись за сердце, и к воротам прислонилась… Но долго бабушка стоять без толку не собиралась. Подскочив к мужикам, — а двое из них уже лезли на дерево, третий прилаживал бензопилу к неохватному стволу, — Василиса Гордеевна закричала:
— Вы чего это удумали, ироды проклятые, вы на кого это руку подымаете! Вы ж перед ним сосунки неразумные, да что — вы… Города этого в помине не было — а он уж рос тут. Князь Владимир Красно Солнышко без штанов ещё бегал — а он уж в возрасте был. Нельзя его трогать, ох нельзя — быть беде, большой беде быть! Христом Богом молю вас, и всеми святыми угодниками, и Лениным, и Сталиным, и матушкой–землицей, не трогайте вы его — добром уходите. Не простое ведь это дерево — древнее, родительское, Святодуб это…
Бабушка попыталась отвести визжащую пилу от ствола, и рабочий, испугавшись, что заденет её ненароком, заорал:
— Ты чего под струмент суёшься, старая карга, полезай на печку и молчи там в тряпочку. Мне всё равно, какое это дерево: хоть святодуб, хоть сватьядуб — у нас наряд, на, погляди! — Рабочий в сердцах даже оставил пилу и, достав из кармана какую‑то бумажонку, сунул её под нос Василисе Гордеевне. Бабушка попыталась вырвать бумажку, но работяга в руки ей документ не дал, а опять спрятал в карман. Василиса Гордеевна, проводив глазами предательскую бумажонку, которая ведь тоже была сделана из какого‑то братского дубу дерева, а тут смотри что пыталась учудить! — притихла. Двое рабочих между тем забрались уже наверх, третий опять завёл свою заглохшую было пилу и приставил к туловищу дуба. Наверху застучали топоры. Стая птиц взвилась в воздух и, крича, закружилась над дубом. Бабушкины глаза, уставленные на бензопилу, побелели так, что зрачок пропал.
И вдруг бензопила, со страшным скрежетом пытавшаяся осилить Святодуб, отскочила от дерева, вырвалась из рук опешившего рабочего и, продолжая истерически визжать, перевернулась в воздухе и со всего маху обрушилась на человека — оттяпав ему руку по локоть. Ваня видел, как рука взлетела в воздух и, перекувыркнувшись несколько раз, окропив нижнюю ветвь дуба кровушкой, шмякнулась в дорожную пыль. Работяга оторопело смотрел на то место, где только что была рука — потом без чувств повалился наземь. Пила продолжала визжать, подпрыгивая на месте, рабочие на дереве, не понявшие, в чём дело, кричали, пытаясь переорать работавшую пилу:
— Вася, чего это там? А, Вась? Вася, ты где?.. Ты чего это, Вась…
Потом замолчали, может, увидали руку, может, Васю без руки — только топоры посыпались с дерева, а потом оттуда сползли и сами работяги.
Вызвали «Скорую помощь», а пока бабушка Василиса Гордеевна сбегала за рукой, вымыла её колодезной водицей, приложила к культяпке, пошептала что‑то, посыпала место разлома землицей, поплевала — и рука приросла к старому месту. Рабочие из почтительного далёка наблюдали за действиями старухи. Пришедший в себя работяга поднял в изумлении приросшую шуйцу кверху и пошевелил растопыренными пальцами. Василиса Гордеевна сказала:
— Смотри, Василий, не смей больше на Святодуб руку‑то подымать, в другой раз ведь не прирастёт! — При этих словах рука погрозила своему хозяину пальцем, а потом сжалась в кулак и неожиданно съездила работяге по морде.
— Ты чего это? Она чего это? — забормотал Вася, в страшном испуге оглядываясь и пытаясь защититься от предательской руки другой, верной рукой. Но познавшая свободу рука ещё пару раз заехала хозяину по носу и только потом успокоилась. Как раз и «Скорая» приехала — и увезла вконец перепуганного рабочего. Остальные мужики потихоньку убрались восвояси. Святодуб остался стоять…
Но на другой день рабочих понаехало втрое больше прежнего. Василиса Гордеевна весь вечер перед тем вздыхала, что вот плакун–трава‑то как бы сейчас пригодилась отвадить прокуд. А теперь что! Как вот без неё…
С самого раннего утра жара стояла такая, что запросто можно было задохнуться. Мокрецкая погода, видать, не удалась бабушке, белый узел из ночнушки висел на дубу без движения, а варево на печке, время от времени дополнявшееся водой из колодца, всё продолжало кипеть. Ваня спал на сеновале — в натопленной избе находиться было никак невозможно — и слышал, как внизу возится, перебирая копытами по доскам, неугомонный Мекеша.
Машина с рабочими прибыла рано, но Василиса Гордеевна успела обежать соседей: пьяницам пообещала скопившиеся талоны на водку, старухам дала мази от ревматизма, разведёнкам — притирания для возврата былой красоты, детям — сладких пряников с дырочкой посерёдке: куриных божков. Бабушка сказала Ване, что нужно окружить Святодуб живым кольцом и не пропускать иродов, но — когда ироды приехали — народу для круга не хватило: собралось три старушки да два алкаша, все остальные уметнулись на работу. Тогда Ваня побежал к пустырю — авось компания бывших псов попадётся ему навстречу, так и вышло. Ваня сказал, что одному хорошему… человеку надо бы помочь, а уж он в долгу не останется… Свора покивала согласно — парни теперь шибко уважали Ваню.
Когда Ваня с бывшими собаками прибежали к Святодубу, тут творилось вот что… Трое рабочих оказались вогнанными в землю: один по колено, другой по пояс, третий по шейку. Остальные, матерясь почём зря, пытались их выкопать. Старушки стояли у колодца и, скрестив руки на груди, с любопытством наблюдали за процессом. Бабушка Василиса Гордеевна, уперев руки в боки, кричала:
— Вот постойте теперь в земельке‑то, постойте, поймёте, хорошо, нет ли это — когда уйти‑то не можешь. На своей шкуре узнаете, как это на одном месте стоять — когда какие‑нибудь нелюди придут да начнут вам руки, ноги, шеи да туловища рубить-пилить. Не больно‑то вам это понравится. А каково ему?! Чем оно вам помешало? Эх вы!
Услыхав про отпиленные руки, те, у кого руки были снаружи, прятали их за спину. Наконец вогнанный по колено был освобождён, пошатываясь, он сделал два шага и упал. Потом откопали ещё двоих, те тоже только ползали, как кагоньки[7], ноги их отказывались держать. «Как вроде по ведру шамогонки вылакали», — шамкали старухи у колодца. И опять за ползунами прибыла «Скорая помощь», санитары положили их на носилки — и увезли.
Пьяница Коля Лабода с товарищем выпрашивали у бабушки Василисы Гордеевны талоны на водку, обещая, что отсюда ни ногой, но бабушка отмахивалась от них. Оставшиеся работяги со своими пилами да топорами так ведь и сидели в конце 3–й Земледельческой улицы, курили да закусывали — как будто чего‑то ждали. И машина, которая привезла рабочих, никуда не думала уезжать, шофёр дремал, положив буйну голову на руль. Старушки у колодца приустали и засобирались по домам. Бывшие псы заскучали…
И тут в улицу завернули три милицейских газика, откуда вывалилось десятка два милиционеров — в касках, с дубинками наперевес и с пластиковыми щитами. «Оба–на!» — сказал Это Самое. Ваня так и обмер. Но Василиса Гордеевна не растерялась: построила обомлевших старушек, не потерявших надежду выпить алкашей и компанию бывших псов вокруг дуба. Бабушка с Ваней тоже стали в круг. Василиса Гордеевна крепко взяла внука за руку, другую руку скрепила с рукой Коли Лабоды, Ваня сцепился руками с Мичуриным, и так — рука об руку — все окружили Святодуб.
Милиционеры пока не приближались, толклись, побрякивая щитами, в сторонке, старший взял громкоговоритель и приказал всем разойтись, есть, мол, постановление мэра — и дерево так или иначе всё равно будет срублено… Не сегодня, так завтра. И что, они ночевать тут собираются?.. Коля Лабода засмеялся:
— Ночью ни одного работягу пилить не заставишь, ночью и они тоже спят. Так что про ночь говорить неча.
Поскольку другого ответа из круга не последовало, защитники порядка, выставив впереди себя щиты, перегородили всю улицу и пошли на приступ. Старушки, несмотря на мазь от ревматизма, поджидавшую их дома, были сильно напуганы, сухонькие руки, сцепленные было, расцепились. Старушки пытались освободиться от рукопожатий Эдика с одной стороны, и Этого Самого с другой. Милиционеры, прятавшие за щитами новомодные резиновые дубинки, всё приближались. Противоположный конец улицы был свободен, и кое‑кто из бывших собак подумывал уже об отступлении…
Но тут бабушка Василиса Гордеевна, скрепив руки Вани и Коли Лабоды, бесстрашно выскочила из круга и побежала к щитам. Ваня не заметил, откуда у неё появился дубовый прутик. Один из шагавших милиционеров — бабушка оказалась на пути у него — поднял свою резиновую дубинку… Ваня закричал! Но Василиса Гордеевна мгновенно скрестила с лжедубинкой свою дубовую вичку, ровно мушкетёрскую шпагу, и милиционер остановился с занесённой дубинкой — он не мог ни шагу шагнуть, ни ударить, он даже шевельнуться не мог. Так и стоял дурак дураком, и никто‑то не мог стронуть его с места. Работяги, оказавшиеся зрителями, повскакали с мест.
— Ё–кэ–лэ–мэ–нэ! — хлопал себя по бокам один из рабочих.
А Василиса Гордеевна, размахивая своей вицей направо и налево, наступала. И уже человек пять в форме застыли перед бабушкой, ровно перед генералом, скомандовавшим «За–амр–ри!».
Восхищённый Это Самое не смог удержаться от искушения и щёлкнул одну из застывших фигур по носу. Эдик с Мичуриным попытались выдернуть у задубевших милиционеров дубинки, но, как ни дергали, как ни шатали, ничего не выходило — милиционеры с дубинками срослись в одно целое.
Дееспособные защитники порядка рассредоточились и, прикрываясь щитами, позорно отступали до тех пор, пока вица у Василисы Гордеевны не переломилась… Старушки охнули и побежали каждая к своим воротам… Кое‑кто из бывших псов тоже дал драпака. Но милиционеры нагоняли парней и отделывали по первое число. Старушки так‑таки успели укрыться за воротами и, задвинув засовы, наблюдали за побоищем в щёлки. Ваня, которого треснули по макушке, увидал вдруг, как из трубы их дома поднимается не серый, а густой чёрный дым. Чёрный дым лёг плашмя по–над крышей и вдруг развернулся над улицей, как мохнатый черный половик, потом стал подниматься ввысь, всё выше и выше, теперь под ним оказался весь промышленный город. И Ваня понял, что это не дым, а чёрная дождевая туча. Он лежал у корней дуба, глядя вверх в клубящуюся тьму, а рядом постанывал Коля Лабода, пытался подняться на ноги Это Самое.
А где же бабушка? Ваня глядит вокруг: её не видно среди поверженных. Только защитники порядка пытаются оторвать от земли своих закаменевших товарищей.
Внезапно с вершины дуба слетает ветер — и Ваня видит, как узел из бабушкиной ночнушки, висящий на суку, развязывается, листья разлетаются, а рубаха планирует на голову одного из милиционеров.
После первого порыва ветра налетел второй, куда более сильный — такой, что свалил с ног всех, даже окаменевших ментов. Упав на землю, милиционеры отмирают и тут же принимаются махать дубинками, но тут порыв ветра вырывает у них резиновые игрушки и уносит с собой в небеса. За вторым ветром прилетает третий, потом четвёртый… И ни один не улетает с пустыми руками! Один принимается метать пластиковые щиты, которые со свистом пролетают над улицей, в вихре другого вертятся топоры, потом наступает черёд лопат, последними улетают в облака пилы. Люди хватаются за что попало: за брёвна колодца, за углы домов, за ствол дуба, лезут в подворотни.
Но тут земля под ногами начинает ходить ходуном, будто твердь стала хлябью, гул, треск и вой стоят повсюду. Это Святодуб раскачивает землю, пытаясь сойти с места.
Дуб качался, как корабль в девятибалльный шторм, ветви — зелёные паруса — хлопали и бились на ветру, сучья ломались и летели прочь от дерева. Трещины пошли по земле, колодезный сруб раскатился по брёвнышку, рухнули ворота бабушкиного дома, из‑под которых показались обнажившиеся корни… Святодуб потянулся к небу — и приподнялся.
И вот лиственная громадина с жутким всхлипом вырывается из земли, а потом поднимается выше, ещё выше, корни, как кишки, волочатся по дороге… А над дубом кружат стаи городских птиц: ворон, галок, воробьёв, их столько, что в глазах рябит, птичьи вопли сливаются с воем ветра. И вдруг Ваня, застрявший в чужой подворотне, видит, что на дубу, корни которого уже вровень с крышей их дома, что‑то чернеется, кто‑то там есть… Это бабушка Василиса Гордеевна стоит на толстенном суку, уцепившись рукой за верхний, юбка её надулась, как колокол, платок сорвало с головы, он зацепился за ветку и треплется на ветру, ровно чёрный флаг. «Бабушка–а–а», — кричит Ваня, прижатый воротами к земле, но за воем урагана и сам себя не слышит. А Святодуб, окружённый сетью птиц, поднимается над избами, но длинные корни его всё ещё здесь, внизу, скребут землю. И вдруг корни дерева подцепили и заплели какого‑то рабочего, одного из тех, вчерашних. А дуб поднимается всё выше, выше, корни оторвались от земли — и человек, опутанный ими, как змеями, летит над улицей, тужится и никак не может вырваться, борется с корнями, рвет их, что‑то кричит округлившимся ртом… Вдруг корни разжимаются — и человек летит вниз, косой вихрь подхватывает его, и работяга валится прямиком в колодец. Фонтан брызг вылетает из колодца. И последнее, что Ваня видит из подворотни, — это дубовый отросток; малец, вертясь в вихре, как в воздушном скафандре, летит следом за батюшкой Святодубом.
Глава 9. Гости
И полил страшенный ливень, разогнавший всех по домам. Вот она, мокрецкая‑то погода! Упавшего в колодец работягу вытащили. Все — не только этот бедолага — вмиг промокли насквозь, как будто и здесь было дно колодца. Коля Лабода, оставшийся без обещанной водки, стоял на дороге, превратившейся в реку, топал ногами и требовал: «Дождик, дождик, перестань, я поеду в Арестань!» Ваня ушёл от окна и залез на горячую печку, трясовица его трясла. Что теперь будет? Вернётся ли бабушка? Кончится ли когда‑нибудь этот дождь? А дождь кончаться не собирался — лил остатки дня, весь вечер и всю ночь.
Утром Ваня потащился на кухню, заглянул в ведёрный котёл, где бабушка варила мокрецкую погоду: котёл был пусг, ни капли воды в нём не осталось, дно сухое. И дождь за окнами лить перестал. Выглянул Ваня во двор — и увидал, что ворота стоят на своём месте. Что за притча! Может, сосед Коля спозаранку постарался? Что‑то на него не похоже… Накормил мекавшего и бекавшего Мекешу: — Всё равно ничего не понимаю, что ты говоришь… Можешь не стараться… — Дал ему прикурить. И полдня слонялся из угла в угол, приел все припасы, остававшиеся на кухне, — бабушка Василиса Гордеевна всё не приходила. Вышел за ворота — и увидал яму посреди дороги — всё, что осталось от Святодуба. Вот сейчас бы сюда вчерашних рабочих‑то — закопать яму. Но рабочих что‑то не было видно. Ваня с тоской поглядел в один конец улицы, в другой. Нет, не рабочих он высматривал…
И вдруг видит Ваня: со стороны проспекта кто‑то скачет на одной ноге… На палку опирается. Другая нога подогнута и к дощечке привязана. Бабушка! Простоволосая… Волосы, седые, растрёпанные, вихрем окружили лицо, одежда висит клочьями — грязная да потёрханная…
— Бабаня! — закричал Ваня и бросился к бабушке, едва не сбив её с ног.
— Но! Окаянный, уронишь ведь! — проскрипела Василиса Гордеевна.
Ваня увидал, что под глазом у бабушки значительный синяк, нос распух, и вообще выглядит она не лучшим образом. Он быстро подставил ей плечо, на которое бабушка тяжело опёрлась, придавив Ваню к земле, — и они поковыляли к дому. Слёзы лились у Вани в три ручья, он тайком их слизывал. Это не осталось незамеченным, Василиса Гордеевна насупилась:
— Ну, завеньгал[8]! Ровно кагонька!
Ваня замотал головой — дескать, не буду, не буду больше. Бочком–бочком обошли яму… Ваня покосился на бабушку, которая про яму ничего не сказала…
— Смотри, бабань, ворота стоят, Коля, что ль, поставил? — забормотал Ваня — просто, чтоб что-нибудь говорить, уж очень плохо выглядела бабушка, да к тому же вся огнём горела, немудрено, если попала под проливной дождь. А как не попала! А ну как умрёт она, что с ним‑то тогда будет?! Только не реветь…
— Как тебе не Коля! — говорила между тем Василиса Гордеевна.
— А кто тогда — дед Пихто, что ли?
— Известное дело кто…
На ступеньках пришлось тяжеленько, но Ваня справился — и, переправив бабушку в избу, опустил на место, на железную койку, вместо четвёртой ножки — чурбак.
— Сейчас я тебя лечить буду, — со строгостью в голосе, как главврач, сказал Ваня. — У тебя температура высокая, пойду градусник у соседей попрошу.
— Ещё чего — градусник! — постанывая, говорила бабушка. — Я сама себя на ноги‑то поставлю. Безо всяких твоих градусников, таблеток да уколов. Лихоманка — это что! Нога вот — дело сурьёзное. Принеси–ко мне ножницы.
— А что делать будешь?
— Что‑что, известно что — ногти стричь. Волосья тоже понадобятся. Да платок ещё неси носовой — там в комоде где‑то валяется, в ящике.
Ваня, подчиняясь, принёс, что просили. Василиса Гордеевна, сев в постели, скособочась, принялась состригать себе ногти с одной ноги, после с другой, собрала их в платок, туда же положила клок остриженных седых волос, плюнула три раза и, встав на пол, притулившись к кроватной спинке, зашептала:
— На море, на окияне, на острове Буяне стоит дуб, на этом дубе стоит девять девятин мужеского пола. Они тоже и босые, и простоволосые, кричат: жаку, яку! Есть клателя люди, смугленя и руселя, регжеля, тёмно–руселя, чёрно–руселя. Откоснитеся, отвернитеся — на воды кипучие, на леса дремучие. Кровь да дрыг в речку, дрыг–скок, утопись! Соль им да глина жжёная, рога между глаз!
С этими словами Василиса Гордеевна завязала свой узелок. И, отмахнувшись от Ваниной помощи, на одной ножке прискакала в прихожую. Возле входной двери на уровне лба бабушки в стене обнаружился тайничок. Василиса Гордеевна вынула сучок из бревна, затолкала в дырку свой узелок, опять заткнула дыру и, прислонившись лбом к стене, договорила:
— Будьте, мои слова, заперты крепким замком. Замок во рту, ключи в море.
Конечно, в больнице такой способ лечения никто бы не одобрил: не только главврач, но даже санитарка Нюра, но Ваня уже имел случай убедиться на собственной шкуре, что странный метод действовал, поэтому сидел на своей скамейке смирнёхонько, смотрел да слушал.
А Василиса Гордеевна проспала богатырским сном весь день, всю ночь, да ещё день с ночью — и на послезавтра встала здоровой, правда, по–прежнему на одну ногу приступать не могла. Синяки на лице за это время пожелтели и почти сошли. Ваня, пока бабушка спала, пробивался чем мог: морковкой, горохом да огурчиками с огорода, слазил в подполье, достал квашеной капусты из кадки и прошлогодней картошки. Но снедь по вкусу получалась скромная, совсем не такая, как у бабушки.
Когда Василиса Гордеевна очнулась и на одной ноге попрыгала по хозяйству, Ваня за завтраком рискнул спросить:
— Бабаня, а куда ты на дубе‑то летала?
Василиса Гордеевна покосилась на него и шлёпнула по руке, потянувшейся за хлебом:
— Пакли‑то хоть вымой…
Ваня вымыл руки по второму разу и, усевшись за стол, опять взялся за своё:
— Он… умер — Святодуб Земелькович?
Бабушка, поцвиркав[9] горячего супу несколько ложек, ответила:
— Живой пока! Глядишь, и приживётся на новом месте. Подальше от злых людей. И малец там с ним, под присмотром.
— А где это? Далеко?
— Отсюда не видать.
За чаем Ваня спросил ещё:
— А… как же ты ногу‑то сломала? С дерева сверзилась? Или… менты это?
— Всё тебе расскажи да доложи, много будешь знать — скоро состареешься. Допивай чай и пошли работать.
Но работать им в этот день не дали. Раздался деревянный стук в ворота, потом стеклянный в окно залы, и мужской голос закричал:
— Эй, хозяйка, отворяй ворота!
Василиса Гордеевна, выглянув в окошко, увидала двух мужчин, один из которых был участковый Мерзляков, и, прошептав: «Вот принесла нелегкая!», пустила незваных гостей в дом. Второй оказался инструктор исполкома Моголис. Гости к столу присаживаться не захотели, от чая отказались, а сразу приступили к делу. Моголис сказал, что они пожаловали с радостной вестью: им дают новую квартиру…
— Наконец‑то заживёте как люди! — подхватил участковый.
— А счас мы как навьё[10] живём, — сказала ядовито бабушка, но поскольку кто такое навьё, никто не знал, то яд был выпущен вхолостую.
— Хитра ты, бабка, ох хитра! — грозил ей пальцем Мерзляков. — Успела‑таки прописать внука, двухкомнатную получишь. Если бы внучка была — тогда однокомнатную, а так разный пол — каждому причитается по отдельной комнате. Ох и хитра, ох и хитра!
— Да, счастье вам привалило на старости лет, — поддерживал милиционера инструктор, — печь топить не надо, дрова заготавливать не надо, воду носить не надо, в ванне будете мыться, как…
— Как Мерилин Монро, — встрял опять милиционер.
— Квартира на девятом этаже, в доме, конечно, лифт. Санузел раздельный — очень удобно.
Василиса Гордеевна, стоя с подогнутой ногой, ровно цапля, и опираясь на клюку, переводила глаза с одного на другого, и взгляд её не предвещал ничего хорошего. Ваня сидел в сторонке на лавке и играл свистулькой, машинально издавая громкие трели.
— Вы знаете, конечно, — покосился на него Моголис, — улицу эту снесут, так же как Первую и Вторую Земледельческие.
— Я на Первой раньше жил, — ввернул опять участковый. — Тоже в квартиру переселили, живу — не нарадуюсь. Вроде только на свет народился, а то всю жизнь в грязи да в золе копался, будь оно неладно. А сейчас — красота!
Василиса Гордеевна наконец прервала молчание и потыкала клюкой в пол:
— А что ж тут‑то будет? Тоже пусто место?
— Зачем же пусто место, — обиделся инструктор. — Нет, по генеральному плану застройки города на месте всех трёх улиц предусмотрено возведение торгово-развлекательно–спортивного комплекса. Вот, пожалуйста, сейчас увидите, у меня и копия плана имеется. Сейчас, сейчас, сейчас, — инструктор, достав из дипломата скрученную вощёную бумагу, разворачивал план на столе. — А на месте вашего дома — так же, как многих соседних — будет крытый плавательный бассейн. Сейчас найдём, погодите‑ка…
— Бассейн? — спрашивала между тем Василиса Гордеевна. — Мокрое место, значит, останется… Ага.
— Да–да, — оторвался от поисков Моголис. — И внук ваш сможет сюда ходить, плавать будет, здоровья набираться, жить‑то рядом будете, всего лишь за дорогой.
— И кто ж хозяином тут будет?
— Хозяином?
— Ну, у всякого места есть хозяин. Какой водяной будет заведовать этими водами?
Моголис и Мерзляков обменялись взглядами и засмеялись, а инструктор ответил:
— Заведовать этим бассейном будет, видимо, спорткомитет, а конкретно, если вас это так интересует, Гамбузов Валерий Семёнович.
— Что‑то я такого не знаю! — сказала, наморщив лоб, Василиса Гордеевна.
Инструктор с милиционером опять переглянулись.
— Да и вас, бабушка, он, скорей всего, не знает, — усмехнулся Моголис. — Но мы отвлеклись от предмета нашей беседы. Так вот, — инструктор вновь расправил свернувшийся трубочкой непослушный план и, придавив один конец подвернувшейся глиняной свистулькой, склонился над ним. Милиционер и Ваня, сидящий у стены на лавке, тоже нагнули головы к проекту будущего… Василиса Гордеевна же выдернула из голика, валявшегося под лавкой, прутик, просунула его в промежуток между головами, ткнула в какое‑то место, как указкой, и запричитала, раскачиваясь:
— Охти мне да охти ва–ам! Посмотри–ко, мил человек, нет ведь тут никакого бассейна в гумаге твоей, нетути…
— Как нетути? — удивился инструктор, доставая из кармана очки и водружая их на нос.
— Так нетути, — тяжко вздохнула бабушка, насмешливо глядя на начальство.
Поглядели — и вправду никакого бассейна в проекте не было. Улица же 3–я Земледельческая со всеми домами и огородами значилась на своём месте, а 13–й дом был ещё и обведён красным кружком, дескать, очень важный объект, трогать его ни в коем случае не полагается. Моголис и Мерзляков переводили взгляды с плана друг на друга, потом опять рыли носами план, наконец, оторвались от него и пожали плечами.
— Ничего не понимаю! — воскликнул в сердцах инструктор.
— А раз не понимать — нечего добрых людей от дела отрывать! — взъярилась вдруг мирная бабушка, размахивая клюкой перед лицом начальства. — Ходют тут, не разуваются, полы после них мой!
Когда гости подобру–поздорову убрались со двора, Василиса Гордеевна, едва не сверзившись с лестницы, выскочила на улицу и выпустила за ворота Мекешу. Ваня, высунувшись в окошко, видел, как козёл вприскочку помчался за начальством, догнал и пристроился следом, вскоре троица повернула за угол и скрылась на проспекте. Вернулся Мекеша, когда бабушка уже все глаза проглядела в окошки, затопотал по ступенькам крыльца; встав на задние ноги, передними отворил дверь и через сени ворвался в избу. Бабушка, вопреки всем ожиданиям, не выгнала козла, а выслушала его беканье очень серьёзно. Ваня маялся рядом третьим лишним — ничего не понимал в их разговоре.
— Да, Мекеша, наши дела как сажа бела! — вздохнула под конец беседы бабушка и, вытащив из пачки беломорину, задумчиво раскурила папироску и дала козлу. Мекеша, который с детских лет не бывал в избе, — когда его, мокрого и дрожащего, бабушка принесла и посадила на печку, — оглядывался с любопытством, вспоминал, как тут и что, и дымил почём зря. Очень ему хотелось вскочить на лавку, а оттуда на стол, чтоб исполнить копытами что‑нибудь эдакое, геройское, но он себя сдержал. В конце концов Василиса Гордеевна опамятовалась и отправила козла на улицу.
Глава 10. Шиш да Перкун
Грязищи незваные гости и впрямь нанесли достаточно — ливень‑то был нешуточный, дорогу развезло. Раз такое дело, Ваня решил вымыть все полы — заодно уж; у бабушки швабры не было, приходилось корпеть на корточках. Выхлопал домотканые половики, постелил их в зале на влажный пол — приклеились, ровно кожа, надраил сени, натёр речным песочком ступеньки и деревянный тротуар, ведущий к воротам. Выхлестнул воду, повесил тряпку на колья, полюбовался своей работой. Красота! Половицы были некрашеные, от досок пахло сладостно — мокрым деревом, чистотой, не то что в больнице — хлоркой да затхлостью. Сандалии оставил подле ворот и босиком побежал по настилу к крыльцу, а оттуда в избу.
Василиса Гордеевна рылась в комоде, бормоча: «Нету, нигде нету, да куда ж я его задевала…»
— А ты чего, бабань, ищешь? — спросил Ваня.
— Чего надо — то и ищу. Вот без плакун-травы‑то остались… Не знашь теперь, что и делать.
Ваня больше не стал выспрашивать, а стал бабушке помогать искать то, не знаю что, тем более что она как раз открывала ключом, который висел у неё на груди, загадочный сундук… Когда крышка откинулась — Ваня чуть с головой туда не влез.
— Ну–ко! Темнишь ведь, отойди‑ка.
Ваня тогда зашёл с другого боку и оттуда заглянул в сундучище. Он был разочарован, ничего такого в сундуке не было: стопы тёмных отрезов на платья, платки, узорчатые полотенца, вышитые наволочки, побитые молью шапки, пуговицы да вязальные спицы в жестяных коробках, в узлах — тучи непряденой белой шерсти, а больше ничего. Бабушка, как и Ваня, тоже была раздосадована:
— И тут нету!
Осмотрели ещё кухонный шкафчик, порылись в чулане, повытряхивали хлам из сарая во двор — Василиса Гордеевна нигде не находила того, что искала. Она притомилась, села на перевёрнутое кверху дном ведро и вдруг стукнула себя кулаком по лбу:
— Кажись, Анфисе отдала! Точно, ей!..
— А кто это — Анфиса? — мигом заинтересовался Ваня. А ну как это… Ведь никаких женских имён бабушка до сей поры не произносила. Неужто… Но через секунду был сильно разочарован бабушкиным ответом:
— Сестра моя. Была у меня в последний раз — это в каком же году‑то?.. Просила всё: дай да дай… Ну я и отдала. Обещалась вернуть. Так вот и давай людям… И как это я забыла! Заместо памяти — решето. Али она мне глаза замазала, чтоб не вертать?!
Но тут интересный разговор прервался, ворота открылись — явился сосед Коля Лабода за обещанными водочными талонами.
— Чего это у вас тут за тарарам? Никак к переселению готовитесь? Заходили к вам инструктора‑то?
— Заходили, — отвечала бабушка. — А к вам, что ль, тоже заходили?
— А как же! Ко всем заходили — и к нам тоже. Мы с матерью не дождёмся, когда уж переедем… Говорят, ещё месяца два ждать придётся. Скорей бы уж! Огород этот надоел хуже горькой редьки, мать всё время цепляется — не вскопано да не посожено… А оно мне надо, я — городской житель, и сельский труд этот у меня во где! — Коля ребром ладони чуть не перерезал себе глотку.
— Ага, — сказала Василиса Гордеевна. — А другие как?
— И другие тоже рады–радёхоньки. Недовольных‑то: раз, два — и обчёлся.
— Ага, — опять сказала бабушка и нахмурилась, глаза стали белыми. Ваня отшатнулся от неё подальше.
— А как с талонами‑то, Гордеевна? Обещалась… — приступил к делу Коля. Бабушка зыркнула на него, послала Ваню в избу принести что надо и ткнула талоны Коле:
— На, подавися!
Коля обижаться не стал, а пошёл себе восвояси.
Василиса Гордеевна заставила Ваню вертать хлам на место, в сарай, а когда он, сделав дело, вошёл в избу, бабушка опять сидела за прялкой, выпрядала белую нитку из белого облака шерсти. Из сундука она эту шерсть достаёт, знал теперь Ваня.
— Кому, бабаня, нитку прядёшь, мне?
— Тебе, Ваня, тебе, а то кому же… Видишь, белая нитка пошла — всё, как обещалась. А скажи–ко мне, ты… тоже хочешь в девятый‑то этаж?
— Не–е, — замотал Ваня головой, — я уж жил в этажах этих, ничего там нет хорошего. Мне здесь нравится, у тебя.
Василиса Гордеевна пристально посмотрела на Ваню и кивнула:
— Тогда ладно.
— А… чего мы, бабаня, искали‑то? Чего тебе сестра не вернула, Анфиса эта?
— Не Анфиса, а Анфиса Гордеевна, она старше меня, я ведь меньшая сестра. А ты против неё — пузырь. Гляди у меня, только по отчеству чтоб величал её, а то не ровён час обидится…
— Да где ж я её увижу — по отчеству величать?
Василиса Гордеевна вздохнула, поплевала на пальцы, помочила махрящуюся нитку и стала скручивать. Веретено, сделав несколько кругов, остановилось и, скатившись с бабушкиных колен, упало на пол.
— Ведь придётся мне тебя, Ванюша, к ней отправлять, — говорила Василиса Гордеевна. — Вернутся эти окаянные, как пить дать вернутся! У них планы эти генеральские ещё имеются, в сейфах всяких запрятаны, и в этих планах опять нас нет как нет. Мокрое место есть, а нас нет, и мне до сейфов этих не добраться, силы уж не те… Я бы сама, конечно, пошла к Анфисе, когда б не нога… На одной ноге далёко не ускачешь, а путь не близкий, и поспешать надо — вишь, срок‑то какой дали: два месяца. Мало это, ох мало, Ваня. Через недельку‑то я встану на ноги — да боюсь, как бы поздно не было, сегодня надо отправляться. Кто знат, сколь ещё проходишь.
Ваня только хотел высунуться с вопросом, дескать, за чем он пойдёт к ней, к Анфисе этой, что они искали, да не нашли… но Василиса Гордеевна вдруг огорошила его:
— Один ты, конечно, не дойдёшь. Дороги не знашь, да и мал ты ещё по таким делам ходить. Помощника тебе надо. Придётся суседко звать, больше некого. А ну как он не согласится?!
— Колю Лабоду? — удивился Ваня. — Конечно, не согласится.
— Какой тебе Коля! Не смеши–ко! Ну–ко, пошли!
Василиса Гордеевна с ножницами поскакала во двор, подманила папироской Мекешу и, пока он, потеряв бдительность, млел за курением, отхватила у него порядочный кусок бороды. Разрезала эту шерсть пополам, одну часть сунула себе в левое ухо, другую — в Ванино. Подобрала клочки кудели, один клок сунула себе в правое ухо, другой — Ване туда же. Ваня послушно подставлял уши — но слышать после всего этого стал вдвое хуже. Бабушка достала из комода фонарик, сунула в карман фартука — и они на трёх ногах пошли. Но далёко не ушли — завернули всего только в кухню. Василиса Гордеевна откинула крышку подполья, Ваня, пожимая плечами, полез первый и помог бабушке спуститься. Каких уж соседей она тут вздумала искать, не понятно.
Земляной погреб был невелик: стояла кадка с квашеной капустой, в загородке была навалена прошлогодняя проросшая картошка, теснились банки с соленьями да вареньями. Потолок нависал низко, даже Ване приходилось нагибать голову, а уж рослая бабушка согнулась в три погибели.
Шагнув куда‑то в сторону, Василиса Гордеевна выхватила светом фонарика земляную стену, стукнула в неё клюкой… Земля посыпалась… И вдруг Ваня понял, что никакая это не стена, а самая настоящая дверь, только заросшая седой землицей до самой притолоки. Когда земелька осыпалась — обнажились доски, дверная ручка, железная скоба и висячий замок. Василиса Гордеевна дунула в замочную скважину, потом сняла с шеи ключ от сундука, сунула его куда надо — и замок открылся! Бабушка надавила на ручку, стала толкать низенькую дверцу — но та не поддавалась, вросла в землю. Ваня стал помогать ей, поднатужившись, общими усилиями сдвинули дверцу с места, открылась щель в ладонь шириной. Ваня слазил за брёвнышком наверх, вставил его в прореху и, понапружившись, расширил щель: теперь в неё можно было так–сяк протиснуться. Впереди открылся низкий и тёмный ход — Василиса Гордеевна первая скакала, опираясь на клюку, Ваня за ней.
Шли понагнувшись. Ход, не расширяясь, но и не сужаясь, петлял с десяток метров и вдруг резко оборвался. Бабушка вовремя остановилась, Ваня, протиснувшись вперёд, с любопытством заглянул в тёмную яму. Василиса Гордеевна поводила фонариком: яма была узкая, как колодец, но глубокая, дна не видать. Ваня вопросительно поглядел на бабушку. А Василиса Гордеевна легла на землю и, заглядывая внутрь и по–прежнему светя фонариком, принялась кричать, приказав Ване повторять за ней слово в слово:
— Дедушко–суседушко–о!
— Дедушко–суседушко–о!
— Стань передо мной, как лист перед травой — ни зелен, как дубравный лист, ни синь, как речной вал…
— Приходи, каков я!
— Приходи, каков я!
Ещё и эхо откликалось на слова — поэтому шум в подземелье стоял изрядный, если был тот, кто слушал — не услышать их он не мог. Василиса Гордеевна подождала — но ответа не было. Ваня же, пока бабушка не видит, оттопырил шерсть из ушей — чтоб лучше слышать, но и так тоже ничего не услыхал. Бабушка, став на карачки, сильнее перегнулась в яму, так что Ваня, испугавшись, что она свалится туда, схватил её за подол. Ни ответа, ни привета из земляного колодца по–прежнему не шло. В сердцах Василиса Гордеевна буркнула:
— Заснул он там, что ли?! Вроде до зимы ещё далеко — в спячку ударяться. Ну–ко, Ваня, по-другому попробуем: Шишок[11], кричи, хозяин зовёт…
— Эй, Шишок, хозяин тебя зовёт! — закричал Ваня в яму, подставив ладони ко рту. — А кто это — хозяин? — обернулся он к бабушке.
— Ты ведь зовёшь… Ты и есть хозяин.
— Я–а?! — Ваня так и обомлел.
А званый опять не отзывался.
— Тьфу! — плюнула в сердцах Василиса Гордеевна. — Не желат… Ну ладно — придётся возвращаться несолоно хлебавши.
Тем же путём пошли обратно, только дверцу, заметил Ваня, бабушка запирать не стала.
— А он что — в яме и живёт, Шишок этот? — спросил Ваня, когда вылезли наверх, вытащили шерсть из ушей, бросили её в печку и бабушка захлопнула крышку подполья.
— Ну, как сказать…
— А он не труп ходячий? Я их навидался там, мертвяков этих, — в морге, в больнице‑то, больше не хочу…
— Какой тебе труп! Шишок — он и есть Шишок. Постень[12].
Василиса Гордеевна поставила самовар, навалила красных углей ему в трубу, сверху надела яловый сапог книзу голенищем, сапог заходил в её руках книзу–кверху, навевая нутряной ветер, и — угли запылали. Когда вода закипела, сели пить чай.
Но не выпили и по паре чашек, как вдруг крышка подполья со стуком и бряком, как пробка от шампанского, взлетела к потолку, ударилась об него, а под крышкой оказался кто‑то полосатый, с балалайкой под мышкой. Этот кто‑то легко опустился на пол, будто вцепился не в тяжеленную деревянную крышку, а в парашют. И Ваня узнал свою давно пропавшую больничную пижаму, штанины были подкачены и всё равно волочились по полу — тот, кто был в неё облачён, ростом не отличался. Из‑под штанин виднелись крепкие босые ноги, лица же Ваня никак не мог разглядеть — человек всё ещё стоял с крышкой на голове.
— Ты чё это дом ломашь? — сердито приветствовала гостя Василиса Гордеевна. — Без шуму у тебя никак не получатся заявиться, да?..
Пришелец снял с головы крышку и, наклонившись, приладил её на место — а когда распрямился и поглядел на них, Ваня подскочил и криком закричал: потому что у того, кто вылез из подполья, лицо было Ванино… Ростом он был Ване по плечо, голова здоровая, нечёсаная и лохматая, волосья серые, как у него же, когда он жил в больнице. А лицо — сегодняшнего Вани… Кричал Ваня не переставая — пока Василиса Гордеевна не шлёпнула его хорошенько по щеке. Тогда Ваня прекратил орать, только стоял с вытаращенными глазами.
— Ну вот как вы меня встречаете! — заговорил низким — мужским — голосом лохматый Ванин двойник. — Орёте, как резаные. И чё тогда звали?
Подпольщик придвинул к столу табуретку, сел, закинув ногу на ногу, и пристроил к табуретке балалайку. Обомлевший Ваня увидал, что подошва закинутой ноги поросла щетиной, как щёки небритого неделю мужика. Посреди груди на пижаму была приколота медаль. Ваня не знал куда глаза девать: в лицо своё смотреть страшно, посмотрит на ноги — шерсть на подошвах, бр–р, в дрожь бросает, а тут ещё посреди туловища медаль за отвагу…
— Ваня, — сказала Василиса Гордеевна, указывая глазами на пришельца и как ни в чём не бывало прихлёбывая чай с блюдечка, — это вот и есть Шишок. Шишок, а это твой хозяин…
— Да уж вижу, — почесав подошву, отвечал Шишок. — Пужливый больно — а так ничего. Наконец‑то хозяин в доме объявился, а то ведь позорище — изба сколь времени без хозяина стояла! Сколь времени одни бабы тут заправляли — стыдоба!
— А тебе не стыдоба! А я‑то думаю, куда это балалайка пропала?.. А он её подтибрил! Хорош гусь, нечего сказать.
— А она тебе нужна, балалайка эта, ты на ней играешь? — кладя инструмент на колени, подальше от рук Василисы Гордеевны, ворчал Шишок. — Это Валькина балалайка, не твоя вовсе.
Что это за Валька такой? — зацепился Ваня за новое имя. Или… такая?..
— Не моя? А на чьи деньги куплена? Да ладно тебе — вцепился в струмент мёртвой хваткой, что я, его отыму, что ли? Нужон он мне больно. Поставь–ко хоть вон в угол — никто не возьмёт, не бойся.
— Ничё, пускай тут полежит, своя ноша не тянет.
— Своя… — проворчала Василиса Гордеевна.
А Шишок, распахнув рот, одну за другой, как фокусник в цирке, стал кидать туда сушки. (Ваня и не знал, что рот его на чужом лице может так широко открываться, попробовал так же раззявить, но у него ничего не вышло. Мышцы, что ли, у этого Шишка какие‑то другие…) Переправив в себя все сушки до единой, Шишок стал мрачно жевать. Оглядев стол, спросил с укоризной:
— А подушечки где? Всякая гадость наставлена, а подушечек нет…
— Не выпускают уж подушечки те, — наливая себе четвёртую кружку чаю, сказала Василиса Гордеевна.
— Ли–ко! Вот так всегда! Как что хорошее — так они не выпускают. А ландрин есть?
— И ландрину нету.
— Тоже не выпускают?!
— Тоже.
— Тьфу! — в сердцах плюнул Шишок, поднялся и пошёл вон, волоча балалайку за собой. Ваня побежал за ним следом.
Заглядывая в каждую комнату, Шишок одобрительно кивал:
— Так, всё на своих местах, ничего не переменилось. Молодца, Василиса Гордеевна, ничего не скажешь — мо–лод–ца!
— Да уж, для тебя специально старалися! Чтоб Шишку угодить! — ядовито говорила бабушка.
Шишок остановился у простенка с фотографиями и, ткнув в бородатого мужичонку, лежащего на крыле взлетающего самолёта, гордо сказал Ване:
— А это я, хозяин, узнаёшь?! Героический солдат, кому попало ведь медали «За отвагу» — то не давали…
— Вы–ы? — ошеломлённо спросил Ваня и, замявшись, добавил: — Так у вас же тут совсем другое лицо…
— Чего ты мне выкаешь — чай не баре! Другое лицо… Какой хозяин — такое и лицо. Сейчас ты мой хозяин — и лицо у меня твоё. А тогда был другой хозяин, и лицо, значит, другое.
Приглядевшись, Ваня понял, что и вправду лица у дедушки Серафима Петровича и Шишка на фото очень похожие, только Шишок с бородой, а дедушка бритый.
— Так ты что — лица можешь менять?!
— А ты, что ль, не можешь? Вот погляжу я на тебя лет в двадцать, а после в семьдесят — совсем разные на тебе будут лица.
— Ну–у, так это же совсем другое.
— Чего другое — ничего не другое.
Шишок уселся на подвернувшийся стул, закинул ногу на ногу, сверху балалайку пристроил и, закатив глаза, затренькал что‑то без складу и ладу, потом шваркнул трёхстрункой об стол и запричитал:
— Эх, как вспомню, как умирал старый хозяин, царствие ему небесное, — если он там, конечно, — так и заплачу в голос! Он умер — и лицо его с меня сошло. И сколько времени я без лица ходил! Вспоминать тошно. Это ужасти какие‑то… Даже кошки от меня шарахались. А сейчас, спасибо Василисе Гордеевне, — поклонился ей Шишок, — что хозяина домой воротила, и я с лицом теперь, как домовику и положено. Дай, хозяин, облобызать хоть тебя…
Шишок подскочил к Ване и, пристроив голову на его плече, обмочил слезами всю рубашку — даже до тела достало. Ваня смотрел на Василису Гордеевну, стоявшую на одной ноге, спрашивал её глазами: что делать‑то? Как его утешать? Бабушка, не сдвинувшись с места, ткнула Шишка своей клюкой в бок:
— Ну хватит, хватит сырость разводить, ровно маленький. Самому уж годков‑то… не буду говорить сколько, чтоб робёнка не пугать. Мы ведь не просто так тебя звали — а по делу. Вот и пошли побалакаем.
Слёзы у Шишка мгновенно высохли — и следов не осталось. Он небрежно оттолкнул Ваню и, подхватив свою балалайку, отправился следом за бабушкой.
Вновь все расселись вокруг стола — ещё самовар не успел остыть. Шишок протянул руку за чашкой — и Ваня углядел, что и ладони у него слегка шерстистые… не такие, конечно, как подошвы, а покрыты вроде как двухдневной щетиной. Ваню опять передёрнуло. А Василиса Гордеевна между тем говорила:
— Беда ведь у нас, Шишок, большая беда — сносить нас хотят. Дескать, дадим квартиру в девятом этаже…
— Вона как! — удивился Шишок. — Изба‑то ведь не гнилая ещё, со всех сторон целая, и с исподу, я могу подписку дать… Крепкая изба.
— Им всё равно — крепкая, нет ли, у них свои планы, а на наши планы им наплевать, — вздохнула бабушка.
— А печка там есть — в девятом этаже?
— Кака тебе печка! Батарея там, паровое отопление.
— Паровое! Да они с ума там, что ль, посходили! Кто ж в пару‑то будет жить?! Один банник разве уживётся… Не, я день–деньской париться не согласный!
— Да кто ж согласный! Был у меня, робяты, — бабушка тут и на Ваню глянула мельком, и опять к одному Шишку стала обращаться, — мел… Да пропал, не нашла я его…
Так вот она что искала — мел!.. Ваня был страшно разочарован, но решил включиться в разговор:
— Так давай, бабаня, я сбегаю, куплю в магазине аль в школе подтибрю, там этого мела в каждом классе, — знаешь, сколько! Я мигом! — Ваня даже с места вскочил, — так уж желал угодить.
— Сядь! — стукнула об пол клюкой Василиса Гордеевна. — И не встревай, когда старшие разговаривают. — Помолчав, добавила: — Это ты для Шишка хозяин, а для меня пока что так: ни в городе Иван, ни в селе Селифан.
Ваня покраснел и сел на место.
— Мел‑то не простой — невидимый мел… — Василиса Гордеевна опять глянула на Ваню, у которого глаза разгорелись, и объяснила: — Снаружи‑то мел как мел, а пишет невидимо. Всё, что им очертишь — с глаз пропадает. Вот думаю я, надо нам очертить круг вокруг избы, ну и вокруг двора тоже, огорода, чтоб никто к нам не подкопался. Ведь через круг этот не пройдёшь, не перескочишь — стена, одним словом. Избу не видать будет — и они от нас отвяжутся. Как думать, Шишок?
Шишок, опять закинув ногу на ногу, наморщил лоб, покивал и сказал:
— Мысль хорошая! Я бы даже сказал, гениальная мысль! Круговая оборона, значит! Мы им покажем, планистам этим, не достанут они нас, нате–ко выкусьте! — Шишок показал через плечо — неведомо кому — кукиш.
— Одно нехорошо — отдала я этот мел!
Шишок так и подскочил:
— Как? Кому? Вот бабы, они и есть бабы, хозяин… Даже самые умные. Ничего доверять нельзя. Разве ж можно такую вещь давать кому попало.
— Не кому попало — сестре, Анфисе, отдала. С возвратом. Только не воротила она мне мел‑то. Как думать — что теперь делать?
Шишок даже глаза вытаращил:
— Как что делать?! К ней бежать, к Анфиске…
— Нога у меня, Шишок, сломанная. А Ваня‑то мал ещё один ходить. Так прямо и не знаю — кого послать?!.
— Дак… — Шишок, хотевший что‑то сказать, замер на полуслове. — А–а–а… Так вот ты зачем меня звала! Хитра баба… Ох, хитра, хозяин, бабушка твоя…
— Да знаю, Шишок, знаю, миленький, что это тебе нож по сердцу — из избы уходить. И не война ведь сейчас. Да и как дому без домовика?!. Не знаю, как и выстоим тут без тебя. Как бы не сгореть!..
— Типун те на язык… — сказал машинально Шишок, долгонько молчал, потом затряс головой так, что из неё насекомые посыпались: — Э–эх, была не была! — поднялся, рубанул рукой воздух, стукнул шерстистой ногой об пол: — Где наша не пропадала! Хорошо, Василиса, будь по–твоему, пойду с хозяином!
— Ох, Шишок, дай я тя расцелую! — Василиса Гордеевна поднялась и, нагнувшись, троекратно расцеловала зардевшегося Шишка. — На тебя вся надежда, ты уж пригляди там за хозяином.
— Какой разговор! — Шишок повернулся к Ване и, хлопнув его по плечу, воскликнул: — Ну что, хозяин, вместе, значит?!
— Вместе! — кивнул Ваня. Он наконец пообвыкся и мог прямо смотреть в глаза человеку (или не человеку?) с его лицом, а то всё смотрел куда‑то мимо. Как вдруг видит: в окошке сверху вниз промелькнуло что‑то огненное. А через минуту раздался лёгкий стук в дверь — будто острым когтем постучали.
— Кого это ещё нечистый несёт? — проворчала Василиса Гордеевна и кивнула Ване, открой, дескать.
— Чистый, чистый это несёт. Самый что ни на есть чистый… — соскочил со своего места Шишок и, опережая Ваню, мягко помчался в прихожую.
Дверь распахнулась — и порог перешагнул громаднейший петух, ростом как раз с Шишка, то есть Ване по плечо… И был он настоящий красавец — грудь колесом, в огненном оперении, с разноцветным хвостом. Каких только перьев не наблюдалось в этом изогнутом хвосте: чёрно–зелёные, бронзовые, лимонные, огненно–рыжие — и все жарко–блестящие. Гребень и бородка были багровыми, а шпоры — как финские ножи. Ваня попятился назад. Петух вышагивал гордо, лапы поднимал высокуще, ровно солдат при смене караула у кремлёвской стены. Шишок семенил сзади, Ваня продолжал пятиться. Таким макаром и прибыли к Василисе Гордеевне на кухню. Ваня допятился до бабушки и спрятался за неё. Всё‑таки чутьё ему подсказывало — что это какой‑то не нормальный петух.
— Это ещё кто такой?! — воскликнула Василиса Гордеевна. — Вроде я такого не звала.
— Это я, я, я позвал, — выскочил вперед Шишок. — Для количества. Единственно только для количества. Двойка — плохая цифра, вдвоём ходить — депо загубить. А три — само наилучшее число. Втроём пойдём.
Петух, поворачиваясь горбоносым профилем, поочередно оглядел всех сначала одним разбойничьим глазом, потом другим, склонил голову набок и вдруг просипел:
— Здравия желаю, господа хорошие!
Ваня вскрикнул и так и подпрыгнул чуть не до потолка! Бабушка пребольно ткнула его острым локтем в живот:
— Чего ты орёшь?
— Не умеет вести себя в приличном обществе, — сипел петух, косясь на накрытый стол и занимая Ванино место на табуретке. Ваня никак не мог прийти в себя, он, конечно, понимал одно время речь живых существ, но тогда он был в шкуре животного, и говорила живность присущими ей звуками, но этот… Этот прямо говорил русским языком, Ваня даже видел, как у него язычок в горле трепещет, выталкивая наружу человеческие слова.
— Так он же говорит! — прошептал Ваня бабушке на ухо.
— В приличном обществе не шепчутся! — опять одёрнула его птица.
— Ну и что, что говорит? — пожала плечами Василиса Гордеевна. — Тебе‑то чего?
— Так он же петух!
— Конечно, петух — живая тварь. А телевизор твой — сундук сундуком, а лясы точит… — При этих словах, Ване показалось, бабушка переглянулась с Шишком, который хихикнул в ладошку. Вспомнив про конфуз с телевизором, Ваня решил замолчать — пускай делают что хотят.
— Здороваться не здороваются, к столу не приглашают! — воскликнул петух. — Имени–отчества не спрашивают! Куда я попал!
Шишок, с удовольствием наблюдавший за фурором, который произвело появление петуха, сказал:
— Этого болтуна Перкуном звать, если коротко — Перо.
Петух тут же вскочил, поклонился, отведя одну лапу так далеко назад, что чуть не свалился, но удержался, и, подскочив к Василисе Гордеевне, схватил этой‑то жилистой лапой её руку, поднёс к клюву и слегка приложился.
— А вы, как мне известно, — Василиса Гордеевна, очень–очень рад, просто счастлив нашему знакомству! Я так долго ждал этой встречи, вы не представляете!
Бабушка выдернула руку и потрясла ею — видимо, петух все‑таки ощутительно клюнул её. Перкун же, повернув боком голову, в упор поглядел на Ваню одним глазом — так долго глядел, что Ваня вынужден был отвести взгляд. Наконец петух открыл клюв, хотел что‑то произнести, но не смог — в горле у него заклекотало, он захлопал крыльями, угодив одним Ване по лицу (и немудрено, размах крыльев был от стены до стены), и испустил такое громкое «кука–ре–ку!», что стёкла в окнах задребезжали и все присутствующие едва не оглохли. Откукарекавшись, петух помахал перед клювом лапой и пробормотал:
— Простите, не удержался… двенадцать часов — моё любимое время, никак не мог промолчать. Атавизм, конечно… Наследие прошлого… Отголосок, так сказать… Ещё раз прошу простить меня. Но все петухи в определённые часы должны поминать Кукуй–реку — свою петушиную родину, если хотят туда когда‑нибудь вернуться.
— Ничего, — заговорила наконец с петухом Василиса Гордеевна, — поминай себе, кукарекай на здоровье!
— О, благодарю вас, вы очень добры, я много слышал о вашей беспрецедентной доброте, но тут убедился воочию, так сказать.
Петух только слегка споткнулся, произнося трудное слово, — Ваня даже позавидовал, он бы так ни за что не смог.
— Могу я немного подкрепиться перед дальней дорогой? — спросила вежливая птица, и, получив утвердительный ответ, подцепила когтистой лапой солёный огурец и целиком затолкала его себе в разверстый клюв.
— Так, — сказала Василиса Гордеевна, — хватит зря время проводить. Раз все в сборе — надо отправляться. Только Шишка бы надо малость приодеть — а то он вроде как с психушки сбежавши.
Шишок оглядел себя:
— Не–е, я, как хозяин, в хозяйской любимой одёже, всё при мне — я переодеваться не стану!
Согласился только укоротить штанины и при выходе надеть Ванины больничные ботинки, хоть и выглядел в них клоун клоуном: уж больно они были Шишку велики. А пока сел прилаживать солдатский ремень к балалайке, чтоб носить её за спиной. Василиса Гордеевна же собирала Ване котомку, положила сменку — причём тёплую: — Кто знат, сколь вы проходите, сентябрь ведь на носу. — Тут Ваня вздохнул: опять школа откладывается в долгий ящик… Положила и вязаную чёрную шапку с вышитым листком — память о Святодубе. Ваня сунул в котомку свистульку — мало ли, пригодится.
— Да, — спохватилась бабушка, — самого‑то главного я тебе, Ваня, не сказала… В лес ведь я тебя посылаю, в лесу она живёт, Анфиса‑то. — Ваня так и вздрогнул, вспомнив свой первый и последний поход в лес. — Но ты не бойся, — заторопилась, — того, что было, — не будет. Есть у меня оборона от этой окаянной трясовицы, я, когда за тирлич–травой‑то[13] ходила, да не нашла, зато другую травку сыскала — очень она сейчас пригодится, одолень–трава‑то[14]. Одолеет она её, сенную лихорадку эту, не даст к тебе подступиться. Зашила я траву в ладанку, — Василиса Гордеевна надела висящий на долгом шнуре хлопчатый мешочек с мягким содержимым Ване на шею. — Только смотри — не потеряй, а то плохо придётся… Одолень-трава, она много чего одолеть вам поможет, не только девок–трясовиц…
Пока Василиса Гордеевна собирала их в дорогу, Шишок ходил за ней по пятам, давая дурацкие советы насчёт того, что ещё надо положить в котомку.
— Отвяжись! — отмахивалась от него Василиса Гордеевна. — Как бы чего не забыть! А деньги‑то! — хлопнула бабушка себя по лбу.
— Да уж, без денег путешествовать оно как‑то не с руки, — сказал петух, флегматично наблюдавший за сборами. — Вернее… не с лапы.
Василиса Гордеевна подскочила к своей койке, смахнула с неё постель, вытащила перину и, велев Ване принести ножницы, стала вспарывать пуховик. Вся троица собралась вокруг, с интересом наблюдая за происходящим. Взяла перину за концы, встряхнула — и из неё полетели, кружась по комнате, бумажные деньги разных времён. Все бросились их ловить, Шишок поймал несколько купюр, бывших в ходу до реформы 1961 года, Перкун подцепил клювом «катеньку», Ване прямо на плечо слетела облигация государственного займа 1948 года выпуска. Потом он поднял с полу червонец, на котором был нарисован Ленин, ещё совсем недавно эти деньги были в ходу, а теперь на них ничегошеньки не купишь, деньги поменяли, счёт пошёл на тысячи и десятки тысяч. Весь пол оказался засыпан деньгами, которые вышли из обращения.
— Бабаня, а зачем тебе старые деньги? — спросил Ваня, разглядывая червонец.
— Как зачем?! Старые деньги — самые мягкие. Моей перины дороже нет… Я сплю — мне от них тепло. Никакого пуха не надоть.
— Пуха! — возмущённо воскликнул Перкун и нахохлился. Все замерли. — Какая бестактность!..
Василиса Гордеевна, поняв, какой промах сделала, покосилась на петуха и передёрнула плечами:
— Такие все обидчивые… Ничего сказать нельзя — сразу обижаются. Если б у меня пух был в перине, тогда бы ладно — обижайся, так ведь пуха‑то нет!
Осознав, что пуха в наличии действительно нет, петух немного оттаял. Бабушка же, раздвигая деньги клюкой, переворачивая бумажку за бумажкой, нашла наконец то, что искала, подняла, разгладила и подала Ване. Тот протянул уже руку, но Василиса Гордеевна отвела свою и сказала:
— Это не простая, Ваня, денежка — возвратная, верть–тыща называется, она всегда вертается к хозяину. Только гляди, не играй на неё, а то потеряешь навеки… — И он подхватил зелёную купюру, которая была выпущена совсем недавно, вот и год стоял — 1993–й, вот и флаг на куполе — не красный, а новый трёхцветный. Стал дальше разглядывать интересную денежку: с виду ничего особенного, обычная тыща. Свернул и положил в карман. Интересно, почему бабушка не пользовалась ею, а зашила в перину, тратила пенсионные деньги, которые утекали меж пальцев, как вода. Шишок между тем кружил по комнате, с наслаждением шурша по бумажкам шерстистыми ногами. Потом остановился и спросил:
— А скажи ты мне, Василиса, что это за люди такие, которые сносить нас хотят… Ты их знаешь? Где живут? Надо бы прежде с ними разобраться. Это ведь…
Бабушка строго посмотрела на Шишка:
— Не до них сейчас. И адреса у меня этих сносильщиков нету, знаю только, что участковый где‑то за дорогой в новых домах живёт. Дак он человек подневольный, Моголис этот тоже, небось, мелка сошка. А кто там у них решат, я не знаю. Времени даром не тратьте — а прямиком ступайте к Анфисе.
Бабушка повернулась к Ване:
— Значит, Ваня, так и так скажешь, я, мол, внучатый племянник, послала меня сестрица ваша Василиса Гордеевна. И поклон ей от меня, да вот ещё огурчиков солёных я в котомку положила, очень она их любит. А вам пирожков давешних. И… и не бойся её… Ну что ж, — вздохнула Василиса Гордеевна, — пора. Присядем на дорожку.
Все расселись в прихожей на лавке: петух сидел с поджатой лапой, Шишок положил голову на гриф балалайки, Ваня сидел очень прямо и глядел в одну точку, на порог. Порог был высокий и широкий, Ваня любил на него садиться, а бабушка, бывало, сгоняла его оттуда, дескать, нельзя на пороге сидеть — а то навеки уйдёшь в эту дверь.
— Ну, с Богом, — Василиса Гордеевна первая поднялась, и следом за ней все зашебуршились, вставая.
Когда три путника вышли за ворота, долго ещё слышали они, как из раскрытого окошка вслед им несётся:
— Едут добры молодцы во чистое поле, а во чистом поле растёт одолень–трава. Одолень–трава! Не я тебя поливала, не я тебя породила; породила тебя мать сыра земля, поливали тебя девки простоволосые, бабы–самокрутки. Одолень–трава! Одолей ты злых людей! Одолень–трава! Одолей добрым молодцам горы высокие, долы низкие, озёра синие, берега крутые, леса тёмные, пеньки и колоды…
Глава 11. В путь!
Перед выходом на проспект Ваня оглянулся — изба с бабушкой спряталась среди других изб, Святодуб уже не возвышался над улицей зелёным шатром, и почему‑то Ване показалось, что не видать ему больше 3–й Земледельческой как своих ушей… Ему хотелось завеньгать[15], и он крепился как мог. Спутники его в это время, отойдя в сторонку, о чем‑то совещались. Перкун, искоса глядя на дорогу, по которой туда–сюда сновали машины, расправил могутные крылья и, как дисциплинированный пешеход, дождавшись зелёного света, полетел, едва касаясь лапами проезжей части, на ту сторону. Шишок, ухватившись за Ванину руку, потащил его следом, бормоча:
— Знаешь, хозяин, хочу я экскурсию сделать, дома эти новые посмотреть, давно наруже‑то не бывал.
Ваня же хохотал, как ненормальный, пытаясь выдернуть руку.
— Ты чего? — испугался Шишок. — Щекотуха напала? Где, где она? — заоглядывался по сторонам. Но, кроме машин, ничего не увидел. Увернулись из под самого носа трамвая. Благополучно перескочив рельсы и перебежав оставшийся кусок дороги, оказались на стороне новых домов.
— Руку, руку‑то отдай… Щекотно очень… — хохотал Ваня. — Не могу больше! Хи–хи–хи, — и смахнул набежавшие слёзы.
— А–а, — Шишок отпустил Ванину руку, в недоумении поглядел на свою шерстяную ладонь, провел ею по собственной щеке и тоже захихикал:
— Правда, щекотно.
Перкун уж ждал их на этой стороне, в нетерпении переминаясь на месте.
— Пошли, — решительно потащил всех к девятиэтажным домам Шишок.
— Бабушка сказала поторапливаться, — пытался возразить успокоившийся Ваня.
— Мы быстро — раз–два — и готово!
— Чего — раз–два — и готово? — не понял мальчик.
Подошли вплотную к высоткам, и Шишок принялся выспрашивать у встречных–поперечных, где живёт участковый. Ваня дёрнул его за полосатый рукав:
— Ты чего?! Зачем нам к нему? Бабаня не велела…
— Бабаня не веле–ела! — передразнил его Шишок. — Чего ты за бабушкин подол уцепился — никак не отстанешь. Кто в доме хозяин?!
— В настоящее время, — вмешался в разговор важно выступающий рядом с ними Перкун, — существует теория равноправия полов. Поэтому весь вопрос в старшинстве.
— Равноправие полов… Это ты в своём курятнике устанавливай равноправие полов. А если брать по старшинству, я тут среди вас самый старший, и, значит, я — командир. Все за мной!
Встречные точного адреса не давали, но указывали большей частью в одну сторону. Подошли к очередному дому, у подъезда сидело несколько гревшихся на солнышке старушек, одна из них качала коляску с младенцем. Шишок подкатился к старушонкам и спросил, где проживает участковый. Кумушки с подозрением покосились на его полосатую пижаму, уставились на медаль, вытаращили глаза на петуха и дружно покачали головами, дескать, знать ничего не знаем, ведать не ведаем. Шишок скроил плаксивую рожу и запричитал:
— Бабушки–старушки, милостивые вы мои, мамка папку сковородкой убила — милицию ищем!
— Где, где–ко–ся? — повскакали старушки, глаза у них загорелись огнём любопытства.
— Да вон тама, в избах. На той стороне… Лежит батя с проломленной башкой, кровищи — вся кухня залита! Не знаю, чего и делать… А мамка без скальпа осталася.
— Как это? — офонарели старушки.
— Так. За косу по всему дому таскал, и скальп снялся… Вместе с косой.
— Индеец, что ли, он у тебя? — спросили уважительно старушки.
— Не, свой. А огненную воду шибко уважал.
— Вона как! Тогда — понятное дело… Дак вот в этом подъезде Мерзляков и проживат, второй этаж, сорок вторая квартира.
— Дома он, — высунулась старушка с коляской, — недавно прошёл. Бегите, бегите скорей. Бедные дети — всё ведь на их глазах…
Шишок приложил ладонь к виску, дескать, слушаюсь, петуху велел оставаться на улице, а Ваня пошёл следом за Шишком, но к милицейской двери допущен не был, остался стоять на лестнице, в сторонке. Шишок поднял руку, чтоб позвонить, но Ваня, опасавшийся скандала, успел спросить:
— Шишок, а вдруг у него пистолет?!
— Не боись, хозяин, всё будет в ажуре… Он не застрелится, — и рука Шишка, не достававшего до звонка, вдруг вытянулась, как гусеница, нажала на кнопку и вновь сократилась. Оглянувшись на опешившего Ваню, Шишок подмигнул ему. Дверь отворилась, на пороге стоял Мерзляков собственной персоной, в руке он держал бутерброд. Шишок запел тут по–другому:
— Дяденька милиционер, дяденька милиционер, я потерялся…
— Ну и что? — спросил участковый, дожёвывая.
— Милицию ищу.
— В отделение иди, это квартира.
— Ты же участковый, я на твоём участке потерялся, и кушать очень хочется… — Шишок в мгновение ока выхватил из руки Мерзлякова недоеденный бутерброд и затолкал себе в рот. Пока участковый приходил в себя, Шишок нырнул меж его широко расставленных ног — и через эти ворота проник в квартиру. Мерзляков заорал: «Ты куда, паршивец!», дверь захлопнулась, и дальнейшего Ване увидеть не пришлось. Перемахивая через три ступеньки зараз, он выскочил на улицу и успел вместе с повскакавшими с мест старушками увидать, как Перкун, точно золотой снаряд, стремительно влетает в распахнутую форточку второго этажа. Из квартиры доносился страшный грохот, женский визг, шум и гам. Потом стекло разбилось — ив окна вылетел холодильник «Минск», за ним на газоне с чахлыми деревцами приземлился телевизор «Шарп», потом видеомагнитофон той же марки, следом магнитофон… Старушки дружно поворачивали головы, провожая полёт техники от окна к месту посадки. Наконец в окно просунулся диван и, напрочь выдавив раму, так что она насадилась на диванные бока, полетел вниз. На диване с поджатыми ногами, съёжившись, сидела жена Мерзлякова и визжала так, что слушателям страшно сделалось. Диван также благополучно приземлился на газоне, сам же участковый вылетел из окна с растопыренными руками и совершил мягкую посадку прямо под бок к своей благоверной. Пришедшие в себя бдительные старушки завопили: «Караул! Милиция! Грабят!» Потом опамятовались: «Дак вон же милиция — на диване сидит…» Подскочив к вцепившейся друг в дружку чете Мерзляковых, старушки указали на Ваню, стоявшего под окном, как на сообщника совершающегося грабежа.
— Глаза нам замазали индейцами да сковородками, чтоб вызнать квартиру, и гляди–ко чё делают — грабют прям среди бела дня! А вон тама и грузовик стоит. Сейчас увозить начнут вещи–те…
Мерзляков туг же пришёл в себя, соскочил с дивана — и, перемахнув через заграждение газона, бросился к мальчику. Ваня — ноги в руки, и бежать. Кругом коричневые высотки, в ушах ветер свищет, и милиционер вот–вот нагонит. «Стой, стрелять буду!» — кричит. Ваня подпрыгнул, как заяц, хотя выстрела никакого не было, оглянулся: в руке у Мерзлякова пистолет. А из окна участкового верхом на петухе вылетает Шишок. Старушки вопят за спиной как резаные. А милиционер и вправду стреляет… Мимо! Перкун с Шишком на спине делают над бегущим участковым пируэты, восьмёрки, мёртвые петли, а Шишок из всех положений кидается помидорами и яйцами. Но тоже не попадает, всё шмякается об асфальт: то сзади, то сбоку, то впереди, и после каждого промаха Шишок то грозит себе кулаком, то закрывает глаза ладонью, то в отчаянии хлопает себя по лбу, то роняет голову на грудь, то орёт: «Мазила!»
И тут Мерзляков поскользнулся на расквашенном помидоре — и грохнулся. «Ага–а–а!» — злорадно заорал Шишок. И Перкун со своим всадником подлетел к Ване, завис в метре над землёй, Шишок богатырской рукой подцепил его за шиворот и посадил себе за спину — балалайку впереди себя поместил. Ваня обхватил Шишка за талию — и они полетели! Вот это да! Но участковый никак не успокоится — вот ведь храбрец попался, всё ему нипочём: весь в помидорном соке, как в крови, он опять наладился стрелять по улетающим. Пули так и свищут. Но опять всё мимо… И уж не достать их никакому участковому — слишком далеко и высоко. Золотые крылья широко раскинуты, а под ними — промышленный город Чудов.
— Вот это я понимаю! — кричит Шишок, оборачиваясь к Ване.
— Да–а, красиво, — соглашается Ваня.
— Да я не про то — с участковым вот потеха была! Как выстрелы услыхал — так сердце и сжалось, молодость вспомнил, боевых товарищей, хозяина старого! Да, было время… Эх, надо бы ещё этого инструктора навестить! Успеем, нет? Сколько сейчас времени‑то?
Петух тут же и ответил на вопрос, завис в воздухе, забил себя крыльями по бокам, вытянув шею, закукарекал — и камнем полетел вниз. Ваня в Шишка вцепился, а тот в шею Перкуна. Хорошо, что до земли далеко было, петух затормозил, выровнял полёт и ответил про время, как радио:
— Московское время пятнадцать часов ровно, — и, оглянувшись, добавил: — Я думаю, спешить нам надо, а то дело к ночи идёт.
— Ладно, — вздохнул Шишок. — Ох и везёт этому Моголису! Но уж на обратном пути я с ним повстречаюсь…
А далеко внизу — рельсы, по ним два встречных трамвая едут. Вот и 3–я Земледельческая, какая она коротенькая… Пустырь. И гляди–ко! Точно — какие‑то псы собрались в кучку на пустыре, что‑то решают, один чёрный, на таксу смахивает, другой вроде белый пудель… Неужто парни решили по собственной воле надеть собачьи ошейники, надоело быть людьми, что ли? И уже скрылся пустырь из виду, пропали из глаз собаки. Летят они над магазином, к дверям очередь протянулась. Шишок наклонился вниз, пытаясь разглядеть, что это такое, чуть с гладкой петушьей спины не соскользнул. Спросил у Вани:
— За чем очередь‑то? Хлеб, что ль, по карточкам выдают?
— Не–е, скорее талоны на водку отоваривают. А может, и на сахар.
— Почти пятьдесят лет как война кончилась — а всё карточки в ходу… — подпрыгнул Шишок.
— Раньше без талонов жили, это теперь только…
— Ох, ведь! — Шишок стукнул петуха пятками по бокам. — Вечно я не вовремя вылезаю!
— Эй, вы там, потише! — повернув к ним горбоклювую голову, сипит Перкун. — Я ведь всё‑таки не лошадь! И возить на себе никого не нанимался! Ведите себя смирно. Учтите, петух, вообще‑то, птица не летающая, а в основном гуляющая по земле.
— Да ладно тебе прибедняться, — похлопал его по шелковистой шее Шишок. — Знаем мы, какой ты не летающий, ты ещё орла перегонишь — коль захочешь.
— Ну, это как сказать, — не поймался на лесть Перкун, — с такой тяжестью на спине — далеко не улетишь.
— Да разве это тяжесть! Вот если бы тебе пришлось жену участкового на себе везти — тогда да, это я понимаю — тяжесть! А мы с хозяином разве тяжесть?! Лёгонькие, как пушинки!
— Петухам вообще летать не положено, — повернув к ним голову, ворчал Перкун, — это первый и последний раз. А то сядете на шею и не слезете…
Тут Ване показалось, что они влетели в облако — но это оказался дым, такой вонький, что все трое стали кашлять и в непроглядном дыму едва не врезались в кирпичную трубу, из которой дым и валил. В последний момент Перкун взял в сторону, и столкновения удалось избежать. Вылетели из дыма — и увидели внизу гигантский завод, попетляв какое‑то время между дымящимися трубами, вырвались в конце концов на вольный воздух. Но тут стая ворон атаковала странную птицу с двумя всадниками на борту. Вороны окружили их со всех сторон и принялись щипать и клевать, стараясь свалить людишек со спины нежелательной в небесах птицы, беря как уменьем, так и числом. Ваня отбрыкивался ногами, Шишок отбивался балалайкой, Перкуна клевали в плохо защищенный тыл, но тут Ваня увидал внизу автовокзал — место назначения — и, прикрывая голову руками, закричал:
— Перо, скорее вниз!
Перкуна долго приглашать не пришлось, — он сложил крылья и резко спикировал к домам, оставив воронам их небо. Перед самой землёй развернул крылья, пробежался лапами по асфальту и затормозил. Приземлились они на задах построившихся рядами кособоких ларьков, где другого народу, кроме мужиков, соображавших на троих, не имелось. Один из мужиков, пробормотав: «Чи анделы[16], чи нет?», — приглашающим жестом протянул им початую бутылку водки. Ваня и Шишок отмахнулись руками, а Перкун крылом. «Анделы!» — решили мужики, по очереди приложились к бутылке и от умиления заплакали.
— Эх, придётся ведь за Перкуна, как за багаж, билет брать! — вздохнул Шишок. — Шибко много места ты занимаешь, дорогой товарищ птица…
Перкун обиделся:
— Я не багаж. Я как все — по обычным билетам. И что тебе денег, что ли, жалко — у нас ведь верть-тыща имеется.
— Так‑то оно так! — согласился Шишок. — А всё ж экономия нужна. Кто его знает, как ещё с этой деньжурой обернётся… А ну как деньги фальшивые? Али ещё что?!
Они уже входили в низенькое здание автовокзала, битком набитое людьми. Шишок с петухом сели на отлакированную задами жёлтую лавку с закруглённой спинкой, а Ваня отправился за билетами.
Очереди в каждую кассу тянулись, переплетаясь одна с другой. Когда Ваня добрался до окошечка, Шишок протиснулся к нему и сказал, докуда брать билет. Ваня положил на жестяную тарелку, прибитую к дереву, свою денежку, получил билеты и сдачу, а тыща, он сам видел, была опущена кассиршей в выдвижной ящик стола. Ваня подождал возле кассы: может, купюра вылетит из ящика, но дождался только, что его оттиснули от окошка и отругали.
Купив билеты, троица направилась к автобусной площадке дожидаться свой рейс. Здесь на свежем воздухе решили перекусить: Шишок достал из карманов уцелевшие после налёта на квартиру участкового помидоры, яйца и даже бутылку молока. Как всё это уместилось в карманах пижамы, Ваня не понял. Перкун же, увидав яйца, подскочил с поджатыми лапами в воздух и закудахтал:
— Вы что, яйца собираетесь есть?!
— А что — нельзя? — удивился недогадливый Ваня. — Ой…
— У меня просто нет слов! — Перкун отодвинулся от них на самый край скамьи.
Ваня отмахнулся от яиц, дескать, не буду, а Шишок ничего — выпил одно за другим целых три штуки, а на верхосытку и скорлупу схрумкал.
Тут как раз подкатил нужный автобус — но оказалось, что пока они перекусывали, впереди выстроилась целая очередь. Открыли только передние двери, кондукторша загородила вход и стала пропускать по одному, надрывая билеты. Ваня сунул руку за билетами в карман — и обнаружил там, помимо билетов и сдачи, свернутую бумажку, вытащил её и обрадовался:
— Тыща!
— Ну тыща и тыща — зачем же голос повышать! — укорил его бывший не в настроении Перкун.
— Вернулась же…
— На то она и верть–тьща — чтоб возвращаться, — резонно заметила птица.
Когда они протолкнулись к двери автобуса, кондукторша вдруг выбросила прямо перед Ваниным носом руку, точно шлагбаум:
— А вы, ребята, с кем? Где ваши родители?
— Это со мной, со мной! — вылез вперед Шишок. — Я — дедушка. А мальчик со мной.
Ваня, заглянув ему в лицо, только крякнул: Шишок состарился лет на пятьдесят, самое малое. Кондукторша внимательно поглядела на дедушку, ей почему‑то показалось, что за секунду до того он был мальчиком, и руку убирать пока не торопилась.
— Лилипутик, что ли? — произнесла наконец с сомнением.
— Можно сказать и так… Назови хоть горшком, только в печь не сажай, хе–хе… Да и в печь можешь посадить — мы ничего, привычные, огнеупорные мы… Шучу–шучу. Это внучек мой, — кивнул Шишок на Ваню. — А это, — протолкнул вперёд застрявшего в очереди Перкуна, — выставочный экземпляр, специально для ВДНХ выращивали, кормили отборным пшеничным зерном, которое опять‑таки для Выставки достижений народного хозяйства выращено, — и, поманив пальцем кондукторшу, Шишок громко зашептал ей в ухо: — Племенной петух! Представляете, какие яйца будут у кур! Это же мы всю продовольственную программу враз выполним!
— И перевыполним! — поддакнул Перкун, но был Шишком пребольно ткнут в шёлковый бок — молчи…
Кондукторша опять с подозрением уставилась на компанию. Но сзади стали напирать желающие ехать пассажиры, крича и ругаясь, дескать, сколько это будет продолжаться, все ехать хотят, и пытаясь выдавить от двери задерживавшую всех троицу.
— Господа хорошие! Ведите себя прилично, — пытался их урезонить Перкун, но его не слушали и продолжали напирать и толкаться. Тут кондукторша наконец смилостивилась, убрала руку — и они ворвались в автобус и заняли свободные места на Камчатке, а за ними в автобус влетел и рассредоточился хвост остальных пассажиров. Все наконец расселись по своим местам, но добро на отход кондукторша пока не давала. Она вдруг крикнула Шишку игриво:
— А я думала, вы в цирке выступаете — с петушком‑то… — выскочила на улицу, двери захлопнулись, и «ЛАЗ» стал разворачиваться, выезжая с площади. Шишок соскочил со своего места и, сопровождаемый изощрёнными матюками, — отвечал он ещё более изощрённо, — подобрался к чужому окну, высунулся в него чуть не по пояс и крикнул:
— Ив цирке, и в цирке тоже! — и замахал оставшейся кондукторше балалайкой.
Вернувшись на своё место, где кроме них с Ваней и Перкуна, чинно выставившего вперёд лапы, не достающие до пола, никого больше не было (мест в автобусе, как ни странно, оказалось больше, чем людей, бравших транспортное средство приступом), Шишок сказал восторженно:
— Вот это женщина! Вот это я понимаю! Вот с такой‑то бы борьбой позаниматься, зуботычин, небось, столько наполучаешь!
Поглядев за окно, где стремительно мелькал городской пейзаж, Шишок сказал мечтательно:
— Да, давненько я в народ не ходил, с самого, почитай, сорок пятого года. Люблю я с нашим русским людом поговорить, поругаться… Меня хлебом не корми — дай полаяться. У меня от этого волосья гуще становятся. Во, пощупай, прибавилось волос? — Сунул он свою взлохмаченную голову прямо Ване в лицо. Ваня пощупал:
— Вроде нет…
— Значит, мало лаялся. Ничего, это только начало.
— А зачем тебе ещё волосья, у тебя их и так‑то девать некуда? — спросил Ваня.
— Как зачем! Ты что! Ты ещё скажи, зачем Перкуну пух да перья… Без пуха и перьев — он кто? Ощипанный петух, годится только в суп.
— Но, но! Я попрошу! — проснулся задремавший было Перкун.
— Так и домовик без волос. Вот я, хозяин, видел, когда ты дома волосья чесал, сколько волос на расческу повылазило. А каждый волосок — это денёк, вот и посчитай, сколько ты повычёсывал у себя деньков?! И это только за раз! На глазок, штук сорок — это точно. Теперь на сорок дней меньше будешь жить. И так каждый день — чешешься ты, чешешься, и дни свои вычёсываешь. Научно доказано. Почему домовики столько живут? Потому что никогда не расчёсываются.
— Дак ведь колтун в голове будет! У тебя колтун — я нащупал…
— А нехай. А чесаться нельзя!
Ваня искоса поглядел в новое старческое лицо Шишка, потом спросил:
— Это у меня такое лицо будет, когда я состарюсь?
— Такое, хозяин, такое, один к одному таким будешь в семьдесят годков.
— Страшно–о–е…
— Чего это страшное, — обиделся Шишок. — Лицо и лицо. Зеркала у нас нету?
Ваня покачал головой отрицательно и решился задать очень интересовавший его вопрос:
— Ты говорил, без лица сидел, пока я у бабани в избе не появился… А что у тебя вместо лица‑то было?
— Показать, что ли? — шёпотом спросил Шишок. Ваня глянул: пассажиры сидели к ним спинами.
— Покажи! — зашептал Ваня заворожённо.
— Только ты кулак в рот засунь.
— Зачем?
— Чтоб не заорать — высадят, а нам ещё ехать и ехать.
Ваня сунул в рот кулак, проснувшийся Перкун повернул к ним голову, без всякого выражения глядя холодным круглым глазом с громадным зрачком.
Шишок закрыл лицо волосатыми ладонями, отвёл их от лица — и Ваня увидел белое неоформившееся безносое тесто, с двумя щёлками вместо глаз, едва наметившейся выпуклостью вместо носа и безгубой дырой на месте рта. Кулак был засунут правильно: Ваня только замычал. Перкун же захлопал крыльями, но тоже ничего не вякнул, даже не закудахтал. Шишок вновь приложил ладони со скрюченными пальцами к лицу, надавил на него, убрал руки: и лицо состарившегося Вани выступило вновь.
— Вот то — было страшное, — назидательно сказал Шишок. — А это разве страшное? Лицо — оно и есть лицо.
За окнами автобуса бежали, кружась в одну сторону, леса. Всё новые и новые деревья появлялись обок дороги и молча отступали в сторону, давая место другим, берёзы сменяли липу, потом появлялись осины, километрами тянулся олешник, вдруг возникал тёмный еловый бор, сосны выбрасывали к небу свои длинно–игольчатые ветви. Лес, стоявший стеной, казался нескончаемым.
Автобус иногда останавливался — пассажиры выходили, входили новые, все с поклажей, платили за проезд шофёру и садились или ехали стоя. Шишок храпел, привалясь к Ваниному плечу, Перкун с любопытством глядел в окна, наконец, когда автобус в очередной раз остановился, водитель объявил:
— Кому Теряево? Выходи!
Глава 12. Теряево
Выскочили на дорогу, огляделись: это был пуп местности — бока земли отсюда округло понижались, лес отступил к краю видимости. И там, склоняясь к лесу, висело солнце. Шишок воздел руку, указывая на деревеньку, рассыпавшую дома в низине, и возвестил:
— Вот оно — Теряево! — Произнёс он это так, будто указывал по меньшей мере на Рим.
И, сорвавшись с места, столь стремительно помчался, перебирая своими коротенькими ножками в полосатых пижамных штанах, что Ваня с распустившим крылья, взлетающим и опускающимся Перкуном никак не могли его догнать. Дожидаясь их у крайних изб, Шишок полуприсел, махая бегущим рукой:
— Вы чего, каши мало ели? Я уж извёлся весь, вас ожидаючи. — И, так и не дождавшись, Шишок разогнулся и опять побежал вперёд, только балалайка подпрыгивала на спине.
Окончательно нагнали его в центре села, он неподвижно стоял возле ворот какой‑то избы и глядел вверх: на воротах сидела пушистая трёхцветная кошка и с равнодушным прищуром взирала на Шишка. Когда Ваня с Перкуном приблизились, он обернулся к ним и сказал:
— Нет, ну я не могу, вы посмотрите, как она глядит!
— Как? Просто глядит.
— Просто? Нет, она не просто глядит — она свысока глядит, она надменно глядит и презрительно глядит… У–у, прохвостка!
Вдруг глаза у Шишка загорелись красным огнём, и, подпрыгнув метра на полтора вверх, он схватил своими мягкими лапами не ожидавшую нападения кошку, так что та не успела и «мяу» сказать, и вцепился ей острыми зубами в трёхцветный бок. Кошка, мяргнув, как‑то умудрилась вырваться — и метнулась на ближайшее дерево, Шишок проворно полез за ней. Ваня с земли орал:
— Шишок, Шишок, что ты делаешь, оставь кошку в покое!
Но Шишок не слышал, нагнал, схватил и потащил ко рту — кошка истошно вопила… Сверху доносилось рычание, скрежет зубовный, и время от времени издавали жалобные звуки струны, задетые о ветки. Ваня в отчаянии взглянул на Перкуна:
— Перо, да скажи же ты ему!
— Сам скажи. Скажи: Шишок, хозяин зовёт!
— Шишок, хозяин зовёт! — крикнул Ваня и даже ногой топнул.
Шишок в мгновение ока скатился с дерева. И тут же упала сверху искусанная кошка. Ваня наклонился над ней — мёртвая… Мальчик в ярости подскочил к Шишку и замахнулся:
— Ты что — сдурел?!
Тот только сжался весь, но и не подумал защищаться, старое лицо его всё было исцарапано, видно, кошка не так‑то просто отдала свою жизнь, а рот…
Ваня только рукой махнул, сел на землю и заплакал. Когда он чуть поутих, но всё ещё сидел с закрытым ладонями лицом, Шишок попробовал оторвать пальцы от лица, но неудачно. Ваня отмахнулся локтём. Он сквозь щели между пальцами видел ноги Шишка в своих раздолбайских ботинках, рядом переступали в пыли лапищи Перкуна.
— Что она — родня, что ли, тебе? — говорил Шишок. — Чего ты так убиваешься? Мало ли на свете кошек. А эту ты даже не знал…
Ваня отвёл руки от лица и вскочил на ноги:
— Что она тебе сделала?!
— Что она мне сделала… Да знаешь ли ты, что она на нашем месте живеё! Жила…
— На каком это — на нашем месте?
Но тут Перкун вмешался в разговор, ткнул Шишка клювом в лицо:
— Ты рот‑то оботри, в кровищи весь, в пуху, смотреть противно. Будто лиса какая или волк… После курёнка… А не честный домовой.
Шишок торопливо утёрся рукавом и крикнул:
— А вот на этом самом, — указал на избу с воротами, где недавно сидела кошка. — Наше это место. До войны мы тут жили. Вон дым‑то — наш идёт… Печка, чую, наша осталась… Я наш дым ни с каковским не перепутаю. Избу‑то немцы сожгли, вся деревня сгорела, а печка осталась, я в печке и жил, топил её, грелся, зима ведь стояла. Один совсем… Весь чёрный, в копоти, только ребятишек пугать. Да пугать‑то было некого… Живых никого не осталось.
— На своём пепелище и петух храбрится! — просипел Перкун, больше для себя, чем для Шишка, тот его вообще не услышал, продолжая говорить:
— Хорошо, хозяин в лес ушёл, к партизанам, хозяйка Василиса Гордеевна — тоже. Кашу там варила да на ноги раненых ставила.
Шишок поглядел на примолкшего Ваню и воскликнул:
— А ты, небось, и не знал?!
Ваня покачал головой.
— Во–от, а других судишь… О своём роду ничегошеньки не знаешь… Позорище! Потом… хозяин пришёл на пепелище‑то — я за ним и увязался. Ни один домовик избы своей не покидал допреж того! Только я… Беспримерный подвиг, можно сказать, совершил… Так всю войну с хозяином и провоевал…
— Не та земля дорога, где медведь живёт, а где курица скребёт, — сказал назидательно Перкун и, захлопав крыльями, неистово закукарекал.
Когда петух замолчал, Шишок повернулся к нему:
— Эх, Перо, не клевал ты пшена‑то проросшего военного, пороху не нюхал! Видел бы ты, как мы с хозяином поезда немецкие под откос пускали! Подложим взрывчатку, паровоз наедет, и — бах! Взрыв! Красота! Вагоны под откос один за другим. Да–а… — Шишок приподнял медаль, наклонился к ней, подышал и потёр рукавом, чтоб шибче блестела. Медаль звякнула. Шишок покосился на Ваню.
— Ну хорошо, — сказал Ваня, — немцы немцами, война войной. А кошка‑то тут при чём?
— Согласен, погорячился! Ну а чего она так свысока на нас смотрела, нагло так, ух! Как последний провокатор! Не удержался… Да и, знаешь ведь, хозяин, лес рубят, щепки летят…
Пошли дальше по деревне, но Шишок всё оглядывался на оставшуюся избу, Ваня же рад был, что хозяева на шум не выскочили, видать, ещё на работе все. Время‑то страдное. Если и был кто дома — печку ведь кто‑то топил, — то, видимо, какая‑нибудь глухня–старуха.
Возле каждой избы крутились куры с петухом во главе, кто купался в пыли, кто искал червяков… Мирная куриная жизнь при появлении важно выступающего Перкуна оказалась нарушена. Завидя гиганта петуха, не только деревенские петухи, которые были ему, конечно, не соперники, но и куры разлетались с квохтаньем кто куда. Притом что Перкун не обращал на кур ни малейшего внимания, никаких авансов не делал и просто шёл своей дорогой. Несколько самых впечатлительных куриц, побегав кругами, потолкавшись в задвинутые подворотни и с перепугу не найдя никакого укрытия, даже в обморок упали — лежали кверху лапами и не двигались.
— Чего это они? — удивился Ваня.
— А это они думают, что куриный бог с неба спустился, судить их будет, — сказал Шишок. — Может, правильно думают…
Перкун продолжал вышагивать, только искоса поглядывал на переполох, какой учинило его появление.
Шишок меж тем тоже не обращая на куриный гвалт ровно никакого внимания, опять нырнул в прошлое:
— После войны мы сюда уж не вернулись, слишком тяжёлые воспоминания… На новое место пошли — в город, который тоже был в развалинах. Хозяин избу построил, меня, конечно, с собой позвали. Куда ж без меня! Так вот и жили… Но это наше, наше место, тыщу лет тут Житные водились, а теперь, вишь, чужая кошка, как у себя дома, на воротах разлеглась…
Ваня внимательно слушал, на кошке больше останавливаться не стал, а до интересующего его вопроса Шишок так и не дошёл, тогда Ваня с самым равнодушным видом, на какой только был способен, спросил:
— Шишок… А чья это балалайка у тебя, какого Вальки?
— А? — Шишок недоуменно поглядел на Ваню: — Не какого, а какой, дочки хозяйской балалайка, Валентины. Шибко она музыкой увлекалась, сначала на балалайке играла, после пианино ей хозяин купил, очень уж любил девчонку. Последыш ведь она у них, долго после войны‑то не было у них детушек. Тех… прежних‑то не уберегли в войну… Василиса Гордеевна против была этой музыки. Ругом[17] ругалась, дескать, испотачишь[18] совсем девчонку–от, потом станешь локти кусать, да поздно будет. Так и вышло… Пианино ставить у меня места нет, да и не уважаю я его, а балалайку прибрал. А чего ей без дела‑то валяться, Вальки ведь нету.
— А где она? — с замиранием сердца спросил Ваня. Он жадно впитывал Шишковы слова, боясь прервать его, вдруг он опомнится да замолчит…
— А кто ж её знает…
— Не умерла? — с дрожью в голосе спросил Ваня.
— Да не должна. А… погоди, чего это я? Валентина ведь матерью тебе приходится. А я разболтался…
— Ничего не разболтался! — крикнул Ваня. — Должен же я про мамку свою хоть что‑то узнать! А то молчи, не спрашивай, не заикайся… А чего она вам сделала?!
Но Шишок насупился, и больше Ваня ни слова из него вытянул» не мог. Двинулись в сторону леса — и вдруг Перкун стал спотыкаться на ровном месте, налетал то на Ваню, то на Шишка, то на кусты, наконец сказал:
— Я, конечно, очень извиняюсь, но солнце закатилось, и я совершенно ничего не вижу… Куриная слепота. Так уж наша порода устроена…
— Тьфу! — сплюнул Шишок. — Совсем забыл, придётся заночевать в деревне.
— Только, чур, не на нашем месте! — сказал Ваня, опасаясь со стороны Шишка какой‑нибудь провокации в отношении нынешних хозяев.
— Ладно, — пожал плечами Шишок, — какой разговор.
— И дай слово, что не пойдёшь к ним в избу и не покусаешь там ещё кого‑нибудь. Как кошку‑то…
— Да больно они мне нужны, связываться.
— Нет, ты слово дай! — не отставал Ваня.
— Да чтоб мне на всю жизнь остаться бездомным, если я в энтот дом полезу!
— Хорошо, куда пойдём‑то?
— А в любую избу постучимся — и пустят. Путников — да ещё бы не пустили!
Подошли к крайней от леса избе, тут как раз мужик с двумя ребятёшками дрова колол.
— Эй, товарищ, — подошёл к нему Шишок, — переночевать пустишь?
— Чужих не пускаем, — не отрываясь от работы, ответствовал мужик.
— Каких это чужих, очумел ты, что ли, мы тут до войны жили. Житные мы, слыхал, небось? Нас тут каждая собака знала.
— Нет, не слыхал! — мужик ахнул топором по чурке, она разлетелась на два полешка, одно из которых чуть не угодило Шишку в нос. — Мы тут год только живём, беженцы мы, из Абхазии.
— Беженцы! — засмеялся Шишок. — Какие ещё беженцы! Ты мне глаза‑то не замазывай, беженцы! Война уж когда кончилась, беженцы они…
— Ты что, с луны, что ль, свалился, дед?.. Иди давай, не мешай работать, — заругался мужик. — Сказал, не пускаю, значит, не пускаю! Нас кто‑нибудь пустил? Из Москвы выперли, в дыре этой только смогли избу купить. И никто вас тут не пустит, лихих людей нынче много развелось. Вон напротив жаба одна живёт, Марковна, повитуха, она разве пустит, а больше никто, — мужик опять взялся за дело, мальчишки поколотые дрова брали в беремя[19] и впробеги[20] уносили во двор.
Двинулись к дому «жабы».
— Какая война‑то, хозяин, ты чего мне ничего не говоришь? — дёргал Шишок Ваню за штанину.
— Ну да, в прошлом году конфликт был у Абхазии с Грузией… Дак их мало ли конфликтов… Страна на кусочки развалилась…
Тут они подошли к воротам повитухина дома, разгневанный Шишок шваркнул балалайкой в ворота и закричал:
— Эй, хозяйка, принимай гостей!
— Каки‑таки гости? — раздался писклявый голосок, и в окошко высунулась толстая, с глазами навыкате, впрямь похожая на жабу, старуха. Так что у Вани разом возникли подозрения на её счет — а не побывала ли она когда‑нибудь жабодлакой… И в таком разе — а ну как и у него со временем выпучатся глаза и раздует его от водянки.
— Гости знатные! — отвечал между тем Шишок, подбоченившись.
— За постой деньги беру, по триста рублей с рыла, — уточнила старуха.
Шишок присвистнул:
— Да ты подкулачница!
— Сам подкулачник! Сейчас таки времена — рыночны отношения… А денег нет — это ваши проблемы!
— Вот те и раз! — воскликнул Шишок и вопросительно поглядел на Ваню. Тот кивнул. — Ладно, — смирился Шишок, — по триста так по триста. Деньги имеются… Пошли, робяты, в хоромы.
Повитуха постель им не постелила, накормить не накормила, отправила спать на сеновал. Но Шишок набился‑таки на чай, к чаю принесли пирожки, которые Василиса Гордеевна сунула Ване в котомку.
Вот как пригодились‑то, учитывая, что сельпо было уже закрыто.
Перкуна старуха и на порог не пустила, забоялась:
— Ой, ой, ой, страшилище‑то! Не пущу и не пущу… Нагадит ещё — у меня в избе‑то чисто–о.
Перкун, страшно оскорблённый, ни слова не говоря, развернулся и взлетел на сеновал. Шишок крикнул ему вслед:
— Там пирожки тебе остались, в котомке. А попить мы принесём…
Деньги повитуха запросила вперёд, Ваня сунул ей тыщу, сдачу старуха долгонько искала, а найдя сотенную, никак не выпускала из рук, мялась да вздыхала так, что Шишку пришлось вырвать сторублёвку из цепких повитухиных пальцев. За ужином Шишок попытался разговорить хозяйку:
— Да ты давно ли здесь живёшь, Марковна?
— Недавно, милок, лет восемь всего.
— Тоже беженка?! — остолбенел Шишок.
— Кака тебе беженка, из соседней деревни я, из Буранова.
— Знаю Бураново! — обрадовался Шишок. — Бывал там. Сорок домов деревня, точно помню.
— Как тебе не сорок! Три дома в последнее время стояло. Потом одна моя избушка осталась. Народишка нету, света нету, гамазина нету, какие–никакие сбереженьица были, халупу эту в Теряеве и купила.
— Ничего халупа, хорошая!
— Хаять не буду.
— Бураново не так далёко отсюда, километров двадцать всего, а не слыхала ли ты про Житных, мы тут до войны живали? — с надеждой спрашивал Шишок. — Серафим Петрович да Василиса Гордеевна, а? Трое детушек у них было — в войну сгинули.
Старуха, показалось Ване, вздрогнула, глаза её забегали, руки зашарили по столу, но она резво отнекнулась:
— Не, не, не, и слыхом не слыхала!.. Как говоришь — Житные? Нет, не знаю, никого таких не знаю. И не слыхивала даже.
— Во! — стукнул себя Шишок по лбу. — Вспомнил! Василиса‑то Гордеевна — и сама ведь бурановская, Щуклина — девичья фамилия. Неужто не знаешь?
— Нет, не знаю, — пожала повитуха плечами. — Меня в Бураново‑то после техникума распределили, после войны уж.
— А–а, тогда понятно! — вздохнул Шишок. — Василиса‑то Гордеевна до войны ещё в Теряево перебралась, как за хозяина моего замуж выскочила.
Старуха поднялась и стала подливать в чашки чаю, руки её подрагивали, видать, от старости, глаза плохо видели: перелила она кипяточек через край и одному и другому. Повитуха села и, скроив улыбку, принялась в свою очередь задавать вопросы:
— А и куда ж вы путь держите, люди добрые?
Шишок, наступив под столом Ване на ногу, дескать, не встревай, отвечал:
— Да за грибами. Грибники мы…
— Ага, ага, ага, с балалайкой‑то…
— А я как заиграю — так все грибы сбегаются, только знай собирай!
Повитуха усмехнулась, звучно прихлебнула чаю с блюдца и, бросив на Ваню быстрый взгляд, спросила:
— А… ты что ж? Из Житных будешь?
Шишок опять наступил Ване на ногу, но Ваня уж отвечал:
— Я Житный, ой! Ваня.
Шишок же в одно время с ним вякал:
— Какой там! Приблудный мальчишко‑то…
— Ага, ага, ага! — то ли соглашалась, то ли ехидничала старуха.
Поглядев на часы, она стала их выпроваживать, дескать, время уж позднее, им завтра рано подыматься, ей тоже… Но Шишок уходить не спешил, встал, перевернул балалайку со спины на брюхо, тренькнул-бренькнул и запел нарошливо тоненьким голоском:
С неба звёздочка упала Прямо к милому в штаны. Пусть бы всё там оторвало — Лишь бы не было войны!Ваня только глаза выкатил. А повитуха, игриво поводя бурлацкими плечами, подпела:
— Ох, ох, ох, ох!
Потом с балалайкой наперевес Шишок пошёл по дому, обнюхивая всё и обсматривая. Но тут старуха прямо взашей их стала выталкивать. Небось, заподозрила неладное, решил Ваня, дескать, а ну как на лихих людей напоролась, чего вынюхивают? А вдруг потом ножичек к горлу, и поминай как звали. Мальчик быстрёхонько выметнулся в сенцы, а Шишок всё что‑то пререкался…
В сенцах на столике в углу Ваня увидел бикс — металлическую коробочку, в таком биксе в больнице шприцы кипятили, пока одноразовые не появились. Машинально он приоткрыл крышку — и в глаза ему бросились блестящие щипцы да крючья… Ваня поскорей приладил крышку на место и выскочил во двор. Следом выметнулся Шишок.
Перкун, не дождавшись их, давно спал — вверху, обхватив крепкими лапами балку. Ваня с Шишком устроились на сене, Шишок тут же захрапел, а Ване не спалось, наконец, повздыхав, заснул и он. Но проспал не долго: Перкун, висевший над самой Ваниной головой, по–разбойничьи заорал «ку‑ка–ре–ку–у–у–у!». Тут деревенские петухи были с Перкуном в полном согласии: принялись вторить ему голосами и подголосками. Ваня не мог заснуть и подполз к проёму — наверное, до утра ещё далеко… Вдруг он увидел, как дверь избы открылась и из неё, как квашня, вывалилась повитуха, повозилась с замком, подёргала, крепко ли заперто, отворила ворота и выметнулась на улицу. Ваня посидел, подождал: старуха всё не возвращалась, махнул рукой — и пошёл досыпать.
И ещё несколько раз петух принимался кукарекать, Ваня каждый раз просыпался, долго не мог заснуть, а как только засыпал, тут‑то опять раздавалось громоподобное «кукареку–у–у!» куриного бога, которое тут же подхватывалось простыми петухами. Нет, это было просто невыносимо! Шишок же спал как убитый.
Идти решили спозаранку, но Ваню никак не могли добудиться — наконец разбудили. Шишок долго ворчал, дескать, кто рано встаёт, тому бог даёт, а им теперь ничего не светит, учитывая, какое положение в небе занимает солнце. Ваня, косясь на безмятежно шагающего Перкуна, помалкивал. Теряевские куры и в этот день разбегались кто куда от сошедшего с небес повелителя. Поэтому шум, квохтанье, хлопанье крыльев, кудахтанье стояло такое, будто не петух вышагивает по деревне, а медведь.
Шишок, завидев открытое на сей раз сельпо, сказал:
— Припасы бы надо купить, путь ведь ещё не близкий, давай, хозяин, деньжуру, схожу куплю чего надо.
Ваня сунул руку в карман, обнаружил тыщу, отданную повитухе, и, уже не удивляясь этому, ни слова не говоря, вручил Шишку деньги и котомку. Дожидались Шишка в тени под берёзой, Ваня, воспользовавшись его отлучкой, попытался расспросить Перкуна про Валентину, — может, и петуху что‑то известно про его мать, — но тот только ни к селу ни к городу просипел:
— Яйца курицу не учат, — видно, на него нашёл стих говорить поговорками. А может, он был под впечатлением от того, как его принимал куриный народ. Ваня вздохнул.
Шишок вернулся нагруженный, и наконец‑то двинулись по дороге, ведущей в лес. Когда Ваня спустя какое‑то время обернулся, от Теряева не осталось и помину.
Глава 13. Зачарованный лес
Дорога была едва заметная, поросшая травой, а лес обок пути сразу пошёл до того густой, что солнце не могло пробиться сквозь ольшаник, перемешанный с непролазным кустарником. Шли они, шли, дорожка всё сужалась. На развилке позадумались, потому что оба пути казались одинаково нехожеными, пошли направо — и после двух привалов обнаружили, что стёжка, поросшая бурьяном сначала по щиколотку, после по колено, а теперь и по пояс, незаметно кончилась, упёрлась в непролазный бурелом.
Шишок сплюнул:
— Вертаться надо. По левому пути пойдём.
— А кто должен знать дорогу, кто у нас командир? — спрашивал Перкун, он старался жаться поближе к Ване с Шишком, чувствуя себя явно не в своей тарелке.
— Я ведь не лешак, а домовик, — огрызался Шишок. — В избе я кажного таракана в лицо знаю. А в лесу… У Анфисы Гордеевны давненько не бывал, почитай, с сорок второго года… Может, тут новые дороги понаделали, кто их знает, нынешних теряевцев‑то…
— А Василиса Гордеевна большие надежды на тебя возлагала, — говорила укоризненно птица.
— Шишок, — спросил тут Ваня, — а кроме Анфисы Гордеевны, сестёр у бабушки, или там братьев, не было?
— Как не было! Были. Их четыре сестры всего: старшая Раиса, после Анфиса, потом наша Василиса, да ещё Ульяна. В Буранове, помнится, изба у них хорошая стояла — пятистенка. Гордей‑то Ефремович — отец, сурьёзный был мужик, хозяйственный.
— А где эти — Раиса с Ульяной?
— А и кто ж их знает! Раиса вроде в Москве жила, она за бурановского кузнеца взамуж вышла, да и уехала с ним, до войны еще. А про Ульянку врать не буду — не знаю, где она, что с ней…
— А бабушка ничегошеньки ни про кого не рассказывала, — проговорил укоризненно Ваня.
— Дак язык свой Василиса Гордеевна на привязи держит — смолоду скрытная была. Серафим‑то Петрович, хозяин мой прежний, сначала ведь на Ульяну глаз положил, та больно ласковая была, в самое сердце дыру проюлит. А Василиса дорогу‑то сестре и перебежала…
— Вот как! — удивился Ваня.
— Да–а… И достался мой хозяин Василисе, а Ульяна уж так‑то переживала! Да, хозяин, рысь пестра снаружи, а человек изнутри…
Тут как раз они вернулись ко встречнику и пошли по левому пути. Эта дорога, хоть и неровная, вся в буграх да рытвинах, и тоже заросшая, заканчиваться пока не собиралась. Шли по ней до обеда, перекусили консервами и двинулись дальше. Солнце припекало, птицы вовсю распевали — и у всех поднялось настроение. Перкун, указывая крылом на солнышко, воскликнул:
— Эх, хорошо золотое‑то яйцо!
— Как тебе не яйцо! — проворчал Шишок.
— Всем известно, что золотое яйцо по небу катится, всему жизнь дает…
— И кто ж его снёс?
— Великая кура каждый день несёт золотые яйца, триста шестьдесят пять яичек в году. Коль не будет нестись — всему свету конец придёт… А мы от неё свой род ведём. Потому нам и доверено встречать появление яйца утренней песней. Да и как бы мы знали, когда кукарекать, когда нет — если бы не были солнцевыми птицами. Золотая Кукуй–река — родина наша, она там, на солнце протекает.
— Лешак тя забери! — хлопнул себя по бокам Шишок. — Избранная птица! Противно слушать. Вот ведь и не знаешь, про что он думает, пока клюв свой дурацкий не раскроет.
— Ну а что же там по–твоему катится? — спросил Перкун. Поскольку Шишок с ходу не смог ответить, Перкун воскликнул: — А–а, вот и не знаешь!
— Солнце — это звезда, — решил вмешаться Ваня. — Там жизни нет, и никакие реки там не текут. И оно всегда в одном месте висит, и курица его не несёт, таких огромных кур не бывает. — Тут, взглянув на гиганта Перкуна, он засомневался в своих словах, но потом почти твёрдо продолжал: — А Земля вертится вокруг Солнца…
— Ха–ха–ха! — прокудахтал демонстративно Перкун. — И ещё раз: ха–ха–ха!
— Скажи ещё, что звезды — это горох! — сказал ядовито Шишок. — А твоя божественная курица их клюёт.
— Когда надо — и склюёт, — ворчливо отвечал петух. — А пока ещё время не пришло. И в звездном лесу всякие растения растут… И горох есть, только не такой, как наш. И зверей там полно, ночью их хорошо видать. Неужто ни разу не видал? Так уж и быть, покажу тебе, как стемнеет…
— Тьфу на тебя! — сплюнул Шишок. — И говорить с тобой больше не желаю.
— Юпитер — ты сердишься, значит, ты не прав! — сказал злорадно Перкун.
— А ты откуда Юпитера‑то знаешь? — удивился Ваня.
— Я со многими знаком, только знакомствами своими щеголять не намерен.
— Не связывайся с ним, хозяин, ишь, нос‑то задрал — кур теряевских с петухами пораспугал и заважничал. Это ты орла не видал — он бы тебе живо показал, кто в небе хозяин.
— И с орлами знакомство водили. И не таких знавали — и Жар–птицу, и Стратим–птицу, и феникса. А то — орёл…
— Не надо было звать тебя, подлеца, сидел бы сейчас на своей жёрдочке — и не кукарекал, — бормотал Шишок.
— Ладно вам ругаться‑то, — сказал Ваня. — Ну яйцо — и яйцо, пускай будет яйцо. Какая разница…
Оба его спутника надулись и перестали разговаривать промеж собой. А Ване всё это казалось сущей ерундой. Он был теперь совершенно уверен, что Василиса Гордеевна — его родная бабушка. Мамку его зовут Валентиной — до чего певучее имя! Вален–ти–на–а–а! Но сердце его всё‑таки было не на месте: что же с ней случилось? Где она? Жива, нет ли? Помнит ли о своём брошенном на вокзале сыне?
А лес вокруг постепенно менялся: потемнел, появились ели, поросшие седым мхом, дорога превратилась в тропу, после в стёжку, которая петляла среди сплошного уже ельника. Бурые иглы усыпали тропинку в несколько слоёв, так что нога утопала в них, как в болоте. Ели стояли могучие, перекрывая своими лапами тропу, приходилось нырять под них, а стёжка кружила, морочила путникам головы, казала уже хоженные места. И солнце–яйцо, за ходьбой незаметно, валилось за лес. И птицы вдруг примолкли.
Перкун шел посерёдке, Ваня замыкающим. Шишок, шедший вожатым, вдруг остановился, сделав знак: постойте, дескать… Поднял палец и стал прислушиваться. Пытается унюхать верный путь? Потом рукой махнул — послышалось. Когда во второй раз Шишок остановился, дескать: «Ничего не слышите?» — Ваня спросил: «А чего там?»
— Шаги вроде…
— Ка–кие шаги? — просипел Перкун.
— Великанская курица на землю сошла — тебя высматриват…
— Ладно вам, — рассердился уже Ваня. — Ровно маленькие.
Ваня теперь шёл, напрягая слух, и ему тоже стало казаться, что чьи‑то сторожкие шаги раздаются за спиной. Он резко останавливался, прислушивался — и ничего не слышал. Это Шишок с Перкуном двигались впереди. Когда Перкун, хлопая крыльями, прокукарекал и сообщил, что московское время восемнадцать часов, все оживились, показалось, будто в деревне они и бояться нечего. Но теперь Перкуну стало блазниться[21], он говорил:
— Вот чую волка… Пахнет серым… Тут он где‑то, неподалёку…
Ваня вздрогнул.
— Лешак тя забери! — воскликнул Шишок. — Подумаешь, невидаль какая — волк… Ежели что, драться будем!
— Ну да, — попытался пошутить Ваня, — ты его так покусаешь, что он живо убежит, поджавши хвост.
— У меня шпоры подлиннее волчьих клыков будут, — крикнул Перкун, обращаясь к непроглядным зарослям и выкатывая грудь, как камазовское колесо.
— Не волка бояться надо, — говорил Шишок, — что‑то тут другое… Не то что‑то…
Вдруг из‑под самых его ног взлетела, захлопав крыльями, чёрная птица.
— Тьфу, — сплюнул Шишок — Дурной знак. Ты не потерял ли, хозяин, одолень–траву‑то?
Ваня быстро нащупал ладонку — на месте. Если бы её не было — уж давно бы сенная лихорадка прицепилась к нему. Шёл теперь, крепко вцепившись в ладонку одной рукой. А Шишок вдруг резко остановился, так что Перкун налетел на него и закудахтал.
— Сухое дерево! — воскликнул Шишок, показывая пальцем. — Я ж его, когда Перо кукарекнул, приметил. И опять оно тут стоит… Это чего такое? Кругами мы ходим. Лешак нас водит… Али мы дорогу ему перешли?! Тогда совсем худо дело…
Ваня поглядел: и правда это дерево уже попадалось им на пути, вершина его обломилась и походила на стрелу, которая указывает направление — куда‑то туда, в самую чащобу.
Шишок переобул ботинки — левый на правую ногу, а правый на левую, и Ване велел сделать так же. Дескать, сейчас запутаем лешака, ежели это его проделки, и окажемся на другом пути.
Только Ваня сел переобуваться, как вдруг откуда ни возьмись налетел вихрь, закружил вокруг них, Шишок бросился к Ване с криком: «Хозяин, держись за меня!» Ваня попытался приблизиться к Шишку, но не смог, что‑то тянуло его в противоположную сторону. Перкун изо всех сил хлопал крыльями, борясь с ветром.
Ваня воочию видел вихревые потоки, которые белой проволокой вились вокруг него, вдруг вихрь размахнулся — и подбросил его вверх, к верхушкам деревьев. Мальчик видел, как собственные сандалии кружатся над ним. В рот сунулся воздушный кулак, так что Ваня, хоть и криком кричал, а ничего слышно не было. Последнее, что он увидел сквозь залепивший глаза ветер, был Шишок, он ничком лежал внизу, на тропе, рассекавшей лес надвое, балалайка валялась далеко в стороне, а Перкуна нигде не было.
Очнулся он, услышав мирный стукоток дятла над самой головой. Зелёная, подсвеченная солнцем листва сияет вверху, а дятла не видно. Почувствовав, что с правой рукой что‑то неладно, глянул: ладонь всё ещё сжимает ладанку, так что пальцы и не расцепить. А кроме ладанки — Ваня так и обомлел — на нём ничего нет: ни рубашки, ни штанов, ни трусов. Всё унёс бессовестный вихрь. Как же теперь быть? Ваня осторожно, по одному расцепил побелевшие, скрюченные пальцы и огляделся: он был в лесу совсем один, если не считать всё того же дятла. Синяков на нём не было, руки–ноги целы, и ничего не болело, будто и не таскал его вихрь по–над деревьями. Поглядев на солнце, Ваня понял, что сейчас никакой не вечер, а… вроде как утро. Неужто всю ночь он тут провалялся… А где же спутники?! Ваня заорал что было сил: «Шишо–о–о–ок!» Послушал — отзыва нет. Позвал Перкуна — тишина в ответ. «Ау–у–у–у–у», — крикнул, послышался ему далёкий отзвук, Ваня заметался по лесу туда–сюда, но в какой стороне кричал — непонятно, решил тогда идти, куда глаза глядят. Ещё несколько раз пытался он позвать друзей — но всё безуспешно. Зато отыскал какую‑то тропинку — и веселее уже пошагал по ней, куда‑нибудь да выведет тропочка.
Лес потемнел — вроде понахмурился, и ближе придвинулся, стиснул тропу. И вдруг опять Ване послышались крадущиеся шаги за спиной. Он остановится — и шаги стихнут. Вернётся по вёрткой тропе, поглядит за поворот — никого нет. Двинется вперёд — и вновь лёгкие шаги позади него слышатся. Только теперь–то он совсем один… И нагой. Кто же это? Ваня что было сил побежал — и сзади побежали, вот–вот нагонят… Ваня уже боялся оглянуться, споткнулся, упал, глаза зажмурил, открыл: нет никого. Пошёл — опять шаги. Как в страшном сне… Вдруг послышался чей‑то тихонький, рассыпчатый, злорадный смешок. Ваня остановился. Стоит — и с места не может стронуться, ровно пришит к тропе. И тут шаги приблизились и остановились, а он и оглянуться не смеет…
Стал медленно, затаив дыхание, поворачиваться… И вдруг чьи‑то руки накинули удавку ему на шею и стали петлю затягивать. Ваня, вцепившись в горло, пытается оторвать верёвку, а она всё туже стягивает глотку. Уже нечем дышать, Ваня хрипом хрипит — и теряет сознание.
Очнулся он в непроглядной темени — ночь наступила? Нет, тут другое: дышать было тяжело, воздух спёртый, как будто он с головой чем‑то накрыт. Ваня потянул носом воздух — крепкий запах какого‑то животного шибанул в ноздри. Но не козлом пахло, Мекешин запах ему хорошо известен, а этого духа он никогда раньше не нюхивал. Руки, ноги, Ваня почувствовал, были крепко стянуты верёвками и затекли. Но ладанку не сорвали, он ощущал её легкое прикосновение где‑то возле правой подмышки. Рядом с ним шёл разговор неведомых существ, такой разговор, от которого у Вани все поджилки затряслись. Говорили двое, один голос был детский, вроде мальчишеский, другой — мужской. Слышались слова глуховато — из‑за того, что на Ване было что‑то наброшено да ещё рядом потрескивали горящие сучья, один Ванин бок подлизывал жарко полыхавший костёр. Детский голосок спрашивал:
— А может, его живьём закопать?
Мужской отвечал:
— Тут, Соловейко, торопиться нельзя, надо всё как следует обмозговать.
У Вани возникли дурные предчувствия, почему‑то ему показалось, что речь идёт о нём… В разговоре наступила пауза, которую заполнил треск сучьев, видно, костёр поворошили. Затем тот, кого назвали Соловейкой, вновь азартно произнёс:
— А давай его к верхушкам берёз привяжем и отпустим — и разорвёт его на две части.
— На две мало, надо его разрезать на тысячу кусочков, а куски по всему лесу раскидать — пускай его могилой будут желудки волков, воронов и лисиц… Или к лошадиному хвосту его привяжем, да и пустим Лыску вскачь…
— Не, Лыску жалко.
Но тут Ваня неосторожно ворохнулся — и это заметили.
— Погоди‑ка, вроде очухался. — произнёс мужской голос. — Шевельнулся, кажись… — Ване показалось, что над ним наклонились. — Много‑то не болтай.
— Я и не болтаю, — сказал обиженно Соловейко.
— Гляди, идёт уже…
Ваня, чей слух обострился до предела, услышал шаги.
— И что это вы тут расшумелись на весь лес? — произнёс певучий женский голос. — Что у вас в котле?
Соловейко с вызовом ответил:
— Пока ничего, вода кипит, а скоро мы тут кое-что сварим!
— И что же вы варить собираетесь? — спрашивал женский голос. — Птицы не подстрелили, зверя не убили, что варить‑то хотите? А это что ещё тут?
Баня почувствовал, как его потрогали за ноги.
— Не что, а кто! — отвечал мальчишеский голос. — Ни за что не угадаешь, кого мы в этот раз поймали…
— И не подумаю, очень оно мне нужно, загадки отгадывать. Ну‑ка, Большак, подвинься. Расселся тут… — Женский голос помолчал и всё‑таки спросил: — Что за добыча?
— А ты попонку‑то откинь, откинь — и узнаешь… — отвечал Соловейко.
Ваня зажмурился от белого света, метнувшегося в глаза. Дышать стало легко, он приоткрыл глаза — и увидел низко склонившееся над ним девичье лицо, распущенные волосы мазнули его по щекам, никогда в жизни не видал он такого красивого лица… Только взгляд серых глаз в стрельчатых ресницах был каким‑то странным, Ване показалось, девушка смотрит мимо него. Ванин взгляд метнулся испуганно: и он с облегчением увидел, что попона слегка только откинута, нагота его прикрыта. Вдруг девушка протянула к Ване руку — и, проведя по лицу, тут же отдёрнула:
— Ой, человек!
Ваня понял, что девушка, видать, слепая.
— Готовенький, только вымыть и освежевать, — произнёс парень лет двадцати, сидящий возле костра на здоровенном, вросшем в землю пне. На нём были солдатские штаны–галифе, дырявые — прореха на прорехе — и вылинявшие добела, и майка с какой‑то полустёршейся надписью. Обут был парень так: на одной ноге — кеда, на другой — кирзовый сапог.
— Человек‑то человек, да не простой человек! — говорил мальчишка, Ваниных примерно лет, одетый в мешок из‑под картошки; он сидел на корточках подле костра и жарил нацепленные на прут грибы. Кроме одежды, ничего странного в нём не было — ребятёнок как ребятёнок. Вот только взгляд у него… Ваню передёрнуло, когда он поймал на себе этот неистовый взгляд исподлобья. И ни в одном из этих лесовиков не было ничего необычного, разве что все, включая девушку, были одеты в такую рванину, что Ванина больничная одёжа сошла бы за костюм нового русского. Да ещё все, кроме парня, были босые.
— Какой ещё не простой? Городской, что ли? — спросила девушка, она выставила над костром худые, с длинными пальцами руки, хотя было тепло, а возле костра — так просто жарища.
— Городской‑то городской, да не просто городской… — сказал Соловейко. Он сунул низку с грибами парню и кивнул девушке: — Пошли‑ка отойдём, вишь, слушает… Он, знаешь, какой проныра, хитрован, каких мало. У, жихарь[22] недоделанный… —
Мальчишка чувствительно пнул Ваню в бок босой ногой. Ваня застонал. Девушка с мальчиком отошли в сторонку и о чём‑то шептались под нависшей осиной. Ваня, как ни прислушивался, ничего не услыхал, кроме удивлённого возгласа девушки.
Он огляделся: это был вытянутый лог, весь в кочках да колдобинах, поросший цветущим разнотравьем и редким кустарником, вокруг стеной стоят деревья, большей частью ели да осины. На том конце лога, на возвышении, широкий просвет, наверно, дорога, и там помахивает хвостом запряжённая в телегу и привязанная к стволу белая лошадь. Ванин взгляд, сделав круг, вернулся к костру.
Парень, оставшийся у костра, в упор, с тяжёлой злобой смотрел на Ваню, мальчик поёжился. Ему хотелось крикнуть: «Что я вам сделал?», но он смолчал. Видно, это какие‑то маньяки, разве найдёшь с ними общий язык? Вдруг парень, заскрежетав зубами, отбросил грибную жарёху, подскочил к Ване, откинул попону, схватил его на руки и, подняв над головой, вознамерился хорошенько шмякнуть о землю. Ваня заорал. Девушка, обернувшись, тоже закричала:
— Больша–ак! Остановись, погоди! Ты не один тут, мы все должны подумать, что с ним делать…
Большак, хоть и шарахнул мальчика о землю, но не так, как хотел. И всё же Ваня от удара едва опять не утратил сознание. Решив, что терять ему больше нечего, молчать — это верная погибель, а слова авось и помогут, закричал:
— Тётенька, миленькая, пожалуйста, выслушайте меня… Я же ничего вам не сделал… Мы к бабушке шли, тут ураган начался — я своих потерял, а эти меня догнали, и вот… Если вам есть нечего, так у меня тысяча рублей есть, это не простые деньги, возвратные… Я уверен, они вот–вот ко мне воротятся, надо только немножко подождать, а может, и тут где‑то денежка, руки‑то у меня связаны — а то бы я поискал и нашёл её. Возвратная тыща — очень полезная вещь, никогда голодными не будете. Я вам её по–честному проиграю — ваша будет. Только отпустите меня, пожалуйста. Что вы, звери, что ли? — Ваня сдерживал себя из последних сил, чтоб не завеньгать. Он лежал связанный, голый, беззащитный, а эти трое стояли над ним и смотрели. Соловейко захохотал:
— Ишь заливается, разжалобить хочет. Нашёл кого молить. Мы не звери, мы хуже… А деньги нам твои без надобности — хоть возвратные, хоть нет. Нам жизнь твоя нужна, а больше нам от тебя ничегошеньки не нужно!
Большак опять приструнил его:
— Много‑то не болтай…
Девушка же ничего не отвечала, хотя только на неё Ваня и мог рассчитывать. Потом отошла от поверженного к прогоравшему костру, подбросила валежника, сунула палец в ведёрный котел, пристроенный на поперечине, обожглась, подула на палец и сказала:
— Этой воды мало… Соловейко, сгоняй‑ка на ручей. Живо–два! Лыска запряжённая стоит. Воды много понадобится… — Достала откуда‑то длинный булатный нож, провела пальцем по лезвию. — И нож, гляди–ко, совсем затупился… Мужики называется… Давай‑ка, Большак, бери нож и к точилу.
Ваня так и обмер. Это был конец. Вот тебе и одолень–трава! Одолень–трава, одолей ты злых людей… Не одолела. Эх, бабушку бы сюда — она бы им показала, где раки зимуют! Они бы у неё не так запели! Да что! Нету тут бабушки Василисы Гордеевны! И Шишка нету, милого провожатого, и Перкуна! Один Ваня, как перст один. И мамка его неизвестная, далёкая, не знает, что хотят сотворить с её сыночком злые люди. Тут Соловейко, побежавший было с флягой в руке к лошади, воротился:
— А гад этот не утикает[23]?
Большак, который тоже уходил с поляны, крикнул:
— Как он утикает, связанный по рукам и ногам…
Девушка ласково отвечала мальчику:
— Я посторожу, Соловейко, езжай.
Но тот никак не мог успокоиться, уцепившись за девушку, бормотал:
— Обманет он тебя. Как пить дать обманет. Обведёт вокруг пальца. Он такой… Они такие… Как в тот‑то раз… Не верь ты ему…
Девушка погладила его по вихрастой голове:
— Не обманет… Разве меня можно обмануть?
— Так‑то оно так… А ты всё ж таки хорошо стереги… — говорил умоляюще.
Видно, всё же девушка успокоила его, он пошагал прочь. Приподнявшись на локтях, Ваня видел, как лихо Соловейко вскочил на телегу, свистнул молодецким посвистом, гикнул по–разбойничьи, лошадь дёрнула — и помчалась вскачь. Ехал он на телеге стоя, издалека уже донеслось:
— И без меня не начинайте–е. Я мигом сгоняю… Н–но–о–о!
Ваня с девушкой остались одни. Она что‑то делала, нагнувшись, — корешки какие‑то чистит? Порезала прямо на ладони на четыре части — и бросила в котёл. Кинула туда же пучок черемши. С черемшой, значит, вкуснее… Что вкуснее?!
— Тётенька, — зашептал Ваня, опасаясь, что Большак, ушедший недалеко, его услышит. Она обернулась, но смотрела мимо.
— Тётенька, пожалуйста, помогите мне.
— Молчи… — приложила девушка палец к губам и кивнула на ели, как будто они могли подслушать. С минуту она продолжала кидать в котел то какую‑то пахучую траву, то корешки, потом с ножом в руке пошла к Ване… Он заорал. Его перевернули к земле лицом, он ощутил, как холодное лезвие чиркнуло по боку, и совсем уже приготовился умирать, но девичьи руки нащупали его скрученные руки, и Ваня с облегчением почувствовал, что нож перерезает верёвки. Пока он, приходя в себя, разминал затёкшие пакли, она нагнулась и перерезала путы на ногах. Потом бросила нож и принялась кончиками пальцев подробно изучать его лицо, Ваня не дёргался, хотя приятного было мало. Уронив руки вдоль тела, девушка произнесла с некоторым разочарованием:
— Так вот ты какой — счастливчик Ваня Житный!
— Издеваетесь… — пробормотал Ваня. И опомнился: откуда она знает, как его зовут… Он углядел позади себя, не там, где дорога, в противоположной стороне, ещё один просвет среди деревьев. Может, там тропинка… Девушка, как‑то разгадав его мысли, сказала:
— Без меня тебе далеко не уйти… — И усмехнулась: — Не бойся, я тебя выведу.
— Одеться бы мне… — пробормотал сконфуженно Ваня, слепая‑то она слепая, а всё же… — Одежду мою ветром унесло.
Девушка нахмурилась:
— Это сложно. Погоди‑ка… Вот разве сменная рубашка Соловейкина, я её недавно зачинила. — Девушка подошла к пню, подхватила с него мешок, точно такой же был надет на Соловейке, растряхнула и подала: — Надень‑ка. Как раз тебе будет.
Ваня взял мешок из‑под картошки, на котором были поставлены многочисленные заплатки, повертел в руках и обнаружил прорези для головы и рук.
— Надевай–надевай, — говорила девушка. — Она чистая, стираная.
Ваня натянул мешок, продел руки, оглядел себя — мешок был длинный, доставал до пят.
— А вот штанов нет, уж не обессудь.
— Обойдусь, — пробормотал Ваня.
— Тогда айда! — сказала девушка, устремляясь к просвету, там и вправду была тропа. Ваня двинулся за ней. Девушка, хоть и шла на ощупь, выставив вперёд длинные руки, но двигалась споро. В некоторых местах тропа раздваивалась — и девушка, легко ориентируясь, выбирала одной ей ведомый путь. Шли молча, только пару раз слепая остановилась, прислушиваясь. Ваня испугался:
— Что? Что там?
Но она отрицательно мотала головой, дескать, ничего, и опять ходко двигалась вперед. Скоро тропа вывела их на широкую просеку, с двух сторон стеной стоял лес, просека тянулась в обе стороны до самого горизонта.
— Это что ж такое? — спросил Ваня и увидал электрические столбы с натянутыми проводами, стоявшие вдоль всей просеки.
— Это свет, — сказала девушка, подошла к деревянному столбу, потрогала его, потом прижалась ухом: — Иди сюда, послушай‑ка… Гудит. Щекотно.
Ваня подошёл и, тоже приложив ухо к столбу, услыхал смутный гул, как будто в столбе прятался пчелиный рой.
— Сейчас под светом пойдём, — сказала девушка. — Только он внутри и тут не светит. Жалко… Ты видел, как лампочки горят?
— Видел, — пожал Ваня плечами. — Ничего интересного.
— Ну вот… А я не видела. И никогда не увижу. Только знаю, что там свет идёт, — показала вверх, на провода. — Я много чего успела узнать…
— Молодец! — сказал Ваня, опять пожимая плечами.
Он увидал, что в жёлтой глине отпечатались следы каких‑то копытных животных, скорей всего домашних, — значит, до деревни отсюда не так далеко. Следы, как у Мекеши, конские ещё — Ваня очень надеялся, что не лошадь Лыска их оставила — и, кажется, коровьи… Больше всего Ване хотелось убраться отсюда подальше. Но ещё ему страшно хотелось пить, не так есть, — хоть не ел со вчерашнего дня, — как пить. Солнце стояло высоко, прямые лучи били прямо по макушке, а на просеке негде было укрыться. В следах копыт после давешнего ливня — видно, бабушкина мокрецкая погода и досюда достала — стояла жёлтая водица. Ваня, будто его кто за верёвку ладанки потянул, нагнулся к козлиному копытцу, чтоб сделать хоть пару глоточков… А девушка воскликнула:
— Иванушка, не пей…
Ваня вздрогнул:
— А ты видишь, что ли?
— Я не глазами вижу, как другие… А…
Ваня услыхал далёкий перестук поезда — и оборвал её на полуслове:
— А тут поезда, что ли, ходят?
— Ходят, — кивнула девушка и махнула рукой в сторону леса: — Где‑то там… Только я на них никогда не каталась. И Соловейко на поезде не ездил. И Большак. А ты, Иванушка, ездил когда‑нибудь на поезде?
— Ездил, — сказал Ваня. — Один раз. Ну, и ещё разок на электричке.
Тут какое‑то облако набежало ему на мысли, какое‑то воспоминание силилось ожить в нём — но не ожило.
А просека неожиданно врезалась в широкое шоссе, по которому довольно часто проезжали машины. На той стороне Ваня увидел стрелку–указатель, эта дорога, оказывается, вела на Москву. Но просека по ту сторону шоссе продолжалась — и опять уходила за горизонт. Девушка дошла до шоссе и резко остановилась.
— Ну вот, — сказала. — Дальше я не пойду. А ты переходи на ту сторону, не бойся, машины, они только шумят, а так они не страшные. Иди–иди. А я… дальше не могу идти с тобой. Мне нельзя. А они… они уже не догонят нас, не страшись.
— А эти… Соловейко да Большак, — Ваня замялся, — они кто тебе?
— Братья. Вот смотри, видишь, во–он сосна выше всех деревьев на той стороне, свернёшь от неё налево, там тропинка будет, пойдёшь по тропинке и придёшь куда надо.
— А ты откуда знаешь, куда мне надо?
— Так ты же сам сказал — к бабушке шёл…
— А ты разве знаешь её?
— Ну… не то чтобы знаю… Знаю, где живёт.
— Ага, — сказал Ваня, снизу вверх глядя на девушку. — А тебя как звать‑то?
Она задумалась, как будто припоминая, потом сказала:
— Можешь звать меня Алёнкой.
— А эти, братья твои, тебе от них не влетит?
— Не бойся, они меня не обидят. Только, Ваня, пожалуйста, никому про меня не рассказывай.
— Никому–у?.. — разочарованно протянул Ваня, он уже мысленно пересказывал Шишку с Перкуном всю ту жуть, которая с ним приключилась. Вот только встретит ли он их когда‑нибудь…
— Ни одной живой душе. Иначе плохо мне придётся. И… про братьев тоже. Хорошо? — попросила умоляюще.
— Не расскажу, — вздохнул Ваня. Хотя, если по–хорошему, надо было бы, конечно, этих братьев–разбойничков поприжать, ведь не один Ваня по лесу ходит, а ну как ещё кто к ним в руки попадёт!
— Поклянись самой страшной клятвой! — говорила меж тем Алёнка.
— Чтоб мне провалиться!
— Не так. Чтоб мне света белого вовек не увидать!
— Чтоб мне света белого вовек не увидать, если я об этом деле проболтаюсь.
Алёнка глядела на ту сторону шоссе, как будто пыталась увидеть, что там такое… Она ничего не видела, но ведь и смотреть там было не на что, всё то же самое, что и на этой. А Ваня, стараясь запомнить, глядел на девушку: её долгие пепельные волосы свесились, закрывая половину нездешне–красивого лица, склонённого чуть набок, — она всё к чему‑то прислушивалась, — костистые руки теребили линялый подол, глаза всё ещё пытались разглядеть что‑то… Ване почему‑то ни за что не хотелось с ней расставаться.
— А может, и ты со мной?! — дёрнул он Алёнку за рукав. — Пойдём, чего ты с бандитами этими…
— Они не бандиты, — нахмурилась девушка.
— Да ладно… Разбойники… маньяки тогда…
— Нет, они хорошие. Только обездоленные.
Ваня так и подскочил:
— Ничего себе хорошие! Да сейчас все обездоленные… Но не все же по лесам беспредельничают. Да ладно, чего про них‑то… Пойдём, Алёнушка, со мной, я тебя к нам отведу, авось, не снесут нас. Бабушка… не знаю, конечно, как встретит… А может, наоборот, обрадуется! Да и что — негде, что ли? В общежитии будешь жить, на работу устроишься. Во! На почту! Я объявление недавно видел: в наше отделение требуются почтальоны. Давай, правда…
Она вроде засомневалась, вопросительно оглянулась назад, туда, где оставались её злыдни-братья.
— Правда требуются? Я бы хотела быть почтальоном… Это которые письма разносят, да? Люди друг дружке письма пишут, а почтальоны носят.
— И письма носят, и газеты, и журналы тоже, — кивал Ваня. — А ещё квитанции, когда перевод придёт или там посылка.
— Здорово! — улыбнулась Алёнка. — А кто ещё требуется? Кто‑нибудь ещё требуется?
Ваня стал припоминать:
— Ну, уборщицы всегда требуются и везде, разнорабочие всякие. Мотальщицы и прядильщицы на фабрику, — это я тоже объявление видел. Во! Санитарки всегда требуются! У нас в больнице вечно санитарок не хватало. Да много кто требуется… — упавшим голосом договорил Ваня, вспомнив, что она ведь слепая.
— Много кто требуется, — как эхо повторила Алёнка, но, видно, и сама вспомнила, что перед слепыми, не то что перед зрячими, не все пути открыты, и вздохнула:
— Нет, нельзя мне, Иванушка. Кто ж меня возьмёт… — расцеловала троекратно, похлопала по спине и легонько подтолкнула, иди, дескать. Ваня и пошёл. Перебежать пустое шоссе — пара секунд. Алёнка на той стороне осталась. Замахала ему рукой:
— Прощай, Ваня, не поминай лихом…
— Спасибо тебе, Алёнушка! — опомнился тут Ваня. Вот ведь, чуть поблагодарить не забыл, а это не за съеденный обед спасибо хозяйке сказать, эта девушка жизнь ему спасла. — Век тебя не забуду! — закричал Ваня и тоже помахал ей рукой.
— Правда? Не забывай меня, Ваня, очень тебя прошу! — крикнула Алёнка.
Тут вишнёвый туристический автобус, набитый пассажирами, промчался по шоссе, закрыв на миг девушку. Проехал автобус, глянул Ваня: а Алёнушки уж нет. Осталась пустая просека, а прямо над ней — тусклое солнце, так бывает, когда смотришь на небо через осколок бутылочного стекла.
Глава 14. Суд
Ваня ещё несколько раз оборачивался, но так и не увидел больше девушку. Прошагал по просеке с километр и свернул влево, в сосняк. Сосна, которая с той стороны и вправду возвышалась над лесом, сблизи — потерялась, Ваня шёл по корабельной роще, задрав голову: но, которая сосна выше других, определить не мог. Сосны, росшие на расстоянии друг от друга, чтоб всем солнца хватало, чтоб каждое дерево могло до него дотянуться своей ветвистой вершиной, казались одинаково рослыми. Этот лес Ване очень нравился. И пахло в нём замечательно. Ваня машинально потрогал ладанку под мешковиной — она была на месте. Потом сунул руку в карман–заплату своей мешкотной рубахи и нащупал бумажку, развернул — тыща! Ур–ра! Конечно, это была его купюра, что‑то подсказывало Ване, что у лесовиков, которых он повстречал, денег не водилось. Раз бабушка Василиса Гордеевна сказала, что возвратная денежка всегда к хозяину вертается, значит, так оно и есть. Вот тыща и опять вернулась.
Так, надо искать тропинку, решил Ваня, поразмышляв и вспомнив, что говорила Алёнушка, хотя как тут найдёшь тропу, если под соснами не растут ни кусты, ни травы, среди которых можно её повытоптать. Любой извив среди корней на розоватой от старых иголок земельке казался тропой.
Ваня шёл куда глаза глядят, успел сбить все ноги: сколько он сегодня ходил‑то, да всё без обувки!.. Сосняк стал незаметно переходить в смешанный лес, вертаться надо — в рощу идти, великанскую сосну искать. Только хотел сменить направление, как вдруг видит: под крайней сосной что‑то белеется. Глаза его прояснились, и Ваня, сам себе не веря, увидал ребятёнка… Вот те на! Подкидыш! В лесу бросили, ладно его — на лавке вокзальной оставили, там хоть люди, милиция, отнесли куда надо — и всё, а тут что? На верную гибель кинули дитёку. Ваня побежал к ребёнку, который лежал, задрав кверху руки–ноги, кажись, ещё и раздетый совсем. Ещё только подбегая, Ваня понял, что с ребятёнком что‑то не совсем ладно…
Ребёночек был тот ещё: каждому, кто хоть раз имел дело с детьми (а Ваня имел, и не раз), было ясно, что от роду ему всего три–четыре месяца, потому что сидеть он ещё не мог, а лежал на спине, задравши ноги к небу, но размером был с пятилетнего. И весь каким‑то пухом порос, даже уши мохнатые. А вот ресниц у мальчика почему‑то не имелось. Отсутствие бровей было объяснимо — почти ни у кого из младенцев такого возраста бровей не бывает, а вот куда девались ресницы? Может, случился пожар, дом мальца вместе с родными сгорел, сгорели и ресницы — а он выжил…
Ребятёнок играл с большущей сосновой веткой, ветка была с шишками, он размахивал ею во все стороны, частенько попадая себе по лицу, так что удивительно было, как он ещё глаза себе не выбил. Ваня появился как раз вовремя. Он тут же попытался отнять опасную игрушку, но младенец заворчал не хуже медведя и вцепился в ветку мёртвой хваткой — как Ваня ни тащил к себе ветку, отнять игрушку не выходило. Ваня к себе тянет ветку, ребятёнок — к себе. И пересилил ведь, игрушка осталась у дитяти, а у Вани только клок сосновых иголок в жмени. Ваня вовремя не понял, какая опасность ему грозит, и получил сполна: младенец с размаху хлопнул шишастой веткой Ваню по лицу — он так и взвыл и отскокнул подальше. Под глазом тут же выросла встречная шишка — и глаз, конечно, заплыл.
— Ты чего?! — погрозил Ваня пальцем. — Драться нельзя. Ты же хороший мальчик? Утютю–тю–тю–сеньки… Идёт коза рогатая за малыми ребятами… — Ваня знал, как обращаться с маленькими детьми. В этом месте следовало легонько ткнуть средним и указательным пальцами, изображавшими рога, в пузико младенца, после чего всякий понимающий толк в играх ребятёнок заливался дружелюбным смехом. Этот же поступил для Вани вовсе неожиданно: он поймал «козу» за рога, потянул и свалил обладателя «козы» на себя, по младенческой глупости совсем не беспокоясь, что Ваня его может придавить. Что и случилось — младенец заорал благим матом, а Ваня, конечно, в мгновение ока соскочивший с младенца, принялся его утешать:
— Ой да ты, мой маленький, ой да упал на тебя нехороший Ванька! Да вот мы его сейчас накажем, вот мы ему дадим как следует, этому Ваньке! — тут Ваня занялся самобичеванием, нахлопав себя по щекам. Младенец моментально утешился, вовсю тараща на него свои круглые зеленоватые глаза без признаков ресниц.
Оставлять ребёнка в лесу никак было нельзя, но что с ним делать — Ваня не представлял. В конце концов решил тащить к бабушке Анфисе Гордеевне, если, конечно, удастся её найти.
Пока Ваня размышлял, младенец предпринял попытку затолкать ветку себе в рот, и наполовину ему это удалось. Ваня с воплем потянул полузаглоченную ветку к себе, младенец широко раззявил пасть — видно, понял, что ветку переварить ему не удастся, и Ваня сумел освободить ветку и даже отбросил её в сторону. Ребятёнок тут же перевернулся на брюхо и на большой скорости пополз к своей цацке. И тут Ваня, к несказанному своему ужасу, увидал на взгорке среди дальних деревьев — волка! То, что это не собака, Ваня как‑то сразу понял. И волк этот собирался напасть на ползущего ребёнка, потому что уставил свои глаза прямёхонько на него. В мгновение ока Ваня подскочил к младенцу, успевшему цапнуть желанную игрушку, подхватил его на руки и на подломившихся под тяжестью ногах побежал что было сил. Под влиянием ужаса, который подстёгивал его, Ване удалось то, что в другое время он ни за что бы не сумел осилить, а именно: с тяжеленным младенцем на руках вскарабкаться на ближайшую берёзу.
Только Ваня успел оседлать ветку потолще, прижав ребёнка к стволу, как волк подскочил к дереву. Он встал на задние лапы, а передние вытянул вверх, по лесине. Экий ведь матёрый волчище! И что теперь делать‑то?..
Волк принялся прыгать под деревом, вознамерившись ухватить Ваню за край мешкотной рубахи, с тем, видимо, чтоб стащить его на землю, а ребёнок, мол, после этого, как спелый плод, сам ему в пасть свалится… Но Ваня, разгадав волчье намеренье, быстрёхонько подхватил подол под себя. Волк скалил зубы и просто из себя выходил внизу и до того высоко подпрыгивал, что пару раз ему удалось доскочить до Ваниной босой пятки. «У–у, паразит», — сказал Ваня, упирая подошвы в ствол. Волк только зубами в воздухе лязгнул. Тут Ваня потерял равновесие, качнулся, но в последний момент удержался, младенец же, которого он на время перестал поддерживать, не полетел кверху тормашками, как Ване с перепугу померещилось, а остался сидеть на ветке, ровно приклеенный. Мало того, он вдруг обхватил корявый ствол ручонками и ножонками, прижался к нему щекой и захрапел, причём своей игрушки — сосновой ветки — так ведь из рук и не выпустил.
Ребёнок спал, пуская слюни, Ваня сидел, по его примеру обхватив ствол ногами, а руками мальца уже не придерживал, пошатал для проверки — малый держится крепко, и оставил, сам покрепче ухватясь за ветку. А волк, напрыгавшись вволю и приустав, уходить не торопился: сидел, вывалив язык набок, и не спускал с Вани злющих глаз.
Да, долго так‑то всё равно не высидишь… Затекут руки–ноги — и кувыркнёшься вниз, прямо серому на обед или на ужин. Смотря до куда дотянешь… А потом и очередь младенца придёт. Это при солнышке хорошо тут сидеть, а ночь наступит — ох, страшно станет, а ребёнок проснётся — есть запросит… Ваня, чтоб малец подольше поспал, решил спеть ему колыбельную, которую слыхал от санитарки Нюры, усыплявшей развопившихся не ко времени больничных подкидышей. Ваня вспомнил тут сросшихся спинами близнецов, которые пару месяцев жили в больнице, вздрогнул и подумал, что этот ребёнок очень даже симпатичный… А как умён! Попробовал бы кто‑нибудь в его возрасте так стойко себя вести: спит, вцепившись в лесину, и в ус не дует, и плевать ему на разных там волков!
Ой, дуду, дуду, дуду, Сидит ворон на дубу, Сидит ворон на дубу, Он играет во дуду, Он играет во дуду, Приговаривает: «Я поеду на базар, Куплю медный самовар, Байки–побайки, матери — китайки, Отцу — кумачу, сыну — пуговицу!»Ваня пел так‑то, уткнув подбородок младенцу в макушку и уперев в ствол глаза, а как перевёл взгляд, так и обмер. На него в упор глядело такое… Под деревом стояла настоящая Оглобля. Глаза её, — тоже безо всяких ресниц, как отметил Ваня, — были вровень с веткой, на которой они с ребятёнком сидели, а забрался Ваня довольно высокенько. По отсутствию бровей и ресниц Ваня вмиг определил, что Оглобля приходится младенцу родней. На голове её несколько криво водружён был широкий венок из полевых трав и цветов: колокольчиков, лютиков, васильков, розовых звёздочек с переводящимися лепестками, — Ваня звал эти цветы часиками. Наряжена была Оглобля в зелёный мох, но и сама была достаточно мохната, даже лицо, как у мужика, покрыто щетиной, серой впрозелень. О том, что это женщина, Ваня догадался по громадным отвислым грудям, которые у Оглобли были обнажены и свисали чуть не до колен. Волк же как ни в чём не бывало вертелся у её ног и злорадно скалился на Ваню. Тут у мальчика зародилась мысль, что, возможно, он как‑то не так понял роль волка во всём этом деле…
Оглобля же, подцепив младенца, как кутёнка, за шкирку, сняла его с дерева, повертела в громадной ручище, обсмотрев со всех сторон: нет ли какого урона, удовлетворённо поурчала и уселась, прислонившись к стволу спиной, при этом берёза ощутительно накренилась в сторону. Расположив ребёнка на коленях, Оглобля принялась кормить его — только чмок пошёл по всему лесу. Ваня остался сидеть на берёзе. Он ещё никак не мог прийти в себя. Он видел, как младенец, не переставая чмокать, размахивает сосновой веткой, ударяя мать по морде, но, видать, Оглобля принимала эти удары за наскоки мухи. Волк же сидел, сложив лапы на босые ступни Оглобли, и преданно смотрел ей в глаза.
Тут Ваня опомнился и решил, пока суд да дело, по–тихому ретироваться. Он осторожно сполз по противоположному концу ствола на землю — и только наладился бежать, как вдруг Оглобля протянула свою ручищу и так же, как только что младенца, ухватила Ваню за шкирку — только гнилая мешковина затрещала — и поставила перед собой. Волк вскочил и оскалил клыки так, что Ваня зажмурился. Оглобля что‑то сказала волку — или скорее провыла, — и тот сел, но всё продолжал ощериваться.
Ребятёнок скосил на Ваню круглый глаз и дружелюбно махнул ветвищей в его сторону, но Ваня успел вовремя отскочить. Оглобля же в упор смотрела на Ваню — только вот, что предвещал этот взгляд, понять было трудно. Вдруг вовсе неожиданно для него Оглобля попыталась заговорить по–русски.
— Ты — людёнок? — спросила она, ткнув его пальцем в бок. Ваня так и подскочил — палец заканчивался длинным когтем, и тычок вышел ощутительный. Голос у неё был какой‑то утробный, вроде она желудком говорила, многие звуки Оглобля сглатывала, но Ваня понял, что она сказала. Он кивнул и, указав на себя, сказал:
— Я — Ваня. А вы кто? Как вас зовут?
— Додола[24], — отвечала Оглобля, показав на себя. А потом, ткнув когтем ребёнка в лоб: — Березай.
— Станция Березай, кому надо — вылезай, — ни к селу ни к городу вспомнил Ваня.
Оглобля открыто глядела на него — такой открытый взгляд получался, потому что бровей и ресниц у неё не было, — а говорила сердито; хотя половина звуков и терялась по дороге, всё равно становилось ясно, что ничего хорошего для Вани слова её не предвещают:
— Зачем лешачонка тащить хотел? Зачем на берёзу влез?
Ваня показал на волка, потом на ребятёнка, а затем раскрытым, перекошенным ртом изобразил, как кто‑то что‑то ест. Додола смотрела во все свои лупатые глаза. Покачала головой, дескать, не понимаю. Ваня тогда сказал словами:
— Думал, что волк нападёт на ребёнка и съест его.
— Ярчук[25] будет есть Березая?
— Ну да — если он Ярчук…
Оглобля принялась хохотать так, что с берёзы зелёные листья посыпались. Несколько листков младенец весьма ловко поймал в горсть и, бросив титьку, засунул в рот и мигом сжевал. Додола вскочила, так что младенец чуть не упал, и оказалась так высоко над Ваней, что он только голову вжал в плечи.
— Плохо делаешь. Плохо говоришь, — сказала Оглобля. Кинула младенца Ярчуку на спину, подхватив Ваню, туда же забросила и его, что‑то скомандовала волку — и тот поскакал вперёд.
Несколько раз оборачивал Ярчук ощеренную пасть назад, щёлкал зубами, но достать до Вани не мог, босые ноги Березая были ближе, а Ванины, благоразумно поджатые, дальше. Поняв, что Ваню цапнуть не удастся, волк перестал оглядываться. А малец ещё и подгонял его своей шишковатой веткой — иногда, при сильном замахе, доставалось и Ване, но волка за дорогу младенец исколошматил так, что удивительно было, как он ещё жив остался. Ваня ехал, крепко вцепившись в волчьи шерстистые бока, и коленями ощущал тяжкое дыхание зверя. Додола, забросив за плечи свои метровые титьки, чтоб не мешали, вышагивала рядом с ездоками, ни на шаг не отставая от бегущего волка, скорее — сдерживая свой ход, а на действия сыночка не обращала никакого внимания — так что Ване в конце концов жаль стало серого. Оглобля поднимала такой ветер, такую пыль, что Ваня почти задохся. Потом ей, видимо, наскучило сдерживать себя, и она, что‑то крикнув Ярчуку, унеслась вперёд, причём позади Додолы завился вихрь — и её зелёный наряд из мха клочьями разлетелся во все стороны.
Ярчук, оставшийся без присмотра, ещё несколько раз заворачивал назад голову, клацая на Ваню клыками, но всё впустую. В конце концов он оставил мальчика в покое и припустил так, что только ветер в ушах засвистал. Как Ярчук находит путь в густом лесу — Ваня понять не мог: ни дороги, ни тропинки впереди не было, но волк бежал так, будто перед ним расстилался гладкий шлях, а может, так оно и было, деревья как будто разбегались в стороны перед волчьим носом.
Куда они мчатся, что ждёт его впереди — Ваня старался не думать. Спутников он растерял, что делать дальше — не знал… Да и мало что сейчас от него зависело. Было ясно, что они всё дальше удаляются от дома Анфисы Гордеевны… И всё же соскочить на ходу Ваня и не пытался — этому Ярчуку только повод дай пустить в ход свои клыки… От долгой езды он укачался, Березая тоже сморило, и он ощутительно прильнул к его груди, как к спинке кресла, поэтому держаться Ване приходилось за двоих.
И вот деревья расступились — и они со всего волчьего маху выскочили на опушку леса, где собралось с десяток похожих на Додолу громадин весьма внушительного вида: волосатых, принаряженных в листву и мох и, по всему, настроенных весьма воинственно. Ярчук резко затормозил — так что Ваня с Березаем, кувыркнувшись через волчью голову, бухнулись прямо к ногам стоявшего впереди сородича Оглобли, который был одет в частые сосновые ветки. А может, эти ветки росли из него?! Потому что ноги его поросли хвоей.
Березай, невзирая на колотьё, скорёхонько пополз по ближайшей, похожей на ствол, ножище. Но до вершины не долез, был осторожно отцеплен и передан Додоле, которая стояла за спиной выступившего вперед Соснового. Голова его, показалось Ване, возвышается где‑то высоким–высоко. Верзила наклонился и поглядел на Ваню круглыми, лишёнными ресниц глазами — и опять мальчик не понял, что предвещает этот открытый взгляд. Ваня попятился и оглянулся: нельзя ли убежать — и увидел небольшой домик, охотничью заимку, самый обыкновенный человечий приют. Двери заимки были подперты дубовым стволом, значит, кто‑то там сидит, может, похожий на него… Ваня с надеждой глянул в единственное окошко — но оно было закрыто, что за ними делается, было не видать.
А лешаки, — Ваня понял уж, что это они, — окружили Ваню, замахали своими ручищами, которых, мальчику показалось, было слишком много, и вдруг заухали, как филины, завыли по–волчьи, затявкали по-лисьи, затрещали, засвиристели, закаркали, защёлкали по–птичьи, а один принялся сквозь шум и гам куковать, да так похоже, будто на плече у него сидела кукушка. Ваня чуть не оглох. Лешаки совсем его затеснили, сучковатые руки царапали ему лицо, он только глаза прикрывал, чтоб не выкололи их лесные чудища.
А те вдруг отскочили от него и с топотом заплясали вокруг — как будто Ваня был новогодним деревцем. И от взмахов их ветвистых рук, от воя и грая — поднялся немалый ветер и тоже пошёл в разгул: трава в испуге прилегала к земле, ветки деревьев, окруживших опушку, с треском ломались. И одно–два не очень стойких дерева были выворочены с корнями и тяжело ухнули наземь — хорошо, Ваня успел вовремя отскочить в сторону, а то бы его как раз придавило. Он прижимал к ногам подол долгой мешкотной рубахи, опасаясь, что и она улетит, как его прошлая одежда. Ваня испытывал не страх (куда страшнее было утром, когда он лежал связанный под попоной и слушал беседу Соловейка с Большаком), а какое‑то тупое оцепенение.
Тут Сосновый, схватив Ваню за шкирку, — опять! сколько можно! как только изношенная мешковина выдерживает! — поставил его в центр опушки и крепко надавил на темя… И мальчик будто прирос к земле, не получалось у него ни ногой двинуть, ни пальцами ног пошевелить. Руками он мог размахивать в своё удовольствие, а вот шагу ступить не выходило. Мог Ваня также крениться во все стороны, делать круговые движения туловищем, плеваться, кричать, плакать, говорить — а ходить не мог. Это было очень неприятно.
Лешаки убрались к краю опушки и обнялись с деревьями, каждый со своим: один обхватил дуб, другой приобнял черёмуху, третий прижался к липе… Пары хватило не всем деревьям. Рядом с Ваней остались двое: Додола и Сосновый. Березай с волком возились под окном заимки, ребятёнок пытался встать на ноги, хватаясь за волчьи бока — и пару раз, заметил Ваня, это ему удалось. Но тут Ваня опомнился, перевёл взгляд — и опешил: обнявшие деревья стали расти на ветру, становились всё выше, выше — и вот каждый стал вровень кто с дубом, кто с рябиной, кто с елью… А Сосновый вдруг ткнул в мальчика хвойным пальцем и проорал:
— Ваня!
— Ваня я, Ваня, — закивал Ваня.
Но его только назвали, а разговаривать с ним вовсе не собирались. Сосновый ушёл к краю поляны, к корабельной сосне, оставшейся без пары, и ну вытягиваться, из себя выходить — и ведь вытянулся‑таки до самой её макушки, откуда только что взялось… Березай, Ваня увидел, уже принялся шагать, держась за волчьи бока, Ярчук делает несколько шагов, и малый косолапо передвигается за ним. Вот бы Ване так‑то… Убежал бы он сейчас куда глаза глядят — ничего хорошего для себя от всех этих манипуляций с ростом Ваня не ждал. И так‑то он был лешакам по пояс — а теперь совсем… Чего они от него хотят? Додола же… Куда она подевалась? Ваня поглядел и только охнул: Оглобля в отличие от своих сородичей уменьшалась прямо на глазах, будто земля её заглатывала, миг — и от Оглобли осталось одно воспоминанье. А рядом с Ваней стояла коротышка ростом с локоток, макушка крошки Додолы как раз упёрлась в цветок–колокольчик, росший на поляне. Вот тебе и Оглобля!
А лешаки, стоявшие вокруг опушки в обнимку с деревьями, принялись вдруг раскачиваться и дроботать[26], и в этом мерном дроботе–топоте слышалась напряжённая барабанная дробь, как будто преступника привели на казнь… Преступника? Ваня оглянулся на сторожку: ему показалось, что кто‑то пытается выйти оттуда… Вроде бревно двинулось, Ваня напряжённо вгляделся: нет, всё как было, дверь плотно прикрыта… Блазнится[27]. Додола же, в метре от Вани обнявшись с колокольчиком, топотала вместе со всеми своими стебельковыми ножками.
Гул и ветер поднялись по всему лесу, окружившему опушку, а на опушке — тишина. Что всё это значит? Что с ним будет? Поставили его, как мишень, в центре поля. Как мишень?.. Ваня почувствовал, что ноги его стали неметь… И вроде от подошв в землю какие‑то отростки побежали… Щекотно, ой как щекотно!.. А внутри твёрдо и холодно… Что — всё — это — значит?
И вдруг бревно, подпиравшее снаружи дверь заимки, отлетело далеко в сторону, и в дверной проём, как снаряд, вылетел Шишок верхом на Перкуне, а тот заорал во всю глотку «ку‑ка–ре–ку–у–у!». Мерный барабанный дробот разом стих, как по команде: раз–два! Птичий всадник приземлился посреди поляны, рядом с Ваней. «Ши–шок», — выдохнул Ваня, с трудом ворочая языком, и говорить ему стало трудно — язык распух, как колода. «Хозяин, ты живой? — прошептал Шишок, подталкивая его локтем, — никак не мог раньше вырваться: лесной дух тут кругом руководит… Домовому трудно его осилить. Это я у себя в дому всё могу, дома ведь и стены помогают, особенно постеню[28], а тут… Но попробуем — деваться нам некуда». Отвернувшись от Вани и сделав шаг вперёд, Шишок крикнул, шваркнув балалайкой о землю:
— И чего это тут деется, а, Соснач?
Сосновый, оставив свою сосну в покое, закричал по–русски, и даже довольно гладко, хотя так же, как Додола, сглатывал многие звуки:
— Домовик, уходи в дом, там твоё место, а тут — мы хозяева!
— А кто ж спорит! Дом — домовикам, лес — лешакам! Спорить никто не собирается!
— Курятник — курам и петухам! — просипел Перкун, надувая грудь колесом.
— Да только вы тут всем скопом на одного напали, — продолжал Шишок. — Нехорошо. Такие росляки — на одного маленького человека… Чего учинить‑то решили?
— Он маленький — да удаленький! — крикнул Соснач. — Мы его осудили: быть ему деревом — ваней… — А сродственники его загомонили и замахали обросшими листвой руками, дескать, так и будет, так ему, дескать, и надо. Шишок, подтянув повыше пояс полосатых штанов, нарочито засмеялся:
— Ха–ха–ха! А нет такого дерева — ваня! Ольху знаю, дуб знаю, берёзу знаю, вербу знаю, даже осину знаю — а ваню не знаю.
— Нет, так будет! — топнув ногой, крикнул Соснач.
— Ну коль так, то давай и из Шишка дерево проворь, только такое, которое с шишками, пихту али там сосну, я ведь Шишок… Коль хозяин мой будет древесным, так мне это больше его пристало…
— И я с вами! — закричал Перкун и забил крыльями. — Я буду петушиным деревом, с желтыми и красными листьями… Вечно осенним, грустным деревом… Только кукарекать я, чур, не перестану! Хотя бы четыре раза в году — весну буду предвещать, лето, осень и зиму. А по–другому я, господа лешаки, не согласен, уж вы как хотите.
Но на его крики Соснач не обратил никакого внимания, он отвечал Шишку:
— А–а, — проорал Соснач, — так это твой хозяин? А знаешь ли ты, что твой хозяин в нашем лесу учинил?
Сородичи его в это время опять принялись за старое: топотом изображали опасную барабанную дробь. И какие‑то волны побежали внутри земли, коснулись Ваниных подошв, и вновь ноги мальчика одеревенели, и что‑то от них стало отрастать и в землю втягиваться, в глазах потемнело, потом позеленело…
— И что? — спросил Шишок, упирая руки в боки. — Деревья пилить — у него ни пилы, ни топора нет, птиц стрелять он не будет, зайчишку не обидит, может, по близорукости муравья какого придавил?
— Может, и придавил, и не одного, да нам, лешакам, до тех Муравьёв сегодня дела нет! А…
Но до чего сегодня есть дело лешакам, осталось невыясненным, потому что земля между стоящими полукругом лешаками и Шишком затрещала и из‑под земли, пробив головой заросшую травой кочку, выскочил кто‑то согнутый в дугу и улетел высокенько в воздух — выше леса стоячего. Хлопнулся обратно на землю, разогнулся — и обернулся дедом, заросшим землёй по самую маковку. Дед отряхнулся от земельки, протёр запорошенные глаза, похлопал себя по бокам тулупчика и поскрёб что‑то на груди — Ваня, понемногу опомнившийся, потому что топот с появлением деда разом смолк, увидал, что это орден Красной Звезды!.. Ростом дедок был как раз вровень с Шишком. Половина лешаков при виде деда мигом уменьшилась до прежних своих размеров, другие — в том числе Соснач — остались в новых пределах. Шишок же, во все глаза глядя на дедка, уронил свою балалайку и вдруг с раскинутыми руками бросился к нему:
— Цмок[29], боевой ты мой товарищ, не узнаёшь, ведь это я — Шишок!
Дед руки в ответ не раскидывал, смотрел на Шишка подозрительно и даже выставил кулаки, чтоб отбиться от непрошеных объятий. Шишок, добежавший уже до Цмока, вынужден был так, с растопыренными руками, и остановиться.
— Шишок, Шишок я, не гляди на рожу‑то, — ущипнул он себя за щёку, — знаю, что переменился, у меня ведь теперь новый хозяин… А ты зато — каков был, таков и остался! Совсем не меняешься… Молодца Цмок, мо–лод–ца! Так держать!
Дед, видать, всё же признал Шишка — потому что подскочил метра на два в воздух и заорал:
— Шишок, миленький, ты ли это! Прости старого дурня, что сразу тебя не признал! Дай я тя расцелую! Сколько лет, сколько зим! Дорогой ты мой!
Боевые товарищи наконец обнялись и троекратно расцеловались. Шишок утёрся рукавом, чтоб смахнуть приставшую ко рту землицу, нагнул голову и принялся разглядывать орден на изгвазданном тулупчике, цокая языком:
— Значит, так тебя наградили? Что ж… Лешакам, конечно, полагалось… Лешаки хорошо воевали, а домовиков, окромя меня, почитай, что и не было… Моя награда поскромнее будет, а всё же… Мы тоже не лыком шитые, — Шишок выпятил пузо, демонстрируя медаль за отвагу. Перкун тут прокашлялся и встрял в разговор старых товарищей, вот–вот готовых пуститься в боевые воспоминания:
— Шишок, не забывай, у нас ведь закавыка[30]…
Шишок живо опомнился и скроил плаксивую рожу:
— Ох, Цмок, совсем без тебя распустились твои‑то. Фронтовиков не уважают. Хотят до бессловесного состояния довести…
Цмок грозно развернулся к своим… Трое лешаков во главе с Сосначом остались на краю поляны, остальные подвинулись было навстречу деду, но тут же быстро отшатнулись. А Цмок заорал так, что у Вани сера в ушах закипела:
— Кто тут не уважает фронтовиков?! Ты, что ли, Соснач? Как ты смел обидеть мово боевого товарища Шишка?!
Соснач, заметно севшим голосом, отвечал:
— Да ты разберись сначала, вчём дело‑то, Цмок… Спишь без просыпу, вторую весну не можем тебя добудиться, а вылез — и тоже, командуешь… Слушаешь домовиков всяких — они тебе нагородят…
— Не смей забижать Шишка! Он Родину защищал, когда ты ещё зелено молоко из титьки сосал!
— Да знаем, знаем… Но ты дело‑то выслушай сначала… У нас с Додолой этой весной, аккурат в берёзозол[31], лешачонок народился…
— Ох! — взвился в воздух Цмок. — Вот радость так радость! Молодец, Соснач! И Додала хороша! Уж сколько лет лешачонков не рождалось в лесах, — сказал он Шишку, который заметно при этом известии приуныл.
— А этот вот, — крикнул Соснач, показывая пальцем на Ваню, — хозяин твоего любимого Шишка, утащить его хотел!
Цмок обернулся к Ване и внимательно поглядел круглыми, тоже без ресниц, но очень проницательными глазками — Ваня, после прекращения барабанного топота пришедший в себя, качал головой:
— Я хотел спасти Березая, думал, что волк…
Но Цмок замахал на Ваню рукой, дескать, замолкни — и Ваня замолчал, а дед, помотав головой, вдруг согнулся и стал трястись, как в лихорадке, Ваня даже испугался, уж не помирает ли… Но Цмок беззвучно смеялся, схватившись за живот— туг смех его выскочил наружу и оказался таким громогласным, что с ближайшего дерева всю листву сорвало. Чуть поутихнув, Цмок сказал:
— Сколько лет на свете живу, а такого чуда не видывал: чтоб человек лешачонка унёс! Лешаки таскали человеческих детёнышей, и частенько, особливо в прошлом, а чтоб человек лешака утащил — такого, с тех пор как леса стоят, не бывало!
Цмок опять принялся хохотать, за ним следом захохотал Шишок, Перкун выдавил из клюва два–три смешка, Ваня засмеялся с облегчением, хохотали лешаки, окружившие Цмока, и последним заржал Соснач — от всеобщего этого хохота посрывало листья уже со всех окружавших поляну лиственных пород. Все ещё хохотали, а Ване стало не до смеха: он углядел, что Березай, мало–помалу с помощью Ярчука подвигавшийся от заимки вперёд, достиг малютки Додолы, которая тоже тихонько посмеивалась в кулачок. Младенец оставил волчий бок и, упав на карачки, с размаху цапнул новую игрушку и потащил в рот… Ваня, всё ещё пришитый к одному месту, шлёпнулся на бок и, дотянувшись, успел схватить ребятёнка за запястье. Больших усилий ему стоило остановить занесённую руку младенца… Кулак с зажатой в нём вопящей по комариному Додолой всё же замер на полпути к раззявленному рту Березая… Тут Соснач увидал, в чём дело, — и поспешил на помощь Ване: расцепил кулачок малого и спас Додолу от неминучей страшной гибели в пасти сына.
Изрядно помятая Додола потрясла головой, чтоб прийти в себя, и поспешила вернуть себе прежний оглоблинский рост. Березай заливался страшным рёвом, требуя назад интересную игрушку. Ярчук слизывал ему слёзы. А Ваню лешаки чуть не убили, похлопывая по плечу, пожимая руки, подталкивая и всякими другими ощутительными жестами выражая своё одобрение тому, как он содействовал спасению бедняжки Додолы.
Глава 15. Свадьба лешака
Ваню оказалось не так‑то просто освободить, он уже успел пустить корни, хоть и тоненькие, а всё ж… Хорошо, у Шишка в котомке нашлись ножницы — он, встав на карачки, разгрёб руками землю и по одному стал отрезать эти мерзкие корешки, стараясь резать поближе к ступне. Ваня только орал — потому что резал Шишок по живому. Когда с последним отростком было покончено — Ваня смог оторвать ноги от земли, но идти всё равно не выходило. Сделал шаг — и рухнул, казалось, ступни поджаривают на медленном огне. И ноги не гнулись в коленках — ровно деревянные… Соснач подхватил его и перенёс в заимку, а уж тут на помощь хворому пришла Додола, она смазала кровавые Ванины раны какой‑то пахучей мазью — и они перестали кровоточить и болеть.
Ваня лежал на матраце, набитом свежим духовитым сеном, на деревянном топчане, как очень важная птица, а лешаки ходили его проведывать. Шишок сидел с ним почти безвылазно, он то и дело смазывал подошвы мальчика Додолиным лекарством, чтоб раны быстрее затягивались. Чаще всех из лешачьего племени больного навещал Цмок. Хотя, Ваня подозревал, что больше, чем к Ване, он ходит к Шишку. Боевые товарищи не могли наговориться, вспоминая военные годы, хотя порой спорили до хрипоты. Перкун же заметно скучал в их присутствии — и, только Цмок на порог — Перкун из дому. А на воле он попадал в лапы Березая, который уже один, безо всякой волчьей помощи, вскачь носился по опушке леса. Завидев Березая, Перкун с кудахтаньем удирал от лешачонка, а младенец с бычьим рёвом бросался в погоню. Сделав так‑то несколько кругов, петух не выдерживал гонки, взлетал на ближайшее дерево и оттуда с тревогой поглядывал на лешачонка, который делал бешеные попытки взобраться на дерево — правда, пока безуспешные.
Ваня наблюдал за ними в окошко заимки. Раны его уже затягивались, но ноги по–прежнему не гнулись в коленях. Ваня стучал кулаком по голени, скрёб погрубевшую тёмную кожу, очень похожую на кору, отковыривал её, как делал с засохшими болячками (под корой обнаруживалась молодая розовая кожа) — и вздыхал… Хорошо, конечно, что Шишок поспел вовремя, что Цмок проснулся, — и Ваня не стал деревянным ваней. Но плохо, если он не сможет теперь ходить — как тот парализованный, который лежал однажды в инфекционке. Правда, Додола обещала, что ноги расходятся. Ваня пробовал вставать, делал два–три шага — и падал, но попыток не прекращал.
Иногда Додола приходила с Березаем, который, усевшись на топчан, тут же заводил пряточную игру: закрывал лицо затрапезным рукотёром[32], оставленным в заимке[33] каким‑то охотником, и, разведя руками, кричал: «Тютю!», дескать, меня нету на этой земле, я пропал с неё безвозвратно. Ваня заглядывал под топчан, горестно взывая: «Где Березай? Нету Березайки!» Потом совал голову в окошко — и на воле не было злополучного Березая. После того как мальчик заглядывал в котомку — где тоже не оказывалось лешачонка, Ваня стаскивал с замершего младенца рушник — и радостно кричал: «А–а, вот он где, этот Березай! Нашёлся!» Лешачонок заливался утробным смехом, и долго его не могли остановить.
Додола страшно переживала пропажу сына — и следом за Ваней искала его и под топчаном, и за окном, и в котомке… После каждой неудачной попытки отыскать потерю всё больше пугаясь и всё шире распяливая круглые глаза. Когда Березай находился — она вздыхала с облегчением и принималась тискать его, обнюхивать, облизывать — не веря своим глазам. И хохотала вместе с лешачонком так, что с полок валилась на пол увесистая деревянная утварь. Игра эта страшно нравилась обоим: и сыну, и матери. И если бы не Перкун, с которым Березай также очень любил играть (чего не скажешь о петухе), не было бы Ване от малого лешака никакого покою.
Цмок объяснил как‑то, что лешачата начинают сидеть, ползать и ходить одновременно, причем прежние делали это, когда им исполнялось два месяца от роду, а Березаюшка приотстал. Да и о чём можно говорить, когда воздух в лесу стал не духовит, а ядовит… Тучи приносят вонькие дожди, путные грибы не растут, зато мухоморы да поганки вызревают с голову лешачонка, деревья — гниль да труха, лешаки пошли не те, дерутся между собой до смерти, стариков не уважают, людишек пугать вовсе разучились, в лес люди идут, как к себе домой, и вообще, по всему видать, настали последние времена: лешакам скоро придёт конец, а тут уж и от лесов ничего не останется… Вот и пример оскудения рода: на свадьбу Соснача с Додолой прибыло меньше двух десятков лешаков со всех русских лесов, ждать больше некого — разве из Сибири кто припожалует.
Допреж[34] того свадьбу не праздновали, потому что не могли добудиться Цмока — а теперь к ней усиленно готовились. Ваня очень хотел встать на ноги до пира, он никогда ещё не бывал на свадьбах: ни на человечьих, ни на лешачьих. Хотя и поспешать надо было за невидимым‑то мелом — уже пролетели август и большая часть сентября. Вот как права оказалась бабушка Василиса Гордеевна, говоря: кто знает, сколь они проходят!.. Но на свадьбе, сказал Шишок, погулять им придётся, тут уж как хочешь, никогда лешаки ни людей, ни домовиков, ни тем более петухов на свадьбы свои не звали, а тут на–ко! позвали — а они откажутся… Обиды будет на сто лет вперёд, не расхлебаешь… Как в тот раз!
Ваня уже давно выяснил, что случилось в теряевском лесу в тот раз, когда его занесло к братьям-разбойникам и сестрице их Алёнушке.
Оказывается, они тогда нечаянно перешли дорогу Сосначу — что у лешаков считается дурной приметой, и тот напустил на путников вихрь, который и разметал обидчиков в разные стороны: кого куда. Шишок унюхал Ванин след, пошёл по нему — но обнаружил только котомку на верхушке высохшей сосны, чуть шею себе не свернул, котомку добываючи: верхушка‑то обломилась, и Шишок кувыркнулся вниз, но хозяйскую вещь из рук не выпустил. А Перкуна вихрем принесло к лешакам, прямо как на блюдечке прибыл петушок. Шишок пошёл вслед за ним — да и сам попал в лапы к полесовым.
В прежние‑то времена, рассказывал Шишок, лешаки с домовиками ох не ладили, ох воевали, а как повывелись и те, и другие — так и войны сошли на нет. Но память о давней вражде сохранилась, и потому домовика на всякий случай, до выяснения всех обстоятельств, задержали. Как Шишок уже объяснял Ване, пересилить лешаков в их лесном доме он не мог, вот и сидели они с Перкуном до поры до времени взаперти. А как увидал Шишок, что и хозяин к лешакам угодил, тут уж он, конечно, набрался силушки — домовик ведь как устроен? за хозяина в огонь и в воду! сам пропадай, а хозяина выручай! — вот и выбрались они с Перкуном из лешаковой заимки–ловушки. Кстати сказать, охотничью заимку лешаки арендовали на время, но, если бы кто и пожаловал в глухомань, решив поохотиться, у лешаков имелись способы избавиться от незваных владельцев заимки.
— А что ж с тобой‑то, хозяин, приключилося? — спрашивал Шишок. Ваня, помня Алёнкин наказ, вначале отмалчивался, потом сказал, пожав плечами:
— Да ничего такого, бродил и бродил по лесу до посинения, пока на Березая не набрёл.
Шишок глядел пристально, вроде догадывался, что Ваня чего‑то не договаривает. Мальчик закрывал тогда глаза, показывая, что устал и спать хочет. А Шишок выметался на двор, где помогал лешакам устанавливать столы для свадебного пира. Шишок оказался мастером на все руки, и руки эти лешакам, которые мастеровитостью не отличались, очень пригодились. Инструмент у лешаков был невидимый, но очень хороший, Шишок, во всяком случае, его хвалил. Невидимый топор в видимых руках Шишка стучал почём зря, пила вжикала, молоточек потюкивал — тюк да тук — и вскоре на поляне стояли уже крепкие, высокие, под рост лешаков, столы да лавки. Был и особый стол — низенький, как вроде для ребят, но на самом деле за ним должны сидеть Цмок с Шишком, да ещё Перкун с Ваней… Если мальчик не сможет выйти, Соснам его на руках обещался доставить на место. Перкун очень надеялся, что Березая не подсадят сюда же. Немало хлопот петуху доставлял и волк. Перо жаловался, что Ярчук так и ходит вокруг него кругами, ходит да облизывается… Хорошо ещё, что волка часто усылали с какими‑то поручениями, поэтому отираться вокруг заимки у него времени почти не было.
В конце концов Ваня, хоть и прихрамывая, стал ходить. Вначале только по заимке, а после и по земельке. И первым делом пошёл посмотреть корешки, которые успел пустить, когда лешаки начали превращать его в дерево. Выбрал момент, когда лешаки разбрелись кто куда по лесу, подобрал на ходу острую палочку и подошёл к тому стоячему месту. От окошка заимки его высокие столы укрывали — Ваня почему‑то стеснялся своего любопытства — ковырнул землю и увидал корни… Белые, как человеческое тело, но похожие на тонкие, извитые корешки саженцев. Корни уже присохли. Ваня выкопал один, взял в руки — и вздрогнул, как будто свой отрезанный палец достал из земли… Отбросил далёко в сторону. Потом решил обратно закопать.
Ване представилось, как рос бы он тут посреди опушки, руки потянулись бы кверху, к солнышку, да так и замерли, покрылись бы постепенно листвой, в раскрытом рту, как в дупле, поселились бы птицы…
Весной бы птенцы из яичек вылупились, птицы бы песни распевали, а Ваня бы слушал… Слушал бы и спал, спал и слушал. И так Ване явственно это привиделось, что он опять почувствовал прежнее онемение в ногах, а во всём теле неведомое томление, и едва сумел сойти с корневого места. Больше он к своим корням старался не приближаться.
И вот настал долгожданный день свадьбы. Ваня немножко погрустил о том, что все дети в этот сентябрьский день идут в школу и только он один на лешачью свадьбу, но недолго эта грусть продолжалась — потому что ноги у него совсем расходились, он даже с утра попрыгал на них: на левой, после на правой.
— Ну как? — спросил у наблюдавшего за действом Шишка.
Шишок поднял вверх большой палец:
— Молодца, хозяин, не хуже Цмока скачешь. Коль так дальше дело пойдёт, не токмо пол, а и потолок лешакам прошибёшь!
Шишок надраил свою медаль так, что она стала похожа на второе солнце. Ваня оделся в сменную тёплую одежду, которую предусмотрительная бабушка затолкала в котомку — вот ведь, даже клетчатое пальтишко не забыла положить! А Соловейкину мешкотную рубаху мальчик сунул на место сменки — жалко почему‑то было её выкидывать… Шишок, хоть Ваня вовсю отнекивался, отдал ему больничные ботинки, дескать, у него лапы и так не отмёрзнут — мохнатые, а у Вани, к несчастью, ноги лысые, забирай, дескать, хозяин, назад свои башмаки. И шапку от Святодуба пора было надевать — землю по утрам серебрил иней. А лес совсем пожелтел!
— Самый мой любимый цвет, — говорил Перкун. — Как будто всё ещё находишься в яйце, и кругом — желток… Красота!
К свадебному дню Перкун почистил пёрышки — и стал просто царь–птицей.
В сумерки, так‑то принаряженные, выметнулись все трое на поляну, где уже собрались лешаки, наряд которых, как и у лесных их собратьев, тоже был в жёлтых да багряных тонах. Только жених, как окружающие сосны, был во всем зелёном, на голове его сидел венок из сосновых веток со свисающими там и сям шишками. На Додоле венок был из золотых колосьев, и сама она наряжена была где в колосья, где в пожухлую траву со мхом. Березаю сплели пояс из берёзовых веток с золотистой листвой и такой же венок, венок он тут же содрал с головы и сжевал, а пояс пока оставался целым. Орденская звезда Цмока горела ярче, чем звёзды на кремлёвских башнях в полночь. А в небе одна за другой вспыхивали потаённым блеском настоящие звёзды. И огромная, налитая желчью луна выкатилась из‑за леса. Ещё одна важная гостья.
На столах стояли липовые резные ендовы[35] ведёрной вместимости и ведёрные же братины[36]. Внутри серебрились загодя припасённые весенние соки деревьев: берёзовый и ольховый, черёмуховый и вязовый, липовый и ясеневый, сосновый и еловый, можжевеловый и пихтовый — от которых лешаки пьянели пуще, чем от браги. Пили за здоровье молодых и их наследника, за здоровье всех лесов и каждого дерева в отдельности. Ваня отхлебывал помаленечку, а остальные выдували ведёрные сосуды — и хоть бы хны. Перкун не отставал от лешаков — брюхо его повело набок, но петух считал своим долгом поддержать питиём каждый тост. Куда только вмещалось!
Шишок, едва двумя руками подняв ендову с берёзовым соком, крикнул:
— За здоровье Березая!
— За здоровье наследника! — подхватили те, кто знал язык.
И Перкун орал со всеми — тем более что самого наследника за их столом, к счастью, не было. Он сидел на большом столе подле матери, окунув голову в ендову, которую не мог поднять, и лакал вкусное пойло, ровно волчонок. Шишок лихо выпил до дна вместительный сосуд — и упал на лавку.
И вот в разгар пира пожаловал новый гость. Вначале раздался шум — как будто рядом заплескалось море. Потом на гребне передних деревьев показалась рыже–коричневая волна, и вдруг переливающийся на солнце золотой скоричнева водопад ухнул вниз, на опушку, — и разлился по ней, накрыв собой всё и вся: столы, гостей, заимку. «Да это же белки!» — понял Ваня. И по колено в волне шёл ещё один могучий лешак, одетый совсем по–людски. Соснач что‑то заорал и, оставив свою Додолу, поспешил навстречу гостю.
— Кедраш, — сказал Цмок. — Из сибирских лесов. Белок пригнал. У нас белки‑то совсем повывелись. В самый раз подарочек.
Две белки прыгнули Ване на плечи — ровно генеральские погоны. А оттуда одна сиганула на голову Шишка, другая перелетела на голову Цмока, после — на землю, и обе стали неразличимы в беличьем потоке. Беличье море постепенно схлынуло — белки ушли дальше в леса, а Кедраш остался.
Урон пиру, который нанесли зверьки, оказался не так уж и велик: белки утащили все орехи со столов да перевернули несколько братин. Березай поймал пару белочек за пушистые хвосты и, хоть был искусан в кровь, ни за что не хотел выпустить из рук новую забаву. Ваня сунул руку в карман, достал свистульку — и стал свистать. Лешачонок от удивления разинул рот и разжал руки, чем белки незамедлительно воспользовались — и рыжими каплями покатились догонять беличье море. Ваня протянул свистульку Березаю, тот сунул её в рот и, выпучив и так‑то круглые шары, дунул — и Ванину шапку едва не снесло поднявшимся ветром. Остальные лешаки мгновенно заинтересовались игрушкой. Соснач, недолго думая, отнял свистульку у сына, приложил к губам, засвистал — и деревья понагнулись[37] в поклоне. Несмотря на вопли Березая, и остальные лешаки хотели свистануть, и свистали, навевая всё новые и новые порывы ветра. Шишок, чья полосатая пижама надулась воздушным шаром, поднялся с места и попытался переорать вой ветра:
— Это свадебный подарок молоды–ым — от нас трои–и–и–х.
Лешаки услышали и захлопали в ладоши.
— По–моему, наша свистулька, хозяин, им больше глянулась, чем белки Кедраша! — самодовольно ухмыльнулся Шишок.
Подсвистанное веселье воцарилось с новой силой. Цмок предложил тост за фронтовое братство — и опустошил братину с ясеневым напитком. Глаза у Шишка оказались на мокром месте, он закивал, промокнул слёзы шерстистой ладонью и выдулил братину с ольховкой. Друзья обнялись и затянули:
Вьётся в тесной печурке огонь, От поленьев смола, как слеза, И поёт мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза…— Эх, хозяин, — говорил разомлевший Шишок, — если б ты видел, как Цмок полк немцев в болото завёл…
— Как Иван Сусанин?
— Почему как?.. Он и был Иван Сусанин…
— Кто? — не понял Ваня.
— Кто‑кто — Цмок… Это в тот раз, когда с полячками разбирался. Принял на себя вид этого самого Ивана и завел поляков в непролазную топь.
Ваня вопросительно поглядел на Цмока, а тот согласно кивнул, дескать, так оно и было.
— Ничего себе! — удивился мальчик. — А все думают, что это Сусанин жизнь за царя отдал…
— На самом‑то деле Иван, тьфу, вернее, Цмок, конечно, не утонул вместе с врагами, потому как болото для него — дом родной. Ну а пытать его — пустой номер.
— Вот так всегда, — просипел Перкун, — кому зёрнышки, а кому — камешки.
Шишок же продолжал:
— Ну и с немцами Цмок так же поступал — прикинется местным полицаем и ведёт их прямиком в болото! Да и поляки не первые были — давненько он повадился ворогов в топь тащить. С татар такую привычку взял…
Цмок повернулся к Ване:
— А кто виноват — что враги к нам суются? Вы — люди. Знаешь, лесун Ваня, в каждой земле есть семь священных дубов, ежели срубить их — то погибнет та земля. На них она держится. Как ведь перед последней войной было? Пять родительских дубов люди сгубили на лесоповалах. Хорошо, лешаки спасли два последних, отпугивали людей, чтоб не совались, куда не надо. И едва ведь в той войне выстояли. А нынче мало лешаков осталось — и людишки совсем распоясались. Слух пошёл, что на шестой дуб руки наложили. Одно родительское дерево теперь осталось. Повалят его — и конец Руси–матушке…
Ваня вспомнил про Святодуб — бабушка Василиса Гордеевна говорила, что это родительское дерево, уж не он ли тот шестой дуб, на который руки наложили… Но ведь он должен был прижиться в хорошем месте… А… если он седьмой, самый последний?..
— Э–эх! — махнул рукой Цмок и повернулся к лесу передом.
Шишок уронил голову на руки и призадумался. Но Перкун тут закукарекал — и Ваня с Шишком немного ожили. Цмок повернулся теперь к лесу задом и, решив, видать, перейти от грустной темы к более весёлой, спросил:
— А ты какой напиток, Ваня, уважаешь? — кивнул на братины и ендовы, заставившие стол.
— Липовый, — отвечал мальчик.
— А я — ясеневый. А осиновый сок мы, лешаки, не уважаем, чистая отрава!
И тут пожаловал ещё гость, вовсе, по словам Цмока, нежданный. Вновь широкий поток выплеснулся из лесу и разлился по опушке, теперь уже серый. Ваня на этот раз скорёхонько разобрался, что это мыши. На переднем здоровенном мыше сидел верхом мужичок с локоток и погонял его хворостиной. Мужичок был в плетённой из соломы рубахе с торчащими там и сям колючими охвостьями, а на груди его был приколот внушительный орден, прикрывавший, ровно щит, половину тела мужичонки.
— Славы, третьей степени! — мигом определил Шишок. А Цмок заорал:
— Рожнак, чтоб мне раньше зимы провалиться!
Рожнак же, соскочив с мыша — тяжёлый орден повис до колен и заметно тянул мужичка к земле — что‑то сказал по–своему.
— Вот ездовые лисы‑то по норам разбежались! — провожая взглядом серое мышиное море, пробомотал Цмок. Этот подарок, видать, не шибко‑то пришёлся лешакам по вкусу.
Рожнак же уселся за их стол, вернее, на их стол, нырнул в братину и стал пить изнутри, одновременно гребя руками и ногами, чтоб держаться на плаву, и убыло прилично… Выныривать не спешил, тем более что тяжёлый орден тянул его ко дну, и Цмок, решив, что мужичку с локоток достаточно, вытащил его за шиворот и положил на стол сушиться. Рожнак отряхнулся, встал и заорал:
—Wo ist meine Tochter?[38]
— Чего это он? — опешил Ваня.
А Цмок сказал:
— Он по–немецки лучше гуторит, чем по-русски… Издержки войны…
Тут пожаловал Соснач, неся вновь умалившуюся Додолу в руке, осторожно раскрыл ладонь, и та резво перепрыгнула с ручищи мужа на стол. Рожнак с Додолой обнялись и расплакались. Цмок громким шёпотом объяснял, что Рожнак был против брака дочери с лешаком, дескать, полевицы должны выходить за полевиков, и обещал проклясть ослушницу, но вот, значит, простил — раз пожаловал на свадебку.
— Неравный, конечно, брак‑то! Соснач поднял её до себя, — говорил важно Цмок. — Бегала бы сейчас по полю клоп клопом. Ведь как рожь да пшеницу уберут — так полевики ещё меньше обычного становятся, как раз вровень со стернёй. Но, конечно, выхода у лешака не было — лешачих‑то сейчас днём с огнём не сыщешь. Как сквозь землю провалились…
Шишок, бренча на балалайке, азартно пел:
Я на горку шла, Тяжело несла — Уморилась, уморилась, уморилася!Додола тут же подхватила песню колокольчиковым голоском, с полевым акцентом:
Тяжело несла в решете овса, В решете овса полтора зерна — Уморилась, уморилась, уморилася!Балалаечник заиграл тут новый ухарский мотив, а примирившиеся Рожнак с Додолой на радостях пустились в пляс. Рожнак пошёл вприсядку, при каждом приседании мужичка орден бряцал по столешнице. Додола же, наряженная в пшеничные колосья, кружилась, ровно юла, — и у Вани в глазах замелькали золотые пятна. Тут Березай, которого не устерегли, подбежал к столу и только нацелился схватить нового родственника, как попал в руки Цмока, и мог только издали глядеть на занятную пляску. В руки дедушку ему так и не дали. И дедушка, которому указали на Березая, мог только из‑за края ендовы полюбоваться на резвого внучонка.
Додола так до конца свадьбы и осталась в привычных для отца размерах, чтоб не расстраивать его. Когда Соснач унёс бурно протестующего сына и можно было уже не опасаться, что внук нанесёт дедушке с матерью какой‑нибудь ущерб, фронтовики опять пустились в воспоминанья. Цмок говорил:
— Вы не глядите, что Рожнак ростом не вышел, мал золотник, да дорог! Он ещё нас с Шишком за пояс заткнёт! Рожнак ведь у нас разведчиком был, да–а, как Рихард Зорге… Из немецкого штаба такие документы таскал, которым цены не было! Где, на каком направлении наступать немчура собирается, сколько где танков сосредоточено или другой какой техники — всё узнавал. Между сапог гитлеровцев проскочит, те и не заметят! Под носом орудовал — никому и в голову не приходило, что такая мелочь может столько урону нанести… Не–ет, уж когда война, тут мы все заодно: и лешаки, и домовики, и полевики — все на помощь людям, тут уж раздоры долой! Землю–матушку спасать надо, чужие Русью завладеют, дак никого из нас не останется… Да разве бы вы без нас в той войне выстояли? — пихал Цмок Ваню в бок. — Не выстояли бы! И сам Сталин, говорят, из наших был, из лешаков…
Ваня только глаза выпучил.
Но тут язык у Цмока стал совсем заплетаться, он вдруг заговорил по–лешачиному, и мальчик больше ни слова не мог разобрать. А Шишок уж давно храпел, уткнувшись носом в туесок с клюквой. Перкун взлетел на высокую сосну от греха подальше и тоже дрых.
Рожнак, нырнув в очередную братину и выхлебав початую жидкость до капельки, спал на дне, уютно свернувшись калачиком, колючий орден Славы подложив под голову. Муж подхватил Додолу, охранявшую отцовский сон снаружи сосуда, и утащил в тёмный лес. Пир кончился — лешаки разбредались по своим угодьям. Ваня, глаза которого неудержимо слипались, пошёл спать в заимку.
Глава 16. У Анфисы Гордеевны
Утром путники наконец распрощались с лешаками, которые, оказывается, прекрасно знали, где живёт Анфиса Гордеевна.
— Ах–ха–ха! Как не знать, — отвечал на вопрос Шишка раззевавшийся Цмок. — Обижаешь… Уж полесовых‑то мы всех знаем. Мало что заимки, сторожки да лесные балаганы у нас ах–ха–ха! простите! все наперечёт, а уж таких лесных старушек держим на особой примете. Анфиса Гордеевна! Как не знать!
Соснач качал головой:
— Ну всё — уедете вы, и Цмок сквозь землю провалится! А ведь осенью только пахнуло… Всего ничего побыл с нами, и опять дрыхнуть! Старость не радость!
Но Цмок прицыкнул на него, дескать, и не думает он проваливаться, ещё погреется на бабьем солнышке‑то… Он снял с себя волчий полушубок и, невзирая на протесты, отдал Шишку, шепнув потихоньку:
— Мне под землей‑то тепленько, а тебе ещё бродить и бродить по непогоде. Прав ведь Соснач, чегой‑то меня в сон клонит… А–ха–ха! А не хочешь сам носить — отдай вон хозяину свому.
Шишок полушубок взял. Ваня простился с лешаками, особо — с Березаем, которого попытался поднять, подхватив за подмышки, как в первый‑то раз, но чуть пупок не надорвал, — Березай заметно потяжелел с того разу. Тогда Ваня расцеловал лешачонка в обе щеки. Перкун, повторяя за Ваней, тюкнул клювом Березая по лицу, но тот только щёки потёр, попытался схватить петуха за лапы либо за крыло, но не успел, — Перкун‑то был наготове и вовремя отскочил. Додола, которая опять уже приняла оглоблинские размеры, наклонилась, расцеловала Ваню и сунула ему на память Березайкину игрушку — сосновую ветку, с шишками.
В провожатые им дали Ярчука, а шофёром ехал Рожнак, он отстегнул свой орден, отдал на хранение зятю, и не успел никто глазом моргнуть, как мужичок уменьшился до размеров мизинца, забрался по волчьему шерстистому боку до уха серого и влез туда, ровно в кабину. Шишок заскочил на Ярчука, следом с опаской и оглядкой на спину волка взлетел петух, — серый с досады только зубами щёлкнул, — а последним уселся Ваня. Ярчуку мало удовольствия доставило поручение лешаков: вся шерсть у него стала дыбом, он то и дело ощеривал клыки, но, когда Додола подошла к нему и что‑то шепнула в порожнее ухо, и серый присмирел. Незваные гости ещё раз распрощались с хозяевами — и волк с седоками помчался вперёд. Ваня оглянулся: опушка, на которой осталась семья лешаков, скрылась за деревьями. Волчий хвост все следы замёл. Лес позади, лес впереди, и кругом один только лес.
Рожнак из головы волка давал команду, куда скакать, когда поворачивать и из уха зазря не высовывался. Солнце уж стояло высоко, — петух кукарекнул ему встречную песню, Ярчук только уши прижал, — и вот домчались до места. Лес расступился, открылась светлая широкая поляна, в преддверии которой волк резко остановился. Но Ваня уж был учёный, поймался за Перкуна, а тот распустил крылья — и вместе благополучно слетели с волчьей спины на землю.
Шишок же кувыркнулся через волчью голову, встал и, по–мужицки ругнувшись, отряхнулся. Рожнак выглянул из уха и пропищал что‑то неслышное. Шишок понагнулся к нему, приставив ладонь к уху:
— Ась?
Рожнак опять запищал:
— Hier wohnt eure Oma![39]
— Тьфу ты! — сплюнул Шишок. — Ладно, сами разберёмся. Спасибо и на том. Езжай, разведка!
Волку дважды приказывать не пришлось, он мигом развернулся — и след его вместе с водителем простыл.
Перкун покачал хохлатой головой:
— Думал, живым не доберусь!
— Да уж, — подхватил Шишок, — такого ещё в новейшей истории не бывало, чтобы волк петуха возил!
Посмеялись — и Шишок, опустив лицо в мохнатые ладони, вдруг выглянул из них резко помолодевшим, видать, таким Ваня будет лет в тридцать, и, не поднимая глаз, принялся усиленно драить свою медаль. Мальчик только повнимательнее вгляделся в своё будущее лицо — и ничего не сказал. Перкун же просипел:
— И чего это ты лица меняешь, как перчатки? Милиции, что ли, боишься? Так в здешних лесах милицию днём с огнём не сыщешь.
Шишок ничего не отвечал и только сильнее начищал медаль полой Цмокова полушубка — хотя она и так уже блестела до рези в глазах.
Пооглядывались: на поляне не было видно никакого жилища. Обошли её кругом, углубились в лес — опять ничего. Осмотрели даже верхушки деревьев — кто знает, что может этой Анфисе Гордеевне в голову втемяшиться… И там никакого самого завалящего шалаша или хотя бы простого настила не имелось. Шишок говорил, что в сорок втором году, когда он по партизанским делам ходил к Анфисе, у неё была изба как изба, всё честь по чести, хоть и в непроходимом лесу стояла. Место вроде то, а где же дом‑то? Не случилось ли чего со старушкой?!. Вернулись на прогалину, Шишок сложил ладони рупором и скричал:
— Анфиса!
Ване послышался чей‑то смешок… Решили все вместе позвать бабушку и по команде Шишка заорали хором:
— Ан–фи–са Гор‑де–ев–на!
Вдруг раздался явственный уже смех — все заоглядывались по сторонам: но никого не увидели. И тут до слуха донёсся перезвончатый лай, и прямо из воздуха выметнулась махочкая[40] чёрная собачонка и с ходу тяпнула Шишка за ногу. Перкун захлопал крыльями и отлетел поближе к лесу. Шишок задрыгал ногой в полосатой штанине и заорал что есть мочи:
— Да где ты, старая ведьма[41], а ну попридержи собачонку!
Вновь раздался кашляющий смешок, и старческий голос произнёс:
— Чего зеваешь! Зевастый какой… Ишь, всю птицу мне распугал. Здеся я — на крылечке сижу, хихи–хи… Иди ко мне, Трезорушка… Трезор, на место! Место, Трезор!
Собачонка, с сожалением глядя на вторую, непокусанную ногу Шишка, а также на совершенно целые Ванины конечности, не переставая потявкивать и оглядываться на непрошеных гостей, побежала обратно и, скакнув, с лёту пропала. Послышалось металлическое звяканье, как будто собаку на цепь сажали. Ваня пошёл к середине поляны и вдруг наткнулся на какую‑то невидимую стену… За стеной виделось всё то же самое: прижухлый бурьян, редкий кустарник… И — никого: никаких старух, никаких собак… Никакого крылечка. А попасть за невидимую ограду было невозможно. Шишок подбежал к Ване и попытался с разбегу протаранить стену — ничего не вышло. Смех раздался с новой силой. Тогда Шишок помчался вокруг стены, сопровождаемый злостным хихиканьем, — отразился на той стороне поляны, там попробовал прорваться сквозь невидимую преграду, опять неудачно. И, сделав круг, вернулся обратно. Опять раздался старушечий, с подхихиканьем голосок:
— Ну что, старый блудодей[42], не смог к девушке в светлицу попасть?! То‑то! Хи–хи–хи!
— Тьфу ты! — сплюнул Шишок. — Нужна ты мне, как телеге пято колесо… Девушка… Тебе в обед сто лет, а то и все двести!
— Ну так что ж… Я всё пока девушка на выданье. В терему сижу, на тебя гляжу, я тя вижу, а ты меня — нет. Я ведь тебя сразу узнала, хоть ты харю‑то сменил. Ничего выглядываешь, молоденькой. Не парнишко, не дедок — в самом соку…
Шишок при последних словах заметно приободрился, надулся, как пузырь, и сказал нарочито строгим голосом:
— Ладно, Анфиса, поиграли в прятки — и хватит. Мы к тебе по делу пришли, а не в игрушки играть.
— А кто ж это с тобой, Шишок, будет?
— Кто‑кто! А вот угадай кто — раз ты така всевидяща…
— Подумать, кака загадка! Кочет[43] да мальчишко!
— А что за мальчишко?
— Обыкновенный мальчишко, каких много. Кочет вот очень представительный будет. Я бы сама от такого не отказалась. У меня как раз петух подох, курочки одинокие остались… Эй, кочеток, пойдёшь ко мне жить? Сладко есть будешь, высоко спать…
Перкун искушение выдержал с честью:
— Благодарствую. Я уж как‑нибудь так… Я со своими.
Шишок же опять закричал:
— Слаба ты, видать, глазами стала, Анфиса Гордеевна, коль внучатого племянника не узнаёшь…
Тут зависла пауза, раздались шаркающие шаги, и голос приблизился, как будто старушка рядом оказалась, протяни только руку:
— Это… Валентинин, что ли, будет сынок?
— А то чей же! — крикнул Шишок.
Ваня навострил тут уши, сердце его заколотилось… Вот и опять заговорили про мамку его. Вовсе уж неожиданно. А вдруг… а вдруг она тут прячется — у Анфисы Гордеевны… Ваня напряг глаза, силясь разглядеть невидимое — но только услыхал старушечий голос у самого своего уха:
— Непохож чегой‑то! Валентина была девка — загляденье, а этот заморышек какой…
— Ладно тебе мово хозяина хаять. Найди себе спервоначалу мужичонку–хозяина, да и лай его. А мово хозяина не трожь!
— Фу ты, ну ты, ножки гнуты!
Ваня попытался дотронуться до невидимой говоруньи, но рука опять натолкнулась на гладкую, ровно лаком скрытую стену. Шишок же спросил:
— Это ты, значит, мелом невидимым своё хозяйство обвела, чтоб никто к тебе, значит, не совался… Железный занавес опустила. И кто ж тебя надоумил?
— Сама не без головы…
— Да ведь и без мела мало кто к тебе понаведывался. От кого прячешься‑то? От зверей лесных? Фрицы давно уж по лесам не шастают…
— А от таких, как ты, блудодеев…
— Ох, ведь! Не весь мелок‑то исчеркала?
— А–а–а, вот вы зачем припожаловали, за мелком сестрица вас прислала… Сама подарила мне, а теперь обратно подарочек просит.
— Какое подарила! — взвился на дыбки Шишок. — Какое подарила!.. Взаймы дала, а ты обещалась вернуть, а не вернула… Остался мелок‑то, хоть кусочек, или весь извела, отвечай, старая карга?!
— Старая карга!.. А когда‑то была свет-Анфисушка…
— Не томи, Анфиса Гордеевна, погибаем мы в городу без того мела, вертай обратно.
Тут Ваня решил взяться за дело, вспомнил про солёные огурцы, которые клала в котомку бабушка Василиса Гордеевна, вытащил кулёк с изрядно помятыми огурчиками, — какие ведь передряги им выдержать пришлось! — и протянул:
— Вам бабушка гостинчик посылает, в этом году солила, и ещё поклон… — Ваня поклонился.
Опять с той стороны стены замолчали. Только слышен был смутный гогот да квохтанье невидимой домашней птицы. Вдруг прямо из воздуха выскочила рука — рукав в телогрейке, — выхватила огурцы и пропала. Шишок быстрёхонько толкнулся плечом в то место, где исчезла рука, — но никакой прорехи там не оказалось, всё было прочно. Опять раздался ехидный смешок.
— Ни стыда у тебя, Анфиска, ни совести! — Шишок стукнул кулаком по невидимой стене. — Отдашь, нет ли, мел‑то?
— Не стучи, всё одно не достучишься… — и возле самого Шишкова уха смачно захрумтели[44] огурцом, потом голос, подхихикнув, сказал:
— Хоть из пушки пали — не прошибёшь, не то что кулачонками твоими мохнатыми… Броня крепка… И идёт до самого неба, на самолёте не долетишь, и под землёй тоже не подкопаешься, хоть бурильну машину с собой приводи… Во как!
Гости только переглянулись — до чего хороший мел! Им бы такой в самый раз…
— Как же ты‑то сквозь эту броню продираешься да шавка твоя? — поинтересовался Шишок, незаметно подмигивая Ване с Перкуном, сейчас, дескать, вызнаю все секреты.
Голос, похрумкивая, отвечал:
— А так! Я и все мои свойственники могут выходить да заходить, когда вздумается. А чужаки — не пройдут. То же и обороны касается. Моя пуля тебя достанет, твоя — как об стенку горох… Ничему и никому чужому ходу ко мне нету!
— Выходит, я чужой тебе, Анфисушка? — подставил ухо к стене Шишок и даже погладил невидимую преграду.
— Теперь Анфисушка… А была старая карга…
— Ну, прости, прости, непутёвого…
— Как не чужой?! Конечно, чужой — рази ты был тут, когда я свой круг описывала? Не было. Чужанин ты, Шишок… И нет тебе ко мне никакого доступа! — сказал голос с торжеством, к которому каким‑то непостижимым образом примешивалось сожаление.
— Вот тебе и на! — пробормотал Шишок и встрепенулся: — А как же огурцы?
Голос, похрумкав, удивился:
— А что — огурцы?
— Дак огурцы‑то перешли через черту? Они ведь не твои, а, можно сказать, чужие…
— Ну, это уж — что моя рука несёт, то моё… Что ж, ты думаешь, я по ягоду да по грибы не хожу, что ли? Хожу и ношу. Огурцы скусные[45] у Василисы! Завсегда она у нас мастерица была: что готовить, что шить, что прясть. Одно слово: младшенькая… Любимая дочь у батюшки. А мы так… А вот свою девку воспитать не сумела. Как говоришь, зовут тебя, малый?
Ваня, не сразу поняв, что обращаются к нему, ответил, сердце его бухалось в самую границу невидимой преграды.
— А лет тебе сколько?
— Девять, — сказал Ваня и, подумав, добавил: — С половиной.
— Вона как! — старуха помедлила и пробормотала: — Накануне перестройки, до Мишки Меченого ещё, будь он неладен, была у меня мать‑то твоя!
И шибко торопилась — не то в Теряево, не то в Бураново, может, оставила там что важное. Тебя, может, кагоньку… Дело‑то весной было — кругом грязь непролазная. За мелом ко мне припёрлась. Хотела помириться с матерью, мелком ей угодить, так во всяком случае сказывала, а может, набрехала, может, самой за каким‑то лешим мел этот понадобился — девка тёмная, девка скрытная, вся в матушко… Отдала я мел‑то, Шишок, Валентине и отдала, девять лет назад дело было, так выходит…
— Что ж ты молчала! — рассердился Шишок.
— А вот — говорю! А Валька, выходит, не принесла матери. Может, не успела…
— Где она, вы не знаете? — сунулся Ваня лбом к стене, за которой не было ни ветерка, кусты стояли не шелохнувшись, тогда как с этой стороны подувало.
— На дне, Ваня, мать твоя…
— Утонула! — обомлел мальчик.
— Да нет…
— Бомжует?
— Божует? Не–ет, какой там! На дне она, я слышала, — у свояка нашего. А и где ж ей быть, когда бабка твоя бессердечная прокляла её… Где все заклятые дети находятся? На дне. Там и Валентина. Может, и пожалела Василиса опосля сто раз — да сказанного не воротишь… От проклятья‑то не уйти, не уехать. До семи лет, грят, оно в воздухе носится, а в один недобрый час и падёт на голову проклятого. Валентина‑то тоже, конечно, хороша! Натерпелась сестра с дочкой. Два раза прости, на третий — прохворости[46]… Вот и прохворостила — оказалась дочка на дне!
— А где ж свояк твой проживает, Анфисушка? — вкрадчиво проговорил Шишок и даже губами к стенке приложился. Голос захихикал, как от щекотки, и пробормотал:
— Ну тя совсем к лешему!
— Только от него! А всё ж таки, где живёт‑то своячок, Анфиса Гордеевна?..
— Вот прокуда! Да уж скажу — не жалко: не так чтоб очень далёко… Не за тридевять земель и не в тридесятом царстве. В реке Смородине[47], в городе Ужге, аккурат под железнодорожным мостом.
Ваня весь напрягся, как боевой конь, услышавший звук трубы, ведь Ужга — был тот город, где он жил в инфекционной больнице! Там мать его оставила на вокзале… Всё складывается: отсюда с ним на руках — в Ужгу… Может, отправляясь к свояку, куда его нельзя было взять, завернула на вокзал, написала записку, дескать, скоро вернусь за мальцом, положила свёрток на лавку — и пошла. А… почему не вернулась?.. Только чтоб жива была, остальное — ерунда.
— А… мела‑то много ли осталось али зазря пойдём ко дну? — спрашивал меж тем Шишок.
— Хватит Василисе, у неё усадьба не больно велика… — проворчал голос.
— А ты, видать, порядочно землицы пригородила…
— А как ты думать! У меня же живность, и коровёнка кака–никака есть, сад–огород. Кормиться–то надо! Одной‑то, ох, Шишок, чижало[48]!.. Но я, ведь, знаешь, какая: и плачешь, да пляшешь!.. Больно вот плохо, что домовика‑то у меня нету… Василисе этой всё — и муж у её был, и детки были — и довоенные, и Валька послевоенная, и домовой достался по наследству от Серафима‑то… Теперь вот внук имеется… А я — как перст одна… — голос под конец речи совсем истончал.
— Ну ладно прибедняться‑то… Было время — да прошло! Прогнала тогда меня в тычки, теперь каешься.
Раздался то ли всхлип, то ли смех, и голос ответил звонко:
— Да больно мне надо — каяться! Шуткую я… Велика ли корысть‑то в тебе?! Погляди на себя — поперёк лавки поместишься. Не смеши людей… Каешься!
— А ты, конечно, королевна у нас…
— Королевна — не королевна… А девка была видная!
— Вот именно что была… Эх, Анфиса Гордеевна, Анфиса Гордеевна, хотелось бы мне посмотреть на тебя напоследок…
Опять зависла пауза. Раздался тяжкий вздох, и голос произнёс тихо:
— Нет уж, не дождёшься — не покажусь. Близок локоть — да не укусишь. И… ладно про это… Погодите–ко…
Опять раздались торопливые шаги — на этот раз они удалялись, хлопнула дверь, через какое‑то время дверь вновь брякнула, а шаги стали приближаться — и вдруг из воздуха вылетела круглая жестяная коробочка, угодив аккурат Шишку по лбу. Он потёр лоб — и поднял яркую узорчатую коробчонку.
— Из‑под ландрина, — сказал. — Уж не от тех ли конфет коробочка, что я дарил тебе, Анфисушка?
— Много чести будет, — отвечал голос печально.
Отковырнул Шишок крышку — там какое‑то заплесневевшее печенье, понюхал, сморщил нос:
— Это чего ж такое, в каком году‑то пекла? Не в сорок пятом ли, ко дню Победы?
— Не подъелдыкивай! Без этого печенья не попадёте к свояку‑то… Съешьте по одному — и в воду. И смотрите, больше положенного у свояка не задерживайтесь.
— А сколь положено?
— День да ночь — сутки прочь.
— Понятно. А как звать свояка?
— Дядька Водовик[49]. Да не забудьте бутылочку ему, можно и не одну… Шибко уважает он это дело. И — поклон ему от меня.
Перкун закукарекал — и Анфиса Гордеевна заторопилась:
— Ну всё — ступайте, чего стали… У меня работы непочатый край — а я тут с вами провожжаюсь… Иди, давай, старый пестерь! Ишь, личину молодую напялил на себя — и похваляется… Уходи, чтоб глаза мои тебя не видели! А то сейчас Трезорку‑то спущу с цепи — втору ногу отметит, не обрадуешься…
— Утихомирься — пошли мы… — вздохнул Шишок. — Прощевай, что ли, Анфиса Гордеевна?!
Послышалось сиплое дыхание, путники подождали — ничего не дождались, повернулись спиной к невидимому дому и пошли восвояси. Но за первыми деревьями Шишок не выдержал, обернулся и крикнул:
— Спасибо за печенье…
— Чтоб ты им подавился! — раздалось в ответ.
Шишок сплюнул — и зашагал. Ваня же обернулся, поглядел сквозь листву деревьев — и ему показалось, что на поляне появилась старушка в телогрейке, до носа укутанная платком, в сапогах… А у ног её крутится чёрная собачонка. Хотел показать Шишку — да чего‑то передумал…
Обратная дорога оказалась на удивленье простой и лёгкой. Шишок теперь не блукал[50], шёл по развилистой тропе так, будто вчера только возвращался по этому пути — всякий раз сворачивал где надо, только мохнатые подошвы мелькали. Ваня с Перкуном едва за ним поспевали. Шишок угрюмо молчал всю дорогу, если что спросишь — только буркал в ответ, спутники его переглядывались и тоже больше помалкивали, чем говорили. Скоро утоптанная тропинка вывела их на уже знакомую Ване просеку, и путники спустились по ней прямиком к шоссе. Ваня поглядел на ту сторону — именно оттуда он пришёл, когда Алёнка увела его от братьев–разбойников. Просека была пуста и уходила к самому горизонту. Как раз над ней повисла призрачная в лёгких сумерках луна.
Первый же грузовик, который остановил Шишок, как по заказу, направлялся в Москву и шёл через Ужгу. Минута — и путники сидят высоко над землёй, в уютной тёплой кабине, и катят к неведомому свояку. Шишок ведёт политическую дискуссию с шофёром, по пути узнавая, какая сейчас неспокойная обстановка в стране. Перкун молчит, как приказано, хотя ему не терпится вставить своё слово в горячий мужской спор. Ваня в полудрёме видит встречу со своей мамкой: не мешало бы перед тем помыться да постричься, а то волосья опять вымахали, или хотя бы как следует расчесаться… В привидевшихся материнских объятиях он и засыпает, а немытая, нечёсаная голова его лежит у Шишка на плече.
Глава 17. Сон Сома
В Ужгу прибыли в полдень. Инфекционная больница стояла на проезжей дороге, и «КамАЗ» должен был ехать мимо. Ваня постеснялся попросить остановить машину, дескать, повидаться надо кое с кем… И с кем ему там видаться — с Нюрой? Спросит она, чего тебе не сидится, Ваня, у бабушки в тепле, чего колесишь по стране с подозрительными личностями, аль из дому выгнали?.. А он что? И не стал Шишку с Перкуном ничего говорить про своё прежнее житьё–бытьё. Чего им показывать в той инфекционке, чем хвалиться? Но когда проезжали мимо, Ваня так выглядывал окно своего бокса, что чуть шею не свернул. И ведь углядел‑таки в промельке окон своё: и показалось Ване, что на подоконнике сидит кто‑то, больно на него похожий, книжку читает… Миг — и скрылось окно, да и само здание пропало.
Высадил их шофёр у реки Смородины, Шишок расплатился верть–тыщей. Ване неловко стало: вот ведь, решит где‑нибудь по дороге водитель перекусить, станет расплачиваться в забегаловке, сунет руку в карман — а тыщи‑то и нет… Помянет пассажиров недобрым словом. А Шишок в ответ его мыслям отрезал:
— Ничё — мог бы и бесплатно довезти, бензин‑то казённый! Я его всю ночь развлекал инти…интел–лек–туальными разговорами, а то заснул бы, попал в аварию — и поминай как звали! Для порядка деньгу ему сунул — а он и взял. Поделом же ему, жадобе!
Когда деньжура вновь оказалась у Вани, разбили её в сигаретном киоске на две пятисотки, после очередного возвращения тыщу меняли на более мелкие купюры в кассе молочного отдела, в бакалее, у азербайджанцев, торгующих арбузами, у торговки цветами — в результате чего денег набралось на три бутылки водки. В винно–водочный отдел очередь стояла приличная. Шишок сунул балалайку Ване, протолкнулся к самому прилавку, ужом влез между двумя мужиками, которым был по пояс, сказал, что он с ночи тут стоит, отходил по малой нужде.
— Мужики, неужто не помните меня?
Очередь загудела враждебно, но те, между которыми Шишок втиснулся, поглядели на него внимательно, моргнули и признали: дескать, да, стоял мужичонка тута. Выбрался Шишок из толпы сильно помятый, но довольный — с водкой.
— Эх, давно мне бока‑то так не мяли!
Но показалось ему мало трёх бутылок:
— Нет, не хватит свояку. Подбавить бы надо.
Дождались, когда тыща вернётся — и опять Шишок пошёл менять денежку, а после полез в народ, толпившийся у водочного прилавка. На этот раз стал медалью трясти: дескать, отоварьте заслуженного фронтовика без очереди. С обоюдными матами перематами, причем и третья сторона — красномордая продавщица — поучаствовала в перепалке, Шишка таки отоварили, чуть медаль в давке не оторвали. Но своё он получил.
— Ладно, — вздохнул Шишок, — надеюсь, этого хватит. Пускай зальётся дядька Водовик.
— Да мы с этим грузом живо на дно пойдём, никакого камня не надо, — пошутил Ваня.
Шишок же сунул голову Ване под нос:
— Пощупай–ко, хозяин, мои волосья: после сегодняшней ругни у меня столько волос прибавилось, что небось любо–дорого посмотреть!
— Тебя не только ругательски изругали, — сказал Перкун, — а и тумаков тебе сегодня досталось.
— А не только мне!.. Я очереди шибко уважаю, я тута как рыба в воде… Но пора и честь знать!
Прошли чуть ниже по течению, увидали под развесистой ветлой парнишку–рыбака. На вопрос много ли рыбы наловил, рыбачок с гордостью показал ведёрко, в котором плавал усатый сом, бессмысленно разевая тупую пасть. После того как поцокали языками, Шишок спросил:
— А глубока ли речка‑то?
— Глыбокая… — отвечал рыбак. — И омутов много. Летом вон на пляжу‑то журналюга утонул. На спор хотел переплыть Смородину. Не переплыл…
Ваня вздрогнул, а Шишок почесал голову. Рыбачок же, кивнув вправо, сказал, что вон там за бараками речка делает такой кульбит, что любо–дорого посмотреть. Правда, река в том месте обнесена забором, раньше территория строго охранялась, а сейчас там всего один охранник, да и тот из барака почти не выходит, бардак ведь везде, порядка‑то нету…
Шишок, несмотря на Ванины протесты, вскачь понёсся к интересному месту, и Ваня с Перкуном, делать нечего, поспешили за ним. Прошли по узкой тропинке между глухими стенами тёмных деревянных бараков, явно пустующих, уткнулись в высокий дощатый забор. Нашли в нём едва приткнутую доску, отодвинули, пролезли — причём бочкобокий Перкун стесал несколько перьев — и очутились за забором.
Но за первым забором, прямо против него появился второй — такой же высокий, из‑за которого ничего не было видно. Путники оказались во внушительном деревянном коридоре между двух зубчатых стен. И тут Ваня увидел, что и в соседнем заборе доска отодвинута так же, как в этом… Даже в том же месте… Интересно… Шишок, воровато оглянувшись по сторонам, побежал ко второму забору — но не добежал, наткнулся на что‑то и принуждён был остановиться. Ваня помчался следом, протянул руку — и почувствовал невидимую преграду, вовсе даже не дощатую…
— Невидимый мел! — в один голос вскричали оба. Ваня попытался подглядеть в дыру соседнего забора — но мало что увидел… Тогда Шишок выломал одну связь первого забора — и во втором заборе тут же образовалась широкая прореха… И все увидели… увидели… увидели, что никакой реки нет… Налево, вдали, было широкое течение, которое ни с того ни с сего пропадало. Сплошной, от берега до берега, водопадный каскад рушился с высоты. Ни плотины тут не было, ни горы, откуда бы водотеча могла извергнуться… Так мало того: водопад обрывался ничем — вдруг, ровно ножом срезанный, исчезал… Дальше — ничего не было… Куда девалась масса речной воды — непонятно. Ушла под землю?
А вдалеке, с правой стороны, — было совсем уж неизвестное науке явление природы: водопад, который вопреки всем земным законам стал на голову и обрушивался снизу вверх. И дальше, на приличной высоте изогнувшись, Смородина продолжала течь как ни в чем не бывало.
И напротив них, за этим вторым забором, до которого не дотянуться, стояли те же бараки, что и на берегу… Ваня оглянулся и увидел, что за настоящим забором последнее окно соседнего барака распахнуто, поглядел вперёд: за забором на дне реки распахнуто первое окно ближайшего барака. И городской пейзаж за бараками на противоположном берегу казался точно таким же… Как будто эта невидимая стена была зеркальной, только почему‑то ни Ваня, ни Шишок, ни Перкун в ней не отражались…
Ваня обернулся — и увидал, что в раскрытое окно барака высунулся какой‑то мужик в форме… Охранник! Мальчик поглядел вперёд: в бараке на дне реки в открытое окно никто не высовывался… Ваня указал Шишку на охранника и крикнул:
— Бежим! — И все бросились в широкую прореху, протопали по сломанному забору и устремились в проход между бараками. Когда мчались по улице, застроенной какими‑то складами, мимо бесконечных заборов, Ваня оглянулся: охранник выскочил из того же прохода, показал внушительный кулак, но догонять нарушителей не стал.
Поднялись выше по течению Смородины, которая казалась теперь самой обычной рекой. Не слышно было шума водопада, который не так ведь далеко отсюда… Сели на берегу, под чахлыми кустами, и позадумались.
— Что ж, — сказал наконец Шишок, — выходит, кто‑то обвёл кусок водотечины невидимым мелом… Значит, в том ограждённом месте и должен сидеть свояк, я так думаю… Тоже решил отделиться от людей, видать, поднадоели… Вот ведь! Все поголовно решили мелком Василисы Гордеевны попользоваться, холера их забери!
— А как же мы за стену попадём, если он оградился? — спросил Ваня. — К Анфисе Гордеевне‑то не попали…
— Не знаю, — вздохнул Шишок. — Может, в воде проще… Попытка — не пытка. Тут, значит, выше по течению и полезем в реку, авось принесёт нас куда надо. Как говорится, только и ходу, что из ворот да в воду… Надеюсь, мелок у свояка остался.
Шишок достал из котомки жестяную коробочку из‑под ландрина, отковырнул крышку и вытащил каждому по затхлому печеньицу Анфисы Гордеевны.
Ваня, морщась, съел своё печенье — пахло оно отъявленной плесенью. Перкун тоже был не в восторге от стряпни. Шишок же сжевал за милую душу.
— И чего теперь? — только успел спросить Ваня, как вдруг почувствовал, что ботинки стали туги, поглядел на свои руки — и только крякнул: пальцы расшеперились, а между ними проросли телесные перепонки. Скинул тесные ботинки — на ногах то же самое. И дышать стало тяжеловато… Опять, что ли, окаянная трясовица привязалась, сенная лихорадка, так ведь тут вроде не лес, а самый что ни на есть Городецкий город, причём в нём он и жил до недавнего времени… Да и ладанку с защитной одолень–травой Ваня нащупал на груди. Схватился за уши — и нашёл за ними какие‑то прорези… Мать честная! Жаберные щели… Поглядел на Шишка: у того тоже и ладони и ступни стали перепончатыми, и жабры он тоже у себя прощупывал. То же случилось с Перкуном, который, во все глаза глядя на свои перепончатые лапы, поднял одну из них, замахал ею и просипел:
— Тьфу, пакость! Мы так не договаривались! Гусем быть не нанимался! Категорически отказываюсь!
Петух — не водная птица… — но кислорода ему не хватило, он раскрыл клюв для очередного протеста и стал жадно хватать воздух, — и Шишок, не слушая уже никаких возражений с его стороны, мигом столкнул петуха в воду. Перкун тут же камнем пошёл ко дну. Шишок скинул с себя тулупчик, Ваня — пальто, шапку и ботинки, всё добро благоразумно спровадили в котомку — и, схватившись за руки, полезли в холодную речку.
Бежали, пока водища не скрыла их с головой. Тут маленько отдышались.
— Фу–у! — пробулькал Ваня. — Думал, помру без воздуха…
— Без во–ды, хозяин, без воды, — поправил его Шишок, который плыл где‑то возле самого дна, видать, тяжёлая водочка вниз тянула.
— Я тебя понимаю, а ты вроде звуками не говоришь… — скричал Ваня. — Как это получается?
— Сам удивляюсь, — промямлил Шишок.
Ваня подумал–подумал и сказал:
— Наверно, эхолокация[51]… Дельфины так между собой изъясняются…
— Тебе, хозяин, виднее… — с сомнением отвечал Шишок.
— Конечно, виднее. Я по телевизору передачу видел…
Домовой повернул к нему ухмыляющуюся рожу — и Ваня мигом прикусил язычок, почему‑то говорить с Шишком про телевизор ему ни в коем случае не хотелось.
Перкун, оказавшийся в реке раньше, плыл впереди них, ловко гребя мощными перепончатыми лапами. Малиновый гребень, как фонарь, мелькал вдали.
— Ты у нас теперь настоящая мокрая курица! — крикнул вслед ему Шишок.
Перкун поворотил к ним голову со стелющимся по течению разноцветным хвостом и прокудахтал:
— А ты домовой–водовой.
Водица была мутная, плыли, погружаясь всё глубже и глубже. Вода, как ни странно, не казалась особенно холодной, Ваня и не думал замерзать, может, они стали, как рыбы, хладнокровными?!. И уставать никто не думал. Плавать было гораздо легче, чем ходить по земле. Как будто летишь по воздуху… Как будто перепончатые руки — это крылья. Наверное, Перкуну тоже думалось про полёт — потому что он вовсю махал своими яркими крылами, только оранжевые блики плясали по воде.
Навстречу попалась стайка плотвичек — обплыла Ваню с Шишком с двух сторон, Ване показалось, что плотвички захихикали. Ему даже послышалось:
— Фу, уроды!
Но, конечно, ни одна из плотвичек даже рта не раскрыла.
Поплыли вниз по течению, помаленьку подвигаясь к тому месту, где снаружи им виделся водопад. Никакого водопада не было — а ткнулись в стену, которая преспокойно проходила и по воде, так же как по воздуху. И на той стороне не видно никаких бараков или голого дна, совершенно такое же течение, как по эту сторону… Только перебраться туда никак нельзя… Вот ведь незадача!
Шишок присвистнул и поплыл вдоль стены, пытаясь найти проход. Ваня вздохнул, ему так понравилось в Смородине, что он подумал, что все вопросы сейчас разрешатся: они получат невидимый мел, он встретит здесь свою мамку, заберёт её с собой и…
И вдруг сверху их понакрыла какая‑то тень, так что в реке темно сделалось… Не могла же так скоро наступить ночь?.. Набежала волна — и буйные водовороты закружились в речной глубине, Перкун кубарем укатился влево, Шишка унесло далеко вправо, а Ваню водокрутью тащило незнамо куда. Он выпучил глаза — и увидал нечто вроде раскрытого капота громаднейшей машины. По бокам свисали какие‑то длинные ремни, за один из которых Ваня попытался ухватиться. Но ремень вдруг взвился вверх, хлестнул по воде, ровно кнут, — и Ваня, висевший на нём, сорвался и полетел куда‑то… В ужасе он увидел, что залетает прямо в этот раскрытый капот… Только никакой это был не капот, а… Что это было, Ваня не понял. Капот захлопнулся — а Ваню понесло вместе с потоком воды, как с горы на санках, вниз…
Когда мальчик открыл глаза, то ничего не увидел — он стоял на карачках на чём‑то мокром и скользком. А вокруг — кромешная тьма. И воды тут не было, зато пахло отвратительно. Ваня, тяжело дыша, вцепился в ладанку с одолень–травой, встал на ноги и попытался сделать несколько шагов с выставленной вперёд рукой — но поскользнулся и тут же упал. Правда, не ударился… Вспомнил про котомку, которая так и висела за плечами, сел на какой‑то скользкий бугорок, и на ощупь отыскал фонарик, который сунула предусмотрительная Василиса Гордеевна. Фонарик работал! И осветил какие‑то ребристые пещерные своды высоко над головой, под ногами — скользкое бугристое поле… Света фонарика не хватало, чтоб осветить то, что было вдали.
Поминутно оскальзываясь, Ваня тронулся в путь. Вперёд он двигался или шёл назад — не знал. Почувствовал, что начался подъём. Идти стало совершенно невозможно, как будто пытаешься подняться по заледенелой горушке, только гора была почему‑то не белой, а бурой. И дышать становилось всё труднее, ну да, он же теперь дышит жабрами, а тут — какой‑никакой, а воздух. И вдруг он увидел, что вдали появился краешек света… Но тут гигантская волна обрушилась на него с горы — Ваня изо всех сил вцепился в фонарик, боясь, что волной его вырвет из рук и унесёт. Котомка больно била мальчика по спине, его несло незнамо куда — но Ваня блаженствовал, в воде он мог наконец отдышаться.
Но волна скатила его с горы вниз — как раз туда, откуда он пытался выкарабкаться. Когда водица схлынула и Ваня открыл глаза, в свете так и не выключенного фонарика он увидал, что неподалёку лежит кверху лапами Перкун. Ваня вскочил на ноги, в очередной раз упал и закричал:
— Перо! Пёрышко, ты живой?
Перкун признаков жизни не подавал, глаза его были затянуты плёнкой. Может, сделать ему искусственное дыхание? Но как? Рот в клюв? И делают ли искусственное дыхание птицам? Но тут Перкун дёрнул лапой, пошевелился и открыл круглые глаза. Ваня не успел толком обрадоваться, как услыхал голос Шишка:
— Хозяи–ин! — Шишок вприскочку бежал из темноты на свет фонарика. Подбежал — и, поскользнувшись, грохнулся прямо на Перкуна, который всё ещё лежал гусиными лапами кверху.
— Ты мне шею чуть не свернул! — просипел Перкун и, отряхнувшись, встал на ноги. Друзья обнялись, едва снова не упав.
— Куда это мы попали? — спросил Перкун.
— Может, это ледовый дворец спорта? — пошутил Ваня.
— Да, конёчки бы тут здорово пригодились, — согласился Шишок
И вдруг Ваня ощутил внутри себя какой‑то щекотный гул, который, как это ни странно, складывался в слова… Ваня, хоть и не слышал ушами, но явственно понимал говоримое:
— Добро пожаловать в сон Сома! — Вот какие сложились в нём слова.
Ваня посмотрел на Шишка с Перкуном — и по их обалдевшим физиономиям догадался, что они тоже услышали, а может, увидели — в общем, разобрали то, что им сказали. Шишок стукнул перепончатой лапой по скользкой тверди:
— Ядрёна вошь! Так мы внутри рыбы! — и тут же навернулся.
— Не просто рыбы, — опять раздался рокот. — Я — Сом–привратник. Охраняю границу. Кто вы такие? На русалок не похожи… На утопленников не тянете… Может, вы проклятые дети?
Ваня при этих словах насторожил уши. Шишок же пробормотал:
— Вот ведь! Съел — и ещё разговоры разговаривает…
А внутри каждого продолжало гудеть:
— Вижу, что не проклятые. А особые приметы подходящие: жаберные щели есть, перепонки — в наличии. Выходит, вы нелегальщики. Хотите, значит, проникнуть в подводное царство… А как вы собирались туда пробраться, когда мы давно уж оградились от земного мира? Другого пути нет — только в моём желудке. Я — Сом–перевозчик.
Шишок проворчал:
— И пограничник он, и привратник, и охранник, а теперь ещё и перевозчик, это какой‑то Сом-многостаночник получается…
А внутри гудело:
— Давненько у нас не было таких гостей!
Шишок же никак не мог успокоиться и всё продолжал ворчать:
— Если бы каждый так‑то: проглотит котлету, а после заводит с ней задушевную беседу… Дескать, давненько не бывало в гостях такой вкусной котлеты.
Сом пророкотал:
— А и не всё же человечкам рыбку‑то есть, иногда и рыбка может человечков съесть…
— Протестую! — закричал Перкун. — Тут и птицы имеются…
— Чайки?! — бабахнуло в мозгу.
— Нет, нет, — заторопился Перкун. — Всего лишь петухи. Один петух…
Рокот прекратился. Подождали — но было тихо…
— Как думаете, он нас насовсем проглотил или… не насовсем? — спросил шёпотом Ваня.
— Думаю, всё ж таки должон выплюнуть, — сказал Шишок. — Он же говорил, что перевозчик… Хотя, кто его знает, в каком виде он доставляет перевезённых… перевезённое… И не знаю, как ты, хозяин, а я так дюже невкусный. Думаю, даже ядовитый, — последние слова он проорал, видимо, в расчёте на слух Сома.
— Вас, он, может, и выплюнет, — вздохнул Перкун, — а меня точно в себе оставит. Вечно куры с петухами за всех отдуваются. Что поделаешь — белая кость… От белого мяса никто ещё не отказывался — ни во сне, ни наяву.
— Ну вот— опять он избранная птица… — проворчал Шишок. — И тут он лучше других оказывается.
— Не ссорьтесь хоть в желудке‑то, — рассердился Ваня. А внутри зарокотало:
— Приготовьтесь, я скоро проснусь — и изрыгну вас наружу.
— Наконец‑то! — пробормотал Шишок. — А то мы тут без воды уж чуть не задохлись.
— Но для этого вы должны сплясать во мне, только посильнее топайте‑то… А то я больно крепко сплю… Ненароком ещё начну вас переваривать…
Дважды просить не пришлось. Шишок заиграл на балалайке — и заорал:
То не лёд трещит, Да не комар пищит, Это кум до кумы судака тащит, Ах ты, кумушка, да ты, голубушка, Приготовь‑ка судака, чтобы юшка была!Все пустились в сумасшедший пляс: Перкун подскакивал чуть не к потолку — и с размаху вонзался когтистыми лапами в скользкую поверхность, Ваня прыгал как медведь, взмахивая фонариком — свет от лампочки освещал то один, то другой угол сомьего желудка, Шишок же в лихой пляске отбил себе все подошвы. И ничего не происходило — внутренний голос молчал. Ваня тут засомневался: а не обиделся ли Сом, песня‑то была не самая подходящая, не такую надо было исполнять в рыбьем желудке. А дышать становилось всё труднее…
Но тут откуда‑то изнутри понеслась такая вонь, что все носы себе позажимали, а вслед за этим прикатилась бойкая волна слизи, подхватила путешественников и поволокла вперёд и вверх… Ваня сквозь полуоткрытые веки увидел свет, который всё приближался, становился шире, шире, и вот их с силой выхлестнуло наружу.
Глава 18. Речные выборы
Пронесло по воде, закружило, запружило — и отпустило. Ваня плавно опустился к ногам какого‑то человека в джинсовой паре, стоящего на ржавой железной бочке. Лицо его показалось Ване смутно знакомым. Чуть в стороне такую же бочку оседлал некто, похожий на нового русского: в красном пиджаке и с такой толстой золотой цепью, на которую вполне можно было посадить волкодава. Кроме цепи, висящей на бычьей груди нового русского[52], никаких других сокровищ на дне Смородины не наблюдалось. Не было россыпей жемчугов, сапфиров, изумрудов. Не виднелся вдалеке золотой дворец или хоть глинобитная хижина…
Зато дно было завалено вросшим в ил железным ломом: куски арматуры, перевитые толстой проволокой и водорослями, отовсюду под разными углами живописно торчали ржавые железные листы. Горы жестяных банок с зазубренными крышками возвышались там и сям, некоторые вершины венчали трёхколёсные велосипеды, иные — внушительных размеров катушки с намотанной проволокой, а то ещё прохудившиеся тазы. Тут и там виднелась разнообразная дырявая обувь, зарывшаяся носами в ил — вся без пары. Одним словом, дно было городской свалкой, над которой катились речные валы. Новый русский и человек в джинсе находились в сердцевине этой свалки, а вокруг них кружило множество самой разной рыбы: мелкой и крупной. Сома же было не видать, наверно, вернулся на границу. Шишок с Перкуном подгребали сюда же. Доплыли до Вани и зависли по краям, молотя перепончатыми конечностями.
— Топляк, это кто ж такие? — едва удержавшись на бочке, воскликнул новый русский и обернулся к джинсовому. Топляк нырнул со своей бочки, поплавал вокруг троицы и пожал плечами:
— На русалок, нереид[53], океанид[54], а также водяниц[55], водяв и морян[56] не похожи. Пол не подходит. Явно не утопленники, как мы. У них жабры есть и перепонки. Могу предположить, что этот, — указал он на Шишка, — Нерей[57]… («Но, но, но!» — сказал Шишок.) А этот, — ткнул в Ваню, — Протей[58]. А может, наоборот. А этот, вероятно, морской петух, какой‑то неизвестный науке вид.
Пока Топляк кружил вокруг них, Ваня узнал его… Это был корреспондент газеты «Ужгинская правда», написавший про него статью. Глаза Вани и корреспондента встретились — тот, отшатнувшись, воскликнул:
— Ба! Да это же мальчик из больницы, как бишь тебя?.. Я весной про тебя писал…
Ваня кивнул, назвал своё имя и поздоровался.
— Привет, привет! Вот не думал, что так доведётся встретиться… Да, короток век человеческий, не успеешь глазом моргнуть, глядишь, а уж нет тебя!.. Я ведь не так давно утонул, как раз в первый день лета. Теперь вот тут числюсь… речкором, речным корреспондентом. А ты, выходит, тоже — того…
Шишок уставился на Ваню и воскликнул, обращаясь к речному корреспонденту:
— Из какой ещё больницы? Мы с хозяином из дому… Болеть ничем не болеем. И вообще живы-здоровы!
— Я потом тебе расскажу, — смутился Ваня. — Меня бабушка отсюда забрала, я раньше в этом городе жил…
Перкун же, которого буквально атаковали любопытные рыбины, никогда не видавшие подобного экземпляра, отмахивался от них крыльями, правда, безуспешно.
— Хорош туфту гнать! — подплыл к ним новый русский утопленник, рассекая рыбью стаю. — Я, блин, не пойму, кто вы такие и чего вам тута надо?
Шишок покружил вокруг нового русского и, не отвечая на вопрос, задал свой:
— А и где ж тут дядька Водовик, своячок наш? Мы прибыли к нему в гости из Камы–реки, по приглашению, а свояка что‑то не видать… Ведь ты не Водовик? — плавая на спинке, ткнул он перепончатой ногой в красный пиджак.
— Грабли‑то убери, пока те их не оттяпали! — воскликнул новый русский утопленник. — Я, блин, скоро буду морским президентом, понял! То есть, тьфу, речным… А Водовик твой под арестом сидит, в «Матросской Тишине».
— У нас нынче и на дне демократия, — подхватил речкор. — Вы как раз попали на выборы. Сегодня прямым тайным голосованием избирается первый президент реки Смородины!
— А кто кандидаты? — глухо крикнул Перкун из клубка рыб, облепивших его. Оттуда слышались восторженные возгласы, служившие фоном политически окрашенному разговору:
— Какие длинные плавники!
— А хвост! Удивительный хвост…
— Вы, наверное, из Индийского океана к нам прибыли?
— Нет, скорее из Атлантического, да?
— Из Тихого, из Тихого!
Перкун, так и не услышав ответа на свой вопрос про кандидатов, стал сердцевиной, желтком всё разраставшегося серебристого яйца, и куда‑то укатился.
— Топляк, они нам выборы не сорвут? — спросил озабоченно новый русский у корреспондента. — Куда вся рыба‑то подевалась?
— Не сорвут, Макс, — отвечал тот, — они петухов просто не видали, интересуются. И потом — это ведь плюс три новых голоса, будем агитировать…
— А они… не съедят там Перкуна? — в свою очередь спросил Ваня Шишка.
— Да не должны… Ну, может, несколько перьев на память отхватят…
Вдруг послышалось далёкое дивное пение, слов не было, одни гласные звуки, но получалось слаженно и очень красиво… Так красиво, что хотелось тут же умереть. Шишок завертел головой во все стороны, чтоб уловить, откуда идёт звук. Новый русский утопленник и речкор слушали, развесив уши. А Ваня замер: пели женскими голосами, а это значит… Это значит, что его мамка… Конечно, она тоже поёт в этом хоре! Он попытался пригладить космы — но их уж и без него зачесала назад речная волна, и вообще волосы у него теперь были мытые-перемытые…
Вода была мутноватая, и поющие всё никак не показывались. Но пение приближалось… Наконец, вдали что‑то забелелось… И вот певицы появились, рассекая течение. Десяток разновозрастных женщин в белых ночных рубашках. Русалочьих хвостов ни у одной из них не имелось, две ноги, как у всех, а волосы, в самом деле, были длинные и тянулись за каждой, ровно водоросли. Женщины выстроились в ряд, по росту, как на уроке физкультуры. Последняя, самая маленькая, была немногим, может, постарше Вани. Пение оборвалось.
— Ага — вот и тёлки прибыли! — воскликнул новый русский. — Утопленницы–водяницы наши… Где рыба‑то, Топляк? Пора начинать голосование.
Ваня вцепился взглядом в первую, во вторую… Потом в третью… В седьмую… Да где же она?! Ни одна не казалась ему подходящей. То слишком старая, то очень толстая. У той нос крючком. У другой — глаз косит. У третьей — лицо испитое. Не она, не она, не она… И вызнать о ней не у кого: новый русский да корреспондент тут недавно. У Шишка бы спросить, есть ли она в этом ряду… А Шишок между тем сам спрашивал, только про другое:
— И за что же своячка‑то нашего в застенок кинули? За какие такие прегрешения?
— Не за прегрешения, а за преступления! — азартно поправил его речкор, видимо поднаторевший на предвыборных речах. — Он тут сколько лет своевольничал, проворовался вконец. Где подводные сокровища, видите вы их? И мы не видим! И никто не видит! Всем известно, что в подводных царствах должны быть несметные сокровища, а тут — шаром покати! Одни железяки. Мы как только на дне с Максом оказались — так сразу всё поняли! Рыбий народ‑то безмолвствует… Эти, — кивнул на утопленниц, — тоже в рот вашему Водовику заглядывали.
Тут рыбий серебряный шар, ставший ещё толще, прикатился из дальней мути, внутри что‑то закукарекало — и шар мигом распался на тысячи особей. Из середины выбрался изрядно помятый и, видать, изученный вдоль и поперёк как мальками, так и взрослыми рыбицами Перкун. Корреспондент, оказавшийся в окружении толпы избирателей, подплыл к своей бочке и опустился на неё босыми подошвами. А новый русский утопленник заорал:
— За это ему, блин, надо секир–башка делать! Рыба–пила да Карась–палач — во–он они плавают…
Ваня обернулся — и действительно увидал в мглистой дали два силуэта внушительных по размерам рыбин.
— Но мы подписали конвенцию, — закричал речкор. — Мы — гуманисты! Этому прохиндею даже разрешили баллотироваться на пост президента речной Смородиновской республики! Граждане свободного подводного мира, наконец‑то у вас появилась возможность выбора! Целый месяц в нашей газете «Подводный листок» вы могли читать — я сам вам читал — про злодеяния, при которых вы, не ведая того, жили… — Тут корреспондент нырнул с бочки и подплыл к вертикально воткнутому в ил ржавому листу железа, который действительно был снизу доверху исцарапан меленькими буковками. Заинтересовавшийся Ваня подплыл к оранжевой газете — разобрать с непривычки можно было лишь отдельные слова: демократия, гласность, свобода слова.
— Зачем Водовик оградился от свободного речного мира? — продолжал вошедший в раж речкор. — Чтоб никто не знал о том, что тут творится.
Вдруг откуда‑то раздался голосишко:
— Водовику надоело, что речное дно превращают в свалку отходов, вот он и оградился! — И откуда ни возьмись появился колючий Ёрш и, покружившись на месте, продолжал: — И у меня ещё вопрос имеется! Вот Водовик, он и есть Водовик… Он тут испокон веков жил, так же как все мы, наши деды да прадеды, а вот, скажем, насчёт вас что‑то сумнительно… Вы тут обое недавно объявились, а то всё больше по земле ходили да нас, бедолаг, ловили… А таперича, значит, желаете нами управлять… А какое такое вы право имеете распоряжаться, скажем, в водной стихии?
— Вы, господин Ёрш Ершович, видать, не плавали на наши собрания или плохо слушали… — начал корреспондент. — А то бы не задавали глупых вопросов. Я давно всё обосновал. Специально для вас повторяю… — Речкор покосился также в сторону новоприбывшей троицы, дескать, слушают ли они. — Все мы вышли из воды. Вода — наша праматерь. Следовательно, каждый утопленник может в ней править, если, конечно, сможет. Как известно, взрослый человек на семьдесят процентов состоит из воды, — а младенец вообще на восемьдесят пять процентов — ещё один довод в нашу пользу. А состав плазмы человеческого мозга практически идентичен с составом морской воды.
— Блин! Жалко, что у нас тут не море! — вздохнул новый русский утопленник. — Развернуться, блин, негде… Но ничё — лиха беда начало…
Корреспондент замолчал, дав высказаться кандидату, и продолжил:
— В последнее время многие земные женщины повадились рожать в воде, видимо вспомнив о том, где зародилась жизнь. Известно, что человек в стадии зародыша проходит весь цикл эволюции, и на определённом этапе у нас имеются жаберные щели и даже хвост… — поискал он глазами Ерша Ершовича, но не нашёл. Ваня заметил, что Ёрш забрался под ближайшую корягу и там задрых. — А по мере развития плода хвост исчезает, жабры затягиваются…
— Не верю! — вскричал тут Перкун, которому рыба просто в клюв заглядывала. — Не может такого быть! Если бы в утробе у человеческого зародыша были крылья, это понятно. Это объяснимо… А жабры — враки и враки! Не верю!
Шишок, видя, какой успех имеет Перкун у рыбьего народа, усмехаясь, сказал Ване:
— А может, это не Смородина вовсе, а Кукуй-река, про которую он вечно кукарекает…
А речкор тем временем отвечал петуху:
— Так вот, уважаемые избиратели, я вам клянусь, что наш кандидат был также рождён в воде. Причём он был самым первым!.. То есть у него на роду было написано — плавать, то есть, тьфу! править в водной среде. А нынче он откуда пришёл, туда и вернулся… В родные, так сказать, пенаты.
Новый русский, ругнувшись, сказал:
— Вернули, блин, а не вернулся! Конкуренты проклятые!.. Ох, блин, и отомщу я им, когда президентом‑то заделаюсь!.. Пожалеют, что на свет родились…
— Тем более что родились они обычным способом, в воздухе, а не в воде, — подхватил речкор. — Ну а сейчас, дорогие избиратели, приступим к процедуре выборов! — С этими словами утопленник перевернул свою бочку днищем книзу, а дырой кверху — и на виду оказалась большая буква «В», нацарапанная сбоку на бочке. Новый русский таким же манером развернул свою бочку, выставив на всеобщее обозрение букву «М».
— Итак, сюда бросаете голоса за Водовика, — указал корреспондент на бочку с буквой «В», — а сюда — ткнул в «М» — за Макса.
Бочки закатили за железную газету, которая служила ширмой, корреспондент раздал водяницам загодя приготовленные болты, гайки, шурупы и прочее ржавьё и велел опускать «голос» в ту или иную бочку.
Но неожиданно Ёрш Ершович вылез из‑под своей коряги и закричал:
— А мы так не согласные… Мы тута посовещались и решили выдвинуть своего кандидата!
— Не понял, — сказал новый русский утопленник и поплыл к Ершу. — Какого ещё, блин, своего кандидата? Чего ты воду мутишь?! Давно уж всё решено… То есть, я хотел сказать, два кандидата имеются — есть из чего выбирать. Чего вам ещё надо?
Речкор его поддержал:
— Это против правил, господа! Все кандидатуры давно заявлены и всем известны, вчера был последний срок подачи заявок…
— А где такой закон? — мелькал колючим профилем слева направо, а потом справа налево Ёрш Ершович. — Где, скажем, об этом написано? Ежели есть, покажите вот этим новеньким, они нам скажут. Вы читать, скажем, умеете? — подплыл он к Ваниному носу. Мальчик кивнул. — Где, где такой закон, покажите нам?
Остальные рыбины тоже заволновались и мелькать стали гораздо чаще, так и сновали перед глазами.
Корреспондент насупился — видимо, закона выпустить не успели.
— Ну хорошо, и что там у вас за кандидат? — спросил он ворчливо, подмаргивая новому русскому: ничего, дескать, прорвёмся.
Тут Ёрш Ершович в мгновение ока подскочил к Перкуну.
— Вот наш кандидат! — сказал он горделиво.
Ваня с Шишком только рты разинули — куда мгновенно набралась вода, и пришлось им отплевываться. Перкун с обидой поглядел на плюющихся товарищей.
— Бли–ин, петух — кандидат! — завопил тут новый русский утопленник. — Ни за что не буду с ним в одном голосовании участвовать!
Но корреспондент подплыл к нему, что‑то пошептал на ухо — и новый русский смирился. Прикатили ещё одну пустую бочкотару, живо нацарапали на ней букву «П» и подставили к первым двум. Ване, Шишку и Перкуну, не имевшим ещё «голоса», сунули по болту.
— Итак, — хлопнул в ладоши речкор, — начнём с девиц–водяниц. По одной, пожалуйста, и попрошу безо всякой там агитационной музыки.
Утопленницы одна за другой вплывали за железную газету и бросали свой увесистый «голос» в одну из бочек. Потом Шишок поплыл к урнам для голосования и бросил свой болт. Ваня — за ним, подумал–подумал и кинул свой «голос» в бочку с буквой «В», ему как‑то жалко стало свояка. А Перкун? Всё равно ведь он должен будет всплыть на поверхность, причём в самом скором времени — в воде становилось всё темнее, а бабушка Анфиса Гордеевна говорила, что больше суток им здесь оставаться нельзя… И следующим к «урнам для голосования» бросился Перкун, потом новый русский, за ним речкор… И тут — Ваня с Шишком только переглянулись — с гайками во ртах, большей частью беззубых, поплыли стаи рыб… Каких тут только избирателей не было: и сорога–рыба, и карп, и карась, и сазан, и пескарь, и налим, и осётр, и щука, и окунь, и моль, и судак (хорошо, он не слышал, что про него пели), и сиг–рыба и многие–многие другие. В реке стало совсем темно, Ваня одолжил корреспонденту свой фонарик, чтоб он мог следить за ходом голосования, и они с Шишком отправились спать. Перкун, как заинтересованное лицо, остался наблюдать за процедурой.
Мальчик проснулся оттого, что ткнулся головой во что‑то твёрдое, оказалось в дно, он спал кверху тормашками. Почесался, подумал, что надо бы пойти умыться, и обрадовался: он же в воде, здесь умываться не надо! Шишок, которого отнесло течением в сторону, тоже спал вниз головой, того гляди напорется на какую‑нибудь железяку… Ваня, от греха подальше, решил разбудить его и вдруг увидел, что Шишкова балалайка всплывает кверху… Недолго думая, мальчик взвился туда же и успел подхватить деревянную беглянку. Ваня разбудил Шишка и вручил ему инструмент, Шишок только охнул и погладил балалайку:
— Ну, хозяин, с меня причитается! Больно я к ней привык, прямо как к дочери… А и где ж только наш Перкун, чего не кукарекает? А ну как изберут петуха в речные президенты — что тогда делать будем? Печенье Анфискино, правда, ещё есть, но больше трёх дней править ему никак не удастся, кончится печенье — и прощай подводная власть.
Ваня послушал–послушал и задал наконец вопрос, который вертелся у него на языке, как карась на крючке, хотя и так знал, какой ответ получит:
— Шишок, сказали, что мамка здесь, на дне… А разве она здесь, среди этих водяниц?!
— Нет, нету тут, хозяин, Валентины, — вздохнул домовик.
— Нигде нету, — сказал Ваня, чувствуя, как из глаз катятся капли и вмиг растворяются в окружающей влаге. Хорошо тут веньгать‑то — никто ничего не заметит…
Шишок внимательно поглядел на мальчика, хотел что‑то сказать, но тут в тусклой дали замельтешил свет, и появился Перкун, потрясавший Ваниным фонариком, следом за ним мчался, пожалуй, весь речной народ. Петух так махал крыльями, что поднял со дна тучи ила, одна хохлатая голова торчала наружу.
— Пока вы тут дрыхнете, — издалека ещё заорал он, — там выборы фальси… фальси–фицировали! Большинство, дескать, за нового русского проголосовало… А мальки ночью слышали, как мои голоса пересыпали в чужую бочку.
— Перкун, окстись[59]! — потихоньку сказал Шишок. — Мы тут не за тем вовсе! И, сколько я помню, ты же не хотел быть водной птицей…
— Мало ли… — просипел петух. — Простой водной птицей быть не хотел, а президентом реки — всегда пожалуйста!
— Да ведь жабры–те да перепонки не навеки же у тебя. Времени у нас не так много осталось… Сутки–те на исходе! А мы про мел ещё ничегошеньки не вызнали!.. Плюнь ты на них — рыбы с утопленниками сами разберутся!
Меж тем обеспокоенные речные жители так и сновали вокруг говорящих. Перкун вздохнул, сунул Ване фонарик, дескать, с речкора стребовал, поглядел на свои перепончатые лапы и просипел:
— Вот так всегда! К власти порядочной птице ни за что не пробиться…
— Высоко взлетишь — больно падать будет!
— Только не в воде.
— Узнай лучше, где тут у них «Матросская Тишина», где своячок сидит.
— Э–эх! Где наша не пропадала! — воскликнул Перкун и, отплыв в сторону, стал о чём‑то шептаться с окружившей его рыбьей стаей. Вернулся в сопровождении Ерша Ершовича, вся остальная рыба под предводительством Карася–палача вскачь помчалась назад — разбираться с новым русским утопленником и утопленником–корреспондентом.
Глава 19. Фашистский самолёт
Ерш Ершович устремился вперед так, что трое его спутников едва за ним поспевали. То и дело рыбина пропадала в мутной дали, приходилось кликать Ерша, чтоб погодил немного… И вот в скачущем свете фонарика показалось какое‑то громоздкое сооружение — самое крупное из всего, что им встретилось на речном дне. Сооружение вросло в ил. Они подплыли вплотную к тому, что, видать, и служило тюрьмой для Водовика. Над ними косо протянулся какой‑то узкий навес не навес… Шишок, забрав у Вани фонарик, всплыл наверх и ступил на крышу. И, направив на что‑то свет, вдруг притопнул по навесу ногой и проорал:
— Ядрёна вошь! Глядите–ко — фашистский крест!
Ваня взвился к нему, попытался пройтись по узкому мостику и соскользнул.
— Это крыло. Самолёт фашистский. Наши сбили! — говорил Шишок, захлёбываясь. — Вот лежи теперь на дне — будешь знать, как к нам соваться, паскуда!
А Перкун, на пару с Ершом переплыв на ту сторону самолёта, кричал:
— Тут ещё крыло, и тоже с крестом…
Обплыли самолёт кругом и обнаружили кресты на хвосте и на носу. Шишок живо выдрал из дна арматурину и остервенело принялся соскребать крест с крыла. Ваня с Перкуном, переглянувшись, отыскали в иле по острой железяке и стали подсоблять Шишку. Ваня, оседлав нос, попытался заглянуть в кабину пилота через совершенно целое стекло, но там было слишком темно… В скором времени от фашистских крестов не осталось и помину. А самолёт, по словам Шишка, был целёхонек, никаких видимых повреждений, кроме нескольких дырок от наших пуль, обнаружить в нём не удалось. Да и дырки были кем‑то тщательно залатаны.
— Выходит, это и есть «Матросская Тишина»… — приплыв от хвоста к носу, сказал Перкун.
— Скорее, «Пилотская Тишина», — отвечал Ваня. Но Шишок с ними не согласился:
— Это, братцы, самая настоящая «Фашистская Тишина». Так им и надо!
Перкун же, нырнув под крыло, прокричал:
— Ого, да тут дверь!.. Открывается!
Ваня с Шишком живо нырнули следом и подплыли к скрытой в обшивке полукруглой двери, которая и в самом деле была приоткрыта.
— Странно это, — начал Ваня, — если это тюрьма, то почему дверь открыта?
Но Шишок, не слушая его, уже лез внутрь, подсвечивая себе фонариком, Перкун, молотя лапами, плыл следом, и Ваня поспешил за друзьями, оставаться снаружи одному ему не хотелось. Ёрш Ершович же куда‑то запропастился.
Свет фонарика выхватывал из темноты лавки с двух сторон по бокам салона. На полу лежали какие‑то банки, Ваня подхватил одну — написано по–немецки, и нарисована голова коровы, значит, говядина? Интересно, съедобная? Они ведь сегодня не завтракали… Парашют на лямках зацепился за какой‑то трос. Нацелилась Ване в глаз авторучка с золотым пером… Мальчик подцепил её. «Трофей, хозяин», — сказал Шишок и сунул ручку в котомку. А банку с тушёнкой, открыв арматуриной, сунул Ване под нос, но мясо за 50 лет явно испортилось, и Ваня помотал головой отрицательно. Перкун тоже отворотил клюв.
«Мне больше достанется!» — удовлетворённо сказал Шишок и, вместо вилки пользуясь арматурой, живодва схряпал тушёнку. Впереди маячила дверь в кабину пилотов, и Шишок уже плыл туда.
И вдруг дверь, в которую они вплыли из реки, благоразумно оставленная Ваней открытой, беззвучно закрылась. Ваня бросился к ней, попытался открыть, но тщетно… Шишок мигом подскочил к двери и надавил плечом… И тут в круглый иллюминатор сунулась с той стороны толстого стекла морда утопшего корреспондента, показала им язык и что‑то крикнула — что именно, Ваня не понял, а Шишок, видать, понял — и ответил, как надо. И в придачу к словам замахнулся ещё балалайкой — вышло это у него в воде замедленно и плавно. Ваня был уверен, что Шишок тут же откроет дверь, что ему какая‑то дверца — с его‑то силищей! Но Шишок, оставив входную дверь в покое, опять поплыл к двери, ведущей в пилотскую кабину. Ваня же прилипал носом ко всем иллюминаторам по очереди — но проныру–речкора больше не увидел. А Шишок в это время уже вплывал в кабину лётчиков — и Ваня с Перкуном поспешили за ним.
При скупом свете фонарика все увидели, что в кресле пилота кто‑то сидит… Спиной к ним. Неужто мёртвый фриц!.. Ваня зажмурился — только этого ещё не хватало! Но по кабине раскатился вдруг такой храп, что сомневаться в том, что в кресле не мертвяк, не приходилось. Шишок подплыл к креслу с одной стороны, Ваня с Перкуном — с другой… Шишок направил фонарик в лицо «пилота» — и все увидали толстого бородатого мужика, спящего с разинутым ртом. Струйка воды то втягивалась внутрь, то выбулькивала наружу, и в этом водном вихрике резвилась стайка крошечных мальков, то заплывая в раззявленный рот, то на большой скорости выметаясь наружу. На голове мужика сидела немецкая рогатая каска, вся перевитая водорослями. Мужик был в кафтане такого же цвета, как пиджак нового русского, кафтан не застёгивался — и над креслом возвышалось внушительное брюхо, одна рука лежала на вздымавшемся животе, и Ваня увидел, что ладонь у мужика, так же как у них, перепончатая. Из‑под кафтана торчали голые ноги, тоже, конечно, с перепонками меж пальцев. Шишок направил свет фонарика в левый глаз мужику и гаркнул:
— Эй, свояк, хватит дрыхнуть, всю власть ведь проспишь!
Мужик открыл глаз, заслонился от света рукой, закашлялся — и выплюнул заигравшихся мальков.
— Тьфу, разбойники! — проводил взглядом разлетевшихся во все стороны рыбенят. Потом внимательно поглядел на каждого из окруживших пилотское кресло и, потянувшись, сказал:
— А я вас тут давно–о поджидаю… В выборах, что ли, участвовали?
— А ты, что ль, знаешь про выборы? — удивился Шишок.
— А как не знать! Я ж Водовик — всё должон знать, что в моей вотчине происходит.
Вопросы посыпались с трёх сторон:
— А как же ты позволил, чтоб тя в тюрьму засадили? А ещё хозяин называешься… — укоризненно говорил Шишок.
— Почему в реке эти двое утопленников заправляют? — интересовался Перкун.
— А кроме водяниц, которых мы видели, есть на дне ещё какие‑нибудь тётеньки? — спрашивал Ваня.
Водовик замахал руками: «Погодите, погодите, не все сразу» — и, хитро поглядывая, сам стал спрашивать:
— А вот, скажем, кто знает, что эти циферки означают? — указал толстым пальцем на один из приборов на пульте управления.
Шишок глянул одним глазом:
— Из этих циферок следует, что горючего в самолёте под завязку. Видать, летел немец с какого‑то аэродрома неподалёку…
— Согласен, — сказал Водовик. — Этот паразит Зигфрид дочку у меня из‑под самого носа увёл!..
— Как это? — воскликнули все трое в один голос.
— А так!.. А вот, скажем, хватит этого бензину, чтоб до Эльбы–реки добраться?
Шишок, в удивлении расквасив губы, поглядел на показатели приборов, поскрёб в башке и кивнул:
— Должно хватить…
— А при чём тут Эльба–река? — спросил Перкун. Водовик же, не отвечая на вопрос, опять задал свой:
— А водочка‑то где, которую Анфиса Гордеевна велела мне поставить, не отдали этим мазурикам? Без водочки не пойдёт разговор…
Друзья переглянулись: и как это Водовик про водку пронюхал! Шишок мигом стащил с плеч котомку и, перерыв содержимое, вытащил припасённые бутылки. Откупорив когтем по очереди все шесть бутылок, Водовик мигом выдулил их, смачно занюхал рукавом, — и пустые ёмкости, ровно живые рыбины, принялись кружить вокруг его головы. Понаблюдав за их движениями, Водовик переловил их одну за другой и сунул Шишку:
— На, сдашь на земле стеклотару. А то мало мне тут сору‑то всякого…
Шишок засунул пустые бутылки в котомку, которая была теперь лёгонькой. Водовик же пригорюнился, подпёр рукой толстобородую щёку и начал наконец свой рассказ:
— Э–эх! Говорится ведь, силён, как вода, а глуп, как дитя, — так это про меня! Явился этот Зигфрид к нам, не как все другие протчие — с земли, а — с самих небес! Ну и… Каюсь, сам вначале стал его привечать, больно мне интересно было, как там, скажем, жизнь проходит в Неметчине… Как он летать выучился, и всё такое протчее… Да и любезен он был сверх всякой меры, всё bitte-dritte, всё улыбается, угодить хочет. Фляжечка у него была, а в фляжке… ну, впрочем, про это не буду… И ни бельмеса этот небесный Зигфрид не мог по–нашему сказать. Всё только — я да я… Якала. Но я, скажем, надежды не терял, думаю, выучится же он когда‑нибудь по русски балакать, времени‑то у нас — целая вечность. Тогда и погуторим…
А Морушка моя, вроде сторонилась его, дескать, видали и не таких. Только фыркала, когда он ей: — Nette Jungfrau. schwimme zu mir![60] — Сам я, пустая башка, подталкивал её к нему, дескать, не укусит он тебя, хоть и фриц. Пообщайся, дескать, неужто не интересно тебе узнать, как не в наших местах люди живут… (Про то, как у нас живут, мы от своих утопленников уж наслышаны!) Мородина у меня водяна видная была, как поплывёт — так всякий карась роток раззявит! Хвостиком махнёт — а хвост у неё так, бывало, и переливается, что твои самоцветы!.. Да–а… Но всё это только один вид был — что наплевать ей на немчуру. Потом уж понял я, что столковались они с самого первого взгляда. Им и язык был без надобности, они по–другому меж собой разговаривали. Хотя и языку своему он её учил, а я, старая коряга, радовался, думал, она толмачить для нас с немцем будет. Книжка у него была с собой, «Фауст» называется, вот он всё из неё зачитывал. Как он примется читать — так я и засну! Лучше всякой колыбельной этот «Фауст» был, а, как я засну, тут уж им вольная воля… В конце концов выучил он её по–своему балакать, как начнут при мне гав–гав–гав, гав–гав–гав, а чего гав–гав–гав — я ни бельмеса не понимаю. Морушка моя и сама потом «Фауста» этого почала читать. Да–а… А звал он её не Мора, или, скажем, Мородина — Одина. Дескать, имя у неё божественное. А какое такое божественное, обычное речное имя…
Как‑то просится моя Морушка, батюшка‑де, дозволь мы с Зигфридом сплаваем к дяде Постолу, проведаем его, гостинчик снесём. А Постол в притоке жил, не так чтоб очень далёко отсюда. Ну я и согласился — безводная я пустошь, пустое я ведро! Своими руками снаряжал единственну дочь для побега с немчурой!.. Собрал водорослей лечебных, речных жемчужин, и поплыли они, обещались к завтрему вернуться. Но так и не вернулись ни на завтра, ни на послезавтра… Поздно я почуял неладное, погоню снарядил — да уж не нагнал беглецов.
А Зигфрид этот на Эльбе–реке проживал, так думаю я, что туда они и подались! Добрались, нет ли — не знаю. Это ведь: из протока в проток, из реки в реку — к Ильмень–озеру, из Ильмень–озера — в Ладогу, оттуда в финские озера, после в залив, из залива в Балтику, потом в Северное море, и только оттуда вверх по течению — в эту самую немецку реку. Дорога ох длинная! А в каждом протоке, в каждой реке, в каждом озере, не говорю уж про море — свой хозяин, у всякого свой норов… Да–а… Пятьдесят лет прошло — как в воду канули!.. Ни слуху ни духу! Может, сидят где в заточении, а может, величаются в Эльбе‑то реке… Вот, скажем, вы спросите: отчего ты так глуп, Водовик, что не уследил за дочкой? Отвечу: вода у нас такая…
— А я не про то у тебя хочу спросить, дядька Водовик, — зашипел вдруг Шишок, — а совсем даже про другое… Покамест, значит, мы кровь свою да чужую проливали, ты тут в тихом омуте отсиживался!..
С Зигфридом этим валандался!.. Шнапс[61] немецкий пил!.. Ты почему, падаль, не воевал, как все прочие?! Ещё и в каске фрицевской щеголяешь, как, как… как последний предатель!..
Ваня с Перкуном отшатнулись от разгневанного Шишка, а Водовик и не подумал. Сидел в своём пилотском кресле с воздетым кверху брюхом и пристально смотрел на наглеца. Потом зевнул и сказал:
— А и не буду я оправдываться… В солдаты али там в матросы никто меня никогды не записывал… Ни по своей, ни по чужой воле в армии я не служивал… И в Смородину отродясь немецких подводных лодок не заплывало… А то бы я беспременно опустошил пару–тройку от немчуры‑то — аккурат бы мне сейчас под дворец сгодились. Без крыши над головой нынче и под водой не проживёшь… Того гляди, какая‑нибудь железяка на дурну башку свалится. Вот и хожу в каске. Вот бы вам на земле‑то так жить, когда б с неба заместо дождичка кирпичики валились. А у нас нынче так и происходит! У нас нынче, скажем, тоже война! Только не немцы, а свои — железны и всякие протчие бомбы на нас валят… Хорошо вот, оградились мы — тем только и спасаемся. Дак в этом заповеднике всю жизнь, скажем, не просидишь, тоже и вниз по течению сплавать надо, и вверх, посмотреть, что там да как… Хозяйство‑то у меня дюже длинное… Вот и отдыхаю я временами в Зигфридовом самолёте… Покою хочется…
— А разве это не ваша тюрьма? — спросил осмелевший Ваня. Шишок же надулся, он делал вид, что не слушает, пытался сесть во второе кресло, хоть его выталкивало оттуда почём зря, и, чтоб удержаться, Шишок изо всех сил вцепился в подлокотники.
— Это моя резиденция! — взмахнул рукой Водовик. — Тесноватая, правда, да ничего, в тесноте, да не в обиде.
— А они сказали, что… Но вы ведь здесь заперты были или как?..
— Кто бы посмел меня запереть! — воскликнул свояк. — Я сам здесь заперся ото всех!.. Когда, скажем, хотел — выплывал, когда хотел — вертался… На всё моя воля!
— А зачем же вы выборы президентские в реке дозволили, если на всё ваша воля? — с этим вопросом Перкун проплыл над головой Водовика. — А если бы этого утопленника избрали, Макса, что тогда?
Свояк, задрав голову к проплывающему петуху, отвечал:
— Хотел, я, скажем, народишко испытать… Хотел поглядеть, что из этого выйдет, — может, что хорошее… А то что у нас тут всё одно и то же! Перемен захотелось… Ладно, далеко дело не зашло: понял я, что ничего путного из этих выборов–перевыборов не выйдет! Вот и пресёк. Но, конечно, очень любопытный народ пошёл сверху, может, ещё кого занесёт!.. Хотя того цепного утопленника всё равно не избрали бы, а вот тебя, птичка, — поглядел Водовик на петуха, — может, и избрали б…
— Не сомневаюсь, — сказал, напыжившись, Перкун.
— Опять же, если б я захотел, — добавил туг Водовик.
А Ваня, поскольку Шишок, видимо, на неопределённое время выбыл из разговора, — сам решил спросить про то, зачем они сюда припожаловали. Начал он хитро — из горизонтального положения:
— Скажите, дяденька Водовик, а как же вы от людей оградились?
Водовик поглядел на Ваню, перегородившего кабину, и усмехнулся:
— А разве ж ты не знаешь?
Ваня покраснел и, подхватив себя под коленки, чтоб занимать вдвое меньше места, ответил:
— Знаю, что невидимым мелом… А как?
— Ох, ведь интересант какой! По дну ватерлинию провели — с одной стороны да с другой. И по берегу — левому и правому.
— А мел у вас остался? — сделал Ваня кувырок, так что поджатые ноги его оказались под потолком, а лицо с опустившимися вниз волосами оказалось против лица свояка.
Все в ожидании уставилась на Водовика, даже Шишок, машинально дёргавший рычаги, обернулся с кресла второго пилота.
— У меня мела нет. А, скажем, остался ли он у Валентины, чего не знаю, того не знаю…
— А… где же она? — спросил Ваня, переворачиваясь кверху головой. — Разве не здесь, на дне? Анфиса Гордеевна сказала, что…
— Была она здесь… Да уж давненько, сколько лет минуло… Пяти минут не пробыла, я, как узнал, какой вещью проклятая владеет, мигом её на землю спровадил, меловые линии провести по берегам, чтоб отделаться нам от людишек. В воде мы сами управились, а снаружи кто б нам, скажем, поспособствовал, ежели б Валентина утопленницей стала… Сделала она своё дело и села на бережку. Я из воды голову высунул, она на камушке сидит, в камышах. Поговорили мы с ней по душам. Гуторит она, деваться мне некуда, думала, дескать, решились уж все вопросы, а тут на–ко! опять о будущем надо заботиться. В таком разе поеду, дескать, в Москву, к тётеньке Раисе Гордеевне, давно, дескать, мечтала… Я ей не советовал, слышал, что тётенька эта сущая ведьма! Примет, нет ли опустившуюся на дно — большой вопрос… А послушалась ли меня Валентина — того не знаю. Кто ж нас, стариков, нынче слушает, все своим умом живут, а после и попадают!.. А что касается мела… Слыхал я, что таким мелом в ранешние‑то времена целые города от мира отбояривались[62]. Вот, скажем, Китеж–град… Говорят‑де, когда татарская орда приблизилась, стал город невидимым и ушёл на дно озера Светлояр… Так ведь не слыхивали водовые–те про такой город на дне!.. Сдаётся мне, что был в городе невидимый мел, а когда завидели дозорные полчища Батыя, обвёл князь кругом Китежа кольцо.
— Значит, в Китеже много было этого мела? — решил вступить в разговор Шишок, он по–прежнему нет–нет да и подёргивал рукоятки.
— Имелись, видать, запасы, — буркнул Водовик, не глядя на Шишка. — И Китеж–град, гуторят, до сих пор стоит, только ходу туда нет прощелыгам‑то… Одних праведников пускают.
— А Валентина? — спросил Ваня.
— А что Валентина? — удивился Водовик. — За услугу одарил я её, преподнёс жемчужно ожерелье. Морушка моя сама его сцепляла из отборнейших смородиновых жемчужин, приданое себе готовила, да второпях‑то и забыла, когда на Эльбу–реку сплыла с немецким дружком… Мигом нацепила Валентина то ожерелье на шейку. И больше я её видом не видал, слыхом не слыхал.
— Значит, есть сокровища‑то на дне, — вновь вступил в разговор Шишок, продолжая подёргивать рычажки, — а то эти двое утопленников шибко гневались, что ты распродал всё в иноземны моря. А им ничего не оставил…
Водовик покосился на Шишка и сурово ответил:
— Всё есть, да не про их честь! Неужто я кажно–го проходимца в свою сокровищницу поведу?! — При последних словах он с издёвкой поглядел на Шишка. Тот брюзгливо дёрнул плечом, дескать, на что это он намекает, и в досаде дёрнул одну из ручек. И вдруг что‑то загудело, мотор затарахтел, самолёт качнулся и, рванув с места, так, что дверь распахнулась и Ваню с Перкуном вынесло в пассажирский салон, помчался по дну Смородины…
— Ли–ко! Работает! — орал Шишок. — Мать честная! Разве может такое быть?! Я думал, он проржавел с хвоста по самую гриву! Водовик, твоя работа? Ты на Эльбу, что ли, на нём собрался?
Первый «пилот» только глаза вытаращил:
— Собирался, скажем, но не так же! И не теперь! А ну–ко останови самолёт, проклятый домовик! — Он попытался выбраться из кресла, но, видать, застрял в нём накрепко и при каждом усилии только побулькивал…
— Не–е, я не проклятый… — кричал тем временем Шишок. — И легко сказать — останови! Мой хозяин на самолётах‑то летал — не я!.. Я только видел, как он это делает…
Меж тем вода бурлила за стеклами кабины, стаи рыб метались туда–сюда, вот мелькнули визжащие утопленницы, в ужасе расплывавшиеся кто куда. Самолёт, подскакивая на кучах мусора, нёсся куда‑то сломя голову. Ваня с Перкуном, которых тянуло назад, с трудом выбрались из салона и вплыли в кабину лётчиков.
— Что это такое, а, Шишок? — кричал Ваня. — Что случилось?
— Лети–и–и–им! — заорал туг Перкун и закукарекал.
Действительно, самолёт оторвался от дна и буравил уже воды реки, которые не могли оказать железине серьёзного сопротивления. Водовик только охнул, потому что внезапно вместо мутной водицы за стёклами вспыхнул яркий солнечный свет. Самолёт, полный речной воды, с двумя лётчиками и двумя пассажирами на борту, набирал высоту. Внизу, покачиваясь, мелькала лента реки, качались крыши бараков, домов, складов… Обомлевшие горожане тыкали пальцами в самолёт, поднявшийся со дна реки, и что‑то кричали.
— Придётся выпустить воду, — закричал Шишок, — иначе самолёт на город рухнет… Посадить я его пока не сумею…
— А потом? — спрашивал Ваня.
— Может, по дороге выучусь…
— Не, я, скажем, не согласный, — закричал Водовик, — без воды я задохнусь!
— Так и мы задохнёмся!.. — воскликнул Перкун.
А Шишок спрашивал у Водовика:
— Так как же ты собирался до Эльбы–реки‑то добраться в этом аквариуме? С полным брюхом воды самолёту далеко не улететь… В реке, понятно, на всё твоя воля, а в воздухе?
— Как, как?! В бочке…
— Значит, ты бы в бочке с водой сидел, а кто бы самолётом управлял?
— А вот всё ждал такого умельца–лётчика… Да не того дождался…
— Надо было бочку для полёта загодя готовить… А ты в политические игры вздумал играть! Вот теперь без тебя утопленники‑то точно захватят власть!..
— Да некому захватывать!
Шишок воскликнул:
— Значит, Карась–палач со своими подручными уж спроворил дело! Скор же ты, своячок, на расправу!.. Впрочем, как к тебе, так и ты…
Мотор ревел с натугой, из последних сил, надутый водой самолёт летел низёхонько, того гляди сдерёт крыши с домов. И Ваня, пока Водовик с Шишком, невзлюбившие друг друга, пререкались, скатился в салон и попытался открыть дверь, через которую они сюда попали. Но дверь открываться не хотела, да если она и откроется, как пить дать, вынесет его с отворённой водой наружу…
Тут Шишок позвал его назад в кабину. Он посадил заместо себя в кресло Перкуна, наказав держать штурвал, дескать, он как‑никак птица, к полётам более привычный, чем кто‑либо другой… А сам, стоя на пороге кабины, выбросил вперед ногу, которая вдруг вытянулась так, что любая манекенщица позавидовала бы такой стоеросовой длине, нога как раз достала до двери салона, которую и выбила одним богатырским махом. А когда нога сократилась до обычных размеров, Шишок тут же захлопнул дверь кабины. Но Ваня успел‑таки углядеть, как вода с рычанием ринулась в дыру.
Ване вдруг стало тяжело дышать, взглянув на руки, он обнаружил, что перепонки на них исчезли… И на ногах тоже!.. И жабр больше не было!.. С его спутниками случилось то же самое… Значит, сутки истекли, их время вышло. Вот ужас‑то! Шишок попытался открыть дверь в салон, чтоб сплавить туда воду из пилотской кабины, но Водовик понапружился, выскочил из кресла пилота и, оттолкнув Шишка, загородил собой дверь в салон.
— Не–ет уж, друзья, вам отсюда не выбраться! Ведите самолёт куда надо — я, скажем, пятьдесят лет мечтал добраться до Эльбы–реки, и я там нынче буду!
— Не глупи! — булькнул Шишок, и больше ни слова не смог произнести, только показывал свои ладони с растопыренными пальцами, между которыми не было уже никаких перепонок. Водовик поглядел на его руки-ноги, на Ванины руки–ноги, на лапы Перкуна, который из последних сил держал штурвал, и от души сплюнул, поняв, что скоро толку ни от лётчика, поднявшего самолёт в небо, ни от его друзей не будет. Выпустить воду — сам задохнёшься, оставить воду — в кабине будет трое ни к чему не годных утопленников.
Ваня стал уже задыхаться, он схватился за ладанку с одолень–травой. Одолень–трава! Одолей озёра синие!.. Тут Водовик, в сердцах сплюнув ещё раз, повернулся к двери. Шишок живо втолкнул в пустое кресло Ваню, сам ринулся ко второму креслу и мёртвой хваткой вцепился вместе с Перкуном в штурвал. Свояк же открыл дверь — и освобождённая вода из кабины устремилась в салон, а на гребне её, задрав ноги, сидел в своём красном зипуне и фрицевской каске Водовик.
Поток вынес своего хозяина в салон, ринулся в дверной проём, и свояк в водной капсуле устремился вниз — самолёт, хоть и миновал город, всё ещё летел над Смородиной, и Водовик это чуял. С остатками воды водожилый обрушился в реку, достал до дна, оттолкнулся и выскочил из водотечины наружу, оказавшись перед носом пытавшегося набрать высоту самолёта, — и все увидели в переднее окно кабины подмаргивающую рожу Водовика и воздетую в прощальном жесте перепончатую руку. Шишок поднял в ответ свою мохнатую, а Ваня с Перкуном, вскочив с места, сунулись носом и клювом к самому стеклу — Перкун едва не пробил его — и вовсю замахали руками, крыльями и лапами. Когда Водовик во второй раз обрушился в реку, оттуда выбило такой фонтан воды, что он дотянулся до днища самолёта.
В реке Водовик живо обернулся Ершом и стремглав помчался вверх по течению — к Ужгинскому мосту, только буйные водовороты закручивались вокруг обтекаемого тельца.
А самолёт, набрав наконец высоту, улетал всё дальше от реки Смородины и от города Ужги…
Глава 20. Москва!
Когда угроза того, что самолёт неминуемо обрушится, миновала, стали потихоньку свыкаться с тем, что дышать надо воздухом, а не мокредью, обсыхать стали на солнышке, которое с непривычки слепило глаза. Шишкова балалайка стояла, прислонённая к пилотскому креслу. А сам пилот, сняв и тщательно отжав мокрую пижамную кофту, а после штаны и снова нацепив их на себя, пробормотал:
— Дон, Дон, а лучше дом!
Ваня тоже выкрутил свою одежду и повесил сушить на спинке кресла, вытащил из котомки вещи и их поразвесил, где только можно, вылил воду из своих раздолбайских ботинок и поставил на приборную доску, достал даже подарок Оглобли — Березайкину сосновую ветку — и тоже положил просушить, а то ведь сгниёт. Шишков полушубок повесил обыгать[63]. Шишок подскочил к полушубку и поглядел, в порядке ли медаль, потер её волосатыми ладошками, пробормотав: «Как бы не заржавела!» — и вернулся к пилотскому креслу. Одному Перкуну не надо было ничего сушить — он живо–два отряхнулся от воды, забрызгав всех кругом, и спросил:
— Куда летим‑то?
— Куда–куда, — проворчал Шишок, — известно куда — в Москву!.. Если, конечно, не собьют нас… К Раисе Гордеевне летим, старшей Василисиной сестрице, теперь на неё вся надежда, авось найдём у неё Валентину, а нет, так хоть узнаем, где она. Будем надеяться, что остался у Вальки мелок–от!..
Ваня с увлечением глядел в окно на расстилавшуюся внизу землю и, услыхав про Москву, улыбнулся. Неужели они летят в столицу?! Как хорошо, что так сошлось: ищут мел, а вместе с тем и Ванину мамку! И если она в Москве, они обязательно её найдут — чтобы Шишок да не нашёл! А бабушке Василисе Гордеевне придётся простить дочь, уж как она ни ерепенься… Все вместе они этого добьются, что бы там мамка ни сделала!..
— А ты думаешь — там Москва? — указывал меж тем Перкун на солнце, к которому направлялся самолёт.
— А вот ты мне и должон сказать, где столица нашей Родины… — говорил Шишок.
— Откуда ж мне знать, я там никогда не бывал.
— Ну и что, что не бывал… Небось, перелётные птицы, когда первый раз на юг летят, тоже прежде там не бывали, а знают же дорогу…
— Я не перелётная птица! Может, у них карта в голове прорисована…
— Карта! — воскликнул Шишок. — А ведь точно! Ну‑ка, хозяин, глянь‑ка, в бардачке… Может, завалялась какая‑нибудь фрицевская карта, если не сгнила за пятьдесят лет…
Ваня открыл бардачок, откуда вылилась водица, достал компас, потом тубус, открыл его и вытащил целую кипу мокрых и слипшихся карт. Отделив крайнюю, он разложил её на кресле и, встав на коленки, стал изучать. Напечатано было по–немецки, но Ваня мигом нашёл и Москву, и Ужгу — и с торжеством показал спутникам. Шишок принялся определять направление, и скоро самолёт, по уверениям Шишка, полетел в нужную сторону.
— А посадить‑то ты его сумеешь? — спрашивал подозрительно Перкун.
— Да уж попробую. Только думаю я, не придется нам садиться…
— Это ещё почему?
— А потому! Собьют нас, как пить дать, собьют! Э–э–х, хозяин! — повернулся Шишок к Ване и затряс лохматой башкой, — никогда не думал, что на немецком самолёте доведётся в Москву лететь! Я ведь тоже в столице‑то не бывал! Одно утешение — что кресты успели соскоблить! Я с прежним хозяином однажды тоже на «юнкерсе»[64] летел, дак мы в тот раз из плена бежали, выхода у нас не было… Наши чуть нас не сбили…
— Но не сбили же! — воскликнул Перкун.
— Не сбили. А в этот раз собьют! И правильно сделают! Вот только думаю, сейчас собьют или ближе к столице? Сначала, конечно, связаться попробуют, а рация‑то у нас не работает, я уж смотрел…
— Не собьют, — сказал Ваня. — Побоятся. Сейчас просто так иностранные самолёты не сбивают.
— Давай на что хочешь поспорим — собьют! Чтобы наше небо бороздил неизвестный немецкий самолёт — ни за что такого не допустят!
Поспорили, Перкун разбил руки спорщиков когтистой лапой.
А пока их не сбили, Ваня принялся отделять одну от другой и расстилать на полу мокрые карты. Оказалось, что карты тут были не только немецкие, но и свои, некоторые старинные, черчены не на бумаге, а на телячьей коже, была даже берестяная карта. Буквы были не такие, как нынешние, и Ваня не мог разобрать, что там написано. Шишок мельком глянул на одну из карт, которую показал ему Ваня, и сказал, что, скорее всего, в этот тубус Водовик и свои карты затолкал, может, с каких‑то затонувших в древности посудин, недаром он говорил, что этот самолёт — его резиденция.
Карты и вещи сохли — а далеко внизу промелькивали так, что и разглядеть не успеешь: леса тёмные, горы высокие, долы низкие, озёра синие, берега крутые, пеньки и колоды… Шишок с его коротенькими ножками и ручками в этом самолёте был как мальчуган на взрослом велосипеде, когда ноги не достают до педалей, и крутить их приходится, не приседая на седельце. Ваня, кивнув на его ногу, спросил:
— И как это у тебя, Шишок, выходит?
— Управлять‑то? — не понял вопроса домовик.
— Да нет: то рука у тебя вытянется незнамо докудова, то нога?
— А–а, — махнул рукой Шишок, — это у меня редко, хозяин… Иной раз, — как вот сейчас, — тужишься, тужишься, а ничего… Токмо в самые решительные моменты получается. Всякий раз не знаешь: то ли пан, то ли пропал!.. То ли сильно озлиться надо, толи что…
И вот уже под самолётным брюхом раскинулся огромный город.
— Ядрёна вошь! — воскликнул Шишок. — Никогда не думал, что доведётся попасть в столицу! Домов‑то, домов! — восклицал Шишок, почти забыв про свои пилотские обязанности. — Вот где домовиков‑то должно быть! Хотя, конечно, они в этих каменных сотах не выживут. Нас и в нормальных‑то домах почти не осталось, а в этих… Сумнительно что‑то… И, выходит, бездушное это место — Москва… Кто душа дома, хозяин? Постень, домовой, значит!
— Ты бы лучше за штурвалом следил, Шишок, — обернулся к нему Перкун. — Посадишь самолёт, нет? Не сбили ведь нас…
— Не сбили… — несколько разочарованно проговорил Шишок. — Проморгали небось…
— Над городом уже не собьют, — сказал Ваня. — А где аэродромы‑то? В Москве их много должно быть.
— А кто ж их знает! — пробормотал Шишок. — И туда опасно лететь, там, небось, всё по часам расписано, кому взлетать, кому садиться. Как бы столкновения не учинить… Ладно, где‑нибудь да сядем, на каком‑нибудь широком месте…О! — воскликнул тут Шишок. — Вот и сопровождающие… Я же говорил, так не спустят!
Действительно, с двух сторон от «юнкерса» на безопасном расстоянии летела пара самолётов, один даже помахал крылами. Вежливый Шишок попытался ответить на приветствие, в результате чего Ваня с Перкуном кубарем покатились на пол, да и сам Шишок только чудом удержался на месте. Перкун прокудахтал что‑то невразумительное, а Ваня промолчал, только потирал ушибленный бок.
— Вот увидите, нас теперь на земле будут встречать… — говорил меж тем Шишок. — Арестуют, как пить дать!
— В «Матросскую Тишину» свезут? — спросил полушутя Ваня, хотя сердечко его забилось. Неужто и вправду посадят их в тюрьму?.. И это теперь, когда они так близки к цели…
— Из одной «Матросской Тишины» — да в другую, — просипел Перкун. — С корабля на бал!
— Надо прикинуться иностранцами! — воскликнул Ваня. — Им сейчас раздолье… Ты по–немецки умеешь говорить, Шишок?
— Н–ну, как сказать…
— Значит, не умеешь, — вздохнул Ваня. — Рожнака бы сюда…
— Да уж… Он бы им выдал: Guten Morgen, guten Tag[65], дам по морде — будет так! А ну–ко все по местам! Сейчас садиться будем!
Самолёт так резко пошёл на посадку, что, казалось, вот–вот пропорет крыши враз приблизившихся домов. Ваня вытаращил глаза — потому что садиться Шишок решил на Красной площади! Мальчик узнал не раз виденную на картинках Кремлёвскую стену, вдоль которой теперь мчался их самолёт… Хорошо, что народу на площади никого не было. А почему? Неужто закрыли площадь, разгадали, куда их несет, такой случай ведь был уж: какой‑то немецкий парень — как же его звали‑то? — посадил свой самолётик прямо на Красной площади — и, насколько Ваня помнил, ничего ему за это не было…
А из железного брюха уже выбросило шасси, и самолёт, подпрыгивая, мчался по брусчатке — у Вани всё внутри перевернулось. Самолёт с разгону подъехал к собору Василия Блаженного, развернулся и стал.
— Приехали! — сказал Шишок.
— Станция Березай — кому надо, вылезай! — пробормотал Ваня и тут же вспомнил лешачонка. На душе было тоскливо. Перкун, вытянув шею, показывал когтистой лапой на бегущих к самолёту людей в штатском. Шишок, уткнув лицо в ладони, сидел в пилотском кресле. Ваня скорёхонько оделся, собрал вещи и сложил их в котомку, сунул в тубус подсохшие карты и тоже припрятал, авось пригодятся, обул ботинки, напялил на голову шапку от Святодуба. Всё‑таки вся одежда была ещё влажная. Шишок отнял ладони от щёк — и вместо бодрого и моложавого вновь оказалось Ванино лицо в старости. Шишок подмигнул мальчику, нацепил мокрый Цмоков полушубок, закинул за плечи балалайку и первым пошёл к двери.
В проёме виднелась Спасская башня с курантами. Шишок отдал башне честь — и мягко приземлился на брусчатку. Ваня прыгнул вторым и отбил подошвы. Перкун с квохтаньем слетел далеко вперёд — так что люди в штатском принуждены были отскочить по сторонам. Один из них сунул голову в дверь — но больше никто в Москву не пожаловал. Послали человека осмотреть самолёт — он был пуст. Кроме деда, мальчика и петуха — других нарушителей не имелось. Шишок поклонился на все четыре стороны — собору блаженного, Спасской башне, ГУМу, Историческому музею, поздоровался и спросил:
— А где тут у вас Большой театр? Нас, граждане-товарищи, срочно вызвали из Парижу, в вашем театре опера Римского–Корсакова идёт, «Золотой петушок», так мы исполнителя партии Петушка привезли, — и Шишок показал на Перкуна, который тут же исполнил свою арию. А куранты на Спасской башне исполнили свою.
— В Москве пятнадцать часов, — сказал Перкун голосом Левитана.
Люди в штатском, разинув рты, смотрели на незваных гостей. Один воскликнул:
— Чёрт знает, что творится! То Растропович с национальным оркестром США и всем Вашингтонским хором прилетел, теперь эти… Чего они все разлетались!..
— Те Чайковского исполняли, «1812 год», — уточнил второй, видать, знаток музыки.
А третий спросил, обращаясь к прилетевшим:
— Почему так хорошо говорите по–русски?
— А мы потомки эмигрантов, — нашёлся Ваня.
— Князь Шишков–Домовитый, — тут же представился Шишок, прищёлкнув мохнатой подошвой. — Это граф Иван Житный, — ткнул он пальцем в Ваню, а это… — поглядел Шишок на раздувшего зоб Перкуна: — Это всемирно известный тенор, я уж говорил… Я, кстати сказать, во время войны партизанил с беглыми советскими военнопленными, в Парижу‑то. — Медалька Шишка призвякнула. — А этот трофейный самолёт вам посылают лётчики полка «Нормандия — Неман», — при этих словах Шишок намекающим жестом указал на себя. — В очень хорошем, между прочим, состоянии…
Понять, то ли Шишок находится в очень хорошем состоянии, то ли самолёт, было никак нельзя. Но люди в штатском поняли, как надо: они и сами видели, что состояние «юнкерса» самое удовлетворительное, если не отличное. Всё‑таки один из окруживших троицу поинтересовался документами. Ванино сердце упало — ну вот, сейчас их и раскусят! Шишок же, ни слова не говоря, полез в котомку — и, к Ваниному ужасу, достал оттуда сосновую ветку Березая, оторвал одну из шишек и с самым невозмутимым видом протянул начальнику. Но всего удивительнее было то, что человек в штатском шишку взял, долго изучал её, держа в раскрытой ладони, потом кивнул, дескать, документ в порядке, и вернул шишку владельцу. Шишок с важной миной засунул её обратно в котомку.
Когда они уже миновали Красную площадь и ступали с брусчатки на обычный асфальт, Ваня, обернувшись на самолёт, вокруг которого толпилось теперь множество народу (некоторые залезли на крыло и фотографировались), опять стал спрашивать Шишка:
— А это ты как делаешь?
— Что? — не понял Шишок, который тоже обернулся посмотреть на площадь, и пробормотал: — Чего–чего тут только нет!.. Даже великий навий лежит. Эх, поговорить бы с ним!.. Да времени нет!
— Ну, с шишкой‑то…
— А чего с шишкой? — посмотрел Шишок на Ваню.
— Ну, шишка вместо документа… А они и не видят… Это ты у бабушки Василисы Гордеевны выучился начальству глаза замазывать?
— Это ещё кто у кого! — обиделся Шишок. — И чем тебе, хозяин, шишка не угодила? У Шишка документ — шишка, по–моему, эти шишки всё правильно поняли…
Шли по улице Горького, толпа, запрудившая улицу, закружила их и через силу потащила вперед, как ни пыталась троица идти своим обычным размеренным ходом, людской водоворот заставлял поспешать.
— И куда же это нас несёт? — спрашивал Перкун. — Куда мы путь‑то держим, вот что интересно?!
— Надо подумать, — пробормотал Шишок. — Как среди этого людова моря найти Раису Гордеевну, прямо ума не приложу!
— А ты фамилию её знаешь? — спросил Ваня.
— Девичью, конечно, знаю, такая же, как у Василисы Гордеевны, — Щуклина, а вот по мужу… Сейчас вспомню… Вышла она, значит, за бурановского кузнеца… А как же у него‑то фамилия была?! — Шишок стал столбом посреди толпы, но людоворот его мигом стронул с места. Шишок, впробеги побежавший вперёд, пробормотал: — Вот ведь чего делают — прямо в спину толкают! До чего бойкое место эта Москва, ужасти!
— Ну давай, Шишок, вспоминай! — говорил Ваня. — Я знаю, что делать: нам к трём вокзалам надо, там горсправка должна быть.
— О! — воскликнул Шишок, опять на мгновенье остановившись, но, наученный толпой, тут же и стронувшись с места. — Вспомнил! Фамилия у кузнеца была — Шамшурин. Значит, нам нужна Раиса Гордеевна Шамшурина!
— Ну наконец‑то! — обрадовался Перкун. — А где эти три вокзала? Долго ещё нам идти?
Ваня с Шишком основательно промёрзли в мокрой одежде на московском ветру, и мальчик решил взять командование в свои руки: стал спрашивать у всех встречных–поперечных, где тут ближайшая станция метро, и пятый прохожий ему указал.
После того как Перкуна ударило металлической скобой по брюху, потому что он двинулся не в то отверстие, а Шишка остановили, так как он норовил перепрыгнуть через железную рейку, перед эскалатором Ваня, несмотря на угрозу щекотки, схватил пятившегося Шишка за руку, и вдвоём они одновременно заскочили на лестницу–чудесницу. Перкун же остался наверху. Шишок стал громко его звать, уговаривая сделать шаг вперёд, дескать, тут совсем не страшно, все же едут, что он — хуже других, что ли, но Перкун, несмотря на все резоны, никак не решался поставить свои когтистые лапы на механическое чудище.
Ваня всё оборачивался, пытаясь через головы возвышавшихся за ним людей увидеть бедного петуха. Наконец увидел: Перкун, вскукарекнув, поднялся в воздух и полетел над лестницей, утыканной народом, потом свернул влево и помчался над лакированным промежутком с фонарями: между теми, кто опускался вниз и поднимался вверх, — и раньше спутников оказался на платформе. Чинно приземлился на мраморном полу, но был остановлен выскочившей из будки дежурной, над головой которой петух только что продефилировал. Подъезжая, обеспокоенные Ваня с Шишком слышали изрядный шум внизу.
— Чья это птица, граждане деревенщики? — верещала дежурная. — Понаехали тут! Ещё бы баранов в Москву привезли! Петухам под землёй находиться категорически воспрещается! Нельзя в метро с петухами!
— Конечно, нельзя, — заговорил дотоле державший клюв на замке Перкун. — Мы птицы не подземные, а наземные, и даже, можно сказать, небесные. Я с вами согласен: мне тут делать совершенно нечего!
Когда Ваня с Шишком протолкнулись к месту действия, окружённому большим количеством народу, дежурная лежала в обмороке, а Перкун флегматично продолжал вещать, обращаясь к окружающим:
— Господа хорошие! Если бы не особые обстоятельства, меня бы сюда и калачом не заманить! Ага, вот и они! — Завидев спутников, петух полез к ним сквозь расступавшуюся толпу, а тут и поезд подошёл, и все трое мигом заскочили в ближайший вагон и от греха подальше укатили.
По вагону ходили беженцы: женщина с тремя детьми — и просили на хлебушек. Маленькая замурзанная девочка остановилась рядом с сидевшей подле двери троицей и смотрела на Ваню до того жалостливо, что у него сердце перевернулось, потом дёрнула за рукав и сказала хриплым голосом:
— Мальчик, дай денежку, у тебя есть, я знаю…
Ваня вздохнул и, сильно покраснев, отвернулся. Ведь не мог он отдать ей верть–тыщу — что толку‑то! Всё равно ведь деньги обратно к нему вернутся… Получится — дашь только для виду, получится — обманешь… Шишок покачал головой:
— Ну, я не знаю, всё, как после войны!.. Вот тебе и просидел пятьдесят лет под землёй, носу не высовывал! Как вроде время остановилось или вспять повернуло…
Сдачу с тыщи получили в горсправке, которую довольно скоро отыскали возле Казанского вокзала. Шишок попросил найти адрес Раисы Гордеевны Шамшуриной, а Ваня, сунув голову в окошечко, сказал, что им ещё требуется адрес Валентины Серафимовны Житной.
— Тысяча девятьсот пятьдесят пятого года рождения, — подсказал Шишок.
Ваня мигом посчитал, что, выходит, мамке его сейчас 38 лет. Ведь даже этого он не знал!
Пока женщина из горсправки искала адреса, пошли прогуляться. Тут Ваня увидел на асфальте среди окурков смятую зелёную бумажку, поднял, развернул: тысяча рублей! Сунул руку в карман: возвратная тыща на месте. Вот здорово! Теперь можно с чистой совестью дать денег тем, кто сильно нуждается. И мелочь у них всякая есть, да ещё и тысяча — самая обыкновенная, из тех, что не возвращаются. Ваня предусмотрительно положил найденную купюру в левый карман, тогда как верть–тыща лежала у него в правом.
Вокруг вокзала народу было вроде ещё больше, чем на прежних московских улицах, если только такое возможно. Шишок увидел спящих на асфальте бомжей и глаза вытаращил, дескать, такого и в войну не бывало, чего это народ возле вокзала полёживает, домой не идёт, может, поезда дожидается?
— Ничего они не дожидаются, — сказал Ваня. — Им уж нечего ждать. Бездомные они. Без определённого места жительства — бомжи, значит.
Вошли в распахнутые высокие двери, поглядели на потолки, не вокзал — а просто церковь, до чего красиво! И тепло! Шли, так‑то задрав головы, и вдруг Шишку на босую ногу колесо наехало. Невысокий носильщик тележку с горой вещей катил, из‑за которых ему дороги было не видать — и отдавил Шишкову мохнатую лапу. Шишок заорал, затряс ногой в полосатой штанине и заругался на чём свет стоит. Носильщик, вынырнув из‑за чемоданов и клетчатых сумищ, ответил ещё хлеще. Бляха с номером у носильщика горела почти так же ослепительно, как медаль Шишка. А ростом москвич был разве чуть выше залётного гостя. Шишок первым перестал ругаться и пристально поглядел на носильщика, тот тоже замолчал и с ног до головы осмотрел приезжего, особо остановив взгляд на мохнатых подошвах — Шишок как раз почёсывал одной ногой другую. Потом хлопнул себя по ляжкам и заорал:
— Я не я буду, если ты, харя, не домовик! А, сознавайся?!
Шишок поглядел на лохматую башку носильщика, на обутые в кроссовки ноги, протянул руку — тот в ответ сунул свою, но Шишок руки не пожал, а перевернул кисть москвича ладонью кверху, как вроде погадать хочет, и брякнул:
— Ты ладони, что ль, бреешь, пакостник?
— Брею, — сознался носильщик со вздохом. — Иначе не получается. Я весь день ведь на людях. С носильщиками за руку приходится здороваться, с пассажиров деньги получать… Мохнатая‑то лапа не приветствуется у людей…
Шишок пожал тут бритую ладонь своей щетинистой и представился:
— Шишок, домовой рода Житных.
Носильщик назвался в ответ:
— Казанок. Домовой Казанского вокзала.
Домовики с важностью раскланялись. Ваня с Перкуном топтались рядом. Пассажиры, чьи вещи громоздились на тележке Казанка, поторапливали его, на поезд‑де опаздываем. Шишок успел ещё представить своих спутников: «Это мой хозяин — Ваня Житный. А это — наш товарищ Перкун», и домовик–носильщик, попросив их никуда с этого места не уходить, дескать, он только вещи к поезду доставит и мигом вернётся, умчался, ловко лавируя в пассажирском хаосе и покрикивая: «А ну разойдись! В сторону, в сторону, товарищи пассажиры! А ну разой–дись! В сторонку, я сказал!»
Глаза Шишка загорелись красным огнём, он то и дело хватался за голову и восклицал:
— Мать честная! Нет, вы видали, а? Живой домовик! С самой войны своих не встречал! Как сгорело Теря–ево‑то — так и всё… А тут посреди Москвы — на–ко вам!
Никогда Ваня его таким не видал. Они только переглядывались с Перкуном, не зная, чего ожидать от этой встречи.
Когда Казанок примчался, погромыхивая пустой тележкой, — пассажиры только в стороны разлетались («Как переполошившиеся куры!» — просипел Перкун), — то сразу потащил гостей к себе в каптёрку. В начале подземного перехода, ведущего к железнодорожным путям, оказалась тайная дверца. Ваня прочитал надпись на двери: «Не входи — убьёт!», а над словами страшным оскалом ощерился череп со скрещёнными костями — и невольно замер на пороге, но Казанок с увлечением тащил всех за собой.
За дверью оказалась вполне жилая горенка, правда, без окон. Вокзальный домовой приткнул к стенке тележку, пригласил садиться и чувствовать себя как дома и, вытащив из кармана фартука бутылку водки, бухнул на затрапезный столик. После из кармана на стол перекочевали пельмени в литровой банке, горячие сосиски, буханка хлеба и банка бычков в томате. Трое гостей провожали взглядами движение каждого продукта из кармана–самобрана на стол, поскольку изрядно проголодались, вторые ведь сутки ничегошеньки не ели, под водой‑то их не больно угощали… Один Шишок разжился трофейной тушёнкой…
Налив водки в гранёные стаканы, сунутые в серебряные, как уверял Казанок, подстаканники, на которых нарисован был Кремль и выгравировано слово «Москва», вокзальный домовик подал налитое каждому из присутствующих. Ваня с Перкуном отнекнулись. А Шишок, на удивление, взялся за серебряную ручку. Ваня ещё не видал, чтоб Шишок пил водку, и они с Перкуном опять переглянулись. Домовики тяпнули за неожиданную встречу, и все четверо принялись закусывать.
— Сколько живу на Казанском вокзале, ни разу не встречал нашего брата, домового, — говорил Казанок. — Эх ведь, дорогуша ты моя! Стервец милый!
— А я и не знал, что вокзальные домовики бывают! — отвечал растаявший Шишок.
— Я, я один тута, на Казанском! На Ярославском нет, на Ленинградском тоже нет. Да и на прочих вокзалах, насколько мне известно, нету вокзаловиков.
На Курском только, слышал, призрак есть, а домового и там нету…
— Призрак кого — кура? — заинтересовался Перкун.
— Кого–кого? — не понял Казанок.
— Ну, куры–петушки, какой призрак‑то на Курском вокзале?
— Не–е, какие петушки! Писателя какого‑то призрак. Никак он не может от этого вокзала отделаться. Все дороги, говорит, ведут к Курскому вокзалу. Мечтает попасть на Красную площадь, да всё никак не попадёт…
— А мы были сегодня на Красной площади! — похвастался Ваня.
— Да–а?! — воскликнул Казанок. — А я вот тоже всё никак не удосужусь. Поверите — ни минуты свободной нет! Я ведь от бездомности тута поселился, прежде‑то я тоже в обыкновенном доме жил, до семнадцатого‑то года, а как хозяев повывели да дом на десяток новых жильцов поделили, так я здеся и поселился. Ничего — прижился и живу! Служу вокзалу, поскольку хозяина у меня, конечно, нет… — Казанок с завистью поглядел на Ваню, а после, задрав край рукава, глянул на командирские часы. Шишок заметно заинтересовался наручными часами Казанка, который меж тем продолжал: — Людей тута — ужас! И всё новые и новые, новые и новые! По первости так в глазах и мелькали, думал, от головокруженья помру! А счас — ничего, привык! Ко всему домовик, оказывается, привыкает… Так‑то, брат Шишок! Давай выпьем за тебя, мохнатая ты лапа! — Казанок вновь плеснул из бутылки Шишку и себе, домовики чокнулись и выпили. А Казанок, вновь взглянув на часы, продолжал:
— Когда старого знакомого пассажира встретишь, приедет, скажем, на Казанский на поезде из Свердловска, а через неделю отсюда же и уезжает, — так‑то обрадуешься знакомой роже, ажно расцеловать того пассажира хочется! Во как! Вначале этим‑то знакомым пассажирам и помогал я вещи к поезду доставлять, а после и на работу меня приняли, тележку дали. Теперь уж сколько лет работаю! Старейший носильщик Казанского вокзала — меня каждый проводник знает! Поезда взялся проваживать. Стараюсь ни одного не пропустить, мечусь как угорелый, с перрона на перрон! Приболел однажды, дак тот не провоженный поезд, поверишь, нет ли, Шишок, в аварию попал! Вагоны с рельсов сошли! Думаю, может, случайно так вышло, решил проверить… Проверил — на свою голову! Вернее, на чужие, конечно, головушки — опять ведь катастрофа случилася, да, да, Шишок! Больше не проверяю… Вот как привычки‑то заводить нам, домовикам! Теперь гоняю, как угорелый, боюсь, как бы какой поезд без моего напутствия да прощального взмаха не ушёл. Иной раз под вагонами лезу на другую‑то платформу! Как только башку ещё не отрезало! Ох, вот она, жизнь‑то вокзальная, брат Шишок! А что делать?! Если поезд в катастрофу попадёт — грех на мне будет! Поленился Казанок, не проводил!
Так что, как услышишь про аварии поездов, будешь знать, что это Казанок твой плохо сработал!
Вокзальный домовик опять глянул на часы и налил ещё по одной. Теперь Шишок предложил выпить за домового Казанского вокзала. Выпили, и Казанок стал спрашивать Шишка, как он живёт, да что ему на месте не сидится, зачем‑де в Москву пожаловал. Шишок принялся рассказывать уже известное Ване, мальчику стало скучно смотреть, как домовики напиваются, он сказал, что пойдёт вокзал посмотрит, и Шишок махнул в его сторону рукой, иди, дескать, не мешайся. Ваня незаметно кивнул Перкуну на Шишка, приглядывай‑де за ним, и петух прикрыл плёнкой глаза — всё‑де понятно, не беспокойся‑де, Ваня, спокойно иди гуляй.
Ваня вышел в дверку каптёрки — и вмиг оказался в гуще вокзальной суеты. Как‑никак вокзал — хоть и другой — было то место, где когда‑то решалась Ванина судьба, поэтому все вокзалы притягивали его, как магнит. Прочитал длиннейшее расписание поездов, уходивших с вокзала, — действительно, это надо умудриться проводить каждый поезд, бедный Казанок! Потолкался у касс, узнал в справочном автомате, самочинно листавшем жестяные листы, как наилучшим способом добраться отсюда до родного города, где ждёт их бабушка Василиса Гордеевна да Мекеша, все глаза, небось, проглядели!.. Вышел на платформу, на ветер, услышал, что поезд «Москва — Пермь» отправляется с третьего пути, испугался: как же поезд‑то непровоженным остался, неужто попадёт в катастрофу! — и увидал на соседней платформе Казанка, в фартуке, надетом задом наперёд, с красной мордой, изо всех сил махавшего отходившему поезду. Казанок, помахав поезду и не заметив Ваню, тут же исчез — видать, помчался назад в каптёрку.
А Ваня вышел из вокзала и вернулся к горсправке. Адрес Раисы Гордеевны Шамшуриной ему выдали, а адреса Валентины Серафимовны Житной не оказалось. Ваня расстроился, но подумал, может, она фамилию сменила? А что ж, всё может быть: вышла, скажем, замуж… Или прописки московской не имеет, так где‑нибудь обретается. Что ни говори: надо ехать к бабушке Раисе Гордеевне, которая, как оказалось, и живёт‑то не так чтоб далеко. Ваня даже разузнал, как до неё добираться, — и остался очень доволен собой.
Приметив толчею шибче обычной, протолкнулся в центр людского вихря и увидел интересное явление. Парень стоял возле столика и чего‑то выделывал двумя ладонями, под которыми кружились три пластмассовых стаканчика. Остановил круженье — и поднял один, под ним оказался шарик. Показал пустые стаканчики, прихлопнул шарик и вновь принялся елозить стаканчиками по столу. Остановил верчение. Спросил у одной из двух девушек, стоявших напротив: «Где шарик?» Девушка показала и, конечно, угадала. Ваня бы тоже угадал! А парень вручил тут радостно завопившей девушке стопку денег, лежавших на краю стола. Девушки прошли мимо Вани, громко разговаривая, направлялись они прямым ходом в ГУМ, где собирались хорошенько отовариться. Ване вспомнилось, как Шишок глядел на командирские часы Казанка… А что, если Шишку купить такие же!.. Вот, небось, обрадуется! Мальчик несмело подошёл к столу, парень, глянув на него, спросил:
— Хочешь, пацан, сыграть? Если бабки имеешь, давай… Видал, как тёлки выиграли! Если не совсем слепой, угадаешь, где шарик‑то… Ну что — есть бабульки? Я свои кладу, ты свои. Угадываешь — твои будут, не угадываешь — мои. Всё просто. Всё честно. Ну — что?! — И парень выложил на стол тысячную купюру. Ваня помялся и решился: вытащил из левого кармана найденную денежку.
— Всего‑то? — удивился парень. — Я ещё кладу, — положил новую купюру. Но Ваня ничего больше класть не стал. Он помнил бабушкино наставление насчёт того, что на возвратные денежки играть ни в коем случае нельзя. Ваня всегда думал, что предупреждение касается карточной игры, но всё же и в этой игре решил остановиться на найденной купюре.
Парень накрыл шарик стаканчиком (Ваня очень хорошо заметил, где тот находится) и принялся сикось-накось вертеть по столу посудинами, а мальчик не спускал глаз с того стаканчика, где должен был прятаться шарик. Парень остановил пляску стаканов и спросил:
— Ну, где?
Ваня показал, и — выиграл! Трёх тысяч было маловато для того, чтоб купить часы, Ваня это понимал, а парень предложил сыграть ещё и вытащил из кармана новую купюру. Ваня, хоть и задубел на холоду, всё же — эх, была не была! — выложил всю сдачу от верть–тыщи. И вновь выиграл! Парень только рукой махнул в досаде, что попал на такого глазастого. Теперь, наверно, на часы хватит, подумал Ваня и только подался в сторону, как вдруг парень остановил его и крикнул на всю привокзальную площадь, что первая тыщонка была у Вани фальшивой… Дескать, проверить бы надо купюру‑то… Ваня оторопел, вывернул на стол деньги, парень посмотрел каждую денежку на свет и сказал, что, видать, ошибся, но, раз уж деньги на столе, предложил сыграть в последний раз, кинув сверху ещё три бумажки:
— Чья возьмёт! Ну, давай, пацан! — сказал как‑то угрожающе.
С двух сторон от Вани появились хмыри с самыми что ни на есть разбойными рожами и придавили его, как тисками. Под таким давлением Ваня вынужден был вернуться к игре. Но решил смотреть в оба. На этот раз парень так скоро елозил своими посудинками, что Ваня в какой‑то момент потерял примеченный стакан из виду.
— Ну? — спросил парень, оторвав ладони от стаканчиков. — Где?
Ваня долго смотрел на стаканчики: этот не этот или вон тот? Наконец ткнул в средний. Парень медленно протянул к нему растопыренные пальцы, перевернул — под стаканом ничего не было. Перевернул левый — тоже пусто. Шарик оказался под правым стаканом. Ваня тяжко вздохнул. Парень сгрёб деньги, улыбнулся ему и похлопал по плечу:
— Ну ничего, раз на раз не приходится! В следующий раз обязательно выиграешь — приходи ещё! — и повернулся к наблюдавшим за игрой зрителям: — Ну, кто ещё хочет попытать счастья: подходи, не робей!
Ваня направился к зданию вокзала… Плохо, конечно, что не удастся подарить Шишку часы, но ничего, зато адрес Раисы Гордеевны у него в кармане! Он ещё раз перечитал его: улица Новослободская, дом 20–в, квартира 1. Продвигаясь в тесной вокзальной толпе к каптёрке, Ваня положил бумажку с адресом в левый карман и сунул руку в правый — там должна лежать возвратная тыща. Должна — но не лежит! Ваня замер соляным столбом. Такого не может быть! Он же играл на те, найденные деньги, а свои не трогал! Он сразу развёл купюры по разным карманам, чтоб случайно не перепутать… И тут Ваня отчётливо вспомнил, как в третий раз, когда парень заподозрил, что деньги у него фальшивые, Ваня выгреб всю кучу денег, и не из левого кармана, как следовало, а из правого, — потому что на радостях сунул выигранные деньги в первый попавшийся карман. А ведь там, в правом, и лежала у него верть–тыща! И в эту последнюю игру он все деньги поставил на кон, в том числе неприкосновенные! Ваню пихали и толкали во все стороны, десять раз обматерили, он ничего не слышал и не замечал. Среди вокзального гула ему явственно послышался голос бабушки Василисы Гордеевны: «Возвратная денежка, Ваня, всегда вертается к хозяину. Только, гляди, не играй на неё, а то потеряешь навеки…» Ну всё — это конец! Ваня стронулся с места, покружил по вокзалу, то и дело засовывая руки в карманы, надеясь, что утраченная купюра всё же вернется к хозяину — но она не возвращалась! Карманы были пусты. Как теперь признаваться Шишку в том, что он совершил?! Остаться в Москве без копейки денег! Даже на метро монеток нет! Шишок его убьёт! А Перкун заклюёт! И оба будут правы.
Глава 21. Москва, Москва!
Ваня сделал ещё несколько кругов по вокзалу, прежде чем вернуться в каптёрку Казанка. Подходя к ней, он ещё издали услыхал глухой шум. Отворил дверцу, предупреждающую: «Не входи — убьёт!», — а в каптёрке как раз смертоубийство и шло. Домовики, красные, лохматые и потные, с горящими, как уголья, глазами, вцепившись друг в друга, катались по полу и мутузили один другого почём попадя. А Перкун, у которого перья вокруг шеи встали дыбом, как воротник у испанского короля, бегал вокруг, громко кудахча:
— Ну, что вы, как петухи, право!.. Шишок! Казанок!
Потом:
— Казанок! Шишок! Остановитесь!
Но домовики, ничего не слыша, докатились до алюминиевой тележки, которая с грохотом повалилась на драчунов. Казанок, которому, видать, хорошенько досталось от Шишка, благоразумно решил убраться от него подальше: резво вскочил с пола, схватил тележку и, проехавшись по Шишку, с разгону распахнул дверь каптёрки и оказался в пассажирской толчее. Шишок, недолго думая, схватил вторую тележку, приткнутую к стене, и помчался следом. Ваня с Перкуном побежали за ними.
Казанок с криком «Поберегись!» рассекал толпу, как лезвием ножа. Шишок же, не поспевая за ним, наезжал на чьи‑то ноги, поддавал гражданам под коленки, сбил какую‑то женщину. Тогда Шишок с разбега вскочил на тележку верхом — и та, вжикнув, поднялась в воздух и полетела над головами. Вначале ужаснувшаяся толпа пассажиров, провожатых и прочего вокзального люда единым духом втянула в себя спёртый воздух, а после раздался такой вскрик, что удивительно было, как расписной потолок не рухнул! Казанок, увидав воздушную погоню, тоже вскочил на тележку и, в свою очередь рванув кверху, помчался прямым ходом к двери, ведущей в следующий зал. Шишок стоял на своей тележке, широко расставив ноги и слегка покачиваясь. Взмахом руки он направил свое судно в ту же дверь. Правда, Шишок плохо рассчитал и неминуемо должен был торкнуться головой об дверную притолоку. Но в последний момент Шишок успел присесть, и голову ему не снесло.
Летающие тележки пропали с глаз. Ваня никак не мог поспеть за ними. Протискиваясь в людовороте толпы, часть которой ринулась в те двери, за которыми скрылись тележки, а часть в противоположные — на выход из вокзала, — Ваня думал, что его сомнут и стопчут. Он увидел, как Перкун взлетел где‑то позади него в воздух и, раскинув огненные крылья, помчался следом за домовиками, добавив ещё переполоху. Наконец Ваню вынесло в двери, ведущие в зал ожидания.
Тележки, на которых стояли домовики, теперь крутились под самым потолком вокруг люстры, ровно обезумевшие мухи. А вокруг них всё расширяющимися кругами летал Перкун. Вот одна из тележек с Казанком на борту прянула в сторону от люстры, Шишкова тележка ринулась следом, догнала и пристроилась сбоку. Шишок взял вражеское судно на абордаж. Он перепрыгнул со своей тележки на Казанкову, едва не сверзившись вниз, но как‑то устоял на ногах. А его тележка, повисев немного в воздухе, стала, крутясь и переворачиваясь, падать вниз, прямо в толпу визжащих людей. Шишок же в это время повалил Казанка на дно тележки и вцепился ему в волоса. Ваня, вспомнив, как Шишок загрыз теряевскую кошку и как его удалось спустить с дерева на землю, заорал что есть мочи:
— Шишок, хозяин зовёт!
Шишок обернулся, раскрыв рот, падающая тележка замерла в воздухе, едва не вжикнув колёсами по людским головам, потом Шишок рот захлопнул — и тележка наискось полетела кверху. А Шишок, оставив Казанка в покое, даже подняв его и отряхнув, перешагнул на своё транспортное средство и поехал книзу. Тележка подлетела к Ване, опять зависнув над головами пассажиров, Шишок, свесившись, протянул руку, выдернул мальчика из толпы народу — и Ваня оказался на скользкой поверхности. Тележка обратным ходом влетела в первый зал. Перкун летел сопровождающим. Шишок заорал по примеру Казанка: «Поберегись! Расступись! В сторону, граждане, в сторону! Сейчас садиться будем!» — и тележка, брякнувшись на свободное от людей место, мирно покатила в каптёрку. Не успели слезть с тележки, как в дверь ворвался на своём транспорте растрёпанный и помятый Казанок. Впрочем, Шишок выглядел не лучше товарища. Оба тяжело дышали и глядели друг на друга исподлобья. Оба были пьяны до последней степени. Ваня сказал:
— Дяденька Казанок, вы нас простите, пожалуйста! — и, оглянувшись на шум, увидел, что Шишок грохнулся на свою тележку и заснул мертвецким сном. Ваня только руками развёл. Казанок же, ни слова не говоря, полез на свою тележку, свернулся калачиком и тоже захрапел, да так, что тележка задребезжала! Ваня спросил у петуха:
— Перо, а из‑за чего это они задрались?
Перкун, выловив в банке последний пельмень и закинув его в клюв, просипел:
— Политика проклятая виновата. Не сошлись домовики во взглядах.
И петух, взлетев на ручку Шишковой тележки и крепко обхватив её когтистыми лапами, тоже задремал.
Ваня решил благоразумно не высовываться из каптёрки, даже на всякий случай заперся изнутри. Отыскал в углу скатанный матрас и тоже решил лечь. Вот только как же быть с поездами?! Сколько поездов проспит пьяный Казанок! Сколько поездов сойдёт с рельсов из‑за случайной встречи двух домовых! Ваня ворочался, ворочался и, вздохнув, встал, отомкнул дверь и выглянул наружу. Кажется, суматоха, поднятая пьяными домовиками, улеглась. Милиция дверь каптёрки не сторожила. Ваня посмотрел время на командирских часах спящего Казанка, проскользнул к железнодорожному расписанию и прочитал, какие поезда во сколько отходят этой ночью с Казанского вокзала. Ближайший новосибирский уходил через десять минут! Ваня стрелой влетел в каптёрку и принялся тормошить Казанка. Тот бурчал что‑то невразумительное, отмахивался рукой, отбрыкивался ногой — и просыпаться ни в какую не хотел. Тогда Ваня решил испробовать проверенный способ и зашептал ему в самое ухо:
— Казанок, хозяин тебя зовёт!
Тот вскочил, как встрёпанный. Ваня тут объяснил ему, в чём дело, и отправил на перрон. Пока Казанок бегал, мальчик развесил мокрое тряпьё на калорифере, — сам завернулся в байковое одеяло, — и со спящего Шишка стянул полушубок и повесил сушиться.
И так‑то всю ночь не пришлось ему глаз сомкнуть, чтоб не прозевать какой‑нибудь ночной состав. Только под утро Казанок очухался — и стал теперь сам просыпаться точно по расписанию.
— Я уж привычный, — объяснял он Ване, — ровно за пять минут до отхода поезда встаю и бегу. У меня всё рассчитано. Спи давай, Ванятка. Твои вон дрыхнут без задних ног, — указал с брюзгливой миной на Шишка.
Правда, не все дрыхли без задних ног, Перкун то спал, то не спал — кукарекал с четырех часов, его кукареку далеко разносилось по вокзалу, народ только в затылках чесал, дескать, откуда в столице петухи… Чтоб время занять, Перкун попросил у Вани карты, которые они нашли в самолёте, и теперь, расстелив одну из карт на полу и наступив лапой, чтоб не скручивалась, с интересом что‑то разглядывал вначале одним глазом, потом другим…
А Ваня спать не шёл, мялся, Казанок, поняв, в чём дело, успокоил его:
— Больше пить не будем! И драться тоже. Для домовых эта водка — погибель. Знал ведь, да вот — попутала нелёгкая. Очень уж хотелось отметить встречу по–людски… Вот и отметили!.. Ложись спи, Ванята, спокойно.
Ваня и заснул, последнее, что он услышал, было сипенье петуха: «Так, так, так… Интере–есно…» А когда проснулся — домовики с Перкуном закусывали, Ваня вытянул шею — но водки на столе не было. Беседа же шла опять политическая. Ваня пощупал тряпьё на калорифере — всё высохло, тёпленькое было, но мальчик, помня вчерашний промозглый холод, поддел для тепла Соловейкину мешкотную рубаху — хоть и пришлось подвернуть её, уж больно длинная — а после надел свою и присел к столу. Ели опять бычков в томате, прямо из банки, и ему сунули вилку.
Шишок мельком глянул на Ваню, не сердится ли, и, по лицу увидав, что Ваня поминать про вчерашнее не будет, отвернулся. Ещё бы Ваня поминал! У него вчера свой грех был, да ещё какой! Утрата возвратной тыщи — это ведь не хухры–мухры… Поэтому Ваня даже рад был, что не он один вчера проштрафился. Шишок, видать продолжая разговор, начало которого Ваня проспал, говорил:
— А кто российские земли в кучу собрал? Опять же Сталин. Это твои нынешние правители на кусочки страну разодрали, всё разбазарили, четвертовать их за это мало! А кто войну выиграл? А кто промышленность поднял?
— А лагеря? Мой хозяин сгинул где‑то на Беломорканале… А раскулачивание? Не–ет, Шишок, впервые нынче свободу народ почуял… Хозяином теперь каждый может стать…
— Тьфу на твою свободу! — азартно плюнул Шишок. А Ваня опять забеспокоился — не повторится ли вчерашнее… — Заставь дурака свободе молиться — он и лоб расшибёт! Свободные‑то — они самые разнесчастные и есть. Хозяин в стране должен быть! А касательно того, что хозяйчиком каждый может стать… Так единицы станут хозяйчиками — самые ушлые, пронырливые да бессовестные, у кого деньги к рукам липнут. Остальные попадут в трясину. Ох, завёл народ товарищ Ельцин[66], как Цмок поляков, в топкое болото… Ох, вражина, против своих же воюет! Ох, ещё кусать будете локги‑то — да поздно будет! Попомнишь ещё Шишка, Казанок, московский домовой!
Казанок же замахал на него рукой и, подскочив, подкрутил ручку радио, которое потихоньку что‑то гундосило, сделал громко.
— Мэр выступает… — сказал важно.
— Кто‑кто? — удивился Шишок.
— Да мэр Москвы! Дай послушать!
Мэр говорил, чтобы москвичи не подходили к окружённому Белому дому, внутри которого сидят пьяные наркоманы с оружием, притом морально неустойчивые, — это опасно для жизни.
— Это что ж такое? — опять удивился Шишок. — И чего они там укрылись?
Казанок принялся ему объяснять, что Ельцин решил распустить Верховный Совет России, который вздумал ему перечить. Теперь депутаты Верховного Совета засели в Белом доме, не хотят распускаться. Тогда Ельцин милицию напустил на депутатов, теперь Белый дом со всех сторон окружённый. Так им и надо! Пускай сдаются…
— И что ж — народ выбрал своими депутатами пьяниц, наркоманов и морально неустойчивых людей? — вытаращил глаза Шишок.
Казанок призадумался:
— Н–ну, мэр так говорит… Что ж он, по радио врать будет?
Ваня переводил глаза с одного на другого, а потом решил вмешаться:
— Шишок! А я ведь вчера узнал адрес Раисы Гордеевны‑то. А… Валентининого адреса нету… — (Ваня стеснялся при всех произнести слово «мама» или даже «мамка».) — Поторапливаться нам надо, как думаешь?
— Ладно! — вздохнул Шишок. — Загостились мы у тебя, Казанок! Прости ты меня, бритая лапа, за вчерашнее, бес попутал…
— Да уж что! — Казанок почесал подбородок и, сорвавшись с места, стал рыться в дальнем углу. Приволок ношеные, но вполне ещё сносные мальчишечьи кеды и поставил возле босых ног Шишка. — Вот, подарочек тебе от меня! Чтоб мохнаты лапы не мёрзли!
Шишок расчувствовался, расцеловал Казанка троекратно, обул кеды, притопнул — в самый раз! А тот ещё снял с себя форменную железнодорожную фуражку и надел на голову Шишка. Шишок замотал головой, дескать, недостоин он такого исключительного дара… Но Казанок и слушать ничего не хотел. Носи, дескать, на здоровье, брат Шишок! Шишок погляделся в осколок зеркала, приткнутый за картой железных дорог Советского Союза, ухмыльнулся и, довольный, подмигнул своему отражению. Потом полез в котомку и, вытряхнув половину добра, обнаружил трофейную немецкую ручку с золотым пером и торжественно вручил Казанку. Казанок почёркал ею на углу газетки, Ваня только охнул: а ну как не будет писать! Но ручка писала, да ещё как! Казанок заулыбался и сунул ручку за ухо.
Казанок схватил свою тележку и помчался к стоянке такси — ловить пассажиров с большим грузом. Троица тоже выметнулась из Казанского вокзала. Возле дверей окончательно распрощались: друзья двинулись в одну сторону, Казанок — в другую. Тут‑то Ваня и сознался во вчерашнем скандальном проигрыше. Шишок так и стал. Раскрыл рот, чтоб такое сказать! Да захлопнул, вспомнив про свои проделки. Перкун зато отбрил Ваню за двоих.
Как раз проходили мимо напёрсточников — Шишок сказал друзьям, как эти ребята с мелкой посудой называются, в войну, дескать, тоже такие были. И вдруг Ваня увидал вчерашних девушек, которые в ГУМе собирались отовариться. Они вновь стояли у столика — и вовсю кричали «ура!», дескать, выиграли, пойдём в магазин сапоги покупать. Да что такое! Как в дурном сне, всё повторяется. Ваня приостановился и рассказал спутникам про девушек и про то, как проходила вчера игра.
— Облапошили тебя, хозяин, мелки жулики, — вздохнул Шишок. — Дак это бы что!.. Верть–тыщи шибко жалко…
Он тут же свернул с дороги и подкатил к столику со стаканчиками. Парень на интерес играть не соглашался, а только на деньги. Тогда Шишок прибегнул к прежней тактике: оторвал от Березайкиной ветки очередную шишку — и положил на купюры. Парень оживился:
— Ого! По–крупному будем играть, ну что ж! — и хлопнул на стол зелёную бумажку с завитым мужиком, а написано на бумажке по–английски…
— На доллары пошла игра! — с уважением зашептались в толпе. Ваня только ресницами захлопал.
Парень показал, где находится шарик, и принялся крутить и вертеть стаканчики. Ваня, точно заметив полный стаканчик, стал дёргать Шишка за полу шубейки, показывая, где искомая посудина. Шишок туда и ткнул пальцем. Парень перевернул стаканчик — а шарика и нет!.. Парень и сам, видать, не ожидал такого. Потому что для затравки все у него спервоначалу выигрывали. Ошеломлённый, он быстро перевернул оба оставшихся стакана — шарика не было нигде. Публика загудела, дескать, это что ж такое, дурют народ… Парень раскрыл рот, икнул — и вместе с иком изо рта выскочил шарик! Публика загудела того пуще… Вчерашние хмыри–разбойники и обе девушки потихоньку стали отступать в толпу. Парень хотел что‑то сказать — но вместо слов изо рта опять вылетел ик, а вместе с ним ещё один шарик, который упал на стол, покатился — и брякнулся на асфальт.
Такой наглости народ, окруживший столик, уже не вынес, с рёвом перевернул стол, расхватал деньги, кто‑то цапнул и шишку, раскидал стаканы и принялся мутузить парня. А он, выпучив глаза, как шары, только икал — и с каждым иком изо рта вылетали новые и новые шарики. Они катились по асфальту, хрустели под каблуками рассвирепевшей толпы, их было столько! А парень всё икал да икал. Ваня только удивлялся, как в нём поместилось столько добра.
В конце концов появился милиционер — и толпа мигом растаяла. На асфальте в луже разноцветных шариков остался лежать парень. Потом и он поднялся и попытался что‑то объяснить милиционеру, но вновь икнул — и плюнул в милиционера шариком. Что было дальше, Ваня не видел, троица свернула за угол.
— Да, — вздыхал Шишок. — Так ли, этак ли, а возвратной деньжуры нам не видать как своих ушей!..
— Она теперь у парня будет? — спросил Ваня.
— Да какой! Он же верть–тыщу сразу, небось, на кон поставил! А играть‑то на неё нельзя.
— А где же тогда денежка?
— А кто ж её знает! Главное — не у нас в кармане…
— А Березайкина шишка, чтоб проехать в метро, не сгодится? — спросил Ваня с надеждой.
Но Шишок отнекнулся, дескать, таким манером можно только начальству да жуликам глаза замазывать. А простых людей он обманывать не станет — не таковский. И без него обирал да мошенников развелось выше крыши.
— Может, вернёмся к Казанку, попросим денег у него? — предложил тогда Перкун.
Но Шишок упёрся — и ни в какую. Видать, совесть его грызла, помнил ещё про вчерашнее буянство.
— Я ведь, ребяты, даже на фронте водку эту проклятую не пил, — объяснял он свой конфуз, — отдавал свои сто грамм хозяину. А тут на–ко вам! Вот и… Со своим братом домовиком разодрался — стыдоба! Конечно, домовики тоже всякие бывают… Но Казанок‑то порядочный домовик, ответственный, живёт по расписанию — а я, вишь, что учинил, да прямо в его дому… Нехорошо, ох нехорошо!
Шишок так пригорюнился, что даже сел на ступеньку и за голову схватился — они как раз в подземный переход спускались — а на голове‑то подарок Казанка! Но долго Шишку горевать не дали — быстро столкнули с насиженного места углом громадного чемодана.
Решили тогда, чтоб немного подзаработать, попытать счастья в подземном переходе.
— Балалайка‑то у меня всегда при себе, — погладил инструмент Шишок. — Сейчас мы живо–два на дорогу к Раисе Гордеевне, да и на житьё–бытьё заработаем!
Стали в самом людном месте. Шишок стащил с себя дарёный головной убор, на заплёванный пол его жалко было класть, и Ваня подстелил под него одну из карт, найденных в немецком самолёте. Шишок, закусив губу и приспустив веки, стал самозабвенно наяривать на балалайке, но не забывал одним глазком поглядывать на железнодорожную фуражку, которая пока что пустовала. Тогда он нарошливо тоненьким голоском запел ухарскую частушку, потом ещё одну, третью, четвёртую. Народ не обращал на это никакого внимания, — денег в фуражку не бросал. А людские волны так и несло в обе стороны. Наконец кто‑то опустил монету — только одному проехать в метро, а их‑то трое!
— Так, — сказал Шишок. — Здесь не понимают настоящего искусства. Пойдём в другое место.
Стали в другом месте. Но и тут «настоящее искусство» тоже не понимали.
— Хорошо, попробуем солиста Парижской оперы! — пошёл на крайние меры Шишок. И вытолкнул вперёд Перкуна, петух откашлялся, похлопал крыльями и засипел:
А ну‑ка песню нам пропой, весёлый ветер, Весёлый ветер, весёлый ветер! Моря и горы ты обшарил все на свете И все на свете песенки слыхал!Бегущий мимо народ стал приостанавливаться.
Спой нам, ветер, про дикие горы, Про глубокие тайны морей! Про вольные просторы, про птичьи разговоры, (тут Перкун указал на свой клюв) Про смелых и больших людей!Вокруг троицы собрался уже приличный круг слушателей. Ваня и сам не заметил, как стал подпевать. И Шишок, подыгрывая Перкуну на балалайке, усиленно вторил подголоском.
Последние строки пели уже всем подземным переходом. И наконец‑то в железнодорожную фуражку посыпались монеты, и даже купюры полетели. Шишок резво собрал дань, но решил закрепить успех. Дескать, денег много не бывает, и кто, дескать, знает, сколько им ещё придётся провожжаться в этой многолюдной и бойкой столице. Он изрезал немецкую карту на полоски, скрутил каждую и, положив в фуражку, попросил Перкуна поработать попугаем.
— Это как? — удивился петух, на волне успеха он готов был на многое. Но тут насторожился.
— Как‑как! Очень просто. Вытащишь билет из фуражки и подашь человеку. А он тебе — деньги в клюве.
— Там же должно быть что‑нибудь написано, в бумажке‑то! — воскликнул Ваня.
— Будет написано! — успокоил его Шишок, выдернул из хвоста Перкуна фиолетовое перо и закричал:
— Кто хочет узнать будущее, петух–прорицатель к вашим услугам! — и как заведённый: — Кто желает узнать своё будущее, петух–прорицатель, последний в роду великих прорицателей, укажет вам чёрный день. Страницы с риском для собственной жизни вырваны из Книги Жизни. Подходите — не пожалеете. Не подойдёте — станете жалеть, да поздно будет! — И опять: — Петух–прорицатель к вашим услугам! Кто хочет узнать своё будущее, заворачивай к нам!
Завернула белобрысенькая девушка. Перкун достал из фуражки одну из скрученных бумажек и галантно подал девице. Пока она разворачивала записку, Шишок, высунув от усердия кончик языка, торопливо водил в воздухе фиолетовым пером, выписывая какие‑то буквы. Девушка развернула записку и воскликнула:
— Да тут по–немецки написано!
Шишок остолбенел:
— Как по–немецки! Не может быть!
— Вот, полюбуйтесь сами: Budonowsk.
Шишок полюбовался и, хлопнув себя по лбу, сказал:
— Переверни, переверни на другую сторону.
Девушка перевернула, здесь шла корявая надпись фиолетовыми чернилами: «Смени квартиру до сентября 1999 года»[67].
— Ерунда какая‑то! — сказала девушка, бросила бумажку на пол, не заплатила и ушла.
Ваня подобрал, прочёл и пожал плечами:
— И правда, непонятно. Зачем ей менять квартиру? Что это значит? И кто это писал?
— Ну не я же! — рассердился Шишок. А когда Ваня, взглянув на перо в его руке, хотел что‑то спросить, добавил: — Кто‑то водит моей рукой. Кто — не знаю… И что значит написанное — тоже не ведаю… Так что не спрашивай, хозяин…
Подошли ещё два человека — Перкун вытаскивал записки, а Шишок махал в воздухе пером, и на бумаге появлялись слова. В одной цидуле[68] значилось: «23 октября 2002 года не ходи на мюзикл «Норд–Ост»[69]. А в другой: «6 февраля 2004 не езди на работу на метро»[70]. Поскольку платить за такие дурацкие предсказания никто не хотел и вообще дело начинало пахнуть керосином, решили сворачиваться. Шишок нахлобучил на голову железнодорожную фуражку, Ваня надел на плечи котомку, Перкун вырвал у Шишка своё перо, попытался втиснуть на старое место — но неудачно.
Уйти они не успели, из толпы вынырнул милиционер, подошёл и спросил, что это за цирк они устроили в переходе. Потом покосился на профиль Перкуна, который показался ему слишком горбоносым. И спросил, не кавказской ли национальности будет эта птица.
— Какой ещё кавказской! — обиделся Перкун. — У всех петухов такие клювы…
— Даже у теряевских, — уточнил Шишок.
В конце концов дело опять закончилось шишкой, которую Шишок вынужден был вручить блюстителю порядка в качестве документа.
— И чтоб я вас больше тут не видел! — сказал милиционер, возвращая шишку.
— Не увидишь, начальник, — успокоил его Шишок. — Даже если очень захочешь…
Когда входили в метро, Шишок сказал, что если так дальше пойдёт, то на Березайкиной ветке скоро не останется ни одной шишки. А это, конечно, не дело…
Но что ни говори, они были теперь при деньгах и могли наконец отправляться к бабушке Раисе Гордеевне.
Глава 22. У Раисы Гордеевны
Перкун всю дорогу хвалился, что только благодаря ему они обзавелись деньгами.
— А в чью фуражку деньги капали? — спрашивал Шишок. — Много бы ты без моей фуражки напел!
А Ванино сердце колотилось, как набат: ведь они совсем близко к цели! И вдруг вспомнились ему слова Водовика про то, что Раиса Гордеевна — настоящая ведьма… Это бы что! А вдруг мамы и здесь не будет?.. Где тогда её искать?
Уже выбрались из круглого, как цирк, здания метро и шли по улице, пытаясь отыскать нужный дом. Собирались перейти через дорогу на другую сторону, как вдруг на трассе показалась колонна танков и бронетранспортёров. Шишок чуть под гусеницу не залез, он орал и тыкал в военную технику пальцем:
— Хозяин, Перкун, это что ж такое?! Не война ли началась, пока мы бродим туда да сюда! И какая же падла опять на нас напала?!
Ваня тоже недоумевал:
— Может, к параду готовятся? Хотя до парада ещё больше месяца… Погоди, может, они к Белому дому?! Где депутаты‑то засели…
Шишок почесал в голове:
— Эх, мать честна! Оказывается, вот как всё серьёзно! Не нравится мне это — свои против своих на танках прут! Как в Гражданскую… Ох, нехорошо это, прямо сердце ноет…
Из одного танка высунулась голова в шлеме, и Шишок, пристроившись сбоку, побежал рядом с гусеницей, крича:
— Эй, служивый, куда едем? С кем воюем?
— Всё схвачено, дед, не боись! Демократия победит! — по–своему ответив на вопросы, танкист нырнул обратно в танк.
Танки проехали — и друзья перебежали на ту сторону. Нужный им дом оказался одним из четырёх дореволюционной ещё постройки домов, колодцем окруживших площадку, посреди которой стоял белёный каменный домишко в два окна. Из железной трубы домика шёл сизый дымок. Шишок потянул носом воздух и блаженно улыбнулся.
Квартира № 1, по всему, должна была находиться на первом этаже дома 20–в — но её почему‑то не было.
Квартира № 2 была, и № 3 была, и далее — поднялись до верхнего этажа — все номера шли по порядку, а первой квартиры не было! Что за чертовщина!
Спустились даже в подвал, обошли все подъезды до одного — первого номера так и не сыскали. Вошли в угловой дом под номером 20–б, там первая квартира имелась. И в двух остальных домах тоже первые номера были, а в доме 20–в счёт начинался не с единицы. Позвонили тогда во вторую квартиру искомого дома — никто им не открыл. В третьей тоже народишко отсутствовал. И во дворе, как назло, никого не было. Пустые детские качели скрипели на ветру — скырлы-скырлы, скырлы–скырлы.
Вышли в арку на улицу — ветер их в спину вытолкал. Здесь тоже было довольно малолюдно. Прямо в окошке соседнего дома продавались бублики, купили целую связку. Перкун надел себе съедобные колёса на шею, и, так‑то жуя сухомятку, стали совещаться, что теперь делать. В лицо им летели помертвелые осенние листья — да столько! Невольно зажмурились. Открыли глаза: это дворничиха с метлой подметала опавшую листву, загребая в кучи по краям тротуара. Потемнело. Туча насела на Новослободскую и пошла кропить сеянчиком.
Улица как‑то очень быстро опустела — только они трое стояли посреди дороги да дворничиха шебуршала своей метёлкой. А с конца улицы летели всё новые и новые листья, того гляди, все глаза запорошат. Ваня вгляделся сквозь прищур — и ему показалось, что метла вдали сама по себе орудует, метёт да метёт листья, а они вихрем вкруг неё заплетаются. А в другом конце улицы ещё одна метёлка — тоже самостоятельно подчищает дорогу. Одинокий кленовый лист выбился из кучи листьев и полетел, понёсся, закружился, Ваня проследил весь его путь, вот он подлетел к ним и упал к Ваниным ногам. Полежал — и метёлка дородной дворничихи, пройдясь по Ваниным раздолбайским ботинкам, по кедам Шишка и лапам Перкуна, подхватила листок, погнала в общую кучу.
— Поосторожней бы надо! — отпрыгнул в сторону Перкун. — Здесь же всё‑таки лапы.
— И ноги, — подхватил Шишок.
— А не стойте на путю! — сказала досадливо дворничиха и с высоты своего немалого роста поглядела одним глазом на Ваню, а другим — на Шишка с Перкуном. Глаза у неё косили и смотрели в разные стороны.
— Извините, — сказал Ваня, — а вы случайно не знаете, где в доме 20–в первая квартира?
— А вам зачем? — продолжая мести, пробурчала дворничиха.
— А затем, дорогая Раиса Гордеевна, что в этой квартире ты проживаешь, тебя мы ищем, никак не можем найти! — воскликнул Шишок, который, видать, узнал бабушку по косым глазам.
Дворничиха прекратила мести, остановилась, упёрла руки в боки — метёлка же осталась стоять по стойке «смирно» — и пристально посмотрела на Шишка. А может, и на Ваню — понять было невозможно.
— Это кто ж такие будете? Что‑то я не признаю!
— Да свои мы, свои, теряевские… Я — Шишок, домовик Серафима Петровича Житного да сестры вашей Василисы, а это внук её, ну а это — сами видите… — ткнул в Перкуна.
— Ага. А чего пожаловали? Без дома, что ль, осталися? Дак у меня места нету. Я без домовиков обойдуся, и без чужих внуков, и уж тем более без петухов, — Раиса Гордеевна буравила косыми глазами левую и правую сторону улицы Новослободской.
— Тьфу ты! Да есть у нас дом! Ещё чего выдумала! На кой ляд нам твоя Москва сдалася! И даром не надобна! — заплевался Шишок. — Мы поговорить пожаловали. Аль так и будешь гостей под дождём держать, на порог, что ль, не пустишь? Чаем не напоишь? Уж баньки от тебя, вижу, не дождёшься… Ох, Москва, Москва, до чего гостеприимный городок!
— Кака тебе здесь банька! Только общественна! Ладно, пошли в избу! — Раиса Гордеевна тут свистнула в два пальца, и метлы, так и подчищавшие разные концы улицы, поднялись в воздух и, как собачонки, припустили к хозяйке. Раиса Годеевна подхватила их на лету за стояки левой и правой рукой. Сгребла в охапку, уселась боком, по–дамски, на третью метлу — и та, просев под тяжестью дворничихи и с натугой низёхонько поднявшись над землёй, понесла хозяйку в арку. А носки дворничихиных сапог, как ни поджимала она ноги, скребли по асфальту. Троица, переглянувшись, впробеги[71] припустила за ней.
Раиса Гордеевна почему‑то к высотному дому под номером 20–в не полетела, а соскочила с метёлки возле маленького домишки, стоящего на площади между домами. Отомкнула дверь, на которой и значилась цифра 1. Велела вытирать ноги о тряпку и, проследив за процессом (Перкун зацепился когтистыми лапами за мешковину и разодрал её — Раиса Гордеевна грозно нахмурилась), по одному запустила гостей в дом.
Весь дом состоял из одной комнаты, с буржуйкой посредине. В углу у двери, лохматыми верхушками кверху, в ряд стояли мётлы, деревянные и железные лопаты, совки да ведёрки. Дворничиха сняла свой оранжевый жилет, телогрейку, резиновые сапоги 44–го размера — и оказалась во всём чёрном, даже тапочки были в чёрную клетку.
Пока Раиса Гордеевна ставила чайник на горячую плиту, Перкун стащил с шеи связку бубликов и положил на стол. Ваня оглядывался в поисках каких‑то примет того, что здесь ещё кто‑то живёт, но не находил их. Шишок же мигом всё обнюхал и спросил:
— Одна, что ль, живёшь, Раиса Гордеевна? А где кузнец твой?
— Вона! Вспомнил! С войны не вернулся Андрей–от! С другим я с шестидесятого года проживала, да и того тоже схоронила. Седьмой год одна кукую.
Раиса Гордеевна налила гостям чаю, поставила варенье, развела руками — дескать, больше угощать нечем, чем богаты, тем и рады. Чай пришёлся кстати.
— И ни детей, ни плетей у тебя, а, Раиса Гордеевна? — спрашивал Шишок, выдув под неодобрительным взглядом хозяйки три чашки чаю и подчистив всё варенье.
— Не дал Бог, — поглядела в разные, но обе пустые стороны дворничиха.
— А вот скажи ты нам, не была ли к тебе какни–будь племянница Валентина? — взял быка за рога Шишок.
— Была, как не была! Только когда это было! Ещё мой сожитель был живой. Поглядела, что жить у меня негде, да и отбыла восвояси. Вот и вся побывка. У меня и ночевать‑то негде, — сказала намекающе Раиса Гордеевна. — Сама не знаю, как мощусь.
— А куда она ушла? — подал тут голос (который некстати задрожал) Ваня.
— А кто ж её знает!
— И… и больше вы её не видели? Больше она не приходила?
— Нет. Не пожаловала.
— Да хотя бы в Москве ли она, неужто вы и этого не знаете?! — воскликнул тут Перкун. — Вы же всё‑таки тётя ей, родная кровь. Не чужой она вам цыплёнок!
— Дак у неё и мать ведь есть, кровь куда роднее, а что‑то, я вижу, и она не знает, где её дочерь, коль у меня спрашиваете.
— Не оставляла ли она чего у вас? — стал тут выпытывать Шишок. — Каких‑нибудь своих вещичек, дескать, после зайду… Какой‑нибудь ерунды ерундовской… вроде коробочки с мелом?
Раиса Гордеевна, откинувшись на стуле, расхохоталась.
— Невидимым мелом, значит, интересуетесь…
Шишок, разведя руками, кивнул:
— Очень нужон.
— Нет, не оставляла Валентина никаких сумочек, коробочек, узелков — ничего. Всё с собой унесла. Да и нести‑то было нечего.
— А не говорила, остался ли у неё мел–от?
— Нет, не говорила. Да я и не выспрашивала — не больно‑то интересно! Батюшка Гордей Ефремович дал тот мелок Василисе в приданое, вот она пускай и заботится об ём. А мне он без надобности. Мне скрывать нечего, как некоторым другим… Я вся на виду.
— А что же другие‑то скрывают? — вопрошал, снизу вверх заглядывая в косоглазое лицо старухи, Шишок.
— А и кто ведь что, — пожимала плечами дворничиха.
— Так, совсем забыл! — полез Шишок в котомку и оторвал предпоследнюю шишку от ветки Березая. — Тут тебе Василиса Гордеевна да Анфиса Гордеевна поклоны шлют, а ещё вот — гостинчик… — и Шишок с важностью водрузил на стол шишку.
Раиса Гордеевна вскочила с места, глаза у неё разгорелись — один ярче другого — она цапнула шишку и принялась вертеть и так и сяк. Даже на зуб попробовала. Потом утащила куда‑то в дальний угол и, зарывшись в сундук, так что один зад торчал кверху, зарыла в тряпки. Вернулась раскрасневшаяся и стала куда приветливее, даже открыла кастрюлю, стоявшую на железной печурке, и вывалила в миску всю картошку, вылив туда же чуть не полчекушки постного масла. Шишок весело подмигнул товарищам, дескать, налетай, и первым запустил мохнатую лапу в миску.
— Ну, спасибо за гостинчик, Шишок! — говорила меж тем Раиса Гордеевна. — Ну, удружили сестрички, ничего не скажешь, не ожидала такой щедрости!
Дворничиха стала выспрашивать про житьё-бытьё сестёр, дескать, что‑то писем от Василисы давненько не получала, Шишок наполовину врал, наполовину правду говорил. Растаявшая Раиса Гордеевна погладила Ваню по отмытой рекой Смородиной голове и, скроив постную мину, завздыхала:
— Ох, один ты у нас внучек, на всех четырех сестёр один… Вот ведь какая незадача! Я бездетная, Анфиска безмужняя, Ульянка… Та вовсе… Нас ведь трое дочерей было, Ваня, у матушки с батюшкой: я, Анфиса да Василиса, а как мама‑то померла, царствие ей небесное, так батюшка женился на другой. А у мачехи своя была дочь — Ульяна… Значит, мы были стариковы дочки, а Ульянка — старухина. Ну и стали жить… Не буду рассказывать, всего натерпелись от мачехи‑то… Выросли. Я как раз взамуж вышла, своим домом зажила. Анфиска всё женихов перебирала: этот не такой, да тот не этакий…
Шишок при этих словах вздохнул и согласно закивал, дескать, это дело нам известное: да, перебирала женихов Анфиса Гордеевна…
— А и младшенькие тут подросли, — продолжала дворничиха, — Василиса‑то с Ульяной, они одногодки были. А жил в соседнем селе, в Теряеве, парень один… — дворничиха покосилась на Шишка, который даже жевать перестал, — Серафим Житный, ладный, покладистый, работящий. — Шишок надулся, как пузырь, будто это его хвалили. — Только маленько простоват…
— Чего–о?! Простоват? Добрый человек был хозяин… Простоват! — рассердился Шишок. А Раиса Гордеевна, не обратив внимания на его уточнение, продолжала:
— Ну и приглянулась ему наша Ульяна… Была она девушка ласковая, как лиса, приветливая, росточку невеликого, всё улыбается, глазищами прямо в душу заглядывает и трещит без умолку… Ну и чистоплотница — этого уж не отнять. Стал он на посиделки в Бураново похаживать да под нашими воротами постаивать… Ну вот… А Василиса другого нрава была: молчунья, хотя красавица писаная. Да к тому же умница–разумница, а ещё и знахарка да ворожея… Матушка всех нас волховской науке‑то учила, но Василиса самая способная оказалась, хоть и меньшая из нас. И вроде не много ей пришлось урвать от материнского‑то ученья, — ведь когда матерь померла, Василисе только десятый годок шёл, — а вот поди ж ты!.. Каждое матушкино слово запоминала да заучивала… Ну вот, видать, и ей глянулся Серафим‑то Петрович… Хотя никому она ни слова про то, конечно, не сказывала. Уж не знаю я, пользовалась ли она в этом случае своей наукой, чтоб отбить парня‑то…
Он, мне сдаётся, просто боялся такой красоты‑то да ума–разума, думал, не про его честь. Синица в руках, дескать, надёжнее. А тут оказалось, что и журавль с неба может к нему в Теряево слететь… Не знаю, от приворотных ли зелий али так, сам по себе, — да только стал он сторониться Ульяны, а на Василису заглядываться… И вот сваты пришли в дом… Ульянка всё ещё думала, что её сватать будут, нет, оказалось — Василису. Батюшка ответ даёт сватам: «Берёза!..» Все заулыбались, а Ульянка насупилась…
Шишок, как и Ваня, слушал, открыв рот, но тут, углядев недоумение на лице хозяина, зашептал ему на ухо:
— Берёза — значит, да, согласны, дескать, отдать вам нашу девку, ну а ежели — ель, али сосна, али там дуб — тогда, значит, всё: от ворот поворот.
— А зачем это? — шепнул Ваня.
— Так надо. Чтоб, значит, не обидеть сватов прямым словом‑то.
А Раиса Гордеевна, нахмурившись на шептунов, повела дальше свой рассказ:
— Вот батюшка благословляет молодых… А Ульянка убежала куда‑то… Анфиса пошла в конюшню сена лошади задать, а она там на вожжах висит… Закричала! Прибежали — да снимать… С того света, почитай, вернули… Мачеха давай Василису корить проклинать! Но Василиса Ульяну‑то и выходила — тут уж ей всё мастерство понадобилось. Время прошло, выздоровела Ульяна, и сыграли свадебку. Василиса ушла жить в Теряево, к Житным. Ульянка с Анфиской в Буранове остались. Это присказка, Ваня… И было это давным–давно, до войны ещё. А вот эта сказка уже послевоенная… Так ведь и не вышли взамуж: ни Анфиса, ни Ульяна, одинокие остались. Ульяна не сказать, чтоб хранила верность изменщику, был у неё жених, да на фронте сгинул, ну а после так и не сладилась жизнь. Она в нашем родительском дому жила вместе с матерью, пока та не скончалась. Ну а Анфиска — та вовсе бирючкой стала, в лесу жила, на лесном кордоне, после смерти батюшки‑то, Гордей Ефремыча… Валентину, матерь твою, очень уж привечала Анфиса‑то, всё звала к себе на каникулы, дескать, пускай приезжает племянница в родные места, чего ей в городу смрадом дышать. И Василиса отпускала дочку. Хотя, я слышала, Серафим Петрович противился, чего‑то ему не хотелось, чтоб дочь ехала в родные места. Но ничего не мог сделать, Шишок, твой хозяин, подкаблучник он был, всё в основном решала Василиса…
Шишок топнул тут ногой:
— Нет, он только добрый был человек! И не скажи, Раиса Гордеевна, далеко не всё Василиса решала. Мне‑то лучше известно, что в избе делалось, всё ведь на моих глазах! Что там за стенами — я не знаю, а уж что касается домашних дел…
— Ну, не буду спорить! Валентина вышла девка пригожая — вся в мать. А вот простотой — в отца…
— Опять двадцать пять! — рассердился Шишок.
— Многие заглядывались на Валентину, — продолжала меж тем Раиса Гордеевна, — а она начала хвостом вертеть. Ну и случилась беда… Вроде человек был женатый, учитель из музыкальной школы. Валентина ведь музыке училась, учитель этот всё хвалил её, способная, дескать, ученица… Да потом взял и отказался — не мой, дескать, грех. И другие, дескать, были… Ну и — девке восемнадцати лет нет, а… Василиса настаивала, чтоб Валентина рожала, вырастим-де… У Василисы с Серафимом Петровичем‑то трое малых детушек в войну погибли, история тёмная — и мне неизвестная… — Раиса Гордеевна поглядела на Шишка, который пригорюнился. — Только знаю, что, когда эсэсовцы[72] пришли, чтоб село сжечь, дети в лесу прятались с кем‑то из родных. Серафим Петрович с Василисой в то время партизанили. Говорят, вроде какой‑то эсэсовец, заслышав шум, обстрелял кусты — и положил всех троих. Так люди говорили… А что уж там было… Ну вот. «Рожай, — говорит Василиса дочке, — ничего, вырастим». Серафим‑то Петрович к тому времени уж помер, они вдвоём остались… А Валентина стала проситься к тётеньке Анфисе на кордон, свежим воздухом подышать, молочка попить… Василиса и отпусти дочку… Так вот: вернулась Валентина от тётеньки порожняя, чикнули они там по–живому… И такие раздоры пошли в семье — страшные. Василиса прямо ведь взъелась на дочь…
Шишок мельком глянул на притихшего Ваню и сказал:
— Конечно! Род ведь совсем мог пресечься!.. Серафим‑то Петрович из всех братьев Житных один с фронта живой вернулся… Только… вот что касается Анфисы — она тут, прямо скажу, ни при чем, никогда я этому не верил, навет это, наговор один. И Василиса про это слыхала, но тоже не верила… Куда‑то Валька сбегала втайне от тётеньки — и избавилась от беремени.
— Ну, не знаю… Нет так нет, моё дело маленькое, как слыхала, так и передала. А что касается рода… Так ведь и с нашей стороны род мог пресечься. Оборвалась бы ниточка. Вот такая история. Так что один ты у нас, Ваня, внучек — на всех четырёх сестёр-бабушек один…
— Только и родни что бабушки одни!.. — проронил тут доселе молчавший Перкун, а потом ни к селу ни к городу добавил: — Цыплят по осени считают…
Ваня сидел ни жив ни мёртв. Вот оно что!.. И… и что теперь?..
— И что нам теперь делать? — спрашивал меж тем домовик. — Где Валентину‑то искать?
— И что нас теперь ждёт? — сипел в свою очередь Перкун.
— Погодите–ко!
Раиса Гордеевна вернулась в угол, к сундуку, куда припрятала шишку, и вынула из него чёрную книгу с растрёпанными страницами. Водрузив на нос очки с толстыми стёклами, от чего косые глаза её увеличились и стали ещё страшнее, дворничиха сказала:
— Сейчас на все свои вопросы получите ответы. Ну–ко, Ваня, назови страницу и строчки, только скажи, снизу или сверху.
Ваня назвал. Раиса Гордеевна раскрыла книгу и принялась читать:
А ночью слышать буду я Не голос яркий соловья, Не шум глухой дубров — А крик товарищей моих…И захлопнула книгу.
— И это всё? — осторожно спросил Шишок.
— Всё! Книга и так вам много сказала.
— А что это значит? — спросил удручённо Ваня.
Раиса Гордеевна поправила очки и посмотрела в разные стороны:
— То, что не в лесу Валентина, — это точно. В каком‑то тёмном месте… Тут в стихе‑то вначале про дурдом говорится …
Ваня так и обмер, но Раиса Гордеевна мигом исправилась:
— Но это я не настаиваю. Ты верхние строчки ведь не назвал. Но жизнь её всё‑таки тёмная, ночная, и, я думаю, спасать Валентину надо… Вытаскивать из того тёмного места. А вот что за место, уж не обессудьте, не знаю… — вздохнула Раиса Гордеевна.
У Перкуна возникли кое–какие сомнения, уж не на его ли вопрос отвечала книга, ведь он прозвучал последним… Но петух решил смолчать, хотя слова про крик товарищей очень ему не понравились.
— А невидимый мел‑то мы хоть найдём? — поинтересовался Шишок. Раиса Гордеевна и ему велела назвать страницу и номера строк. Шишок назвал. Дворничиха с важностью прочла:
Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя; То, как зверь, она завоет, То заплачет, как дитя.— Так это же Пушкин! — воскликнул Ваня, узнав хрестоматийные строки.
— Ну да, — кивнула Раиса Гордеевна. — Александр Сергеевич вам на все вопросы даст ответ! Пушкин завсегда правду говорит. И никогда не ошибается. Ведь поэты, Ваня, не обманывают. У меня сожитель‑то сторожем работал в школе, принёс эту книжицу, списанную из библиотеки, я однажды задала ей жизненный вопрос — и получила прямой ответ. С тех пор и ворожу по ней, только для солидности пришлось обернуть в чёрну бумагу. Многие ко мне приходят за ответами… Никто пока в обиде на Пушкина не остался… Даже подумываю совсем оставить дворницкую работу и стать гадалкой. Стара я стала, не справляюсь, хоть мётлы‑то и подсобляют, как могут, да всё одно — старость не радость. А это дело хорошее, сидячее…
— Ну а что это всё‑таки значит? — воскликнул Шишок. — Расшифруй ты нам… Что‑то я ничего не пойму!
— Боюсь, что расстрою вас, — поглядывая в строки, вздохнула дворничиха. — Тут двояко кажет… Или зимой добудете мел…
— Какой зимой! — воскликнул Шишок. — Нас до зимы снесут!
— Или вовсе не найдёте мела — вишь, буря то воет, то плачет…
— Ну вот! — воскликнул Шишок.
Друзья переглянулись и вздохнули.
— А может, — произнесла тут, хлопнув себя по лбу, Раиса Гордеевна, — в Бураново вам надо?! С бури же всё начинается… «Буря мглою небо кроет»! Точно, про Бураново тут…
— Снесли Бураново‑то, — сказал нетерпеливо Шишок. — Пусто там.
— Тогда одно из двух: или зимой отыщете мел, или неудача.
— Ладно, — сказал Шишок, незаметно подмигивая Ване. — Засиделись мы у тебя, Раиса Гордеевна, пора и честь знать. Пойдём мы…
— А может, ещё чайку? — кивнула дворничиха на закипавший чайник.
Шишок засомневался, но Ваня дёрнул его за полу, и тот вздохнул:
— Нет, пошли мы.
Раиса Гордеевна пожелала путникам удачи и, только они шагнули за порог, замкнулась на ключ, плотно задёрнула шторки и вытащила завёрнутую в кашемировый платок шишку. Развернула, покачала на ладони — тяжёленькая. Поставила золотую шишку на стол и, подперев щёку, долго любовалась. Услыхала какой‑то шум за окном — и скорёхонько набросила на сокровище платок.
Глава 23. Метро «Улица 1905 года»
— Да–а, — протянул Шишок, когда вновь оказались на Новослободской, — с метёлками Раиса Гордеевна, конечно, хорошо управляется, туг уж ничего не скажешь, а вот что касается ворожбы… Ворожейка из неё, как из меня водяной.
— Значит, думаешь не нужно… — Ваня замялся и быстро докончил: — маму спасать? А вдруг Раиса Гордеевна права?
— Да где ж её теперь искать? — проронил Перкун. — Куда нам теперь?
— Потерялся след, — пробормотал Шишок. — Заплутали мы в этой Москве, хуже чем в теряевском лесу… Ровно какому московскому лешаку дорогу перебежали…
Поехали куда глаза глядят — а глаза глядели в направлении центра, и приехали на станцию метро «Улица 1905 года». Тут возле афишного стенда с жирно напечатанными именами различных певцов Шишок приостановился и воскликнул:
— Погодите‑ка! Она ведь хотела стать великой певицей!.. Всё для этого отдала… — при этом домовик взглянул на Ваню. — Наизнанку себя вывернула… А вдруг стала?! Фамилию сто раз могла сменить — у баб это запросто, а имя‑то осталось!
Стали искать певицу с именем Валентина — но никаких Валентин на афише не было. Была Алла, две Ирины, Наташа, Кристина, даже Эдита была — а Валентины не было.
— Может, она в Большом театре поёт? — предположил Перкун.
— В «Золотом петушке»? — усмехнулся Шишок. — Арию Шемаханской царицы?
Тут все увидели толпу народа, которая двигалась прямо по проезжей части. Впереди ходко шла весёлая молодёжь, дальше топали люди постарше, полно было дедушек и бабушек. Некоторые несли красные флаги. Шишок тут погладил свою медаль и расправил плечи. А Ваня заметил несколько человек с камерами и вспомнил, как в инфекционке его снимали для телевидения.
— Чего это такое? — спросил Шишок, провожая взглядом шествие. — Куда это народ несёт?
Из процессии ему отвечали:
— На Останкино идём, лжецов уму–разуму учить!
— Телецентр будем брать — чтоб народ не охмуряли!
— Сейчас Останкинскую башню ломать будем! Айда, пенсионер, с нами!
Шишок в недоумении поглядел на Ваню:
— Ничего не пойму!.. Какую башню, хозяин? Какой телецентр?
Ваня рассказал, что благодаря Останкинской башне телевизоры смотрят в каждом доме, и Шишок даже подпрыгнул:
— А–а–а! Так это я завсегда с удовольствием! Моя бы воля — я бы все телевизоры до одного в расход пустил! — и, пристально поглядев на Ваню, помчался догонять шествие. Ваня с Перкуном, делать нечего, поспешили следом.
Скоро троица, обогнав многих, шла в серёдке тесной толпы. Из разговоров вокруг Ваня понял, что демонстранты только что прорвали кольцо милиции вокруг Белого дома, хотя ментов там было — тьма!
— Вот именно что тьма! Я слыхал, тыщ десять! — говорил какой‑то мужик в очках. — Как‑то подозрительно: чего это они тринадцать дней никого не пропускали, а тут нате–ко — пустили безоружных!
— Дак ведь какая толпа народу вышла! Сомнут! — отвечали ему.
— И наши ребята, знаешь, какие крутые! — кричал парень в каске, и в подтверждение постукал себя по твёрдому головному убору.
— Ну да, отняли вы у ментов пару касок да три щита, ну ещё четыре дубинки — как‑то очень уж легко менты расстались со своей амуницией…
— Легко! Ну, ты, мужик, даёшь! — обернулся идущий впереди паренёк с громадным синяком под глазом. — Гляди, какой фингал мне поставили! А Лёхе башку проломили! Эй, Лёха, покажись!
Шагавший впереди Лёха, который не мог слышать разговора, мотнул головой вопрошающе, дескать, чего надо. Голова у него и вправду была перевязана клетчатым шарфом.
— Не–ет, ребята, это все несерьёзно! — говорил очкастый. — Сильно на провокацию смахивает. Настучали по башкам для отвода глаз — и пропустили. Дескать, освобождайте своих депутатов, сколько влезет! Читали, небось, как в 1905 году‑то было, в кровавое воскресенье… Поп‑то Гапон[73] — провокатор… А сегодня ведь тоже воскресенье…Чего‑то там у них на уме у дерьмократов этих — только вот чего?!
— Ладно тебе каркать! — рассердился парень в каске. — Может, ты и есть этот поп Гапон? Не хочешь идти, сваливай, нечего народ баламутить.
И очкастый, пожав плечами, замолчал.
Ваня крепко вцепился в руку Шишка, а тот поглядел удивлённо, дескать, ты чего, хозяин? Видать, никаких опасений у него не возникало. И Ваня тоже понемногу успокоился. В самом деле — ну что тут может случиться?.. Это же не тёмный теряевский лес — столица! И он не один тут, толпа народу кругом. Вон как дружно идут! Ваня даже спросил у паренька с синяком, сколько здесь примерно человек. Окинув хозяйским взглядом нескончаемую демонстрацию, паренёк сказал:
— Сто тыщ будет, зуб дам!
И Ваня совершенно успокоился. Кто‑то говорил, что вообще, конечно, зря попёрлись в Останкино, Кремль‑то рядом был. И там ведь Ельцин засел, а до телецентра часа два пилять, если не больше. Стемнеет, пока придём…
Вдруг раздался гудок машины — и Ваня через головы взрослых увидел грузовик, который прокладывал себе дорогу в толпе. Оператор, шагавший немного впереди, мигом нацелился камерой в машину.
В толпе получилась Замятина, людской омут, и Ваню с Шишком закрутило и разбросало в разные стороны. В грузовике сидели какие‑то парни и потрясали автоматами. «Мы с вами! — кричали парни. — Ща мы им устроим!». Шишок постарался протолкнуться к Ване, правда, не совсем это у него получилось. Но Ваня нет–нет да и различал маленького Шишка среди идущих — и то ладно. Машина теперь ехала где‑то впереди — и идти стало спокойнее. Но в течение пути ещё пара машин с вооружёнными людьми пыталась проложить себе дорогу в толпе. Перкун, семенящий сзади, просипел Ване в самое ухо (едва не заглянув клювом в ушное отверстие):
— Не попадём ли мы тут, как куры во щи, а, Ваня?! Что Шишок, наш командир, думает?
Ваня оглянулся: Шишок оживлённо болтал с каким‑то дедом, у которого на пиджаке алели орденские планки. Ваня разобрал слова — Сталинград, Курская дуга, рейхстаг[74]… Шишок встретил фронтовика — и его теперь калачом отсюда не выманишь. Очкастый мужик, так и шедший поблизости, взялся за своё: кивая на машины, в кузове которых сидели вооружённые люди, говорил:
— А что это за ребята? Что‑то их раньше с нами не было…
— Подмогу прислали! — огрызался парень в каске. — Всё правильно. А как ты собирался Останкино брать без оружия‑то?
— А может, они нас этим оружием‑то и встретят, там, у Останкина?..
— Вот, зараза, хватит каркать! — закричало уже несколько голосов из толпы.
По дороге к идущим присоединялись всё новые дедки и старушки, кто‑то рассказывал, что Ельцин собирается ввести в Москве чрезвычайное положение, дескать, по радио слышали…
Наконец вдали показалась телебашня. Ваня, несмотря на усталость, с интересом разглядывал сооружение. Чем ближе подходили, тем внушительнее казалась железная конструкция. Но к ней не пошли, завернули к телецентру, площадь здесь была ярко освещена. В глубине, за широкой стеклянной витриной, стояли люди в чёрных масках, с автоматами и невидяще смотрели на них. Ваня поёжился: зачем они лица скрывают… Никто не знал, что теперь делать. Очкастый мужик стал озираться:
— А где машины‑то? Где эта хвалёная вооружённая подмога? Небось, маски надела и в нас нацелилась…
Толпа загудела. Машины и правда куда‑то пропали вместе со всеми, кто в них сидел. Ваня увидел Шишка далеко позади, тот по–прежнему вёл оживлённую беседу с фронтовиком.
— Мистика! — воскликнул Лёха — парень с перевязанной шерстяным шарфом головой.
И тут сверху, из окон телецентра, раздался выстрел — и Ваня увидел, как этот Лёха рухнул на асфальт. И началась канонада. Стреляли из телецентра, из зданий рядом, из‑за угла вывернул БТР, тьму прорезал свет прожектора — и грохнуло так, что у Бани уши заложило. Стреляли только с одной стороны — демонстранты оказались безоружны и на стрельбу не отвечали. Оглохший Ваня ничего не мог понять — он крутился на месте, а вокруг в полном молчании один за другим падали люди. Как в кино! Наконец он решил, что всё это сделано нарочно: конечно, вон же телецентр, это какая‑то телевизионная съёмка, а все вокруг — актёры. Поглядел на здание: небось, тут из каждого окна снимают. Нет, из одного окна стреляют, а из соседнего снимают…
Звук включился — Ваня с интересом наблюдал за профессиональной игрой каждого подкошенного выстрелом. Некоторые играли убитых — и не двигались, даже если как следует дёрнуть их за руку. Другие представлялись ранеными и так стонали, что Ваня засмеялся — до чего здорово играют! Какой‑то оператор полз, толкая перед собой камеру — Ваня засомневался, то ли он из тех, что снимают, то ли из тех, что играют… Раздался выстрел — оператор больше не двигался, и Ваня понял: он из тех, что играют. И тут Ваня увидел Шишка, бежавшего к нему со зверской рожей, — Шишок подбежал и свалил Ваню на землю так, что он сильно ударился локтями.
— Ты чего! — рассердился Ваня и хотел подняться, но Шишок, который и сам упал рядом, нацепил ему на голову бог весть где подобранную каску и зашипел: — Ползи, хозяин, за мной, видишь, там деревья — нам туда. И пошевеливайся! Уходить надо!
Ваня ухмыльнулся — конечно, Шишок ведь в кино да телевидении ничего не смыслит, откуда ему знать про съёмку!.. Но решил подыграть домовику — и ловко пополз к деревьям, а выстрелы так и грохотали вокруг, пули вжикали, а люди, которым досталось играть живых и даже не раненных, тоже лежали на земле и расползались кто куда. Какая‑то старуха в платочке, завязанном впереди, как у Василисы Гордеевны, сидела на корточках, не решаясь, видать, лечь на грязный асфальт и, закрываясь от стрельбы хозяйственной сумкой, причитала:
— Люди, да что ж это делается? Дожили–ись! Вот тебе и советская власть не угодна была! Вот тебе и коммунисты — всё не хороши были! А и где ж это видано, чтоб по своим стреляли–и! Люди–и!
Но дальше в её роли слов, видать, не было — потому что старуха повалилась навзничь и замолчала.
— А где ж Перкун‑то? — озирался Шишок. — Не видал ты его, хозяин?
Ваня замотал головой, приподнялся, но Шишок живо прижал его к асфальту. Доползли до лип, под которыми разросся густой кустарник. Шишок велел Ване оставаться тут, а сам пополз обратно искать Перкуна. Вдруг раздалось оглушительное, как выстрел, кукареку — Ваня поднял голову и увидал на верхней ветке петуха. Мальчик позвал Шишка, показывая пальцем вверх, Шишок посмотрел куда надо, но махнул рукой, он полз к очкастому мужику, игравшему тяжело раненного. Шишок подполз к нему, подхватил под мышки и поволок к деревьям. Очки у мужика были в сплошных трещинах, а глаза за очками… Ваня увидел, что они все в крови и какой–то склизкой водице, и мужик так страшно кричал, что Ваня понял: играть так никто бы не смог…
И вмиг всё для Вани осветилось новым и страшным светом. Это была не игра, это была не телепередача — это была жизнь, и возле этого телецентра могли убить каждого… Шишок снял с мужика очки — охнул и заоглядывался:
— Эх, Василису Гордеевну бы сюда!
Но бабушки Василисы Гордеевны здесь не было. Зато полно было других стариков и старух. Шишок вытащил из‑под огня ещё нескольких человек, в том числе своего знакомого — фронтовика с орденскими планками. Старик зажимал руками живот и охал. Шишок помогал раненым, а Ваню с Перкуном, который ни за что не хотел слетать вниз, как будто на дереве было безопаснее, отправил за подмогой — раненых надо было срочно доставить в больницу. Ваня побежал, Перкун молча полетел следом.
Увидев «Скорую помощь», — вот повезло‑то! — Ваня выбежал на средину дороги и растопырил руки. «Скорая», заскрежетав тормозами, остановилась, шофёр с матом вывалился в дверь — но, увидев Ванино лицо, замолчал. Врач с медбратом безропотно последовали за мальчиком в каске и петухом. «Носилки не забудьте!» — деловито напомнил Ваня. За домами, на детской площадке, наткнулись на фронтовика и мужика, того, который прежде был в очках, — Шишок утащил их подальше от места событий. Самого Шишка не было — наверное, вернулся обратно, чтоб переправить сюда остальных. Мужик уже не кричал, лежал неподвижно, врач подошёл к нему, нагнулся, пощупал пульс — и покачал головой. Потом подбежал к фронтовику, разворошил дедову одёжку и, поглядев на живот, смачно выматерился. Деда положили на носилки и унесли, после прибежали за неподвижным очкастым, а Ваня вдогонку им крикнул, что там и другие есть, много. Врач, не оглядываясь, отозвался, что вызовет по рации машины «Скорой помощи».
Дождавшись врачей, сдав всех вынесенных с рук на руки, трое друзей сели, где стояли — в детской песочнице. У Вани под каской раскалывалась голова, а Перкун, внезапно утратив человеческую речь, кудахтал без остановки.
— Ну, ну, ну, — успокаивал его Шишок. — А вот я тебе пшена сейчас дам, горошку… Ну, петушок, перестань… Перестань, хорошая птица… Мирная птица. Добрая птица. Такая она, людская жизнь…
Ваня в недоумении глядел на освещённые окна девятиэтажного дома. Из одного окна высунулась женщина и стала звать какого‑то Вовку. Дескать, немедленно домой, а то она сейчас спустится и задаст ему. Звала, звала — Вовка не откликался. Ваня понадеялся, что этот неизвестный Вовка не побежал на звуки интересной стрельбы…
Шишок, понурившись, сказал:
— Я ничего не понимаю в этой жизни, хозяин. Ничегошеньки. — Потом добавил: — Пойдём, что ли?..
— Куда? — спросил Ваня, хотя, по правде говоря, ему сейчас было совершенно всё равно, куда идти.
— Может, к Белому дому? — полувопросительно сказал Шишок. — Этот мужик‑то в очках ведь прав оказался, провокация тут налицо… Что там теперь с этими будет, которые в Белом доме‑то засели? Надо их предупредить о том, что тут случилось… Как думаешь?
Ваня кивнул: надо. И они пошли. Перкун же, перестав кудахтать, так и остался стоять, где стоял, едва его не потеряли — хорошо, вовремя спохватились. Решили тогда сделать для петуха поводок, Шишок даже пожертвовал для этого солдатский ремень, на котором крепилась до сих пор его балалайка.
Глава 24. Белый дом
В метро на свету попытались почиститься. И Ваня, и Шишок после того, как, ползая по–пластунски, вытерли асфальт возле Останкино, выглядели не лучшим образом. Да что там! Как настоящие бомжи. Один Перкун был чистеньким, пёрышки так и переливались в свете лампочек. Только он по–прежнему молчал, стоял, где укажут, шёл, куда поведут. Даже на эскалатор не среагировал…
Контролёр в метро попыталась их остановить, но, когда Шишок с широчайшей улыбкой и нарочитым иностранным акцентом объяснил, что они везут чрезвычайно ценный экземпляр, отловленный в лесах Тайгета[75], в московский зоопарк, — дежурная их пропустила, несмотря на затрапезный вид «иностранцев». Может, она решила, что ловцы заявились в метро прямиком из этих самых лесов?.. Вышли из метро в ночь и двинулись в сторону Белого дома. Ещё только подходя к Москве-реке, услышали машинизированное громкоговорение:
— Россия говорит «нет» тоталитаризму[76]!
— Страна за Ельцина, за демократию[77], за рыночные реформы[78]!
— Сдавайтесь, пока не поздно!
Жёлтая бронированная машина стояла на подступах к Белому дому, оттуда и звучали на всю округу усиленные мегафоном речи.
Белый дом выглядел внушительно — только тёмным он был, светились редкие окошки. И площадь вокруг дома была едва освещена. Вся она была заполнена сидящими на корточках милиционерами в камуфляже, в касках, бронежилетах, в руках у каждого — автомат. Рядом лежат или стоят пластиковые щиты. Ваня вспомнил, как в толпе демонстрантов говорили, что милиции тут десять тысяч человек. Мальчик стал считать танки и насчитал 12 штук, стояли ещё бронетранспортёры и всякая другая техника. Попытались пройти мимо милиционеров, но ближайшие живо загородились щитами и сунули под носы и клюв автоматы:
— А вы куда это?
Шишок указал на Белый дом. Какой‑то мент громко заржал:
— Ну, комедия! Дети, старики, птицы — вот на кого они надеются!
Другой, подсмеиваясь, сказал:
— Их уж сегодня один раз освободили. Хватит! Хорошего понемножку!
Ваня, которому после нынешнего вечера ничего уже не было страшно, снял с плеч котомку и по примеру Шишка стал врать жалостным голосом:
— Дяденьки, мне бабушке пирожки надо отнести… Пожалуйста… Голодная она там сидит, в этом доме, который уж день не евши…
— А нечего сидеть! Пускай бумагу подпишет, какую надо, — и идёт на хрен!
— А ну кыш отседова! Нечего вам тут делать!
Для вида отошли, но Шишок, подмигнув Ване, достал из котомки ветку Березая с последней оставшейся шишкой и отправился обратно, поручив петуха на поводке Ване.
— Нет, я с тобой, — запротестовал мальчик. — Куда ты, туда и я. Что бабушка Василиса Гордеевна сказала?.. Чтобы ты за мной приглядывал. А как же приглядывать — если ты в доме, а я за порогом?!.
— Вместе так вместе… — вздохнул Шишок. — Только, боюсь, опасно там будет, в этом Белом доме‑то, как бы не стал он чёрным…
— Ничего не знаю, — заупрямился Ваня и сделал шаг вперёд.
— Ладно, хозяин, — вздохнул Шишок, — только действовать по моему сигналу. Как только услышишь взрыв, бегом во–он к той двери… Видишь, приоткрыта…
Ваня кивнул. Шишок сунул ему спрятанную было каску, Ваня надел её поверх черной шапки, а домовик, помахивая сосновой веткой, вразвалочку пошёл к милиционерам. Мальчик двинулся следом, петуха повёл за собой.
— Хочешь, фокус покажу? — подойдя к одному из сидящих на корточках, спросил Шишок, обмахиваясь веткой, ровно ему было жарко. Милиционер поднялся и с высоты своего роста послал его куда подальше. Тут Шишок на глазах мента оторвал от ветки шишку — и тот вдруг понял, что никакая не шишка росла на ветке, а самая настоящая граната… Но понимание это было запоздалым — потому что дедок уже бросил гранату и сломя голову мчался к дверям, ведущим в Белый дом, а мальчишка с дурацким петухом на поводке вприпрыжку бежал за ним.
Ваня, обернувшись, увидел взрыв, которым разметало милиционеров в разные стороны… Он сам был на краю этого взрыва — как только его не задело каким‑нибудь осколком! А Шишок уже ворвался в двери и держал их открытыми. Ваня заскочил туда следом за домовиком, а Перкун залетел за ним. Вслед им стреляли — но выстрелы только мазнули по белой стене, отбивая каменные гранулы. Откуда‑то выскочил парень с автоматом, оказывается, стоял на боевом дежурстве, охранял дверь с этой стороны. «Ну вы даёте!» — воскликнул полувосторженно. Шишок мимоходом козырнул ему, друзья мчались вверх по широкой лестнице — и только на втором этаже остановились.
— Шишок? Ты что? — запыхавшись, говорил Ваня. — Ты же кучу народу там поубивал…
— Шишкой‑то? — воскликнул Шишок. — Иди‑ка сюда…
Они вбежали в комнату с табличкой на двери, где значилось, что здесь находится комиссия по сельскому хозяйству, только никакой комиссии за дверью не было, комната была пустой и тёмной. И осторожно выглянули в окно: дым от взрыва рассеялся — и милиционеры, все как один, поднялись на ноги. Ваня только крякнул. Думать про свойство шишек лешаковой ветки у него не было никакой охоты. Ясно было одно: подарок оказался не простой, и хорошо, что Ваня не выкинул ветку — каждая лесная шишка сослужила им службу, каждая ох как пригодилась в этом городе!
А из жёлтого броневика, стоявшего в пятидесяти метрах от дома, доносились мегафонные речи — слышно было так, будто в комнате находится радио и включено на полную мощность. Один из депутатов-демократов предлагал своим товарищам признать Указ № 1400[79] о роспуске парламента, президент‑де гарантирует им зарплату в 25000 рублей. Все, признавшие Указ, будут работать в органах администрации, а кто пожелает, может выйти на досрочную пенсию, размер которой будет составлять 75% от зарплаты.
Троица шагала вверх по лестнице, по коридорам — и всюду прельстительные речи из жёлтой машины были слышны очень хорошо.
— Депутатская квартира в Москве, само собой, останется за депутатом! — кричал мегафонный голос. — И все привилегии будут сохранены! Признайте указ — и вам всё простят! А иначе — берегитесь!..
Навстречу друзьям попадались бледные люди в помятых костюмах. Шишок спросил у одного из депутатов:
— Это что ж, всюду такая слышимость, по всему дому?
— Всюду.
— И давно они так?
— Все две недели, круглые сутки.
— И ночью? — спросил, ужаснувшись, Ваня, которому больше всего сейчас хотелось спать.
— И ночью.
— А где их не слышно‑то? — поинтересовался мальчик.
— Всюду слыхать, нет такого уголка, где можно укрыться. Надоели хуже горькой редьки.
— Ну и как — кто‑нибудь поддался на провокацию? — спросил Шишок.
— Никто! — с гордостью отвечал депутат.
— А где тут у вас штаб? — спросил Шишок — У нас важное донесение…
— Штаб? Я не знаю, где штаб… Если есть он, то где‑то там, наверху…
Поднялись на последний этаж, шли по тёмному коридору, освещая себе путь фонариком и заглядывая во все двери по очереди: где было темно и пусто, а где горели свечки и сидел или лежал народ. Помня радиообращение мэра, слышанное в каптёрке Казанка, Ваня внимательно вглядывался во встречных людей. Ни один пьяный на глаза им не попался, правда, вот наркоманов Ваня никогда не видал, разве что по телевизору в инфекционной больнице, но серьёзные депутаты на наркоманов никак не походили. Кто такие морально неустойчивые, мальчик не знал, Шишок на вопрос пожал плечами и сказал, что морально неустойчивых он тут не заметил, хотя баб в доме предостаточно. Да и не до того им… Оружия ни у кого не было — и Шишок только качал головой. Многие были в верхней одежде, это потому, понял Ваня, что отопление в Белом доме отключили. Им самим нисколько не было жарко, и шапки снимать не хотелось.
Заглянув в очередную дверь, увидели женщину, которая сидела возле ряда шкафов с какими‑то документами и тихонько плакала, Шишок подскочил к ней:
— В чём дело? Вас кто‑нибудь обидел? Где этот гад?
Женщина покачала головой:
— Да что вы, кто тут меня обидит… Помыться мечтаю, две недели немытая! Воду‑то горячую отключили. Без света сидим и без воды… — женщина опять всхлипнула.
Шишок с Ваней переглянулись — ну и ну! В том, что не мыться можно месяцами, а не то что неделями, оба были солидарны. Ну а свет — днём‑то ведь светло, а ночью спать надо.
Набрели на буфет: буфетчица в белом кружевном передничке поверх пальто и белой же накрахмаленной наколке в волосах сидела за одним из столиков и меланхолично рвала бумажные салфетки.
— Вам помочь? — галантно предложил Шишок.
— А? Чего? — вскрикнула буфетчица и прекратила мусорить. — Ничего съестного не осталось… Хоть шаром покати…
Тут взгляд её упал на петуха, которого вёл на поводке мальчик, — и в глазах буфетчицы зажёгся алчный огонь… Ваня попытался заслонить Перкуна своим телом, но из этого ничего путного не вышло. Буфетчица встала и, как сомнамбула, направилась к троице.
— Но, но, но! — выступил вперёд Шишок. — Это бесценный экземпляр, племенной, за него, знаете, сколько золотых слитков отвалили! Для разведения куплен, для улучшения куриного рода…
Буфетчица, услыхав про золотые слитки, мигом сникла и, сев за ближайший к двери столик, вновь принялась рвать салфетки.
А из бронированной жёлтой машины теперь трезвонили, что попытка захвата телецентра провалилась, государственный переворот не удался.
— Люмпены, посланные Верховным Советом, убили ни в чём не повинного милиционера, охранявшего вход в Останкино, и сотрудника телецентра! — разносилось по зданию. — Кровь невинных жертв ляжет несмываемым пятном на тех, кто взбаламутил несознательные элементы.
Послушали ещё — но про тех, кто был убит стрелявшими из телецентра, ничего не говорилось.
— Ядрёна вошь! — воскликнул Шишок, подбежал к окну и, распахнув его, разразился двенадцатиэтажным матом в сторону жёлтой машины.
Заглянули ещё в одну дверь — там несколько депутатов горячо спорили между собой. Один говорил, что руки у Ельцина теперь, после попытки взятия телецентра и мэрии, развязаны — и он как пить дать отдаст приказ стрелять по Белому дому. Другой возражал, что Ельцин всё же не Пиночет — он будет действовать с оглядкой на Запад, а западные демократии ни за что не одобрят обстрел парламента, пусть даже и красного, как утверждает президент. Третий, послушал–послушал и сказал:
— Уверен, что без стрельбы не обойдётся, а Запад даст добро. И… поделом нам! За грехи надо расплачиваться… Кто одобрил в девяносто первом развал Союза? Кто ратифицировал договор о роспуске СССР? Мы — причём почти единогласно. Только собственной кровью можно смыть этот позор…
— Петрович, ты уж что‑то того, — говорил четвёртый, — куда‑то не туда заехал. Да и чем тут теперь поможет наша кровь? Нет, демократы стрелять в парламент, впервые в русской истории избранный всеобщим голосованием, не будут, я уверен. Просто у–ве–рен!
Заметив тут малюсенького старикашку с медалью «За отвагу» и мальчика с петухом на поводке, — причём петух вдруг закукарекал, — депутат несколько растерялся, приоткрыл рот, собираясь задать какой‑то вопрос, но не задал. Потому что в этот момент в дверь ворвался сильно запыхавшийся человек и закричал:
— Из верных источников стало известно, что отдан приказ стрелять по Белому дому.
Депутаты схватились за головы, но все решили, что останутся в Белом доме несмотря ни на что.
— А мы что будем делать? — спросил тихонько опечаленный Ваня. — Неужто и тут будет то же самое, что у телецентра?!
— Спать, — сказал Шишок, первым покидая кабинет. — Утро вечера мудренее.
Нашли пустую комнату, вытащили из шкафов папки с бумагами, шкафы придвинули вплотную к окнам, а часть папок подложили под головы. С Перкуна стащили ошейник — и петух взлетел на шкаф, оставшийся у стены. Накрылись — один пальтецом, другой зипуном. Но уснуть под непрерывное громкоговорение жёлтой бронированной машины было трудно. Тогда Шишок, стараясь переорать броневик, стал петь всякие ухарские частушки. Петух же, ни на что не обращая внимания, преспокойно дрых на своей верхотуре. Потом Шишку надоело надрываться — и он замолчал, а людям с мегафоном не надоедало, впрочем, в бронемашине, видать, дежурили по очереди — голоса всё время менялись. Всё‑таки кое‑как им удалось уснуть.
Проснулся Ваня с улыбкой — ему снилось, что мамка гладит его по щеке и шепчет: «Иванушка, просыпайся, в школу пора!» — Ваня даже ответил: «Сейчас, сейчас!» Приоткрыл глаза — солнечный луч пробился в щель между шкафами, заглянул в лицо, мальчик улыбнулся — а мамы‑то и нет. Только Шишок дрыхнет рядом, и гигант–петух бродит по комнате, заваленной какими‑то договорами, приказами, постановлениями, проектами законов…
И тут раздался ужасающий грохот, как будто началось землетрясение! Ваня вскочил на ноги, а Шишок даже опередил его, выбежали из кабинета, заскочили в соседний, бросились к окошкам: танки выстроились на мосту через Москву–реку и прямой наводкой били по окнам Белого дома.
На Ваниной голове в очередной раз оказалась каска, забежали за петухом — и понеслись куда‑то по коридорам, где был полный бедлам: как оказалось, стрельба для многих депутатов явилась неожиданностью. Пахло гарью, некоторые кабинеты оказались без дверей — их разнесло в щепки, и оттуда выползал чёрный дым. Навстречу шли люди с огнетушителями наперевес — тушить очаги возгорания. И тут петух вдруг опять заговорил по–русски, на бегу он читал стихи:
А ночью слышать буду я Не голос яркий соловья, Не шум глухой дубров — А крик товарищей моих…Ваня с Шишком только переглянулись.
— Всё понятно, — вздохнул Шишок. — Сошёл с ума! Не вынесла птица. Всё же, что ни говори: мозги‑то куриные…
— Сам ты сошёл с ума! — поднявшись под потолок коридора, где было гораздо легче передвигаться, сипел Перкун. — Это же Раиса Гордеевна нам читала, забыл, что ли? И это был ответ на мой вопрос, а не на твой. После того как ты спросил, где найти Валентину, я произнёс: «А что с нами будет?», вот Пушкин и ответил… Всё сходится — ночь и крик товарищей… Ещё как ведь вчера кричали, раненые‑то!.. Да и сегодня днём, видать, то же будет… Жалко, не прочитала Раиса Гордеевна следующую строфу… Как бы нам тоже не закричать!..
— Не каркай! — одёрнул его Шишок. — Ты же не ворон — петух!
Перкун старался двигаться на малой скорости, не опережать спутников, а лететь над их головами. Ужас, толчея и неразбериха были такие, что на золотого петуха под потолком мало кто обращал внимание.
— Интере–есно, — бормотал Шишок. — Выходит, не такая уж никудышная ворожейка Раиса Гордеевна… Может, и на вопрос про мел дала дельный ответ? Как она сказала‑то, кто помнит? Зимой или никогда, так?
— Про Бураново ещё… — напомнил Ваня.
— Да, Бураново…
Но тут бабахнуло так — что впору уши зажимать. Стены Белого дома сотряслись. Ваня даже присел, а Перкун свалился с высоты, он был на грани обморока, но сейчас же поднялся, чтоб не стоптали, и побежал вместе со всеми по полу.
— Вот сюда‑то бы невидимый мел! — воскликнул Шишок. — Оградились бы сейчас от этих стрелков… Хрен бы они нас достали! Эх, ядрёна вошь!
Вспомнив, что говорила Анфиса Гордеевна про свойства мела, Ваня от всего сердца пожалел, что не добыли они невидимый мел к этому моменту. Мальчик даже чуть не заплакал от досады, но скрепился, а то подумают, что стрельбы испугался…
Шишок в промежутке между выстрелами заглянул в одну из комнат без дверей — и увидел, что она вся разбомблена, в дыму и чаду, в крошеве стеклянных осколков, но фасадная стена, на удивление, целёхонька.
— Это как же так получается?! — воскликнул Шишок, знавший толк в боевых действиях.
Кое–где вились огоньки пламени, которые Шишок стал затаптывать, а Ваня с Перкуном взялись ему помогать. К ним присоединились несколько депутатов, в одном из которых Ваня признал Петровича, — это он говорил о том, что только своей кровью депутаты могут смыть грех развала страны. Галстук Петровича — серебристо–серый, в красную поперечную полоску — сбился на сторону. Он стал объяснять, что танковые орудия стреляют снарядами с лазерной наводкой, потому и попадают точно в окна, а фасад здания остаётся целым и невредимым.
— Берегут Белый дом для новых — ручных — парламентариев, — усмехался Петрович.
Выскочили из дыма и последовали за этой группой депутатов, которые двигались наперекор основному потоку, не вниз по лестнице, а вверх. Пошли, а потом помчались по коридору. Бежали на выстрелы, которые раздавались из какого‑то кабинета. Распахнули дверь — и увидели несколько человек с автоматами. Укрываясь за стенами и время от времени высовываясь в окна, они пытались отстреливаться.
— Быстро туда! Сейчас бабахнет! — закричал один из вооружённых: и все — в том числе новоприбывшие — стремглав вылетели из кабинета. И вправду бабахнуло! Видать, выстрелы танковых орудий направлялись в окна, откуда постреливали.
Когда поднялись на ноги — оказалось, что Шишок остался без фуражки, вчерашнего подарка Казанка. Схватившись за голову, он смачно выругался! Сколько ни искали — фуражка пропала бесследно. Жалко, а что поделаешь!
Вооружённые побежали искать новую точку. Петрович с группой депутатов — за ними. А Шишок с Ваней вошли в соседнюю дверь и осторожно выглянули в окно… Перкун входить наотрез отказался — и остался в коридоре.
Военные, по–прежнему державшие Белый дом в кольце, находились теперь на приличном расстоянии, укрывшись кто за чем, и тоже стреляли по окнам. И вдруг один из них упал… Шишок, мигом разглядев это, указал на упавшего Ване.
— Это… они? — спросил мальчик, кивнув на стену, за которой сидели депутаты–стрелки.
Шишок покачал головой:
— Сумнительно что‑то… Слабо им! Да и далековато всё же… Внимательно оглядев окрестности, ткнул пальцем в крышу гостиницы «Украина»:
— Там снайпер засел! Оттуда стрелили!
И показал ещё несколько точек, где сидели снайперы. Когда ещё один человек внизу повалился навзничь — Шишок, подпрыгнув, заорал:
— Вон, вон оттуда стреляли! Видишь, хозяин? — и показал на крышу другого дома.
Но Ваня, сколько ни вглядывался, ничего и никого не заметил.
— А… что там за снайперы? Они за тех или за этих?
— Опять, думаю, провокация, — вздохнул Шишок.
Вдруг в дверь ворвались вооружённые депутаты, видать решившие перехитрить тех, кто заведовал танковой наводкой, дескать, подумают внизу, что подряд из двух окон отстреливаться не станут — глупо.
— Много вы так навоюете, — сказал, оборачиваясь к вбежавшим Шишок. — Стрельба ваша как об стенку горох… Только злите их…
— Не лезь под руку! Уйди, дед! — воскликнул в досаде один из стрелявших, но взгляд его упал на Шишкову медаль — и он поперхнулся, потом протянул автомат:
— Покажи, как надо, коль такой меткий стрелок!
Шишок отнекнулся:
— В своих не могу… Кто его знат, как рода–те перемешались за сотни лет… Может, и там Житные есть… А Житный в Житного не стреляет!
— Давайте‑ка, товарищи, идите отсюда, опасно тут… — вмешался в разговор Петрович. — В зал Совета Национальностей спускайтесь, там собрались все безоружные.
— А чего сам не идёшь? — спросил Шишок. — Ты‑то ведь тоже безоружный…
— Я — другое дело, — отвечал Петрович. — Я должен следить за обстановкой… Когда‑то ведь пойдут они на приступ… Постреляют, постреляют — да двинутся… А в доме полно женщин, пожилых людей… Надо быть в курсе…
— Ох–хо–хо да охти мне! — вздохнул Шишок, закрывая дверь стрелковой комнаты.
Когда троица была уже в конце коридора, раздался страшный грохот — очередной снаряд влетел… Неужто туда, где укрылись Петрович со своими? Ваня с Шишком, переглянувшись, бросились в ту сторону, заглянули в проём — когда дым немного рассеялся, увидели, что снаряд разворотил всю комнату, но людей здесь не было. А выстрелы уже слышались из кабинета через три двери от этой. Прыткие депутаты успели перебежать в другое помещение. Шишок засмеялся:
— Стрелять они, конечно, не умеют — зато петляют славно!
Побродив по сотрясавшемуся от выстрелов Белому дому, увидели дверь с табличкой «Зал Совета Национальностей». Вошли. Эта горница была с дверями, зато без окон. И, как в загадке, полна людей. Ване этот зал чем‑то напомнил зал ожидания Казанского вокзала. А Перкуну здесь понравилось, он сказал, что тут как в яйце.
Троица пробралась на свободные места. Кое‑кто в удивлении воззрился на чумазых, пропахших дымом дедка, мальчика в каске и петуха, но остальные остались совершенно равнодушны.
За кафедрой стоял один из депутатов. Правда, не речь произносил, а читал стихи. Шишок, как выяснилось, большой любитель поэзии, подперев щеку рукой, принялся внимательно слушать. За первым на трибуну полез второй депутат — тоже со стихами. Потом третий… Чтобы отвлечься, не думать про то, что творится вокруг, — понял Ваня. Ведь грохот выстрелов доносился и сюда. Стихи были то серьёзные, то пародийные. В одной поэмке говорилось, как Борис Ельцунов расстрелял парламент, своё родное детище. Сидевший рядом с ним мужчина объяснил, что это пародия на «Бориса Годунова», только сейчас сочинённая, стихи прямо с пылу с жару.
На трибуну вышла женщина с гитарой и принялась петь отчаянную песню:
Из‑за елей хлопочут двустволки — Там охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки, Превратившись в живую мишень. Идёт охота на волков, идёт охота! На серых хищников — матёрых и щенков. Кричат загонщики, и лают псы до рвоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков.Шишок, прикрыв глаза, натряхивал головой — песня ему чрезвычайно понравилась.
И какая‑то женщина, сидевшая в дальнем ряду, забилась в истерике — но к ней тотчас бросились и стали успокаивать, дескать, ничего, прорвёмся…
Больше никто не кричал и не плакал, все слушали песню. Когда трибуна освободилась, Шишок, поправив свою балалайку, сломя голову побежал к ней. Ваня только губу закусил — ну, сейчас Шишок выдаст какую‑нибудь страшно похабную частушку и оскандалится… Но услышал:
— Товарищи депутаты Верховного Совета! Мы с моим хозяином были вчера в рядах демонстрантов, — тут Шишок немного сбился. — Ну, которые на Осганкино‑то ходили… — но мигом поправился и опять повёл речь не хуже любого депутата: — И нам доподлинно известно, как на самом деле было дело! Я, как делегированный своим хозяином Ваней, докладываю…
И Шишок рассказал о том, что им довелось пережить вчера возле телестудии. Депутаты слушали Шишка очень внимательно. А потом на трибуну вышел один важный, поблагодарил за информацию и сказал, что уже известно число погибших демонстрантов — 200 человек, а раненых, видать, ещё больше. В народ стреляли солдаты Министерства внутренних дел, число их — 700, было там и спецподразделение «Витязь»…
— Витязи! — воскликнул тут Шишок и принялся ретиво чесать голову. — Витязи, ядрёна вошь! Посиди‑ка тут, хозяин… А мы с Перкуном сейчас вернёмся…
Ваня, пожав плечами, остался сидеть. А Шишок с петухом вылетели за дверь. Что там у них за секреты? Отсутствовали довольно долго, Ваня успел соскучиться. И тут Шишок, заглянув в зал, позвал его.
Перкун поджидал в сторонке, поджав одну ногу — а это, Ваня слыхал, предвещает жестокую стужу. И опять петух стал молчалив, Ваня что‑то спросил у него, но Перкун ничего не ответил, только надулся, как рыжий мяч, того гляди, лопнет. Да что такое с птицей?
Поднялись на самый верхний этаж и вошли в один из кабинетов, куда попал снаряд, Шишок понадеялся, что больше сюда стрелять не станут. Пожара тут не было, видать, поработала команда депутатов-пожарников, — только дым стлался по обгорелому полу. Петух вдруг взлетел на чёрный подоконник, Ваня хотел пойматься за него, — а то ещё свалится прямо танковым орудиям в пасть, — но тут Шишок произнёс:
— Ну, Перкун, с Богом! — и вдруг петух расправил могутные крылья и сквозь дым, которым курился Белый дом, полетел, блестя огненным оперением, на северо–восток. Вот он уже над Москвой–рекой и летит всё дальше и дальше над вечным городом… Вот превратился в золотую солнечную пылинку — и пропал.
Глава 25. Князь Дмитрий и другие
Сколько Ваня ни спрашивал, куда полетел петух, так и не добился от домовика путного ответа. Шишок только отшучивался:
— На Кукуй–реку!..
Солнце светило в этот день знатно. Перкун ведь говорил, что там, на солнце, течёт эта Кукуй–река… Ване эта река представлялась разноцветной, как хвост петуха, быстрое перистое течение радужно переливается и горит. И в алых, как гребни, челноках плывут по реке золотые петухи, и столько их!
Ваня хитро усмехнулся и кивнул на небо:
— Во–он как сияет нынче мировое яйцо!
— Да, не простое яичко снесла сегодня великая кура! — согласился Шишок. Только глядели они на золотое яйцо из чёрной–пречёрной комнаты, из обгорелой рамы окна, в которой не было ни оконных переборок, ни стёкол. Стеклянное крошево скрипело под ногами. Внизу, за Москвой–рекой, виднелось множество людей, облепивших парапет, глазели, как обстреливают Белый дом.
— Что это — цирк, что ли, им?! — рассердился Шишок, замахал рукой и заорал так, что Ваня даже присел:
— Домой, домой идите, неча здесь!..
Многие на той стороне реки ощутительно вздрогнули — как будто до них донёсся громовой голос, и некоторые в самом деле развернулись и пошли по домам.
Шишок сплюнул:
— Тьфу! Нет бы, навалиться всем скопом на этих стрелков — да смять их, не–ет, стоят, смотрят…
С предпоследнего этажа, из правого угла здания, раздавались редкие выстрелы. Танк повернул свой длинный металлический клюв в ту сторону — и из него вылетел очередной снаряд. Ваня с Шишком отпрянули от окна. Бабахнуло так, что гул пошёл по полу, а стены затряслись мелкой дрожью. А из танка рядом — ещё один выстрел, да потом третий… И всё в одну сторону… Прислушались — постреливать из дома перестали. Ваня с Шишком перевесились из окна — дым шел справа, сразу из трёх окон… Переглянулись и сломя голову бросились вниз по лестнице, потом по дымящемуся коридору. Из трёх комнат без дверей валил чёрный дым… Подождали, когда немного развиднелось. Заглянули в крайнюю… Ваня почему‑то посмотрел вверх — и увидел обломок люстры, качавшийся под потолком на длинном шнуре. И на этой люстре висит, раскачиваясь, серый галстук в поперечную красную полоску… Такой же был на депутате Петровиче… Только на этом галстуке красных полосок гораздо больше, и не только полосок, а и пятен. Или… это галстук Петровича и есть… Где же тогда сам Петрович? Ваня медленно перевёл взгляд книзу — но черно стало в глазах, ничего не увидел мальчик, потому что волосатая ладонь Шишка прикрыла ему глаза.
— Не смотри, хозяин! — услышал Ваня шёпот.
Накололо глаза щетиной — будто песку в них насыпали. Но не лопнули глаза. Ничего не увидел Ваня из страшной картины. Так, держа руку на Ваниных зрачках, Шишок вывел его из комнаты.
Поднялись зачем‑то туда же, откуда улетел Перкун, — долго не говорили меж собой. Наконец Ваня, показав на танки, спросил:
— Шишок, ты говорил, там тоже могут быть Житные?
— Могут, хозяин, ещё как могут… По большому счёту‑то — все мы Житные… А чего вздорим меж собой — не знаю… Только когда ворог идёт на нас — тут уж раздоры долой… Во всяком случае прежде так бывало…
И вдруг какой‑то неизвестный звук услышал Ваня: ты–гы–дык, ты–гы–дык, ты–гы–дык! На грохот снарядов не похоже, на пальбу — тоже… Что это? Пыль, туман или белый дым вьётся вдали, между домами, которые вроде как расступились?.. Подул свежий ветер с реки — марево рассеялось, и Ваня увидел… Нет, в это совсем никак нельзя поверить… Блазнится[80]!
На Горбатый мост, стуча копытами, въезжало войско. И танки, пятясь, отступали перед ним… О, что это было за войско! Впереди, на рослом белом скакуне ехал витязь в раззолоченном панцире, в сияющем, как солнце, шеломе, за поясом у него вострый меч, а в руках — высокое чёрное знамя, на котором золотом вышит Спас. А на луке седла, сложив крылья, сидит… огненная Жар–птица?.. Сирин–птица? Мать честная! Да это же Перкун! И позади витязя-знаменосца, ощетинившись копьями, на гнедых, вороных, соловых, караковых да буланых конях едут воины. Все как один в панцирях, и на шеломах у них — перья: розовые, шафранные, алые, впрозелень чёрные. А за ними толпой — ополчение, в посконных рубахах, поверх которых чернеют да алеют кушаки, а за эти‑то пояса заткнуты топоры. А следом за ополчением — солдаты совсем других времён, опять конные: драгуны да уланы, гусары да гренадеры.
Крутят ус — кто чёрный, кто пшеничный, а кто и вовсе рыжий. И всяк ведёт себя по–разному: кто солнышку улыбается, кто пальцами тычет в интересные картины, кто пересмеивается с товарищем, кто виду не кажет, что удивлён железными чудищами да несуразно одетым людом, столпившимся у реки. За конницей вновь идёт пехота, но форма у солдат уже более привычная: защитная гимнастёрка, сапоги да фуражка. А оружие — винтовка со штыком. Лес штыков и копий блестит на солнце. А за этими ребятами и вовсе близкие войска… В простенке бабушкиной избы, на фотографиях, дедушка Серафим Петрович с товарищами в такой же форме. Некоторые в касках идут, в фуражках с красными звёздами, и на погонах — тоже звёздочки. И живы ещё те, кто плечом к плечу воевал с ними, только эти‑то молодые, двадцатилетние, а их сверстники совсем состарились… Одеты воины по–разному, а суть у них одна: защитники родной земли идут, род за родом, из рода в род.
Ваня обернул к Шишку раскрасневшееся праздничное лицо с горящими глазами, дескать, видал, видал, Шишок, а? Домовик радостно закивал:
— Вижу, хозяин, ви–жу–у…
— Кто они? Кто это, Шишочек? Откуда? — заорал Ваня, обретя голос, и вновь вперил взгляд в войско.
— Свои это, хозяин, свои, наши! Миротворцы! Сейчас мы всё устроим. Не посмеют ведь в своих‑то стрелять… Предков по десятое колено Перкун привёл!.. Ох ведь молодец, золотой петушок! Не бывать новой гражданской войне, хозяин! Шишок твой не позволит… Сейчас, сейчас мы всё устроим…
И вот уже витязь на белом коне и с чёрным знаменем совсем перешёл мост — вот–вот передние копыта скакуна ступят на эту сторону… Но танки, съехавшие с моста, стали тут разворачиваться, развернулись — и пустили снаряды с лазерной наводкой в войско русских витязей. Из рода в род! По десятое колено расстреляли предков, только пар клочьями человеческих и конских тел пополз над Москвой рекой. В дым, в клочья тумана разорвало витязей. Последним растаяло чёрное знамя, улыбнувшись напоследок золотым Спасом. И — всё, опустел Горбатый мост. Нет, петух вылетел из белого конского тела и, изо всех сил махая крыльями, полетел вверх. К солнцу? На Кукуй–реку? Да разве он бросит их в этом Белом доме! — поднялся петух с воздушным течением и влетел в горелое окошко.
Обнял Ваня петушка за шею и завеньгал, нисколько не стыдясь слёз. И Шишок завеньгал, и сам Перкун, даром что птица, пошел слёзы лить. В три ручья ревели человек, домовик и петух. До того плакали, что в обгорелом полу светлые промоины слезами промыли — это паркет от гари обчистился. Вот ведь как!
Потом Ваня, утирая рукавом пальтишка слёзы, от чего чёрные разводы появились на лице, спросил:
— А кто это был, на белом‑то коне?
Шишок осуждающе покачал головой:
— Кто‑кто! Своих надо знать в лицо! Князь Дмитрий Донской то был…
Ваня хотел опять заплакать — очень уж жалко было князя, которого не помиловали заточённые в броню потомки, да скрепился, стал спрашивать, как же Перкун привёл такое дивное войско и откуда оно…
Петух почистил клюв о паркет, — от чего клюв совсем почернел, — и начал свой рассказ:
— Когда Шишок вытащил меня из яйца… из этого Зала Совета Национальностей, дескать, на три слова, и рассказал, куда и зачем предстоит мне лететь, я вначале воспротивился. Потом, конечно, согласился…
— Конечно, — сказал Шишок.
— Очень уж трудное было дело, — продолжал Перкун, покосившись на Шишка, — но, без ложной скромности скажу, справился я с ним с честью! Как говорится: сам пропадай, а товарищей выручай! Чтоб не кричали они, как вчера‑то… Лететь предстояло не так чтоб очень далеко — на Воробьёвы горы. Дескать, найдёшь там, Перо, сухое дерево, усеянное воробьями… Дерево нашёл сразу, далеко его было слышно, гомонило на всю округу. Дальше надо было сказать следующие слова: «Еду на гору высокую–далёкую, по облакам, по водам, а на той горе высокой стоит старая старушка. Вынь ты, старая, отеческий меч–кладенец; достань ты, старая, панцирь дедовский, отомкни ты, старая, шлем богатырский; отопри ты, старая, коня ворона… Закрой ты, старая, Русь своим платом от силы вражией». Слова я под дверью Зала Совета Национальностей с ходу выучил, память у меня превосходная, и всё сказал, как надо. И вдруг расступились корни сухого дерева, а под корнями появилась узкая расщелина, только птице пролезть или ребёнку…
Ваня вздохнул, что не ему было поручено идти на Воробьёвы горы…
— Протиснулся в неё… — говорил меж тем Перкун. — Вначале было темно — так, что я думал тут и конец мне придёт, куриная слепота замучила, тыкался клювом в каждый земляной угол. А потом посветлее стало — и увидел я стойла с лошадьми по обе стороны… Что за конюшни, думаю, под землёй?! Занёс лапу — и чуть не наступил на человека… И увидел, что всюду возле лошадиных копыт растянулись воины, думал, мёртвые, хотел уж обратно лететь, — петухи мертвецов не любят, — но понял, нет, не мёртвым сном спят люди, а только дремлют. Некоторые вповалку лежат, и лошадей возле них нет. А под головой у каждого то меч, то ружье, то копьё, то автомат, а то и лук с пернатыми стрелами — последние, что ни говори, доводятся мне дальней роднёй.
Шёл я так, шёл по подземелью, а оно наклонно спускалось внутрь горы, и всё глубже и глубже уходило под сырую землю. Наконец дошёл я до распутья, а лежал там камень, заросший мхом. Мох я склевал, — кстати очень вкусный оказался, перекусил заодно, а то ведь мы так в этом Белом доме не завтракали–не обедали, — а подо мхом обнаружились слова, которые обычно на таких камнях пишут. «Налево пойти — коня потерять, прямо пойти — убитому быть, направо пойти — женатому быть». Жениться мне сейчас совсем некстати, убитому быть никому не хочется, коня у меня нет… Решил пойти налево… А за камнем — что направо пойдёшь, что налево, что прямо — всё то же самое: лежат павшие воины.
Взлетел я на камень и вдруг вижу: завалился за него меч, и там же рядышком рог лежит. Меч петуху совершенно ни к чему, тем более, по виду он совершенно неподъёмный, а вот рог мне как раз был нужен… Схватил я его и, не сходя с камня, затрубил что есть мочи — чуть сам не оглох, а воинам хоть бы хны, дрыхнут без задних ног, никто не проснулся… Хотя Шишок клятвенно заверял, что встанут все как один, — тут Перкун укоризненно глянул на Шишка, который скроил недоумённую мину и поднял плечи, дескать, ничего не понимаю! — Хорошо, что тут пришёл мой час — и я вскукарекнул. И что вы думаете? Пробудил воинов! Стали они помаленьку просыпаться… Не все, правда, только малая толика… Но кое‑кто проснулся! В том числе князь Дмитрий Иванович Донской, победитель Мамая! Не стал он ничего спрашивать, посадил меня на луку своего седла — и полетели мы… Так летели, что никакому орлу и не снилось… А за нами мчались все, кого пробудила петушья песня!
И вот так‑то оказались мы на этом зловещем мосту через Москву–реку, — закончил свой рассказ Перкун. — Дальнейшее вы знаете, — повесил он буйну голову чуть не до горелого паркета.
Повздыхали, но делать нечего — вышли из чёрной комнаты и пошли вниз. На лестничной клетке встретился им один из депутатов, споривших с Петровичем — это он говорил, что не будут демократы в Белый дом стрелять. Сейчас он кричал и махал руками, дескать, чего они тут бродят, там офицеры группы «Альфа[81]» эвакуируют депутатов, прятавшихся от взрывов в Зале Совета Национальностей. Больше тысячи ведь народу‑то, выводят всех через разные двери. Быстрее надо, останетесь туг — подстрелят как пить дать.
— А кто эту «Альфу» послал? — поинтересовался Ваня. Депутат на бегу крикнул:
— Сами пришли, отказались участвовать в войсковой операции. Всё пропало! Пока бомбить‑то не начали, уходить надо!
Поспешили вниз, к чёрному ходу. Наверное, большинство депутатов уже эвакуировались, потому что народ не толпился, двери стояли широко открытыми. Только возле раздевалки теснилось несколько депутатов, не решавшихся выйти наружу. Никого из солдат «Альфы» уже не было, а может, они стояли при других дверях, Белый дом‑то большой, дверей много…
Троица прямиком двинулась на волю, депутаты к ним присоединились… Вышли из дверей — и вдруг откуда ни возьмись появились милиционеры, охранявшие подступы к Белому дому. Менты закричали кто что:
— Коммуняки! Совки позорные! Красно–коричневые!
А один, замахнувшись прикладом, заорал на Шишка:
— У, фашистская морда!
На лице домовика выступило крайнее удивление: глаза выпучились, челюсть отвисла, а рот сам собой распахнулся. Видать, Шишку и в страшном сне не могло привидеться, что его назовут фашистом. Менты же размахивали прикладами и плевались. Прикладом попало и Ване, и Перкуну, и Шишку, а уж депутатам досталось по первое число и плевков и тумаков. Лицо домовика нисколько не изменилось и оставалось в одном состоянии: на нём затвердела удивлённая мина.
Напоследок вывернули карманы. У депутатов деньги были, а у троицы — кроме мелочи, ничего не оказалось.
Поскорее ушли от того проклятого места. Ваня оглянулся: дом был теперь снизу белый, а сверху чёрный, и дымился, ровно головёшка. Шли молча. Петух поспешал рядом. Ваня вёл за руку Шишка и совсем не чувствовал щекотки от щетинистой ладошки домовика. Рука была вялая и безвольная. Время от времени мальчик вглядывался в него — но выражение Шишкова лица оставалось прежним: закаменелое изумление никак с него не сходило. А вдруг это навсегда? Разговаривать Шишок не разговаривал, на вопросы не отвечал, лицо имел идиотское, и в своих полосатых пижамных штанах, торчащих из‑под Цмокова полушубка, и вправду казался сбежавшим из психушки, как бабушка Василиса Гордеевна обмолвилась перед их выходом в поход.
Шли куда глаза глядят. И ездили по Кольцевой, на станциях Курская, Киевская, Комсомольская и Белорусская путаясь под ногами у приезжающих и отъезжающих. На Проспекте Мира вышли из вагона и поднялись из‑под земли. Темнело. (Хотя на московских проспектах никогда не бывает настоящей темноты: всюду фонари, да к тому же из многочисленных окон падает свет.) И подмораживало. Ваня вспомнил, как петух стоял на одной ноге возле зала Совета Национальностей, предсказывая такой позицией холод. И откуда он знал, что мороз ударит? Вся их семья, получается, не простая: что бабушка Василиса Гордеевна, что Шишок, что петух, даже Мекеша — ох, не простой козёл! Один Ваня бестолковый… Наверное, в дедушку Серафима Петровича, про которого Раиса Гордеевна сказала, что он был маленько простоват…
Ваня почти не слушал петуха, а тот старался развлечь его, вспоминая, как ехал на коне с Дмитрием Донским, как запевалы на подступах к Белому дому грянули песню: «Соловей, соловей, пташечка! Канареечка жалобно поёт!». Жаль только, инструмента хорошего не было, хоть вон Шишковой балалайки… Поглядели на Шишка — но тот ни на песню, ни на слово «балалайка» не среагировал: так и шёл с раззявленным ртом, хоть туча мух туда залетай! Мальчик в сердцах даже попытался захлопнуть ему рот — наподдав снизу под подбородок. Без толку… Надавил на голову ладонями — одной сверху, другой снизу — пытаясь свести челюсти вместе… Опять не вышло!.. И вдруг Ваня понял, что нужно делать… Он хлопнул себя по лбу и закричал:
— Шишок, хозяин тебя зовёт!
И вот чудо‑то! — лицо Шишка отмерло: рот захлопнулся, выкаченные зенки вернулись на место. Удивлённая мина сошла с него — и Шишок заорал:
— Я — фашистская морда?! Ах ты, гад, паскуда! — и стал озираться по сторонам в поисках обидчика, которого нигде не было. — Где он? Где этот стервец, хозяин? А, Перкун? Где этот мент поганый? Фашистская морда!!! Это я‑то фашист?.. Да я ему… Да я его…
Шишок потрясал кулаками, топал ногами и превзошёл сам себя в искусстве громоздить этажи матюков. Стоило больших усилий угомонить домовика, и ещё больших — удержать от того, чтоб он не бросился обратно к Белому дому, где собирался как следует накостылять обидчику.
Замолчал Шишок только тогда, когда его взгляд напоролся на очередную афишу, мимо которой они в этот момент проходили. Возле афиши горел фонарь — и слова были хорошо видны. Шишок замер на полумате. Ваня с надеждой сунул нос в афишу — но опять не нашёл среди исполнителей ни одной Валентины. Шишок тут ткнул пальцем в объявление, где крупными буквами было написано: «Конкурс Краса России», и чуть мельче: «Заключительный тур состоится 4 октября в ДК фабрики «Красная заря». Начало в 19.00». Ваня пожал плечами:
— Ну и что?
— Как что! Как что! Ты не понимаешь, хозяин! Кому, как не твоей матери, быть «Красой России»? Уж второй такой на свете не сыщешь, это точно…
Ванино сердце забилось учащённо, остановилось, опять забилось… Петух закукарекал и сообщил голосом диктора:
— Московское время 18 часов 30 минут.
Переглянулись, прочитали адрес дома культуры и сломя голову кинулись туда.
Глава 26. ДК «Красная заря»
Возле выхода из метро купили на чудом уцелевшие после чистки карманов деньги пирожки с капустой и поужинали, а заодно и позавтракали–пообедали. Пирожки были, конечно, не такие, как дома, у бабушки Василисы Гордеевны, но пустое брюхо и таким было радо–радёхонько.
Шли вдоль какой‑то очереди, которая растянулась, несмотря на стужу, на два квартала. Это была женская очередь, редко какой мужчина попадался в этой толчее, и притом очередь молодая, пожилых в ней никого не было.
— Чё дают, девоньки? За чем стоим? — поинтересовался Шишок. — Уж не кавалеров ли раздают? А может, и я сгожусь?
Девоньки — одни отворачивались, прятали надменные личики в воротники, а другие отвечали, дескать, на конкурс красоты запись идёт, вот и стоим.
— Это что же — всё красавицы? — спросил Перкун.
— Не сказал бы, — пожал плечами Шишок, — что‑то больно тощи. Ровно блокадницы ленинградские.
— Зато раскрашены, как писанки[82] к пасхальному дню, — не то одобрил, не то осудил петух и вдруг закудахтал: — Да тут половина в пух и прах разодета!
Ваня пригляделся: и вправду, многие были в китайских пуховиках, из которых ветер выбивал пух, ровно снег из тучи. Чтоб утешить Перкуна, он сообщил:
— Перо, да это же не наш пух, китайский…
Но Перкун надулся и предложил перейти на другую сторону улицы, дескать, что ж, китайские куры — не куры, что ли… Ваня старался думать о чём угодно, только не о том, что ждёт их впереди… Не верилось ему, что мамка его окажется здесь. Ведь сколько раз они ошибались… Мчатся за ней по следу, а след уж давно простыл…
А Шишок твёрдо надеялся застать Валентину Житную на этом соревновании красавиц, он говорил:
— Вот чует моё сердце, что она здесь, и левая нога о том же гуторит. Сейчас добудем мел — и домой! Окрутимся — и поминай нас как звали! Пускай они тут чё хотят, то и воротят! Нет, таковская жизнь не по мне, хозяин. Хочу домой, в подполье! Когда с немцем воевали, одно дело, там всё было ясно, а это что? Ох, не глядели бы глаза! Сам чёрт тут ногу сломит, не то что бедный домовик. Домой, домой хочу, ажно завыть хочется, как Ярчуку лешаковскому. Больше ни в жизнь носа наружу не высуну… Уж вы как хотите с Василисой Гордеевной… Тяжко мне, ох тяжко!
Подошли к зданию дома культуры, здесь поток девушек разливался озером и, вновь превратившись в ручеёк, втекал в узенькую дверь. Шишок попытался прорваться в дом, но был в тычки вытолкан красавицами, кто‑то так ему заехал острым локотком в брюхо, что он заойкал и пополам переломился. Дескать, это не локоть, а вострая пика — таким‑то оружием только с неприятелем воевать. Зато девушки объяснили, что здесь находится чёрный ход, запись тут идёт на следующий конкурс, а нынешний уж начался, главный вход на той стороне, обойти надо дом‑то.
У парадного входа обнаружилась широкая лестница, колонны и афиша, на которой была намалёвана красавица в купальнике. Шишок смачно сплюнул. Денег на билеты у них не было, времени, чтоб заработать в переходе, — тоже, даже шишек на ветке не осталось, все использовали. А на контроле стояла серьёзная тётенька, Шишок даже головой покачал и шепнул Ване:
— Настоящая богатырка, в другое‑то время не упустил бы случая присоседиться к такой. А нынче недосуг…
Богатырка перед самым их носом собиралась захлопнуть двери, потому что конкурс уже шёл полным ходом, даже сюда было слыхать. Но Шишок с выражением такого неподдельного, такого искреннего восторга смотрел на контролёршу, что та не устояла и ворчливо спросила:
— А вы чего ж не проходите? Шалавы уж там, по подиму ходют, костями гремят, мослы кажут.
— Да не больно‑то интересно на такое смотреть, — отвечал Шишок, не сводя восторженного взгляда с богатырки, и вдруг неожиданно для всех, в том числе для себя, сказал правду: — Да вот мать ищем этого парнишки, — кивнул на Ваню, — думаем, где‑то там она, среди шалав этих…
Богатырка воскликнула:
— Как так — ищете?! Почему?
Шишок, раз начав, решил, видать, продолжать:
— Бросила она его в младенчестве. Вот на след напали. Приехали в столицу из дальнего далёка. Чего–чего только в этой Москве проклятой не натерпелись. Менты у нас деньги вытащили…
Богатырка только глаза выпучила при последних словах.
— Идите! — Без лишних слов контролёрша распахнула двери в светлый зал. Видать, решила, что так‑то по–дурацки врать никто не станет.
Шишок даже прослезился, Перкун галантно клюнул богатырку в руку, а Ваня и не знал, то ли радоваться, то ли нет. По–прежнему не верилось ему, что мамка может быть здесь… Но все скорёхонько вбежали в тепло. Тут слёзы у Шишка мгновенно высохли, он деловито потащил всех за собой, как вроде уж бывал тут. Да не в зал, откуда слышалась музыка, а в обход, к каким‑то потайным дверям.
— Ты почему тут всё знаешь? — спросил Ваня.
— Дом же это, — отвечал, пожимая плечами, домовик. — Хоть и не жилой, хоть и неуклюжий, а всё дом. Да ещё и старый, я в таких всё как есть чую.
Открывают дверь: в глаза бросилась девушка, сидящая у поясного зеркала, глаза подмалёвывает, а к запястью круглая картонка привязана с номером 1. И в комнате полно ещё девушек, мелькают голые спины, длинные ноги, у некоторых халаты наброшены на плечи, и все девушки под номерами. У Вани в глазах зарябило от красивых лиц — неужто и его мамка здесь… А Шишок с места в карьер спрашивает:
— Эй, голоногие, а где тут Валька Житная?
Одна из девушек оборачивается и с брюзгливой миной отвечает:
— На сцене она…
Друзья переглянулись. Шишок вперёд побежал, с балалайкой наперевес, Перкун, хлопая крыльями, — за ним, а Ваня приотстал — ноги не шли, как вроде во второй раз лешаки осудили его стать деревянным ваней… Когда мальчик на негнущихся ногах подошёл к кулисам, к выходу на сцену, где кроме них толпились какие‑то люди, он уже мало что понимал. Из‑за взрослых ничего было не видать, и он чуть на сцену не выскочил, но кто‑то поймал его за хвост пальтишки и втянул назад. Шишок тут подставил шею, и Ваня взлез домовику на плечи, а тот ещё и в первый ряд протолкнулся. И стало видно, что там, на освещённом пятачке…
На сцене стоял чёрный рояль, а за ним сидела она (она ли? ой, не верилось!). Длинные золотые волосы закрывали всю спину, из летающих волос время от времени высовывались голые локти — она играла на рояле. Это разве концерт? Ваня бросил взгляд вправо: зрительный зал был полон, и это был мужской зал, тёмный от костюмов, светлые пятна женских платьев мелькали лишь изредка.
Она играла что‑то щемящее, она очень хорошо играла, какую‑то лунную музыку… И вдруг перестала играть, захлопнула крышку рояля, Ваня смигнул: вскочила на вертящийся стул, на котором до тех пор сидела, а оттуда сиганула на рояль. Оказалось, что она в одном купальнике, только какая‑то лента надета на ней через плечо, а на ленте прицеплен кружок с цифрой «3». И тут же откуда‑то сверху раздалась совсем другая музыка, бьющая по ушам. И она принялась отплясывать, высоко подкидывая голые ноги на чёрных каблуках, — лаковые туфли были роднёй роялю, — а на лице её сияла ослепительная улыбка.
Перкун закукарекал. И мигом один из стоящих в мужской кучке выскочил на сцену, подал ей руку — она грациозным движением опустила одну ногу на стул, потом другую, завертелась и на ходу спрыгнула на пол. Улыбка не сходила с её лица, ровно она родилась с улыбкой. Шквал аплодисментов ударил снизу, из зрительного зала, она задёргалась, как от пощёчин, но продолжала улыбаться… И она шла сюда, вдруг обернулась к залу, послала игривый воздушный поцелуй — и оказалась рядом с Ваней. Промелькнула, мазнув его прядью волос по щеке — он ощутил немыслимый запах её духов, но улыбки на её лице уже не было, губы были плотно сжаты. Какой‑то мордатый парень попытался схватить её за руку — она дёрнула плечом; какой‑то пожилой крикнул, что у входа стоит «мерседес», но к чему он это крикнул…
Несколько человек пошли за ней, и они, трое, тоже — но дверь захлопнулась перед носом. Мужчины заматюкались, стали топтаться у порога… Со сцены послышалось: «Танец участницы № 4! Лам–бада!» — и мужчины развернулись и поспешили к сцене.
Шишок сплюнул:
— Под номерами девки, как в концлагере… Вот ведь… — и шваркнул балалайкой в дверь: — Валентина, чёртова кукла, а ну открывай, мы от Василисы Гордеевны!..
Ключ щёлкнул, дверь чуть приоткрылась, выглянул длинный синий глаз под соболиной бровью, другой был завешан волосами — Шишок живо вставил в щель ногу в кеде.
— Это… Шишок, что ли? — раздался её грудной, с лёгкой хрипотцой, голос.
— А то кто же!
Дверь распахнулась — она была уже одета… И как одета! В синем сарафане с серебряными пуговицами снизу доверху, в расшитой птицами рубахе с кружевными манжетами. Только распущенные волосы никак не подходили к костюму, и из‑под длинного подола ни к селу ни к городу выглядывали чёрные лаковые туфли на долгих каблуках. Она села к зеркалу, а из‑за расписной ширмы выскочила маленькая женщина с горячими щипцами и, вцепившись ей в волоса, стала их вытягивать прядь за прядью и накручивать. В комнатушке запахло палёным.
Шишок пощупал край сарафана и установил, из какой материи он сшит:
— Китайка.
Ваня ни жив ни мёртв стоял в дверях. Перкун переминался с лапы на лапу. Шишок развалился на драной тахте, пристроил балалайку меж колен и приглашающе постукал по месту рядом с собой. Ваня сел. Он никак не мог поглядеть на неё прямо — хотя её прекрасное лицо так живо отражалось в зеркале. Правда, она строила сама себе рожи — то скроит такую улыбку, то сякую, то нахмурит брови, то расправит. Вот нахмуренный взгляд её устремился на Шишка:
— Вы мне сейчас не мешайте, скоро мой выход. Конкурс костюмов… Может, мне всё‑таки греческий костюм надо было надеть, а, Соня, русский какой‑то очень уж невыразительный? Тьфу, глухня! — кивнула в зеркале на вертлявую женщину с щипцами. — Она, Шишок, ничегошеньки не слышит, глухонемая, так что при ней можно про что хошь говорить.
Только Шишок наладился что‑то сказать, но она не дала ему и рта раскрыть, замахала обеими руками:
— Только не сейчас, мне расстраиваться нельзя, а то морщины появятся. Мало того, что туфлю у меня перед танцевальным конкурсом сперли конкурентки проклятые. Прям как Золушка в одной осталась, только перед выходом новую пару принесли, дурацкие — ужас, — вытянула она длинную ногу в туфельке. — Так тут вы ещё… Вас мне только и не хватало!
Шишок подскочил вдруг к зеркалу и, подобно ей, из‑под руки глухни Сони тоже принялся строить рожи — то такую улыбку скроит, то сякую, то насупит брови, то в поднебесье их задерёт. Она засмеялась. Но домовик вдруг закрыл лицо ладонями — а когда отвёл руки: на Шишковом низеньком теле с лохматой башкой обнаружилось её дивное женское лицо.
— Ну как? Идёт мне? — спросил Шишок, улыбнувшись её ослепительной улыбкой, выставив длинные белые зубы.
Соня заверещала — и, уронив щипцы, врастопырку села на пол. А она — ничего… И тут в дверь заглянула девушка под номером 1 (она была в украинском костюме), увидела двух Валек Житных, причём одну низенькую, с мужским телом — и хлопнулась в обморок. Венок с разноцветными лентами скатился с головы. Валентина захохотала и захлопала в ладоши:
— Молодец, Шишок! Ты смотри, как ловко конкурентку устранил! Она ведь, гадина, туфлю у меня спёрла…
Ваня наклонился над девушкой, но та не приходила в себя, глухня Соня с мычанием поднялась на ноги и стала тыкать в Шишково новое лицо пальцем. Шишок же показывал на отражённое лицо Валентины, которая и не подумала отвернуться от зеркала:
— Матерниной мазью‑то пользуешься? Совсем ведь не изменилась…
— Я и сама могу мазь смастерить, подумаешь…
— Можешь ты… У Василисы Гордеевны подтибрила…
— Вот ещё — подтибрила, выбирай выражения, Шишок… И кончай, пошутил и хватит — вертай себе свою рожу… Или чья там она у тебя?..
— Чья, чья, небось, интересно — чья?!
— Ни капельки не интересно…
Тут конкурентка пришла в себя и, набрав полные лёгкие воздуха, собралась заверещать — но Шишок, успевший вернуть себе прежнее мужское лицо, зажал ей рот мохнатой ладонью. Девушка закашлялась, стала отплёвываться, неуклюже поднялась и схватилась за стенку, чтоб опять не упасть, а из коридора кричали:
— Солохина! Где Солохина? Её выход… Ищите
Солохину… А то отстраним от конкурса, второй номер пойдёт…
— Сейчас, сейчас, сейчас, — бормотала девушка, шатаясь, как пьяная.
Тут Перкун подставил ей крепкое петушиное плечо, завершавшееся могучим крылом, чтоб она опёрлась на него — девушка стала отмахиваться обеими руками и, попискивая, выбежала из комнаты. Валентина хохотала и кричала в зеркальный коридор:
— Солохина, венок забыла! — потом поманила Соню и постучала себе пальцем по голове, дескать, принимайся за дело. — Вот коза!
Соня закивала, задрала завитые волосы Валентины в высокую причёску, так что открылась лебединая шея, и, с опаской поглядывая в зеркало на Шишка с Перкуном, стала пристраивать на голове хозяйки небольшой, вышитый бисером кокошник. Красавица в кокошнике, бросив быстрый взгляд на балалайку, валявшуюся на тахте, спросила:
— Моя балалайка‑то?
— А то чья же!..
— Дай‑ка поглядеть…
Она протянула в сторону тахты руку в долгом рукаве — Шишку пришлось привстать, чтоб подать ей балалайку. Красавица погляделась на себя с балалайкой, тренькнула, бренькнула и вдруг пропела хорошо поставленным голосом:
Не ходите, девки, замуж За Ивана Кузина, У Ивана Кузина большая кукурузина! Э–э–эх!Потом сказала:
— Жалко, песенного конкурса у них нет! Ну ничего… Одолжишь, Шишок, балалайку на пять минут, моя ведь она?..
Шишок надулся, но, подумав, сказал:
— Если только на пять…
Тут в дверь заглянул конферансье с маленькими усиками и масляной рожей, обежал глазами компанию и сказал:
— Посторонним запрещено находиться в гримёрке… Так что, товарищи–господа–дети–животные…
— Мы не посторонние! — озлился Шишок. — Мы родня!
— Оставь их, — проронила Валентина.
— Как скажете, Валентина Серафимовна, — пожал плечами конферансье, — моё дело маленькое. Тогда, Валюша, готовься, сейчас твой выход.
— Давно готова! — пробормотала она, достала из замшевой сумочки, валявшейся на тумбе перед зеркалом, жемчужное ожерелье, надела себе на шею, повертела головой, любуясь собой. Потом в зеркале же подмигнула Ване, на которого до тех пор ни разу и не взглянула, и с балалайкой выскочила в коридор.
Сердце Вани так колотилось, что ему стыдно было товарищей. Неужели, неужели эта дерзкая красавица — его мама?! Ване вдруг вспомнился её детский новогодний костюм, найденный им на чердаке, костюм царевны–лебеди… А сейчас она станет настоящей царевной, красой России — он нисколько в этом не сомневался: от её лица исходит сияние, и не заметить этого нельзя. Другие девушки были просто красивы — она была красавица. Что будет потом — он не хотел загадывать, хотя сердцу мечталось: вот они приезжают все вместе домой, вот бабушка Василиса Гордеевна, увидев дочь царевну, вначале хмурится, потом лицо её расправляется, тает… Она целует дочку, потом его, потом они втроём обнимаются, а Шишок с Перкуном обнимают их сверху, так что получается семейная куча–мала… Потом бабушка обводит невидимым мелом свою усадьбу — и они все вместе живут–поживают, добра наживают, а все беды и печали остаются по ту сторону черты, их они не касаются…
— Пойдём посмотрим, — просяще проговорил он.
— А что ж, — пожал плечами Шишок, — можно…
За кулисами столпилось ещё больше народу, чем в прошлый раз, — и почти ничего не было видно: только промельки синего сарафана. Ваня присел на корточки — отсюда было лучше видать: она вдруг стащила с себя чёрные туфли, прошлась по доскам босиком, звонко ударила пяткой об пол, потом другой, отбила замысловатую дробь, и вдруг запела, подыгрывая себе на балалайке:
Из‑под дуба, да из‑под вяза, Да из‑под вязова коренья — Вот и калина! Да вот и малина!Шишок растолкал всех, — так что кое‑кто из мужчин повалился, — и она предстала тогда во всей красе.
Девка, стоя на плоту, Моет шёлкову фату. Она мыла, колотила, Фату в воду опустила…Ваня слушал, боясь отвлечься, про то, как и фата‑то её уплыла, и башмачки‑то она обронила, и белы шёлковы чулочки обмочила, которые подарил мил–сердечный, потом этот любчик появился с гуслями под полой и…
Сам во гусельки играет, Приговаривает: «Ах вы, девки, девки, к нам, Молодицы красны, к нам! А вы, старые старухи, Разойдитесь по лесам!»Опередив её, они вернулись в гримёрку. Глухня Соня пришла позже, оказывается, она тоже решила поглядеть на выступление. Валентина, раскрасневшаяся, вбежала в дверь, сунула Шишку балалайку и принялась обмахиваться платком. Она опять сидела возле зеркала. Соня сняла с неё кокошник, а волосы принялась расчёсывать, взбивать, посыпать какой-то серебряной пудрой. Лицо стала подмазывать да подкрашивать. Валентина, выпятив пухлую нижнюю губку, которую Соня подправляла карандашом, невнятно спрашивала:
— Мать, значит, вас послала? Сначала прокляла — так, что пришлось на самое дно опуститься, а теперь, когда мне удалось подняться, она своих шпионов шлёт… Чего ей надо? Денег? Будут ей деньги… Пусть только немного потерпит, вот стану королевой красоты и вышлю…
Шишок сплюнул:
— Василисе‑то Гордеевне деньги нужны?! Тю, дура! Дура, ты, Валька, дура…
— Сам дурак! А чего пожаловали? Неужто простить меня надумала? А и где ж она была, когда мне ночевать было негде? Когда я моталась по чужим людям, за любую работу бралась…
— У тебя ж мастерство было в руках, — кивнул Шишок на балалайку, — всегда можно заработать…
— В переходе, что ли, стоять?! — презрительно воскликнула Валентина, так что Шишок разом сник. — В Москве таких‑то, как я, — пруд пруди. Не пробиться… Пыталась, сколь раз: и в конкурсах участвовала, и пела, и играла — всё без толку. Башли, Шишок, нужны… И связи. А у меня ни того, ни другого… Ещё и проклятая — ничего не удавалось… Так зачем пожаловали, говорите! Никогда не поверю, что просто так — меня проведать.
— Ну, — Шишок замялся, — не просто так! Когда была ты в последний раз у тётеньки Анфисы Гордеевны, так взяла у ней мел невидимый. Матернин мелок–то! Нужон он нам, Валентина, давай‑ка вертай…
— Ну вот, слышите! — хлопнула она себя по бокам и повернулась к глухонемой. — Так я и знала! Всем что‑то от меня надо!.. Нету у меня мела‑то, Шишок, нет… Опоздали вы, раньше надо было приходить…
— А где ж он?! — Глаза Шишка покраснели, как уголья.
— Последним куском обвела угодья дядьки Водовика… А за то он отпустил меня со дна, спасибо ему, камень с шеи снял… Ни крошечки мела не осталось…
— Брешешь, курва! — подскочил к ней Шишок и собрался как следует встряхнуть, но Ваня опередил его и заслонил собой:
— Не тронь мамку!
Повисла тишина. Валентина медленно отвернулась от зеркала, встала, повернула Ваню к себе — и уставилась в его лицо долгим ищущим взглядом. Шишок остыл, жар из его глаз вышел. Соня затрясла воздушным платьем, висящим на плечиках, дескать, надевать пора. Перкун заговорил по–куриному, полувопросительно: ко–ко–ко–ко?.. Несколько бесконечных мгновений Ваня ощущал на своих плечах её теплые руки, близко–близко видел её глаза, которые пытливо всматривались в него. И вдруг она отпустила его — и всё кончилось. Она вернулась к своему зеркалу.
— Кто это? — спросила Валентина, кивая на Ваню.
Шишок захохотал и ответил:
— Кто‑кто?! Дед Пихто! Его лицо‑то у меня, его — в старости. Так что, Валентина, это мой нынешний хозяин, а твой сынок… Ваня.
— У меня… нет сына, — сказала она. — И дочери тоже нет. Разве ты не знаешь, Шишок, за что меня прокляла матушка‑то… И вообще, мне только восемнадцать лет! Разве у девушки восемнадцати лет может быть такой сын… Сколько лет‑то тебе, Ваня?
— Девять, — отвечал он.
— Девять… Нет, Шишок, не может у юной девушки быть сын девяти лет…
— Да ладно врать‑то! А то я не знаю, сколь тебе лет: тридцать восемь, и ещё четыре месяца сверху. Что ж, не помню я, что ль, когда ты родилась?! Десять лет после войны ждали в семье ребёночка, и дождались… Когда Василиса Гордеевна заснёт ночью возле зыбки‑то, так я тебя караулил. И днём иной раз нянькался, когда хозяева из дома выйдут, мохнатой лапой щекотал, хохочешь, бывало, ажно заливаешься…
— Ладно, ладно, Шишок… Это всё прошло, не вороши. Я… много раз начинала жизнь заново, кажется, в этот раз наконец‑то удачно. Всё, что было в прошлом, я забыла. Всё, всё, Шишок, забыла. У меня нет прошлого. Мне восемнадцать, могу паспорт показать. Жалею только, что имя, отчество и фамилию не сменила заодно с возрастом… А то бы шиш вы меня нашли! Но знаешь ведь, как я тятеньку любила… Валентина Серафимовна Житная — его отчество‑то да фамилия у меня. Это мать съела батю, ушёл в могилу раньше времени. Поедом[83] ела. А как отец умер, за меня принялась…
— Ой, Валентина, не то ты говоришь… Жена да муж — змея да уж… Разве ж я не знаю, как оно было…
— Да что ты знаешь! Редко когда высунешь нос из своего подполья. Ты не знаешь, какая она… Слова поперёк не скажи… То не делай, туда не ходи… И на всё её воля. Ну что я ей сделала?! Ну за что она меня прокляла?! — Валентина залилась слезами, спрятав лицо в ладонях, а когда отвела руки, в зеркале отразилось лицо в разводах краски, так что глухня Соня, схватившись за голову, принялась стирать подтёки, одновременно грозя Шишку пальцем.
— Все, все так поступают, ни одна женщина без этого не обошлась!.. — кричала Валентина. — Ну что мне, кучу детей надо было плодить не поймёшь от кого?.. И сидеть, как она, на печке, на 3–й Земледельческой улице?.. Может, за Кольку Лабоду, одноклассничка, замуж идти? За алкаша? Ну за кого мне там было замуж выходить?
— Конечно, надо было пытаться женатого от живой жены увести… А после остаться на бобах — без мужа да с пузом… Да бегом к тётеньке, где по деревням можно подходящую бабушку найти, чтоб чикнула ребёночка‑то…
— Всё, Шишок, ничего не хочу слышать! Я всё забыла! Хотя тётенька‑то, в отличие от матушки, всегда ко мне добра была! Знала, что мне нужно! Предрекала большое будущее! Вот кто прав‑то оказался… А не мать–вещунья! Только и знала, что каркала! Всё, всё — ничего не помню, прошлого нет! Мне — всего восемнадцать. Слишком дорогую цену, Шишок, я заплатила, чтоб отказаться от своей судьбы. Возврата нет. Да и проклята я — нет мне пути в родной дом. Мне сейчас корону дадут, стану я «Красой России» — потом, глядишь, «Мисс мира», и настанет для меня совсем другая жизнь…
— Да ведь не сразу прокляла тебя Василиса Гордеевна‑то, не в восемнадцать же лет!.. Сколько ты после‑то наворотила! Не одного ведь ребёночка‑то чикнула…
— Замолчи! — заорала она, зеркальное лицо её исказилось и стало ужасным.
Ваня сжался на тахте. Гребень Перкуна наливался алой кровью. И тут из‑за ширмы, перегородившей комнату, выбежала девушка под номером 1 — Солохина, метнулась в дверь и из коридора уже закричала:
— Я всё слышала! Ну, старая кошёлка, погоди!
Валентина застыла в зеркале с искажённым лицом, Шишок чесал в голове, петух кудахтал, а глухня Соня опять трясла платьем царевны, дескать, наряжаться пора. Валентина обернулась к Шишку и закричала, брызгая слюной:
— Это всё ты! Это всё из‑за тебя! Это всё вы виноваты!
А в дверь уже вваливалась толпа пронумерованных девушек с криками:
— Гримёрка ей отдельная…
— Визажистка персональная…
— Спонсор — Ворон Воронович…
— А сама‑то… Старая карга!
Валентина поднялась с кресла и так поглядела на девиц, что их как ветром сдуло, повизгивали где‑то далеко в коридоре.
— Вот и видать теперь, чья ты дочь… — сказал Шишок. — Василиса‑то Гордеевна тоже бы не спустила кобылам… — и потихоньку спросил у Вани, кто такой спонсор. Ваня объяснил, как понимал.
— Ворон Воронович? — спрашивал тем временем петух. — Спонсор — птица?
— Да, очень важная птица. Нефтяной магнат, — устало сказала Валентина. Она сидела с опущенной головой и в зеркало больше не глядела.
— Вот, учись, Перкун, — произнёс насмешливо Шишок, — простой ворон, а вишь, как высоко взлетел… Подземные недра к лапам прибрал…
— Я бы сказал, глубоко заполз, — уточнил петух. — Не птица, а какой‑то крот…
— Это же надо! — продолжал Шишок. — Чёрную кровь из земли сосёт — и красавиц спонсирует…
— Виктор Викторович его зовут, — поднялась со своего места Валентина. — А фамилия — Воронений. Это мы его Вороном Вороновичем окрестили. А вот, кажется, и он… Что ж, видать, это конец…
Действительно, дверь с треском распахнулась — и прибыл Ворон Воронович собственной персоной. Он оказался маленьким, упитанным и чернявым, как и положено ворону, но с залысинами. Между чёрными глазками торчит внушительный вороний клюв.
За Вороном возвышались двое из ларца, одинаковых с лица, явно не знавших, куда девать пустые руки. Просовывались в дверь вновь осмелевшие нумерантки. Как пробка, выскочил откуда‑то конферансье. И — лезла вперед Солохина: «Пропустите, да пропустите же!» Протиснулась — и, победоносная, стала рядом с магнатом. Ворон Воронович оказался Солохиной до подмышек.
— Так, Житная, значит, паспорт подделала? — спросил Ворон, глядя без всякого выражения близко посаженными глазками. — Возраст изменила… Условия конкурса ты знаешь!.. Сколько лет должно быть участнице, крайний возраст?
Валентина не отвечала.
— Не слышу! — подставил он ладонь с растопыренными пальцами к уху.
Валентина не отвечала.
— Двадцать пять! — ответил тогда Ворон. — А тебе, выходит… тридцать восемь!.. Знаешь, что тебе за это будет?..
Валентина не отвечала.
— Сколько я в тебя вложил, Житная! Расплачиваться придётся! Ох, как тебе придётся расплачиваться, Житная! Какого хрена с балалайкой вышла на конкурс костюмов? Всё самодеятельностью занимаешься… Кто тебя просил частушки петь? Ты в хор имени Пятницкого поступаешь или королевой красоты хочешь стать? Какого хрена туфли скинула? Всё по–своему! Говорил, волосы покрасить, блондинки «Мисс мира» не становятся, другая сейчас тенденция, нет, останусь со своими волосами — опять по–своему! Всё куражилась, дурака из меня делала! А сама…
Солохина, скрестив руки на груди, усмехнулась:
— А сама — старуха!
Валентина подняла опущенные глаза, подошла к Ворону и, сверху вниз глядя, спросила:
— Витя, мне можно дать сороковник?
Солохина закричала:
— Пластическую операцию сделала!
А девушки, толпившиеся в дверях, её поддержали:
— Осмотреть её надо…
— Шрамы‑то не скроешь…
— На висках…
— Нет, за ушами, за ушами…
Валентина демонстративно задрала золотые волосы и стала поворачиваться то одним ухом, то другим:
— Нате, глядите!
Поглядели, некоторые даже стали щупать — в том числе любопытный конферансье, — но никаких шрамов не оказалось. Кожа везде гладкая, шёлковая.
Тут Шишок поднялся с тахты и, встав между Валентиной и магнатом, спросил:
— Эй, Ворон, а как же ты всё‑таки подземную Россию прикарманил? Какая сволочь тебе поспособствовала?
Двое из ларца за спиной магната напряглись. Но Ворон Воронович смотрел поверх Шишка, продолжая говорить с Валентиной:
— Солохина утверждает, что своими ушами слышала твои признания о подделке паспорта…
Шишок скроил обиженную мину, повернулся к Ване с Перкуном и спросил:
— Может, я уже невидимый? Хозяин, ты меня видишь?
Ваня нетерпеливо кивнул.
— Дура она, ничего не поняла, — сказала Валентина Ворону, и тихо домовику: — Сядь, Шишок, я сама…
Шишок сел.
— Я, я — дура?! — кричала Солохина.
Валентина продолжала вещать Ворону:
— Я говорила о потере паспорта, дескать, новый пришлось справлять, и жалела, что имя прежнее оставила, знаешь ведь, не нравится мне оно…
— Всё я слышала! Всё я поняла! — кричала Солохина. — Вы поглядите в её глаза — это же глаза хорошо пожившей бабы, а не девчонки!
Поглядели: глаза у Валентины и впрямь были не наивные — умные глаза и проницательные, и очень грустные. Ворон Воронович поглядел в глаза Солохиной и сказал:
— Ну, это не показатель, не у всякой девки должны быть пустые глаза.
— Ладно! — крикнула Солохина. — Вот этот пацан, — ткнула в Ваню, — её родный сын… Что вы на это скажете?! Может у девки в восемнадцать лет быть такой сынок, а?
Валентина хлопнула ладонью по призеркальной тумбе, так что парфюмерные коробочки да тюбики вверх на полметра подскочили. А Солохина отшатнулась — и попала затылком по зубам одному из парней из ларца, который тихо выматерился. Валентина же со вздохом сказала:
— Нет у меня никакого сына! Я, может, и хотела бы, чтоб был у меня сын — но… нет его у меня. Нету!
Ванино сердце упало — и покатилось, и покатилось, как клубок, ведущий в тридевятое царство… Внутри стало пусто. А она продолжала говорить:
— Мне — восемнадцать лет, сколько можно повторять… Житья нет от этой Солохиной… Не хотела говорить тебе, Витя, да, видно, придётся: туфлю у меня стащила перед танцевальным конкурсом. Соню посылала в ближайший обувной, едва успела принести… Не мытьём, так катаньем старается извести, не удалось в тот раз — она в этот вон что удумала… Знаешь ведь, завидуют мне все…
Ворон Воронович поглядел на Солохину, которая, показалось Ване, стала в два раза меньше ростом. Она заканючила: «Виктор Викторович, да это не я — туфлю‑то… Да я и не думала… А сейчас зато… Она же хитрая… Что туфли‑то… При чём тут туфли…» По её виду магнат всё понял и вдруг — обратил свой взгляд на Ваню. Мороз прошёл у мальчика по коже.
— Как тебя зовут? — большим пальцем Ворон Воронович приподнял Ванин подбородок. Мальчик ответил.
— Это… — ткнул Ворон другой рукой в застывшую Валентину, — это твоя… мама?
Петух прокукарекал.
Ваня замер, он поглядел на неё, на её задрожавший вдруг подбородок, перевёл взгляд на погрустневшего Шишка, сглотнул клубок, который оказался теперь в горле, и мелко–мелко потряс головой:
— Нет. Это… не моя мама.
— Надеюсь, ты говоришь правду? — спросил магнат. — Ты знаешь, что обманывать нехорошо…
Ваня кивнул и сказал:
— Это, правда, не моя мама. Я… первый раз её вижу…
Перкун вновь кукарекнул.
— Хорошо. Я тебе верю, мальчик. Но если ты меня обманул… Видишь ли, я очень не люблю, когда меня обманывают… И всегда узнаю правду. Всегда. — Ворон Воронович прошёлся по комнате, пнул ногой ширму, расписанную райскими птицами, так что та упала, резко повернулся к Ване и крикнул: — Это твоя мама?!
Петух вновь прокукарекал.
— Нет, это не моя мама, — в третий раз отрёкся от неё Ваня.
Тогда Ворон Воронович подошёл к Валентине, чмокнул её в плечо — докуда дотянулся — и, качая головой, сказал:
— Ох, Валюха, гляди, надоедят мне твои фокусы… Ладно, прости! С меня брюлики… Платье‑то быстрей меняй… Сейчас позовут и объявят… Я пошёл в жюри…
На Шишка с Перкуном магнат так ни разу и не взглянул — Ваня даже засомневался, может, правда, они стали невидимы, а может, он такой умный, что понял: таких лучше просто не замечать…
Солохина кинулась за Вороном Вороновичем. И все остальные тоже. Валентина ушла с Соней за ширму одеваться. Ваня, Шишок и Перкун рядком сидели на тахте, не глядя друг на друга. Пора было уходить. Вот Валентина вышла во вьюжном наряде (платье она сменила, а жемчужное ожерелье, подарок Водовика, оставила), настоящая царевна, только короны не хватает. Села перед зеркалом, и Соня стала торопливо поправлять ей волосы, подмазывать лицо. Поглядев из зеркала на Шишка, Валентина сказала:
— Если вам без того мела жизни нет, могу сказать: должен быть такой мел в Буранове… Только идите туда в самом крайнем случае… Опасно там.
Шишок, ни слова не говоря, поднялся уходить, в дверях уже не выдержал и обернулся:
— Что ж, Валентина Житная, плоди воронят… Ежели получится.
Она брюзгливо дёрнула плечом.
Перкун, повесив гребень, шёл за Шишком и тоже обернулся посмотреть на Красу. Ваня торопливо затеснился следом — и вдруг, когда друзья уже вышли — она остановила его, развернула лицом к себе, поцеловала, перекрестила и шепнула:
— Спасибо тебе, Иванушка…
Сердце его сладко заныло, и он, забыв открыть глаза, побежал догонять своих.
Когда шли по фойе, из распахнутых дверей зрительного зала доносилось: «Третье место присуждается участнице под номером четыре…». Музыка, крики, аплодисменты, потом: «Второе место присуждается участнице под номером два». Опять — то же самое…
Стали в дверях: далеко–далеко, за бесконечными рядами кресел, за морем голов, на ярко освещённой сцене стояли разряженные красавицы, похожие на крохотных заводных куколок. Две уже выбежали вперёд. Заиграла бравурная музыка, — конферансье сделал паузу, которую заполнило учащённое биенье девичьих сердец, — и объявил:
— А Красой России становится Валентина Житная — номер три!
Она выплыла из строя красавиц — царевна лебедь. Ворон Воронович подскочил к ней, она нагнула голову — он нацепил на неё сверкающую серебряную корону и сунул букет багровых цветов. Она опять ослепительно улыбалась, а корона на золотых волосах сидела набекрень. Она поправляла её — а корона всё равно съезжала набок, и от этого у неё было какое‑то залихватское выражение лица.
И вот створки дверей в зрительный зал ДК «Красная заря» сами собой захлопнулись, скрывая от них дальнейшее. А может, двери закрыла могучая рука богатырки–контролёрши…
Глава 27. Бурановские загадки
Что было ночью, Ваня помнил смутно: кажется, они приехали на Казанский вокзал и ввалились к Казанку, который пристроил их на ближайший поезд, к знакомому проводнику. Кажется, ехали в купе проводника, заставленном клетчатыми сумками, набитыми «марсами» и «сникерсами». Кажется, проводник накормил их и напоил чаем, а Ваня почти не ел и сунул хлебушек с сахарком в карман. Кажется, спали они с Шишком валетом на третьей полке, а Перкун устроился на откидном столике. Кажется, проводник на них ворчал, потому что Перкун под утро стал неистово кукарекать — и перебудил весь вагон.
Окончательно Ваня пришёл в себя от криков проводника: «Эй, зайцы, вставайте! Сейчас ваша станция, поезд стоит одну минуту… Бегом, бегом давайте!»
Ваня с Шишком вскочили, как встрёпанные. В купе — так ослепительно светло, что глазам больно… Перкун сидит на никелированной ручке коляски, к которой приторочена одна из клетчатых громадин, и бьёт крылами, собираясь закукарекать. За окном — белым–бело… Идёт первый снег. Мигом оделись, схватили кто котомку, кто балалайку, — поезд уже тормозил, — и, не застегнувшись, бегом в тамбур. Вагон с натугой стал, проводник открыл дверь, за которой живой снег, откинул чёрную рифлёную лестницу, и они кувыркнулись вниз, прямиком в сугроб. Состав тронулся — и Перкун уже на ходу вылетел из вагона, алея бородкой и гребешком, ровно флагами. Замахали проводнику, повисшему на поручнях, Шишок заорал: «Спасибо, друг! Казанку привет!», Ваня: «Спасибо!», Перкун махал крыльями, а проводник крикнул в ответ: «Счастливо оставаться!»
Снег шёл хлопьями, скрывая всё, что находится дальше, чем в паре метров от взгляда. Далекий токоток поезда смолк — и нависла тишина. Совсем непохоже было, что они в городе, где ждёт их бабушка Василиса Гордеевна.
— Где это мы? — спросил Ваня, вглядываясь в белое марево.
Шишок надел на себя балалайку, отряхнулся от снега и сказал:
— Пойдём в Бураново…
— Куда?!
— Куда–куда — в Бураново. Что матерь твоя сказала, помнишь? Дескать, там должон быть мел…
И Шишок уже лез через рельсы, а Ваня с Перкуном за ним.
— Но там же нет ничего, снесли Бураново‑то, сам знаешь…
— Значит, что‑то есть, коль есть опасность… Опасно там, Валентина сказала.
От рельсов шла дорога, занесённая снегом. А по краям её угадывался заснеженный лес.
— Да зачем нам в это Бураново? Может, лучше домой? — сипел Перкун, хлопая крыльями, пытаясь разогнать снежный пух.
— Сколь времени провожжались — и придём без мела?! Стыдоба! Нет, Шишок с пустыми руками не вертается. И что ж — нехай сносят, что ли, избу? В этажи жить пойдём?.. Гибель там для нас, Перо… Надо идти в Бураново. Хоть весь снег перероем — а найдём мел! Ежели он там…
Скоро снежные пряди поредели — и немного развиднелось. Громадные ели стояли с уныло опущенными ветвями, снежище придавил их, некоторые ветви склонились до самой земли, макушки деток–елей понагнулись.
— Шишок, а… разве она простая? — тихо, как идет снег, спросил Ваня. — Раиса Гордеевна сказала, что она — красотой в мать, Василису Гордеевну, а простотой — в отца…
Шишок стряхнул с лохматой башки снежную паутину, дернул плечом, так что струны звякнули, и сказал:
— Девчонкой была проста, всему верила, дурного не замечала. Да жизнь такая, хозяин, ровно горячая сковорода… Вишь, пришлось ужиком завертеться… Теперь её на мякине не проведёшь!..
— А ты… почему Ворона Вороновича не наказал? Ты ведь сильно могучий богатырь, Шишок, а он кто?.. Или… не рассердился как следует?
Шишок вздохнул:
— Как не рассердился! Осерчал так, что до сих пор сердце, как кувалда бьёт… Можно было, конечно, устроить хорошую потасовку, ох, руки‑то чесались!.. Полетел бы у меня этот Ворон Воронович в одну сторону, а его товарищи–охранники — прямиком в ларец… Остался бы Ворон в своём подземном нефтяном озере на веки вечные, да… Да что бы это изменило, хозяин? Не тот, так другой… Да и… Вишь, больно уж ей хотелось корону эту получить… Заплатила, гуторит, дорогую цену… Ещё какую дорогую‑то! Пускай потешится… Не знаю только, надолго ли её хватит… Цацка ведь эта корона, обыкновенная игрушка… Но зачем нам лезть, в чужие дела мешаться? Не видать нам Валентины как своих ушей, хозяин… Не вернётся она.
Ваня опустил голову — он и сам это прекрасно понял вчера.
— Да и… с Василисой Гордеевной — нашла у них коса на камень.
Шишок скинул промокшие кеды, и так, босиком, побежал мохнатыми лапами по снежной целине, оставляя странные, то ли человечьи, то ли звериные следы. Перкун за ним — и следы у него были обычные, птичьи… Ваня вприскочку побежал следом — за ним оставались следы больничных ботинок.
— Ох, хозяин, хорошо! — заорал Шишок, цапнул снегу, затолкал в рот, проглотил и облизнулся. А потом состряпал знатный снежок — и запустил им в мальчика, прямо в лоб ведь угодил!
— Ах, ты так! — крикнул Ваня, слепил ответный снежок — кинул в Шишка, а попал петуху в клюв. Насадился снежок на острие — не даёт Перкуну клюва открыть. Вот ведь угораздило! Перкун с трудом разлепил клюв, снежок сожрал, закудахтал — и корявым снежком в Ваню. А Шишок — опять в петуха, а тот — в Шишка, а Ваня — куда попало. Запуляли друг друга снегом‑то! Потом повалились в придорожный сугроб — и кучу малу устроили. А до Буранова‑то идти ещё и идти…
Встали и пошли. И опять замела метелица, завьюжило, запружило…
— Шишок, уж не лешаки ли опять балуют? — спрашивает Ваня и с надеждой говорит: — Может, снова Березайку повстречаем?
— Какие тебе лешаки! Они уж в сон провалились… И Березай тоже, спит под боком у Додолы, десятый сон досматривает. Нас, может, и видит… Я‑то, когда в подполе сижу, тоже, по правде говоря, сплю уж в это время… Снежок выпал — всё! Давно снега-то не нюхал — с самой войны… Ох, хорошо! — Шишок потянул носом заснеженный воздух.
А вьюжливый снег глаза залепляет, засыпает путников, заметуха с ног пытается сбить. Буран…
— Мёрзлой роже — да метель в глаза! — кричит Шишок и показывает какую‑то тропу, уводящую прочь от дороги, нам, дескать, туда. И внутри леса, в серёдке, вроде потише стало. Хотя теперь деревья стряхивали на головы да за шиворот снежные излишки. И сквозь волнистые сугробы тяжеловато было пробиваться.
Вдруг среди елей в завьюженном воздухе мелькнул далёкий огонёк.
— Неужто дом?! — воскликнул Шишок и бегом побежал, да упал. Вскочил и, заплетаясь мохнатыми лапами в снегу, опять вперед! Ваня — за ним. А Перкун поднялся в воздух и через головы мальчика и Шишка — к желанному огоньку.
И первым ворвался на поляну, где под косо летящим снегом горел громадный костёр. А у костра — никого. Ваня с Шишком одновременно выбежали на простор. Шишок сделал знак рукой, дескать, погодите–ко! Стал принюхиваться да приглядываться. Но в снежной закрути разве что углядишь–унюхаешь?! Пооборачивались ещё — нет никого, а костёр горит… Что за дела?! Пожали плечами и, делать нечего, пошли к большому огню, стали покрасневшие руки греть да озябшие бока языкам пламени подставлять — нехай лижет.
И вот метель куда‑то в сторону ушла, снежок стал падать по нитке, да всё реже–реже… И уже обозначился лес вокруг поляны… И вдруг Ваня услышал какой‑то странный звук: фр–р–р… Что это? Шишок тоже насторожился. И опять: фр–р–р… И вдруг видит Ваня, какая‑то фигура вышла из белого леса и к костру идёт… Странная фигура, кроплённая снегом… Да это мальчик ведёт белую лошадь под уздцы! Одет мальчик вовсе не по сезону, совсем как‑то по–летнему…
Это… да это, с ужасом узнал Ваня, — Соловейко! Вскочил на ноги! И Шишок вскочил! Перкун нахохлился. И увидели они, что ещё две фигуры вышли из леса и с разных сторон подходят к костру. Большак и Алёнка… И тоже совсем не по–зимнему одеты, совсем так же, как в последний раз, когда он их видел. Братья–разбойники! Ваня зажмурился и открыл глаза: ничего, теперь‑то он не один…
Соловейко подошёл к костру первым, а на троицу и не глядит, вроде не замечает. Присел на корточки и принялся лошади ноги связывать — треножить, чтоб не ушла. А Лыска от снега отфыркивается: фр–р–р. Поднялся в рост — и поглядел насмешливо на Ваню, а в руке сдвоенная верёвка… Большак, подойдя к костру, с ходу стал говорить:
— Мы за так никого к своему огню не пускаем… Придётся платить за чужое тепло… Гости незваные, гости нежданные…
Шишок почему‑то не отвечал. Ваня глянул на него — и увидел в его лице немой вопрос, как будто Шишок не знал, что говорить и что делать… Да уж не боится ли он? Такого с домовиком сроду не бывало. Кто же эти разбойники?!
Алёнка, подойдя к ним, ни слова не говоря и ни на кого не глядя, подставила огню измёрзшие руки. Ваня глянул: ноги у неё теперь были не босые, но, как у Большака же, в разнопарой обуви. Левая нога — в суконной боте, правая — в балетной туфельке. Ваня невольно перевел взгляд на Соловейкины ноги, этот был обут так: одна нога — в детской калоше, другая — в мужском башмаке. Алёнка свою правую ногу без чулка и в туфельке с оборванными завязками чуть не в огонь совала. Вся она, в своей летней линялой юбке и сатиновой кофте с горохами, дрожмя дрожала. А Соловейко в латаной-перелатаной рубахе из мешковины — хоть бы хны. Ваня тут вспомнил, что на нём надета сменная Соловейкина рубашка — наверное, их всего‑то у него было две, и Алёнка вторую ему, Ване, отдала. Но рубаху он снимать не стал, а снял пальтишко — и накинул Алёнке на плечи. Она поглядела мимо него благодарно, и синие губы прошептали: «Спасибо, Иванушка».
— Иванушка! — закричал тут Соловейко, чуть не плача. — Опять! — сдёрнул с неё пальто, кинул в снег, подбежал сзади и в мгновение ока набросил удавку ему на шею. Ваня только глаза выпучил. Но он нисколько не боялся, думал, Шишок сейчас живо разделается с мальчишкой, но дело обернулось по-другому…
Шишок, видать, никак не ждал нападения. Или, может, противник, на сей раз, попался равный?.. Прошла, по ощущению Вани, вечность — а удавка по–прежнему сдавливала шею, так что уж невмочь стало… Большак стоял за Ваниной спиной, рядом с Соловейкой, и крепко держал его вывернутые назад руки, и Алёнка, через силу оторвавшись от огня, тоже ушла за его спину. Перед глазами были Шишок с Перкуном, они, набычившись, стояли плечом к крылу. А позади них попрыгивала по колено в снегу стреноженная лошадь. Ваня услышал, как Шишок шепнул петуху: «Хоть бы ты закукарекал!», а тот просипел: «Не время сейчас…». Разбойники, конечно, тоже услышали, потому что Большак захохотал.
— Ладно. Это, как я понимаю, и есть плата за чужое тепло… — сказал Шишок и кивнул на Ваню.
— Правильно понимаешь, — кивнул Большак.
— А может, как‑нибудь по–другому столкуемся? У вас, я вижу, с одежонкой туго, а у меня тулупчик волчий… Тёплый, не замёрзнете… Будете по очереди греться… Чем не плата, а? Да вот ещё пара кед в придачу, как раз мальчишке вашему… — протянул связанные шнурками кеды.
— Не пойдёт, — усмехнулся Большак. — У нас с этим парнем свои счёты, и давние… Идите своей дорогой, вас мы не тронем, вы нам без надобности…
И Ваня почувствовал, как удавка туже сжалась на горле — и из глаз сами собой брызнули слёзы, он умоляюще поглядел на домовика, дескать, что ж ты…
Шишок заторопился:
— Не пойму я, за что вы так взъярились на мальца? Парень вроде не бедокурный, смирный… чего он вам сделал‑то?
— Ты его ишшо не знаешь, какой он смирный! — заорал Соловейко над самым ухом, и удавка ослабла. Ваня, открыв пошире рот, глотнул воздуха. — Он всех вокруг пальца обведёт — и всюду первым окажется. Ты его ишшо не знаешь, смирнягу!
— Ладно, ладно! — замахал Шишок руками. — Вы, я вижу, люди сурьёзные. Мы тоже, сразу скажу, не простые: это — птица, которая разгоняет тьму, я — постень, домовик, значит. Силушки нам не занимать! Просто так мы, сами понимаете, не уйдём, товарища в беде не бросим, будет большая драка.
Ваня услышал, как за спиной его ухмыльнулись: дескать, что нам драка, дескать, и так знаем, кто победит. Шишок же продолжал:
— А вот у меня к вам встречное предложение…
Есть на земле, у всех существ, такой обычай: загадки загадывать… — удавка ещё больше ослабла, видать, Соловейко заинтересовался.
— Вас трое, нас трое, — торопливо договаривал Шишок, тоже почуявший интерес. — Трое, выходит, на трое… Привела же судьба! Не часто, скажу, такое бывает: трое‑то на трое! Чем драться — давайте лучше загадки загадывать… Ваш верх будет — Забираете мальца… А коли мы победим… Есть, говорят, у вас невидимый мел…
Повисла пауза. Неужто ошибся Шишок — и не у них мел…
— Ну, есть такой, — сказал нехотя Большак.
— Мы — мальчишку на кон, вы — мел. По рукам? — протянул Шишок шерстистую ладонь, и Ваня, после томительных мгновений ожидания, с облегчением увидел протянутую навстречу ручищу Большака. Руки встретились, пожали одна другую — сделка состоялась.
И удавка слетела с шеи, Ваню подтолкнули — он сунулся в грудь Шишка. «Ну–ну–ну!» — хлопал его Шишок по спине, а Ваня, обнимая его, подвывая в голос и вроде падая, едва слышно, в самое ухо спросил: «Шишок, кто это?» И услыхал ответный шёпот–шелест: «Навьё[84] это, хозяин». — «Навьё?» — «Навяки!»
«Что ещё за навяки?» — подумал Ваня, но дальше расспрашивать времени не было. Соловейко тут закричал, дескать, по сколько загадок загадывать и кто первый будет начинать? Шишок сказал, что каждый загадывает по очереди, идём по кругу и до тех пор загадываем, покуда на какую‑то загадку не будет отгадки. Тогда — всё! Отгадывать могут все трое из супротивной команды.
Ваня подобрал из сугроба своё пальтишко, накинул на плечи так, без рукавов, и вдруг увидел, что снег перестал идти.
— Наш мальчишко весь на виду, — говорил Шишок, устраиваясь по одну сторону костра на валежине, Ваня сел рядом с ним, а Перкун третьим. — А хотелось бы на ваш мел хоть одним глазком взглянуть…
Навяки сидели напротив, на огромном, вросшем в землю пне, — Ваня помнил его с лета, — Соловейко с Большаком по краям, а Алёнка посредине, как раз напротив Вани. Огонь горел между одной троицей и другой. Братья одновременно вынули из карманов по куску белейшего мела и показали, ровно фиги. У Алёнки мела не оказалось, а может, просто из кармана не высунула. Шишок не стал просить показать, как мел действует, видать, посчитал, что это будет излишним, и так ясно, что простой мел таскать с собой братья не станут.
Запахло жжёной резиной — это Соловейко сунул ноги (одну в калоше) чуть не в самый огонь. Вскочив с места, он пробежался по снегу, — от калоши пар повалил, — подскочил к Лыске, похлопал её по спине и, обернувшись к костру, крикнул:
— Встал я не так, умылся не так, приоделся не так, лошадь запряг, да поехал не так, заехал в ухаб, не выехать никак!
Ваня призадумался: что бы это могло значить… А Соловейко, подождав, засмеялся:
— Это присказка. А вот вам и загадка: выросло дерево от земли до неба, на том дереве двенадцать сучков, на каждом сучке по четыре кошеля, в каждом кошеле по семь яиц, а седьмое красное.
— Ну, это просто, — мигом разгадал Шишок. — Это год, в году двенадцать месяцев, в месяце — четыре недели, в неделе — семь дней, седьмое — воскресенье…
Соловейко надул губы — он, видать, думал, что задал невесть какую сложную задачу.
Теперь была их очередь загадывать. Шишок первым сидел, наверно, ему и говорить?.. А домовик уж и так загадывал:
— По заре зарянской катится шар вертлянский, никому его не обойти, не объехать.
Навяки, сблизив головы, стали совещаться, сквозь тучи проглянуло солнышко, и Соловейко, поглядев в небо, крикнул:
— Солнце! Солнце, солнце! Вот оно — солнце!
— Верно, — согласился Шишок. И все посмотрели на Алёнку, её была очередь. Девушка потёрла лоб, поглядела невидяще на братьев, повернула лицо в сторону троицы, сидевшей по другую сторону костра, и, улыбнувшись, проговорила:
— Один говорит: побежим, побежим. Другой говорит: постоим, постоим. Третий говорит: пошатаемся, пошатаемся.
Ваня только охнул — до чего трудная загадка! Конечно, можно сказать, что это про навяков, мол, каждый в свою сторону тянет, как лебедь, рак да щука…. Но ведь явно неправильный ответ. Щука… Она в воде. Вода — бежит, а берег зато — стоит… Неужто? А что же — шатается? Водоросли? Ваня поднял руку, как в школе, забыв, что Алёнка слепая, и, опомнившись, спросил: «Можно, я?» И Алёнка, как учительница, кивнула: «Отвечай, Ваня».
— Вода, берег и… водоросли, нет, трава на берегу! — выпалил Ваня.
— Молодец! — сказала Алёнка. — Правильно угадал!
Соловейко даже зубами заскрипел от досады:
— Он водоросли вначале сказал…
— Ничего, он сразу поправился, — одёрнула брата девушка.
Теперь была Ванина очередь загадывать, он почесал голову и выудил из неё:
— Сын матери моей, а мне не брат!
— Эк ведь завернул! — восхитился Шишок и поглядел сквозь костёр, дескать, ну–ко, навьё, как‑то вы с этим справитесь?!
Соловейко косился на Ваню, поигрывая удавкой, она так и мелькала в его руках, ровно зимняя змейка. Долго навяки перешёптывались, наконец Соловейко сказал, нехорошо усмехаясь:
— А это я.
— Нуда, — согласился Ваня. — Я. Я сам. Каждый может так про себя сказать.
— А я не могу, — посмеиваясь, говорил Соловейко. — Я это.
— Да правильный ответ, правильный, успокойся уж.
— Теперь Большак загадывает! — командовал тем временем Шишок.
Большак поднял опущенную было голову и начал:
— Стоит рассоха[85], на рассохе бебень, на бебене махало, на махале зевало, на зевале чихало, на чихале мигало, на мигале остров, в острову звери.
У Вани волосы на голове встали дыбом: вот это загадка! Ни за что им не отгадать! А это значит…
Перкун попросил повторить ещё раз, только помедленнее. Большак, хоть Соловейко его дёргал, дескать, ещё чего, не надо повторять, проговорил загадку повторно. Но яснее от этого она не стала.
Стали совещаться, сдвинув головы. Ваня, хлопнув себя по лбу, зашептал:
— Гаишник! Гаишник в фуражке, в бебене! Выше — и палкой нарушителям машет, остановитесь, дескать. А рядом — машина гаишная мигает. Потом нарушителей в машину посадили — это они в острову звери.
— Не–ет, — качает головой Шишок. — Что‑то тут не то. Не думаю я, чтоб они хоть одного гаишника когда‑нибудь видели.
Соловейко только руки потирал, хлопал Большака по плечу, дескать, молодец, брат, загадал так загадал!
— А что тогда? — вскочил Ваня, разведя руки в стороны. И Перкун, поглядев на него, громко сказал:
— Человек!
— Чего? — не понял Ваня.
— Отгадка: человек! — повторил Перкун и показал на замигавшего Ваню, а тот ещё и чихнул.
— Верно, — вздохнул Большак и посмотрел на него. — Человечишко…
Соловейко опустил голову: эх!
— Ну, махало, зевало, чихало, мигало — это понятно, — сказал, довольный, Ваня. — Голова с волосами — остров, а какие звери‑то, а, Перо? Мысли, что ли?
Шишок потряс тут башкой, из которой посыпались насекомые, — и со зверями всё стало ясно. Все поглядели на петуха, тот покудахтал, чтоб прочистить горло, и с важностью произнёс:
— Дважды родится, ни разу не крестится, а чёрт его боится!
Соловейко вскочил тут со своего места:
— Неправильная загадка! Никто не может два раза родиться!.. Не бывает такого!.. Ни разу не родится — это понятно… И не крестится — ясно… А вначале неправильно! Неправильная загадка!
— Погоди, Соловейко! — одёрнула его Алёнка. — Дай подумать!
Навяки долго совещались, никак не могли отгадку найти, Ваня уже тоже мысленно руки потирал, как Соловейко‑то. А Перкун раздулся, ровно шар, и поглядывал свысока:
— Вот какие загадки надо загадывать! А вы!
— Тебе кукарекать не пора? — шёпотом спросил тут Шишок, но был услышан. Алёнка захлопала в ладоши и закричала:
— А я знаю! А я знаю! — и ткнула пальцем в петуха. — Это — ты! Вначале рождается яйцо, а вы внутри, второй раз — цыплёнок из яйца вылупляется. Как закукарекаете — вся ночная нечисть и пропадёт!
Перкун кивнул и ещё больше надулся, дескать, я сам живая отгадка и есть!
Шишок вздохнул и сказал:
— Что ж, значит, по второму кругу идём… Соловейко — твоя очередь…
Соловейко, закусив губу и пощёлкивая в воздухе вервием, сквозь огонь смотрел на Ваню, потом загадал:
— Живёт без тела, говорит без языка, плачет без души, смеётся без радости, никто его не видит, а всяк слышит.
«Радио», — прошептал Ваня, едва Соловейко закончил говорить, и усиленно закивал, дескать, так оно и есть. Шишок покачал головой и потихоньку указал на сидящих по ту сторону костра: «Может, про себя загадали?..» — «Мы же их видим, — удивился Перкун. — Вон сидят…» — «Да даётся мне, не всегда их видать», — не сдавался Шишок. — «Как это не всегда?» — удивился и Ваня. А пока они совещались, Алёнка в лес ушла за валежником и оттуда крикнула:
— Эй, Больша–ак, хватит, нет это–о–го–о? — и показала несколько сучьев.
— Хватит, — закричал Большак. — Возвращайся давай, придумала тоже, вечно она…
— Хорошо–о–о, — откликнулась Алёнка. И Ваня вдруг понял…
— Эхо! — закричал он. — Это эхо!
Соловейко до крови закусил губу и принялся терзать свою верёвку — то на запястье её намотает, то пальцы себе перевьёт, так что посинеют, то по снегу хлестнёт.
Шишок загадал короткую загадку:
— Живой мёртвого бьёт, мёртвый благим матом орёт.
Соловейко послал ему взгляд исподлобья и, кивнув на совещавшихся брата с сестрой, сказал:
— Пока они отгадывают, давай на кулачках — кто кого, а?
— А что ж! — сказал Шишок, поднимаясь и снимая с себя балалайку, но Большак одёрнул брата:
— Не задирайся!
Соловейко сунул свою голову к двум соединившимся, но время от времени оглядывался на Шишка — за что‑то он на домовика сильно озлился. Тут головы расгакнулись — девушка с радостной улыбкой сказала:
— Это — колокол! — и объяснила всем, хотя Ваня чувствовал, что специально для него она говорит: — Я один раз заплутала в лесу, к деревне на звон вышла и слышала, как в колокол бьют, а он гудит… Далёко было слышно. Красиво…
— Красиво?! Как тебя в клочки‑то не разорвало… — пробубнил себе под нос Большак. А Соловейко заорал:
— Навка[86], перестань ты с ним разговаривать!
И все замерли.
— Я не навка, — тихо сказала девушка, пытаясь дрожащими руками на ощупь завязать драную шнуровку на балетной туфельке. — Я — Алёнушка, меня так зовут.
— И кто ж тебя так зовёт? — засмеялся Соловейко. — Что‑то я ни разу не слыхал, чтоб тебя звали…
— Он, — показала пальцем на Ваню, — правда, Иванушка?
И Ваня понял, чего она хочет, он ведь так ни разу и не назвал её сегодня по имени.
— Конечно, Алёнушка! — сказал мальчик. И лицо её просияло.
— Ты навка, навка, навка! — закричал Соловейко. — У тебя нет имени.
— У тебя же есть…
— Разве это имя? Это — так, кликуха, между собой… Имя…
— Ваша очередь загадывать, — нетерпеливо просипел Перкун. — Не пойму, чего вы завелись… Сколько на свете птиц, а редко у какой есть имя — и ничего… Никто не печалится. Навка, Алёнушка — какая разница. Давай загадку загадывай, Алёнушка…
Девушка, услышав имя, опять расцвела. И показалось Ване, что кого‑то она ему напоминает… Может, ту Алёнушку, из сказки, вытканную на бабушкином коврике?..
— Хорошо, — сказала Алёнка, улыбаясь. — Сестра к брату в гости идёт, а он от сестры пятится.
Шишок думал, что это луна и солнце, но Ване казалось, что про солнце второй раз не будут загадывать. Соловейко, который кружил за спиной, очень мешал думать: он похлопывал Лыску по холке, что‑то нашёптывал ей на ухо, тёрся лбом о гриву. Но удавка‑то по–прежнему была в его руках.
Петух сказал:
— День к ночи клонится, как бы нам тут не застрять. Быстрее надо отгадывать… А загадывать посложнее…
И Ваня закивал:
— Да, день и ночь. Это и есть отгадка. День — брат, а ночь — сестра.
Алёнушка улыбнулась:
— Правильно, Иванушка! Твоя очередь!
Ваня почесал в голове, сглотнул слюну и проговорил:
— Режут меня, вяжут меня, бьют нещадно, колесуют — пройду огонь и воду, и конец мой— нож и зубы.
Соловейко заливисто захохотал и, щёлкнув себя верёвкой по ладони, так что кровь появилась, поднял ладонь — и показал Ване:
— Отгадка — ты, Ваня Житный… Это тебя режут, тебя вяжут, бьют и колесуют, пройдешь всё — огонь и воду, и попадёшь смерти в зубы…
— Он шутит! — крикнул Большак. — Это не отгадка. — И бросил в огонь мокрые сучья, так что дым повалил, да прямо сюда, к ним — и Ваня закашлялся. Навяки за дымом и пламенем стали совещаться. А он сжимал в кармане кусок не съеденного вчера в поезде хлебушка, даже слюнки потекли, хотел откусить — и передумал. Тут Большак повернулся к ним и сказал победоносно:
— Это хлеб!
— Да, хлеб, — кивнул Ваня, встал и протянул горбушку Алёнушке: — Хочешь?
Ноздри её расширились, она нащупала хлеб в его руке, цапнула и с дрожью в голосе произнесла:
— Настоящий?
— Ну да, — удивился Ваня.
Алёнушка поднесла кусок к ноздрям и долго нюхала, потом полизала горбушку и вдруг целиком стала заталкивать в рот.
— Подавишься! — испугался Ваня. — Откусывай вначале, а после жуй! Ты что — хлеба никогда не едала? — И, увидев, как загорелись глаза братьев, как неотрывно они смотрят на кусок — вот бедняги, — сказал: — У меня ещё есть. — И, достав из другого кармана раскрошившиеся куски и три кусочка рафинада в налипших хлебных крошках, сунул братьям и сестре: — Угощайтесь.
Большак мотал головой, а рука его сама тянулась к хлебу. Соловейко же схватил кусок и, отвернувшись, заплакал. Он нюхал его — втягивал хлебный дух, нюхал — и вдыхал, никак не мог надышаться.
Девушка закашлялась и выперхнула хлеб, кусок полетел в костёр, но Соловейко живо выдернул его оттуда.
Что же это! Неужто такие они голодные? Чем же они питаются в этом лесу и где живут? Ведь не видно нигде никакого дома… Пока братья и сестра учились есть хлеб — то губами пытались отщипнуть кусок, то крошечками ели, и всё равно закашливались, давились, — Ваня потихоньку спросил у Шишка: «Тут стояло Бураново‑то?» Шишок едва заметно кивнул. Ваня поглядел: дальше, на взгорке был просвет — туда ускакал летом Соловейко на Лыске, запряжённой в телегу. Может, в той стороне их дом?
Хлеб был съеден, сахар сгрызен — братья исподлобья смотрели сквозь языки пламени на Ваню. А девушка сказала:
— Спасибо тебе, Иванушка! Никто‑то нас не кормил так сладко! Глядишь, и братья теперь станут добрее…
Лицо её совсем порозовело — и опять Ване помнилось, что похожа она на кого‑то… Только вот на кого?!
— Держи карман шире! — закричал Соловейко. — Он думал парой кусков хлеба да сахаром откупиться! Не выйдет! Давай, Большак, загадывай!
— Старуха‑то сколь раз приходила, ни разу нам хлебушка не дала… — говорила Алёнка.
— Какая старуха? — спросил Ваня.
— Старая старуха, злая.
— Не злая она! — закричал Соловейко. — Она нас любит! Она нам дверь помогла открыть…
— Мы сами дверь открыли, ты не знаешь, без тебя ведь дело было, — говорила Алёнка.
— Мы его хлеб ели, теперь он нам не враг… — твёрдо сказал Большак. — Хоть и не разгадают они нашу загадку — мы его отпустить должны, Соловейко! Не можем мы ему зла причинить! Кончено!
— Не знал он, кого кормит! — говорил Соловейко, опустив голову. — Знал бы — ни в жизнь не стал бы нам хлеба давать! Побоялся бы!
— Нет, он знал, — качала головой Алёнка. — Он с первого разу догадался, он нутром знал, а только головой не знал.
— Он и сейчас не знает, дурак он, Иван–дурак! — закричал Соловейко. — Я должон быть вместо него, я–а! У–у–у–у…
Соловейко вдруг повалился лицом в сугроб, катался по снегу, бил по нему кулаком. Ваня с Шишком переглянулись. Алёнка подбежала к мальчику, стала по голове гладить, что‑то ласковое приговаривать — и он понемногу утих. Но к костру не пошёл, сидел в стороне и глядел в лес. Лыска, стреноженная, неуклюже скакала к нему.
Замерший Ваня переводил вопросительный взгляд с одного на другого: Большак прятал глаза, Шишок пожимал плечами, Перкун клювом под крылом чесал. Тут Большак поднял глаза и сказал, кивнув на Ваню:
— Подменыш он…
Глава 28. Четвёртая сестра
Ванино сердце упало, как подстреленная птица.
— Как подменыш? — опешил Шишок. — Лешаки подменили?! Это что ж, значит… не… человек мой хозяин?..
— Да человек, человек!.. — махнул рукой Большак. — И — какие лешаки! Тут другое! Мы‑то ведь навяки, неужто вы не поняли?!
— Да поняли! — Шишок тоже махнул рукой.
— Кто это — навяки? — решил выяснить всё до самого дна Ваня.
— Мертвяки! — просипел петух.
Соловейко захохотал в своём сугробе, забарахтался и крикнул:
— Если бы мертвяки! Те хоть жили, прежде чем помереть, а нам не дали… Так сгинули, ни за понюшку табаку…
Большак продолжал, кивая на Ваню:
— Соловейко должон быть вместо него, а он, жихарь, не в свою очередь проскочил на свет. Шустёр оказался… А как Соловейкин черёд пришёл… вжикнули его. Как меня да вон её, — кивнул на стоявшую под елью Алёнку. — Та — ни за что не хотела дать нам жить, уж как старуха её уговаривала… Нет, говорит, Марковна, не хочу, чтоб они жили, и всё тут, не до них мне совсем…
— Какая Марковна? — подскочил Шишок. — Не теряевская? На краю села живёт, повитуха?
— Здесь старуха прежде жила, в Буранове, все дома посносили, а её остался, вот на этом самом месте изба стояла, где костёр наш горит, снесли потом и избу, и старуха ушла… Та к ней сюда наведывалась… Один раз пришла — меня вжикнупа… Второй раз пришла — её вон удалила… — показал на Алёнку. — Да и глазки ей попутно выколола… Третий раз пришла — Соловейке не дала народиться… А этот, значит, живёт… — кивнул на Ваню. — За что ему такое везенье?! Ну чем он лучше нас?
Соловейко лежал, сунув голову в сугроб.
— Так–так–так! — бормотал Шишок. — Теперь понятно, какая это старуха… Ульяна Марковна — вот как её зовут! Третья сестрица Василисы Гордеевны! — кивнул он Ване. — Не родная сестра‑то. Мачехина дочь. А дом, что тут стоял, — отчий дом твоей бабушки.
Ваня силился вспомнить лицо «жабы» Марковны, у которой они ночевали на сеновале в Теряеве — и не мог.
— А хозяин мой, выходит, ваш единоутробный брат?! — воскликнул тут Шишок, до которого не сразу дошло.
И до Вани никак не доходило, он силился понять… Значит, та, про которую Большак всё время говорит, — это его мамка, Валентина?! Большак — его старший брат, Соловейко — младший, а Алёнушка — сестрица?!..
— Брат… Он сам себе брат! — закричал Соловейко. — Нас‑то нет на свете… Так, морок мы, кикиморы… Нежить!
— Да как же вам удалось… — Шишок замялся, — воплотиться? Я гляжу, вы и следы оставляете настоящие людские, а не какие‑нибудь там, и…
Соловейко закричал:
— А–а… всё‑то вам расскажи да доложи… Молчи, Большак!
Ваня поглядел: следов вокруг костра было натоптано порядочно, как раз Алёнушка от ёлки, где до сих пор стояла, возвращалась, оставляя на снегу два разных следа. Ваня вглядывался в её надвигающееся лицо — так вот на кого она похожа, на мать! Вылитая Валентина — только волосы тёмно–русые, глаза студёные, лицо пепельное и костистое… Кисти рук слишком большие, подошвы — тоже, шея жилистая, худущая навка, но если откормить, приодеть… Тоже ведь красавица, да ещё какая! Хоть и глазки слепые… выколотые.
А Большак, достав из кармана свой кусок мела, показывал:
— Да вот он нам помог! Мы туг кружили, — взмахнул рукой, — наше это место, здесь наша кровушка пролилась, хоть и могилок у нас нет… Попугивали старуху‑то иной раз… А к Марковне этой частенько сестра наведывалась, Анфиса, — та вовсе яга лесная, — и вели они свои, человечьи разговоры. А мы с ней, — кивнул на присевшую к костру Алёнку, — подслушивали, глядишь, что‑нибудь про ту вызнаем. Соловейки‑то ещё не было тогда… Вот однажды старые и заговорили про мел, который видимое делает невидимым, и, дескать, есть он у этой Анфисы–яги. И приди мне в голову: а не может ли тот мел обратное сотворить… Нас, невидимых, — сделать видимыми?! Выследили до дому эту Анфису–бабу и украли у ей кусок мела. И что вы думаете — вышло! Вот сидим перед вами — ровно живые… А что следы‑то людские после нас — дак ведь людьми бы мы были, как вы думаете, не лягушами же…
— Может, и мел им отдашь, Большак? — пронзительно закричал из своего сугроба Соловейко. — Попросят ведь сейчас… Мало мы отдали — так последнее им отдай!..
— Не, — покачал головой Большак, — мел не отдам. Всего один кус у нас и есть.На всех — один. Переломили мы его напополам, половина мне, половина — навке. А она потом свой кусок Соловейке сунула… Не весь мел‑то мы у ягишны взяли, эх, жалели потом! А она круг вокруг именья обвела, и всё — не пробиться к ней стало. Стена. Нас испужалась… Мелок этот — одно у нас утешенье!.. У вас‑то он крепко действует, стена вокруг ягишны такая — ни с какой стороны не подступиться: ни с нашей, ни с вашей, и, видать, подновлять круг не надо. А в наших руках мел недолго почему‑то действует, руки, что ли, не такие… Потому торопиться нам надо — успеть след свой оставить на земле. Вот мы и обводим подошвы… Соловейко обычно на брюхе у Лыски следки свои рисует, навка на развилке дуба любит подошвы обводить, а я — где придётся обрисовываю следы. Но вначале надо дверь пробить, прошёл на эту сторону, и тогда уж следы тут оставляй, обрисовал подошвы — и проявился, как вроде человеком стал. Только больно быстро следы–те стираются, снег ли пойдёт, дождь ли, ветер ли — и нет твоего следа, развеялся… А значит, и тебя нет. Тяжело. Потому не часто мы к вам заходим, только в крайних случаях, мел‑то поберечь надо…
И вновь пошёл тихий снег, белыми мухами садился на головы, на плечи навья, домового, птицы, человека…
Шишок подумал–подумал и спросил:
— А ведь, я так думаю, не первый раз к вам хозяин мой попадает?
— Не первый, — сказала Алёнушка и улыбнулась: — Молодец, Иванушка, не проболтался, что был у нас! — Лицо её сквозь двойную преграду снега и огня искажалось, отдалялось…
— А уж не Ульяна ли это Марковна, жаба, сообщила вам летось[87], что у неё ночует Ваня Житный и в лес направляется?! — хлопнул Шишок себя по лбу.
Соловейко вскочил и закричал, чуть не плача:
— Всё, всё им доложите!
Большак пожал плечами:
— Ладно тебе, Соловейко!.. Дело прошлое. Да и чего скрывать‑то — старуха дала нам знать. Спасибо ей…
— Только толку от нас — как от телков… — захохотал Соловейко. — Выпустили змеёныша… Как и ту…
— А разве и Валентина к вам в лапы попадала?.. — спросил Перкун и принялся разгребать снег, что уж он хотел под снегом найти, каких червяков…
— Попадала, — усмехнулся Большак. — Да навка вон пожалела её… Глаза ей та отвела, такой бедной да несчастной прикинулась, куда там нам… Дескать, жить хуже, чем не жить…
— А мы бы, — закричал Соловейко, — за один только день человечьей жизни всё отдали! Безрукими, безногими готовы жить… Безмозглыми, у которых слюна течёт, — готовы. В тюрьме, в одиночной камере, — это ж мечта сидеть–жить! Либо в лагере!.. На всё готовы… На всё! Да нету нам жизни… А ему — есть. Почему так?
— Потом спохватилась сестра, — продолжал Большак, — да уж поздно: близок локоть, да не укусишь.
Соловейко крикнул:
— Я бы ни за что ту не выпустил! — подбежал к Алёнке и закричал: — Дура ты, дура! Она тебя не пожалела!.. Она тебя вона как, а ты вона как… Вывела её, на путь наставила… Иди, дескать…
— Ладно. Дело прошлое… — сказал Большак и кивнул на Соловейко: — Его тогда ещё не было с нами… После уж та его наказала…
Ваня отвернулся, назойливо лезло в голову, что вот эта навка — могла быть его настоящей сестрой и братья могли быть его живыми братьями. Старший — какая защита! Младший, — конечно, не подарок, но кто его знает, каким бы он был, кабы не злость на то, что ему жизни нет. А снег шёл уже хлопьями, оседая на непокрытых головах Большака, Алёнки, Соловейки и Шишка. Снежий пух падал и падал с неба, превращая Перкуна в жертвенного петуха, один гребень алел среди белизны, как кровь.
— Да–а, такого в птичьем роду не бывает, — сказал тихонько петух, — чтоб мать села яйца высиживать, а после давай их клювом долбить…
— Ни в каком роду не бывает! — отрезал Большак. — Только в человечьем! — и потряс заснеженной головой.
Шишок вздохнул. А Ваня подумал, что он тут за всех людей ответчик, один он тут — человек, и если решит навьё присудить его к удушению, то, наверно, и нельзя ему противиться… Вон Соловейко‑то по-прежнему не выпускает из рук верёвки…
Тут Алёнка, почти не принимавшая участия в разговоре, подошла к Соловейке, нагнулась погладить по волосам — и что‑то там случилось… Сквозь летящий снег Ваня с ужасом увидел: навка пропала. Только что была — и вот нет её… А в сугроб рядом с мальчишкой упала лиловая юбка и сверху кофта в горошек. Ваня закричал, подбежал — под одеждой оказалась непарная обувь: черная бота и дырявая пуанта. Он схватил Соловейку за грудки и стал трясти:
— Что ты с ней, гад, сделал?!
Соловейко тут же вцепился ему в горло — Шишок, Большак и Перкун бросились от костра к ним. Ваня почувствовал, какая нечеловеческая сила в этих мальчишеских руках, и понял: всё, ему конец. Все загадки разгаданы. Не сможет Шишок ничем ему помочь, и Алёнки, защитницы, нет…
Шишок, как рысь, бросившись мальчишке на спину, принялся отдирать его пальцы от Ваниного горла, Перкун взлетел Соловейке на голову — и стал клевать в темя: Соловейко только сильнее сжимал руки… И вдруг его скосившиеся глаза что‑то увидели — руки разом разжались, он заорал: «Моя рубашка!» Ваня упал на спину в сугроб — и всё никак не мог отдышаться… А Соловейко повторял, как заведённый: «Моя рубашка! Моя рубашка!» Потом, чуть не плача, крикнул: «Большак, на нём моя рубашка!» — одним махом расстегнул верхнюю, домашнюю Ванину рубашнёшку, так что пуговицы брызнули во все стороны, под той и оказалась мешкотная рубаха Соловейки. Большак кивнул:
— Вот и нашлась. А мы всё думали да гадали: где она… Навка, небось, отдала ему… — И, помолчав, добавил: — Теперь он — всё равно что ты.
Соловейко неподвижно сидел в сугробе, закрыв лицо ладонями, а снег падал хлопьями, обращая его в меловую фигуру. Ваня пришёл в себя, но говорить ещё не мог, сипел, как Перкун, попытался спросить: «Где Алёнка?» — но у него ничего не вышло, тогда он ткнул пальцем в тряпичную кочку, оставшуюся от неё. Большак сказал:
— А–а… Следы её, значит, стерлись на стволе‑то… Но где‑то здесь она… Не ушла еще… Навка! — позвал он.
Но вокруг ничего не изменилось, ответа не было… Ваня послушал–послушал и позвал:
— Алёнушка! Сестрица! — стал вглядываться, и показалось ему, что в одном месте снег как будто гуще идёт, закрутился вихрь и сложился в обнажённую снеговую женскую фигурку… Снегурка метнулась к костру, скакнула через него — и снежные брызги ударили Ване в лицо. Он утёрся, как от слёз.
— Вот и отозвалась, — сказал Большак и, мельком глянув на Ваню, пошёл к Соловейке, похлопал его по плечу: — Ладно тебе, парень… Одежонку вон навкину надо бы унести, пока вьюгой не занесло…
Соловейко молча встал, — снег посыпался с него, — сгрёб Алёнкину одежду с обувью, уже припорошенные, и не оглядываясь пошёл к лесу. Раздалось тревожное ржание — стреноженная Лыска попрыгала в его сторону. Соловейко вернулся, размотал лошади ноги, взял за повод и повёл за собой.
— Живей возвращайся‑то! — крикнул Большак ему вслед.
Из леса донеслось:
— Может, живо вернусь, а может, и не живо…
Помолчали. Шишок спросил:
— Не легко найти в лесу одёжу‑то?
— Трудно, — согласился Большак. — Сколь лет гардероб себе подбирали…
— А где же шкаф ваш одёжный али там сундук?
— Дупло летом нашли, там и держим всё, — отвечал Большак.
— А что ж старуха‑то не снабдила вас какой‑никакой одежонкой?
— Да… — начал было Большак и вдруг смолк, сквозь него стало видать лес, снег пошёл сквозь Большака… И вот — упала к ногам Шишка Большакова одежда: солдатские штаны–галифе да футболка, накрыв сапог с кедой — обувь парня. Переглянулись. Шишок покачал головой. Ваня подобрал одежду и, свернув, сложил на обувь. Вдруг Шишок кинулся к тряпичной куче и, разворошив, принялся шариться в карманах… Ваня крикнул: «Не смей!» — «Мел‑то тут, небось, хозяин, — бормотал Шишок. — Счас он без рук, нечем держать мелок–от… Нужон ведь нам этот мел… Куда мы без него…» Шишок вытащил кусок мела, протянул Ване, мальчик взял, — обычный школьный мел, сколько раз он таким на доске писал, — подержал в руке и сунул на место, в карман солдатских штанов. «Им нужней…» — сказал Ваня и сложил тряпьё да кирзовый сапог с кедой в котомку. Шишок посмотрел–посмотрел, потом повесил голову.
А Перкун внимательным птичьим взглядом глядел в сторону, противоположную той, куда ушёл Соловейко, потом молча ткнул туда лапищей. Ваня с Шишком обернули головы и сквозь буран увидели: из леса выметнулась какая‑то фигура… Неужто Алёнушка! — обрадовался Ваня, наверно, взлезла на дерево и опять очертила свои голые подошвы… Соловейко ей мел дал… Но чем ближе придвигалась скользящая заснеженная фигура, тем более непохожей становилась она на Алёнку: уж больно широкая да приземистая…
И вот из снега выметнулась… жаба Марковна, четвёртая из сестёр… Шла старуха не пешочком, ехала на лыжах, палками отталкивалась, за ней тянулось целых два следа — одинаковые вмятые в снегу дорожки. Замотана старуха в большущую оренбургскую шаль, концы — наискось по груди, внахлёст один на другой и сзади на спине узлом завязаны.
Утёрлась старуха от пота, отпыхалась, а глаза так и поблёскивают, как у молоденькой…
— Что ж, Ульяна Марковна, чай кого другого ожидала увидать у огонька? — спрашивает Шишок и кивает на опустевший пень: — Садись, что ли, в ногах правды нет, хоть они у тебя и не простые — лыжные…
Старуха, охая, попыталась нагнуться, чтоб развязать крепления на лыжах — нет, не выходит, глянула на Ваню:
— Поможешь–нет бабушке?..
Ваня, присев на корточки, освободил старухины ноги в подшитых валенках от лыж. Повитуха, как куль, повалилась на пенёк. Растеребила узел на спине, развязала шаль, — так что концы повисли до белой земли, — освободила взопревшую шею.
Шишок вскочил тут с места и, потренькивая на балалайке да подвывая, как Ярчук, исполнил стих–предсказание:
Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя; То, как зверь, она завоет, То заплачет, как дитя…Глаза его разгорелись, а может, то отблески костра в них играли, с ходу он накинулся на обомлевшую повитуху:
— Ах ты, жаба болотная, стерва ты степная, падаль дворовая, ты почто на хозяина моего навяков натравила, отвечай? — И, выхватив из костра головешку, затряс ею перед самым носом прижухшей старушонки. Запахло палёным — это загорелась шерсть на ладошке домовика.
— Ой, не надо, не надо, ой, боюсь, боюсь, боюсь, — запищала повитуха девичьим голоском, прикрываясь раздутыми ладонями. — Ой, всё скажу, ой, не трогай мои глазыньки…
— Глазыньки у ей, — проворчал Шишок, опуская головешку. — А у навки — так не глазыньки… Ты, жаба, своими жабьими ручками порешила Валькиных детушек?
И тут Ваня опять увидел, что снег в одном месте пошёл гуще и завились снежинки в нежную девичью фигурку, а рядом завихрилась ещё одна снежная фигура — мужская… Склонились они, вроде прислушиваются, слово боятся упустить…
— Ой, не я, не я, не я, Шишок… Анфиска это…
— Врёшь, карга! — замахнулся на неё Шишок головешкой.
— Ой, я, я, я, Шишок…
— И на Вальку навьё натравила, лярва… Ну‑ка рассказывай, старая хрычовка, всё с самого началу… Всю правду правдинскую.
Марковна понагнулась книзу, спрятала лицо в руках — толстые плечи трясутся, плачет. Тут повитуха подняла лицо, между растопыренных пальцев глаз поблёскивает… Убрала руки — смеётся заливается, вся колышется, ажно щёки трясутся… Ваня опешил. Вдруг смеяться перестала, закугыкала:
— Правду правдинскую, значит, тебе, Шишок, подавай?! А ведь расскажу… Смотри только, как бы не обжечься той правдой‑то…
Старуха деловито воткнула в снег лыжные палки и продолжила:
— Как бросил меня прежний‑то твой хозяин, Серафим Петрович, на ведьму Василиску променял, решила я, — только что из петли меня вынули и воздуху я глотнула, — что не бывать роду Житных на земле… Так‑таки и поклялась себе… И жизнь на это положила — и свою, и чужие… Вот тебе и вся правда.
Тут снежные фигуры метнулись к старухе, завихрились вкруг неё, облепили — повитуха стала от снега отмахиваться, отплёвываться, закашлялась… Прокашлявшись, продолжала:
— Как глянулся мне Серафим‑то, попросила я Анфиску сделать приворотное зелье… Все трое они были мастерицы на этот счёт, да и другое многое умели. Василиска — та, конечно, первейшая из них, даром что самая молодая. Анфиса помогла — завидовала всегда сестре, что та понимает в волховском деле больше неё. Вместе делали приворот — уж такая гадость… Подпоила парня… И так уж я ему полюбилась, так полюбилась — думала, на всю жизнь! Да ведьма эта Василиска и перебеги дорогу. Клялась божилась потом, что ничего‑де не делала, чтоб переманить Серафима, сам‑де он… Так я ей и поверила! Ведьма она — вот и сделала сильнейший против нашего с Анфиской приворот. Анфиса‑то против неё — что! Вошка. Знала я, что не смогу с Василиской открыто соперничать, куды мне!.. Решила затаиться до поры до времени…
Снежные буруны закружились вокруг костра, два буранных человека заметались, бросая пригоршни снега повитухе в лицо, языки пламени понагнулись в сторону старухи, того гляди, буран погасит костёр… Вдруг где‑то вдали раздался слабый звук выстрела. Прислушались… Перкун просипел: «Кого‑то подстрелили?..» — «Эхо», — пробормотал Шишок. Тут к одному концу развязанной повитухиной шали подобрался лихой язычок пламени, — она ничего не замечала, прислушиваясь, — и вот лизнул огонёк шерсть… Вспыхнул угол серого платка, загорелся… Ваня подскочил — и сдёрнул шаль со старухи, горящий конец в снег затолкал. Опять запахло палёным… Ульяна Марковна ни спасиба, ни полспасиба, выдернула шаль из Ваниных рук, опять на голову накинула; конец жжёный оторвала и бросила в костёр, завязала платок сзади на шее. И вновь загуторила:
— Выстрелы ни к чему слушать… Войну пропущу… не об том у нас речь… Речь у нас нынче о последней дочке Серафиминой — вот, значит, и буду про неё. Приезжала она к тётеньке Анфисе на каникулы, а жила‑то больше у меня… Каждый год Анфиса племянницу в гости зазывала по моей просьбе, а та, чуть объявится — и ко мне! И матушке не сказывала, что у другой вовсе тётки каникулы проводит… Очень я её просила не сказывать, она и слушалась. Любила она меня… Лаской я брала, со мной и поговорить можно, и посоветоваться, не то что с родной матушкой. А Василиса отпускала, вишь, провидица‑то провидица, а не чуяла… Знала бы — ни в жизнь не отпустила! Да и родная тётенька частенько сюда захаживала, Анфисушка‑то… Знаю, Шишок, больно люба она тебе была… Да ты ей только в смех был! Уж не обижайся… Вместе мы племяннице‑то нашёптывали: уж такая де она у нас раскрасавица, и голосок‑то у ей райский, и красота‑то ангельская, и всё‑то у ей будет самое–самое, не такое, как у всех прочих людей… А чуть подросла наша красавица — и на–ко: дятятко в пузе завелось! Северным ветром, видать, надуло! Вот мы тут с родной тётенькой‑то в два голоса да в оба уха стали ей петь: куда тебе детей плодить, молодая ещё, всю жизнь себе поломаешь… А голосок‑то ведь у тебя райский, а красота‑то ангельская… Ну куда‑де в молодые твои, юные годы с этаким грузом… Все дороги ведь разом закроются. Останется одна печка… Ну и… уломали. Избавила я племянницу от первенца. В отчем дому Василисы Гордеевны дело было… Вот на этом самом месте, где мы сидим… Но вскорости вторая детушка завелась у нашей красавицы — теперь, видать, Западный ветер постарался… И эту я тем же манером, что первого… Потом‑то умнее стала ангелица наша, но и в третий раз, вишь, не убереглась… Это, я так думаю, проделки Южного ветра оказались… Вот вам и все три!
Совсем взъярились снежные духи: завыли, заплакали, — вихрем весь снег с земли в воздух вскинуло… Ваня поднял воротник и прижмурился… А повитуха сквозь буран закричала:
— А вот как на свет Ваня Житный успел проскочить?! Не сказывала мне про него наша красавица… Сокрыла! Простодырая‑то простодырая[88], а вишь! Матушкина змеиная кровь… И знать я ничего не знала про живого Житного до августа‑то месяца, пока вы в ворота ко мне не постучались да ночевать не попросились!.. Уж, конечно, пошла я тогда к навью, сами ноги–те понесли! А навьё это опять же через Василисин колдовской мел в людской мир входить научилось… Дюже я боялась навяков этих спервоначалу, даже в Теряево перебралась со страху. А после приручила — хлеб бы у меня с руки ели, ежели б давала им хлебушек–от… Всё они ту мечтали подстеречь да расквитаться с ей. Только кишка у них оказалась тонка. Слабая порода, одно слово — Житные… Хоть и навяки.
Старуха выставила перед собой вздутые ладони, повертела ими туда да сюда, будто осматривала, и пропищала:
— Никого из рождённых душ я не трогала, так что руки у меня чистенькие…
— Чистенькие они у тебя! — заорал Шишок, долгое время себя сдерживавший. — Сколько душ сгубила, лярва… Навяцкими руками хотела с моим хозяином расправиться, да не вышло! И с Валькой тоже не получилось!
— Так ведь ещё не вечер! — ухмыльнулась старушка. — Слушаются меня навяки‑то, как мать родную… Уж так‑то любят…
Тут снегурка со снежным парнем взметнулись в воздух, мелькнули в буране, завихрились ближе к лесу, ещё ближе — и пропали с глаз…
Шишок же, схватив валежину, на которой троица до тех пор сидела, — так что Перкун с квохтаньем в воздух взлетел на три метра, а Ваня кубарем в снег покатился, — размахнулся, чтоб опустить её на голову повитухи… Но та успела отвалиться в сторону и, сжавшись в клубок, запричитала:
— Ой, Шишок, Шишок, Шишок… Ой, не все ещё сказала…
Шишок опустил валежину к своим мохнатым ногам:
— Чего ещё? Ну, договаривай, карга!
Старуха села, отряхнулась от снега и, опустив голову, тихо, так что сквозь вой вьюги едва слова её долетали, заговорила:
— Никому допреж[89] того не сказывала про позор свой… Даже Анфиса не знает. Ой, какой позор! Ведь не порожняя я была, когда в петельку‑то полезла… Не от хорошей жизни, Шишок… Хозяин твой прежний Серафим Петрович постарался… Да и отказался потом. Вот как отозвалось‑то после с доченькой евойной!.. А как вынули меня из петли — оказалось, что заглохло во мне дитятко, увяло. После во–он в том месте, под порожком конюшни ямку вырыла да закопала его, мальчика моего… Шестьдесят лет бы уж было в нынешнем году‑то— дедушка бы был… Тоже ведь Житный.
Шишок так зачесал примятую снегом голову, что всего Ваню обрызгал снежной влагой — Ваня опять утёрся. Бросил Шишок валежину наземь, так что снежный дым пошёл, и сказал:
— Пошли, хозяин… Перо, полетели… Чего нам тут рассиживаться…
Ваня поправил лямки котомки, Шишок надел через плечо потемневшую от снега балалайку, Перкун закудахтал по–своему — и пошли.
Повитуха так и осталась сидеть, ровно болотная кочка.
Глава 29. Мальчик на распутье
Буран стал стихать. Снег, посланный чьей‑то скупой рукой, пошёл реденький. А потом и вовсе прекратился. Даже солнышко проглянуло. Правда, тут же и пропало…
Ваня, опередив Шишка, шёл по едва заметным, заметённым снегом следам мальчика и лошади. Он твёрдо решил отдать Большакову одежду со всем, что в ней находится, Соловейке. А если тот так же, как его брат с сестрой, обратился уже в снежного духа, тогда надо по следам дойти до дерева, в дупле которого навьё держит свои жизненные припасы, и положить одежду туда.
Так и двигались по следу маленькой ноги в калоше и огромного мужского башмака, а рядом тянулись вмятины лошадиных копыт.
Долгонько шли… И вот следы шести ног привели к толстому корявому стволу могучего дерева — и оборвались тут… Ни лошади, ни Соловейки… Ваня задрал голову к раскидистой заснеженной вершине — и обомлел: неужто… Поглядел на Шишка, у того затылок прямо на спине лежал… «Святодуб Земелькович?» — прошептал полувопросительно Ваня. Шишок башкой затряс утвердительно, дескать, он это, он, даже не сомневайся, хозяин. Ваня тогда поклонился в пояс родительскому дереву, как учила его бабушка Василиса Гордеевна, и поздоровался. «Не слышит он тебя», — почему‑то шёпотом сказал Шишок. Ваня вопросительно кивнул, дескать, почему не слышит. «Спит, — отвечал на немой вопрос домовик, — зима ведь, все добрые домовики, лешаки, звери да деревья спят… Один я бессонный да неприкаянный…» Видать, так‑то Шишку жалко себя стало — все щёки слезами обмочил, а может, это опять были снежные слёзы… «А весной проснётся?» — с сомнением спросил мальчик. — «А как же!» — воскликнул Шишок.
Перкун тут взлетел на нижний сук и закукарекал — до того звонко и радостно, ровно обыкновенный деревенский петух. А Ваня на дуб полез — руки сами находили, за что ухватиться, ноги не вскальзывали, хотя всюду снег лежал; лез Ваня да лез, помнил ещё дорогу к дуплу. Потрогал себя за голову — а на голове‑то чёрная вязаная шапка с дубовым листком, Святодубова. Нет сейчас на дубе ни листочка, а на шапке лист зеленеет… Ничего, авось, когда весна придёт — народятся листья на дубе, Шишок вон нисколечко не сомневается…
Долез Ваня до дупла, сунул туда руку — нащупал материю, видать, Алёнкина одежонка, глядеть не стал; снял с себя котомку и по очереди стал класть в дупло Большаковы штаны, майку, обувь. Рука в дупле обо что‑то ударилась — Ваня нащупал котёл, ещё там что‑то лежало, не стал он проверять, что это, лезть в чужую нежизнь…
Когда соскочил в снег, Шишок только вздохнул, видать, всё жалел о мелке, лежащем в кармане Большаковых штанов.
Хотели уж уходить, но тут Перкун обнаружил следы по ту сторону дуба — и лошади, и Соловейки… Ване хотелось ещё раз Алёнушку увидать, хоть попрощаться с ней по–человечески, он и двинулся по следам, казалось ему, что Соловейко к сестре должен привести… Или она объявится там же, где брат… Да и не боялся он больше мальчишку — чувствовал, что отстал от него навяк. Потрогал ворот своей нижней рубахи из мешковины, нащупал ладонку — всё на месте.
Шишок же говорил:
— Эх, врала эта Ульяна Марковна насчет Анфисы‑то Гордеевны… Анфиска, конечно, не подарочек — но не стала бы так с родной племянницей… Своя ведь кровь!
Перкун же сказал назидательно:
— Рысь, Шишок, пестра снаружи, а человек изнутри.
Шишковы же слова, вспомнил Ваня.
— Не–ет, — не соглашался домовик, — уверен, Анфиса тут ни сном ни духом. Зря она, конечно, отпускала племянницу к этой злыдне… Но чтоб уговаривать Вальку невинных детушек прикончить — не могла этого Анфиса Гордеевна, хоть вы режьте меня, нет, не могла!
И тут слабенькие мальчишечьи следы, которые вели их, вдруг кончились. След Лыски и дальше идёт среди деревьев, а Соловейкины следы пропали. Но ведь не лежит в снегу одежонка Соловейкина…
— На лошадь сел, — указал домовик. — Вишь, две ноги вбок стали промеж двух пар копыт — а потом и нет их… Верхами поехал…
Пошли дальше, куда Лыскины подкованные ноги приведут. И вдруг много следов лошадиных копыт обнаружилось — вроде топталась она на месте, а и Соловейкины следы вновь появились: соскочил он тут с лошади и стоял за деревом. Прятался? А из‑за дерева видать всё ту же Бурановскую поляну, к ней они вышли, только с другого конца. И снег на поляне валит хлопьями… Что за диво! Тут, на краю леса, где они стоят, снега совсем нет, а там опять, похоже, буран… Другая совсем погода. И Соловейкины следы дальше идут. Лыскины же как‑то стороной проходят, по краю поля.
Сквозь заметь[90] видать — костёр уж догорел. Старухи нет… А лыжи почему‑то так и стоят возле чёрных головешек, и палки в снег воткнуты. Вроде ждут хозяйку… Где же она? Так, без лыж ушла?
Шишок цапнул Ваню за рукав, дескать, вернёмся, но Ваня выдернул руку — и пошёл вперёд по следам, а спутники, делать нечего, за ним… И вдруг видит Ваня: на белейшем снегу сереет комок Соловейкиной рубашки… Остановился: из‑под мешкотной рубахи, — точно такая же надета на Ванином теле, — торчит носок ботинка… Значит, и Соловейко исчез вслед за братом и сестрой… Только следы мальчишеской калоши и мужского ботинка ведут к одежде не отсюда, из леса, а с той стороны поляны… Вернее, виднеются две пары Соловейкиных следов: одни туда уходят, в буран, а другие оттуда. И вот те‑то, вторые, встречные, резко оборвались, слетела с бестелесного рубаха — и упала в снег. Но откуда шёл Соловейко?.. Почему‑то этот вопрос страшно занимает Ваню.
И вдруг он видит нечто странное: в одном месте в снежной замети — огромная прямоугольная прореха… Кругом снег — и вдруг прямоугольник пустоты… И в этой пустоте, похожей на очертания какого‑то забытого строения, стоит белая лошадь… Ровно в стойле… Конюшня на краю поляны? Снег резко огибает давно снесённое строение, конюшню без крыши и без стен… И что‑то там чернеется внутри, не одна там Лыска — в этой конюшне… Что же это? Пригляделся Ваня и увидел сквозь вьюгу, что в конюшне, на балке, — откуда балка‑то? — кто‑то висит… Повитуха! Серая шаль упала на плечи, конец свесился до земли и качается на ветру… Смигнул Ваня — и нет никакой конюшни, на крайней лесной осине висит старуха. Ох, знает он, на чьей верёвке она висит… Рядом — белая лошадь… Фр–р–р… И тут Шишок резко дёрнул его за руку:
— Пошли, хозяин…
И Ваня отвернулся.
— Говорил, не надо сюда возвращаться… — бормочет Шишок, вглядываясь в Ванино закаменевшее лицо.
Повернули к лесу. И вдруг раздалось ржание — Ваня против воли обернулся и увидел: стоит у комка Соловейкиной одежды лошадь и призывно ржёт. Прихватила губами сермяжную рубашку, потом отпустила, подняла голову — и опять заржала… Как будто жеребёнка зовёт…
Шишок опять дёрнул его за руку — и больше Ваня не оборачивался. Так и ушли с Бурановской поляны. На этот раз домовик не стал осматривать Соловейкины заплаты, чтоб мел найти…
Старой тропой шли, Шишок говорил, что вот–вот на дорогу выйдут, а после — пойдут потихоньку и дотемна ещё придут к путям, к станции, и–и скорёхонько домой, на печку.
Ваня молчал.
— Ну что ж теперь делать — на нет и суда нет!.. Придётся вертаться без мела… Да что‑нибудь придумаем: Бог не выдаст, свинья не съест.
Ваня молчал.
— Скорей бы уж дойти, пока не стемнело, а то куриная слепота‑то моя не дремлет, — беспокоился Перкун, — шагу надо прибавить…
Ваня молчал.
И вдруг остановился, споткнувшись: налетел на засыпанный снегом камень… Огляделся: камень стоит возле огромной, побелённой снегом ели, темно-зелёные вислые ветви проглядывают сквозь белизну… Ваня смёл снеговую верхушку с камня и увидел, что походит он на голову обернувшегося коня. И тут Ваня понял, где находится… Все детали разрезанной на куски картины наконец восстановились — и она полностью встала перед ним. Этот камень спас его, вернув их с бабушкой Василисой Гордеевной домой, на 3–ю Земледельческую улицу, когда лесная лихоманка пристала к нему… Сюда‑то, на Бурановскую поляну, и ходили они с бабушкой за плакун–травой… И поляна эта, выходит, — и есть то обидящее место, где пролилась невинная кровушка… Значит, бабушка знала, какое это место!.. А теперь там, на осиновом суку, висит эта старуха…
Ваня сел тут на камень — и завеньгал, не хуже плакун–травы… А–а да а–а, никак не может остановиться… А товарищи стоят над ним, не знают, что делать…
— Хозяин, да хозяин же, — бормочет Шишок, — кончай слёзы лить… Не весна ведь ещё — ручьи‑то тёплые побегут, спутают полесовых… Пробудишь ведь травы, потянутся к солнышку, а солнышка‑то и нет! А соки в корнях почуяв, и лешаки зачнут просыпаться… Как выпрыгнут, как выскочат из‑под земли! Аль ещё подарка захотелось от Березайки‑то, а, хозяин?..
Ваня сквозь слёзы улыбнулся. Рукой он опирался о камень — и надавил ладонь, больно стало, поглядел — а на ладони буква отпечаталась: Н. Что такое? Это на камне слова вырезаны. Вот ещё буква — Т. А что за слова? Почему слова? Соскочил с камня и принялся снег из прорезей буквенных вычищать… «Что там такое?» — спрашивает с беспокойством Шишок, заглядывая через плечо. И Перкун курью морду высунул. А Ваня с замиранием сердца разбирает каменные слова… Где в прорези еловые иглы набились, выковыривает иголки, ладошками ощупывает буквы, пытаясь понять… Шишок говорит: «Не надо бы читать‑то! Шли бы лучше…» Но Ваня упёрся — читает… И прочитал ведь!.. По левую сторону камня, на гриве каменного коня, зарытого по шею в землю, выбито: «Налево пойти — себя найти». Посредине, на лбу, между каменных наростов–ушей: «Прямо пойти — всё потерять». И около каменного рта, с правой стороны: «Направо пойти — новый град найти».
— Вот те и на! — Шишок тоже прочитал надписи и стал чесать башку. — Теперь придётся дорогу выбирать… Прочёл каменны слова — всё–о…
— А куда лучше пойти, Шишок? — спрашивает Ваня.
— Кто ж его знает! — вздыхает домовик.
А Перкун говорит:
— Я подобный камень видел на Воробьёвых горах… Только я назад ведь вернулся…
— Втом‑то и дело! — воскликнул Шишок. — А нам назад никак нельзя — не та это дорога… Выбирай, хозяин!
Новый град найти — конечно, хорошее дело… Но ведь неизвестно, сколь опять проходишь, чтоб найти этот новый град. Снова — в путь!?. Нет уж! Себя найти — вот это будет лучше…
Налево пойти — себя найти…
Ваня обошёл камень слева, и по сугробам, проваливаясь в своих больничных ботинках по колено, потопал куда‑то, пытаясь найти тропу среди нависших со всех сторон еловых веток. Шишок с Перкуном — шли за ним. Потом Шишок выскочил вперёд, и, поплутав совсем немного среди деревьев, оказались на проезжей дороге.
Пришли на станцию — ещё и не смеркалось. «40–й километр», — прочитал Ваня название из бетонных букв. Шишок подбежал к окошечку станционной кассы и что-то стал говорить кассирше — и пальцем в лес тыкать… Кассирша взвизгнула, принялась звонить по телефону… Ваня отвернулся.
Как раз пришла электричка — запрыгнули в вагон, а кассирша выскочила из своей будки и замахала рукой, к себе их подгребая, дескать, останьтесь… Ваня понял так, что кассирша позвонила куда надо насчёт старухи, и там велели свидетелям, или кто они есть, задержаться. Шишок тоже махал кассирше — только в её сторону, отмахивался, дескать, прощевай, голубушка. Пройдя насквозь несколько вагонов, нашли пустую скамейку — и уселись. Перкун — у окна, и сразу голову повесил, задремал. За окнами темнело, а в вагоне свет горел, так что кроме себя в окне ничего было не видать. Молчали всю дорогу до города. Что тут говорить — возвращались с пустыми руками… Такой‑то путь проделали — и всё зря.
— А мелок‑то наш, — сказал Шишок, когда уже подъезжали к вокзалу, — лежит себе да полёживает в карманах у этих навяков…
— Нельзя его было брать, — твёрдо сказал Ваня.
— Да знаю, — вздохнул Шишок, — греха потом не оберёшься… Пусть их…
Выскочили на платформу, Ваня увидел нескольких милиционеров — встречали электричку, и уж, конечно, не безбилетников ловили… Кивнул Шишку, тот только рукой махнул, дескать, пошли скорее. Пришли к трамвайной остановке. Фонари горели через один, — их‑то город не Москва, иллюминации мало, — не видевшего в темноте Перкуна пришлось взять с двух сторон под крылья.
Ехали в трамвае опять молча, остановился вагон — а остановка как раз против пустыря. Не разросся ли пустырь‑то?.. Стоит ли ещё изба?..
Выскочили из трамвая, а вон и родная улица, самая тёмная. Крайние избы живы, и табличка вон на углу, на глухой бревенчатой стене надпись «3–я Земледельческая». А что там дальше… Входили в улицу с замиранием сердца…
Поглядели: на месте избы! Одна, другая, третья — стоят и слева, и справа… И липы с осинами на своих местах, понакрылись снегом‑то… А вот и колодец… И вон — шаг, другой, третий — их изба! Горит свет в окошках! Что‑то там бабушка Василиса Гордеевна поделывает, небось, не думает, не гадает, что они к дому подходят… И вот уже — ворота…
Рука потянулась к щеколде. Переступил Ваня на дощатый настил во дворе, перед ступеньками побил ногой об ногу, отряхивая ботинки от снега, поднялся вверх, толкнул дверь в тёмные сени — милый запах дома — натолкнулся на двери, дёрнул на себя, перешагнул высокий порог… Из закутка, из кухни бабушка Василиса Гордеевна выметнулась, хлопает себя по бокам, а руки‑то — в муке, потом бросилась к Ване — обняла. Оттолкнёт да опять поглядит — он ли, нет ли… Прижала к себе крепко–накрепко, Ваня спрятал голову на тёплой бабушкиной груди.
— Эх, баньки у меня сегодня нет! — вздыхает бабушка. — Да ничего, завтра — обязательно истоплю. Напарю с веничком‑то…
Ваня всему рад.
— А как Мекеша, — спрашивает, — живой?
— Да чего ему сделается!..
Засуетилась бабушка, побежала пирог в печь ставить да скорей на стол собирать, радовалась, что пироги затеяла, как ведь чувствовала! Даже открытый, малиновый состряпала, Ванин любимый.
Ваня сидел на кухне, раскачивался на табуретке и, как кот, жмурился. Пахло поспевающим пирогом… Эх, хорошо дома‑то!.. Шишок на второй табуретке сидел. А Василиса Гордеевна, достав пирог, разрезая его на куски, говорила:
— Уж как я себя ругала–проюшнала — отправила вас, а вовсе зря… Не будут ведь нас сносить, робятушки! Поменялись генеральски планы — не на что теперь строить мокры бассейны да прочую чушь… Кончились деньги у начальсгва‑то городского, аль разворовали… Говорят ещё, и в стране все деньги кончали… Даром что обобрали народ!.. Остаёмся мы, значит, на своём месте. Постоит ещё изба! Не знаю, сколь — но постоим ещё… Вот так‑то, Шишок!
— Эх, Василиса Гордеевна, дорогуша ты моя! — вскочил тут Шишок со своего места, весь расплывшись в улыбке, подпрыгнул, да и поцеловал бабушку — в нос! Видать, в щёку хотел— да промазал!
Василиса Гордеевна засмеялась, стала отмахиваться:
— Ну тя совсем к лешему!
— К лешему не пойду, побывал уж! — смеётся Шишок, подмаргивая Ване. — Разве только на другой год! Домой пойду, спать… — и тычет пальцем в пол…
А Ваня вдруг замечает, что Перкуна с ними нет… Вот те раз! Потеряли петуха по дороге! В трамвае ехали — был, по улице шли — был, в ворота входили… — а вот тут Ваня уже не помнит, был ли, нет ли… Про всё забыл. Небось, тычется там, слепенький, в тёмной улице, на чужие заборы натыкается… Подскочил Ваня:
— Где Перкун‑то?
— Дак, — замялся Шишок, — на месте…
— На каком ещё месте? — удивляется Ваня и, вспомнив про солнечную реку, петушиную родину, падает обратно на табуретку: — На Кукуй–реке?!
— На какой ещё реке! На своём он месте, на коньке крыши. Разве ж ты не видал никогда, хозяин, у нас там петушок вырезан?.. Оставалась изба без петушка, пока бродяжили‑то. А теперь он на место взлетел…
Ваня вскочил — хотел поглядеть петушка, неужто деревянным стал живой, огромный, золотой петушок?.. Но Шишок его отговорил, дескать, в темноте всё равно не разглядеть, утром уж посмотришь.
Ваня пригорюнился. Вот так всё и кончается… Разбредутся теперь все по своим местам: Перкуна уже нет, вон и Шишок в подполье метит. И останутся они вдвоём с бабушкой!.. Хорошо, конечно, что не снесут их… Обошлись и без волшебного мела… Василиса Гордеевна даже спрашивать не стала про мел, видать, почуяла, что не отыскали они его…
— А когда ты просыпаешься, Шишок? — спрашивает Ваня.
— Известно когда — весной.
— А наружу‑то вылезешь? Грозился, что больше носа не покажешь… Увижу я тебя еще, нет?
— Живы будем — свидимся, хозяин, — отвечает домовик. — Куда я без тебя! Да и куда ты без меня!
Глаза у Вани слипаются — спать хочется, просто мочи нет…
А бабушка Василиса Гордеевна уже готовит Ване постель.
— Только ты дождись утра, Шишок, не уходи без меня… — бормочет Ваня.
— Дождусь, как не дождусь, обязательно дождусь! Иди уж спи…
Полез он к себе на полати, печка тёплая — хорошо. Бабушка снизу напутствует:
— Доброй вам ночи, хорошего сна, желаю увидеть душного козла!
— И тебе, бабань, того же… — сквозь подступающий сон бормочет Ваня.
И засыпает…
«Валентина!..» Проснулся — оттого что слово в голову ударило. Кто это мамку поминает?!. Прислушался — и услышал приглушённые голоса. Один низкий — Шишков: бу–бу–бу, другой скрипучий — бабушкин. Беседуют, значит, на кухне. Небось, Шишок рассказывает про путешествие… Ваня успокаивается — и опять готов уснуть… совсем почти засыпает… Но тут вновь бабушка Василиса Гордеевна вступает, и Ване сквозь сон удаётся расслышать:
— Была ведь она у меня сегодня, Шишок…
— Кто? Валентина?!
Сна ни в одном глазу.
— Валька. Прилетела, как стрела, на самолёте… Один день, дескать, побуду — и в заграницу! Тьфу ведь! И чего они все в этой загранице проклятой нашли?! Мёдом, там, что ли, намазано? Незадолго перед вами умоталась в заграницу свою…
— А… зачем прилетала?
— Вот зачем! Матери выговорить ведь надо… Помудрить над ей…
— Чего выговорить?
— А того… Гуторит, обманула тебя, а ты и поверила… Дескать, никудышная ты ведунья…
— Обманула?! — недоумевает Шишок. — Валька тебя обманула?! А в чём?
Василиса Гордеевна тут совсем голос понизила, Ваня напряг слух и всё же услышал:
— С малым‑то…
— С каким малым?
— Да с хозяином твоим, с Ваней…
— И… чего с моим хозяином?
— А того… Написала мне Валька как‑то, что родила сына, да на вокзале оставила, назло вроде мне… В Ужге она тогда была, у свояка… И вот, дескать, я, дура, потащилась в Ужгу… Я ведь в газетке прочитала про Ваню‑то, дескать, живёт в больнице сирота, Житный по фамилии… А мальчишко‑то вовсе не ейный сын…
— Как… не ейный? А чей же?
— А кто ж его знат, Шишок, чей он… Не было у Вальки никогда сына и нет. И, думаю, никогда уж не будет: ни сына, ни дочери. И ведь ни минуты я ей не верила, Шишок! А всё ж таки поехала в эту Ужгу. Уж больно хотелось мне, чтоб род наш продлился, чтоб был у меня внук… Как увидела его — всё во мне оборвалось: до того страшной робёнок, тощий, бледной… Краше в гроб кладут… Взяла. Хоть и не наш — а всё ведь Житный… Жалко! Отдали и покрывалко мне, в котором он закручен был, и записку материнскую, где написано, никуда, мол, не девайте малого, вернусь за ним. Не Валькин вовсе почерк–от…
Молчали: и там на кухне, и Ваня на полатях…
— А всё ж таки, что ты ни говори, Василиса Гордеевна, а это — мой хозяин! — раздался наконец отчаянный голос Шишка.
— Конечно, твой! Я рази против… Твой хозяин и мой внук — и никому я его, Шишок, не отдам! Житный он — и конец всем разговорам!
Прямо пойти — всё потерять
Ваня долго смотрел на каменные слова, никак не решаясь выбрать направление… На душе было пусто.
— А вот если прямо идти, — обернулся он к товарищам, стоявшим за спиной и ждавшим, что он выберет, — прямо ведь — ствол еловый… Вроде некуда?!
— И впрямь! — воскликнул Шишок.
Ель была древняя — немного, может, моложе камня. Видимо, шло у них одно время соревнование, кто кого одолеет… Шатровая ель, разрастаясь, корнями старалась выворотить глубоко засевший камень из земли, а стволом отпялить его подальше от себя… По камню даже трещины пошли. Но после враги, скорее всего, примирились — поняли, что никто не сможет одолеть. Ствол врос в камень, а камень охватил ствол дугой. Ветвистая ель, как гигантские рога, росла из конской головы. Попробуй выкорчевать камень — и ель обрушится, попробуй срубить ель — и не сможешь, конь–камень ей защита.
И вот, что бы там ни было написано на камне, но прямо‑то ведь некуда — широкий еловый ствол преграждает путь!
— А ты прямо, что ль, хочешь идти, хозяин? — спрашивает Шишок. — И всё потерять?!
Ваня машет на него рукой, дескать, отстань. У него было такое чувство, что он и так уже всё потерял… И терять ему больше нечего… Мальчик коленками стал на камень, лицом к еловому стволу, и вдруг из горла сами собой полились слова:
— На море на окияне, на острове на Буяне лежит бел–горюч камень алатырь. На том камне сидят три девицы, все они сестрицы. Перва иголку держит, втора ниточку продевает, а третья сестрица кровавую рану зашивает, — говорил он не свои слова и не своим голосом, а чьим же? — Заря–заряница, младшая сестрица, сними с моего сердца горе горючее, тоску тоскучую, с белых костей, с жёлтых мозгов, из жил, из суставов, с горячей крови. Отнеси их за пустые леса, за быстрые реки, за высокие горы, куда люди не ходят и птицы не летают. — И вдруг понял Ваня, чьи слова выходят из его рта, чьим голосом он говорит — скрипучим голосом бабушки Василисы Гордеевны… — Камень, камень! За камнем семьдесят семь жил, семьдесят семь костей. Встану на камень — кровь за камень!
Ваня и вправду поднялся во весь рост — и по прежнему перед глазами был корявый еловый ствол и мохнатые ветки. И вдруг какой‑то коридор протянулся внутрь ствола, до боли знакомый коридор… Ваня глаза выпучил, обернулся к друзьям, ткнул пальцем в сторону освещённого коридора, призывая их в свидетели чуда. Шишок поймался тут за полу его пальтишки — а Ваню какая‑то неведомая сила втягивала внутрь коридора… Он замахал руками, пытаясь остаться на этой стороне, пытаясь сохранить равновесие, Шишок, вцепившись в пальто, тянул его к себе, орал: «Хозяин, держись!» — но и Шишок был тут бессилен. Втащило Ваню в коридор — он бросил последний взгляд назад и увидел заснеженный лес вдали, и близко Шишка в Цмоковом полушубке, с медалью «За отвагу», прицепленной на пузе, в полосатых пижамных штанах, на лице опять застыло то же идиотское выражение, как тогда, под стенами Белого дома. Домовик стоит с раскрытым ртом и крепко прижимает к груди тряпицу — кусок Ваниного пальтишки. Петух, выглядывая из‑за его плеча, хлопает огненными крыльями и кукарекает — видать, пришло его время… И вдруг — всё пропало: глухая стена позади.
Ваня бросился к стене, — обычная обшарпанная стена, крашенная буро–зелёной краской, вверху плакат: «Берегись энцефалитного клеща!», — застучал кулаками… Нет, не пробить эту стену, не раздвинуть, не войти… Да что же это! Да где это он?! Ваня оборачивается зажмуренным лицом и, приоткрывая глаза, видит, как, вынырнув из‑за угла, идёт по коридору, утыканному дверями, Нюра… Одна из дверей распахивается — из шестой палаты выходит медсестра с капельницей наперевес. Вот Нюра и медсестра встретились… Вот разминулись — медсестра пошла в ординаторскую… Нюра идёт к нему, улыбается… Подошла, спросила: «А чего одетый ходишь? И без тапочек… Грязищи‑то нанёс… Давай–ко живо!..» Ваня глянул мельком в окно — снега не было, почему‑то ему казалось, что должен быть снег… Деревья стояли чёрные, без листьев… Ваня спросил у ней потихоньку: «Нюра, а сейчас осень или, может, весна?» Та только головой покачала: «Эх, Ваня, Ваня, учишься ты, учишься, а толку… Какая же щас весна — октябрь–месяц на дворе…» — «Октябрь и есть! — обрадовался Ваня. — А где я был‑то, Нюра?» — «А где ж тебе быть? В школе был… А после, небось, носился где‑то… Ничё — тоже надо. А то сидишь и сидишь со сказочками своими… Ещё зачитаешься!.. У нас в деревне был один такой‑то, тоже всё читал, читал, а после взял и застрелился». — «Не повесился?» — спросил почему‑то Ваня. «Не–е, отец у его охотник был, у них ружьё на стенке висело». — «А я слышал, как стреляли», — сказал Ваня, силясь вспомнить, где он мог слышать стрельбу. — «Да все слышали, — согласилась Нюра, — в телевизоре» — «А разве починили его?!» — воскликнул Ваня. «А то!.. Не помнишь, что ли… В сентябре ещё…». Ваня схватился за голову: ничего этого он не помнил… Ни про школу, ни про телевизор. Было что‑то совсем–совсем другое…
Ванины ноги сами понесли его в бокс… А Нюра, вслед ему обернувшись, подбежала, заохала: «Пальто‑то, пальто! Смотри–ко чё — всю фалду ведь где‑то оборвал… Собаки, что ли, тя драли?»
Ваня, прихватив сзади пальто, увидел большущую прореху… Где же это он, правда, так пальто‑то порвал?.. Вошёл в свой бокс, сбросил с плеч школьный рюкзак — и увидел, что это не рюкзачок совсем, какая‑то котомка… И лежат в котомке не учебники… Ваня достал фонарик, щёлкнул — работает, компас — здорово! Милицейскую каску — вот тебе и на! вытащил тубус, открыл — там старые карты… Где по–немецки написано, где древней русской азбукой… Вот ведь! Круглую коробочку достал, а внутри — старое–престарое печенье, есть нельзя, одна плесень, небрежно отбросил. Последней вынул Ваня из котомки сосновую ветку без шишек — понюхал, хорошо как пахнет! Медсестра дверь приоткрыла, попросила лекарства разнести по палатам. Ваня быстро сунул свои сокровища в тумбочку. Надо будет на досуге внимательно всё рассмотреть…
Разнёс лекарства и заглянул в соседний бокс. Там Нюра незнакомого ребёнка тетёшкала, нового, значит, подкидыша на карантин привезли. Ребятёнок в линялой байковой рубашонке сидел у санитарки на коленях, а она спрашивала:
— Хозяин дома?
Малыш отвечал:
— Дома.
— Гармонь готова?
— Готова.
— Можно поиграть?
Подкидыш, предвкушая, так и расплылся в улыбке и торопливо закивал. Видать, играл уж с санитаркой в эту игру. Нюра, растопырив пальцы, изображала, будто играет на гармошке, нажимает кнопки у него на боках, причём щекотала почём зря. Ребятёнок заливался хриплым хохотом. Когда‑то Нюра точно так же играла с ним. Хозяин дома? Нет, не дома хозяин… Ваня силился поймать за хвост какое‑то стремительно ускользающее воспоминание — и не мог. Он закрыл дверь чужого бокса и пошёл к себе. Подойдя к окну, поглядел на огни города и прижался лбом к этой хорошо знакомой ночной картинке за стеклом. Достал из тумбочки сосновую ветку, нашёл в горшечной пустую молочную бутылку, налил воды и поставил лесную гостью.
Раздеваясь, чтоб лечь спать, Ваня обнаружил, что на нём надет мешок с прорезями для головы и рук, весь в заплатах, а на шее на тесёмке висит тряпичный мешочек… От мешочка пахло дивно — какой‑то травой… Лежа в кровати, он долго нюхал мешочек… Уже засыпая, тихо произнёс: «Бабаня?» — и провалился в пустой сон.
Направо пойти — новый град найти!
Всё потерять — ему совсем не хотелось… Себя найти — а кто его знает, что это значит?.. Может, такого‑то себя найдёшь — что и не рад будешь!.. Ваня внимательно читал надпись про новый град… Ему хорошо с бабушкой, и никакого нового города ему даром не надо! Хватит с него Москвы. Но уж если приходится выбирать… Ваня обернулся к ожидавшим его решения товарищам… Кивнул им, дескать, пошлите–ко!.. И обогнул камень справа…
Шишок с Перкуном повернули в ту же сторону. Среди деревьев явно просматривалась какая‑то тропа, пошли по ней, Ване показалась эта дорога знакомой. После двух развилок — мальчик по наитию выбирал верный путь — вышли на просеку, и Ваня понял, что именно этой дорогой вела его летом Алёнушка. По просеке направо, а после всё прямо и прямо — и вот он, тракт. Если перейти на ту сторону, можно навестить Анфису Гордеевну… Только они переходить дорогу не стали, а принялись ловить попутку до города, автобус‑то ходит редко, попробуй дождись его…
Помёрзли совсем недолго — остановился «рафик», гружённый какими‑то коробками, водитель распахнул дверцу:
— Вы чего это без родителей на ночь глядя в лесу?!
Ваня глянул на Шишка — тот прикрыл рожу ладонями, а когда отвёл их, у домовика опять оказалось нынешнее Ванино лицо, ровно они братья–близнецы, только Шишок вроде как недомерок.
— Мы к бабушке приехали, в деревню, а изба заперта! — закричал скорый на выдумки Шишок. — В город бы нам, домой…
А шофёр и так кивает:
— Скорее полезайте! Живо домчу!
По дороге спросил:
— А петушок чей будет, бабушкин?
— А то чей же! Бабушку‑то, соседи гуторят, в больницу отправили… Который день петух не кормленный…
Перкун согласно кивнул — действительно, последнее время есть ему доводилось только изредка. Хорошо, водитель внимания не обратил на кивок петуха. Шишок же продолжал:
— Вот в город везём, прямо и не знаем, что родители скажут!..
— А в городе‑то квартира али дом свой? — спрашивает шофёр.
— Свой дом.
— Ну, тогда легче! Этакому‑то красавцу ещё и обрадуются.
Перкун гордо выкатил грудь, но, как и было велено, не проронил ни словечка, чтоб некстати не напугать водителя.
За беседой быстро время прошло. Вот и город. Остановился «рафик[91]» возле соседней улицы, все трое крикнули «спасибо», тут уж и вежливый Перкун не сдержался, поблагодарил — да шофёр не понял, что это петух словесничает, решил, что кто‑то из мальцов два раза поспасибил.
— Бегаем от дому, как черт от грому — разве ж это дело! — говорил Шишок. И услыхали этот самый гром! Что такое! То снег шёл — чистая зима, а теперь весна, что ли, настала?! Погромыхивает. А небо совсем прояснилось, вон и месяц выглянул из‑за тучки, висит кверху рожками, будет, дескать, вёдро.
И тут опять раздалось — г–р–р–ух! Да опять — г–р–р–р–р–ух! Вроде звёзды с неба валятся — такой шум! Переглянулись — и прибавили шагу.
Повернули за угол и увидели: нет крайних изб на своих местах, бревенчатые завалы перегородили 3–ю Земледельческую… Остановились… И вон ползёт железная машина на гусеничном ходу, а на ней, навроде гири на часах, висит шаровая чугунная баба.
Раскачался маятник, страшная баба размахнулась, ударила, снесла мимоходом осинку, — ив щепки разлетелись ворота Коли Лабоды… Ещё раз размахнулась баба — стоял Колин дом, и вот нет его… Только скричал кто‑то внутри… «Неужто постень жил?!» — воскликнул Шишок и схватился за голову. Как ровно игрушечная, повалилась изба, переломанные рёбра–брёвны во все стороны торчат. А их изба напротив ведь стояла… Стоит ещё… Только окошки не горят… «Бабушка!» — закричал Ваня. «Василиса Гордеевна!» — охнул и Шишок. Одна только их изба и осталась по левую сторону улицы, стоит целая, а кругом — руины… И побежали… Но никак прямо по улице не пройти — ноги переломаешь, помчались задами, со стороны пустыря перелезли через забор… И опять: гр–р–р–ух! Соседнюю с Колиной избу рушит железная баба… Бегом по заснеженному огороду, да в калитку, да скорее в дом!
Темно в избе… И тихо… Где же бабушка?.. Ваня щёлкнул выключателем — нет света, достал из котомки фонарик и, услыхав стон, бегом в спальню. Шишок за ним, а ослепший в темноте Перкун на что‑то налетел и ругнулся по–мужицки, точно так же, как домовик.
Свет фонарика осветил бабушку Василису Гордеевну, лежащую на постели с закрытыми глазами.
— Бабаня! — кинулся к ней Ваня. Жива, нет ли… Г–р–р–рух! — раздалось с улицы, и Василиса Гордеевна, открыв глаза, схватилась за грудь:
— Ох, прямо по сердцу бьёт!.. Ох, к нам подбирается!..
А два одинаковых лица и птичья морда склонились над ней, узнала бабушка Василиса Гордеевна посланцев, закричала, протянула руку:
— Мел! Шишок, где мел? Давай скорее…
Шишок только голову повесил:
— Нет мела, Василиса Гордеевна. Не достали мы…
— Э–эх! — опустилась бабушка на постель. — Значит, конец нам пришёл… Сколь могла отводила им глаза от избы, больше не могу… Прямо по сердцу ведь бьёт железна ведьма…
Поглядела тут Василиса Гордеевна на Ваню:
— Тебе, внучок, уходить надо… И Шишка забирай с сотоварищем…
— А ты?! — воскликнул Ваня.
— Я тут останусь…
— Ну, нет! — замотал головой Шишок. — Мы с петухом тоже остаёмся… Куда нам без дому… А ты, хозяин, правда, — спасайся…
— Ещё чего! — крикнул Ваня. — Я с вами!
— Ты, гроза, грозись, а мы друг за друга держись — просипел тут Перкун и ни к селу ни к городу прибавил: — Дом вести — не задом трясти!
Видать, опять на петуха стих напал поговорками говорить. Ваня повернулся вместе с фонариком в его сторону, осветив жёлтый глаз.
— Куда вести? — задал Ваня глупый вопрос.
— Куда!? Хотя бы в Китеж–град… — брякнул в ответ Перкун.
— Ку–уда!? — воскликнули в три голоса Ваня, Шишок и Василиса Гордеевна.
А Перкун тут говорит:
— Я, конечно, не знаю… Но на одной из карт дядьки Водовика указан этот город… Я в Казанском вокзале, после того как домовики‑то разодрались да дрыхли без задних ног, утром встал с петухами и от нечего делать изучал карты, там ведь не только немецкие карты были, а и наши, старинные…
— Помню, — сказал Ваня, он ещё наутро хотел спросить, что петух такого интересного нашёл в этих картах, да забыл, столько всего на них потом навалилось…
А Шишок заорал не своим голосом:
— Где карты, хозяин?
Ваня сбросил с плеч котомку, вывалил содержимое на стол, выпал и тубус. Шишок дрожащими руками раскрыл его — вытащил карты. Тут и Василиса Гордеевна ожила, на ноги вскочила и живо зажгла керосиновую лампу, дескать, электричество отрезали, теперь вот и такая лампа сгодилась. Шишок отшвырнул планы, испещрённые немецкими буквами, осталось две карты, нарисованные на телячьей коже, и одна берестяная трубочка, на первых двух почти все названия смыло речной водой, на одной только Киев сохранился, а на второй — Владимир…
— Не те, — прохрипел Перкун. — И показал на берестяную трубочку, вот, дескать, та.
— Берёсто! — воскликнула бабушка Василиса Гордеевна.
Расправили жёсткую карту, на ней слова были не чернилами писаны, а вырезаны, так же как на камне. Четыре головы, одновременно склонившись над берестяной картой, стукнулись лбами, Ване хорошо досталось от железного клюва. Он один конец берёсты держал, чтоб не скручивался, бабушка Василиса Гордеевна — другой, и все искали Китеж–град. А пока Ваня докладывал бабушке о том, что Водовик про этот град рассказывал, дескать, не на дне озера он, а в невидимом кругу…
— Вот Китеж! — победоносно ткнул в город Перкун. Шишок заорал:
— Хозяин, линейку и ручку, живо!
Ваня в мгновение ока отыскал свой больнично-школьный рюкзачок, за ненадобностью закинутый на печку, вытащил из пенала линейку с ручкой и подал домовику. А тот стал мерить, сколько до Китеж-града от Новгорода, потом от Ростова Великого, от Мурома… Нашел на берёсте их старинный город, от него отмерил… Записал результаты измерений на обороте немецкой карты, почесал в голове…
— Ну что?! — воскликнул в нетерпении Перкун.
— А что ж, — ответствовал Шишок, — понятно теперь, куда нам лететь…
— Лететь? — воскликнул Ваня. — Как лететь?! На чём лететь?
— Как да на чём — в избе и полетим…
— Как это — в избе? — поразился мальчик. Всякого он навидался с тех пор, как покинул инфекционную больницу, но такого!
— За кого ты Шишка держишь, хозяин?! — говорил обиженно домовик. — Фашистский самолёт со дна реки в небо поднял, а родную избу — не подыму… Да ещё Василиса Гордеевна подмогнёт… Как, Василиса Гордеевна, справимся?.. Спроворим вдвоём‑то?..
Василиса Гордеевна, оживавшая с каждой минутой, тут вовсе оживилась:
— А как не спроворим!.. Спроворим!
Бабушка с Шишком отошли тут в сторонку и стали о чём‑то шушукаться… А за окном при свете месяца видать: машина с железной бабой уж сюда ползёт… Страшная баба висит–раскачивается…
— Давайте–ко все на чердак! — скомандовала Василиса Гордеевна. Живо выметнулись в сени, приставили лесенку — и, освещая дорогу лампой, полезли один за другим, а Перкун на своих крыльях взлетел. Василиса Гордеевна тут схлопала себя руками по бокам:
— Ой, а Мекеша‑то! Вовсе про козла забыли…
— Я сбегаю! — вызвался Ваня. И бегом в сарай, осветил фонариком: Мекеша, бедняга, за пианино забился. Еле его Ваня оттуда за рога выволок, к дому потащил — а глупый козёл ещё и упирается, мальчик тогда уговаривать его стал, дескать, чего упираешься, дескать, железная баба сейчас как наподдаст, весь дух из тебя вышибет… Мекеша вроде понял — попрыгал, по ступенькам до сеней добрались. А на чердак‑то как с козлищем?
— Бабаня! — закричал мальчик, освещая фонариком чердачную дыру. Шишок высунулся в отверстие, слетел по лестничным перекладинам — и заставил ведь Мекешу на чердак подняться, только под зад его подталкивать пришлось.
Собрались все у чердачного оконца — а гусеничная машина уж пристроилась возле дома, наметилась…
Василиса Гордеевна сунула тут Ване керосиновую лампу и вдруг завертелась вкруг себя, как юла, платок слетел, волосы растрепались, и вначале шепотком зашептала бабушка Василиса Гордеевна, а после криком закричала:
— Встану я, раба божия Василиса, и пойду в чистое поле под восточную сторону! Навстречу мне четыре брата, четыре Ветра буйных. Первый брат — Ветер Западный, второй брат — Полуночный Ветер, третий брат — Ветер Полуденный и четвёртый брат — Восточный Ветер. Откуда вы, четыре брата, четыре Ветра буйных, идёте? куда пошли? — Пошли мы в чистые поля, в широкие раздолья, растрясать снега белые, заметать леса порубленные, вьюжить земли вспаханные. — Подите вы, Ветры буйные, на восточную сторону, подымите вы избу серую, деревенскую, понесите выше леса стоячего, выше облака ходячего!
А возле ворот раскачивается железная баба, с посвистом качается — вот–вот ударит…
И вдруг гул пошёл, задрожали бревенчатые стены, пол заходил под ногами — Ваня выглянул в окошко, и показалось ему, что адская машина со своей цепной бабой ударила в бревенчатую стену… Изба вся сотряслась… Неужто конец им пришёл?.. Опять размахнулось там внизу чугунное страшилище… Но что это?! Вроде как меньше стала гусеничная машина со своей висой круглоголовой… Да ведь это изба выпросталась из земли–матушки, снялась с места и кверху подымается… И всё меньше, меньше становится порушливая машина с бой–бабой… И увидел Ваня внизу, где изба стояла, пустую яму, а на краю ямы — машина. Черноголовая баба висит, раскачивается по инерции, не может остановиться… Раскачалась — и бух, в яму сверзилась и машину за собой утащила!
— Ур–ра! — закричал Шишок, высунувший голову в окошко.
— Ур–ра! — заорали все вместе.
А изба летит по небу, хоть бы ты что!
— Рази печку затопить? — говорит вдруг бабушка Василиса Гордеевна. — Давно не топила… Изба‑то вся выстыла!
— А дрова есть? — спрашивает с некоторым испугом Ваня.
— Да есть, — говорит бабушка. — Не бойся — не пошлю тебя вниз за дровами!..
И все хохочут в четыре глотки. Даже Мекеша заблеял.
Слезла Василиса Гордеевна с чердака — пошла печку топить. Перкун высунулся в чердачное оконце — у избы птичья голова выросла… Конечно, как тут не лететь! Мекеша же пристроился у тёплой печной трубы и задремал. Летит изба, из трубы дым валит, бабушка Василиса Гордеевна в печке кочегарит… А Ваня спрашивает домовика:
— А пустят ли нас, Шишок, в Китеж‑то–град? Говорил ведь Водовик, что туда только праведников берут, а какие же мы праведники?
Шишок беззаботно машет рукой:
— Ещё как пустят! Перкун у нас — божья птица, это раз, ты — дитё, дети — все праведники, это два…
Ваня насчёт того, что все дети — праведники, сильно сомневался, но перечить не стал… А Шишок, загнув два пальца, продолжал:
— Теперь я… Летим мы куда? В город. В городе стоят дома, а какой дом без домовика? Думаю, домовик всегда ко двору придётся… Это — будет три.
— А бабушка? — забеспокоился Ваня.
— А что бабушка? Ну да, шептунья, но вреда никому не сделала, за это я ручаюсь! А сколь народу на ноги поставила, особливо в войну! О Василисе Гордеевне ничуть не беспокоюсь, а вот Мекеша…
— А что Мекеша? — удивился теперь Ваня.
— Дак козёл‑то — не из чистых зверей будет… Но с другой стороны, неужто праведники коз не держат? А где козы, там и козлы… Ну а ежели что, ежели не пустят нас — так места на земле много, вон, как Анфиса Гордеевна, в глухом лесу опустимся да и станем жить. С лешаками дружбу заведём…
— По соседству с Цмоком? — спросил Ваня.
Глаза Шишка загорелись угольями, видать, эта мысль, пришлась ему по вкусу. Он даже вниз стал поглядывать, не леса ли там раскинулись… И, конечно, внизу были леса — что же ещё‑то!..
Тут бабушка Василиса Гордеевна снизу, из сеней, стала кричать, звать всех к столу, шаньги, дескать, поспели. Ваня, свесив ноги в чердачную дыру, закричал:
— Сейчас идём!
Перкун же, обернувшись от своего окошка, просипел:
— Я буду вперёдсмотрящим. Какой у нас курс, Шишок?
Постень, поглядывая то в берестяную карту, освещённую светом керосиновой лампы, то на компас, принялся отчаянно чесать в башке и наконец сказал:
— Курс такой — северо–восток!
…Ваня стоял у камня и читал надписи: налево пойти — себя найти, прямо пойти — всё потерять, направо пойти — новый град найти. И всё никак не мог решиться сделать шаг в ту или иную сторону. Шишок за спиной поторапливал: «Давай, хозяин, выбирай дорогу! А уж мы за тобой…»
2007
* * * * * * * * *
Примечания
1
Кагонька - младенец, грудной ребенок. [Ред.]
(обратно)2
Трясовица - лихорадки - Русские демоны болезни, упоминаемые в заговорах. Их представляли в виде двенадцати безобразных женщин, насылавших на людей различные болезни. В некоторых текстов заговоров подчеркивается их связь с нечистой силой, поэтому говорится о том, что Трясовицы появляются у постели больного в дьявольском обличьи. [Ред.]
(обратно)3
Супрастин - лекарство для лечения аллергических заболеваний. [Ред.]
(обратно)4
Алатырь - Священный камень у язычников-славян. Упоминается во многих преданиях, былинах, сказках, сказаниях, летописях, заговорах и молитвах и т.д. Часто упоминается в славянских мифах о сотворении мира и играет не последнюю роль в рождении Богов. [Ред.]
(обратно)5
Пестерь - большая, высокая корзина [Ред.]
(обратно)6
Мяргать - мяукать (о кошке); издавать напоминающие мяуканье, резкие или неприятные звуки; подавать голос; жаловаться, плакаться. [Ред.]
(обратно)7
Кагонька - младенец, грудной ребено. [Ред.]
(обратно)8
Веньгать - плакать, визжать, жалобно просить. [Ред.]
(обратно)9
Поцвиркав - Издав "цвирк" (о сверчке, кузнечике). [Ред.]
(обратно)10
Навьи, Навь, Навии, Навье, Навьи, Навья, Навы – покойники, загробные духи в славянской мифологии . От древнерусского навь - духи смерти, духи умерших иноплеменников. Считалось, что они могли насылать болезни на людей и домашний скот, а так же стихийные бедствия. [Ред.]
(обратно)11
Шишок - в народных поверьях: дух, живущий в лесу, на болоте, в омуте, в бане, в сарае. Водит дружбу с ведьмами и колдунами, у которых часто состоит в услужении. [Ред.]
(обратно)12
Постень - синоним Домового — принимает разные виды; но обыкновенно это плотный, не очень рослый мужичок, который ходит в коротком смуром зипуне, а по праздникам и в синем кафтане с алым поясом. Летом также в одной рубахе; но всегда босиком и без шапки, вероятно потому, что мороза не боится и притом всюду дома. У него порядочная седая борода, волосы острижены в скобку, но довольно косматы и часто застилают лицо. [Ред.]
(обратно)13
Тирлич - это золототысячник малый. Траву собирают на Купалу. Считается, что собирать её могут только ведьмы. [Ред.]
(обратно)14
Одолень–трава - вероятно это кувшинка, водяная лилия. [Ред.]
(обратно)15
Веньгать - плакать, визжать, жалобно просить. [Ред.]
(обратно)16
Андел - ангел без крылышек. [Ред.]
(обратно)17
Ругом - очень сильно ругать, бранить кого-л. [Ред.]
(обратно)18
Испотачить — избаловать поблажкой [Ред.]
(обратно)19
Беремя - охапка, сколько можно обнять руками. [Ред.]
(обратно)20
Впробег - бегом впритруску, ускоренным шагом. [Ред.]
(обратно)21
Блазниться - показаться, померещиться, причудиться. [Ред.]
(обратно)22
Жихарь - дух бескрылый, бестелесный и безрогий, который живёт в каждом доме в каждом семействе, не делает зла, а только шутит иногда, даже оказывает услуги, если любит хозяина или хозяйку. [Ред.]
(обратно)23
Утикать - спасаться бегством; убегать. [Ред.]
(обратно)24
Додола у древнейших славян была богиней лета, как времени года и лета человеческой жизни – молодости. [Ред.]
(обратно)25
Ярчук - собака, чуявшая приближение демонов, называлась ярчук. Верили, что у таких собак будто бы во рту волчий зуб, а под шкурою сокрыты две змеи-гадюки. Ярчук обладает чудесным свойством чуять черта и наносить колдуньям неисцелимые раны. [Ред.]
(обратно)26
Дроботать - говорить скороговоркой, тараторить. [Ред.]
(обратно)27
Блазнится - привиделось, показалось. [Ред.]
(обратно)28
Постень - синоним Домового. [Ред.]
(обратно)29
Цмок - Леший, лесовик. [Ред.]
(обратно)30
Закавыка - неожиданное препятствие, затруднение. [Ред.]
(обратно)31
Берёзозол - древне славянское название месяца апрель. [Ред.]
(обратно)32
Рукотёр - полотенце. [Ред.]
(обратно)33
Заимка - в Сибири однодворное поселение с прилегающим земельным участком вдали от освоенных территорий. [Ред.]
(обратно)34
Допреж - прежде, раньше. [Ред.]
(обратно)35
Ендова́ — Бра́тина (имела вид горшка с конусообразной крышкой) с носиком [Ред.]
(обратно)36
Бра́тина — русский шаровидный сосуд XVI-XIX веков для питья на братчинных пирах и на поминках (питья на всю братию).[Ред.]
(обратно)37
Понагнулись - накренились, покосились. [Ред.]
(обратно)38
Wo ist meine Tochter? - Где моя дочь? (Нем.)
(обратно)39
Hier wohnt eure Oma! - Здесь живет ваша бабушка! (Нем.)
(обратно)40
Махочкая - маленькая. [Ред.]
(обратно)41
Ведьма - В славянских поверьях - женщина, наделенная колдовскими способностями от природы или научившаяся колдовать. В сущности, само название ведьма характеризует ее как «ведающую, обладающую особыми знаниями» («ведьмачить, ведьмовать» – значит «колдовать, ворожить»). [Ред.]
(обратно)42
Блудодей - распутник, развратник. [Ред.]
(обратно)43
Кочет петух. [Ред.]
(обратно)44
Захрумтели - захрустели. [Ред.]
(обратно)45
Скусные - вкусные. [Ред.]
(обратно)46
Прохворость - Прохлестать, посечь. [Ред.]
(обратно)47
В славянской мифологии река Смородина есть не что иное, как рубеж жизни и смерти, место перехода между мирами, граница Яви и Нави. [Ред.]
(обратно)48
Чижало - Тяжело. [Ред.]
(обратно)49
Водовик - также водяной, в славянской мифологии дух, обитающий в воде, хозяин вод [Ред.]
(обратно)50
Блукал - блуждал, бродил. [Ред.]
(обратно)51
Эхолокация - излучение и восприятие отражённых, как правило, высокочастотных звуковых сигналов с целью обнаружения объектов (добычи, препятствия и др.) в пространстве. [Ред.]
(обратно)52
Новый русский - новыми русскими называют стремительно разбогатевших (как правило, преступным способом) людей, крупных воротил-мафиози, при этом не обладающих высоким уровнем интеллекта, культуры и, несмотря на свое благосостояние, использующих лексику и обладающих манерами социальных низов, из которых они произошли. Не являются этническими русскими в большинстве случаев [Ред.]
(обратно)53
Нереида - в греческой мифологии: морская нимфа, дочь морского божества Нерея. [Ред.]
(обратно)54
Океанида - в древнегреческой мифологии нимфы, три тысячи дочерей титана Океана и Тефиды. [Ред.]
(обратно)55
Водяница, или водява, водяна — жительница рек и мельничных омутов, утопленница из крещёных или несчастная девушка, проклятая родителями. Обладают вечной юностью, некоторые даже остаются навсегда в семилетнем возрасте, по виду подобны русалкам. Иногда появляются под видом белых лебедей и златоперых рыбок. [Ред.]
(обратно)56
Моряна – дочка морского царя, чистая и светлая, с виду, неземная красавица с длинными, распущенными по воде волосами, словно морская пена. [Ред.]
(обратно)57
Нерей, Нереиды - в греч. мифологии один из наиболее любимых и чтимых богов водяной стихии (моря): добрый, мудрый, справедливый старец,олицетворение спокойной морской глубины, обещающей морякам счастливое плавание. [Ред.]
(обратно)58
Протей - в древнегреческой мифологии морской бог, обладавший способностью принимать любой образ. [Ред.]
(обратно)59
Окстись - одумайся. [Ред.]
(обратно)60
Nette Jungfrau. schwimme zu mir! - Милая девушка, плывите ко мне! (Нем.)
(обратно)61
Шнапс - крепкий алкогольный напиток. [Ред.]
(обратно)62
Отбояриваться - отделаться, избавиться, уклониться, увильнуть. [Ред.]
(обратно)63
Быгать - вылежаться, выстояться на воле, на ветру. [Ред.]
(обратно)64
Юнкерс - немецкий самолет времен второй мировой войны. [Ред.]
(обратно)65
Guten Morgen, guten Tag - Доброе Утро, добрый день.(нем.)[Ред.]
(обратно)66
Ельцин - первый Президент России. Избирался Президентом два раза — 12 июня 1991 года и 3 июля 1996 года, занимал эту должность с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. [Ред.]
(обратно)67
Серия террористических актов в российских городах (Буйнакске, Москве и Волгодонске) 4 — 16 сентября 1999 года. В результате терактов 307 человек погибли, более 1700 человек получили ранения различной степени тяжести или пострадали в той или иной мере. По официальной версии теракты организовали чеченскими террористами. По неофициальной — спецслужбами Российской федерации , для поднятия популярности президента. [Ред.]
(обратно)68
Цидуля - записка. [Ред.]
(обратно)69
Захват московского театрального центра на Дубровке в октябре 2002 года стал первым крупномасштабным террористическим актом в российской столице устроенный чеченскими террористами. Погибли 174 человека. [Ред.]
(обратно)70
6 февраля 2004 года в Московском метро произошёл взрыв, жертвами которого стал 41 человек (не включая террориста-смертника), ещё 250 человек получили ранения. Теракт совершен мусульманским террористом смертником. [Ред.]
(обратно)71
Впробег - ускоренным шагом. [Ред.]
(обратно)72
СС - Привилегированная военизированная организация в фашистской Германии, отличались крайним фанатизмом и исключительной жестокостью в тылу и на фронте. СС были основным организатором террора и уничтожения людей по расовым признакам. [Ред.]
(обратно)73
Гапон - в советскую эпоху был объявлен провокатором спровоцировавшим расстрел мирной демонстрации. Также обвинялся в том что был агентом царской охранки. За что был убит. Современные исследования опровергают эти обвинения. [Ред.]
(обратно)74
Рейхстаг - парламент германской империи. [Ред.]
(обратно)75
Тайге - горный хребет в Греции. [Ред.]
(обратно)76
Тоталитаризм - форма общественного устройства, характеризующаяся полным (тотальным) контролем гос-ва и правящей партии над всеми сторонами жизни обществ. [Ред.]
(обратно)77
Демократия - форма политической организации общества, основанная на признании народа в качестве источника власти, на его праве участвовать в решении государственных дел и наделении граждан достаточно широким кругом прав и свобод. Реально демократия возможна только в малых сообществах людей, где все знают друг друга. В больших обществах демократия всегда вырождается во власть наиболее сплоченных меньшинств. [Ред.]
(обратно)78
Рыночные реформы - переход государственной собственности в частные руки, Т.е. образование двух классов — буржуа, а также ростовщиков (собственников) и пролетариев (лишенных собственности), — вместе образующих капиталистическое общество. [Ред.]
(обратно)79
Указ № 1400 - указ о упразднении верховного совета и переходе всей власти к президенту. Конституционный Суд признал указ незаконным, т. к. Ельцин нарушил 5 статей Конституции и совершил преступления по 4 статьям Уголовного кодекса. [Ред.]
(обратно)80
Блазнится - привиделось, показалось. [Ред.]
(обратно)81
«Альфа» - спецподразделение КГБ СССР, с основными задачами — силовые операции по предотвращению террористических актов, освобождение заложников и т. д. [Ред.]
(обратно)82
Писанка - расписанное яйцо. [Ред.]
(обратно)83
Поедом есть - изводить попрёками, бранью. [Ред.]
(обратно)84
Навьё - мертвец, покойник, усопший. [Ред.]
(обратно)85
Рассоха - раздвоенный конец чего-либо (пример соха; ветви деревьев; рога; два притока, две речки, которые сливаются под острым углом). [Ред.]
(обратно)86
Навка - по языческим поверьям русских, души девушек, умерших до брака или во время русальной недели, пребывают на земле в течение русальной недели и возвращаются по ее завершении на «тот свет». [Ред.]
(обратно)87
Летось - в прошлом году, прошлого года. [Ред.]
(обратно)88
Простодыра - наивный человек [Ред.]
(обратно)89
Допреж - прежде, раньше. [Ред.]
(обратно)90
Заметь — метель [Ред.]
(обратно)91
Рафик - микроавтобус советского производства. [Ред.]
(обратно)
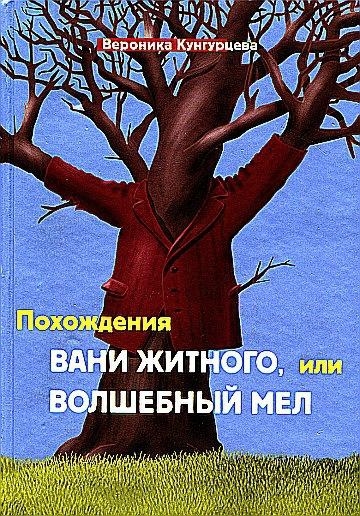




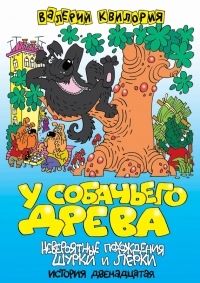
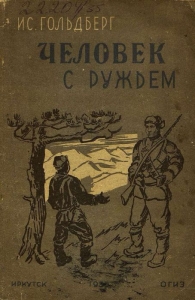

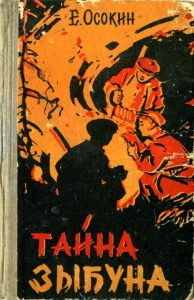

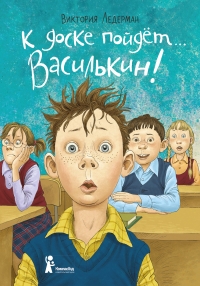


Комментарии к книге «Похождения Вани Житного, или Волшебный мел», Вероника Юрьевна Кунгурцева
Всего 0 комментариев