Валерий Алексеев ЖЕЛТЫЕ ОЧКИ
Тетка из Питера, гостившая у нас неделю, подарила мне три рубля.
Это была необыкновенно интеллигентная тетка: в жизни я не видел таких интеллигентных людей. Она ужасно боялась нас стеснить, вставала в шесть часов утра, тихонько одевалась, вышмыгивала из квартиры и исчезала часов до одиннадцати вечера. Не завтракала, не обедала, не ужинала за нашим столом и вообще старалась как можно меньше попадаться нам на глаза.
Мама обижалась, ей казалось, что тетка нами брезгует, а отец был спокоен.
— У них в Питере все такие, — повторял он.
Я в жизни не был в Питере и представлял себе пасмурный город, где люди проскальзывают в тумане и пропадают.
Тетка говорила, что у нее в Москве куча знакомых и что всем им надо нанести визит, поэтому каждый вечер она допоздна занята. Но это была неправда: я видел ее вечером в кафе-молочной у почты, и не один раз, а два, и во второй раз она меня заметила.
Я никому не стал рассказывать об этом (у каждого свои странности), и, должно быть, правильно оценив мое молчание, она и подарила мне три рубля.
Сделала она это тоже очень деликатно и незаметно: сунула на ходу бумажку в карман моих брюк и, хихикая, исчезла, как будто взятку дала.
Я поразмыслил, имею ли право на эти деньги, и решил, что имею: возвращать их было глупо, а отдать родителям — они бы пришли негодование.
Поэтому в один прекрасный вечер, справившись с мытьем тарелок, я вышел на улицу и пошел вдоль трамвайной линии, размышляя, что бы такое на эти три рубля купить.
Улица у нас в те времена была глухая, ни магазинов, ни кино, и потому я обрадовался, когда увидел на углу новый киоск.
Новый — в том смысле, что на этом месте его не было по крайней мере накануне: я десять раз проходил мимо этого места и знаю точно.
И установлен он был на самом краю тротуара, даже чуть-чуть косовато, как будто его только сгрузили.
Киоск был расписан хохломскими узорами, и на его фасаде над окошечком висела табличка: «Предметы».
Я понял так, что предметы чего-нибудь, например домашнего обихода, и обошел киоск вокруг, чтобы дочитать до конца. Но на каждой из восьми стенок висела одна и та же табличка: «Предметы».
Это меня удивило, равно как и то, что место для киоска было выбрано неудачное: тротуар на углу был слишком узок, и, чтобы пройти мимо киоска, надо было протискиваться между ним и стеной.
Я обошел это странное сооружение еще раз — при этом из окошечка зорко на меня смотрели, потом подошел и сказал вовнутрь:
— Простите, а чем вы торгуете?
Внутри что-то зашевелилось в темноте, из окошечка высунулась узкая бледно-розовая рука и положила на крохотный лоточек связку темных противосолнечных очков.
Очки были кустарные: стёкла из толстого желтого плексигласа, а дужки обмотаны тонкой красной проволокой, но выглядели они совсем не плохо и даже оригинально. «Артель какая-нибудь трудится», — подумал я и стал вертеть в руках одни очки за другими. Работа была грубоватая: стекла болтались, и витки проволоки местами были положены неровно.
— А другого у вас ничего нет? — вежливо спросил я.
Внутри киоска то ли хмыкнули, то ли фыркнули, и рука убрала очки.
— Покажите мне, какие у вас есть зажигалки, — сказал я особой уверенности, потому что все стенки киоска были сплошь деревянные, без стекол, и я не знал, продаются здесь зажигалки или нет. Но вроде бы должны продаваться.
Внутри киоска — ни звука.
Мне стало странно, и я огляделся.
Мимо шли редкие, как обычно на нашей улице, прохожие. Они протискивались между стеной и киоском, не выражая никакого недовольства.
Женщина с коляской рассеянно взглянула на меня и, развернув коляску, объехала по мостовой, как объезжают большое, но неинтересное препятствие.
Во мне заговорило упрямство. «Что такое, — подумал я, — какие-то кустари — и ответить не могут по-человечески. Поставили киоск на самом ходу, разбойники».
Я нагнулся, заглянул в окошечко — и сердце мое ёкнуло.
То есть ничего особенного я не увидел, а если честно — не увидел вовсе ничего: темный контур фигуры с втянутой в плечи головой — и взгляд.
Мне не хотелось бы, чтоб на меня еще раз так посмотрели.
— Ладно, — сказал я, — беру очки. Сколько?
Розовая рука положила на лоточек одни очки и, ловко забрав деньги, исчезла.
Войдя во двор, я нацепил очки на нос (сидели они довольно лихо) и принялся рассматривать окна и небо.
Что-то потрескивало у меня в ушах, какие-то искры как будто проскакивали по волосам, но скоро я привык и перестал этот треск замечать.
Стекла были несколько темноваты и имели болезненный вид, но, может быть, это мне просто казалось.
Купи я их в нормальном киоске, я их считал бы, наверно, образцом элегантности, тем более что подобных очков я не видел еще ни на ком.
Небо в них виделось мне темно-зеленым, цв?та пыльной тополиной листвы, а асфальт ядовито-желтого, хинного цвета.
Время было обеденное, во дворе малолюдно, похвастаться очками было не перед кем.
Я сел у ворот на деревянную скамейку и, скрестив руки на груди, напустил на себя высокомерный вид.
Вдруг я услышал чей-то писклявый голосок:
— Расселся, важный какой. Ох, дам я ему сейчас, ох, дам.
Я оглянулся так резко, что у меня что-то дернулось в шее.
Вблизи от меня никого не было, только на ступеньках подъезда сидел карапуз лет четырех-пяти и сосредоточенно возил по асфальту свой паровоз.
Он изредка поглядывал на меня насупясь, но я сидел неподвижно, и он продолжал играть.
— Сидит тут, расселся, — застрекотал голосок, он вился где-то возле моего уха. — Сейчас подойду, подпрыгну и дам. Чтоб очки в мелкие дребезги. Ох, завоет он тогда, ох, застонет! Ишь головой завертел. Заволновался, чувствует! Вот выбью два передних зуба — всю жизнь будешь шамкать, собака.
Вне всякого сомнения, слова относились ко мне.
Я встал, пошел по направлению к малышу, голосок усилился.
— Иди, иди навстречу гибели. Иди, иди, я тебя ногами до смерти запинаю…
Я снял очки — голос пропал. Пропал и треск, и шум, в ушах пел ветер.
Малыш по-прежнему пыхтел, ползая по ступенькам.
Дрожащими руками я надел очки — в ушах запищало, как в маленьком транзисторе:
— Иди, иди, в живых не останешься…
И, не сообразив как следует, что происходит, я подошел к малышу вплотную и встал над ним, сунув руки в карманы.
Он поднял круглые свои глазенки, испуганно на меня посмотрел.
— Попробуй только тронь, собака! — чирикнуло над ухом. — Вот позову отца, он из тебя свиную отбивную сделает!
— Ты что же это, — сказал я сурово, — безобразник? Кто разрешил тебе такие гадкие слова говорить?
— Я ничего не говорю, — сказал малыш хриплым голосом и заплакал. — Я ничего не говорю, что я тебе сделал? Иди отсюда, чего пристал?
Смутившись, я отошел от ступенек и обернулся.
Карапуз глядел мне вслед и молчал. Но в ушах моих стрекотало:
— Большой, а дурак! Большой, а дурак! Что, взял? Спасаешься бегством?
Мне стало жутковато, и я поспешил домой.
Дома не было никого.
Я заперся у себя в комнате и начал исследовать очки. В них по идее должен быть вмонтирован микроприемник.
Но ничего, кроме проволоки и плексигласа, в очках моих не было.
Я размотал всю проволоку, поскреб отверткой стекло, попробовал даже осторожно поджечь. Плексиглас горел, как настоящий.
По-видимому, весь секрет именно в проволоке: она была как бы антенной, образующей колебательный контур. Но обязательно должен быть динамик. Сама по себе антенна не могла звучать.
Я провозился с очками до маминого прихода, но динамика так и не нашел.
Когда стукнула входная дверь, я кончал наматывать проволоку на дужку.
Мне не хотелось пробовать очки на маме, но я боялся, что в них что-нибудь сломалось, и, когда мама тихонько толкнулась в дверь моей комнаты, я быстро посадил очки на нос и открыл ей дверь.
Мама испугалась.
— Господи, что с тобой? Глаза болят? — быстро спросила она. «Господи, что с ним, глаза болят», — маминым голосом прострекотали очки.
— Нет, что ты, — сказал я смущенно. — Так, дурака валяю.
— А, ну валяй, валяй, — сказала мама. «Пусть пококетничает, ничего, — чирикнули очки. — А то еще усы отпускать соберется. Очки можно снять, с усами сложнее».
При чем тут усы — мне было непонятно. При всем своем желании я никак не мог их отпустить: под носом моим вылезло всего лишь одиннадцать длинных и толстых белесых волосинок. Я потому знал количество, что аккуратно их подстригал.
Очки мои сползли на кончик носа.
— Смешной ты какой, — сказала мама. «Весь в отца», — пояснили очки.
То, что отец казался маме смешным, было для меня новостью.
Но, в общем, больших расхождений в маминых словах и мыслях я не обнаружил, и это было приятно.
Я дал себе твердое слово не надевать очки в семейном кругу и держал его до самого позднего вечера.
На ночь мы сгоняли с отцом партию в шахматы.
Не удержавшись, я все-таки нацепил очки.
Отец рассеянно взглянул на меня:
— С обновкой тебя, — и углубился в партию.
Он, как всегда, проигрывал, очки смиренно жужжали: «Так, он нас так, а мы его так, Иван Иванычу позвонить, ведомости заполнить, мы ему так, а он нам так, и что же мы имеем? Имеем мат в три хода. Эх, сынка, сынка, сидишь в очках и ничего не видишь. А если так — он так, а мы ему так, нет, догадается, и тут мат в три хода, нет, в два, не надо обижать мальчика, пойдем сюда, нет, стоп, уж слишком явно, Иван Иванычу позвонить, ведомости заполнить. Так что ж нас мучит, что ж нас мучит?» И он подставил ферзя под стандартную вилку.
Я покраснел.
— Ты что же это, поддаешься, значит?
От обиды у меня из глаз чуть не брызнули слезы.
— Где? Что? — забормотал отец, бросив на меня быстрый взгляд. — Ах, это! Фу, черт, сглупил!
— Не буду я с тобой играть, — сухо сказал я и снял очки. — Ты что из меня дурачка делаешь?
— Ах, дурачка? — рассердился отец. — Ах, дурачка? Ну, погоди, сейчас я из тебя как раз дурачка сделаю. Вот это ты видел? А это видел? А это, это? Ну, что теперь скажешь?
Он разыграл размашистую комбинацию слонами и конем, загнал меня в угол — и попался на давно уже заготовленный мною элементарный линейный мат.
Я так и не понял, была эта ошибка случайной или подстроенной, но надевать очки еще раз не осмелился.
— Пап, а что тебя мучит? — спросил я как бы между делом, складывая шахматы в коробку.
— Меня? — переспросил отец, и вдруг глаза его стали мокрыми. — Смотри-ка, замечаешь… А я-то думал, тебе все равно. Спи спокойно, сынка, милый, всё будет хорошо, ложись.
Он думал, что я понял, почувствовал… А я, как пень с глазами, смотрел и не видел и не понимал ничего…
Спать я укладывался хмурый, от этих чертовых очков трещала голова.
И все-таки так п?шло устроен человек, что в темноте, лежа в постели, я снова нацепил очки: решил опробовать их на сестренке.
Что думает сестренка — было мне неинтересно. Что может думать пигалица одиннадцати от роду лет? Но я боялся, что очки размагнитятся за ночь и завтра я в них ничего уже не услышу.
Мне позарез нужно было узнать, что думает обо мне Иванова. Узнать — и выбросить эти чертовы очки, а еще лучше — сломать, растоптать, сжечь, чтобы не мешали жить никому.
Сестренка лежала на своей тахте у противоположной стены, ворочалась в темноте и вздыхала. «Умру, умру, о господи, умру, — зашептали очки, — противно, стыдно жить, зачем? Никому не нужна, все презирают, хожу как замарашка, фартук саржевый, платье кашемировое, смоются надо мной, все в шерстяных, а у меня кашемировое, локти заштопаны, всё кое-как, зачем жить? Зачем влачить существование в кашемировом платье, сижу у окна, штопку видно, и пересесть не дают, у Светки шерстяной фартучек, у Томки шерстяной фартучек, у Нинки хоть и старый, а все равно шерстяной, у меня у одной в классе саржа, и слово-то какое противное: „саржа“. У тебя из чего фартук? Из саржи, саржа, баржа, у меня фартук из моржа, ходите сами в моржовом фартуке, а я умру, зачем жить?» Ну, и так далее в том же духе.
Я лежал и удивлялся: сколько можно думать всё об одном?
Наконец не выдержал.
— Да купят тебе шерстяную форму, купят, успокойся, я попрошу.
— Попросишь, как же, — захныкала сестренка, и очки захныкали тоже: «Давно бы попросил! Видишь, мучаюсь?» Она заплакала взахлеб — и тут же заснула.
Я только было настроился полежать в очках тихонько и пофантазировать, что думает обо мне Иванова, как вошла питерская тетя. «Ну, Москва, — зашелестело в очках, — ну, столица, ну, народ. Все спать улеглись, похрапывают и в ус не дуют, что одинокая женщина по городу слоняется. Хоть бы за стол как следует попросили. Ну, подождите, я вас приму. Я вас приму! У меня стол ломиться будет! Я вас по Эрмитажу затаскаю. Я покажу вам, как родню принимать!» — Ужин на кухне, — сказал я.
— Спасибо, милый, я сыта, — так же быстро ответила тетя.
Я только успел содрать с лица очки и подумать, что завтра надо обязательно вернуть ей три рубля, как на меня навалился сон.
..Наутро в школе я долго прятал очки в портфеле и всё не решался надеть.
Иванова сидела совсем близко, на соседнем ряду. Между нами было только два человека — мой сосед и ее сосед.
Иванова была человеком, о котором я думал больше даже, чем о самом себе. Красавицей у нас в классе ее никто не считал, девчачьей группировки вокруг нее не образовалось, из школы она обыкновенно шла со своей вечной подругой Смирновой, и из других классов не приходили на нее смотреть, как, скажем, на Кутузову или на Одинцову. Но даже в этой обычности ее для меня было большое достоинство.
За лето Иванова сильно загорела, и глаза ее, обычно серые, стали казаться зелеными, и я и перестал с ней разговаривать. Мне всё казалось, что если Иванова и становится красивее, то, уж конечно, не для меня.
Всё, начиная с фамилии и кончая взглядом, простым и приветливым, было в ней обыкновенное, нормальное.
Мне нравилось смотреть, как Иванова передает записки. Через ее парту шел основной поток почты назад, где сидели наши писаные красавцы Морев и Снегов, люди невежественные и фальшивые, такие же фальшивые, как их фамилии, будто бы выдуманные нарочно. Иванова принимала записку вежливо, без всяких там гримас неудовольствия или пренебрежения и передавала ее не как-нибудь через плечо, а добросовестно обернувшись и отыскав глазами адресата. Всё у нее выходило естественно.
Мне очень надо было знать, что она обо мне думает, очень.
Надеть очки на математике было бы равносильно самоубийству: математичка устроит из этого аттракцион и обсмеёт меня на всю школу.
Вторым уроком была литература, но здесь меня просто выставили бы за дверь. Литераторша всё принимает как личное оскорбление.
На третьем был английский, и я наконец решился. Англичанка была еще молода и, когда терялась, старалась сделать вид, что ничего не замечает.
Я осторожно вытащил очки из портфеля, извлек их из папиросной бумажки, протер платком стекла и нацепил.
Момент был выбран удачный: как раз шел опрос, и всем было не до меня.
Боже, что я услышал! Это был вой, рев, грохот, свист, потом опять леденящий душу вой, как в магнитофоне, когда по ошибке нажимаешь одновременно запись и динамик. Я не сообразил, что при большом скоплении людей мои очки должны реветь от обилия мыслей.
С другой стороны, когда еще, если не на уроке, я мог услышать мысли Ивановой? На переменках я к ней не подходил, а после школы она тем более была для меня потеряна.
Минут пятнадцать я вертел головой в своих желтых очках, пытаясь настроиться на волну Ивановой, и всё никак не мог пробиться через помехи.
— Хау ду ю это, как его. Хау ду ю хэв ту гоу спикинг рашинг, нет, стадинг рашинг… идиотизм какой-то, стадин рашин, нет, стадинг рашинг… — бормотали вокруг меня. — Ту райт, ту роут, ту риттен, ту райт, ту роут, ту риттен… Дистингвишабле, дистайнгвишбле, дайстайнгвайшайбель, в общем, шайбель, язык сломать можно…
— Ай эм сорри, — бубнил сзади Морев, — бат ай кант ансвер, бекоуз ай воз илл естердей. Ай эм сорри, бат ай…
Но громче всех раздавался голос Пелепина, моего непосредственного соседа по парте. Он сидел, уставясь прямо перед собой, его мысли то пели, то мурлыкали у меня в очках.
— Сарделечка, эх… Сарделечка, мокрая, тусклая такая, один бочок беленький, кишочки с концов оборванные, оттуда розовое мяско варененькое, эх. Мы вилочку в нее — чпок. Горяченькое брызнуло, ля-ля-ля, расперло, развалило ее, бедную, и шкурочку мы с нее аккуратно так снимаем. Парок от нее — тарари-рара-ам, горчичкой чуть-чуть пометили кончик — и ам. Ам. У-ух, сарделечка. Жаль мне тебя.
— Ту райт, ту роут, ту риттен… — радостно подпевала ему Прохорова — третья парта слева — и тянула руку к потолку: — Меня спросите, меня!
Вечно она тянет руку, а вызовут — ни бэ, ни ме.
Вдруг Прохорова выпрямилась и, не разжимая губ, тоскливо сказала: «О Господи! Ну, что ж я такая глупая, что ж я такая глупая? Неужели это на всю мою оставшуюся жизнь?»
Я прислушался.
— Мамочка, миленькая, — думала Прохорова, не переставая, однако, тянуть руку, — не ругай меня, мамочка, что я могу с собой поделать, если я не понимаю ничего. Все понимают, а я не понимаю. Только бы не спросили, только бы не спросили, мамочка, не сердись.
Мне стало неловко, к я поспешно повернулся лицом к Ивановой. Краем уха зацепил голос Морева. Морев уже кончил сочинять свой ответ и бормотал что-то житейское:
— Братика накормить — раз, пеленки постирать — два, вынести. мусорный бак — три, потом в прачечную, потом выключатель на кухне поставить, а суп всё это время варится, варится, пеленочки сохнут. Хорошо!
Это было настолько не похоже на Морева, что я оглянулся проверить. Но нет: это была именно его волна. Морев сидел с лицом озабоченного бездельника, и никто, кроме меня, не угадал бы, о чем он сейчас думает.
А со стороны Ивановой не доносилось ни звука. Мало того, что я ее не слышал: она экранировала мысли других, как будто была сделана из свинца.
Я смотрел на Иванову не отрываясь. Она спокойно сидела, положив обе руки на парту (пожалуй, у нее одной с первого класса сохранилась эта привычка), и, глядя не на англичанку, а чуть в сторону от нее (чтобы не нарываться на вызов, многие учителя, особенно молодые, этого не любят, когда их едят глазами), безмятежно ждала конца урока. Всё в ней было прекрасно: профиль, пробор, темно-синее платье (в форме она не ходила с начала этого года) — только мысли её до меня не доходили, их забивал Пелепин.
— Сарделечка, эх, сарделечка… — тосковал он.
Тут Иванова почувствовала мой взгляд и негодующе обернулась. Увидела меня в очках, брови ее поднялись, она толкнула локтем соседа и фыркнула.
Я поспешно отвернулся — и попал на волну Снегова. Снегов, морщась, смотрел в окно, у него было лицо страдальца и поэта.
— Выхожу на прямую к воротам, — мыслил Снегов, — слева Рагулин, справа Кузькин, впереди никого нет. Ворота пустые: они взяли шестого полевого, ну что ж. Их право рисковать, наше право — улыбаться спортивному счастью. «Давай!» — говорит Рагулин. И — шайбу мне. Я — р-раз по ней, понеслась, запрыгала, как кошка. Подскочила — мимо ворот, подкатываю, досылаю. Гол. Вынимаю сам из ворот, бью — еще гол. Опять вынимаю, опять бью — еще гол, еще. Трибуны визжат, шведы обалдели. Стоят вдалеке и не решаются подъехать. А я вынимаю и бью, вынимаю и бью, спокойно так, красиво. «Давай, браток! — кричит мне Рагулин. — Давай!» Я зазевался, должно быть, и не заметил, как меня засекла англичанка.
В реакции на наши безобразия у нее было четыре этапа. Сначала она краснела, и глаза ее наполнялись слезами. Потом — демонстративно отворачивалась и старалась не замечать. На третьем этапе, наоборот, она начинала смотреть в упор и иронически улыбаться, сильно при этом бледнея. В чем заключался четвертый этап — нам было неизвестно, так как никто пока еще д?ла до него не доводил.
Видимо, мы с ней прошли уже все три этапа, потому что, когда я о ней вспомнил, она смотрела на меня, хрустела пальцами и молчала.
Класс молчал тоже, класс даже перестал думать: все ждали, каким же будет этот самый пресловутый четвертый этап.
— Лисн ту ми, Карпенко, — сказала наконец англичанка, — ит из э бэд джоук, белив ми.
И снова замолчала, сильно при этом побледнев.
Я ничего не понял, но содрал с лица очки и медленно встал.
Весь класс смотрел на меня с любопытством, ожидая хохмы, Иванова тоже, она заранее приготовилась смеяться, это видно было и без очков.
Один Пелепин поднял на меня бессмысленный взор и снова погрузился в свои биологические фантазии. Да Снегов посмотрел презрительно и отвернулся к окну.
— Джоук — значит «шутка», — громко объяснил Морев. — Карпенко у нас джокер в нашей колоде. Есть тузы, есть вальты, дамы, а есть джокер…
Он готов был еще порассуждать вслух на эту тему, но англичанка побледнела еще больше и спросила меня:
— Хау вилл ю эксплейнт ит, Карпенко? Ар ю сик?
— Ноу, ай эм нот, — с натугой сказал я. — Май айз ар илл. Зэй донт лук велл.
Англичанка посмотрела на меня пристально, не смоюсь ли я, но мне было не до смеха, и она успокоилась.
— Хорошо, — сказала она по-русски. — Садитесь и можете надеть ваши очки, если вам без них трудно. Бат зэ ансвер ов Карпенко контейнз ту мистэйкс. Уэар ар зей?
Прохорова подпрыгнула за своей партой и потянула вверх руку.
Класс недовольно зашуршал страницами учебника, как будто там можно было обнаружить анализ моих ошибок, а я сел и, поколебавшись, снова надел очки.
Мне было очень неловко перед англичанкой, но не надеть очки после разрешения было тоже неловко.
Опять заверещало, запищало, защелкало у меня за ушами, забормотал Пелепин, забубнил Морев, но всё это было мне уже неинтересно.
Мне было неинтересно даже, что думает обо мне Иванова.
Возможно, она вообще ничего ни о ком не думает, сидит, моргает — и всё.
Я ерзал за своей партой и переживал. Так вот он какой, этот четвертый этап у англичанки: всё готова позволить, лишь бы над ней не смеялись.
А я-то сижу, как дурак, в своих желтых очках и пример подаю: действительно джокер. Чего доброго, с аквалангами станут на урок приходить, а то и в плавках: с Морева станется.
Мысли вздумал читать, а что с ними делать, с чужими мыслями?
Сама идея показалась мне нечистой. Ну, хорошо, узнаю я, что думает обо мне Иванова, если думает вообще, а потом?
Допустим, влюблена в меня по уши, страдает и видит меня во сне.
Так что же я, шантажировать се стану или ходить за ней но пятам и вздыхать?
А то еще можно писать ей записки с намеками (так и так, мол, тот, кто тебя интересует, ждет тебя там-то и там-то, давай приходи) или просто глупо подмигивать.
Возможно, Морев на моем месте повел бы себя именно так. Но я-то знаю, что будет со мной: в другую школу переведусь, тем дело и кончится.
Это еще я взял наилучший вариант, фантастический, невозможный. А если допустим, что Иванова ко мне равнодушна или терпеть не может? Или видит во мне что-то жутко противное?
Нет, выбросить эти дурацкие очки и не мучиться дурью, как говорит моя мама.
И тут по ослиной логике мне до смерти захотелось узнать, что думает обо мне англичанка. Ну, болен я или комедию играю, способный или неспособный.
Я поднял на нее глаза (она стояла у доски и объясняла «Перфект Континиус») и тут же быстро снял очки: это было дешевое, базарное, недостойное любопытство.
Но англичанка заметила это. Она ласково посмотрела на меня и показала глазами: наденьте, наденьте, ничего, вы мне вовсе не мешаете.
Должно быть, у очков моих был действительно болезненный вид, и это вызывало у англичанки сочувствие.
— Вам плохо видно, Карпенко? — спросила она по-английски, не помню уже как.
Я пробормотал что-то в ответ, покраснел весь, как райское яблочко, протер стекла своих злосчастных очков и снова надел.
Но сделал это не в добрый час, потому что дверь распахнулась, и в класс быстрым шагом вошел директор.
Директор наш был человек неожиданностей, он целыми днями метался по школе в поисках безобразий. Его можно было застать в мужской уборной, в буфете, в физкультурном зале. Он всюду врывался заставал врасплох.
Все, грохнув крышками парт, вскочили, я вместе со всеми, конечно, не успел даже сорвать с носа очки.
— А это что за Фантомас? — спросил директор, посмотрев сначала на меня, потом на англичанку.
— Карпенко жалуется на глаза, — быстро ответила англичанка и, ни в чем не повинная, покраснела.
Должно быть, поняла, что на четвертом этапе допустила воспитательную ошибку.
Я снял очки и тоже покраснел, еще сочнее, чем раньше, так мы стояли с англичанкой оба и краснели, а директор смотрел попеременно то на меня, то на нее.
И класс смотрел, и классу было очень интересно, и Иванова тоже смотрела: без насмешки, без сочувствия, без презрения, просто смотрела.
— Так, — сказал директор, — понятненько. Да вы садись, садитесь. Кроме тебя, Карпенко. Ну, подойди сюда ко мне. Да очки-то надень.
Очки я надевать не стал, но подойти — подошел, конечно. А как еще?
— Ты к классу повернись, чтобы все тебя видели, — сказал директор. — «Мартышка к старости слаба глазами стала, а от людей она слыхала, что это зло не столь большой руки, лишь стоит завести очки».
Надо было видеть, с каким удовольствием он процитировал эти строчки. Он бы цитировал и дальше, но я сказал ему:
— Возможно, я неправ, но и вы неправы тоже. Почему, собственно, мартышка?
— Так, милый, как же еще тебя назвать? — ласково спросил директор. — Очки-то ведь тебе без надобности?
— Без надобности, — ответил я. — Но вы-то об этом еще не знаете. Зачем же сразу оскорблять?
— Знаю, — сказал директор, — я все эти фокусы знаю. Сам в школе учился. Могу тебе даже сказать, зачем ты эти очки в школу принес.
— Зачем? — спросил я.
— Да, уж конечно, не затем, чтоб пофорсить. И вряд ли для того, чтобы над учителями покуражиться. Ты и неглуп, и в хорошей семье воспитан.
— А для чего же тогда? — угрюмо спросил я, зажав очки в кулаке.
— Он в Интерпол поступил, там все такие очки носят! — крикнул сзади Морев.
— Ты посиди, Интерпол, — строго сказал ему директор. — Я до тебя еще сегодня доберусь, хорошо, что напомнил. Кто в уборной потолок окурками залепил? Весь потолок белить заставлю, понял?
— Вы разрешите мне продолжать урок? — тихо сказала англичанка.
— Да, да, конечно, — поспешно ответил директор. — Но уж Карпенко я от вас заберу.
— Пожалуйста, — проговорила англичанка и, даже не взглянув на меня, повернулась к доске.
— Пойдем, Карпенко, — сказал мне директор. — Да ты очки-то не ломай, дай их сюда.
Он протянул руку. Поколебавшись, я отдал ему очки, всё еще надеясь, что он посмотрит и вернет их обратно.
Но директор решительно сунул очки в карман.
В дверях я оглянулся. Ребята смотрели мне вслед: кто ободряюще, кто просто сочувственно, но все, в общем, спокойно.
Они не знали еще, какая над ними нависла беда.
В коридоре директор достал очки, повертел их в руках, надел.
Обернулся, взглянул мне в лицо.
Я помертвел.
— Так-так, — сказал директор и снял очки. — Работает, значит, артель и качество повышает. В мои годы слышимость хуже была… Ладно, бери свой инструмент, носи на здоровье. Проверочку решил устроить народу. Ну-ну.
Он протянул мне очки. Рука моя дернулась, но я не взял, я не верил.
— Бери, бери, — повторил директор. — Мне без нужды, а ты носи, если совесть позволяет.
Он положил очки на подоконник и пошел по коридору, не оборачиваясь.
Минуту я стоял неподвижно, потом взял очки, размахнулся и вышвырнул их в окно.
Внизу был школьный пруд, вода в нем даже не всплеснулась.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



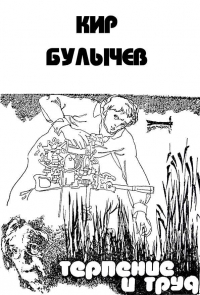


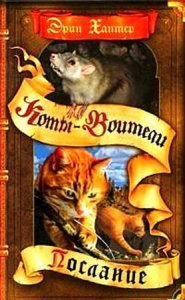


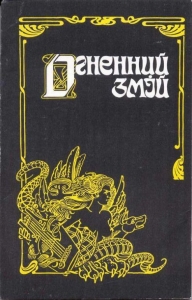



Комментарии к книге «Желтые очки», Валерий Алексеевич Алексеев
Всего 0 комментариев